Хосе Карлос Сомоза Соблазн
José Carlos Somoza
EL CEBO
Copyright © José Carlos Somoza, 2010
All rights reserved
© Е. Горбова, перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство ИНОСТРАНКА®
***
Хосе Карлос Сомоза родился в 1959 году в Гаване, но уже в 1960 году его семья переехала в Испанию. В Мадридском университете он получил образование, стал врачом-психиатром. Однако страсть к литературе победила, и Сомоза начал активно писать.
Сегодня он является автором целого ряда успешных романов: «Молчание Бьянки» (лауреат премии «Вертикальная улыбка», 1996), «Рисованное окно» (премия «Кафе Хихон», 1998), «Письма заурядного убийцы» («Дебаты», 1999), «Дафна без чувств» (финалист премии «Надаль», 2000). Роман «Африканские убийства, или Пещера идей» (британская премия «Золотой кинжал» за лучший роман 2002 года) был переведен более чем на двадцать языков мира и получил чрезвычайно теплый прием международной критики. Произведение «Клара и тень» удостоено премии Фернандо Лары за 2001 год, премии Хэннета за лучший детективный роман 2002 года.
Перу Сомозы принадлежат также несколько рассказов, сценарий радиопостановки и несколько театральных произведений.
Отличительной чертой творчества писателя является сочетание невероятной, изощренной сюжетной изобретательности, умения создать динамичное, захватывающее повествование и вложить туда множество смыслов. Это романы-загадки, романы-ребусы, которые нелегко и невероятно интересно разгадывать, а решение, предложенное автором, всегда оказывается неоднозначным и неожиданным.
***
Хосе Карлос Сомоза, наряду с Артуром Пересом-Реверте, – один из самых читаемых в мире современных испанских писателей. Его романы переведены более чем на тридцать языков.
Я твердо верю, что возможность создать новый текст – это единственная настоящая магия, которой мы все еще обладаем: можно строить миры и населять их, вершить судьбы, изменять жизнь.
Хосе Карлос Сомоза
***
Великолепная книга, как и всегда у этого автора. Представляя себе не очень далекое будущее, Сомоза дает волю фантазии: человеческие наживки, гатренированные специальным образом, чтобы охотиться, весьма эффективны в поимке убийц, за исключением данного случая… Когда преступники знают больше, чем наживки.
С самого начала волнующий водоворот событий захватывает читателя, интригующая атмосфера не отпускает до самого конца, пока роман не оказывается прочитанным.
Читательский отзыв на Amazon
Она лучшая, она прошла подготовку и способна поймать Наблюдателя – жестокого убийцу. Она – наживка. В то время как технологии при поимке преступников уже бессильны, полицией обнаружен гораздо более совершенный способ, ключ к которому дала интерпретация театра Шекспира: каждая его пьеса, написанная под влиянием Лондонского кружка гностиков, отражает тот или иной способ манипулирования желанием. «Маски», которые используют наживки – эксперты в области человеческого поведения, позволяют контролировать то, что гнездится внутри нас самих. Когда Диана Бланко узнает, что новой жертвой Наблюдателя может оказаться ее сестра, начинается преследование, бег наперегонки со временем, и это неумолимо приближает героиню к логову монстра. Стремительно меняются декорации, подозрения падают то на одного, то на другого героя, тревога до конца не отпускает Диану, ведь даже в пустынном пейзаже никто и ничто не является тем, чем кажется…
Рецензия издательства «DEBOLSILLO»
Хосе Карлос Сомоза среди авторов, пишущих на испанском языке, считается одним из самых смелых новаторов в области литературы мистической и фантастической направленности: в своих произведениях он стремится преодолеть барьер между жанрами…
Его романы переведены более чем на тридцать языков.
Planeta de Libros, España
***
Посвящается
Диего Хименесу и Марге Куэто
Весь мир – театр, В нем женщины, мужчины – все актеры[1]. «Как вам это понравится», II, 7Пролог
Ибица, за три месяца до начала событий
Маска, казалось, взирала на девушку как-то зловеще, хотя была всего лишь этническим украшением, висевшей на стене точеной деревяшкой. Имелась и вторая маска, в точности повторявшая первую, – эта находилась в некотором отдалении. Девушка впервые обратила на них внимание, когда ее попросили повернуться в профиль. Команды давал только один человек – тот, что сидел; второй молча стоял за стулом первого.
– А теперь сними, пожалуйста, рубашку.
Хотя делать это провокативно от нее не требовалось, девушка подумала, что от брюк и обуви она избавилась слишком поспешно, и решила показать, что интриговать тоже умеет. Пуговицы уже были расстегнуты, так что теперь она высвободила одно плечо, потом другое, и ткань соскользнула, повиснув на запястьях. Бюстгальтера на ней не было, но ее маленькие груди едва выделялись на теле, которое анатомически представляло собой нечто среднее между худобой и анорексией, а трусики выглядели крохотным треугольником, таким же черным, как и вся остальная одежда. Девушка намеренно выбрала этот цвет – чтобы усилить контраст с молочно-белой кожей и платинового цвета волосами. Единственным, что в ней не выглядело мелким, были пухлые, сексуальные губы и веки, воспаленные из-за работы по ночам, в мерцающем свете, и приличных порций спиртного.
Оставив рубашку на том же стуле, куда чуть раньше приземлились брюки, она отступила к центру импровизированной сцены. Два слепящих луча едва ли позволяли ей увидеть что-то еще, кроме масок на стене слева и глазка видеокамеры прямо перед ней. Голос того, кто сидел позади камеры, был мягким, приятным, очень четким:
– Повернись вокруг себя, пожалуйста.
Выполняя эту просьбу, она, чтобы чем-то заполнить напряженную паузу, спросила:
– Я правильно делаю это?
– Да, все хорошо, не волнуйся.
Она явно была на нервах. Конечно, волновалась, сколько бы ни твердила себе, что совершенно спокойна. Дело вовсе не в том, что у нее не было опыта подобного рода просмотров. Лени, или Олене Гусевой, как значилось в ее потрепанном паспорте под ужасающей фотографией, приклеенной рядом как некое оскорбление, частенько случалось позировать перед камерой, в том числе и с меньшим количеством одежды на теле, чем сейчас. Ответственность за это лежала на Карле – берлинском фотографе, который притащил ее из родного Киева на Ибицу. Прежде чем он ее бросил, они прожили вместе три года, и за это время Карл сделал ей замечательное портфолио, которое Олена разместила на своей страничке в Сети и предъявляла практически всем испанским и иностранным агентствам, которые могли быть в ней заинтересованы. А пока что работала официанткой в одной из кафешек на Ибице, но была совершенно уверена в том, что судьба ее вскоре переменится. Когда-нибудь наступит великий день, ее мечта исполнится и она станет киноактрисой. Адриана, девушка из Гондураса, вместе с которой они снимали квартиру, умела гадать на картах и однажды предсказала ей: «Тебя ждет чудесное будущее, Лени, но только при условии, что будешь меня слушаться».
Адриана была смуглой, коренастой, с индейскими чертами лица. Она, как и Олена, начинала официанткой, но теперь получила «приличную должность» помощника в турагентстве. Олена очень ее любила – Адриана была экстравертом, очень отзывчивым человеком. Жаль, что ко всему прочему она еще такая мнительная, осторожная и не устает давать советы. Олена звала ее мамочкой, хотя настоящая мать о ней никогда так не пеклась. Адриана без конца повторяла, что для таких девушек, как Олена, Ибица – не остров, а ничейная территория, соединенная со всеми пятью континентами. «Я знаю о девчонках, которые приезжали сюда, а потом неожиданно пропадали, и больше о них никто ничего не слышал, – рассказывала она Олене. – А потом они объявлялись где-нибудь в Азии или в одной из арабских стран». У Адрианы с языка не сходили истории о похищениях, убийствах и изнасилованиях. Она настаивала, чтобы Олена овладела собственным «базовым комплектом выживания» – набором трюков и умений, которые помогли бы ей уверенно чувствовать себя в любой ситуации.
Для Адрианы существовало только будущее – она его или предсказывала, или боялась. Олена же, напротив, жила настоящим, будучи при этом не менее осмотрительной, чем подруга. Ее родная Украина была такой же непростой страной, как и любая другая, известная Адриане, и, чтобы жить в ней, не нарываясь на неприятности, нужно было с детства научиться осторожности. Так что Олена никогда не отправлялась в незнакомое место, не поставив в известность всех окружающих, включая двух кукол – подруг детства, только их она взяла с собой, уезжая из Киева. Порой Олена отправлялась на «сомнительные» встречи в сопровождении какого-нибудь мускулистого завсегдатая дискотеки и никогда не забывала оставлять сообщения, в которых информировала о том, когда ушла и в котором часу думает вернуться. Не стоит и говорить, что девушка всегда брала с собой мобильник, хотя и знала, что телефон оказывается совершенно бесполезен при подавлении сигнала, применявшегося все чаще. Людям она доверяла больше, чем устройствам, – как любой разумный современный человек. Обмануть Лени Гусеву, несмотря на ее внешнюю хрупкость, было не так просто. В некотором смысле ее собственный «базовый комплект» был намного надежнее, чем у той же Адрианы.
– Великолепно. Стой так, лицом сюда. Смотри прямо в камеру.
Тем не менее она нервничала – не скажешь, что нет. Во рту пересохло, и она, хоть и осталась практически голой, начала потеть. И ведь не то чтобы в этом просмотре ее хоть что-то взволновало. Те двое, которых она видела перед собой, сохраняли в общении с ней необходимый баланс вежливости и отстраненности. Съемка шла уже полчаса, и они заранее предупредили, что снимать ее будут в нижнем белье, что было абсолютно нормально. Ее тревога, вне всякого сомнения, стала следствием желания сделать все как можно лучше, чтобы ее выбрали в результате кастинга. Должно быть, дело именно в этом.
Она с самого начала почувствовала, что этот просмотр – ее главный шанс. Объявление, которое она нашла в Интернете, было самым обычным, одним из многих. Речь шла о том, чтобы найти девушек «со способностями», снять их на видео и отобрать среди всех кандидаток двух-трех наилучших, чтобы потом отослать материалы североамериканским и европейским кинокомпаниям. Именно так, ни больше ни меньше. В самом объявлении значилось и название агентства: «Эфес». Олена разыскала все, что смогла, об этом агентстве; оказалось, что уже более десятка лет оно открывает новые имена и лица для киноиндустрии – на эпизодические роли в высокобюджетных картинах. И, нимало не сомневаясь, Олена послала свое портфолио и контакты. Она в любом случае ничего не теряла, поскольку агентства никогда не отвечали, даже если ты пошлешь им «свое фото, на котором делаешь это с ослом», как выражалась Адриана, неисправимая оптимистка.
Но на этот раз они ответили.
Через три дня на ее электронный адрес пришло приглашение на пробы. В семь часов июльского вечера в одно из зданий-близнецов «Ява» на Плайа-д’ен-Босса. Место это уже само по себе производило благоприятное впечатление: два здания «Ява» были жилыми, оборудованными системой «умный дом» и такими замысловатыми штуками, как прозрачные стены или двери, открывавшиеся на звук голоса. Арендовать помещение здесь могло только агентство масштаба «Эфеса».
Олена несколько дней обдумывала, что надеть на пробы, дабы произвести наиболее благоприятное впечатление. Наконец остановилась на черном цвете: рубашка, джинсы, кроссовки. И вот, пока она облачалась во все черное тем самым вечером, в ее маленькую комнату смерчем ворвалась Адриана:
– Не ходи туда, Лени! У меня плохое касание.
Олене было хорошо известно это выражение. «Плохое касание» означало дурное предчувствие. Адриана говорила, что эти «касания» были следствием ее духовной связи с сестрой-близняшкой, которой не суждено было родиться. Сестра «касалась» ее, дотягиваясь из потустороннего мира, когда хотела о чем-нибудь предупредить, большей частью о какой-нибудь опасности. Именно благодаря этим сообщениям, утверждала Адриана, она как-то раз не села в автобус, который почти сразу после отправления рухнул в пропасть.
– Ты уже рассказывала историю про автобус, Адри, – произнесла Олена своим серьезным хрипловатым голосом, в котором слышался славянский акцент. – Это ведь всего лишь просмотр: туда и обратно. Кроме того, ты ведь знаешь, куда именно я иду.
– А представь: тебя накачивают наркотиками и увозят в другое место.
– Это серьезное агентство. Ты же видела их сайт. Это «Эфес»…
Адриана, не отрывая взгляда, не мигая, смотрела на подругу огромными антрацитовыми глазами.
– Тебя снимут голой, и если ты им понравишься, то просто исчезнешь, – объявила она.
Олена, улыбаясь, покачала головой, не переставая причесываться перед зеркалом.
– И тогда ты сможешь наконец сдать мою комнату, о чем уже давно мечтаешь.
– Я говорю серьезно. Мне это передала сестренка, Лени. – Тон Адрианы и вправду был убийственно серьезен – это даже произвело на Олену впечатление. – Пожалуйста, не ходи туда.
Олена сжала руки подруги. Они были холодными.
– Скажи-ка мне, мамочка, вот что: когда-нибудь эти «касания» тебя подводили?
– Никогда. – Адриана отрицательно замотала головой, но вдруг засомневалась: – Ну, может, один раз…
– Значит, они не всегда сбываются, ведь так? Я вернусь раньше, чем ты думаешь.
И уже с порога послала подруге воздушный поцелуй.
Внезапно все завершилось.
– Спасибо, Лени, этого достаточно.
Минуту она только мигала – словно удивляясь такому резкому окончанию съемки. Потом отметила, что челка прилипла к влажному от пота лбу. Несмотря на отсутствие одежды на теле, она задыхалась в обжигающем свете юпитеров. И вот они погасли, оставив пару фиолетовых пятен перед ее глазами: два магматических круга, словно глаза дьявола. Олена потерла глаза и заморгала, привыкая к обычному рассеянному свету.
Сидевший человек поднялся, на его губах играла мягкая улыбка.
– Можешь одеваться. Мы закончили.
– Так есть у меня способности? – поинтересовалась Олена, застегивая пуговицы на рубашке. Ей не хотелось задавать глупых вопросов, но она слишком волновалась, к тому же человек, говоривший с ней, казался любезным, располагал к себе.
– Сейчас пообещать что-то трудно, дорогуша. Претенденток несколько, и четкого видения ситуации у нас пока нет. Но ты нам понравилась. У тебя есть индивидуальность, и перед камерой ты держишься уверенно.
Этот комментарий доставил Олене удовольствие.
– Спасибо. А когда станут известны результаты?
– Когда лето закончится. Где-то в сентябре-октябре, что-то в этом роде… Твои контакты у нас есть, так что сообщим, если что… С тобой все в порядке?
– Да, вот только… – Вдруг она почувствовала, как кружится голова. Закрыла глаза и увидела: два мощных юпитера, гротескные маски, видеокамера, и все это кружится в хороводе.
«Представь: тебя накачают наркотиками».
Девушка глубоко вздохнула, сделала несколько шагов, и комната обрела реальные размеры. Она успокоилась. Никто ее не накачивал наркотиками. Ей даже воды не предложили. Единственное, что доставляло неудобство, – ощущение жара. Она улыбнулась и взяла бумажные платочки, протянутые ей другим человеком – тем, кто все время молчал. Платочки он достал из коробки, лежавшей на стеклянном журнальном столике рядом с книгой. Вытирая пот, Олена из любопытства посмотрела на название: «Комедия ошибок» Уильяма Шекспира. И этот факт окончательно убедил ее в том, что единственный интерес этих людей – мир зрелищ, спектаклей.
– Хочешь зайти в туалет перед уходом? – предложил тот, кто раньше беседовал с ней.
– Нет, спасибо, со мной все в порядке…
Так и было. С каждым мгновением все лучше. Олена на прощание крепко пожала обоим мужчинам руки, а когда вышла из здания на залитую щедрым солнцем и продуваемую морским бризом улицу, голова ее окончательно прояснилась. Она не знала почему, но вдруг пришло ощущение, что она будет избрана.
По дороге к автобусной остановке она вынула из сумочки мобильник и отправила Адриане сообщение: «Меня не похитили». Дома Адриана сделала вид, что рассердилась из-за легкомысленного тона подруги, но потом они на эту тему уже только шутили. И так как в тот вечер Олене не нужно было работать, они вместе поужинали и выпили за ее артистическое будущее.
И только значительно позже, перед тем как заснуть в одиночестве своей маленькой комнатки, она вспомнила одну деталь – незначительную, но любопытную.
Тот человек, который разговаривал с ней во время съемок, назвал ее под конец «Лени». А она была уверена, что не упоминала своего домашнего имени. Или все-таки упоминала?
Она чуть с ума не сошла, отыскивая в памяти ответ на свой вопрос, но в конце концов решила, что это не важно. С этими мыслями она и уснула.
I Начало
Что ж нам придумать? Маскарад иль танцы…[2] «Сон в летнюю ночь», V, 11
Мадрид, настоящее время
Мужчина выглядел совершенно нормальным, и именно это заставляло считать его опасным.
Его дом, или, по крайней мере, тот дом, в который он привел меня, назвав своим, производил все то же впечатление избыточной нормальности: таунхаус с солнечными панелями на крыше, малюсеньким участком и суперсовременными охранными системами, расположенный на тихой улице в «Падуе» – одном из кондоминиумов в окрестностях Мадрида, которые подходят как раз для домов и людей, не вписывающихся в другое окружение. Изнутри дом благоухал свежестью и блистал порядком, что также меня заинтриговало. Он уже успел сказать, что живет один, а такая чистоплотность в мужчине не могла не вызвать подозрений.
– Проходи, располагайся, чувствуй себя как дома, – сказал он мне, набирая код на пульте охранной системы при входе.
– Спасибо.
– Что будешь пить? – Он широко улыбнулся и развел руками. – Вот только никакого алкоголя у меня нет.
– Что-нибудь light[3], любой напиток, который найдется.
Сумку я положила на диван, но садиться не стала. Когда он вышел из комнаты, я принялась изучать обстановку. Насчитала не менее пяти картин на пасторальные темы, от которых раззевались бы даже бабульки, а также больше дюжины религиозных артефактов, включая одну из этих микроскопических скульптур с ликом Богоматери или Христа, которые можно разглядеть только под лупой. Обостренной религиозности я ожидала. Не удивил и ноутбук с инфракрасным портом на журнальном столике посреди комнаты. По-видимому, этот тип работал редактором на одном из новостных каналов онлайн, и если жил он один, то вполне мог размещать компьютеры где заблагорассудится.
А вот изображение женщины неожиданностью стало.
Голографическая карточка, заключенная в рамочку в форме буквы U, стояла на небольшой подставке из камня и украшала собой белую книжную полку с четырьмя томами по информатике и распятием. Женщина сидела рядом с мужчиной, похоже, в каком-то баре. Оба улыбались и выглядели скучающими, особенно женщина. Я тут же принялась ее рассматривать: возраст – около тридцати, крепкого телосложения, с густой темной шевелюрой. Фасон платья оставляет открытыми плечо и левую ногу. Одна рука покоится на другой. Женщина производила впечатление доминантной самки, и это шло вразрез с тем, чего я ожидала от Сеньора Чистюли, однако кое-что в ее позе заставило меня задуматься.
За моей спиной послышались шаги, но я решила продолжить разглядывать портрет.
– Не знал, со льдом тебе или нет… – Он замолчал, увидев меня.
– Безо льда вполне подойдет.
– Тебя заинтересовало это фото?
Я забормотала какое-то идиотское извинение, но мужчина продолжил, улыбаясь:
– Это моя жена. Бывшая жена, хотел я сказать.
– О, вот как.
Мы уселись на диван, он слева от меня. Я повернулась к нему и устроила небольшую проверку. На мне были штаны, не юбка, но зато облегающие, из черной кожи, что позволило продемонстрировать ему внешнюю сторону бедра. Я подождала, пока он переведет на меня взгляд, и стала снимать тесную кожаную курточку с застежкой на ремешках, обнажив вначале левое плечо. И проследила за его глазами: зацеп не усилился, но, кажется, и не ослабел. Понятно было, что ему нравится смотреть на меня в этой позе – позе его бывшей, – но не слишком. Я попробовала заговорить, все еще совершая манипуляции со «шкуркой»:
– А мне ты сказал, что холостяк.
– Я совсем недавно развелся. – Мужчина махнул рукой, показав, что не придает этому значения. – Эта вода уже утекла.
– Верно. Если механизм уже не работает, лучше от него избавиться. – И я бросила куртку рядом с сумкой. Вообще-то, я выбрала место подальше от сумки, показывая тем самым, что времени у меня предостаточно, но прибавила: – Мне скоро уходить.
– Ну и ну! – проговорил он, словно речь шла о досадном недоразумении, и показал на стакан, стоявший на столе. – А пить ты что, не будешь?
– Буду, конечно.
Я пригубила напиток. Легкий привкус лимона, но это вовсе не значит, что туда не подмешаны наркотики. Но это меня не очень заботило, поскольку я была полностью уверена, что ничего он со мной не сделает, если я буду без сознания. Если он – Наблюдатель, то, чтобы развлечься, я нужна ему в адекватном состоянии.
– А ты красивая, – заявил он. – Очень-очень красивая.
– Спасибо.
– Такая стройная и… высокая. Ты похожа на модель… И такая молоденькая…
– Хочешь узнать, сколько мне лет? – Я улыбнулась и договорила: – Двадцать пять.
– Ага. А мне – сорок два.
– Ты тоже молодо выглядишь.
Он поднял свою волосатую руку, поблагодарил меня за комплимент и засмеялся, будто над тонкой шуткой. Когда он не пил, его взгляд обращался к моему лицу и от него уже не отрывался, словно глаза солдат в присутствии командира, но я-то знала, что все, что его во мне привлекает, все, что его цепляет, начинается как раз от пучка волос на затылке и ниже: черные бретельки, рассекающие мои плечи, кожаные браслеты, так похожие на наручники, мой голый живот ниже топа, мои ноги, обтянутые тонкой черной кожей штанов, заправленных в остроносые сапожки.
Говоря, мужчина активно жестикулировал, словно выполняя гимнастические упражнения с гантелями.
– А ты… испанка или?.. Ты похожа на… не знаю… На шведку или что-то в этом роде…
– Я из Мадрида. Шведка из Чуэки[4].
Покачав головой, он расхохотался:
– В такие времена живем – никто не есть тот, кем кажется…
– Да уж, и не говори, – согласилась я.
Повисла пауза. Я воспользовалась ею, чтобы осторожно за ним понаблюдать, пока он задумался. «И о чем ты думаешь, козлина? Ведь вертится же что-то без конца в твоей голове. И не просто секс… Есть за этим мрачным лицом что-то еще, о чем тебе хочется сказать или сделать… Что же это?»
Он назвался Хоакином. Внешность его вызвала у меня в памяти кадры из фильмов про кроманьонцев, которые крутят на платных каналах: крепкий, невысокого роста, со скошенным лбом, волосы подстрижены ежиком, густые брови, сросшиеся на переносице, глаза расставлены широко, неподвижные. Тело, заключающее в себе огромную физическую силу, – и мозг, об этом не подозревающий. Он из тех, кто после соответствующей тренировки способен разбивать кирпичи ударом головы. В одежде тоже обнаруживалась забавная деталь: зеленая рубашка в тон к джемперу. Забота о собственном имидже. Мужчина одинокий и франтоватый, религиозный и разведенный, с мягким голосом и грубым телом. Волосатая и мускулистая тайна, застенчив, взгляд неподвижный.
Он все еще был у меня на крючке, но стало очевидно: чтобы он начал действовать, нужно что-то еще. Я снова подумала о доминантном облике его бывшей, если это действительно его бывшая, и вспомнила, что говорил Женс по поводу «Укрощения строптивой» Шекспира и связи этой пьесы с филией Жертвоприношения. В этой пьесе Катарина – строптивая – создает препятствия, распаляющие Петруччо, который, в свою очередь, «укрощает» ее при помощи еще больших препятствий. «Эта борьба двух воль, сталкивающихся друг с другом, – говорил Женс, – и есть символ маски Жертвоприношения».
И я попробовала именно эту тактику. Со стуком поставила стакан на стол, так что он зазвенел, изменила позу, а голосу придала некоторую резкость:
– Ну так что?
– Извини?.. – Он буквально подскочил.
– Ну, что ты хочешь делать?
– Делать?
– Ты привез меня к себе, чтобы что-то делать, разве не так?
Мужчина, казалось, потратил немало времени на обработку моего вопроса.
– Ну… Я думал, мы могли бы сначала немного поболтать…
– С такими планами мне придется всю ночь болтать. Откровенно говоря…
– Ты торопишься?
– Вот что, я даю тебе час. – И я развела руками. – На большее время остаться я не смогу.
– Ладно-ладно. Я просто хотел, чтобы мы хоть немного узнали друг друга…
– Уже узнали. Я – Джейн, ты – Тарзан. Что еще нужно?
– Да нет, хорошо, я просто…
Я усилила натиск:
– Если хочешь заплатить за час склоки – вперед, все в твоих руках. А еще я беру отдельно, если заскучаю…
– Нет-нет… Лучше так. Двое незнакомцев.
– А теперь скажи, чего именно ты хочешь…
– Я не буду делать ничего, чего не захотела бы ты, – перебил он.
То, что он впервые перебил меня с тех пор, как час назад мы познакомились в одном из клубов, показалось мне хорошим знаком: движок разогревается.
– Нет, ты сам скажи. Я уже говорила, что обсуждается все, кроме одного: деньги вперед… Если вижу деньги, делаю все, что захочешь. Больше денег – больше делаю.
– Все просто, да?
– Проще простого.
Он достал бумажник и стал отсчитывать банкноты. Вдруг меня кольнула острая тоска. Я уж начала думать, что он всего лишь приторможенный мудила, один из многих филиков[5] Жертвоприношения, но вполне невинный – без всяких там зловещих кладовок или подвалов. Скорее всего, так оно и есть, но одна деталь заставляла меня настаивать. Всего одна деталь: «Почему ты так контролируешь мой взгляд, Хоакин? На что это ты и сам не хочешь смотреть, и мне не даешь?»
Я шевельнула рукой, будто намереваясь взглянуть на часы, но, не завершив этого жеста, снова уставилась в глаза Рыбы.
И поймала его. Черные зрачки на долю секунды отклонились к некой точке, которая находилась у меня за спиной, прежде чем вновь остановиться на моем лице. Что это? Оглянуться, чтобы взглянуть на это, я не могла: это было бы равносильно тыканью пальцем в тайную комнату Синей Бороды. И выругала себя за небрежность: Женс ведь предупреждал, что необходимо хорошо изучить декорации, прежде чем начать применять какую бы то ни было маску.
Искать зеркала было бессмысленно, но мне удалось использовать одну из застекленных картин, висевшую прямо за спиной мужчины. На поверхности стекла отражался свет из прихожей, который проникал сквозь стеклянную дверь за моей спиной. Он смотрел на это?
– Достаточно? – спросил он, подвигая ко мне пачку банкнот.
Я взяла деньги. Он снова отхлебнул из стакана, и это позволило мне еще раз взглянуть на застекленную картину.
Там было что-то еще рядом с дверью, что-то угловатое. Я напрягла память, припоминая все, что видела, входя в этот дом. И поняла.
Балясины перил.
Перила лестницы, которая ведет наверх.
Второй этаж. Вот оно что! Это и было тем, на что он не хотел смотреть. Все – на верхнем этаже. Нужно было как можно скорее перенести действие именно туда.
– Тебе скучно? – поинтересовался он.
– Ну что ты! Мне так нравится разглядывать твои картины.
Услышав в моем голосе сарказм, он покраснел, но продолжал молча пить.
Прямо сейчас он меня наверх не поведет, это ясно. Его псином теперь, когда он уже попал на крючок, должен был повариться в собственном соку. Но мне-то нужно как можно скорее узнать, не ошиблась ли я с этим субъектом. Однако любая инициатива сексуального характера успеха не принесла бы: если первый шаг будет моим, его истинное желание угаснет и он никогда не поведет меня наверх и не откроет мне свой секрет. Все это, а также многое другое пронеслось в голове с космической скоростью, и я решилась на сильнодействующее средство:
– Слушай, мне очень жаль. Но мне нужно идти.
Деньги я положила на столик, встала, взяла куртку и начала одеваться.
– Ты говорила, что у тебя час времени, – монотонно возразил он.
– Да, говорила, но, слегка поразмыслив, передумала.
Я склонила голову набок, сделав вид, что забыла взять сумку, но на самом деле принялась застегивать один из ремешков на куртке и только потом взяла в руки сумку. Повернувшись к выходу из гостиной, я подняла руку, положила ее на сумку, словно хотела открыть ее, но жест завершился всего лишь пожатием плеч.
– Правда, мне очень жаль, может, как-нибудь в другой раз? Прощай.
Мои жесты были хорошо просчитаны. Тренеры называют их «танцем», потому что эти движения не направлены к какой-либо конкретной цели и взаимно гасятся, как споры между Петруччо и Катариной. Это классика в театре Жертвоприношения. Мой план заключался в том, чтобы усилить его наслаждение, что должно было побудить его перейти к активным действиям как можно скорее.
Я направилась к выходу. Остановилась:
– Здесь поблизости есть станция метро?
– В конце улицы.
– Спасибо.
Я не думала, что у меня получится. Он меня отпускал. Стук каблуков, когда я направлялась к дверям, звучал для меня мучительным тиканьем часов.
И тогда наконец я услышала его голос:
– Подожди.
Я остановилась и оглянулась.
Мужчина поднялся на ноги, улыбаясь, но его широкое лицо со скошенным лбом побледнело.
– Я… мне хотелось бы кое-что сделать.
– Но я же сказала, мне пора уходить.
Он достал бумажник.
– Если видишь больше, делаешь больше, разве не так? – И он добавил банкноту к тем, что лежали на столике.
Я сделала вид, что даю ему еще немного времени.
Он улыбнулся:
– Иди сюда, хочу кое-что показать тебе.
Он направился к лестнице и стал подниматься.
2
На втором этаже интерьеры были практически такие же: все белое, непорочное, холодное. Нелепая репродукция с фигурой средневекового рыцаря на гипсовой колонне. Две двери, напротив друг друга, которые вполне могут вести в спальни. Мужчина толкнул правую дверь, прорезанную стеклянными вставками, и в комнате автоматически зажегся свет.
– Моя спальня, – сказал он. – Проходи.
Все настолько безупречно чистое, что я сразу же подумала об операционной. Постель гладкая, как мысли покойника. Мебель почти отсутствует – только комод, на котором абсолютно ничего, и шкаф с электронным замком, и то и другое белое. Над комодом – единственное зеркало, которое я увидела в этом доме. Заключенное в простую раму, оно, казалось, так хорошо выполняло свою функцию, что отразило бы и вампира. Металлические жалюзи предположительно закрывали вход на террасу.
– Ну как тебе? – поинтересовался он.
– Не знаю, – ответила я совершенно искренне. – Во всяком случае, ты гораздо больший любитель порядка, чем я.
Щеки Хоакина вспыхнули.
– Да, мне нравится порядок. Даже слишком. – Он повернулся к шкафу – огромному, метра в четыре шириной, – и начал набирать комбинацию цифр.
– Можно здесь располагаться?
– Нет, подожди, – отозвался он.
Было что-то беспокоящее в этой обстановке, но я не могла понять, что именно. Меня не удивило, что я не обнаружила ничего, связанного с религией, в его «убежище», потому что в противном случае это означало бы, что его сознание проникло так глубоко. Но эта белизна и слабый запах антисептиков наводили на мысль о непосредственной связи с интерьером. И все это было не очень характерно для филика Жертвоприношения. Да не стоило и утверждать, что не было ничего, связанного с религией: две картинки в углу, на складной подставке в изголовье кровати, рядом с ноутбуком, так что лежащий в постели, не вставая, мог увидеть эти изображения. И пока Хоакин набирал код, я стала их разглядывать. Это были репродукции старинных полотен, изображавших двух женщин с нимбом над головой в апогее их мученичества: одна, обнаженная, стоит на коленях рядом с ощетинившимся острыми ножами колесом, которое, казалось, должно нарезать ее тело тонкими ломтиками, как колбасу; другая, облаченная в тунику, вот-вот будет вздернута на крестообразную дыбу. Ни та ни другая, естественно, не выглядели довольными жизнью.
– Забавно, – произнес он, все еще стоя ко мне спиной, в то время как в полной тишине сдвигалась дверь шкафа. – Я отправился сегодня вечером в «Орлеан» взять у одного субъекта интервью для своей странички, а встретил там тебя…
– Превратности судьбы.
Это была его версия, которую он уже успел мне поведать. «Орлеан» был убогим придорожным клубом pick-up[6], который недавно реконструировали, превратив его в еще больший отстой – с налетом готики, цветными витражами и блондинками из Восточной Европы, которые смотрят в пол, притворяются половозрелыми и принимают позы невинных дев. Но в клубе привечали и девушек со стороны – при условии, что они будут обделывать свои делишки по-тихому, не привлекая внимания. Потому-то я и выбрала это местечко, чтобы завершить вечер, к тому же клуб занимал среднюю позицию в списке мест, ранжированных по вероятности появления там Наблюдателя. Вернувшись из туалета и заказав коктейль под названием «Костер», я уселась возле барной стойки, и ко мне подошел этот тип с рыбьими глазами, спросил, не знаю ли я одного человека, англичанина, по фамилии Тальбот. Он пояснил, что этот англичанин – декоратор, дизайнер реконструкции заведения, и у него он должен сегодня взять интервью. Пока он говорил, я использовала несколько простых жестов, предположив, что его филией вполне может оказаться Жертвоприношение. И решила дать ему шанс. Подцепила его на крючок, пока называла «цену за свои услуги». Тогда-то он и пригласил меня к себе домой.
И вот я здесь, в его спальне, и дверь его шкафа беззвучно открывается, а сам он, все еще спиной ко мне, продолжает говорить:
– Я лишь хочу сказать, что познакомился с тобой меньше часа назад… Свою жену я знал восемь лет – и только к концу этого срока решился заговорить с ней об этом…
– Жены никогда не знают своих мужей, в этом я твердо уверена, – заявила я.
– Не знаю…
Верхняя часть его кряжистого тела исчезла внутри шкафа. Моим глазам открылся ряд пиджаков на вешалках, что выстроились в линеечку, словно гости на похоронах.
– Она была очень хорошей, это факт… Нет, правда, не могу сказать о ней ничего дурного. Очень хороший человек, но… она меня не понимала. А вот ты… ты, кажется, понимаешь, хотя я и не знаю почему…
– Ну спасибо. Может, и я вовсе не так хороша.
Он наклонился, чтобы поднять что-то с самого низа. С моего места по другую сторону кровати не было видно, что именно. Голос его из тесноты шкафа доносился глухо:
– Вы, телки, интересный народ… Стоит вас увидеть, и вот мы уже перестали быть самими собой. Мы годами можем работать или делать вид, что работаем… Годами скрываемся… а потом вдруг является одна из вас и… и все переворачивает. Вытаскивает нас наружу. Вытаскивает из нас все, что мы есть. – Он вынырнул из шкафа, как черепаха со дна пруда, выпрямился и повернулся ко мне. В его руках что-то было. – Все. Сверху донизу. И вот ты делаешь то, чего никогда в жизни не думал делать…
Он положил эту вещь на безукоризненно заправленную постель, где она выглядела еще более нелепо. Это была коробка из-под мужской обуви фирмы «Бедфорд» – черного цвета, с логотипом в виде золотой шпаги сбоку. Хоакин возложил на нее руки, словно это был Священный Грааль, и облизывал губы. А потом сказал:
– Как тебе это удается – тебе лучше знать, но я случайно увидел, как ты шла по клубу, и подумал, будто… будто знаю тебя всю жизнь. И что полностью могу тебе доверять. Это всего лишь первое впечатление. Но потом, когда я заговорил с тобой, оно укрепилось.
Я так внимательно разглядывала коробку, что на мгновение перестала его слушать. Теперь же взглянула на него:
– Ты впервые обратил на меня внимание, когда я шла?
– Да, увидел тебя со спины. Кажется, ты направлялась в туалет. – Мужчина рассмеялся, обеими руками снимая крышку с коробки, словно выполняя некий ритуал. – Но мне даже не нужно было видеть твое лицо… Мне все стало ясно в тот самый момент.
Первоначальный зацеп при взгляде на меня со спины никак не вязался с тем, что мне было известно о филии Жертвоприношения. Это меня насторожило. Я отчаянно пыталась припомнить, как выглядел коридор, который вел к туалетным комнатам в «Орлеане»: где располагались светильники, был ли контраст между моей одеждой и фоном… А что там вообще было, что служило фоном? Дамская комната. Дверь была… открыта? Внутри она была белой? Горел ли там свет? Мой силуэт должен был резко выделяться на этом фоне. Белое, черное. Кожаные штаны наверняка отблескивали на ягодицах при ходьбе…
Пока я прокручивала все это в голове, мужчина достал из коробки первый нож.
– Они мои, – сказал он. – Я их коллекционирую.
Я кивнула, но мысли мои были заняты уже не тем, что он говорит: ослепительная белизна спальни, такая же, как в дамской комнате; голография женщины доминантного типа; смешная и такая домашняя обувная коробка, хранящая его самый интимный секрет, вожделение его псинома… Все эти детали по отдельности были вполне допустимы для филии Жертвоприношения, но в совокупности характеризовали другой тип, совсем отличный…
– Испугалась? – спросил мужчина, ласково поглаживая нож.
– Да нет, с чего бы, все нормально. Это нормально, если ты платишь девушке за то, чтобы она с тобой переспала, а потом вытаскиваешь коробку с ножами.
На его покрасневшем лице проступило что-то – смех? тошнота? – но он тут же посерьезнел, и глаза его вновь обрели моляще-рыбье выражение.
– Не пугайся, пожалуйста. Я всего лишь их собираю. В моей коллекции есть настоящие перлы, вот как этот. Вот смотри, это «Сомерсет» – с ручкой из палисандра, розового дерева, и лезвием из сплава молибдена и ванадия… Его имя – Красная Роза, каждый такой нож имеет индивидуальный номер… А вот этот называется Белой Розой, его ручка выполнена из натурального оленьего рога с инкрустацией из мрамора…
– Очень приятно познакомиться, – сказала я, но мужчина не засмеялся.
Его лицо приобрело гранатовый оттенок, на лбу выступили капли пота, пока он один за другим раскладывал на постели свои «перлы». В блеске стальных клинков отражался жестокий свет потолочных светильников.
– Я скажу, что ты должна сделать. И заплачу еще, если захочешь.
Он снова запустил руку в коробку, но на этот раз выудил оттуда не очередной нож, а моток тонкой веревки розового цвета.
Веревки любого типа были ожидаемы в случае филии Жертвоприношения, и, без сомнения, Наблюдатель тоже их использовал. Но субъект, стоявший передо мной, не был филиком Жертвоприношения, теперь я знала это точно. Я ошиблась с каталогизацией. Это случилось не в первый раз, да и ошибка была вполне предсказуемой: его филия очень походила на филию того, за кем я охотилась; однако я выругала себя за то, что подцепила его на крючок, не удостоверившись в точности диагноза.
– Я заплачу столько, сколько попросишь, – повторил мужчина. Крупные капли пота скатились по лбу, пока он доставал из коробки последний предмет – небольшую бобину с эластичной лентой. Вещи выглядели так, словно их не использовали долгое время. – Тебе всего лишь придется следовать моим инструкциям…
Где-то зазвонил телефон, и мы захлопали глазами, словно очнувшись от одного и того же сна. Телефон умолк.
– Я включил подавители. – Хоакин Рыбьи Глаза растянул губы в улыбке. – Никто нас не побеспокоит, пока мы… Эй, ты куда?
Я воспользовалась паузой, чтобы перекинуть сумку через плечо и шагнуть к двери.
– Думаю, что… что это не мое, Хоакин, – ответила я, изображая беспокойство.
– Я ведь сказал, бояться тебе нечего… Это не то, о чем ты подумала. Дай мне все объяснить…
Заметив, что он напрягся, я решила немного подождать.
– Ну ладно, – сказала я, – но ничего не обещаю.
– Уверяю тебя, что в этом нет ничего плохого, ничего плохого.
– А я и не говорю, что проблема в этом.
– Если ты дашь возможность все тебе объяснить… Если позволишь мне… – У него пересохло во рту, и ему пришлось буквально отклеивать язык от нёба, чтобы продолжить: – Я человек хороший. А это не есть что-то плохое. Ты сама сразу же поймешь…
Но я уже понимала все слишком хорошо. Акценты на словах «хороший» и «плохой» типичны для филиков Отвращения, которые получают наслаждение от резких контрастов: чистота и картины истязаний, обувные коробки и ножи… Женс соотносил их с образом Жанны д’Арк в трилогии «Генрих VI», одном из первых творений великого английского драматурга. Шекспировская Жанна была персонажем, построенным на контрастах: воительница и дева, шлюха и святая, ведьма и избавительница. Да и сам король Генрих был типичным представителем Отвращения. Разумеется, ничто из того, о чем говорил этот человек, не имело отношения к морали: за него изъяснялся его псином, пылающее желание, бьющее из глаз.
– Мне не нужно, чтобы ты раздевалась… Останешься так… в чем пришла…
– Хорошо.
– Потом… ты свяжешь меня этой веревкой… руки и ноги.
– Да.
– Затем возьмешь Красную Розу и… и будешь меня колоть… Я скажу тебе куда… Пожалуйста, не смейся…
– Да вовсе я и не смеюсь.
– Ты будешь колоть меня слегка… не слишком сильно, но достаточно, чтобы… мне было больно… – Голос его стал жестким. – Тебя это забавляет?
– Нет.
Я ни разу даже не улыбнулась. Женс сказал бы, что его комментарии адресованы другой части его филии Отвращения – смешной и карикатурной, той «обувной коробке» внутри его сознания, но он, естественно, адресовал их мне. Я же опасалась пробоя и отвела взгляд, чтобы не смотреть ему в глаза.
– Ты сделаешь?.. Сделаешь это?.. Я так давно никого об этом не просил…
Я хотела только одного – уйти, не растравив его еще больше. Кем бы ни был Сеньор Чистюля, что бы ему ни нравилось, он точно не был объектом моей охоты. Я совершенно случайно подцепила его на крючок, показавшись со спины, а глубже он увяз, когда я продемонстрировала ему несколько жестов маски Жертвоприношения, которая обладала свойством привлекать приверженцев и других филий. Но особенно сильно подействовала на него скопированная мной поза его бывшей жены – его личной Жанны д’Арк, его ведьмы и святой, его пассивного и доминантного партнера. Теперь мне предстояло исправить собственную ошибку, не причинив ему вреда.
– Пожалуйста! – простонал он.
Не знаю, что еще можно было сделать, кроме как закрыть лавочку. «Погасить юпитеры и сойти со сцены», – как сказал бы Женс. Продолжать играть свою роль, чтобы его успокоить, оказалось невозможным. Моя черная одежда подбрасывала ему сочнейший контраст с белизной его спальни. А то, что я находилась так близко к истязаемым святым мученицам, дало ему возможность идентифицировать меня с палачом, что доставляло еще более сильное наслаждение. Мне подумалось, что его псином, должно быть, посылает ему такие импульсы, наслаждение такой силы, что его просто трясет, как в лихорадке. Но самым ужасным было не это.
Хуже всего было то, что он все еще держал в руках Красную Розу.
– Пожалуйста, Елена, или как там тебя зовут… Ты сказала мне… сказала, что, если я заплачу́, ты сделаешь что угодно…
Я расслабила мускулы и мягко повела руками, поскольку напряженность и резкие движения подсаживают филика Отвращения еще больше. Направляясь к выходу, самым естественным тоном я выдала следующий текст:
– Мне очень жаль, но… но я думаю, что не хочу это делать. Очень сожалею, Хоакин.
– Назови свою цену. Только назови мне ее!
– Мне правда очень жаль. Всего хорошего.
Тут я поняла, что слишком рано повернулась к нему спиной. Моя спина особым образом его цепляет, а я забыла об этом. Его прерывистое дыхание приближалось.
– Послушай-ка, послушай, послушай… – Каждое «послушай» звучало все ближе ко мне и со все большей яростью. Он вцепился в рукав куртки, когда я была уже на последней площадке лестницы, ведущей вниз. – Куда это ты собралась, а? Куда, а?
– Пусти! – Резким движением я освободилась, но он снова схватил меня за руку.
– Погоди… Погоди, черт возьми… Ты сказала, что сделаешь все, чего я захочу, так?
– Я сказала: отпусти меня! – Я попыталась сыграть на его уважении к доминантной женщине, но это было похоже на зыбучие пески: чем больше я дергалась, тем большее удовольствие он испытывал.
– Уже отпустил! – воскликнул он, разжимая пальцы. – А теперь – выслушай меня!
Я, не говоря ни слова, продолжила спускаться, пока меня не парализовал его визг:
– Стой, дьяволица! Ты сказала «все, чего я захочу»! Разве не так? Что случилось? Или снова скажешь, что это не твое? В чем дело? Я кажусь тебе ненормальным? Скажи! Думаешь, я сумасшедший?
Сбегая по лестнице, я оглянулась и посмотрела на него. Нет, сумасшедшим он, конечно, не был. Бедолага. Но его пробивало. Как-то так оказалось, что зацеп был сильнее, чем я ожидала, и при «закрытии занавеса» его стало пробивать. Пробой – это взрыв желания: ты так погружаешься в свой псином, будто пронзаешь буром землю, пока вдруг не забьет черной клейкой блевотиной нефтяной фонтан.
– Что это ты о себе вообразила, мерзкая шлюха? – вопил добряк Хоакин, так широко разевая рот, что тот казался больше его головы. – Каким дерьмом ты себя вообразила? Всю жизнь я вынужден терпеть шлюх – таких, как ты! Сначала – да, потом – нет! Сначала – «иди ко мне», потом – «убирайся»! Терпеть не могу! Всех вас! С души воротит!
Говорить ему, чтобы он успокоился, да и просто вступать в контакт было бесполезно. Мое собственное напряжение и даже сбившееся из-за быстрой пробежки вниз по лестнице дыхание возвели бы его преждевременный пробой в куб. Можно было рассчитывать только на то, что он успокоится, когда я уберусь с глаз долой. Я стала его наваждением, его усладой: если я сойду со сцены, он, быть может, и остановится.
Я спустилась еще на четыре или пять ступеней, что мне оставались, и метнулась к входной двери. Та была закрыта на электронный замок, но я надеялась, что он без кода. Поискала пульт, чтобы набрать «Open»[7], и в этот момент услышала за спиной голос и, кажется, ощутила на своем затылке чужое дыхание. Я обернулась.
– Что я для вас? Что я?.. Чем я был всегда?
Мужчина дрожал с головы до ног, его сотрясали рыдания. Но меня больше интересовало другое – я не отрывала глаз от пляски святого Витта этого самого сплава молибдена и ванадия, который рассыпал блики в его яростно жестикулирующей правой руке.
– Дай мне уйти, Хоакин, – спокойно сказала я.
Однако, пока звучали эти слова, я осознала, что вот так запросто уйти мне уже не удастся. Хоакин-весталка, дева-страстотерпица, сотворит с собой нечто ужасное при помощи своей могущественной Красной Розы, если я покину его в таком состоянии. Может, и нет, но рисковать мне не хотелось. Он невинен. Вернее, он не был тем виновным, которого я искала.
– Скажи мне, кто я? – завывал он, подняв нож к своему лицу. – Ненормальный? А? А? Я ненормальный, раз мне нравится, когда меня колют? А? А? Я что – ненормальный?..
– Да, – сказала я. – Ты больной на всю голову.
Он на секунду затих.
И в этот миг я подняла правую руку и двинула ему в физиономию. Ощущение такое, будто я ударила стену, но он не был первым мужиком, которому мне пришлось врезать. Он мгновенно рухнул, и Красная Роза, выпав из его руки, заскользила по беломраморному полу, словно острая смертоносная лыжа.
Я потерла костяшки и согнулась над Мистером Мучеником, дабы проанализировать ситуацию: нос его с одной стороны уже начал распухать; это наводило на мысль, что он либо сломал его при падении, либо причиной стал мой удар. Но, по крайней мере, дышал он нормально, а сердце его билось. Кроме того, в таком состоянии он ни для кого не представлял опасности, а к тому времени, когда он очнется, пробой, скорей всего, уже закончится. В этой жизни невозможно получить все и сразу.
Я наклонилась за Красной Розой, а потом поднялась с ней на второй этаж. Собрала все ножи и другие предметы в обувную коробку и вернула ее в недра шкафа, где на глаза мне попались распечатанные фотки из Интернета с изображением связанных мужчин. Я распрощалась со святыми страстотерпицами и, вернувшись в прихожую, прежде чем открыть дверь, остановилась над тюком в темно-оливковом пиджаке и джинсах, который, как заправский пьяница, храпел на полу перед входной дверью.
– Ты ненормальный, это точно, – громко сказала я, – но не больше, чем любой другой.
Отворила дверь и сошла со сцены.
3
Заявление он не подавал.
Я промолчала. А́лварес продолжил:
– Он проснулся, пошел в травмпункт и сказал там, что ударился о дверь.
– Хорошо, что иногда еще попадаются дядьки, которые не брезгуют подобного рода объяснениями, – отозвалась я.
Алварес сделал нечто, на что, я считала, он не решится за весь наш разговор, – отвел взгляд от ветрового стекла машины и повернулся ко мне. До этого он ограничивался тем, что пристально наблюдал за яростными нападками утренней непогоды понедельника, швырявшей в стекло дротики дождя. Естественно, движение Алвареса длилось долю секунды. Машина была припаркована рядом с парком Вероне́с, небольшим зеленым садом к северу от Мадрида, разбитым, без сомнения, с целью благоустройства местности возле новой станции метро. Салон «опеля» благоухал новой кожей с примесью запахов промокшей одежды и лосьона после бритья. Ощущалась и еще одна нотка – женских духов, из самых дорогих, и я подумала, что это, скорее всего, жена Алвареса, а не тайная любовница: он производил впечатление мужчины, моногамного по призванию.
– Я вовсе не хочу знать, по какой причине вы расквасили нос ложноположительному, Бланко, – произнес Алварес после паузы. – В своем отчете вы это, несомненно, изложили. Однако я знать об этом не желаю.
– Его пробило, когда в руках у него был охотничий нож. И перед уходом мне пришлось его вырубить.
– Я уже сказал, что не хочу ничего об этом знать.
– Но мне хотелось вам об этом сообщить.
– По крайней мере, он не написал заявление.
– Честно говоря, мне в высшей степени плевать на то, что сделал или не сделал этот хрен собачий… – выпалила я в ответ. – Прошу прощения за свои слова.
Алварес набрал в грудь побольше воздуха и медленно-медленно его выдохнул.
– Этот «хрен собачий» – гражданин, обладающий всеми конституционными правами. Если он написал бы в полицию заявление о девушке, разбившей ему нос, я в данный момент, скорее всего, уже имел бы на руках обращение из Управления внутренних дел, в котором были бы заданы вопросы относительно того, сколько времени Диана Бланко Бермудес работает у нас и нельзя ли аккуратно от нее избавиться, причем без всякой компенсации. Не следите за своими словами, Бланко, – следите за своими мыслями.
– Если хотите, дайте мне адрес его электронной почты, я отправлю ему извинения.
– Я не настроен шутить.
– Я напишу ему: «Сожалею, что ошиблась в типе ненормальности. Вы всего лишь хотели, чтобы вас связали и искололи охотничьим ножом, а это, ясное дело, филия Отвращения, а не Жертвоприношения. Как же я лоханулась! Вы настоящий шкодливый козел, но, по крайней мере, никому не причиняете зла».
– Я же сказал, довольно, Бланко.
– А я вам сказала, что его пробило, так? И что у него был здоровенный нож – длиной с вашу руку. Что вы предпочтете? Ложноположительного с разбитым носом или его же, но с перерезанным горлом?
– Я ничего не предпочту, – заявил Алварес, неотрывно глядя на ветровое стекло. – И не говорите мне ни о «пробоях», ни о «выбросах», ни о «псиномах», ни о «масках»… Я ничего в этом не понимаю и не вижу причины, почему должен понимать. Мне известно лишь, что в пятницу невиновный человек получил травму. И к добру это или нет, но человек, который нанес ему эту травму, работает в моем подразделении.
Алварес никогда на меня не смотрел, а я на него – да. И к тому же не торопясь, в свое удовольствие, кроме всего прочего, еще и для того, чтобы заставить его понервничать. Лысина, неровная седина на висках, вечно раздраженное выражение лица – признак заболевания печени или желчевыводящих путей, венозная сеточка на крыльях носа, морщины мужчины, разменявшего шестой десяток, темный костюм за две тысячи евро, бирюзового цвета сорочка с галстуком в тон, аккуратно подстриженные ногти и обручальное кольцо на пальце. Альберто Алварес Корреа, уполномоченный по связям Управления внутренних дел и Криминальной психологической службы. Человек, понять которого можно с первого взгляда, насквозь просматриваемый внутри своего же собственного путаного лабиринта. И возможно, именно по этой самой причине я нуждалась в нем сейчас больше, чем когда бы то ни было.
Смущенно поерзав на сиденье, он прибавил:
– Хотелось бы услышать ваши извинения. Я полагал, что вы попросили о встрече именно с этой целью. Разве не так?
Еще секунду я молча смотрела на него. И подумала, что случайный наблюдатель с улицы при всем старании не смог бы увидеть ничего, кроме резкого контраста: солидный и по возрасту, и по положению мужчина и девица, с волос которой капает водичка, в промокших спортивных штанах, куртке и грязных кроссовках, бросающих вызов коврикам золотистого «опеля».
– А знаете, чего я на самом деле хочу? – зашипела я. – Желаете узнать?
– Валяйте.
– Я хочу заловить этого сукина сына. Но не просто поймать его, не только это. Меня распирает желание помочиться на его рожу, пока он будет истекать кровью. Я почувствовала бы себя, как девчонка в Диснейленде, если смогла бы увидеть, как он корчится от боли и умоляет, чтобы я его прикончила. Я представляю себе это, когда мне хочется отдохнуть. Это здорово развлекает и расслабляет меня, как ничто другое в этом мире, – тай-цзи[8] отдыхает.
– Минуточку, что-то не пойму, куда вы клоните… Вы намекаете, что никто, кроме вас, не имеет желания схватить Наблюдателя? Что я этого не хочу?
– Понятия не имею, чего хотите вы. Говорю лишь о том, чего хочу я.
– Все мы горим желанием поймать этого гада, Бланко.
– Но желания-то у нас разные. Нас, наживок, пятеро на весь Мадрид и его окрестности. Когда мы начинали, нас было пятнадцать, теперь – пять. Сокращение расходов бюджета – так это называют. Не считая того, что перфис[9] не дают нам никакой новой информации ни об изменениях в его modus operandi[10], ни о том, что его филия может, по слухам, оказаться вовсе не Жертвоприношением. Таковы «желания» тех людей, чьи интересы защищаете вы. Пять плохо информированных наживок на весь Мадрид с пригородами. У нас почти целый день уходит на обход «охотничьих угодий», и, естественно, в конце рабочего дня мы цепляем в основном ложноположительных. А знаете, почему нет бюджета? Конечно, знаете, я думаю, но все же скажу. Потому что он убивает шлюх. И не просто убивает – он устраивает им на пару недель личный ад, а потом бросает их останки в чистом поле, как ошметки дерьма, прилипшего было к подошве. Женщины в возрасте от пятнадцати до тридцати лет, да, но в основном это или иммигрантки, или проститутки. Гораздо лучше направить бюджет Криминальной психологической службы на защиту задниц тех, кому нравится колоть себя охотничьими ножами. Но, в конце концов, чему я удивляюсь? Мы, наживки, почти шлюхи и есть, разве не так говорят? Мы притворяемся, изображаем чувства, чтобы ублажать мерзавцев. Так что, сдается мне, одним махом уменьшить число наживок и шлюх – это самое настоящее достижение для нового Мадрида ваших друзей, мэра и епископа. «Мадрид без наживок и проституток» станет слоганом следующей предвыборной кампании этих…
– Хватит уже, Бланко.
– Может, нам стоило бы публично поблагодарить Наблюдателя за его миссию – очистку города от отбросов? Как вам идея заказать мессу в Альмудене?[11]
– Бланко!
Закончив, я ощущала себя именно так, как всегда, когда говорю то, что чувствую, – заполненной. Не так, будто я что-то из себя извергла, а словно я устроила себе обалденный банкет, который на самом деле могу позволить себе лишь изредка. Алварес, напротив, сморщил нос с миной легкого отвращения, словно искренность была для него блюдом вульгарным.
– Если вы намеревались обсудить логистику данного дела, то могли бы опустить оскорбления. Ваша жалоба уже записана на жестком диске. Я поговорю с Падильей. А теперь…
– Я просила о встрече не для того, чтобы жаловаться на кого бы то ни было.
– Бога ради, скажите же мне, наконец, чего вы хотите, и покончим с этим! У меня через час совещание в министерстве.
Я еще мгновение смотрела на его профиль сквозь частокол из мокрых прядей, падавших со лба, потом вдохнула поглубже и одним махом выдала то, о чем размышляла почти двадцать четыре часа за весь этот ужасный последний уик-энд:
– Я хочу подать заявление об отставке.
Когда Алварес Корреа взглянул на меня в прошлый раз, я была обнаженной.
Случилось это два года назад, в апрельский денек, вскоре после похорон Женса. Я находилась на сцене одной из театральных студий нашего отдела, перед декорацией, имитировавшей выложенную белой кафельной плиткой ванную, и постоянно двигалась с душевым шлангом в руке, в дидактических целях разыгрывая маску для филии Двойственности перед начинающими наживками. Алварес спустился в студию для срочного разговора с Падильей. И вышло так, что он, оказавшись как раз филиком Двойственности, едва увидев меня, оказался на крючке.
Сцены в театрах наживок похожи на площадки в телестудии: открытые декорации, юпитеры и даже видеокамеры – наши репетиции проходят на глазах у всех. Так сделано потому, что мы, наживки, очень опасны, и оказываться кому бы то ни было, даже тренеру, с нами в закрытой комнате считается нежелательным. По этой же причине спускаться в подвалы, где оборудованы сцены, запрещено всем, кроме сотрудников Криминальной психологической службы.
Однако в случае с Алваресом последствия оказались двойственными, как и его филия. Он был нашим уполномоченным по связям с Управлением внутренних дел, и теоретически никто не мог отказать ему в допуске в театр. Кроме того, невозможно отрицать, что ему и раньше приходилось посещать нашу театральную студию, и он знал о рисках разглядывания наживки на сцене во время представления. Так что речь идет о чистой случайности. Рыбаки порой вытаскивают жестянки или ботинки вместо рыбы, и нам, наживкам, случается подцепить кого-то на крючок, вовсе не имея такого намерения.
Филик Двойственности испытывает наслаждение при виде тела, которое движется на постоянно меняющемся фоне. Пауло Елазян, психолог из Бразилии, впервые описавший эту филию, просил своих наживок ходить из стороны в сторону перед декорацией с тремя различными задниками. Новые техники позволили наживке использовать как изменчивую декорацию и собственное тело. Из античной мифологии известен морской бог Протей, который умел по собственной воле изменять форму своего тела. Недаром одного из героев шекспировской пьесы «Два веронца» зовут именно так, и его постоянные превращения из друга в предателя, из любовника одной дамы в любовника другой, из хорошего парня в развратного насильника дают нам кое-какие символические ключи к этой маске. Женс заставлял нас разыгрывать сцены из этой пьесы в антураже ванной комнаты, где и тело, и вода помогали соткать своеобразный ковер из подвижных и постоянно меняющихся образов.
Подозреваю, что, пока Алварес спускался, он мельком взглянул на единственную освещенную сцену, где я, обнаженная, как раз изображала маску его филии, и в этот миг я сделала некое движение, которое и подцепило его на крючок. Просто беглый взгляд в ту самую секунду. Тебе может представиться возможность раз двадцать пройти перед мишенью безнаказанно, пока стрелок перезаряжает пистолет, но Алварес прошел именно в тот момент, когда я стреляла.
Конечно, я знала, кто он. Мы не раз пересекались в нашем отделе, и за эти годы Алварес успел провести с нами кучу разного рода бесед и инструктажей, хотя наедине с ним я не оставалась ни разу. Но той секунды оказалось достаточно, чтобы наши с ним отношения раз и навсегда изменились самым решительным образом.
О том, что произошло, я догадалась сразу же – стоило только увидеть, как он вдруг застыл на нижней ступеньке лестницы. Я уже готова была прервать репетицию, чтобы не навредить ему еще больше, но тут, к счастью, появился Падилья и взял его под руку, выведя из состояния ступора. Но, конечно же, Алварес остался на крючке, потому, закончив работу и накинув халат, я попросила одного из тренеров представить меня ему. И постаралась снять его с крючка несколькими жестами, в которых начисто отсутствовала туманная двойственность, столь чарующая приверженцев его филии: я протянула ему руку, улыбнулась, мы перекинулись парой незначащих фраз.
Тем не менее после того случая Алварес ни разу на меня не посмотрел. Он быстро отводил взгляд, стоило нам случайно столкнуться где-нибудь в коридорах театра или в зале для совещаний. Я на него не обижалась: глава семейства, католик, отец троих детей. Работа вынуждала его контактировать с нами, но он ничего не понимал в мире псиномов, филий или в том, отчего Шекспир столь порочен и столь полезен. Он был одним из приверженцев Двойственности и использовал эту свою двойственность в ходе политических совещаний, однако он здорово ошибался, полагая, что в частной жизни обладает прочными убеждениями.
Даже в тот дождливый понедельник, когда я заявила о своей отставке, он заколебался и замигал, но взгляда от ветрового стекла не отвел.
– Ваша… отставка? Но не вы ли только что говорили о том, что хотите поймать этого субъекта…
– Я только что говорила о том, что мне доставило бы удовольствие сделать это. Но заниматься этим дальше я не могу.
Алварес вздохнул и впервые за время нашей беседы смягчил тон:
– Сколько вам лет, Диана?
– Двадцать пять. – Я отметила и тот факт, что он впервые назвал меня по имени, а не по фамилии.
– А когда вы начали этим заниматься?
– В пятнадцать.
Алварес на мгновение задумался.
– В соответствии с нормативами этой профессии вы, конечно, уже ветеран. Многие наживки уходят на покой раньше. Но я читал ваше личное дело, и мне известно, что вас считают выдающимся сотрудником…
Самый подходящий момент поддакнуть. Но я выдержала паузу.
– Я не склонен преувеличивать ни достоинства, ни недостатки кого бы то ни было, я только констатирую то, что известно всем. Кроме того, я учитываю и то, что доктор Виктор Женс занимался с вами лично, чем не может похвастаться большинство ваших коллег… И это заставляет меня думать, что лишиться вас будет… было бы… – Он фыркнул. – В конце концов, это влетит в копеечку нашему отделу, но в вашей профессии, больше чем в какой-либо другой, все зависит от личности сотрудника, от вас. Таким образом, если решение уже принято, никто не вправе вас отговаривать. О формальностях вы предупреждены?
– Да.
– Вы уже поставили в известность Падилью, полагаю.
– Нет, пока нет.
– Я… первый, кому вы сказали о своем решении?
– Да.
Повисла пауза. Я обхватила плечи руками, колени вместе, с одежды все еще капает. Я знала, что определенные жесты, да еще в насквозь промокшей одежде, могут оказаться для моего собеседника опасными, и старалась двигаться как можно меньше. Заставить меня прийти на эту встречу под дождем было, несомненно, еще одной мерой предосторожности: мне не удалось бы прийти с заранее подготовленным обликом. В тех случаях, когда администраторы отдела общались с наживками наедине, ни одна мера предосторожности не была излишней. Любая наживка, у которой возникало желание побеседовать с Алваресом, должна была набрать свой секретный код рядом с номером своего служебного мобильника; затем ей перезванивал оператор и назывался еще один код. И никогда не сообщалось заранее, где именно пройдет встреча, а в назначенный день нужно было следовать инструкциям, которые в моем случае заключались в том, чтобы оставить машину в одном конце парка Вероне́с и пройти через весь парк до того места, где в другой машине будет ждать Алварес. Кроме этого, на доске приборов «опеля» была закреплена камера наблюдения, отслеживающая и записывающая каждый мой жест, каждую модуляцию голоса, и эти данные передавались на центральный квантовый компьютер и обрабатывались онлайн. Если бы совокупность данных показала признаки использования какой-нибудь маски, компьютер тотчас это вычислил бы и немедленно вмешались бы охранники, сидевшие в машине, припаркованной за автомобилем Алвареса. Нам, наживкам, даже дышать не давали свободно.
– Выслушайте меня, Диана, – произнес Алварес тоном человека, у которого не одна спина, а тридцать, и все тридцать он хочет прикрыть. – Возможно, я был с вами излишне резок, не следует придавать такого значения этому пятничному происшествию с ложноположительным… Такое случается и…
– Дело вовсе не в том, что было в пятницу. – Я постаралась быть максимально искренней. – Я уже давно об этом думаю. Когда объявился Наблюдатель, я установила для себя срок, потому что, клянусь, мне очень хотелось бы поймать этого козла за руку, прежде чем уйти, но теперь я вижу, что не получается. Я хочу жить нормальной жизнью, настолько нормальной, насколько администрация мне это позволит… – И я горько усмехнулась. – Знаю, что мне не дадут жить так, как мне хотелось бы, но, по крайней мере, больше не придется играть. – В голове пронеслась мысль, знает ли Алварес о том, что у меня есть и другой мотив для отставки, и я подумала, что, если он изучил мое личное дело, скрывать что-то бессмысленно. – Кроме того, мне нравится один человек… Мой коллега, Мигель Ларедо… Мы оба планируем выйти в отставку и жить вместе. – Я заметила, что Алварес слегка кивнул. – Но есть еще один вопрос – о моей сестре…
– Вопрос о сестре?
Меня поразило, насколько изменился его тон.
– Да, ее зовут Вера Бланко. Она всегда шла за мной, делала то же, что и я, и как раз сейчас она проходит подготовку в театре. Я хорошо знаю, что ей уже восемнадцать и она вольна делать все, что заблагорассудится, но я несу определенную ответственность за нее и… Ну, в общем, мне никогда не нравилось, что она хочет стать наживкой. И я подумала, что, может быть, она тоже оставит это дело, когда уйду я.
– Так. – Алварес задумчиво кивнул. – Понимаю вас, Диана, и желаю удачи.
Немного помолчав, я добавила:
– Спасибо за то, что выслушали меня. Мне хотелось, чтобы именно вы первым узнали об этом. Теперь я пойду в театр и буду говорить с Падильей, но сперва… Сперва мне хотелось бы сказать вам еще кое-что.
Я не стала затягивать паузу: глазок камеры настойчиво смотрел на меня, и «драматизировать» ситуацию было бы неосторожно. И не стала акцентировать свои слова:
– Тогда, в театральной студии, я зацепила вас по чистой случайности.
Он не шевельнулся и ничего не сказал. Продолжал смотреть прямо перед собой, пока я говорила, а в паузах лишь капли дождя барабанили по крыше автомобиля.
– Я на сцене как раз изображала вашу филию, а вы случайно взглянули. Не нужно придавать этому значения. Возможно, вы размышляли над тем, какие чувства у вас возникли, когда вы меня увидели, и, возможно, эти размышления приняли странное направление… Но беспокоиться не нужно. Виновата была лишь моя маска, не вы. Это как если по ошибке принять таблетку ЛСД вместо аспирина. Более того, эффект даже никак не связан с тем, что я была обнаженной, или с тем, что я – женщина. Наживка-мужчина точно так же подцепил бы вас на крючок, и вы нашли бы для того причины. Забудьте обо всем, это было лишь представление.
Алварес Корреа вздохнул и повернул голову. Его взгляд чуть помедлил, прежде чем встретиться с моим, но мне хотелось думать, что в этом усилии выражается благодарность, и я улыбнулась.
– Можно задать вам один вопрос? – поинтересовался он.
– Конечно.
– Почему вы хотели, чтобы именно я первым узнал о вашей отставке?
– Потому что… – Я подумала, не стоит ли слегка завуалировать ответ, но и тут решила сказать правду: – Потому что вы – один из моих шефов, но при этом не имеете прямого отношения к театру. Мне нужно было сказать об этом кому-нибудь вроде вас. Вы – единственный искренний человек, который рядом со мной, – прибавила я.
Я постаралась, чтобы эти слова прозвучали как комплимент, но, вылезая из машины, подумала, что Алварес – политик и очень может быть, что он, наоборот, обиделся, когда я приписала ему такое качество, как искренность.
4
Мы с Мигелем называли ее «комнатой правды». По одной такой было в каждой театральной студии, в том числе и в «Хранителях», куда я направилась после встречи с Алваресом.
– Думал о тебе все утро, – эти слова Мигель выдохнул мне прямо в губы.
– Обманщик.
– В «комнате правды» обманывать запрещено, сеньорита.
Мы оба улыбнулись. Еще раз поцеловались, он, обхватив мою промокшую куртку, прижал меня к груди. Руки у него были очень красивые, оставаясь при этом мужскими, – мягкие и в то же время властные. Мне нравилось ощущать их на своем теле.
Мы чуть отодвинулись друг от друга, ровно настолько, чтобы встретиться взглядами.
– Как все прошло? – шепнул Мигель.
– Хорошо. Без сюрпризов.
– И как он это воспринял?
– Думаю, что нормально. Алварес не очень-то разговорчив, сам знаешь.
– А тебе подходит такой тип мужчин.
– Поганец. – И я поцеловала его в губы.
Я не могла припомнить, кто первым дал название нашим «комнатам правды». Думаю, это случилось, когда мы осознали, что в остальных помещениях наших театров мы практически всегда притворяемся. В кладовке «Хранителей» не было окон, и освещалась она голой лампочкой, одиноко свисающей с потолка. К тому же комнатка была крошечной: если бы я встала посередине и раскинула руки, то смогла бы дотронуться до металлических полок, выстроившихся вдоль стен. На них хранились наши театральные шмотки: бусы, браслеты, шляпы, наручные часы, очки, нижнее белье – как женское, так и мужское; даже огромные искусственные орхидеи и мелкие фиалки горой были навалены в коробку. Имелся и унитаз на полу – естественно, тоже бутафорский, и над ним потешались все кому не лень. Так что уже и шутки на эту тему приелись.
В любом случае, какой бы тесной и убогой ни была эта комнатушка, она служила нам убежищем – тем местом, где мы уединялись, чтобы поговорить о нас самих, спрятавшись от вездесущих камер слежения и техники. У нас с Мигелем было очень мало свободного времени, и в последние недели встречались мы только в театре.
– Ты ему рассказала о нас? – спросил он, отводя волосы с моего лба умелым жестом визажиста.
«О нас», произнесенное его голосом, звучало прекрасно. Я улыбнулась:
– Я сказала ему, что люблю одного своего коллегу. Обо всем остальном он и сам знает. Хотела сказать, что люблю «одного парня», но раз уж речь идет о мужчине за сорок, с бородой и ранней сединой на висках, то я решила, что это будет чересчур…
– Тебе же нравятся ранние седины!
– Так и есть, папочка.
Мигель продолжал улыбаться самым обворожительным образом, но я уловила серьезность в выражении его лица. Я знала, что наша разница в возрасте слегка его огорчает.
– Всему хорошему нужно время – чтобы созреть, – заявил он.
Прежде чем ответить, я заглянула в его глаза:
– Да я просто прикалывалась. Ты – самый молодой мужчина из всех, кого я знаю.
– Поздно теперь спасать ситуацию, даже и не пытайся, детка. – И он коснулся пальцем кончика моего носа.
Я снова его поцеловала. Он был восхитителен.
– В любом случае, как только ты сообщишь о своем решении Падилье, об этом узнают все.
– Да, через пару часов мы станем знаменитостями.
– Телевизионщики объявят об этом в выпуске новостей…
– «Наживка испанской полиции покидает службу для совместного проживания с бывшим наживкой среднего возраста», – пустилась я импровизировать, подзуживая его.
– Нет, не так: «Известный профессор, специалист в области психологической подготовки и бывший наживка испанской полиции Мигель Ларедо решает связать свою судьбу с никому не известной наживкой, находящейся на службе в испанской полиции».
– Слишком длинно…
– Ну, тогда… «Знаменитый и очаровательный тренер Мигель Ларедо женится».
– Но мы не собирались пожениться. – Я засмеялась.
– Другие заголовки в голову не приходят. А новостей без заголовков не бывает.
– В таком случае не будет и новости.
Мы молча смотрели друг на друга, и я воспользовалась моментом, чтобы погреться в лучах его улыбки.
Мигель был высоким – намного выше меня, а я далеко не коротышка – и к тому же находился в прекрасной форме. Борода на его щеках была такой короткой, что почувствовать ее можно было, только проведя по коже пальцем, зато просто снежной белизны – еще белее, чем густая взъерошенная шевелюра. И это почти всегда резко контрастировало с черным цветом его одежды – ему нравилось именно черное. Сегодня это была рубашка с воротником типа «Мао» и итальянские брюки, то и другое – черное, без нюансов. Однако смысл всему облику придавала улыбка, будто она была создана на радость всем. И его излюбленное выражение – «я могу так тебя развеселить, что ты лопнешь от смеха» – меня просто очаровывало. Когда я смотрю на него, у меня то и дело мелькает мысль: «Как же нам, женщинам, нравятся те мужчины, которые не перестали быть детьми».
Наши отношения начались только в этом году. А до того Мигель был для меня «профессором Ларедо» – живой легендой мира наживок всей Испании, и я была удивлена, как и все в округе, когда выяснилось, что знаменитый, привлекательный экс-наживка и тренер-психолог обратил на меня внимание. «И как только тебе это удалось?» – в шутку спросила моя сестра Вера, когда до нее дошла эта новость. Я изобразила важную мину, но самым честным ответом было бы: «Потому что я ничего для этого не делала». Произошло, и все тут. И стало реальностью. Если и было что-то действительно реальное в моей тогдашней жизни, так то, что мы любим друг друга.
– Ну ладно, и как ты себя чувствуешь в этот великий день? – произнес он наконец.
– Честно говоря, даже не знаю. Все произошло так быстро. Мне, наверное, еще нужно привыкнуть.
– Ясное дело, это как раз нормально.
– И мне по-прежнему не нравится бросать начатое дело.
– Тебя смогут заменить в тех охотах, которыми ты сейчас занята, я об этом уже говорил…
– Да, говорил.
– Но дело ведь не в этом, так?
Мотнув головой, я отбросила со лба еще влажные волосы.
– Ничего, пройдет.
– Дело в нем, в Наблюдателе, – сказал Мигель.
Я заколебалась, но так ничего и не сказала в ответ. На эту тему мы говорили уже миллион раз, я обсудила это с миллионом подушек и задала вопрос миллиону зеркал. И все же – вот он, снова тут как тут, неотвязный. Наблюдатель. Имя, одно упоминание которого в моем присутствии выбрасывало мне в горло желчь, а все мое тело наполнялось отвращением, как будто по венам начинала циркулировать не кровь, а жидкое дерьмо.
«Да хватит уже. Ты ушла в отставку. Kaput. The end»[12].
– В конце концов мы его поймаем, солнышко, будь уверена.
– Да знаю я… В конце концов мы всех их ловим. Но вся штука в том… Нет, не могу объяснить.
– Вся штука в том, что ты принимаешь это близко к сердцу и становишься как раз тем, чего больше всего желает предмет твоей охоты… и потом тебе очень трудно оставить это. Со мной было то же самое, когда я решил, что пришла пора закрыть лавочку.
– Да, так и есть, наверное, – нехотя согласилась я.
Мигелю, как практически всем мужчинам, доставляло удовольствие думать, что он очень хорошо знает свою вторую половинку, и я даже не сомневалась, что во многих случаях он мог бы назвать самые глубинные причины моих поступков. Однако все во мне восставало против такой скрупулезной экспертизы.
Но тут дверь распахнулась и на пороге возникла молоденькая девчонка – невысокая, белокурая, глаза голубые, волосы собраны в короткий пушистый хвостик. На ней был белый халатик – обычная наша одежда в перерывах между репетициями, а на груди красовался красный бейджик. Но мне не потребовалось читать ее имя, чтобы узнать, что ее зовут Элиса Монастерио. Она была не одна – рядом стоял мальчик лет десяти-одиннадцати, невероятно красивый, одетый точно так же, как и она.
– Ой, простите, я думала, здесь никого нет, – сказала Элиса, краснея. – Хотела поискать каких-нибудь вещичек для него. Он – наш новый «Артур» и пока еще очень смущается. – И она взъерошила мальчишке волосы. – Я, наверное, помешала…
– Нет-нет, входи, – проговорил Мигель.
– Привет, Диана. – Элиса адресовала мне улыбку. Прядь волос закрыла ей один глаз.
– Привет, Элиса.
Элиса Монастерио делила с моей сестрой служебную квартиру-прикрытие и была ее лучшей подругой. Как всегда, стремясь узнать как можно больше обо всем, что касается сестры, я провела относительно нее небольшое расследование. В отделе Элису считали хорошей девушкой, однако с сильным желанием влезть повыше.
– Как поживаешь, Диана? – спросила она, снимая с полок коробки с реквизитом.
– Хорошо, спасибо. А ты?
– Работы много, а так хорошо.
Повисла тяжелая пауза. Я подумала: как же забавно то, что происходит с нами, наживками, – и Мигелю, и мне приходилось делать или позволять, чтобы с нами делали, такие невообразимые, на грани извращения, вещи. Даже обычный рассказ об этом лишил бы сна крестного отца наркомафии. И, несмотря на все это, мы стоим тут, словно завязавшие алкоголики на занятии групповой терапией, испытывая дурацкие муки из-за неловкой паузы.
– Мы сейчас, мы быстренько. – Элиса приобняла мальчишку и стала шарить в коробке. – Итак, нам нужны цветы…
На самом деле мальчика звали не Артуром. «Артурами» Женс называл несовершеннолетних мальчишек-наживок, используя имя юного персонажа одной из самых ранних шекспировских исторических хроник – «Король Иоанн». Артур – наследник престола, но король приказывает лишить его жизни, причем после того, как тому уже выжгли глаза каленым железом. Сцена этой пытки, как полагал Женс, содержит ключи к маске Невинности. И имя Артура приобрело популярность.
Глядя, как мальчишка встает на цыпочки, пытаясь заглянуть внутрь коробки, я задавалась вопросом: из какого жизненного закоулка попал сюда этот «Артур»? Какое потрясение заставило его родителей – если они у него были, конечно, – избрать для сына такую судьбу? Потому что хотя стремление спасти жизни многих детей, рискуя жизнями некоторых, и может показаться приемлемым, однако мне не встречались родители, согласившиеся бы на такую сделку. Женс тем не менее рассматривал «Артуров» лишь как неотъемлемую часть списка действующих лиц. Его взгляд на эту проблему всегда был чисто театральным.
– Думаю, этого будет достаточно, – объявила Элиса, поднимая руку с искусственными цветами и парой резинок. – Еще раз прошу прощения. – Напоследок в воздухе растаяла ее смущенная улыбка.
– Я и не знала, что сегодня теоретические занятия, – сказала я, как только мы вновь остались наедине.
– Они не теоретические. Наши перфис разрабатывают новые техники для случая с Наблюдателем. Падилья торопит – хочет как можно скорей добиться результатов.
Услышав это, я остолбенела.
– Падилья что – собирается использовать для поимки этого монстра неопытных наживок?
– Нет-нет, – мгновенно отреагировал Мишель. – «Артур» занят в другом проекте…
– Я не имела в виду ребенка.
– Ну, Элиса-то вроде не относится к категории несовершеннолетних…
– Я говорю о неопытных, а не о несовершеннолетних, Мигель. Я знаю, что Элисе восемнадцать, как и Вере. Элиса – одна из ее подруг, самая близкая. Но сколько настоящих охот на ее счету? Две? Три? И кого ей удалось поймать? Специалиста по подделке кредиток? Ей не справиться с такой крупной дичью, как Наблюдатель!
– Солнце мое, эту тему я оставляю перфис. Моя работа состоит в…
– Единственное, что мне хотелось бы знать, – перебила я, – это почему никто не сказал мне, что параметры Наблюдателя настолько изменились, что стало возможно использовать людей без опыта.
– Они постоянно меняются, солнышко. Этот тип не похож ни на что, с чем мы сталкивались до сих пор… И потом, все держат в строгом секрете. Я сам только вчера вечером узнал, что должен сегодня натренировать Элису, чтобы ночью она вышла на точку…
– Боже мой!
– Падилья и Алварес просто помешались – ни о чем другом не думают, кроме как об этом животном.
– Я тоже, – ответила я.
– А вот здесь ты ошибаешься. – Мигель возвысил голос, но тут же вновь смягчил тон. – Я тебе уже сто раз говорил, что эта профессия никоим образом не связана с помешательством или эмоциями…
– Эта профессия – уже не моя профессия. И не разыгрывай со мной роль учителя.
Мы оба умолкли, и я пожалела о своей резкости.
– Извини, – сказала я.
– Ничего страшного.
– Я вовсе не хотела говорить с тобой таким тоном.
– Нет-нет, правда, все нормально. Дело в том, что у меня сложилось впечатление, будто… Ну, будто ты поторопилась оставить театр.
Он помолчал, потом прибавил:
– Я поговорю с Падильей – пусть оставит тебе только охоту на Наблюдателя… А когда мы его поймаем, ты сможешь отправиться в отставку.
Это неожиданное предложение еще больше раздосадовало меня.
– Но это же абсурд! Ты же больше всех настаивал на том, чтобы я все бросила. Начать все с нуля, какое-то время жить на твою зарплату… Разве не об этом шла речь?
– И сейчас идет об этом.
– Но?
– Но я не хочу, чтобы всю оставшуюся жизнь ты мучилась от этой глубоко засевшей занозы… Видно же, что ты все ходишь вокруг да около, хочешь поймать его сама… Ну так вперед! Мне это не очень нравится, но еще хуже будет, если ты уйдешь в отставку после случая с ложноположительным…
– Ложноположительный здесь совсем ни при чем. – Я стиснула зубы. – Я подала в отставку, потому что об этом меня просил ты. Или тебе не улыбается содержать меня?
Лицо его стало суровым. «Опять ты все испортила, Диана», – упрекнула я сама себя.
– Да, я не хочу содержать тебя, и меня обижает, что ты об этом говоришь, – ответил Мигель. – Да, я хочу, чтобы ты оставила работу, но, если бы у тебя была другая профессия, я об этом не просил бы.
Я знала, что он имеет в виду, и ничего не ответила. Однако мне вовсе не нравилось, что он так меня опекает. Его беспокойство обо мне можно было сравнить с прикосновением чего-то мягкого-премягкого к невероятно чувствительной зоне тела: одновременно и приятно, и раздражает.
– Знаешь что? – продолжил он. – Падилья недавно ездил к Клаудии Кабильдо… Он рассказал мне о ее состоянии… – Мигель опустил голову, и мгновение я созерцала только его поседевшие волосы. – И я подумал, что… что ни за что на свете не хотел бы, чтобы ты превратилась в это, если тебе не повезет и ты переживешь нечто подобное… Я не хочу, чтобы ты продолжала, Диана. И теперь еще меньше, чем когда бы то ни было…
Клаудию Кабильдо три года назад похитил один псих, известный как Ренар… Я тоже время от времени навещала ее и знала, что сотворил с ней этот Ренар. В тот момент мне не хотелось об этом вспоминать.
Я во время паузы глубоко вздохнула и смягчила тон:
– Я и не думаю продолжать, Мигель. Решение уже принято. Я же сказала, что оставлю работу, и я это сделаю. По-видимому, то, что со мной творится… Просто мне нужно больше времени, чтобы это принять.
– Звучит так, будто речь о разрыве отношений… – сыронизировал он.
Мгновение я обдумывала его слова. Мне не приходило в голову рассматривать свою отставку под таким углом зрения.
– Кажется, Виктор Женс как-то говорил, что покинуть того, кого ненавидишь, все равно что покинуть любимого, – сказала я в ответ. – И то и другое опустошает тебя.
– Виктор Женс был свиньей.
Я расхохоталась:
– А ты не слишком от него отстаешь! – Ну невозможно не любить человека, способного тебя рассмешить, когда тебе так плохо. – Думаю, что вполне смогу жить и не в качестве наживки, если ты мне поможешь.
Иногда у меня складывалось впечатление, что я героиня романтической драмы – наивной и пустой. И когда мы обнялись, это ощущение возникло вновь, и мне даже почудилось, что зазвучала какая-то мелодия. Я чувствовала себя любимой и полной сил, прижавшись к крепкой груди этого мужчины, словно его объятия были шелковистым манто, но в то же время – глупой и слабой, словно что-то протестует против этой отдачи себя. Как собака, которая подставляет ласкам свой живот, но в любой момент готова укусить.
Когда мы разомкнули объятия, Мигеля, как мне показалось, одолела робость. Он делал вид, что разглядывает обложку кассеты с головидео, которую сам и положил на полку, когда мы вошли в «комнату правды», – запись выступления из Алтеи, одну из самых жестоких репрезентаций маски Невинности, которые когда-либо исполнялись, – с использованием наживок против их воли и под предводительством ФБР. Мне вспомнилось, как Женс добавлял: «Ее сделали в те времена, когда ФБР еще была серьезной институцией». И я, в который уже раз, спросила себя, не превратила ли новая работа в «серьезную институцию» и Мигеля. Он уже больше двух лет работал в новой должности, оставив карьеру наживки в том возрасте (сорок лет), когда большинство из нас, если выйти в отставку раньше не удалось, оказывались или уже на том свете, или «упавшими в колодец». Тем не менее казалось, что на Мигеле все пережитое не отражается.
Наконец он перестал разглядывать кассету с головидео и обернулся ко мне:
– Есть… кое-что еще, Диана. Падилья не хотел тебе говорить…
То, что я увидела в его глазах, заставило меня вздрогнуть. И он продолжил, сглотнув слюну:
– Это касается твоей сестры.
5
Свободно передвигаться по «Хранителям», как и по любому другому полицейскому театру, непросто. И не сказать чтобы наличествовала некая мудреная система слежения с вооруженными агентами и сложными электронными гаджетами, которые, если подумать, совершенно бесполезны, потому как самую продвинутую технологию можно одолеть с помощью другой, новейшей, а самые натренированные люди с легкостью могут быть скручены людьми более опытными. Здание само по себе также ничем особенным не отличается: загородная усадьба в полусотне километров к северо-востоку от Мадрида, двухэтажное каменное строение с подвалом. Когда идут репетиции, все вокруг забито машинами и даже грузовиками, паркующимися возле входа, а как только работа заканчивается, все разъезжаются и не остается ни следа от того, чем они тут занимались, кроме разве что вещей из «комнаты правды» и кое-каких разрозненных предметов мебели. Случайно попавший сюда человек подумал бы, что тут снимают кино. При въезде во двор обычный охранник вслед за церемонным приветствием попросит предъявить то или иное удостоверение – и все. Ни сторожевых собак, ни снайперов, ни колючей проволоки. И тем не менее, как и в известном рассказе Кортасара, плохо придется тому бедняге, который решит проникнуть в «захваченный дом» театра во время постановки в исполнении наживок.
Несмотря на это, как только Мигель закончил говорить, я стиснула зубы и, не промолвив ни звука, повернулась и вышла из «комнаты правды», не обращая внимания ни на него, ни на мельтешение встретившихся на моем пути коллег и разного рода технических работников. Опустив глаза в пол, как мы обычно и передвигаемся по театру, ни на кого не глядя и ни с кем не разговаривая, я прошла через холл и, не дойдя до комнаты отдыха (большой гостиной, где стояли стол для игры в пинг-понг, несколько спортивных тренажеров и автомат с безалкогольными напитками), свернула к лестнице, ведущей к сценам в подвале. На доске при входе было написано название разыгрываемой в данный момент маски – «Оргия». «Звучит неплохо», – торопливо приписал какой-то шутник внизу. Филия Оргии не являлась моей, но некоторые жесты из соответствующей маски могли вывести меня из нормального состояния, так что я была благодарна за предупреждение. Я толкнула дверь и вошла в темноту.
Там было четыре освещенные сцены, на каждой – по двое или трое наживок. Одну сцену занимали несовершеннолетние, на остальных трех я увидела юных, но уже взрослых. На всех четырех репетировали Оргию, и атмосфера стояла тяжелая, почти вязкая. Слышалось тяжелое дыхание и реплики из шекспировских пьес, перемежаемые скупыми указаниями постановщиков. Я продвигалась все дальше, обходя в полумраке чьи-то фигуры, пока не оказалась возле последней сцены в зале.
На ней была моя сестра. Декорациями служили несколько деревянных кубов, освещенных юпитерами, и Вера каталась по полу возле них. Пока я наблюдала эту сцену, к ней присоединилась Элиса Монастерио. Обе были обнажены, их тела сплетались в какой-то странной хореографии недоступных ласк, словно что-то мешало им коснуться друг друга. Элиса делала это очень ловко, профессионально, а вот Вера, как с сожалением я отметила, ошибалась, причем именно потому, что слишком старалась проделать все максимально хорошо. Подключала волю, что и было обычной ошибкой новичка. Она еще не знала, что работа наживки заключается не столько в том, чтобы обмануть другого, сколько в том, чтобы обмануться самому. Наша главная сила зиждется на том, что мы не осознаем, какой силой обладаем. Элиса тоже была новенькой, но у меня и тени сомнения не было, что она станет очень ценной наживкой. А вот Вера – еще совсем зеленая. Когда настал момент разыграть сцену маски – диалог между Анной и Глостером из «Ричарда III», – Элиса делала это с удивительной простотой:
– «Пусть ночь затмит твой день, день сгубит жизнь…»
Вера ответила ей репликой:
– «Не проклинай себя, ведь ты мне – все…»[13]
Репетиция была безобидным упражнением, основанным на разработках группы ФОКС. В нормальном состоянии она меня никоим образом не затронула бы, но теперь, глядя на них, я почувствовала себя как после бокала крепкого ликера. И подумала о том, что раньше никогда не приходило мне в голову: маска Оргии требовала, чтобы наживка была отвергнута сознанием объекта охоты, как раз для того, чтобы зацепка сработала, точно так же, как персонаж леди Анны позволил соблазнить себя безобразному Глостеру, несмотря на испытываемое к нему отвращение. Тот факт, что одна из участниц сцены была моей сестрой, без сомнения, провоцировал во мне это отторжение и тем самым растущее желание моего псинома с еще большей легкостью. Я решила остановить их. Мне вовсе не хотелось подвергнуться риску оказаться на крючке у собственной сестренки.
Несколько лиц обернулось ко мне, когда я вмешалась. Тренер-постановщик – мускулистый лысый тип с сильным немецким акцентом – скорчил недовольную мину, но разрешил «срочно» поговорить с Верой. Мы пошли в гримерку, и мне совсем не понравилось, что Элиса направилась вслед за нами, словно представляла собой неотделимую от Веры вторую ее половину или же горела желанием защитить ее от моего тлетворного влияния.
Гримеркой служила узкая комнатка, уставленная черными стеллажами, с классическим зеркалом, подсвеченным лампочками, и комодом. Там висели два халатика, но ни одна из девушек не накинула его. Элиса, похоже, чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие, начала натягивать чулки в сеточку. Вера же достала из ящика комода блестящий шелковый шарф и развернула его. Обе обменивались заговорщицкими улыбками, как старшеклассницы.
– Эли сказала, что видела тебя в театре, с Мигелем. – Вера выглядела очень довольной. – Тебе понравилось наше «представление»?
– Мы с тобой можем поговорить наедине – только ты и я? – без всяких экивоков задала я вопрос.
– О, так это нечто секретное? – Вера играла с шарфом, то накидывая его на грудь, то снимая. – Разговор тет-а-тет между сестричками?
Я понимала, что она пытается меня спровоцировать, но не поддалась.
– Все равно, – произнесла Элиса, с кошачьей грацией томно поглаживая абажур стоящего возле стены торшера, – я уже ухожу.
Она приложила к губам указательный палец, поцеловала его, а затем провела им по губам Веры. И, проходя мимо, адресовала мне лукавую улыбку. Я ответила ей тем же. Я на нее не сердилась, впрочем, и на Веру тоже. Обе были слишком юны, и им слишком нравилось быть наживками, как и всем нам. Я тоже прошла через этот этап и хорошо знала ощущение всевластия, когда можно добиться всего, чего бы ни захотела, лишь соответствующим образом двигаясь или произнося слова. Та самая иллюзия, что ты целиком и полностью хозяин и собственной судьбы, и судеб тех, кто тебя окружает, – как думает злокозненный Ричард III в трагедии Шекспира.
Когда мы остались вдвоем, поведение Веры резко изменилось: заметным стало явное раздражение. Она обмотала шарфик вокруг шеи и повернулась ко мне спиной, чтобы взять халатик.
– Поторопись, сестренка, – заявила она, – мне нужно возвращаться на репетицию.
Секунду я молча разглядывала ее. Меня почти растрогала ее юность, ее упругая гладкая кожа. Вера была ниже меня ростом, но с очень хорошей фигурой. Волосы ее, в отличие от моих русых, которые я стригла до плеч, были очень длинными, темно-каштановыми, почти черными, а сейчас влага от принятого недавно душа делала их еще темнее. Со спины она казалась более взрослой, потому что еще не сформировавшаяся грудь и сияние улыбки выдавали наивность, но о ее физической натренированности говорили мускулы. Смотреть на нее – одно удовольствие. Я ее очень любила, всеми силами души. Она моя сестра, единственное, что осталось у меня на этом свете. Мы жили вместе до тех пор, пока она не достигла возраста, в котором я сама уже стала наживкой, – пятнадцати лет, но я решила никогда не оставлять ее. И оберегать.
– Ты уже догадалась, чего я хочу, – объявила я.
Она сняла халат с вешалки, но не надела. И когда повернулась ко мне, лицо было наполовину скрыто волосами.
– Так, значит, ты уже обо всем знаешь. Добряк Мигель не смог удержать язык за зубами…
– И вот теперь, когда мне все известно, я пришла сказать тебе, что ты не можешь на это пойти.
– К вашему сведению: Вере уже восемнадцать, а в следующем месяце исполнится девятнадцать, – объявила она в ответ, особенно подчеркивая числительные. – Дай мне жить своей жизнью.
– Это именно то, чего я хочу всем сердцем, – чтобы ты жила. Поэтому ты не будешь принимать участия в охоте на Наблюдателя. Я собиралась сказать тебе только это. Увидимся позже.
Ее слова, процеженные сквозь зубы, заставили меня остановиться, когда я уже повернулась, чтобы уйти:
– Иди ты в жопу, сестренка!
– Я иду беседовать с Падильей, что более или менее то же самое.
– У тебя нет никакого права диктовать мне, что я должна или не должна делать!
– Я как раз тот человек, который имеет полнейшее право – самое полное в мире – говорить тебе, что ты должна делать! И к тому же я знаю, что стоит на кону.
– Я тоже знаю, что стоит на кону!
– Ты об этом никакого чертова понятия не имеешь. Наблюдатель – очень крупная дичь и очень серьезная охота.
– И что с того?
– То, что ты просто к этому не готова.
– А Падилья полагает, что да, готова!
Ее напускное самообладание мало-помалу съеживалось. Этого я и добивалась – вывести ее из себя, чтобы впала в истерику, чтобы показать ей, какой она на самом деле еще ребенок.
– Не кричи, пожалуйста. Единственное, что интересует Падилью, – возможность продемонстрировать в конце месяца, что он не зря получает зарплату, и сократить расходы. Они уже урезали бюджет, предназначенный для наживок с опытом, и теперь используют студентов. Ну и пусть, это его дело. Но ты в этой команде играть не будешь.
– Ну и как ты этого добьешься, Диана?
На ее лице появилась гримаса, от которой у меня сжалось сердце, – так она напомнила мне лицо мамы, когда та сердилась.
– Ты что, переспишь с ним, чтобы он вышвырнул меня? Покажешь ему Оргию, как делала это для Женса в поместье?
На ее выпад мне было плевать. Я знала, что Вера просто завидует тому, что меня учил сам Женс.
– Падилья сделает то, что я скажу.
Этот простой ответ ее отрезвил. Лицо Веры стало похоже на подернутую льдом поверхность озера, по которой я стукнула каблуком. Мне стало жаль ее, я заметила, что тон ее смягчился, и она попыталась надавить другие пружины:
– Слушай, я много репетировала и знаю, что смогу это сделать… Элиса видела меня, и она тоже так думает. На эту ночь выбрали как раз ее. Мы вместе репетировали…
Я подумала, не сказать ли ей, что Элиса Монастерио также не годится для такой работы, что использовать ее при ловле Наблюдателя – это все равно как послать к краю пропасти с завязанными глазами, но решила-таки дать сестре передышку. Вере довольно трудно было просить меня: ее собственная филия – Прошение и у нее не очень-то получалось умолять. Мне всегда думалось, что Вера, если ей улыбнется удача, прилепится к какому-нибудь мужчине (или женщине: я была в курсе того, что они с Элисой – нечто большее, чем просто подруги), на которого будет смотреть, как смотрит сейчас на меня, помыкая им, как прислугой.
– Я прошу тебя всего лишь дать мне шанс, Диана. Поверь в меня, пожалуйста. Всю жизнь ты смотришь на меня как на маленькую девочку, которая к работе относится словно к развлечению… Ты, я знаю, поступаешь так вовсе не со зла, а, наоборот, из лучших побуждений… Твоя цель – заботиться обо мне, защищать меня, и я тебе признательна. Но я уже не маленькая девочка, – продолжила она со всей серьезностью, на которую была способна, и отвела руку с халатом, который все еще держала, – возможно, желая продемонстрировать, какая она уже женщина. – Эта работа – моя жизнь. Со мной – то же, что и с тобой… Ты ведь все отдала работе, разве не так?.. Делала такое… такие ужасные вещи… ради папы и мамы, правда? В память о них… Ты лучшая наживка в мире – и никогда этого дела не бросишь… Вот и не проси, чтобы его бросала я.
Настал момент, которого я ждала. Заговорив, я не изменила выражения лица:
– Я бросаю это, Вера.
Она взглянула на меня так, словно я стала призраком:
– Что?
– Я пришла сегодня в театр, чтобы подать Падилье заявление об отставке. И я уже говорила об этом с Алваресом…
– Ты что… ты это серьезно?
– Абсолютно.
– И когда ты успела принять решение? – Она произнесла это таким тоном, словно речь шла о чем-то невообразимо жутком.
– Да я уже несколько месяцев об этом думала. Но окончательно решила в эти выходные.
– Но я… ничего не знала…
– А я и не хотела, чтобы ты узнала, пока это не станет общеизвестным. А вот теперь ты все знаешь.
Кроме Веры и Падильи, я собиралась рассказать о своем решении еще двоим. Одной из двух должна была стать Клаудия Кабильдо.
А еще я сообщу об этом сеньору Пиплзу, но по телефону. Встречаться с сеньором Пиплзом ни за что не буду даже и по такому поводу. От одной мысли о возможности увидеться с ним меня с ног до головы пробирала дрожь и по спине бежал холодок. Я скажу ему об этом по телефону. Просто краткое телефонное сообщение.
Вера, ошеломленная, трясла головой:
– Но… почему? Что случилось?
Я пожала плечами:
– Просто хочу жить нормальной жизнью, вместе с Мигелем. Полагаю, у меня есть такое право, а?
– И ты бросишь охоту на Наблюдателя? – Это говорилось с такой интонацией, будто она спрашивала, не собираюсь ли я оставить любимого человека. – Ты позволишь ему продолжать делать то, что он делает? Какого… какого хрена с тобой происходит?
– Попридержи язык, – окоротила я ее. – А вместо ответа скажу тебе вот что: я устала жить одной лишь ненавистью. Теперь хочу узнать, что чувствуешь, когда кого-то любишь. Так, для разнообразия. И на самом деле хочу, чтобы ты сделала то же самое, Вера. В жизни есть еще много всего, с чем тебе следовало бы познакомиться. Кинорежиссер – вот что было твоей мечтой, помнишь? Почему бы тебе не попробовать себя в этом? Я смогу помочь, у меня есть деньги…
– Да не нужны мне твои вонючие деньги, – сказала она, медленно натягивая халатик.
В висящем за ее спиной зеркале я видела, как ее руки высвобождают из-под халата длинную гриву волос.
– Вера, – шепнула я, – мы могли бы попытаться жить нормальной жизнью… мы обе.
Раздался негромкий стук, и дверь открылась. Я стояла так близко от входа, что дверь чуть было не ударила мне в спину. В гримерку просунула остренькое личико Элиса Монастерио:
– Извините. Вы еще долго? Херманн говорит, что мы должны работать, Вера.
Мы хором сказали «сейчас-сейчас», и девушка посмотрела на нас с явным подозрением и, на мой взгляд, с некоторым вызовом. Я прекрасно знала, что Вера даже в туалет не пойдет, не сообщив предварительно «Эли», и эта близость в их отношениях выводила меня из себя. Тем не менее, когда дверь закрылась, сестренка казалась чуть более спокойной.
– Давай сделаем вот что, – сказала она. – Дай мне возможность продолжать заниматься Наблюдателем. А как только он будет схвачен, я, клянусь, всерьез подумаю о том, чтобы все это оставить.
Мне пришлось мобилизовать последние резервы терпения.
– Вера, Наблюдатель – самое опасное дело из всех, которые были у нас за долгое время. Перфис до сих пор не могут его раскусить…
– Со мной ничего не случится, сама знаешь. Он никогда не клюнет на такую неопытную, как я. Ты же именно об этом и говоришь: Падилья использует нас только для прикрытия, чтобы оправдать свою зарплату. Наблюдатель клюнет на одну из вас… – Она запнулась. – Или на одну из твоих коллег, если ты уходишь… Единственное, чего я хочу, – это участвовать. Сама прекрасно знаешь, что я никогда не смогу его зацепить! – Она выглядела обиженной, будто жаловалась на то, что киноактер-красавчик не замечает ее в толпе фанаток.
Но она, конечно же, ошибалась. Наблюдатель – это голодный волк среди ягнят. Он может схватить любого. Момент – и будет сожрана еще одна.
– Об одном только прошу, – продолжала настаивать Вера. – Я ведь целых четыре года готовилась стать наживкой…
– А я никогда не хотела, чтобы ты ею становилась. Но тебе всегда нужно было делать именно то, что делаю я.
– Но я уже стала наживкой, и теперь от этого никуда не деться. Дай мне попробовать себя в деле, Диана, ну пожалуйста…
«Наркотик». Так квалифицировал это Женс, заправлявший этой ужасной работой. «Когда почувствуешь извращенное наслаждение от того, что стал отравой для ненавистного тебе человека, то уже не сможешь от этого отказаться». У Веры наркотик уже светился в глазах. И я поняла, что она никогда не откажется от этого дела.
Мгновение я молча смотрела на сестру: вот ее восемнадцать лет, сдерживаемые в маленьком точеном теле пламенной волей, и она так же жаждет справедливости, как в ее годы жаждала ее я. Разве смогут остановить ее мои слова?
– Ладно. Но как только его схватят, ты серьезно подумаешь о том, чтобы все это оставить, – сказала я Вере.
– Конечно же! – Ее лицо осветилось радостью. – Клянусь!
Вдруг она кинулась ко мне. И я ощутила юность, пульсирующую на моем плече, пока губы ее без устали твердили «спасибо»; она так крепко сжала меня в объятиях, что едва не задушила. Вот какой эмоциональной, какой страстной была моя Вера!
– А знаешь что? Иногда мне кажется, что я делаю это не ради папы и мамы, а ради себя самой… Чтобы чувствовать себя по-настоящему хорошо.
Конечно, она была права. В действительности мы никогда не жертвуем собой. Мы делаем именно то, что хотим делать, то, чего всегда хотели. Нас и выбирали ровно потому, что удовольствие мы получали, разрушая тех, кто разрушал других, и полностью, без остатка отдавались этому делу. Мы – начиненные местью бомбы, и рядом с воплощенной жестокостью нам ничего не стоит взорваться.
Я отвела с лица пряди волос и улыбнулась:
– Прекрасно. Поговорю с Падильей о своей отставке, но тебя упоминать не буду.
– А если он сам заговорит обо мне? – робко поинтересовалась она.
– Скажу, что ты вольна поступать, как захочешь. Ты же совершеннолетняя, правда? А теперь тебе надо вернуться на сцену. Позже поговорим.
Со взволнованной улыбкой она сопровождала меня до дверей гримерки, как телохранитель какой-нибудь. На первых трех подмостках продолжали разыгрывать ту же сцену из «Ричарда III»: мужчины с мужчинами, мужчины с женщинами, дети друг с другом. На последней сцене Элиса Монастерио ждала, пока вернется моя сестра. Она бросила на меня уничтожающий взгляд. Я не стала обращать внимания: мы друг другу не нравились, но меня это не волновало. Дождавшись, пока Вера поднимется на сцену, я подошла к Ольге Кампос, координатору репетиций, которая наблюдала за происходящим, попивая травяной чаек.
– Ольга, прошу прощения за беспокойство, но мне нужно увидеть Падилью. Ты всегда знаешь, где он. Не могла бы ты его позвать?
Ольга тоже когда-то – до повышения, вознесшего ее на эту должность (произошедшего, как болтали злые языки, благодаря ее романтической связи с Падильей), – была наживкой, причем довольно хорошей. На ней был черный халатик – такой же густо-черный, как и ее кудри, и в полутьме подвального помещения лицо ее казалось висящим в темноте, словно пара к бумажному стаканчику. Она вскинула черные брови, едва взглянув на меня поверх своего напитка:
– Это срочно, Диана? Я до чертиков занята…
– Очень срочно. Хочу просить его, чтобы он вышвырнул мою сестру из отдела, причем немедленно. Без выходного пособия. Хочу всего лишь, чтобы он ее отставил.
Наконец-то я добилась своего: она обратила на меня внимание. Отодвинув от губ стаканчик, она нагло на меня уставилась. Ольга была несколько грубовата: зубы ее были такими же мощными, как и слова. Она ощущала себя королевой в этом мире новичков.
– Эй, ты чего – обкурилась? – И расхохоталась. – Или вообразила, что Падилья станет тебя, идиотку, слушать?
– Если он этого не сделает или сделает недостаточно быстро, может случиться, что я поговорю со СМИ. Они будут просто счастливы меня выслушать, уверяю тебя. Я им расскажу о театрах, о подвалах вроде этого, где в интересах правительства натаскивают детей, где тренируются парни и девушки, готовясь вводить сумасшедших в соблазн, а также поведаю обо всех и каждой из операций, в которых участвовала лично. Может, и фотографии им предоставлю. Им очень понравится.
Не думаю, что меня кто-то еще слышал. Жесты и реплики на сценах не прерывались ни на секунду. Что касается Ольги, то она продолжала сверкать своими лошадиными зубами. Я знала, что она мне не верит: доносительство просто не укладывалось в логику нашей профессии. Но я надеялась, что по крайней мере мои угрозы ее подстегнут. Она ткнула в меня пальцем:
– То, что ты сказала, даже не смешно, дрянь ты эдакая. О’кей, я позабочусь, чтобы Падилья как следует надрал тебе задницу. Работу ты потеряешь.
– Я ее уже потеряла, – ответила я. – Твое дело – позвать Падилью и ни во что не вмешиваться.
Я отошла в сторонку. Вера и Элиса снова остановились передохнуть и теперь слушали рекомендации своего постановщика, но Элиса не преминула-таки воспользоваться моментом и еще раз стрельнуть в меня глазами – дерзко, вызывающе, словно догадываясь о моих намерениях.
6
Элиса Монастерио Диану не любила.
Она думала об этом, пока шагала по тихим улочкам, обхватив себя руками – не потому, что на улице было очень холодно, и не по причине своего чересчур легкого облачения, а следуя канону той маски, которую исполняла. «Воображала и зазнайка. Безмозглая зазнайка, живущая на проценты. И вот теперь, когда сама вышла на пенсию, она, видите ли, не желает, чтобы сестра догнала ее, доросла до того же уровня».
В глубине души Элиса знала, что суждения ее не вполне справедливы. Легко можно поверить, что Диана желает лишь защитить сестру. Элиса и сама бросилась бы на ее защиту, если бы представился случай. Верно и то, что Вера – новичок, ее все еще шокирует экстравагантность их работы и в большей, чем это допустимо, степени пугают некоторые упражнения. Но разве это достаточная причина для того, чтобы закрыть перед носом Веры дверь в профессию?
Элиса с легкостью могла бы признать, что ревнует: слишком уж высок престол, на который Вера поместила Диану. По мнению Веры, на всем белом свете не было никого, способного сравняться по значимости со старшей сестрой. Три дня назад они вышли из «Хранителей» после репетиций и разговора с Падильей, Вера склонила голову на плечо Элисы и зарыдала; имя сестры ей даже не пришлось упоминать.
– Он сказал, что мне нужно еще поработать над стилем…
– Над стилем?..
– Он собирается держать меня в резерве… А возможно, я вообще не смогу быть наживкой…
Не веря своим ушам и приходя в ярость, Элиса заключила Веру в объятия, тихонько целуя ее волосы.
– Значит, твоя сестрица в конце концов смогла на них надавить, – процедила она сквозь зубы.
Но это было ошибкой – Вера тут же рассердилась:
– Нет-нет, Диана не имеет к этому никакого отношения. Падилья принял это решение только сегодня утром…
– Какое совпадение! Как раз в тот день, когда Диана пришла в театр поговорить с Мигелем.
– Элиса! – Взгляд Веры, обращенный на нее (Элиса это запомнила), выражал нечто среднее между мольбой и агрессией. – Моя сестра изменила мнение, я же рассказывала. Она обещала, что ничего ему обо мне не скажет.
«А если уж Диана что-то пообещала, так это незыблемо», – думала в раздражении Элиса, вспоминая бедную Веру, пластом лежавшую на кровати в их маленькой квартирке-прикрытии в районе Леганес и безутешно рыдавшую. Все ее будущее меньше чем за минуту оказалось скомкано и выброшено в корзину. А все почему? Падилья был, конечно, тот еще сукин сын, и нрав его не на шутку испортился, когда его дочка стала инвалидом, – Элиса хорошо это знала. Но так же хорошо знала она и другое: он как директор отдела никогда не изменил бы свое мнение о Вере, если бы Великая Сестрица не влезла в это дело. Элиса была уверена, что именно всемогущая и влиятельная Диана Бланко, одна из лучших наживок испанской полиции, несет ответственность за принятое Падильей решение.
Она могла бы простить Диане, что той достается все Верино восхищение, но никогда не простит ей и малейшего вреда, причиненного подруге. «Какой бы сестрой ты ей ни была, какой бы великой Дианой Бланко ты ни была, на это у тебя нет никакого права». Девушка обожала подругу и в какой-то степени чувствовала за нее ответственность. И если Диана претендовала на роль матери, которой у Веры практически не было, в таком случае сама Элиса принимает на себя роль настоящей старшей сестры. Сестры, чьи отношения с Верой приобрели такую степень близости, о которой Диана не может и мечтать.
На секунду девушка остановилась – после того как чуть было не потеряла равновесие, попав ногой в выбоину на тротуаре. На ногах у нее были жуткие фиолетовые туфли на толстенной платформе, известные в «Хранителях» как «котурны», – сейчас уже здорово выпачканные. Мелкий дождик, неустанно сеявшийся всю ночь, усилился, и она слышала, как капли шлепают по ее волосам, заплетенным в тугую замысловатую косу. Задница у нее окончательно замерзла, что неудивительно: ягодицы были совершенно голыми, выпирающими из двух круглых отверстий ее пурпурных легинсов. Вещь эта – в высшей степени секси: обволакивает ноги, как испарина. Но после трех ночей, проведенных в них, Элиса уже привыкла. Весь ее костюм был тщательно продуманным маскарадом, имеющим целью привлечь к себе внимание приверженца Жертвоприношения. В любом случае, несмотря на странные ощущения от костюма и определенные неудобства, связанные с холодом и слишком тесной одеждой, ей нравилось разгуливать в таком виде. Кроме того, она находилась под действием наркотиков. Не то чтобы это было позарез необходимо, тем более не после трех одинаковых ночей, но ведь никогда не лишне принять одно из тех снадобий, которые слегка затуманивают мозги – как раз настолько, чтобы не заснуть. «Призаприм», «Диалдрен» – любое сгодится. Наркота заставляла иногда замедлять шаг и расставлять ноги, чтобы не упасть, но в то же время расслабляла, что помогало не сломаться маске.
Потому что на самом-то деле Элиса нервничала. Трудно оставаться спокойной, имея дело с таким типом, как Наблюдатель, который бродит где-то поблизости.
Девушка задавалась вопросом: используют ли наркотики «профессионалы», такие как Диана Бланко? Да какого черта, конечно же должны использовать! Ведь есть и такие маски, когда необходимо быть слегка приторможенной, даже не слегка, а настолько, чтобы лошадь неслась вскачь сама по себе, без вмешательства всадника-сознания. И сама Элиса принимает наркоту вовсе не потому, что опыта не хватает, – все наживки принимают, и совсем не для храбрости. Это просто работа такая – странная, но захватывающая.
Она снова принялась думать о Вере, рухнувшей в бездну страданий из-за идиотского решения шефов. И дала себе слово, что завтра поговорит с Падильей. Даже если ничего и не добьется, то хоть попробует выпытать, повлияла ли на это решение Диана, и если да… «Да ладно, забудь об этом. Чего ты добьешься? Диана Бланко уже сошла со сцены, вышла на пенсию, а что касается Веры… Думаешь, она снова получит работу, если ты докажешь ей, что Диана использовала свое влияние? Самое вероятное – Падилья вышвырнет заодно и тебя». Но эти мысли нашептывал ей ее злой демон. Она отогнала их от себя, еще раз встряхнув головой. Она слишком любит Веру, чтобы не попытаться восстановить справедливость.
Элиса чувствовала, что губы ее под слоем помады стали шершавыми, а лицо – мокрым от дождя. Она обеими руками вцепилась в длинный ремень сумки, в которой не было ничего ценного. Это всего лишь вещица из театрального реквизита, и единственным достоинством этой сумки был ремень: предполагалось, что вид голого, выступающего из топа ядерно-синего цвета плеча, да еще перечеркнутого ремнем, должен привлекать филиков Жертвоприношения. В теории.
Девушка прошла мимо заляпанных баков – таких же грязных, как и вся улица. Себя она ощущала примерно такой же: грязной, покрытой песком, словно капли дождя содержали песчинки. Конечно же, так могло быть, ведь Элиса шагала по тротуару вдоль громоздившихся сооружений – грандиозного и нескончаемого строящегося объекта, который должен был стать гигантским форумом в римском стиле. Это был один из самых амбициозных проектов в Мадриде. Горожане называли его Цирком, что, по мнению Элисы, было более чем уместно, поскольку речь шла именно о цирковом трюке – фокусах с недвижимостью в исполнении частных фирм и мэрии. Многие сравнивали его со строительными работами, которые велись после того случая с бомбой 9-N[14] пятнадцать лет назад: что-то грандиозное, что никогда не заканчивается.
А пока что не было ни театра, ни чего-либо даже отдаленно на него похожего, только уходящие вдаль дюны, огромный котлован в окружении арок в самом дальнем углу, а посредине – скопище прожорливых сложнейших машин, замерших по случаю позднего времени. В те годы Цирк, его строительная площадка и окрестности, расположенные к югу от Мадрида, превратился в излюбленное место бродяг и настоящий заповедник диковинной ночной фауны. Наркодилеры, организованные и стихийные банды, а также ночные бабочки появлялись и исчезали в пятнах света от галогеновых фонарей и мерцавшей рекламы. Редкие автомобили, словно призраки, проносились по грязным дорогам, и только автобусы, казалось, жили здесь собственной жизнью: останавливались, изрыгали из своих утроб пеструю молодежь и двигались дальше, как огромные обувные коробки, расцвеченные огоньками. Под каменными аркадами зимними ночами пылали разведенные бродягами костры. Среди царившего здесь запустения не было никого, оказавшегося тут без цели что-нибудь раздобыть – еду, наркотики или тело. Место это мало подходило для одинокой девушки, но в то же время входило в число отобранных психологами «охотничьих угодий». «Тебе достался Цирк, Элиса, – объявил ей перфи Начо Пуэнтес в понедельник вечером, пока она в гримерке приводила себя в порядок. – Но не беспокойся: местечко с низкой вероятностью». Что означало следующее: скорей ты умрешь, рассеченная пополам молнией в ясную ночь, чем встретишься там с Наблюдателем.
Элиса все это знала и принимала. Она была начинающей, а в «Хранителях» ходили слухи, что девчонок вроде нее используют исключительно в качестве стаффажа. «Ну и что? Так все начинали. В том числе и небожители вроде Дианы Бланко, Клаудии Кабильдо, Мигеля Ларедо и Ольги Кампос, разве нет?» И если ей нужно растрачивать себя три ночи в неделю в роли статистки, она пройдет через это. Ей еще достанутся великие роли, когда придет ее черед. Хуже всего то, что случилось с Верой, которую уже лишили будущего. «Бедняжка Вера… Но пока что выброси ее из головы…»
Хлоп-хлоп – ее туфли на платформе в окружающей тишине замершей стройки производили звуки, подобные пистолетным выстрелам. Больше ничего не было слышно, только журчала вода, стекавшая в ливневки. Сейчас около двух ночи, и уже час с лишним Элиса не видела ни одной машины. Еще полчаса – и она уйдет со сцены: достанет из сумки дождевик, наденет его и сядет в автобус, который отвезет ее обратно в Монклоа, где в машине на подземной парковке хранятся ее вещи. Она переоденется и снова станет Элисой Монастерио, которая возвращается в свою квартирку-прикрытие, где Вера, наверное, не спит и ждет ее, беспокоится за нее и в то же время завидует. И так до следующего раза. Итоги дебюта? Охрененный холод, пара встреч с пьяницами и хулиганами – вот и все. Но девушка решила, что все не так уж плохо – ведь у нее прибавилось опыта.
Издалека какая-то тень двигалась ей навстречу. Присмотревшись, Элиса поняла, что людей двое. Похоже, мужчины, по всей видимости молодые, и столь же очевидно, что с тем же намерением не трогать ее, какое демонстрирует дождь по отношению к ее уже промокшей русой головке. Девушка покрепче вцепилась в сумку и без колебаний устремилась им навстречу. Страшно ей не было. Она была наживкой в разгар представления – в костюме, с должным образом подготовленным телом и сознанием. Настоящая наживка, даже если и новичок, но умеющая и защищаться, и нападать.
«А если один из них – Наблюдатель? И отлично: тогда именно ты его и обезвредишь».
На губах девушки появилась легкая улыбка, когда она вдруг подумала, что сказала бы мама, увидев дочурку в пурпурных штанах, оголявших задницу, шагающей мимо Цирка в полном одиночестве навстречу двум незнакомцам. «С ней наверняка случилась бы истерика», – сказала про себя Элиса.
Но больше всего ненавидела она в своей матери не истерики, а мужчин, которых у той было никак не меньше, чем истерик. По крайней мере, именно так думала Элиса, которая жила с матерью до тринадцати лет, того возраста, когда девочка начала отвечать на неадекватное поведение матери собственными срывами. Когда с ней это случалось, Элиса съедала всю еду, которую мог вместить желудок, а потом выблевывала ее, непереваренную, в унитаз – в точности так, как поступали древние римляне во время оргий. В то время она была толстенькой и пустой девчонкой – без будущего, и не раз ей в голову приходила мысль свести счеты с жизнью. Единственное, что ее останавливало, – это что матери ее, по всей видимости, было вообще плевать на то, что делает дочка, а той хотелось, чтобы маме было не плевать. Но, как думала Элиса, невероятно трудно было по-настоящему заинтересовать эту сеньору, проводившую время, как будто руководя работой двух бутиков роскошного дамского белья в Мадриде. Без сомнения, они были куском, который ей удалось урвать у отца Элисы, когда тот решил их оставить. Отец был большим семейным секретом: дочь знала, что он политик, что-то вроде депутата, но мать никогда о нем не упоминала, а если и отступала от этого принципа, то только чтобы оскорбить его – в очередной истерике, сопровождаемой битьем зеркал, фарфора или того и другого сразу. Тем не менее в целом она не страдала оттого, что муж покинул ее, когда она была беременна Элисой, и больше не возвращался. Возможно, потому, что с тех пор денег у нее было вдоволь, как и мужчин, – она могла получить любого, какого ни пожелает. Последний из тех, кого довелось увидеть Элисе, оказался чернокожим массажистом: именно ему под ноги она выблевала в тот день съеденный обед, после чего мать решила наконец отвести дочку на прием к психологу.
Дальше все пошло именно так, как обычно и происходит в подобных случаях (как позже узнала Элиса): в качестве диагноза ей поставили нечто вроде «нервной булимии», предложили тест с полусотней глупых вопросов типа «Какой цвет тебе больше всего нравится?» или «Какую песню ты больше всего любишь?». Однако, кажется, Элиса попала со своими ответами в самую точку, потому что ее провели в другой кабинет, более странный, чем первый, где ей снова задавали вопросы, выпытывая, что она думает о своей семье и друзьях (какая семья? какие друзья?). Ее научили расслабляться, бороться, одолеть булимию, а самое главное – научили наслаждаться, причем до такой степени, о которой она, прожив тринадцать лет, полных страданий и лишений, даже не подозревала, испытывать наслаждение от созерцания двигающихся и говорящих людей – одетых и нет. Потом ее стали вовлекать в прелюбопытные упражнения – например, это, такое забавное: она должна была стать неподвижной от пояса до макушки, и только там. Со временем она узнала, что это были упражнения, связанные с филией Плоти, и что это и есть ее собственная филия. Суть которой заключалась вовсе не в том, что ее приверженцу отбивные котлеты нравятся больше рыбы, как ей как-то, смеясь, объяснил один из психологов:
– Названия филий – это просто слова, как названия цветов, например. Быть любителем, или приверженцем, Плоти означает всего лишь то, что твой псином имеет специфическую структуру и попадается на удочку неких жестов, образов и слов, которые, например, совсем не подействуют на меня, потому что моя филия – Маска.
Элиса, забавляясь, ответила, что горячо благодарит за это пояснение, но только она так ничего и не поняла. Что такое псином? Тем не менее в этом вывороченном наизнанку мире «ничего не понимать» означало как раз таки, если верить тому психологу, наивысшую мудрость. Если ты ничего не понимаешь, значит у тебя больше способности к наслаждению, к тому, чтобы отпустить на свободу свой псином и наслаждаться тем, что действительно доставляет удовольствие, без каких бы то ни было объяснений. «Это как будто играешь роль в театре, – объяснял он тогда. – Это ведь не ты автор пьесы, зато ты – тот, кто произносит слова, написанные автором». И правда, единственное, что имело хоть какое-то значение для Элисы, – продолжать выполнять все эти упражнения, продолжать игру в движения, переодевания, произнесение слов – так, как ее учили. Ее учеба в школе, жизнь в доме матери и даже мечты стать журналисткой отошли на задний план. Единственное, чем она теперь хотела заниматься, было это.
А после того как очень серьезные сеньоры в темно-синих костюмах переговорили наедине с ее матерью, Элисе было предложено собрать чемоданы и навсегда распрощаться с той грустной и несчастной девочкой, какой она когда-то была. Пару лет Элиса провела в некоем учебном заведении, расположенном в горах близ Мадрида и похожем на университетский колледж, а потом ей предоставили квартиру в мадридском районе Леганес – на двоих с Верой. Она познакомилась с театром, прочла всего Шекспира, влюбилась сначала в одного коллегу, а потом – в Веру. С матерью она теперь виделась изредка, и впервые в жизни разговоры их протекали мирно. У нее появились чудесные друзья, она чувствовала себя на своем месте и была счастлива.
И когда ей сказали, что все это означает быть наживкой, это известие ее не очень озаботило.
Она захотела стать ею – еще до того, как узнала название.
Двое мужчин преградили ей путь, расположившись по диагонали, а не прямо перед ней, – чтобы она не смогла сойти с тротуара или броситься назад. От обоих несло горьковатым пивным духом.
– Гляди-ка, что за чудо нам попалось.
– Вау! Одна. Ты что, потерялась?
– Потерялась? Это вряд ли. Посмотри на нее сзади.
Послышался смешок.
– Ну и задница!
– Ну и штаны, я бы сказал! – Оба расхохотались. – Тебе как раз подошли бы!
По-испански они говорили, запинаясь. Элиса сделала вывод, что это либо румыны, либо чехи. Оба были очень юными, очень блондинистыми и по прикиду смахивали на наркодилеров, скорее всего мелких. На том, что оказался слева от нее, пониже ростом, был тесный пиджачок, походивший в мерцающем свете рекламного щита, приглашавшего в расположенный поблизости дискоклуб «Таркин», на змеиную кожу. На втором было длинное кожаное пальто, волосы тоже были длиннее и более спутанными, чем у товарища, а лицо – вытянутое, словно волчья морда. Их одежда наверняка была куплена у китайцев либо выменяна на колеса. «Змея и Волк – два идиота», – подумала Элиса. Двое мелких мошенников, которые сбывали товар в ночных клубах, а если ночка выдавалась подходящей – отправлялись грабить какого-нибудь заблудшего беднягу или насиловать девочек – или, если повезет, заниматься тем и другим сразу. Возможно, у них имелось и оружие, но Элиса сильно сомневалась, что они хоть раз им воспользовались.
Они перекинулись несколькими словами на своем языке, после чего Волк сказал:
– Ты что, шлюха? На вид – совсем девчонка.
– Отпустите меня, – произнесла Элиса намеренно спокойно, медленно опуская голову – так, как ее учили, – и прищуривая глаза.
– «Пожалуйста», – заявил Волк, ткнув в нее обтянутым кожей пальцем. – Какая невоспитанная сеньорита! «Отпустите меня, пожалуйста».
– Отпустите меня, пожалуйста, – послушно повторила Элиса.
– Мы хотим ее отпустить? – задал вопрос Волк.
Повисла секундная пауза.
– Нет, не хотим, – наконец произнес Змея изменившимся тоном. – Мы не будем ее отпускать.
Даже его дружок, кажется, удивился и в нерешительности взглянул на него. То, что для Волка продолжало быть шуткой, для Змеи превратилось в нечто более серьезное. Эта реакция заинтриговала Элису. Без всякого сомнения, на приверженцев Жертвоприношения эти двое не походили: ни один из них не заглядывался на ремень сумки на ее голом плече. И, судя по тону Змеи, которым тот сказал «посмотри на нее сзади», она сделала вывод, что наверняка в этой паре верховодит он. Но что с ним происходит? С чего такой резкий поворот?
Она на ходу попробовала сымпровизировать жест: отвела намокшие пряди с виска. И убедилась в том, что Змея уставился в некую точку в центре ее тела, ни на что не отвлекаясь. Стала думать: может, его филия – Плоть, как и ее собственная, не из тех ли он, кто подсаживается на фантазии, связанные с торсом и ногами? Без рук, без слов, как Лавиния, девушка из кровавой трагедии молодого Шекспира «Тит Андроник», которой отрезают руки и язык, чтобы она не смогла выдать своих насильников. Покойный гений Виктор Женс (Элиса по нескольку раз прочла его книги) утверждал, что Лавиния – это символ маски Плоти, как, впрочем, и вся пьеса. Она помнила его слова: «Плоть бессознательна, она не действует, не говорит. Техника базируется на отсутствии движений и текстов и предполагает исключительно демонстрацию тела как объекта, который может быть использован». Это работало – один венгерский психолог пробовал такое с наживками под кайфом. Но все это – теория, а сейчас Элиса оказалась в эпицентре практики. Сердце ее колотилось так сильно, что она практически слышала его биение, словно взрывы пистонов под блестящим топиком.
После секундного замешательства Волк одобрил новую линию поведения своего приятеля. Он встал за спиной Элисы, взял в руку ее косу и принялся шутливо мотать ею из стороны в сторону. «Почему нет? – казалось, хотел он сказать. – Эта минутка так же хороша, как и любая другая».
– Сколько попросишь за нас двоих? – игриво шепнул он ей на ухо, продолжая забавляться с косой.
– Я сейчас не могу, пожалуйста!
– Она сейчас не может. О! А когда в таком случае сможешь? Завтра?..
– Она сделает это бесплатно. Обоим. И сейчас же.
– Именно так. И ей понравится.
– Конечно, ей понравится.
Змея ее до сих пор не трогал (еще одно доказательство того, что он более уязвим), хотя и подошел так близко, что пиджак касался левого плеча Элисы. Она слышала его тяжелое дыхание. И решила дать ему последний шанс.
– Отпустите меня, – снова сказала она и прибавила, глядя на Змею: – Я опасна.
– Ого, ты слышал? – взвыл за ее спиной Волк, стиснув ее ягодицу. – Она «опасна»…
«Волк – ерунда, – подумала Элиса. – Сконцентрируйся на главаре». Девушка не хотела причинять им вред, потому что было ясно: ни один из них не был Наблюдателем, но она начала нервничать и решила взять инициативу в свои руки. В десятую долю секунды она заблокировала все органы чувств, которыми может управлять сознание. Для этого она воспользовалась своим затуманенным наркотиком состоянием и сконцентрировалась на воспоминаниях о той пантомиме, что разыгрывала в паре с другой девушкой два дня назад в «Хранителях». Ее память восстановила запахи, цвета и текстуру материалов декораций и тела ее напарницы, и настоящее растаяло, как выдыхаемый в холодную ночь парок. Она отвернулась от Змеи, стараясь не говорить и не жестикулировать. «Калечная», – как сказал бы ее тренер.
Реакция последовала мгновенно.
Змея застыл на месте, глядя на нее с таким выражением, будто не понимал, что видит. Элиса сделала вывод, что доставила ему такое наслаждение, что парень оказался в состоянии, предшествующем полной одержимости.
– Убирайтесь отсюда и оставьте меня в покое, – приказала она Змее и скользнула мимо.
И неторопливо пошла прочь, не обращая внимания на жалобные вопли Волка, как вдруг услышала спор на их языке. Она обернулась и увидела, как Змея быстро уходит, а Волк смущенно трусит следом, время от времени поглядывая на нее и, скорей всего, раздумывая, с какой стати приятель выпустил прямо изо рта такой легкий кусок. Элиса была уверена, что обязательно приснится Змее этой ночью, а может статься, что и во все последующие. Он станет мастурбировать, вспоминая о ней. Возможно, заболеет из-за наваждения. Возможно, вскроет себе вены. Хорошо она его уделала, решила Элиса.
Ускорила шаг и миновала светящуюся рекламу клуба «Таркин», подавив неуместный смешок. Ну кто станет отрицать, что быть наживкой чудесно? Было бы желание – она что угодно могла бы сотворить с этой парой идиотов. Что угодно. Думать об этом было приятно – Элиса чувствовала себя могущественной, непобедимой. Как легко она справилась с этой проблемой и как чисто! Зацеп был образцовым – быстрым, изящным. Нужно будет рассказать об этом Вере – о том, как легко она разрулила ситуацию. А как понравилась бы ее матери подобная власть над мужиками! Эта новая мысль заставила девушку рассмеяться. Тогда она взглянула на часы и, к вящему удовольствию, поняла, что смена ее закончилась. Не чуя под собой ног от радости, она заторопилась в тот конец улицы, где находилась автобусная остановка. И даже не обратила внимания на машину яблочно-зеленого цвета, припаркованную у края тротуара, по которому шла. Машину, в тонированных стеклах которой отразился свет фонаря, когда распахнулась водительская дверца.
Все еще радуясь, Элиса оглянулась и посмотрела назад, когда было уже слишком поздно.
7
Моего отца звали Эдуардо. Именно это я и услышала в ту ночь, тринадцать лет назад:
– Тебя зовут Эдуардо.
Понятия не имею, отчего я проснулась: тот, кто это произнес, не кричал. Напротив, голос его звучал как-то удивительно сладко. Я протерла глаза и взглянула на стоящие на прикроватной тумбочке часы – красивые такие, в виде птицы, на одном из распростертых крыльев которой был помещен круглый циферблат. С тех пор это время выжжено в моей памяти каленым железом: 3:38 – вот что показывали зеленые цифры. Меня удивило, что цифры какие-то тусклые, – они ведь фосфоресцирующие и поэтому должны были ярко светиться, и мне всегда очень нравилось, как они мерцают в темноте. Однако было что-то необычное в моей комнате, что-то, мешавшее цифрам сиять.
Это был свет.
Строго говоря, комната оставалась в потемках, но дверь была открыта, и свет проникал откуда-то с лестницы, по-видимому из гостиной, расположенной на первом этаже. Я подумала, что кто-то открыл дверь, например мама, а потом вышел, забыв ее закрыть. Эта мысль была абсурдной, потому что для мамы не была характерна такая небрежность, но я подумала именно так.
Я собиралась уже позвать ее, когда зазвучал смех и еще какие-то голоса, среди них голос Оксаны, нашей горничной, и – снова – тот голос:
– Очень хорошо, Эдуардо. А теперь – успокойтесь. Мы не поймем вас, если вы не успокаиваетесь…
Голос мужественный и одновременно сладкий. Мне он понравился бы, если бы одновременно я не почувствовала нарастающий дискомфорт в желудке, как от проглоченного лекарства, которое начинает действовать только через несколько минут, растворяясь у тебя внутри. Это был мужской голос, но я сразу же связала его с Оксаной, которая точно так же коряво изъяснялась по-испански. «Мы не поймем вас, если вы не успокаиваетесь». Эта фраза меня позабавила. На самом деле я решила, что у нас в гостиной праздник и кто-то из папиных приятелей передразнивает Оксану. Но что за праздник в такое время?
Я сосредоточилась и постаралась вспомнить, что мы в тот день делали: была суббота, мы все вместе ходили в кино, посмотрели чудесный фильм – романтическую историю про любовь, из тех, что так нравятся и маме, и мне, а Вера рассыпала воздушную кукурузу из кулька на пол, под сиденье, и мама ее отругала. Я была уверена, что папа не говорил нам ни о какой намеченной вечеринке, да и было уже слишком поздно. От этого объяснения пришлось отказаться.
Тогда, тихонько встав с кровати и подойдя к порогу, я поняла, что за веселыми громкими голосами слышен чей-то плач.
Когда я наконец поняла, кто плачет, то стала винить себя, что раньше не догадалась. За прошедшие годы передо мной множество раз вставал образ мамы – ее лицо, ее шевелящиеся губы, но ни разу – как она говорит. В моих воспоминаниях, начиная с той ночи, она никогда ничего не говорит – только тихо плачет и невнятно икает.
Я вышла в коридор, но, не дойдя до лестницы, остановилась, услышав яростный шепот папы:
– …ты что, не видишь? Я спокоен… А теперь почему бы тебе не разрешить моей жене подняться на минуту наверх и взглянуть на девочек?
– Слушай, Эдуардо…
– Я спокоен… Всего на минутку. Майте, пожалуйста, прекрати плакать…
Дверь моей комнаты была последней по коридору. По правую руку от меня была комната Веры, дверь в нее тоже была открыта, но, к счастью, Вера лежала в кровати и спала. А через распахнутую настежь дверь спальни наших родителей я смогла разглядеть валяющееся на полу красное одеяло и простыню. Мне пришло в голову, что мама рассердилась бы, если бы увидела этот беспорядок, но тут же я сообразила, что она уже, должно быть, это видела, потому что плачет-то как раз она.
Я осторожно приблизилась к лестнице. По-настоящему я не испугалась, но по какой-то причине мне казалось, что будет лучше, если люди в гостиной меня не заметят. Именно поэтому я выбрала лестницу, а не коридор, потому что с лестницы могла охватить взглядом бо́льшую часть первого этажа, да так, что снизу меня никто не увидит. Я спустилась на несколько ступенек – бесшумно, босая, вытягивая шею, чтобы поверх деревянной балюстрады разглядеть происходящее внизу, – как зритель в театре, которому досталось неудобное место.
Первым, кого я увидела, был папа. Он сидел напротив лестницы на стуле, примотанный к нему скотчем. Скотч был серебристого цвета, он крест-накрест пересекал его грудь и живот, голые под распахнутой пижамой, а ниже обвивался вокруг коленей и щиколоток. Папа был почти неузнаваем – покрасневшее потное лицо, взлохмаченные волосы. Он широко таращил глаза, и я поняла, что это оттого, что не надеты ни линзы (он снимал их перед сном), ни очки. Странно, но именно эта деталь ошеломила меня – небрежность в таком человеке, как он, занимавшем высокую должность в администрации предприятия по производству стекловолокна, всегда таком безукоризненном, таком элегантном.
Оксана, девушка-украинка, помогавшая нам по дому, которую мы наняли всего пару месяцев назад, стояла рядом с папой. Она была совсем молоденькая, от силы лет двадцати, светловолосая, невысокого роста. Сейчас на ней была не ее обычная униформа, а джинсы и куртка, которые она надевала в выходные дни, и она довольно часто встревала в разговор, говоря то на родном языке, то на ломаном испанском. Меня очень удивило то, как она говорила: яростно жестикулировала, почти кричала – разительный контраст по сравнению с той смиренной девушкой, какой она выглядела раньше. Маму я видеть не могла – по-видимому, из-за того, что она сидела на противоположной от папы стороне, под лестницей, но в гостиной присутствовали еще двое – они ходили взад-вперед, и я очень хорошо их рассмотрела. Это были мужчина и женщина. Женщина все время оказывалась спиной к лестнице, поэтому я смогла заметить только пышную копну темно-каштановых волос и кожаную куртку. Мужчина, обладатель этого голоса, ходил туда-сюда – от стула с папой к дивану и обратно. Самой характерной в его облике была голова – бритая наголо, только по центру ото лба к затылку шла густая черная полоса волос, похожая на конскую гриву.
– Эдуардо, – говорил Человек-Лошадь, причем так, что у него получалось «Эдардо». – Девочки в порядке. Спокойно.
– Я спокоен, черт! – тяжело дыша, сказал папа, но было очевидно, что спокойствие он, конечно, потерял. – Повторяю, я совершенно спокоен. И я уже отдал вам кредитки и ПИН-коды к ним… Чего вы еще хотите, черт подери?..
– Кэш… – заявил Человек-Лошадь, потирая указательный и большой пальцы, что, как я знала, означает «деньги». – Понимаете?
– Да не держу я наличные дома, я тебе уже сказал! Нет кэш! Понял, ты?
– Не кричите, – предупредил Человек-Лошадь. – Окса так не думает. Окса говорит, видеть деньги, много билетов, где вы в кабинете. Где они?
– Временами у меня бывали деньги дома, но я не имею привычки…
Тут Оксана кое-что сделала. Она подлетела к моему отцу, да так быстро, что и я подскочила, и стала на него орать. Оксана была симпатичной, нам всем так казалось. Хотя лицо ее было широким и круглым, фигурка у нее была стройная, глаза огромные, а взгляд как у испуганной лани. Но в ту секунду ее физиономия стала пунцовой, а на шее вздулась вена.
– Деньги! – выкрикнула она и ударила отца по щеке. – Деньги! У тебя есть! – И она еще раз ударила его, и еще, маленькой ручкой, словно маятник раскачивался: удары были невиданной силы, или мне так казалось, а тяжелая голова моего отца раскачивалась из стороны в сторону. – Где! Спальня! Кабинет! Где!
Человек-Лошадь произнес: «Окса» – и она с трудом, но остановилась, тяжело дыша. В ту же секунду плач моей матери превратился в душераздирающие рыдания. Другая женщина, та, что с каштановыми волосами, исчезла из поля моего зрения, я снова услышала звук удара, потом крик моей матери, вслед за этим закричал отец, а Оксана побежала задергивать занавески на окнах. Этот переполох заглушил мои собственные всхлипы. Увидев, как Оксана хлещет по щекам моего отца, я окаменела. Почувствовала, что вот-вот описаюсь, словно время вдруг повернуло вспять и мне уже не двенадцать лет, а снова пять, как Вере. Я подняла руки и постаралась зажать ими рот или хотя бы приглушить плач, но мне удалось только немного унять дыхание к тому моменту, когда вновь стало тихо; я еще продолжала всхлипывать, но гораздо тише, так что меня практически не было слышно. Даже не подозревая об этом, я выполнила одно из тех упражнений по самоконтролю, которые позже не раз и не два спасут мне жизнь.
– Эдардо, – вновь заговорил Человек-Лошадь, когда все остальные замолчали, однако голос его уже не казался мне сладким – как будто красивый зверь вдруг показал клыки. – Мы кое-что сделаем. Мы не хотим делать, но вы не сотрудничаете… Приведем девочек?
Пока мужчина говорил, Оксана встала за спиной моего отца и принялась заклеивать его рот скотчем. Папины щеки надувались, делая его похожим на рыб фугу, которых мы с Верой видели в одном документальном фильме в компьютере.
– Вы это хотите? Привести девочек?
Папа головой показывал, что нет, а стул его при этом скрипел, словно трещотка на веревочке. Мамины рыдания превратились в визг, хоть и приглушенный, как будто ей тоже заклеили рот скотчем.
– Предпочитаете жену? Девочек? Вам выбирать.
– Девочек, – сказала Оксана, наклоняясь к папе сзади, вцепившись рукой ему в волосы. – Он говорит «девочек». Они ему больше нравятся.
Папа ничего не говорил, только стонал; лицо побагровело, трясущиеся щеки выступали над кляпом. Но Оксана, судя по всему, просто наслаждалась: держа его одной рукой за волосы, другой дотянулась до низа его живота и принялась трогать там, куда я не хотела смотреть, но все время смотрела.
– Да… он предпочитает девочек. Эдардо любит маленьких девочек. – И она хохотнула.
– Мы не хотим. – Человек-Лошадь ткнул в сторону папы пальцем. – Мы не хотим. Но ты вынуждаешь. Окса, иди за девочками.
Именно этот приказ заставил меня действовать. Я почти физически ощутила, как мои руки освободились: щелчок – и суставы вновь обрели способность двигаться. А вот встать я не могла – ноги дрожали, так что я доползла до верха лестницы, обдирая коленки, а потом на четвереньках двинулась в направлении комнаты Веры. Единственное, что я осознавала, – необходимость защитить сестренку. Рассудок мой в те минуты был комнатой ужаса, а сама я сидела в ее дальнем углу, сжавшись в комок, в полной темноте, с одной лишь мыслью: «Вера… Вера… Вера…»
– И?
– Больше ничего. Начиная с этого момента я по-прежнему ничего не помню.
– Что ж, хорошо, – сказал доктор Аристидес Ва́лье, но как-то неуверенно, словно моя амнезия его разочаровывала, и характерным жестом поправил на носу свои очки без оправы, с круглыми линзами.
Кабинет его походил на колодец, доверху наполненный тишиной и полумраком. Я сидела напротив письменного стола – наклонившись вперед, локти упираются в колени, как будто меня только что вырвало.
– В любом случае мы продвинулись, – прибавил он. – Ненамного, но хоть что-то по сравнению с прошлым разом. Если мы сейчас это оставим, то весь тот путь, что нам удалось пройти, пропадет втуне…
Я кивнула и слегка расставила ноги, одновременно сделав глубокий вдох. Мне было жарковато, но куртку я не сняла. И ничего не сказала, храня молчание в ожидании слов Валье.
– Ты понимаешь, что я имею в виду, Елена? Если мы сейчас оставим это, все наши усилия, предпринятые во время последних консультаций, окажутся напрасными. Это все равно что надувать воздушный шар, не завязывая, – произнес он, но удивить меня ему не удалось: я уже успела привыкнуть к его метафорам. – Я понимаю, как трудно тебе пытаться вспоминать. Твои воспоминания заблокированы, это типично для некоторых видов травм, но поверь: мы сделали несколько очень важных шагов на этом пути. Это событие из ранней юности может быть связано с твоими симптомами. Если сейчас ты бросишь терапию, в будущем тебе придется начинать с нуля…
Я сглотнула слюну и прокашлялась.
– Понимаю, – сказала я. – Но больше не могу приходить сюда.
Валье пристально смотрел на меня, подперев щеку рукой.
– Мы можем уладить финансовые вопросы, если дело в деньгах, – предложил он. – Я серьезно. Ты не будешь мне платить, пока…
– Нет, проблема не в этом. Правда, я очень благодарна за то, что вы меня выслушали. Но дело в том, что я просто больше не смогу приходить.
– Понятно, – кивнул Валье, не настаивая, и глубоко вздохнул.
Я еще покашляла, чувствуя, как горят щеки (наверняка красные), и взглянула доктору прямо в глаза, ожидая, когда же он меня отпустит. Мне не хотелось показаться невежливой, но решение было принято. Незачем было продолжать ходить к нему, и, точно так же как я проделала это с Алваресом и Падильей четыре дня назад, я хотела сжечь все мосты, чтобы начать новую жизнь. Поэтому и попросила перенести свой визит на этот четверг, чтобы «Елена» тоже могла исчезнуть, и чем раньше, тем лучше. Так что я продолжала ждать, уставившись в некую точку рядом с лицом Валье, на которое падал свет от экрана стоявшего на столе ноутбука, но все же время от времени поглядывая на доктора.
Аристидес Валье был привлекателен, но прежде всего – элегантен и мягок. Лет ему было около сорока, плотное сложение, рост средний, волосы цвета золы коротко подстрижены. На овальном лице, моложавом и гладком, почти всегда было выражение незыблемого спокойствия, – словно поверхность пруда, которую ни один брошенный камень не смутит более чем на пару секунд. Говоря, он наклонялся вперед, словно желая уменьшить разделявшее нас расстояние и оказаться в нескольких сантиметрах от моего лица. Всегда он был одет в красивые, подходящие друг к другу вещи: сегодня это была темно-лиловая рубашка, брюки того же оттенка и галстук цвета фуксии. Воспитанный человек, раскованный, обладавший, казалось, неистощимым терпением по части пауз, с плавными жестами. Я обратилась в его частную консультацию четыре недели назад с жалобами на головную боль и бессонницу, и теперь, после четырех сеансов, в течение которых постаралась рассказать о том ужасном событии, которое перевернуло мою жизнь (естественно, изменив имена и больше ни о чем не распространяясь), я приняла решение оставить эту затею. И пока я его разглядывала, мне пришло в голову, что доктор Валье уже никогда не узнает о моем истинном «я».
Это если у меня, конечно, имеется некое «истинное я», которое можно так назвать.
Внезапно Валье прервал молчание, но заговорил уже другим тоном – более оживленно, будто в голову ему пришла новая мысль:
– Могу я спросить тебя кое о чем, Елена?
– Конечно.
– То, что ты мне рассказывала, – правда?
Я замигала:
– Что?
Мое удивление в определенном смысле его удовлетворило. Он чуть отодвинулся в своем кресле и опять поправил очки. Когда он вновь заговорил, в его голосе сквозило смущение, хотя оно показалось мне несколько наигранным.
– Знаешь, я более двадцати лет занимаюсь этой работой: пятнадцать – в Испании, до этого еще пять лет – в Аргентине, еще немного – в Соединенных Штатах… Здесь вот у меня дипломы. – Он указал на стену за креслом и улыбнулся. – Но ничто из того, что я изучал в течение жизни, ни одна вещь, поверь, не помогла в моей профессии так ощутимо, как детство, проведенное в бедном квартале Боготы. Уверяю тебя, я стал психологом задолго до того, как получил диплом, потому что в моей родной стране нужно быть немного психологом с самого детства, чтобы понимать, кому можно доверять, кто говорит правду, а от кого следует ждать неприятностей. Я видел много нищеты и много страданий… – Он уставился в потолок, раздумывая, прежде чем продолжить, и я поняла, что сейчас услышу еще одну метафору. – Подобно азиатским ныряльщикам за жемчугом, которые могут долго оставаться под водой, потому что тренируются с детства… Жизнь научила меня задерживать дыхание, Елена, и я немного знаком с большими глубинами. Все, что я делал потом, послужило только объяснением того, чему я уже и так научился. Именно для этого нужны учеба и книги, и ни для чего иного, – чтобы объяснить себе самому то, чему ты уже научился на улице. Но ты, верно, думаешь: и зачем он рассказывает мне эту лабуду? – Вопрос не предполагал ответа, и я промолчала. – А я скажу тебе: потому что я чувствую, когда мне лгут, когда пытаются меня провести, когда что-то скрывают… И ты по неизвестной мне причине с самого начала лгала.
Я не нашлась что сказать. И принялась покусывать большой палец, словно слизывала остатки какого-то лакомства, а между тем не сводила глаз с Валье. Он тоже какое-то время смотрел на меня, а потом вдруг провел рукой перед сенсорным экраном своего ноутбука.
– «Елена Фуэнтес Манчера, – прочел он, – двадцать пять лет, уроженка Мадрида, обратилась за консультацией четыре недели назад по совету друга… – Он пропустил незначительную информацию, будто стремясь перейти к самой сути. – Бессонница, головные боли, потеря аппетита, симптомы депрессивного состояния, не поддающиеся обычной терапии… Анамнез…» – Он остановился и перевел на меня рассеянный взгляд. – А вот здесь я перестаю что-либо понимать.
Я отвела со лба те прядки, что не хотели держаться вместе с остальными, собранными в хвост на затылке. И, ожидая продолжения речи Валье, нахмурилась, чувствуя себя школьницей, распекаемой солидным и привлекательным учителем.
– Тут какие-то нестыковки. Сейчас объясню. Здесь упоминается нечто ужасное, случившееся с твоей семьей. С другой стороны, это не совсем для меня неизвестное. Типичная технология «служанки». В Боготе ее давно используют в богатых домах. Девушка попадает в семью под чужим именем, предъявляя фальшивые документы, работает несколько недель, собирая сведения о членах семьи и о том, где хранятся деньги и ценности, а потом в одну прекрасную ночь отключает сигнализацию и открывает двери своим дружкам-приятелям, то есть сообщникам. В основном они ограничиваются ограблением и смываются. В твоем же случае все осложнилось, потому что грабители оказались психопатами. И они причинили вам очень много страданий… Все это так. Но кое-что сбивает меня с толку. – Он вновь провел рукой, меняя файл, и на этот раз повернул экран ко мне. – Я стал искать публикации в газетных архивах, потому что, как я уже говорил, не верил в то, что ты говоришь правду. И действительно нашел одну публикацию. На сайте газеты «Эль-Паис». И дата соответствует твоему рассказу. Но вот имена – хоть в статье приведены только инициалы членов семьи, как ты и сама можешь видеть… они не совпадают с теми именами, которые назвала ты.
– Инициалы в публикации были изменены, чтобы оградить нашу частную жизнь, – ответила я.
Валье скорчил гримаску, будто соглашался со мной в мелочах и одновременно не соглашался по существу.
– Так могло быть, я и сам так сначала думал, но… Ты знаешь, что такое «Winf-Pat»? Это такая структура в Сети, состоящая из оцифрованных файлов и докладов, где можно найти все о любом пациенте, если у тебя есть соответствующий допуск. Неограниченный допуск можно получить только по решению суда, но существует и ограниченный допуск, которым располагают врачи и психологи-криминалисты. Переехав в Испанию, я какое-то время работал врачом-криминалистом, да и до сих пор веду там кое-какие дела, так что допуск у меня есть. Заинтригованный этой историей с инициалами, я разыскал этот случай и узнал имена людей из той статьи: Диана Бланко и Вера Бланко – так звали упомянутых в газете сестер, а вовсе не Елена и Кристина.
Я долго не отрывала взгляда от Валье – пока длилась пауза. Я не могла бы, пожалуй, сказать, сколько времени мы молчали. Мне вспомнилось, как когда-то в усадьбе, разыгрывая сцену из «Ромео и Джульетты» для Женса, в которой Клаудия Кабильдо и я изображали любовников и должны были лишь смотреть друг на друга, не касаясь. Мы обменивались репликами из пьесы, словно вспышками огненного дыхания, в то время как наше возбуждение все росло и росло, вознесенное к самому пределу воздействием наркотиков. В какой-то момент я подумала, что мы с доктором Валье смотрим друг на друга точно так же, разделенные непреодолимым барьером письменного стола.
– Сначала я решил, что ты мне наврала, только и всего, – вновь заговорил Валье, поняв, что я не собираюсь сознаваться. – Некоторые симулянты способны даже подделать официальные документы… Но самое любопытное, что в «Winf-Pat» действительно фигурируют некие Елена и Кристина Фуэнтес, с которыми случилась аналогичная история, судя по размещенным данным. Однако никаких других признаков их реального существования там нет, они как будто введены в базу данных некой сверхъестественной силой. – Он пожал плечами. – Разные адреса, разные фамилии, одинаковые истории… Все очень странно. И даже более, если принять во внимание, что для фальсификации данных в «Winf-Pat» нужно что-то посущественнее, чем просто способность или желание соврать…
Повисла новая пауза, назначением которой было предоставить мне еще одну возможность сознаться. Но я отвлеклась на внезапно возникшую идею. «Психолог», – думала я. И спрашивала себя, хотя и не впервые, насколько хорошо он может быть знаком с феноменом псинома и что бы он сказал, если бы смог с ним познакомиться.
Что сказал бы дорогой психолог, если бы, например, узнал о секретном эксперименте под кодовым названием «Секстант», связанном с филией Огня, подтвердившем, что наслаждение, которое мы ощущаем, может быть передано другому человеку через обычное касание. Как будто бы мы пылаем и обжигаем его своим пламенем, и не важно, одного ли мы пола и насколько разнимся по возрасту. Что бы он сказал, если бы узнал правду о человеческом желании и любви? Или он знает? Но что-то я сомневаюсь – он выглядит слишком оптимистичным.
– Кто ты, Елена? – Валье понизил голос, как будто рядом спал ребенок. – Или мне следует называть тебя Диана? Откуда ты взялась? Ты не похожа на банальную врунью. Почему бы тебе не сказать мне правду? А потом ты, если захочешь, уйдешь и больше не вернешься. На тебе как будто маска надета… Почему бы тебе ее не снять?
Эта новая «метафора» застигла меня врасплох. По спине словно пробежал электрический ток, некий болезненный спазм, и я осталась сидеть в той же позе, не имея возможности ни шевельнуться, ни сконцентрироваться на каком-либо действии, пока не отпустило и я не смогла наконец подняться.
– Мне нужно идти. Извините.
Валье ничего не сказал в ответ, но окликнул меня, когда я уже была у двери, чтобы напомнить мне, что я забыла рюкзак. Я ощущала на себе его пристальный взгляд, пока возвращалась за рюкзаком, и вдруг услышала его голос – такой издает музыкальная шкатулка, когда ее открываешь.
– Что я тебе сделал, что ты чувствуешь себя такой несчастной? Почему ты плачешь?
Я утерла слезы и, не оглядываясь, направилась к двери.
– Прощайте, доктор. Спасибо.
Оказавшись на улице, вдохнув свежий воздух пасмурного осеннего полдня, я смогла успокоиться. И, бодро направившись к своей машине, думала, что к добру это или к худу, но я больше никогда не появлюсь в консультации доктора Аристидеса Валье. Хотя, быть может, и было ошибкой прийти сегодня к нему и сказать об этом, верно то, что со всем покончено. Моя работа закончена, а вместе с ней и моя прежняя жизнь.
И теперь я отправлялась, как Ромео, в изгнание самой обычной жизни.
8
У меня в спальне стоит старый плетеный стул – реликвия из дома родителей. Дядя Хавьер, брат папы, в доме которого мы с Верой прожили несколько лет после трагедии, собрал наши пожитки и отправил на хранение в огромный, километровый, мебельный склад, в ожидании того момента, когда мы соберемся ими распорядиться. Но оказалось, что распоряжаться-то особенно некому: Вера так никогда и не появилась на этом складе, а я всегда была более практичной, чем сестра, и, хотя мне тоже очень не хотелось, в конце концов решила использовать кое-что из этого скарба, чтобы заполнить пустоты в моей квартире-прикрытии на улице Юсте.
И это стало моей большой ошибкой, в чем я убедилась чуть позже. Слезы не давали мне увидеть на том складе почти ничего. Фокус заключался вовсе не в том, что эти вещи оживили мои воспоминания, наоборот, стало казаться, что они мне не принадлежат. Они принадлежали девочке, которую звали Диана Бланко и которая жила своей жизнью, параллельной по отношению к моей. Так что я в результате развернулась на сто восемьдесят градусов и была готова уже навсегда уйти оттуда, когда сквозь пелену слез разглядела этот стул. Он был частью гарнитура, стоявшего у нас в саду, возле бассейна. Деревянная крестовина, которой соединялись ножки стула, была с одной стороны поломана, и папа кое-как замотал ее изолентой. Понятия не имею, почему я тогда унесла с собой именно этот стул, – он никоим образом не мог вписаться в минималистский интерьер моей непритязательной квартирки. Потом я стала думать, что это был типично мамин порыв, один из тех, склонность к которым унаследовала Вера. Со мной же подобное случалось крайне редко – что-то вроде яростного желания бросить вызов собственной боли: «У меня отняли родителей, мое прошлое, а теперь еще лишают всех моих вещей?» Так что я вцепилась в этот стул и с ним ушла. Больше я на склад не возвращалась и все распродала через агентство, когда не стало дяди. А стул остался со мной, стоял в моей спальне, в изножье кровати, хотя я и использовала его только как вешалку для одежды. И никогда на него не садилась – не потому, что боялась, что он старый и развалится, а потому, что он особым образом скрипел, когда на него садились, – издавал специфический и неприятный звук, будто наступаешь на сухие листья, и раздавался он исключительно в том случае, если стулу приходилось выдерживать вес человека.
И вот этот-то звук услышала я, когда выключила телевизор тем утром: именно скрип плетеного стула из камыша в спальне – в комнате, куда я еще не заходила, придя домой.
Я только что вернулась после консультации с доктором Валье и не то чтобы чувствовала себя по-настоящему плохо, но ощущала какую-то пустоту, как когда ты стараешься-стараешься что-то делать, а потом это что-то неожиданно заканчивается, и непонятно, на что направить высвободившуюся энергию. Было утро четверга, прошло всего трое суток с того дня, как я объявила о своей отставке. Почти все, кто должен был быть поставлен в известность, уже об этом знали: Алварес, Падилья, Мигель и Вера. Также я покончила все дела с доктором Валье. Оставалось только навестить Клаудию Кабильдо и позвонить сеньору Пиплзу, но это я решила отложить на потом, отодвинув на последнее место, и даже не была уверена, что сделаю это. Я оказалась в том переходном состоянии, когда признаки новой жизни пока не очевидны, а вот отсутствие жизни прежней уже ощущается; этот разрыв между тем, что хочешь, и тем, что на самом деле делаешь, он как «наваждение» – насколько я помню, именно так в шекспировской пьесе именовал Брут свой план убить Цезаря. К счастью, неотложных забот хватало: моя жизнь с Мигелем, возможные поиски новой работы, еще одна возможность – не сейчас, конечно, а в перспективе, но различимой – завести детей и, естественно, моя сестра.
Я знала, что вопрос с Верой до сих пор не решен, несмотря на то что мне таки удалось в «Хранителях» схватить за яйца Падилью и надавить на него, чтобы он вывел Веру из этой истории и при том сказал ей, что это его собственное решение. Естественно, Вера воспринимала это очень болезненно. «Она вышла из кабинета в слезах», – сообщил мне Мигель, тоже присутствовавший при этом тяжелом разговоре. И не то чтобы я мучилась угрызениями совести из-за подставы, которую устроила своей сестренке, – как говаривал тот же Брут, иногда, чтобы обрести одно, нужно пожертвовать другим, а жизнь моей сестры значила для меня гораздо больше, чем это мелкое предательство. Я-то полагала, что будет достаточно всего лишь факта моей отставки, чтобы Вера тоже оставила профессию, но получилось совсем наоборот: теперь она упорствовала в своем желании стать наживкой, как никогда прежде. И хотя я не сомневалась, что поступила правильно, тяжело было думать о последствиях. Как будто я нанесла сестре удар кинжалом в спину.
Мало того, после нашего с ней разговора в «Хранителях» мне не удалось с ней поговорить: когда я ей звонила, неизменно натыкалась на голосовую почту. Это молчание меня очень беспокоило. Подозревает она о чем-то? Мигель уверял, что мое имя ни разу не прозвучало в том разговоре Веры с Падильей, но Падилье я могла довериться меньше, чем сиденью унитаза, покрытому осколками стекла. Правда, оставалось еще одно объяснение: Вера просто не желает ни с кем разговаривать, что было вполне логично. Ей нужно время, чтобы пережить удар. «Практически так же, как и мне», – подумала я. И, входя домой после визита к доктору Валье в четверг утром, я приняла решение: если так и не получу весточки от Веры, то попробую позвонить Элисе Монастерио, чтобы хоть косвенным образом разузнать о сестре.
Моя квартира на улице Юсте была квартирой под прикрытием. Согласно реестру недвижимости, в ней проживала Елена Фуэнтес Манчера, женщина-телеоператор двадцати пяти лет, обучавшаяся (последний курс) на экономиста. Но мне не нужно было вести двойную жизнь или что-то в этом роде, как шпионам в кино, а только ласково улыбаться соседям, держаться с ними вежливо, но холодно, чтобы их не слишком воодушевила моя улыбка. Елена существовала только для того, чтобы мое настоящее имя не всплывало в многочисленных справочниках и сетевых поисковиках, что, правда, не относилось, как я только что узнала от Валье, к таким вещам, как «Winf-Pat». И квартирка вполне соответствовала моему скромному существованию: она была меньше тех кабинетов, в которые мне за свою жизнь приходилось входить, хотя здесь и были перегородки между крошечной гостиной и спальней и между спальней и ванной комнатой. Самым навороченным в этой квартире была система безопасности. Именно поэтому, удостоверившись, что сигнализация не отключена, я спокойно вошла, активировала систему и рухнула на софу в гостиной, даже не заглянув в спальню. Лежа, я вытянула ноги, провела в воздухе рукой, назвав номер канала, который хотела включить, и стала смотреть выпуск новостей, прокручивая в голове ситуацию с Верой.
Новости были вполне обычны для реальности, в которой мы живем, – «луперкалии[15] наших городов», если вспомнить одно из выражений Женса, словечко, которое наводило на мысль, что оно тоже взято из «Юлия Цезаря». Еще один террористический акт в Египте. Обострение военных столкновений в Грузии. Сведение счетов между мафиозными кланами. Еще одна организация, занимающаяся торговлей «белыми рабынями» в Италии. А в Мадриде – новые события, связанные с так называемыми Отравителем и Наблюдателем. По-видимому, Управление внутренних дел решило, что первый из упомянутых стал интереснее публике, чем второй, и в выпуске новостей ему уделили на пять минут больше. Погиб еще один человек, причем с теми же симптомами, что и в семи предыдущих случаях: паралич и конвульсии. Это был парень двадцати трех лет, токсикоман, скончался он у себя дома. Данные вскрытия показали, что он умер от того же, пока неизвестного вещества, что и предыдущие жертвы, – вещества, которое не оставляло никаких органических следов. С каждым последующим случаем полиция со все большей уверенностью утверждала, что за этими смертями стоит один и тот же человек, некий субъект, которого пресса уже успела окрестить Отравителем, несмотря на то что пока не было установлено даже, использовалось ли какое-либо отравляющее вещество. Новость преподносилась как очередной эпизод телесериала: с фотографией жертвы – парнишки с каштановыми волосами, ясными глазами и изможденным лицом.
По сравнению с этим монтажом упоминания происшествия с участием второго монстра не впечатляли. Господин Наблюдатель наскучил, очевидно, средствам массовой информации. Хотя нельзя отрицать тот факт, что после обнаружения тела девушки из Доминиканы – месяц назад в мусорном контейнере на заднем дворе дома престарелых – Наблюдатель, насколько было известно, не проявлял себя, и этот период временного затишья сильно поубавил интерес к нему со стороны прессы. Однако я принадлежала к узкому кругу лиц, кто своими глазами видел фотографии Аиды Домингес, двадцати двух лет, уроженки Доминиканской Республики, выплюнутой Наблюдателем через неделю после похищения в виде обглоданной кости, брошенной в мусорную кучу, и «новость» оставалась столь же близкой к моей шкуре, как воспалившийся прыщ на лице.
Аиду я видела во сне, ощущала ее, ужасалась тому, что сделали с ней, с этой девушкой, торговавшей своим телом в Мадриде, пока это тело не похитил Наблюдатель, чтобы разрушить его, проесть до самой сердцевины, изглодать до самой души. Я смотрела на себя глазами Аиды, чувствуя ее невыносимую боль, визжа ее голосом. Аида Домингес, двадцати двух лет, стала частью длинной череды призраков, которые своим страданием обвиняли, указывали на всех жестоких, на всех насильников в этом мире.
«Согласно нашему источнику в Управлении внутренних дел, полиция обнаружила явный след, который приведет к поимке убийцы проституток», – вещал диктор. «Явный след», – думала я. Браво, Алварес, с каждым разом твое воображение работает все лучше и лучше. «Явный след» – и это притом, что на самом деле у нас нет ни одной чертовой идеи. «Но ведь ты ушла с работы, идиотка. Kaput. The end. Теперь это тебя не касается». Яростным жестом я убрала изображение с экрана телевизора, чувствуя подступающие слезы.
И услышала этот звук.
Плетеный стул. Спальня.
Я точно знала, без тени сомнения, что там кто-то есть. Кто-то, кто уже находился в спальне, когда я вошла в квартиру, и кто тихо сидел там все то время, пока я валялась на софе, как мешок с картошкой. Я почти что видела, как в кино, картинку действий предполагаемого взломщика: он пошевелился на стуле, надеясь, что звук телевизора скроет этот скрип, поскольку не мог предположить, что я его внезапно выключу.
Елена Фуэнтес Манчера, телеоператорша с ненормированным рабочим днем, подскочила бы на месте, охваченная ужасом при мысли о вломившемся к ней в дом незнакомце. Но в моей реальной жизни (если считать, конечно, что она у меня была) к подобным ситуациям я была готова. Мне даже не нужно было оружие. Я – наживка. Я сама себе оружие. Внезапность нападения могла представлять определенный риск, но если я была готова, то очень немногое могло причинить мне вред.
Итак, я поднялась и тихонько двинулась по направлению к соседней комнате. Дверь в спальню оказалась слегка приоткрытой, и комната, насколько было видно в щель, стояла погруженной в темноту. Это только укрепило мою уверенность, что там кто-то есть: я никогда не забываю утром раздвинуть занавески. Мне нравится, когда светло.
Мгновение я смотрела в приоткрытую дверь. Воспоминание о другой темноте сделалось почти что болезненным, как бывает, если с воспаленным горлом глотаешь кислое, – о той темноте, что порывом ветра ворвалась в мои двенадцать лет и не улеглась, пока не задула свечи моего детства. К той темноте я не была готова, и, судя по амнезии, которая выявилась на сеансах с Валье, не была я к ней готова до сих пор.
«Успокойтесь. Мы не поймем вас, если вы не успокаиваетесь».
Мысленно я подготовила защитную маску и тихонько толкнула дверь. Некая тень стояла возле плетеного стула. Но прежде чем при помощи голосового сигнала включился свет, разрешились все мои кошмары. И каким бы невероятным это ни показалось, когда мне наконец открылась правда, я почувствовала себя не намного лучше.
– Шлюха! – услышала я.
Человек держал что-то в руке. Еще до того, как я поняла, что это, я увидела, как этот предмет летит прямиком мне в голову.
Еще чуть-чуть, и эта штука угодила бы в меня, однако она впилилась в косяк двери возле моей головы, рассыпавшись дождем осколков. Краем сознания я узнала в этой штуковине оправленный в рамку голопортрет папы и мамы, стоявший на тумбочке возле моей постели, бо́льшая же его часть занялась телом бросившейся на меня сестры.
Когда мы с Верой жили у дяди Хавьера, еще до того, как в ходе случайного психологического обследования я была выбрана, чтобы стать наживкой, мы с ней частенько дрались. Начало бывало всегда одинаковым: я говорила или делала что-то, раздражавшее ее, а она, не вступая в дискуссию, атаковала меня физически. Ни один из ее ударов ни разу не причинил мне серьезного вреда, по той причине среди прочего, что я всегда была сильнее. Временами мне даже думалось, что ее поведение – своеобразный вызов, чтобы я начала вести себя, как отец. Как будто она говорила мне: «Хватит уже, побыла сестрицей-командиршей, а теперь мне нужен кто-то, кто сумеет поставить меня на место». Это прекрасно объясняло обычные наши потасовки, но этого объяснения явно было недостаточно для этой яростной атаки – на меня набросилась одержимая бешенством фурия.
Что меня поразило больше всего – в ее исступлении был и расчет, и контроль. Она схватила меня за лацканы куртки и втащила в спальню, то подтягивая к себе, то отшвыривая к стене. Потом, не отпуская, развернула меня и бросила на кровать, уселась на живот и стала душить. Она давила не со всей силы. И все же, глядя в ее покрасневшие, обезумевшие глаза, я понимала, что там, в ее мысленном взоре, я была задушена уже не раз.
– Сука! – сквозь зубы хрипло шипела она. – Убью тебя!
Я не оказывала сопротивления, только пыталась ухватить ртом воздух. Тогда она отпустила меня, обдав напоследок целым дождем звонких шлепков, раздаваемых справа и слева. Я подняла для защиты обе руки и, выбрав момент и воспользовавшись тем, что лицо у меня было прикрыто – руками и чем-то лежавшим на кровати, – произнесла ровным печальным голосом:
– Давай-давай, продолжай, я это заслужила.
И тут она застыла на месте, словно окаменела: кулаки повисли в воздухе, дышит тяжело, как лошадь. Я всего лишь использовала упрощенную технику Любви, при которой произносимые слова призывают как раз к тому, чего ты хочешь избежать, как в искусном шекспировском монологе Марка Антония, произносимом над бездыханным телом Цезаря. Собственно, Любовь не была филией Веры, но я знала, что некоторые жесты этой маски могут затормозить либо, наоборот, усилить проявление отдельных псиномов на несколько секунд. Мне совсем не нравилось использовать эту маску против собственной сестры, но это было всяко лучше, чем ответить на ее яростную атаку применением физической силы.
– Ну что, теперь мы можем поговорить? – Я положила руки на голову и пропустила между пальцами несколько прядей волос, чтобы продлить ее наслаждение. – Ну пожалуйста. Давай поговорим, а?
Вера опустила руки и, все еще сидя на мне верхом, вдруг рухнула, подобно горной лавине.
– Что ты со мной сделала? Как ты могла?.. Вот ведь сука! Как ты только смогла?..
Я дала ей возможность выплакаться – скрючившейся, упавшей на мое плечо. Это для меня было больнее, чем ее удары. И я обняла ее – несмело, опасаясь нового взрыва.
– Я не хочу потерять тебя, Вера, – сказала я. – Тебя – нет.
– Ты меня уже потеряла, – ответила она неожиданно холодно.
Вера встала, отбросила волосы с лица, и моему взору предстали темные круги под глазами – следы и слез, и бессонницы. Она одернула длинную желтую футболку до середины бедра, под которой был надет черный обтягивающий комбинезон, доходивший до колен, где, в свою очередь, начинались ремешки сандалий в римском стиле. И, поправляя одежду, она не переставала говорить – ледяная, взбешенная:
– Вот с этим ты и останешься, сестричка… Ты можешь бросить работу, можешь отправиться в постель с Мигелем Ларедо, нарожать детей и водить их в кино… Можешь начисто забыть о папе и маме… Но я этого делать не буду, даже если сто Падилий отстранят меня от работы… Я сообразила, что вполне могу оставаться наживкой, даже если меня вышвырнут. Милая профессия. Я не хочу от нее отказываться. О нет! Не сейчас. И даже ты не сможешь мне помешать, – заявила она, сдерживая слезы. – И знаешь что? С тех пор как погиб профессор Женс, у тебя в отделе меньше влияния, чем у сухой палки… Никто тебя не послушает, никто не обратит на тебя внимания. Ты ушла, ты – out[16]. Падилья снова примет меня на работу. Ему что, трудно? Если я вернусь с добычей, ему же лучше. Если нет – с него не убудет от того, что я попробую. Сечешь?
– И кто тебе все это наговорил? Падилья?
– Да, он мне сказал сегодня, что это ты надавила на него в понедельник, требовала моего отстранения! – И она заплакала.
Я поднялась и села на кровати. У меня болело горло, волосы выбились из-под резинки, казалось, что губы разбиты, но крови не было. Вера плакала, глядя на осколки голопортрета родителей. А я обдумывала способы, которыми Падилью можно было бы заставить заплатить за его предательскую болтовню, но вдруг поняла, что тут еще что-то. Я почувствовала это по дрожанию Вериных рук, когда она одергивала футболку, по интонации, с которой она сказала: «Не сейчас», по жестокости ее ударов… Что-то большее, чем новое знание о моих интригах. Я воспользовалась паузой и спросила:
– Что произошло?
Она заговорила, не поднимая глаз, каким-то ледяным голосом:
– Элиса у него… Она пропала прошлой ночью, во время смены в районе Цирка… Расследование показало, что это был он…
Холодный пот омыл меня с головы до ног, пока Вера говорила, но я постаралась скрыть свою панику, чтобы не усугубить ее чувства.
– С ней могло случиться что-то другое, – соврала я, от души желая, чтобы Вера догадалась, что я ее обманываю, – для ее же спокойствия, поскольку так мне, быть может, и удастся заставить ее поверить в мою следующую (и гораздо большую) ложь. – Кроме всего прочего, даже если и случилось худшее, Элиса – хорошая наживка. До сих пор ни одна из нас не смогла заманить Наблюдателя в ловушку, так что он не ожидает получить наживку… Если она у него, если это он, то Элиса его обезвредит, это точно…
Самым страшным для меня было убедиться в том, что Вера делает вид, что верит мне, как в тех замедленных стриптизах маски Любви, когда жертва все глубже насаживается на крючок, полагая, что мы хотим ее обмануть.
– Да, конечно. Эли уделает его, этого козла… но я не брошу ее.
– Но он далеко не всегда похищает другую девушку, когда у него уже есть одна… – привела я довод.
– Если он сделал это однажды, то может и повторить.
– Понимаю, – сказала я, колеблясь. Но единственным, что я на самом деле понимала, было то, что на этот раз не смогу удержать сестру, и это заставляло меня чувствовать себя неуверенной, зависимой от всего, что она мне ни скажет, а это, в свою очередь, выводило меня из себя. – Но ты в любом случае не должна была входить ко мне без предупреждения! Я прекрасно знаю, что сама дала тебе код от двери, но ведь эта квартира под прикрытием… Ты совершила серьезную ошибку.
Этот упрек, естественно, не был лучшим средством, чтобы ее успокоить. Вера, присев на корточки, чтобы собрать осколки родительской фотографии, снова возмутилась:
– Эта квартира – уже не твоя квартира под прикрытием! Ты ушла с работы, разве не так? Скоро ты уберешься отсюда. Кроме того, мне хотелось, чтобы ты знала: тебе не удалось обвести меня вокруг пальца. Сегодня утром я сказала Падилье, что, пока Элиса не вернется живой и здоровой, я буду выходить на охоту каждую ночь, нравится ему это или нет. А он мне говорит: «Скажи это своей сестре, это она не хочет, чтобы ты работала». И вот я здесь! Собственно, для этого я и пришла. – Она шмыгнула носом и провела рукой по лицу. – Можешь не сомневаться: я буду выходить каждую ночь, пока этот козел не выберет и меня или пока не вернется Элиса, клянусь тебе… – Голос ее дрогнул.
– Ты разбила портрет папы с мамой, – прервала я ее, сама не зная почему ощутив вдруг такую же глупую обиду, как и она.
– Ты сама их растоптала, – возразила она. – Их и память о них.
Это обвинение заставило меня действовать. И я заговорила неожиданно хладнокровно:
– Нет, я не растаптывала. Родителей убили прямо на наших глазах, Вера, когда тебе было пять лет, а мне двенадцать. А с нами сотворили такое, что мы даже не можем этого вспомнить. Мы несколько месяцев провели в больнице, и вот это время я уже помню хорошо. У тебя были разорваны барабанные перепонки, и ты не могла меня слышать. Врачи объяснили, что они лопнули от ударов. Большую часть дня ты спала, но я старалась сидеть рядом, чтобы ты могла увидеть меня, как только проснешься, а когда ты просыпалась, я разговаривала с тобой, хотя и знала, что ты меня не слышишь. Знаешь, что я говорила? Я говорила, что не сумела помочь тебе в тот раз, но что клянусь памятью наших родителей, что больше никогда-никогда в жизни не допущу, чтобы кто-нибудь тебя обидел. Я клялась, что убью любого, кто хоть пальцем тебя тронет. Нет, не убью. Что я сожру его живьем. И я старалась сдержать свою клятву. – Я остановилась. – Да, я сыграла с тобой в понедельник плохую шутку, знаю, но сделаю это снова и снова, если буду считать, что ты в опасности. Сделаю что угодно, если буду так думать, Вера. Что угодно. И не только ради тебя, а и ради мамы с папой.
Вера собрала все осколки портрета и теперь аккуратно раскладывала их на моей прикроватной тумбочке. Затем повернулась и взяла с плетеного стула свой вязаный кардиган. Она молча надела его и, мотнув головой, разбросала по спине свои роскошные длинные каштановые волосы. Когда она наконец взглянула на меня, на нее было больно смотреть: в ее глазах читалось столько одиночества…
– Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, – равнодушно сказала она. – А я буду каждую ночь выходить на охоту за этим скотом. Каждую. – Она направилась было к выходу, но вдруг обернулась, будто что-то забыла. – Об одном только прошу: оставь свое сочувствие при себе.
Уходя, она не закрыла ни одной двери. И довольно долго – я тоже.
– Какого дьявола тебе еще надо, Бланко? Сейчас не самое лучшее время для телефонных разговоров, черт возьми, мы по уши в дерьме с прошлой ночи и очень заняты… Ты ведь, наверное, уже знаешь о похищении Элисы…
– Да, Вера мне рассказала, – произнесла я, подавляя гнев. – И кое о чем еще.
Падилья смутился:
– Послушай, я вынужден был сказать правду, когда она позвонила сегодня утром… Она была вне себя, на стену лезла из-за истории с Элисой, понимаешь? Она заявила, что все равно выйдет ночью на охоту, что бы мы ни делали, что мы не сможем ей это запретить…
– Но вы можете, – сухо сказала я.
Я старалась не вкладывать в свои слова никаких эмоций, хотя мы говорили всего лишь по телефону, а не лицом к лицу на фоне декораций. Хулио Падилья, начальник нашего отдела, Цезарь всех наживок, был приверженцем филии Прошения, как и Вера. Поэтому говорить коротко и хладнокровно было самым верным способом не задеть его.
– Вы можете вызвать ее на дисциплинарный совет, – продолжила я. – Можете отвлечь ее от этой идеи, заняв ее репетициями – по проекту на каждую ночь. Можете послать к ней домой другую наживку, чтобы она зацепила ее Прошением. Можете посадить возле ее двери сторожевых псов…
– А еще можем сделать так, чтобы некий прорицатель поставил ее в известность о мартовских идах[17], – проорал Падилья в трубку, прижатую к моему уху.
Я говорила с ним, стоя на полу на коленях и одновременно бешено колотя по клавиатуре своего ноутбука, чтобы извлечь из нашей запароленной сети все файлы, имевшие отношение к технике Жертвоприношения.
– Хорош, Бланко. В понедельник я пошел у тебя на поводу, повелся на твои угрозы, но не забывайся, о’кей? Желаешь, чтобы мы охраняли твою сестрицу? А что предложишь взамен – деньги или свое тело? – сыронизировал он.
– Наблюдателя, – сказала я. – Прямо на блюдечке с голубой каемочкой.
Воцарилось молчание.
– Шутишь.
– Нет.
– Позволю себе напомнить, что ты больше двух месяцев пыталась его заарканить, красавица.
– Я пытаюсь его заарканить больше двух месяцев, выполняя рутинную работу, которую рекомендуют перфис. Отныне я займусь этим сама. В режиме ненормированного рабочего дня.
– Что, великая и могущественная Диана Бланко умоляет принять ее обратно на работу? – Он явно издевался. – Так не бывает, красотка, это тебе не «туда-сюда, обратно», как в сексе, детка. Представь себе административный сыр-бор, если придется снова оформлять тебя в штат…
– Но я не хочу, чтобы меня вновь взяли в штат, я собираюсь заняться этим автономно, сама по себе. Я вручу тебе Наблюдателя, не взяв за это ни одного евро. Единственное, чего я прошу, – чтобы ты не пускал на охоту мою сестру.
Опять тишина. Мне было известно, что Падилья, на свой лад, даже более политкорректен, чем Алварес, но в общении с наживками часто бывает настоящим грубияном. Поговаривали, что после несчастья с его дочкой, в результате которого она осталась паралитиком, все человеческое по отношению к службе полностью атрофировалось, и возможно, именно поэтому он и считался таким хорошим начальником. Но я старалась воззвать не к его гуманности, а к его оппортунизму.
– И мне не понадобится никакая помощь, – прибавила я, – кроме одного: устрой мне встречу с перфис завтра, с утра пораньше. Мне нужно знать о Наблюдателе все: все, что вы уже знаете, все, о чем подозреваете, все, что только воображаете, – от размера его рубашки до партии, за которую он голосует на выборах. Всю общедоступную информацию, всю секретную и всю конфиденциальную.
Смех Падильи пробился раскатами, словно звучал под сводами галереи.
– Диана Бланко, «извилина» Женса, ты не меняешься… Ну и зачем все это? Чтобы защитить сестру? Но мы не сможем контролировать Веру до тех пор, пока ты не поймаешь этого монстра, если ты его, конечно, вообще поймаешь, пойми ты, наконец…
Я это понимала и заготовила ответ:
– Дай мне неделю. Если до следующей пятницы я его не поймаю, то отступлюсь.
– Целую неделю держать на привязи Веру? Мне придется, наверное, посадить ее в тюрьму…
– Это уж твои проблемы.
Я нашла около сотни файлов на тему маски Жертвоприношения. Скачала их на виртуальную панель, висящую в воздухе, и моя гостиная засверкала огоньками, как рождественская елочка. После этого я кликнула на папки с материалами о Наблюдателе, пооткрывала и их в ожидании ответа Падильи. Он же всегда, когда предстояло принять какое бы то ни было решение, еле шевелился, как дремлющий слон.
– Целая неделя – это очень много, умница ты моя.
– Тогда три ночи – пятница, суббота и воскресенье – и встреча с перфис на завтра.
– Да ты и гребаного кролика не поймаешь за три ночи.
– А что ты теряешь, если попробуешь? Я ведь что тебе предлагаю – сменить новобранца на ветерана, причем совершенно даром, гений ты наш.
– Не думаете ли вы, сеньорита, что вся Криминальная психологическая служба Мадрида – это в аккурат то, что выскакивает из ваших гребаных яичников, какой бы Дианой Бланко вы ни были?
Я не смутилась, продолжая, пока мы беседовали, открывать новые страницы.
– Ты сам знаешь, что мне под силу поймать его, Хулио. Но мое имя даже не придется упоминать. Вся слава достанется тебе, Вера останется дома, а со мной ты сможешь сделать все, что выскочит из твоих гребаных тестикул.
Еще одна пауза, на этот раз короткая.
– Три ночи. И ни одной больше, Бланко, – сказал Падилья и повесил трубку.
9
Рикардо Монтемайор и Начо Пуэнтес, пара перфис, занимавшихся данным делом, утром в пятницу ждали меня в «Хранителях». Когда мы все уселись, Монтемайор сказал:
– Начинай-ка ты, Начо.
– Нет, please[18], давай ты. Я остановлю, если ты ошибешься.
– Уф, тогда тебе за все утро не удастся и рта раскрыть.
Мы улыбнулись. Монтемайор и Начо всегда прикалывались.
– Ну, поехали. – Монтемайор приподнял бровь. – В профиле Наблюдателя есть вещи хорошие и есть очень плохие…
– Уже ошибся, sorry[19], – прервал его Начо. – Есть вещи плохие, очень плохие и абсолютно отвратные. Последних – большинство.
– Принято. Я не намерен размениваться на придирки к вашей точке зрения, монсеньор Пуэнтес.
Начо поднял руку в знак благодарности. Монтемайор продолжил:
– В любом случае данных много. Возможно, будет лучше, если ты будешь задавать вопросы, Диана.
Я скрестила ноги и переложила в левую руку маленький ноутбук – а он помещался у меня в ладони, – чтобы правой почесаться под маечкой на бретельках.
– На самом деле, парни, вопрос у меня один, – сказала я. – Что мне сделать, чтобы порвать его в клочья за три дня?
– Вот придумаешь сама этот способ – и нам расскажешь, – откликнулся Начо.
– Дорогой ученик, – встрял Монтемайор, – сеньорите Бланко альфа нужна раньше, чем омега.
– О’кей, папочка.
Монтемайор фыркнул и снова приподнял бровь, откидываясь в кресле. Было заметно, что лет ему побольше, чем Начо, но не настолько, чтобы годиться тому в отцы. Несмотря на его лысину и седоватую бородку, немногочисленные морщинки и еще упругая кожа выдавали сорок с небольшим, хотя и подпорченные выпирающим животиком. Одевался он всегда удивительно небрежно и предпочитал (неведомо почему) милитаризованные жилеты и брюки-камуфляж, то и другое – нашпигованное карманами. Полную противоположность представлял собой Начо Пуэнтес – одетый, как манекен, из тех, что с легкостью можно себе представить в витрине шикарного бутика. Густая копна черных, зачесанных назад волос, смуглая кожа и черные глаза. Тело его, как у солиста балета, было подчеркнуто дорогими костюмами (на этот раз – приталенным коричневым от Армани) и отличалось столь совершенной красотой тридцатилетнего мужчины, что это казалось почти пошлым. Поговаривали, что он гей и что его любовник – не кто иной, как Монтемайор, однако я подозревала, что слух этот порожден завистью представителей мужского пола, склонных навешивать ярлык гомика каждому древнегреческому богу, встреченному ими на планете Земля.
Одно было верно: эти двое являлись лучшими профилировщиками всей европейской полиции, а для меня сейчас только это и имело значение. Потому что Наблюдатель был самым худшим из всего, что появилось в Европе за последнее время.
– Итак, что нам известно? – Монтемайор выстукивал что-то на маленькой клавиатуре своего ноута. – Нам известно, что это мужчина, кавказец, возраст – около сорока лет, привлекательной внешности, здоровый, умный, с высокими доходами… В общем, почти как наш Начо, – подвел он итог.
– Мое финансовое положение пока недостаточно высоко, dear professor[20], – вставил слово Начо.
– И надеюсь, для твоего же блага, что между вами существуют и другие различия, – отозвался Монтемайор. – У него имеется хорошо оборудованный дом, в несколько этажей и с подвалом или, что тоже возможно, двухуровневым подвалом. Вероятнее всего, дом расположен в окрестностях Мадрида, с меньшей вероятностью – в граничащих с Мадридом провинциях. Филик Жертвоприношения…
– И еще какой! – поддакнул Начо. – Использует веревки даже для того, чтобы зафиксировать голову жертв.
– Оставим его извращения на десерт, дорогой ученик. Сначала – альфа.
– All right[21]. А еще у него слюнки текут от черных топов, ремней, G-strings…
Монтемайор с упреком взглянул на коллегу.
– G-strings, – буркнул он. – Стринги, дьявол! Говори по-человечески, черт побери.
– Sorry, daddy…[22]
– В настоящее время живет один. Мы с Начо склоняемся к тому, что он скорее вдовец, чем ГР.
Я подняла глаза от монитора своего ноутбука:
– ГР?
– «Гребаный разведенный», – пояснил Начо, и оба расхохотались. – Судебные иски, драки за детей, астрономические алименты – в общем, сама понимаешь…
– Мы думаем, скорей всего, его жена исчезла с лица земли.
– Мы думаем, скорей всего, он сделал так, чтобы она исчезла, – уточнил Начо.
– Но не знаем, когда именно. Возможно, она стала его первой жертвой. – Монтемайор пожал плечами. – Ему понравилось, вот он и продолжил. На самом деле его эволюция отмечена знаками «Бирона-клятвопреступника», – процитировал он менторским тоном. – Мы не знаем, когда он начал, возможно, еще в юности, но со временем усовершенствовал свои ритуалы и ускорил ритм. Возможно, поначалу он странствовал, и все происходило нерегулярно. Сейчас он «Бирон» и у него есть свое постоянное место, свое «королевство». Мы полагаем, что это его дом, и именно потому считаем, что он разделен на две части: одна, верхняя, – для сознания, другая, нижняя, – для желаний.
Это я записала. Я знала, что Монтемайор имеет в виду исследование Виктора Женса о шекспировской комедии «Бесплодные усилия любви», в которой король и трое его придворных клянутся вести аскетичную жизнь, посвященную наукам, пока от своих намерений их не заставляет отказаться вмешательство четырех дам французского двора. Первым из четверых, кто решился нарушить клятву, стал персонаж по имени Бирон, и Женс назвал его именем тип преступника, который после долгого воздержания выпускает на свободу свой псином, да так, что ничто не может его остановить. Скрестив ноги, с ноутбуком на коленях, я выстукивала на клавиатуре: «Это Бирон; миновал этап подавления желаний Жертвоприношения. Сейчас все сконцентрировано в его доме, предположительно в нижней части».
Я мягко прервала Монтемайора и спросила, может ли так оказаться, что эта особенность связана с филией Взгляда, той самой, что, согласно Виктору Женсу, была ключом и символом этой комедии. Перфис согласились с моим предположением.
– Тем не менее и в этом случае нельзя сбрасывать со счетов важность визуального контакта, Диана, – уточнил Монтемайор. – Я не хочу сказать, что ему не понравится, если ты будешь на него смотреть, но его сознание в какой-то точке выжжено псиномом, и это усилило осознание им себя как доминирующего субъекта.
– Как и ритм его активности в качестве сексуального маньяка: девятнадцать жертв за восемь месяцев, – присовокупил Начо.
– Двадцать, если прибавить Элису, – сказал Монтемайор.
Я немного отвлеклась, размышляя о том, что хорошо бы снова пролистать старое исследование Мура, посвященное технике Взгляда, и мне пришлось попросить их повторить последние цифры. И я почувствовала, как меня охватывает дрожь.
– По моим сведениям, их было всего двенадцать, – проговорила я.
В воздухе между профилировщиками появился виртуальный монитор с двадцатью разложенными, словно игральные карты, лицами.
– В Управлении внутренних дел решили замести сомнительные случаи под ковер, чтобы не усиливать панику, – пояснил Монтемайор, – но штука в том, что это не только проститутки и не только иммигрантки. У нас есть несколько испанок, одна туристка-француженка, одна польская гимназистка, одна русская…
– В любом случае многие из Восточной Европы, – вставил слово Начо. – Но он все же космополит, хоть и выбирает только длинноногих: у нас имеются даже две балерины. – И подмигнул мне. – У тебя вот ноги достаточной длины. Это очко в твою пользу.
– Да я ему все яйца отобью своими длинными ногами, – отозвалась я, и Начо расхохотался. – А почему так много иностранок? Может, он и сам иностранец?
Начо покачал головой:
– Он, кто бы сомневался, гражданин мира, но каким-то образом оказывает на своих жертв успокаивающее воздействие, поэтому мы подозреваем, что он говорит по-испански и, предположительно, по-английски, причем вполне прилично, как носитель. Его pick-up[23] носит спонтанный характер, ничего похожего на «давай залезай, или буду стрелять» или, там, удар по голове, хотя уже на конечном этапе, когда он запихивает их в машину, тут уж да, в ход идут drugs[24] – сильнодействующий спрей-анестетик, который оставляет после себя запах роз.
– Бога ради, Начо! – перебил Монтемайор. – Ты хоть когда-нибудь можешь говорить, как все люди? «Его pick-up… drugs»… – Он взглянул на меня, притворно сердитый. – Извини, он в таком состоянии с тех пор, как этим летом вернулся после совместной работы с командой из Беркли… Он и мне отвечает «let’s go»[25] каждый раз, когда я спрашиваю, не пойти ли нам обедать…
– Заткнись уже, Монте, гребаный испанский son of a bitch[26], – тихонько пропел Начо.
И я улыбнулась – именно так, как следует даме, окруженной жизнерадостными кабальеро. Мне не встречался ни один перфи, который постоянно не прикалывался бы, – возможно, потому, что всю жизнь им приходится изучать под микроскопом настоящий ужас. Они шутят и прикалываются еще больше, чем судмедэксперты… и эта мысль подвела меня к следующему вопросу:
– Как вы думаете, у него есть навыки судмедэксперта?
Монтемайор поднял брови, а Начо засопел.
– Мы куда быстрей закончили бы, если взялись бы перечислять тебе, чего он не умеет, – ответил первый, очень серьезно. – Он профессионал по части забора анализов, использует лучшие системы расшифровки ДНК и стравливания отпечатков пальцев, под конец сканирует тело… Что тебе еще нужно? Он знает информатику, разбирается в медицине…
– В общем, как любой в наше время… – уточнил Начо. – Нынешний всеобщий доступ к информации виртуально делает нас экспертами в чем угодно.
– Таким образом, не обязательно, что он медик либо полицейский…
Профилировщики переглянулись.
– На сайте «eBay» продаются расшифровщики ДНК последнего поколения, – припомнил Начо.
– Любой пацан со средним интеллектом смог бы иметь те же познания, что и он, если бы поставил перед собой такую цель, Диана, – прибавил Монтемайор.
Какое-то время я увлеченно стучала по клавиатуре, а когда подняла глаза, то поймала Начо за разглядыванием моих грудей, ничем не стесненных под топом на бретельках. Ничуть не смутившись, он улыбнулся, а я улыбнулась в ответ. Как будто он хотел сказать мне: «Работа и удовольствие не есть нечто несовместное».
– А то, что вы мне уже поведали, – это хорошая часть или мы уже в худшей? – поинтересовалась я.
Начо заерзал, по его бархатистому пиджаку побежали опаловые тени.
– Мы еще и не подобрались к плохой, honey[27]. А ты что скажешь, Монте?
– Скажу, что плохая начинается, когда узнаёшь, что он – эксперт по псиномам.
– Что?
Оба смотрели на меня, подтверждая сказанное молчанием. Монтемайор указкой закрыл папку с лицами жертв и оставил ее висеть в воздухе.
– Мы уверены, что он знаком с миром наживок и избегает нас, Диана. Соответственно, с ним не сработают классические трюки. Например, возьмем костюмы. Ты, естественно, знаешь, что приверженцы Жертвоприношения реализуют захват в момент выбора. Это уже доказано. Охота может затянуться, но захват неизменно совершается при выборе, и, следовательно, внешность играет ключевую роль, так?
Я кивнула. Это мне было известно.
– Однако нельзя сказать, что каждая жертва была одета в полном соответствии со вкусами любителя Жертвоприношения. Француженка, Сабина Бернар, была одета вот в это пальто… – Монтемайор лазерной указкой тронул папку.
В полутьме комнаты, одного из четырех кабинетов перфис в «Хранителях», появилось изображение манекена в пальто. Монте покрутил его во всех трех измерениях.
– Обрати внимание на участки, исключенные квантовым анализом. Такое пальто не цепляет филика Жертвоприношения, оно, скорей, указывает на филию Обличия. Еще пример: немка, приехавшая в рамках студенческого обмена, Силке-Хедрун Ланг. Она одевалась просто, брюки на ней были свободные, вот такие. – И он коснулся красной точкой лазерной указки краев призрачных брюк, которые сменили в воздухе пальто. – Эта стертость половых различий от пояса и ниже понравится, скорей уж, филику Падения. Но Надя Хименес, проститутка, которую он умыкнул месяцем позже, разгуливала почти что голой: только цветной топ и дизайнерские очки – такой костюмчик понравится прежде всего филикам Эксгибиции. Филик Жертвоприношения не испытывает влечения к голым ногам.
Я была сбита с толку.
– Тогда почему вы рекомендуете нам выходить в костюмах для любителей Жертвоприношения?
– Потому что статистический анализ данных по костюмам показывает, что этот тип процентов на пятьдесят-семьдесят – приверженец Жертвоприношения, – пояснил Монтемайор. – А остальное распределяется между разными филиями. Мы пытались ввести кое-что из этих деталей в ваши одеяния, но пока без видимого успеха…
– А откуда они берутся, эти другие филии?
– Погоди. Мы покажем и другие примеры.
Еще одна быстрая пробежка пальцев по клавиатуре – и в воздухе повис квадрат. Соты с квадратными ячейками, в каждой из которых помещался некий элемент декораций: фонари, тротуары, стены.
– Сценарий также не очень-то вписывается во все случаи, – продолжил Монтемайор. – У нас есть свидетель похищения польской студентки Сувенки Заяц, в мае. Одна женщина как раз смотрела в окно и видела, как девушка садилась в машину…
– Она обратила внимание на марку и номер машины и запомнила их, бедняжка, – встрял Начо, – однако сеньора была уже в очень почтенном возрасте, ясное дело. Она не в курсе, что существует технология портативного скоростного тюнинга. У меня есть такая штука. Помещается в багажнике. В этом-то вся соль: можешь отогнать машину в чисто поле – и через полчаса она станет неузнаваемой. И это не считая таких изощренных методов, как… О, извините, dear professor… Я вас перебил.
Прежде чем продолжить, Монтемайор тяжело вздохнул, одновременно совершая некие манипуляции с висящей в воздухе картинкой.
– Сувенка ждала на остановке автобуса, и именно в этот момент он ее и выбрал. Взгляни на то, что ее окружало. Кукла показывает местонахождение девушки: она располагалась в углу. Довольно хорошая рамка вокруг, сказал бы я. И как только она видит, что приближается машина, она разворачивается, вот так, увеличивая тем самым вероятность того, что любитель Жертвоприношения выберет именно ее… Но смотри внимательно: вот с этого ракурса или с этого, то есть с тех двух направлений, откуда могла подъезжать машина… – Он разворачивал тело изображавшего женщину манекена в разных плоскостях, разъяв его на части, которые, в свою очередь, автономно изменяли позицию: талия, грудь, ноги… – Видишь? Сценарий, в котором он совершил свой выбор, не был чистым случаем Жертвоприношения, он гибридный – смешан со сценарием Ауры или Загадки, даже если мы примем во внимание детали поведения жертвы… Без сомнения, палач, который взял свою жертву в таких условиях, – это не приверженец Жертвоприношения, держу пари на свою годовую зарплату…
– Не ставь на кон кусок дерьма, а то нам никто не поверит, – возразил Начо.
Монтемайор его проигнорировал:
– А при выборе Геррит ван Оостен…
Я решила его остановить:
– Но ведь может быть, что не эти моменты оказались моментами выбора… – Я осеклась, увидев выражения их лиц. – Но, конечно, вы разбираетесь в этом лучше меня…
– Псином, дорогая Диана, – это математика, – холодно возразил Монтемайор. – Ты смотришь на это дело глазами актрисы на сцене, но тот, кто тебя разглядывает, реагирует точно и просчитываемо – всегда.
– Шерлок Холмс – это уж слишком «элементарно», dear Ватсон, – отметил Начо. – Сегодня каждое преступление – это уравнение, решаемое квантовыми компьютерами…
– Кончились сыщики, полицейские, судмедэксперты… – подобно прокурору, вынес приговор Монте. – Теперь в деле только компьютеры, профилировщики, наживки и Шекспир.
– Ну хорошо, – согласилась я.
– О нет, не хорошо, сеньорита Бланко, – в шутку пригрозил Начо. – Вы нас обидели.
– Лучше мы расскажем о том, что имеет к тебе самое прямое отношение, – решил Монтемайор, пока я с напускным смирением бормотала «мне очень жаль, сеньор Пуэнтес».
И вдруг в воздухе поплыли картины чистого, беспримесного ужаса.
– Половые органы жертв. – Монтемайор указал на голографии. – Неорганические объекты, обнаруживаемые в вагине, могут быть двух типов – фаллоидные и нефаллоидные. Приверженцы Жертвоприношения никогда не используют нефаллоидные объекты: это просто-напросто не их способ получить наслаждение. Но в вагине Сувенки Заяц находилось пятнадцать осколков бутылочного стекла, введенных туда один за другим при помощи щипцов. Объект нефаллоидный – осколки стекла, но в приемах их введения есть незначительный процент Жертвоприношения. Чтобы ты составила себе некоторое представление: это как если бы Начо действовал щипцами, ты лишь вводила бутылочные осколки, а я проталкивал бы их поглубже… и каждый из нас влиял своим псиномом на псином другого. А вот в вагине Вероники Касадо, напротив, не было ничего, зафиксировано только покушение на изнасилование…
– Ей было всего пятнадцать лет, понятное дело, – подключился Начо. – Это безусловный teenager[28] в группе его жертв. Среди филиков Жертвоприношения есть такие, кто не практикует проникновение в жертву, если она слишком юна…
– Принято, дорогой ученик. Но вот сломанные суставы вновь подкидывают проблему. Перелом суставов может быть открытым и закрытым, первый способ практикуется для того, чтобы облегчить доступ к гениталиям. Для палача жертвы это некий способ заявить: «Я сломал твои затворы». Наблюдатель использует специальное оборудование, чтобы сломать головку бедренной или плечевой кости и разъединить суставы конечностей. Но у нескольких жертв отмечены вывихи или ампутация фаланг. – Он пошевелил пальцами левой руки. – А это – закрытые формы, не характерные для Жертвоприношения, мой ученик, хотя анализ показывает и некоторый уклон в Жертвоприношение…
Монтемайор еще некоторое время распространялся в том же духе, несомненно, из-за уязвленного самолюбия Начо. Он говорил о «покушениях на просверливание», «незавершенных прободениях», о «гиперразрывах» и все это сопровождал иллюстрациями. Я, глядя на них, окаменела, словно под гипнозом. И даже перестала слышать медицинскую тягомотину Монте. На протяжении своей службы я поймала или помогла поймать с десяток монстров, но все еще испытывала, как и в первый день, то же изумление, тот же ужас, то же безграничное отвращение по отношению к их безумным деяниям. «Почему?» – спрашивала я себя. И хотя хорошо знала, что объяснение этому одно – псином, продолжала задавать себе все тот же вопрос: «Почему?»
Когда они принялись оживленно обсуждать различные способы разрезания анального сфинктера, я их остановила:
– Ребята, боюсь, у меня уже нет времени. Каким будет итог?
– Скажи об этом ты, Начо, – велел Монтемайор. – Не люблю сообщать плохие новости.
– Знаешь, Диана, – задал вопрос упомянутый Начо, – почему мы назвали его Наблюдателем?
– Потому что он – большой умелец выбирать взглядом. Так об этом говорят.
– Так думают многие в отделе… Но на самом деле мы назвали его так по другой причине: он ограничивается тем, что позволяет действовать другим, хотя неизменно держит все под контролем.
Я не отрывала от него глаз.
– Да-да, кто-то ему помогает.
– Минуточку, – сказала я. – Если он работает с сообщниками и позволяет выбирать им, тогда квантовый анализ показал бы совокупность различных псиномов. И тогда мы говорили бы уже о группе из двух или трех преступников или о целой банде…
– Есть исключения, хотя то, что ты говоришь, в общем верно, – согласился Монтемайор, – и вот здесь-то собака и зарыта: есть следы других псиномов, но, согласно компьютеру, их недостаточно.
– А если перевести, для чайников? – спросила я тоненьким голоском.
– Он кого-то использует, это точно. Но таким странным образом, что мы не можем установить ни какие между ними отношения, ни даже – разные ли это люди. Мы называем их «сотрудниками». Они следуют своим направляющим и порой действуют самостоятельно – как в выборе жертвы, так и в последующих играх, но в определенных точках останавливаются и иногда получают прямые указания Наблюдателя. Это очень хитрая техника, до сих пор она не фиксировалась. Поэтому мы и полагаем, что он обладает серьезными познаниями о псиномах. Он постоянно ускользает от нас.
– И мы не знаем, скольких «сотрудников» он использует, – добавил Начо. – Но речь не идет об организованной группе или о folie à deux[29]. Скорее, это что-то вроде симбиоза.
– Множественная личность? – предложила я свое объяснение, но, увидев, как они дружно отвергли это предположение, сразу же поняла, что перфис ожидали этого вопроса.
– Каждая личность имела бы один и тот же псином, и «сотрудники» не существовали бы, – пояснил Монтемайор.
– Это прежде всего приверженец Жертвоприношения, – произнес Начо. – Он перевязывает им лица – вот так и так. – И он крест-накрест приложил пальцы к своим глазам. – Чтобы обвязать голову жертвы, он использует веревку – очень тонкую. Наличие брызг спермы на лицах и на веревке говорит о том, что этот финальный сценарий его сильно разогревает. Это грандиозный любитель Жертвоприношения, равно как и грандиозный сукин сын. Но присутствуют следы и других, сотрудничающих с ним псиномов…
– А он не может имитировать эффекты нескольких псиномов?
Монтемайор улыбнулся. Начо, более почтительный (или, возможно, не желающий обижать меня, чтобы не потерять шанс пригласить потом куда-нибудь), ограничился тем, что просто не заметил моей промашки.
– Никто не может имитировать эффекты никакого пси-но-ма, Ди-а-ни-та, – произнес по слогам Монтемайор. – Лишь тот факт, что он перевязывает им лица, дает нам миллионы дифференциальных признаков псиномов, называемых микрогабаритами. Твой псином – Труд. И если тебе придет в голову кому-то перевязать веревкой лицо, ты никогда не сделаешь это так, как сделает это любитель Жертвоприношения, даже если в твоем распоряжении будет квантовый компьютер.
– Но ему кто-то помогает, – возразила я. – Почему нас, наживок, не проинформировали о том, что Наблюдатель – это не один человек?
И вот тут я впервые увидела Монтемайора раздраженным.
– Потому что это не больше одного человека, но и не один человек. И не делай такое лицо, это то, что у нас есть. Мы не знаем, что это. Если мы скажем, что вы увидите в машине двоих или троих, мы, может, ошибемся, может, они чередуются. Но это и похоже не на нескольких человек, взятых вместе, а скорее на один мозг, разделенный на участки. Может статься, что имеем дело с новой филией, но если это так – откуда такое количество Жертвоприношения?
– А что произошло с Элисой? Это был он… или они?
– Пока ничего не можем сказать – слишком рано. Центральный компьютер сейчас анализирует данные о микрогабаритах тех мест, где она могла пропасть. На это уйдет неделя. Цирк был маловероятным местом, но мы полагаем, что возможным.
– А я? – задала я вопрос. – Я собираюсь пройтись по зонам риска в ближайшие три ночи. Сколько вы будете меня обсчитывать?
– Лет тридцать по меньшей мере, – сообщил Начо.
Я показала ему средний палец.
– Вероятность, что ты его встретишь, довольно высока, – ответил Монте, почесав лысину. – Мы не хотим сказать, что он выберет именно тебя, все будет зависеть от его «сотрудников» и от того гениального трюка, который они используют. Но вероятность того, что вы пересечетесь, – больше восьмидесяти процентов. Даже если это он похитил Элису, он снова выйдет на охоту. Он пока еще голоден. Очень голоден. И не будем забывать, что, если Элиса попытается подцепить его на крючок, но потерпит поражение, он покончит с ней чрезвычайно быстро, потому что его пробьет. Она даст ему слишком большое наслаждение. Ему и на три дня не хватит.
Пуэнтес, прежде чем заговорить, провел языком по верхней губе; они, сказал Начо, разработали новые упражнения для этапа выбора и похищения, которые я смогу освоить за несколько часов. Они мне их скопируют на ноут.
– Если ты и вправду решила попытаться, – прибавил он.
Мгновение я молчала, уставившись в свой ноутбук. Внезапно перед глазами встала картина: обнаженные тела на подмостках подвала, мои коллеги и я сама, позируя, стараюсь понравиться. «О да, это я буду избрана, не они. Я». Запах согретой огнем софитов кожи, раскачивающиеся тела… превращенные затем в этот пазл голографий судмедэкспертизы. И внезапно накатила страшная усталость. Меня охватило желание закрыть ноут, подняться и уйти, забыть о Наблюдателе и о треклятом самопожертвовании, об отвратительных жертвоприношениях богине Правосудия. Но потом подумала о Вере и словно глотнула свежего воздуха.
– Хорошо, – сказала я. – Я хочу узнать, как мне превратиться в самый лакомый кусок во всей его сучьей жизни.
10
Я была монстром – и знала это. Быть им – суть моей работы.
Уже давно я перестала обманывать себя, прибегая к призракам добродетели и справедливости: я не лучше тех, кого должна уничтожать. «Нужно всего лишь стараться не быть хуже», – помнится, как-то выдала добрая душа Клаудия.
Каждый раз, когда я дома готовилась превратиться в воплощенное желание какого-нибудь монстра, чем я в данный момент и занималась, мне не удавалось избавиться от подобных мыслей. Будто сам процесс подготовки себя для них служил обвинением. «Только посмотри на себя, Диана, ты вот-вот превратишься в то, от чего слюнки текут у этой бестии, что ему больше всего нравится». И вот в этом «больше всего» и заключалась проблема. Недостаточно показаться аппетитной; чтобы понравиться ему больше всех остальных тел, чтобы он выбрал именно меня, я должна стать тем, чего он желал больше всего. От кожи до печенок я должна стать тем, что этот монстр жаждет получить, когда кусает.
«Но при этом поддерживая баланс, ведь так, доктор Женс?» – думала я, задергивая старомодные гардины в своей скромной гостиной.
«Если он будет хотеть меня слишком сильно, он просто набросится на меня и проглотит целиком, не жуя, еще до того, как я начну его обрабатывать… Как же вы говорили, доктор?» Я старалась припомнить все в точности, пока произносила вслух слово «свет», вслед за чем послушно загорелись в противоположных углах два торшера типа жирафья шея, направляя потоки света на середину комнаты. «Нужно суметь стать водой и горючим для одного огня» – так? Может, фраза и не была дословной, но, даже если и так, смысл я сохранила.
Стул я развернула спинкой к себе – она была сплошной, без единой прорези. Мой выбор пал на этот предмет мебели по той причине, что изгиб его спинки больше чего бы то ни было в моей квартире походил на поверхность колонны, о которую Женс заставлял нас тереться, когда мы изображали маску Загадки. Я убедилась в том, что ноутбук включен и лежит на пуфике с упражнениями перфис на мониторе и текстом «Сна в летнюю ночь» с пометками Женса. У ножки пуфа я поставила бутылку минеральной воды. Все двери закрыты. Половина девятого вечера пятницы, у меня три часа на репетицию.
Сначала я сделаю Загадку, а потом – Жертвоприношение.
Перфис уверяли, что быстрая маска Загадки сможет защитить меня от чрезмерного насилия в первые, самые критичные часы после похищения. «Он тебя свяжет и будет держать под рукой, полностью доступной. Ты, так сказать, окажешься в чем мать родила в центре урагана, так что постарайся соорудить себе зонтик», – говорили они.
Маска Загадки была мощным инструментом. Она базировалась на том, чтобы спровоцировать небольшой обвал реальности при помощи жестов, текста и при минимуме декораций, что может оказаться уместным, если тебе предстоит быть помещенной в тесное пространство, связанной и с кляпом во рту. Считалось, что удивление, которое эта маска вызывает в псиноме, может притормозить дикие и немедленные насильственные действия, которые способны полностью вывести наживку из строя. Пока я располагалась в центре своей импровизированной сцены и снимала сандалии, мне вспомнилось, что признанным мастером именно этой маски была Клаудия Кабильдо и что мы с ней отрабатывали ее вместе – как в экстерьерах усадьбы, так и в барселонском святилище Виктора Женса.
«Клаудия», – пронеслось в голове, и я остановилась, прежде чем снять спортивные штаны. Случайно или нет, но я навещала ее как раз этим пятничным вечером и недавно вернулась. «Клаудия – еще один монстр, как и я. Мы вместе прошли сквозь все лабиринты тьмы, разве не так? Два монстра, шагающие рука об руку в безлунной ночи безумцев». Супервумен. Ты сделаешь это.
Клаудия, мой гид, мой светоч во тьме, самый совершенный монстр, который когда-либо был создан для наслаждения других.
Пока не оказался сожран другим монстром, намного более жутким.
Клаудия Кабильдо была похоронена. Хотя иногда она что-то мне говорила, но всякий раз делала это из глубины могилы. И когда я навещала ее, то принуждала себя не упускать из виду именно эту перспективу: мне предстоит увидеть и провести некоторое время с тем, кого уже нет на поверхности жизни.
Тем не менее мне нужно было ее видеть. Случались дни, когда эта потребность ощущалась почти физически, как желание впиться зубами в какой-нибудь плод и наполнить рот его соком или подставить кожу прямо под струи дождя. Но бывало, я воображала, что желание это вполне рационально – как перенести вес тела на следующую ступеньку, когда поднимаешься по лестнице. Как бы то ни было, последние годы я приходила повидать ее именно тогда, когда в моей жизни происходило некое событие: когда мне удавалось заполучить трудную добычу, когда я терпела неудачу, когда я поняла, что люблю Мигеля Ларедо, или же когда мы с Верой ссорились. Я рассказывала ей обо всем, хотя и сомневалась, что Клаудия меня слушает.
В пятницу утром, выйдя из «Хранителей» после встречи с перфис, я вновь ощутила эту потребность. Я набрала на мобильнике ее номер, и мне незамедлительно ответил хриплый голос Нели Рамос. Да, конечно же, я могу прийти прямо сегодня после обеда, если хочу, Клау будет очень рада меня увидеть, в полшестого – просто идеальное время. Закончив разговор, я подумала, что в последние дни собиралась сходить к Клаудии, чтобы рассказать о своей отставке, но теперь мои мотивы оказались совсем другими.
Вечер выдался холодным и пасмурным. Выйдя из машины на улице Тесео в районе Лас-Росас, я взглянула на небо и убедилась, что оно затянуто тяжелыми, как раздутые мешки, тучами. Сегодня ночью – первой в моей интенсив-охоте за Наблюдателем – луны не будет. «Не в добрый час я при сиянье лунном, надменную Титанию встречаю»[30]. В то же самое время нос мой уловил аромат цветов – украшения маленького садика вокруг дома. Наш отдел принял решение нанять садовника, и Нели рассказывала мне, какое удовольствие получает Клаудия, наблюдая за тем, как он косит газон или подрезает живую изгородь и розовые кусты. Клаудия и ее растения. «Один овощ караулит другие». Шутка была жуткой и глупой, но неизменно приходила мне в голову.
И натянутые нервы – тоже нечто неизбежное. Верчение в желудке, чувство неуверенности в преддверии этой встречи. «К добру ли эта встреча при луне?» И вновь извечный вопрос: а были ли мы с Клаудией Кабильдо подругами? И, в который уже раз, тот же ответ: не можешь ты быть подругой той, с кем прошла через все. Не можешь ты в полной мере любить того, кто унижал тебя и давал тебе наслаждение в той же степени, в которой тебя игнорировал; того, кому знакомы вот эта твоя родинка возле лобка, твои ночные кошмары, как ты кричишь от боли или во время оргазма, однако кто понятия не имеет, какое кино ты предпочитаешь или нравится ли тебе смотреть, как заходит солнце.
О нас с Клаудией, бывших напарницами с пятнадцатилетнего возраста, нельзя было сказать ни что мы были подругами, ни что мы друг друга любили. Но все же было нечто, что нас объединяло, что-то более прочное, более плотское, чем кусок кожи, соединяющий некоторых близнецов.
Открыв калитку, Нели ждала меня на пороге дома. В руке она держала кисть винограда, и ягоды одна за другой отправлялись в ее рот. Она предложила и мне, но я с улыбкой отказалась.
– Привет, – поздоровалась она своим хрипловатым, но в то же время мелодичным голоском, который, казалось, воплощал всю ее двадцатиоднолетнюю историю – с момента рождения в Лас-Пальмасе.
– Привет, Нели. Я, наверное, слишком рано?
– Да нет, нормально. Заходи.
У Нели волнистые волосы цвета воронова крыла, смуглая кожа, кошачьи повадки и мускулистое тело. Когда-то она была наживкой, причем хорошей, – до девятнадцати лет, когда решила оставить эту работу. Не по какой-то конкретной причине, поясняла она, никто ей ничего плохого не сделал, но «дела нужно делать до определенной точки, а потом – перестать ими заниматься», так считала Нели. Иногда возникало ощущение, что она чего-то недоговаривает. Но если что-то за этим и стояло, то лишь ее собственные, личные тараканы. Поскольку она еще была юной, отдел время от времени нагружал ее мелкими поручениями, в число которых входил и почасовой уход за экс-наживкой, «упавшей в колодец» (причина, по которой она представляла потенциальную опасность для обычных сиделок), то есть за Клаудией. Нели так понравилась эта работа, что она попросила оставить ее при Клаудии постоянно, и даже отпуском жертвовала, чтобы вывезти Клаудию на курорт. Она готовила ей, купала, ухаживала за ней, как маленькая девочка за любимой куклой. Лично мне нравилось, что этим занималась именно Нели: она производила впечатление девушки крепкой и вместе с тем приветливой и самоотверженной.
Мы прошли через тихий холл безликого особнячка с белыми голыми стенами и немногочисленной простой мебелью. Типичный казенный дом, как и тот, в котором мы с Клаудией впервые встретились: похожие на аквариумы комнатки с замаскированными глазка́ми видеокамер, предназначенные как раз для таких созданий, какими мы были тогда.
– Ну как она? – задала я вопрос.
– С переменным успехом. – Нели обернулась ко мне, отправляя в рот последнюю ягоду и приглашая меня в гостиную. Ее спортивные тапочки бесшумно ступали по блестящему паркету. – Сегодня, на мой взгляд, она плоховата. А вот вчера приходил этот тип, ну, который за садом ухаживает, так она, подумать только, так оживилась! Не знаю, зависит… – Она пожала плечами и остановилась перед закрытой дверью. – Не уверена, но иногда мне кажется, что она прикидывается дурочкой, чтобы на нее обращали внимание… Плоха она, бедняжка, совсем плоха, моя бедненькая…
Она открыла дверь, и я вошла в комнату, которая в моих воспоминаниях переместилась на десять лет назад, в то шале, куда меня привезли, чтобы познакомить с Виктором Женсом после окончания обучения в горном поместье. Там же, в те далекие времена, обнаружилась некая скелетообразная фигурка, облаченная в похожий на ночную сорочку балахон, в соломенной шляпе, также ожидавшая представления Великому Доктору. Она свернулась в кресле, выставив одно колено, а я посмотрела на это колено и подумала, что это самая тощая и костлявая часть человеческого тела, которую мне когда-либо приходилось видеть. Потом я узнала, что обладательницу колена зовут Клаудия, что на ее скороговорке прозвучало как «Клада», поскольку она не брала на себя труд говорить размеренно, за исключением разве что театральных постановок. Еще я узнала, что шляпа не ее, что это элемент пропс, реквизита, и часть костюма, который обязал нас носить Женс (только головной убор и узенький ремешок на талии), когда мы играли Основу в финальных сценах «Сна в летнюю ночь». Мы так часто использовали эту шляпу, что она в конце концов порвалась, и я вспомнила комментарий Клаудии по этому поводу: «Ну и ну, теперь мне будет стыдно выходить голой в этой драной шляпе». Я так и покатилась со смеху от ее шутки.
Но передо мной была не та, десятилетней давности комната. И не та Клаудия.
– Привет, Сесé, – сказала я.
– Вау, смотри-ка, кто пришел. В отпуск? Едем?
– Она думает, ты возьмешь ее с собой на курорт, – смеясь пояснила Нели. – Бедняжка!
– Ты уже ездила на пляж этим летом, Сесе. – Я улыбнулась. – Что, еще раз хочешь туда отправиться?
– Гав-гав-гав, – произнесла Клаудия, вертя плюшевой собачкой, которую прижимала к себе. Довольно несимпатичная мягкая игрушка. Этикетка свешивалась у нее из-под хвоста.
– Ты знаешь, кто я? Узнаешь меня? – спросила я.
– Супервумен. Конечно же.
– Это Диана Бланко, глупышка. – Говоря это, Нели нажатием кнопки подняла рулонные шторы на окнах. – Не прикидывайся маленькой девочкой, пожалуйста. Ты же знаешь, кто она такая.
– Конечно, – заявила Клаудия и зашептала собачке: – Это Жирафа, Гав.
Я засмеялась: Клаудия еще помнила первое прозвище, которое сама мне и дала, намекая на мой рост.
Наполненная тусклым вечерним светом и запахом мокрого сада, комната казалась самым живым помещением этого дома. Парадокс, потому что она была не чем иным, как могилой Клаудии. И Клаудия находилась в ней, в саркофаге огромной софы, – такая могущественная и в то же время такая слабая.
– Жирафа, – произнесла Клаудия хриплым шепотом. – Этот гребаный дождь на сцене. На четвереньках. И снова гребаный дождь.
Я понимала, что она имеет в виду наши репетиции в полицейском театре, где в потолок сцены были вмонтированы разбрызгиватели, имитировавшие дождь. Упражнения, предполагающие мокрое тело, совершенно необходимы для некоторых масок, но я их ненавидела с особой силой…
– «А, опять этот гребаный дождь…» – Она передразнивала меня.
– Да, Сесе. – Я засмеялась, застигнутая врасплох выкрутасами ее памяти и поражаясь им. – Гребаный дождь.
Клаудии Кабильдо было столько же лет, что и мне. Но выглядела она лет на тридцать старше. Она по-прежнему была худой, как аскет-отшельник. На лице ее, казалось, остались одни глаза: синие, далекие, два магнита, два бездонных неба. Заботами Нели она была приукрашена для нашей встречи. Ее белокурые, коротко стриженные волосы блестели и выглядели только что уложенными, блузка и юбка – безукоризненно чистыми и отутюженными, а вокруг нее нимбом плавал запах лаванды. Мне вдруг подумалось, что я понимаю любовь Веры по отношению к бедной Элисе. Только не верю, что это настоящая любовь, скорее, это наша потребность найти в напарнице свое отражение и убедить себя: «Она делает то же, что и я. В этом безумии я не одинока».
Нет, я не любила ее. И на самом деле лишь притворялась, что желала ее. Но я не могла припомнить никого – даже Мигель не подходил, – с кем я могла бы поговорить откровенно, без обиняков. За исключением сеньора Пиплза, конечно, которому я пока еще не позвонила и о котором мне не хотелось думать.
– Прекрасно выглядишь, Сесе. Пляж пошел тебе на пользу.
– Да, Жирафа. Весьма.
– А я кое-что тебе принесла.
Нели оставила нас одних «до времени сока», так что я устроилась на скамеечке у ног Клаудии и вынула из кармана куртки видоискатель «гол»[31].
– Знаешь, кто это? Это сынишка Тере Обрадор… В прошлом месяце ему исполнилось пять лет, и я была на его дне рождения… Я сделала эти снимки для тебя… А вот это – Тере… Помнишь ее? – Я полагала, что она вспомнит имя раньше, чем узнает человека на этих трехмерных картинках, цветным дымом встававших перед ее глазами.
– Командирша.
– Да-да, верно, это Командирша… Она хотела, чтобы ты увидела ее малыша… Смотри, у него личико точь-в-точь мамино, лицо Тере…
Мы с Клаудией раньше частенько говорили о Тере, и было понятно, что она ее помнит, коль скоро сама назвала то прозвище, которым мы наградили ее из-за доминантных ролей, которые Женс поручал ей в наших постановках. Тереса Обрадор начинала заниматься вместе с нами, но потом оставила учебу, потому что ее мать изменила планы относительно дочери и пригрозила подать в суд, если ей не вернут чадо. В конце концов все уладилось, свелось к выплате неустойки, и, хотя Тереса чуть не слегла, оставив так понравившуюся ей работу, она получила другое образование и вышла замуж. Я была на ее свадьбе, а также старалась не пропускать дни рождения маленького Виктора (и мне вовсе не хотелось знать, почему его назвали именно этим именем). У малыша было круглое личико, как у мамы, и весь он был маленьким эльфом с пухлыми ручками. Мне так нравилось на него смотреть!
– Если хочешь, могу скопировать эти картинки на твой компьютер, – сказала я ей. Клаудия не ответила, и я внезапно почувствовала себя идиоткой, выключила видоискатель и убрала в карман. – На самом деле, Сесе, я пришла не за этим, а кое о чем тебе рассказать…
И стала рассказывать. Рассказала ей все – ей и ее мохнатой собачке. Мне и раньше приходилось рассказывать ей о Наблюдателе, так что я быстро перешла к исчезновению Элисы и к импульсивному решению Веры, которое, в свою очередь, послужило причиной для моего. Клаудия только слушала или делала вид, что слушает, широко раскрыв огромные, словно колодцы, глаза и уставившись на меня.
– Мне страшно, Сесе… Я в полной заднице… И не только за Веру страшно, но и за себя… Этот тип очень опасен… Огромная акулища… Не могу позволить, чтобы за это взялась Вера…
– Ну подумаешь, Жирафа… – произнесла Клаудия без всякого выражения.
Понимала ли она меня? Мне это было не важно. Я продолжила изливать душу:
– Не знаю, смогу ли заарканить на этот раз. Сукин сын очень хитер. Он даже перфис запутал. Знаю только, что обязана попробовать… На сегодня уже двадцать жертв, представляешь? Хищник из самых крупных, Сесе. А у меня всего три ночи до того, как выпустят Веру! Я должна это сделать… Это должна быть именно я, и как можно быстрее, но мне так страшно, Сесе… – Я чуть не разрыдалась, но тут кое-что произошло.
Внезапно пять ледяных крюков схватили мою руку.
– Ты это сделаешь, – сказала Клаудия. – Ты – супервумен.
Руки у Клаудии были такими же, как и она сама, – жилистыми, худыми, напряженными. На запястьях виднелись следы от кандалов, в которых целый месяц держал ее в заключении где-то на юге Франции этот монстр Ренар – в каком-то тайнике «с земляными стенами и скрещенными балками над головой», как снова и снова описывала его бедная Клаудия сразу после своего освобождения, уже почти три года тому назад. Каким бы странным это ни казалось, но, хотя она и пережила череду невообразимых пыток, физически Клаудия пострадала не слишком сильно. Единственной ее потерей стал рассудок: в ее мозгах Ренар сокрушил практически все.
– Ты сделаешь это, – повторила Клаудия, хотя я ни в коей мере не могла быть уверена, понимает ли она сама, что говорит. – Ты – супервумен, Жирафа.
Так мы и сидели, взявшись за руки, пока не появилась Нели с фруктовым соком. Тут я распрощалась, но всю дорогу домой слова Клаудии эхом звучали у меня в мозгу: «Ты – супервумен. Ты сделаешь это. Ты сделаешь это…»
«Сон в летнюю ночь», одно из юношеских произведений Шекспира, которое, по мнению Виктора Женса, автор создал по заказу тайного Лондонского кружка гностиков, – творение удивительное: мир фей, эльфов, аристократов и актеров-любителей, превратившихся в ослов; мир, в котором сок волшебной травы, закапанный в глаза, заставляет жертву влюбиться в первого, на кого эти глаза взглянут, каким бы ужасным он ни был, что и составляет, по Женсу, «ключ к филии Загадки».
Маска Загадки относилась к группе Отторжения, то есть к тем, в которых добыча оказывается на крючке как раз потому, что ей не нравится то, что она видит. Жесты, позы и тон голоса наживки вызывают в объекте влияния как подспудную беспокойную тревожность, так и временное подавление таких его желаний, как терзать и мучить. Впервые Женс учил меня этой маске на свежем воздухе – с проселочной дорогой в качестве декорации, и мой костюм при этом состоял исключительно из сапог и парео, скрученного веревкой и обвязанного вокруг талии, а ноги были широко расставлены. Спустя несколько лет он придумал более «элегантную» манеру ее представления: не нужны оказались ни маскарадные костюмы, ни вообще какой-либо реквизит – всего лишь некий предмет, о который можно потереться телом, как, например, мраморная колонна в доме Женса в Барселоне.
В моей квартирке не было ни дорог, ни колонн, но они были и не нужны, ведь я могла использовать спинку стула. Опираясь о нее, я сняла спортивные брюки и собиралась уже стянуть и футболку, когда один из остававшихся без блокировки каналов моего телефона вывел на громкую связь входящий звонок. Я решила послушать, но не отвечать.
– Я знаю, что ты у себя, солнышко, репетируешь, и что, если мы сегодня будем спорить, полетит к чертям весь твой театр, а я этого, честное слово, не хочу… Я скажу тебе то же, что сказал вчера, когда ты сообщила, что хочешь продолжить охоту: ты – чертова упрямица, медный лоб, но именно это мне больше всего в тебе и нравится…
Я улыбнулась, застыв в свете ламп, руки вцепились в футболку, которую я собиралась снять. И подумала, что скучаю по нему, хочу почувствовать его руки, обвившие мое тело, ощутить его губы, прижавшиеся к моим. И пока я это думала, ласковый голос Мигеля все звучал и звучал, как будто и он изливал душу перед некой далекой и опустошенной Клаудией:
– Знаешь что? С тех пор как завязались наши отношения, я живу в постоянном страхе, что с тобой что-то случится… Полагаю, это можно понять, поскольку, должен вам признаться, сеньорита, я с ума схожу по лучшей наживке мадридской полиции…
Я снова улыбнулась.
– Но, каким бы понятным все это ни было, привыкнуть к этому невозможно… Тем не менее повторю еще раз: ты – упрямица, и что-то подобное было запрограммировано… В твоих письмах всегда есть постскриптум, как говорила моя бабушка… Все, что ты начинаешь, обязательно заканчиваешь. – Он умолк на секунду, а потом прибавил: – Эта привычка, конечно, вовсе не плоха в определенных ситуациях, но мне хочется верить, что ты не распространишь этот обычай на наши отношения. Не хочу, чтобы наше с тобой когда-нибудь закончилось…
Эти последние слова он прошептал, причем как-то так, что у меня возникло желание ответить. Я громко сказала «ответить» и, когда убедилась, что Мигель меня слышит, произнесла:
– Позволь мне начать с тобой без брошенной на середине работы, прежде чем я начну думать, как бы закончить.
Короткая пауза.
– Понимаю, – согласился Мигель. – Я хочу узнать лишь вот о чем… Падилья дал тебе три ночи. Что ты будешь делать, если не заловишь его к понедельнику?
– Не знаю, – честно сказала я.
Еще одна пауза, но в конце концов он решил прислушаться к моему мнению.
– Люблю тебя, – прибавил Мигель.
– Я тебя тоже люблю, – сказала я в ответ и отключилась. И вдруг в памяти всплыли слова, которые сегодня утром я слышала от перфис: «Если хочешь, чтобы он выбрал тебя, стань полностью его, сознательно. Постарайся полюбить его…» – Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя… – громко повторяла и повторяла я, как Титания перед Основой с лицом монстра, мысленно обращаясь к Наблюдателю. – И я сожру тебя живьем, любовь моя…
И пока меня наполняла ярость, я сняла футболку.
11
Босиком, в халате, подпоясанном кушаком, мужчина вошел в небольшой подвальчик, поздоровался с помощником и поставил на единственный свободный стол свою увесистую ношу. Два пластиковых пакета, в которых помещалось почти все, что удалось приобрести в это воскресенье. Почти – потому что самые объемные предметы он оставил двумя этажами выше, в гараже.
Он запустил руки в первую сумку и вынул два пневматических степлера-гвоздезабивателя и аккумуляторную дрель, а также набор тонких сверл в красивой коробочке. Взяв ее в руки, он заметил прилипший к нижней стороне чек, отлепил его, открыл встроенный в стену мусоросжигатель и бросил туда чек вместе с пустым пакетом. Убедился, что там лежит еще несколько этикеток от предметов одежды. Закрыл дверцу и решил, что сожжет все чуть позже.
Из второго пакета были извлечены большие портновские ножницы, завернутые в пригодный для вторичной переработки материал, а также очень важная вещь – как хорошо, что вовремя вспомнил, – пневматический насос-масленка, удобный, небольшого размера. В последнее время у него были проблемы с машиной в подвале второго яруса, издававшей такие неприятные звуки при каждом использовании, что это стало уже невыносимым, а масленки со смазкой уже не помогали. Наконец он выложил на стол пузырьки с бетадином[32] и упаковки с ампулами дисодола[33], которые купил в дежурной аптеке. И аналогичным образом избавился от пакета и чека. Когда все покупки оказались на столе, появилась возможность глубоко вздохнуть и немного успокоиться.
Он был слегка раздражен: было воскресенье и ему пришлось спешно разыскивать какой-нибудь работающий торговый центр. Обычно покупки он совершал не спеша, в старых специализированных магазинах в центре Мадрида, которые предоставляют скидки постоянным покупателям, или через свои интернет-контакты. Но на этой неделе работы было выше крыши, просто с ума сойти, ни малейшей передышки, поэтому, когда в субботу вечером стало ясно, что нужно срочно заменить некоторые инструменты, пришлось отложить это до воскресенья. Он остановил свой выбор на «Леруа Мерлен», несмотря на то что ненавидел эти огромные площади, утыканные фальшивыми предложениями, где и поторговаться-то невозможно, не то что с владельцами небольших магазинов или с продавцами в Сети.
Да еще царапина. Он вновь обратил на нее внимание и стал разглядывать в синеватом свете флуоресцентных ламп, освещавших помещение: почти прямая красная линия в четыре с половиной сантиметра шла по тыльной стороне ладони, начинаясь от большого пальца. Где-то он читал, что царапины и укусы человеческих существ очень опасны, и поэтому, едва добравшись до дома, шесть раз промыл эту царапину: три раза обычным мылом и еще столько же – с использованием хипосана, хирургического антисептика. Кровить она уже перестала, и даже воспаление вокруг уменьшилось.
Конечно, эта царапина беспокоила его куда меньше, чем другая.
Но он решил забыть об этой истории, для чего существовало неизменно эффективное средство: вспомнить в последний раз и вышвырнуть в мусоросжигатель своей памяти.
Царапиной на руке он был обязан этой девице. Возможно, что той, другой, тоже, но в этом он уверен не был.
В появлении первой частично была и его вина, поскольку еще до схватки он обратил внимание на ее ногти – длинные и заостренные, с ободранным лаком, что, по всей видимости, означало, что ногти не были накладными и что она пользовалась ими вовсю. Взрывная малолетняя кошка. У нее наверняка имеется какая-нибудь воинственная татушка на пояснице или на лобке, изображающая некую якобы эзотерическую глупость, а может, еще и пирсинг в самых деликатных местах. На первый взгляд она показалась ему индуской – из-за черт лица и смуглой кожи, но потом оказалось, что она латинос, кто его знает, из какой страны, с их-то мозаикой разных акцентов. Парня, с которым она была, он почти что не видел, но мог себе представить длинные патлы и голые бицепсы с татуировкой.
Несмотря ни на что, он считал, что ему повезло. Он только-только покончил с покупками в «Леруа Мерлен» и решил оставить запасные гидравлические салазки в камере хранения, а на подземную парковку спуститься только с двумя пакетами. Если бы он провозился подольше, стараясь спустить в паркинг все покупки, то, вероятно, сейчас сидел бы в полиции и писал заявление. Но судьба распорядилась иначе, плюс еще и то обстоятельство, что дело было в воскресенье и парковка торгового центра практически пустовала. Всего одна машина заслоняла его новенький универсал «мерседес-блюфайер», так что он сразу заметил, еще издалека, какие-то тени вокруг своей машины.
И сразу же понял, что происходит. Поставил пакеты с покупками на пол и подошел поближе со всей осторожностью, на которую был способен, однако ее оказалось недостаточно, и девица – а она стояла на стреме – заметила его и предупредила сообщника.
– Эй! – закричал он, увидев, что они дали деру. – Эй!
Парень драпал изо всех сил, только пятки сверкали, и его было уже не догнать, а вот ее он вполне мог бы сцапать. И пока он ее догонял, первой мыслью, которая пришла в голову, как ни странно, было вот что: «Ну и ну, а волосы у нее в точности как у Джесси». Потому что у Джесси волосы были как раз такие – это было видно, несмотря на то что на макушке у девицы сидела черная вязаная шапочка, – длинные, темно-каштановые, прямые, как шарф, пряди. И конечно же, Джесси была такой же худенькой и такого же небольшого росточка. Он очень хорошо помнил Джесси, хотя со времени ее смерти прошло больше десяти лет.
Как бы то ни было, он прибавил скорости, и ему удалось схватить девицу за рукав задрипанной черной курточки.
– Эй! Эй! – повторил он.
– Пусти меня! – крикнула девчонка.
Он сказал «ладно-ладно», но не отпустил. Наоборот, воспользовавшись тем, что она отвлеклась на крик, схватил девицу за обе руки. Это было не очень сложно. Он развернул ее к себе лицом, они схватились, и в ходе борьбы она наверняка его и оцарапала.
– Тсс… – шипел он, волоча девчонку, словно и никакого веса в ней не было, к стене возле своей машины и стараясь пресечь ее истерику, зажимая ей рот рукой. – Тихо, тихо ты, слушай… Ничего я тебе не сделаю… А если будешь кричать, охранник парковки выглянет-таки из своего окошка, услышит, и у тебя будут проблемы… Вызовут полицию. Тебя арестуют, понимаешь? Так что успокойся.
Он медленно-медленно разжал и отвел руки, но не слишком далеко. Как только он ее выпустил, верткая фигурка отделилась от стены и повернулась перед ним, как звезда футбола в ловкой обводке. Но он этого ждал и был готов. Он снова схватил ее, и рука вновь накрыла ей рот, приглушив крик.
– Видал я таких, как ты, в участке, – сказал он. – Это на редкость паршиво, даже если тебя скоро отпустят. Тебя заставят встать под душ, и кто-то будет смотреть. Может, даже мужики, сечешь? – Ему доставляло удовольствие говорить эти глупости и наблюдать, как она хмурит густые черные брови поверх его руки, зажавшей ей рот. – Тебя, может, скоро и отпустят, но, уверяю, это будет хреново…
– Я… ничего не делала… – простонала она, когда он дал ей такую возможность.
– Вы пытались ограбить мою машину. И я сказал бы, что это – кое-что.
– Нет… Я – нет…
Теперь, когда девчонка выглядела посмирнее, он чуть отодвинулся, чтобы рассмотреть ее. Тут же заметил бившую ее дрожь, от которой у нее стучали зубы, и блеск пота, покрывавшего ее лицо. И вспомнил, что ни о ком не стоит судить только по внешнему виду: он хорошо знал, что нет деления на только белое и только черное, а есть бесконечная гамма серого с палитрой тончайших оттенков. Тем не менее, к своему вящему огорчению, он признал, что поведение, какое продемонстрировала эта девица, вполне оправдывало идеологию правых, которые, похоже, неизменно полагали, что любые меры по обеспечению безопасности не будут в Мадриде излишни. И это напомнило ему прогрессистский либерализм Кристины, его последней подруги сердца, двадцати трех прелестных лет.
– Знаешь, что ты такое? – спросил он вежливо.
– Отпустите… меня… пожалуйста… – молила девица, прижавшись к стене.
– Знаешь, что ты такое? – настаивал он.
– Я… Меня зовут… – Она назвала ему имя, даже возраст, то и другое – липа, конечно.
Он спокойно улыбнулся, глядя ей в глаза.
– Я не спрашиваю тебя, кто ты. Я спрашиваю тебя: знаешь ли ты, что ты из себя представляешь? Скажу тебе кое-что: у тебя ведь ломка, да? И с каких пор ты употребляешь? Ты же, верно, не берешь эту новейшую дрянь, которая в хлам разносит мозги, так? Слушай, ты смотришь эту программу на «Молодежном канале» – «Будь собой!»? Которую ведет Мишель, блондинистая докторша, немка? Пару недель назад там как раз говорили об этом новом наркотике и брали интервью у парней, которые его использовали. Бог мой, неужели не видела? Мишель их выгораживает, но… Как можно оправдывать это ужасное состояние, в котором они находятся? Это были мумии. И того хуже – девчонки твоего возраста выглядели как парни. Просто пьянчуги из кабака – матюгаются, плюются. Не видела?.. Ладно, погоди… У меня кое-что для тебя есть.
Она его не слушала – с тоской озиралась по сторонам, и в углах похожих на стеклянные шарики черных глаз при движении оставались полумесяцы цвета слоновой кости. Однако, когда он вынул бумажник, взгляд ее остановился на его руке.
Мужчина похрустел у нее перед носом банкнотами. Потом вынул и вторую руку:
– А здесь у меня визитка с номером телефона. Это частная клиника. Можешь позвонить и записаться на прием, скажешь, чтобы записали на мой счет. Никаких тебе листов ожидания, никаких пяти минут на пациента, ни таблеток, чтобы сама справлялась. С тобой будут обращаться, как с королевой, снимут ломку, вылечат. Можешь выбрать одно из двух. – И он затряс руками, показывая евро в одной и визитку в другой, как фокусник. – Выбирай сама: продолжать травиться всякой дрянью и гробить свою жизнь или покончить с зависимостью и придать новый смысл своему существованию, доказать, что врут те «респектабельные» граждане, которые утверждают, что вы – быдло, отбросы человечества…
Девушка застыла, глядя на него в полной растерянности. Пряди темных волос выбивались из-под шерстяной шапки, спускаясь капюшоном, а металлическая висюлька на шее поблескивала, когда тяжелое дыхание вздымало ее тощую грудь.
– Почему… Почему вы делаете это? – спросила она.
Он только пожал плечами. Девчонка взглянула на него еще раз и внезапно, молниеносным движением змейки, вырвала деньги и метнулась прочь. Только ее и видели. Мужчина улыбнулся, убрал карточку – вовсе не частной наркологической клиники, а фитнес-салона – и подавил смех, подумав о том, что деньги, которые вырвала у него девица, были ее собственными деньгами: пара мятых пятиевровых бумажек, которые он вытащил из кармана ее же куртки, когда они боролись. «Ты воруешь – и я ворую», – подумал он. И сказал себе, что у него неплохие перспективы стать карманником. Недолго порадовавшись собственной шутке, он принялся раздумывать, покачивая головой. Разумеется, с самого начала было ясно, что она выберет. Неужто можно было думать, что эта маленькая обдолбанная воровка предпочтет исправление, лучшую долю? Так было всегда, так и теперь: золото превыше свинца, видимость превыше искренности – ларцы Порции[34]. «Мадрид – он не уступит другим метрополиям в лицемерии», – сказал он себе.
Сначала мужчина почувствовал, как саднит царапина на руке – кровь уже выступила, – и утешил себя тем, что дома есть все, что нужно для дезинфекции. Сходил за оставленными пакетами, потом вернулся к машине, положил покупки в багажник и, прежде чем отправиться в камеру хранения за своими гидравлическими салазками, уступил желанию проверить, все ли в порядке с его великолепной машиной.
И тут он ее увидел. Другую царапину, на этот раз – на кузове цвета синий металлик, возле ручки водительской дверцы, кривую, короткую, но заметную, – без сомнения, след какого-то инструмента в неловких, дрожащих руках токсикомана.
Дом стоял в горах, в окружении леса. «Уединение и природа в непосредственной близости от столицы», – утверждало рекламное объявление агентства, которое и привлекло его внимание к этому дому. Это был старинный охотничий павильон, принадлежавший аристократическому семейству, однако единственным, что он счел нужным оставить из прежней обстановки, был табурет, что стоял в верхнем подвале. Порой он клал на него изодранную одежду.
Мужчина вел машину в приглашающей к медитации тишине, нарушаемой только ровным гудением двигателя. Эта тишина напомнила ему собственную библиотеку, книжные полки в которой доходили до потолка, и, по простой ассоциации, одну студентку филологического факультета, в круглых очках, с которой он познакомился пару месяцев назад. Он взглянул на небо и увидел, что его вновь затянули серые тучи – все выходные одно и то же – и ночью опять будет дождь. Свет, сеявшийся сверху, был каким-то грязноватым, словно проходил сквозь дно бутылки.
Пока мужчина парковался возле широких въездных ворот, под колесами шуршала палая листва. Слева – дверь в гараж, где нашли пристанище две другие машины, а также несколько аппаратов для кузовных работ и автоматической покраски. Он подошел к этой двери, достал пакеты с покупками и новые салазки, но воспользовался главным входом в дом и, взмахнув рукой, включил свет в столовой. В доме царила невозмутимая тишина и покой, напоенные ароматами средств для ухода за мебелью и интерьерных дезодорантов. Новая горничная, приезжавшая из городка Сиемпосуелоса и бравшая за свои услуги по часам, оказалась подходящей. Прежняя – сеньора в возрасте, румынка, работавшая в доме со времени его покупки, позвонила пару недель назад и сквозь слезы сказала, что сын у нее серьезно заболел и что ей очень жаль, но она пропустит несколько дней, потому что нужно съездить на родину. «Это ненадолго, всего на пару дней», – сказала она. Бедная женщина казалась настолько огорченной как необходимостью оставить работу, так и болезнью сына, что он стал ее утешать. Никаких проблем, она может отсутствовать столько, сколько понадобится, главное – здоровье сына. Повесив трубку, он заблокировал для входящих вызовов ее телефон, стер ее номер из адресной книги и договорился в агентстве о найме другой девушки, которая должна была выйти на работу на следующий же день. Когда румынке все же удалось с ним связаться – окольными путями, после недели безуспешных попыток дозвониться, – он сообщил ей, что она уволена.
Новая девушка была всем хороша: достаточно глупа, чтобы не проявлять любопытства, и достаточно понятлива, чтобы не осложнять ему жизнь больными детьми.
– Привет! – громко произнес он. – Я вернулся. Привет! Эй, помощник?
Но ответа не было.
Его «помощника» – имя он придумал сам, и оно нравилось им обоим – на этом этаже не было. «Он, наверное, внизу», – подумал мужчина.
Насвистывая мелодию из старого фильма, он вошел в свою спальню, поставил пакеты на пол и прошел в ванную комнату. Там он тщательно промыл царапину на руке, использовав два вида мыла. Затем помочился и немного поиграл со своим членом: вытянул его, зажав между указательным и большим пальцами, и стал поглаживать головку до тех пор, пока не почувствовал, как плоть твердеет. С торчащим из брюк членом он вернулся в спальню и полностью разделся, швырнув одежду на пол – лыжную куртку, джемпер, футболку, брюки, носки, даже наручные часы, они же компьютер.
И тут он закричал.
Рот широко раскрылся, из него полетели брызги. Вены на шее вздулись, лицо побагровело. Он стоял напротив стены, приняв позу дуэлянта, вызывающего противника на поединок без правил, в котором дозволено все. Не переставая выть, он поднял кулаки и стал бить – раз, другой, третий, четвертый – в стену. Ощутил боль, но этого было явно недостаточно. Девчонка, царапина на руке, царапина на дверце… образы, которые крутились перед глазами. Знаешь, что ты такое? Знаешь, что ты такое?
Вопли и удары прекратились, но он все еще чувствовал ярость. Повернулся к тщательно заправленной, как он и требовал, кровати, сорвал покрывало и простыни, сдернул наволочки с подушек и принялся все это раздирать. К его ногам огромными разноцветными лепестками падали лоскуты. Это зрелище заставило его вспомнить о необходимости придумать какой-нибудь более простой способ избавляться от тряпок, уже прошедших через сканер чистоты. Было утомительно таскать все это с первого этажа к мусоросжигателю в подвал, да еще рискуя уронить по дороге и не заметить какую-нибудь мелкую вещичку, этикетку или лоскуток. Так же внезапно прорезалось другое воспоминание: однажды, когда ему было двенадцать, одноклассник разрисовал каракулями всю его тетрадку.
Вдруг пришло облегчение. Руки болели, но, осмотрев их, он убедился, что не разбил костяшки, колотя в стену. Он открыл шкаф, достал халат цвета фасоли, накинул его. Постель выглядела кошмарно, и оставить ее так было невозможно: утром ее увидела бы приходящая горничная. Но он решил, что наведет порядок позже, снова взял пакеты и вышел – в халате и босиком – из спальни. Прежде чем спуститься в подвалы, он на секунду остановился перед дверью второй спальни. Интерьер этой комнаты был еще более минималистским, чем у него. Заглянул и убедился, что там никого нет. «Он внизу», – уже с полной уверенностью решил мужчина.
Миновал гостиную, затем кухню и подошел к гаражу. Ему понравилось – босым и голым под халатом – проделывать эти манипуляции: открыть большую, запертую на электронный замок дверь, вставить на нужное место гидравлические салазки и снова все закрыть. Затем мужчина остановился перед тремя выстроенными в ряд компьютерами, которые через спутник держали на контроле съезды с шоссе на подъездную дорогу, обеспечивали блокировку доступа в дом, тревожную сигнализацию и мониторинг новостей. Он открыл окна с новостями и ознакомился с последними мадридскими событиями: полиция расследует дело, связанное с так называемым Отравителем и его до сих пор не установленным токсичным веществом. Это его не интересовало, но были и новости об «убийце проституток», и он просмотрел их очень внимательно. Подумал, что следует обзавестись мультикомпьютером, который избавит его от головной боли – трех выстроенных в ряд ноутбуков. Но он предпочитал подождать, заказав его доставку по частям, чтобы потом собрать самому: это дешевле и оставит меньше следов. В жизни вообще самое главное – уметь выждать, сказал он про себя, припомнив, как ему удалось-таки подкараулить мальчишку, размалевавшего ему тетрадь, после целой недели слежки за ним и изучения его привычек, и размозжить ему череп стальным прутом, украденным в одной мастерской. Шейлоком он себя не считал, однако прощать фунт мяса никак не собирался[35].
Подумав об этом, он вспомнил, что как раз на этой неделе нужно перечитать «Венецианского купца». Пьеса посвящена филии Обличия, суть которой без остатка сводится к словам: «Не все то золото, что блестит», как это и происходит с выбором одного из ларцов Порции. Знать врага – это важно.
Держа оба пакета в одной руке, другой он разблокировал вход в подвалы и ступил на лестницу, по которой порой он заставлял их спускаться – голыми, подгоняемыми ударами ремня.
Восстановив душевное равновесие в маленьком подвале, мужчина обернулся к своему помощнику. Велел ему остановиться, протянул руку и пощупал пульс на шее у девушки. Она все еще была ничего, довольно крепкой, а с обезболивающим и бетадином раны на груди и бедрах не представляли непосредственной угрозы для жизни. Отметил, что она выпила достаточное количество воды. И прикинул, что они смогут продержать ее у себя еще дня два.
Он присел перед ней на корточки и улыбнулся, отводя пряди волос с ее лица. Девушка со связанными над головой руками стояла на коленях, кричать она перестала и только тихо стонала, кусая веревки, крест-накрест пересекавшие ее лицо.
– Знаешь, что ты такое? – шепнул он.
Какой-то хриплый звук родился в ее молодом горле. Мужчине она напомнила ту воровку-латинос из торгового центра.
– Знаешь, что ты такое? – повторил он свой вопрос и указал, забавляясь, на ее грудь. – Выбирай: фунт мяса или деньги?
Ответа он не получил. Стало очевидно, что им нужен новый материал.
Он поднялся, а помощник вновь встал на колени и возобновил сверление. Действовал он очень аккуратно и четко. Ему, казалось, было скучно.
Мужчина взглянул на монитор подвального ноутбука, контролировавшего работу токарного станка, чтобы узнать, который час. Десять минут восьмого, времени с избытком, чтобы съездить в Мадрид. За другой.
– Прими душ и переоденься, – приказал он помощнику. – Мы уезжаем.
12
Я верила в то, что была избрана. Верила в то, что это они.
Они куда-то везли меня – на большой скорости, по темному шоссе. Предполагаемый «помощник» сидел рядом со мной на заднем сиденье. Тот, кто был за рулем, при этом не переставая говорить, был приверженцем Жертвоприношения – мой кандидат на роль Наблюдателя. Он весело поглядывал на меня в зеркало заднего вида, наполняя весь салон раскатами своего голоса:
– Нам больше подходят те телки, которые идут на все… А, черт возьми, ты и сама знаешь. Без ограничений. Из тех, что становятся на четвереньки и дают тебе делать все, что захочешь… Доступно выражаюсь?
– Да ладно, Лео… – вставил слово мой сосед. – Елена – девушка более высокого класса…
– Ладно, какой бы там класс ни был, но делать она будет то, что нам нужно. – Его глаза искрились весельем. – Верно, красавица?
– Вы платите, вы и командуете.
– Ах черт, видал, Педро? Девушка практичная.
Машина неслась все быстрее и быстрее, как и мой пульс. Я чувствовала напряженность, во рту пересохло, в голове – одна мольба: хоть бы я оказалась права. «Это они. Должны быть. И есть». Был воскресный вечер, почти уже час ночи, последний день отпущенного мне Падильей трехдневного срока. Я думала о Вере, о том, что начиная с завтрашнего дня уже никто не сможет удержать ее. Я думала, что время мое истекает и что две предшествующие ночи обернулись полным провалом. И я ухватилась за раскаленный гвоздь этой последней возможности, потому что других у меня не оставалось.
Меня выбрали в одной из охотничьих зон, в придорожном баре, пока я поправляла ремешок на сапоге, поставив каблук на стул, – типичный для Жертвоприношения жест. Это наводило на мысль, что банкетом у них заправлял сеньор Черт-возьми, а Педро был ведомым. Чуяла я: что-то в этой парочке есть. Меня они жаждали, это было ясно. Если бы взгляды были водой, с меня бы уже капало. Да и выделывались они, особенно Лео. За его бравадой крылось что-то еще, не только полоска неококи, которую он, кто бы сомневался, уже принял.
– Нам наконец повезло, а, Педро?
– Конечно, Лео.
– Четыре чертовых часа круги нарезали на машине – и ни одна стоящая не подвернулась… И что с твоими коллегами приключилось, красотка? Попрятались, что ли?
– Дело ясное – последствия истории с «убийцей проституток», Лео, – сказал его дружок.
– Ба, да этот тип – просто коллаж из газетенок. Я в него не верю. А ты веришь, детка?
– Елена знает, что с нами она в безопасности. – Педро снова ответил за меня.
– Ну, головой я бы за это не поручился. – И Лео разразился гоготом. – Но суть в том, что мы, видишь ли, по крайней мере, подцепили одну, на вид хорошую.
– Хорошую, красивую и серьезную.
– Даже слишком серьезную, а? Но, черт, я-то знаю таких девочек… Вначале такие серьезные-пресерьезные, а потом, слышь, поворачиваются к тебе задом и показывают тебе все-превсе, а?
Сеньор Черт-возьми, мой любимчик, казалось, слился с педалью газа, так что они стали единым целым. Он не переставал давить на нее, как не переставал и говорить, широко открывая рот и брызгая слюной. Говорил он с канарским акцентом, который все усиливался, будто Лео неделю сдерживался, а теперь дал себе волю. Волос у него не было, и голова отблескивала, словно пластик, в тусклом свете салона «ауди». Зато имелась аккуратная бородка клинышком, а под ней – двойной или даже тройной подбородок, наводивший на подозрения: не надел ли он пару резиновых масок? Он был толстым, но не сказать что неухоженным: такая комплекция, пущенная на самотек, может превратить тело в огромную котлету. Но его обладатель явно прилагал усилия, чтобы этому воспрепятствовать – при помощи тренажерного зала, «здорового» питания и, возможно, еще и тай-цзи, практикуемого совместно с коллегами-бизнесменами.
И его филией определенно было Жертвоприношение. Огромный, экспансивный, из тех, кому трудно смотреть в глаза, потому что это все равно что смотреть на голодного пса. Это желание и заставляло его притворяться. Сеньор Черт-возьми запускал шутихи и скрывал от чужих глаз вулканическую магму. А там, в глубине, могло быть все что угодно.
Я верила в то, что это – безумие.
– Не обращай на него внимания, – проговорил его приятель, сидя за его спиной, но всем телом развернувшись ко мне. – Лео – в некотором смысле бестия, но очень хороший человек… Береги силы, Лео. Сеньорита просто тащится от тебя.
– Да, береги силы, Лео, – сказала я.
Лео хохотнул, но его приятель лишь улыбнулся, глядя на меня в полутьме салона, словно хотел сказать: «Мы с тобой разделяем нечто, что Лео понять не способен». Внешность Педро прекрасно гармонировала с его поведением: стройный, с ухоженной бородкой и большими красивыми глазами, в которых смерчем закручивалась его собственная филия. Мне удалось установить, после получасового тестирования различными жестами, что его филия Жидкость и он склонен заглотить крючок базовой маски с изменчивым поведением. Я обнаружила логику в том, что один из «помощников» Наблюдателя – филик Жидкости, потому как именно эта филия может обнаруживать свойства других, и, возможно, именно в этом и коренились сомнения перфис. Филик Жертвоприношения, которому в выборе помогает филик Жидкости, – чудное сочетание, дававшее мне надежду на успех. Но точно так же они могли оказаться двумя скучающими yuppies[36] в дорогих костюмах и с дорогими авто, решившими развеяться после занюхивания дозы новомодного кокаина, из тех, что продаются в Сети. Реклама утверждает, что они лишены побочных эффектов и обеспечат тебе волшебную эрекцию. Проверить это утверждение на практике время явно не пришло.
– Далеко еще? – спросила я.
Лео, который наконец-то умолк, ограничившись трудновыносимым мурлыканьем, безбожно коверкая мелодию Hard Mess, сказал: «Да всего ничего», в то время как его дружок отвечал мне «нет».
– Мы уже близко, – прибавил Педро успокаивающе.
– А в чем дело, Еленочка, русская шлюшка? – взорвался весельем Лео. – Ты что, спешишь?
Ему нравилось, как он сам сказал, называть меня русской, хотя ему прекрасно было известно, что русской я не была. Его забавляли и другие вещи, в которых он пока не признался.
– Нет, не спешу, но и всю ночь на вас я потратить не могу. И потом, вы говорили, что дом близко, лысый ты козел.
– Как-как ты меня назвала?
Педро хохотал. Лео вывернул толстую, как у быка, шею, и машина пошла по дуге, отчего зазвенели бокалы для мартини на столике мини-бара между мной и его приятелем. И завизжал, обращаясь ко мне:
– Эй ты, супершлюха, мы заплатили тебе уже больше, чем ты зарабатываешь за целый месяц, разве не так? А вторую половину заплатим под конец. Так что нечего, черт тебя побери, подгонять. Вот дьявол! Ты снята на всю эту гребаную ночь, слышь? Ты – наша.
– Нет, не слышу. Погромче крикнуть не можешь?
Я рассчитывала раскручивать провокацию понемногу, пошагово. «Скинь же маску, Лео, ну давай, покажи, какой ты мачо и какой ты чокнутый…» Под предлогом, что мне нужно подтянуть сапог, я наклонилась и, выпрямившись, улыбнулась, потом сделала серьезное лицо, потом потянулась. Этот букет движений ублажил вечно изменчивого любителя Жидкости – из его глаз, казалось, снопами бил свет. Пригласив в машину, они сразу же усадили меня на заднее сиденье, и я выбрала следующую тактику: держать Педро на грани зацепа, а Лео предоставить полную свободу проявить себя. Педро закончил хохотать и прокомментировал:
– А ведь сеньорита права, Лео, мы сказали, что дом совсем рядом…
– И что из того? Еще и часу нет. Тебе что, к мамочке пора, сучка? Или ты боишься девственности лишиться? Тебе ведь заплатили, так? Ты – наша на всю ночь, так что захлопни свой гребаный рот, пока я не велел тебе его раскрыть, и пошире. Черт возьми, закрой свою пасть, а? Заткнись!
– Пожалуйста, Лео, хватит уже, – взмолился любитель Жидкости. – Елена будет слушаться.
Время, когда я должна была превратиться в покорный деликатес для Лео, еще не пришло, так что я промолчала. Педро снова взглянул на меня:
– У Лео свой характер, у меня свой. Но мы славные парни, можешь быть уверена. Тебе будет хорошо. Твое здоровье!
Он поднял бокал мартини, и мы снова выпили. Я верила в то, что в моем бокале – наркотик. Или в то, что кто-нибудь из них обрызгает меня анестезирующей дрянью с запахом розы. Я верила, верила.
Потягивая мартини, я перестала слушать и Лео, и его статиста и снова принялась разглядывать салон, как и сразу после того, как села в машину. Меры безопасности были налицо: подавитель мобильной связи – на щитке приборов, блокировка дверей, красный глазок сканера – чтобы удостовериться, что у меня при себе нет и перочинного ножика, и радар – это на предмет машин вокруг. Обычные игрушки тех, кто желает для себя безопасности и приватности. Итак, я – пленница: ни тебе возможности позвонить по мобильнику, ни отследить твое местонахождение группой дальнего радиуса действия, сижу в «ауди», который, словно болид, несет меня бог знает куда. Вероятно, они накачивают меня наркотиками. Эти двое – настоящие сукины дети, сомнений нет.
Но мне было нужно, чтобы они оказались моими сукиными детьми.
В первую из трех ночей, в пятницу, я еще была полна оптимизма. Я побывала в большей части наших зон охоты – во всех, что считались высоковероятными, и в половине с низкой вероятностью. К исходу ночи я вконец измоталась, а результат при этом – нулевой: несколько пьяниц, разрозненные группки хулиганья, чьи лидеры оказались приверженцами Жертвоприношения, да еще полицейский с той же филией, который не спускал с меня глаз и ходил по пятам, пока я не поняла, что он и пытаться не будет что-то со мной сделать. Но я еще рассчитывала на две ночи, остававшиеся в запасе. В субботу мне попались два потенциальных кандидата на здоровенных машинах, оба остановились возле меня – первый на шоссе, в районе ночных клубов, а второй в городе, недалеко от площади Санта-Ана. Относительно первого скоро стало ясно, что он ложноположительный – пьяный любитель Разморожения, который закончил тем, что поведал о том, как плохо обращалась с ним его мамочка, и вышвырнул меня из машины. Другой отвез меня подальше, расстегнул ширинку и потребовал, чтобы я поработала ртом. И я тут же его оставила, поскольку точно знала, что моя тайная любовь никогда не покажет мне член в момент избрания.
Воскресным утром, когда у меня уже раскалывалась голова – от усталости и напряжения, я наполнила горячей водой с пеной свою малюсенькую неудобную ванну и кое-как залезла в нее, подтянув свои далеко не короткие ноги. Выключила верхнее освещение, оставив только лампочки по углам – «холодный свет», без риска устроить короткое замыкание. То, что получилось, весьма напоминало знаменитый этюд на тему маски Жидкости. Горящие лампочки и пар от ванны вызывали в памяти фонари в тумане – место действия Джека-потрошителя, в лондонском районе Уйатчепел. Еще один «Наблюдатель», занимавшийся потрошением своих проституток в том Лондоне, который еще ничего не ведал ни о масках, ни о псиноме, а Шекспира считал всего лишь гением отечественной литературы.
Отмокая в ванне, я произнесла номер телефона Мигеля. Его чудный голос (боже, как я по нему скучаю!) прозвучал мягче теплой воды, омывавшей мою кожу.
К сожалению, все остальное оказалось не столь приятным.
– Я не могу надавить на Падилью, чтобы он дал тебе еще несколько ночей, солнышко, – сказал он, выслушав мою просьбу. – Ты и сама знаешь.
– Честно говоря, не знала, – ответила я, вдруг почувствовав раздражение. – Я-то думала, что ты – заместитель директора по подготовке наживок. Я прошу всего лишь…
– Диана…
– Я прошу всего лишь, – упрямо продолжила я, – чтобы ты и дальше вызывал Веру в театр по ночам и заставлял ее репетировать, скажем, в течение недели. Всего лишь об этом. Я что, должна написать официальное ходатайство? Подписать документ?
– Диана, солнце мое, ты не можешь и дальше заниматься этим одна…
– Мне уже восемнадцать, папочка.
– Я не твой отец и не претендую на эту роль. – Как и все оскорбленные мужчины, Мигель отреагировал с внезапной напускной холодностью. – Но, если честно, дело в том, что ты, по-моему, несешься прямиком в пропасть, причем в одиночку… Даже если бы он избрал тебя… Ты знаешь, что такое Наблюдатель? Для наживки он – билет в один конец… Если хочешь покончить с собой, попробуй бросить в ванну включенный фен… Выйдет гораздо быстрее и не так мучительно…
– Эта хрень, что ты несешь, здесь не в тему… Я – наживка. И делаю свою работу. В тот день, когда я захочу уйти в отставку, я тебе об этом сообщу…
– Ты хотела уйти в отставку неделю назад.
– А два дня назад попросила вернуть меня в штат.
– И тебе это удалось. Падилья дал тебе три ночи. Сегодня – последняя.
– Что ж, большое спасибо за помощь, – сказала я, но не отключилась.
– Диана, ты не сможешь сделать этого ни за три ночи, ни за десять… Этот тип что-то использует, какой-то трюк, чтобы избегать выбора в соответствии с псиномом… Никто не знает, в чем фокус. Мы все в растерянности.
– Он уже выбрал одну наживку, может выбрать и другую. – Я поднялась в ванне и смыла с волос мыльную пену.
– Этого мы тоже не знаем. Элиса исчезла, это верно, и предварительное расследование указывает на него, но мы до сих пор ждем квантового отчета. В Мадриде есть и другие сумасшедшие.
– Скажи мне что-нибудь, чего я еще не знаю.
– Ну, может, это сгодится: ты очень много для меня значишь.
Какое-то время мы оба молчали. Несмотря на свое возмущение, я понимала опасения Мигеля и неловкость его положения. При включенной громкой связи было слышно его дыхание – порой глубокое, порой прерывистое.
– Хорошо, чего именно ты от меня хочешь? Что я должен сделать? – произнес он в конце концов, явно сдаваясь.
– Хочу еще ночей! – взмолилась я, беря в руки полотенце. – Мне просто необходимо больше времени. И не дай Вере выйти на охоту, пожалуйста.
Он обещал мне, что попытается, и мы закончили разговор, не сказав на этот раз, что любим друг друга, – чтобы не оскорбить наше чувство.
Падилья позвонил часом позже, когда я репетировала маску Жертвоприношения в гостиной:
– Бланко, надеюсь, ты простишь, если мои слова прозвучат грубо, но должен сказать тебе, что по горло сыт и твоей сестренкой, и тобой. Мы заставляли Веру являться в театр, как бы на «экстренные репетиции», две последние ночи, и тот же фокус проделаем и сегодня. Но клянусь тебе созвездием Стрельца, под которым родился, больше я не собираюсь удерживать ее – ни на одну ночь. Попросту говоря, я не могу заниматься ее воспитанием. А сейчас, как ты знаешь, воскресенье, моя дочка – дома, и я хочу провести время с ней и забыть о том, что с понедельника по субботу я сажусь задницей на целую тонну взрывчатки под названием «Наблюдатель». О’кей, это не совсем взрывчатка… Это всунутая в мою гребаную задницу палка с моей отставкой, прописанной по всей ее длине. Вылези на улицу, закинь крючок, поймай этого козла, раздави его – и делу конец. Поздравления, медаль на грудь, моя вечная благодарность. Но не надо вновь выкручивать мне яйца!
Я даже не удосужилась ответить. А вот что я сделала – так это громко произнесла телефонный номер Алвареса, специальный, для экстренных случаев, как только Падилья отключился. Прошла идентификацию, назвав свой пин-код, потом попросила «аудиенции» и отключилась. И Алварес мне перезвонил. Он выказал большее понимание, чем Падилья, но видимость понимания была в этом случае неотличима от политики.
– Диана, вы – суперодаренный человек, – произнес он, как будто зачитывал мое личное дело. – Один из самых хороших показателей по тестам на уровень интеллекта. Это позволяет думать, что вы понимаете ситуацию. Ваша сестра – совершеннолетняя. Даже если бы мы ее уволили, то все равно не смогли бы воспрепятствовать тому, чтобы она поступала как ей вздумается. С другой стороны, также мы не можем помешать и вам. Падилья дал вам три ночи, и эта – последняя. Положа руку на сердце – советую вам делать свою работу и дать возможность нам делать нашу.
Я повесила трубку, хорошо понимая, что обращаться мне больше не к кому.
И пока я готовилась к выходу, думала я именно об этом: все произойдет либо этой ночью, либо никогда.
Это был мой последний шанс.
И вот мой последний шанс мчится в черном «ауди» со скоростью более полутора сотен километров в час, с глухим ревом мотора, подобным морскому прибою.
Мы уже некоторое время назад съехали с автострады на Валенсию и теперь неслись по второстепенной дороге, обсаженной соснами. Шел мелкий дождь, и ветер крошечными дротиками швырял его капли в стекла машины. В салоне «ауди» Лео продолжал напевать, погрузившись в свою одичалость, в то время как Педро, странствующий рыцарь, говорил по телефону с кем-то, кто, насколько я могла судить, направлялся туда же, что и мы. Какой-то дом, куда приводят девочек и где употребляют наркотики. Вечеринка high-class[37], как сказал бы Начо Пуэнтес. Вполне возможно, что одна из девочек и согласится, чтобы Лео ее связал. Гремящая музыка, быть может, виртуальное порно. Ничего из ряда вон выходящего.
Я начала беспокоиться. Решила, что нужно что-то предпринять до того, как мы приедем на место. Что-то радикальное. Мне нужно было их исключить. Способ, которым они меня сняли, выглядел подозрительно – с учетом количества денег, предложенных за ночь «загула». И похоже, они и вправду что-то подсыпали в мартини, но явно не седативное, а совсем наоборот: сердце так и прыгало в груди, от тепла радиатора пылали щеки, а соски под топиком стали твердыми и болели. Они явно хотели, чтобы я была полностью готова для чего угодно. Но все это казалось вполне нормальным в мире «безумных ночей» менеджера Педро и менеджера Лео. Наркотики, девочки, много бабла.
Это могли быть они. А могли и не быть. Это нужно было проверить раньше, чем меня еще больше накачают наркотой и все кончится тем, что я буду отплясывать голой возле бассейна с сеньором Черт-возьми.
Я посмотрела вперед и прямо перед собой, между мини-баром и телевизором, заметила кнопки работающего проигрывателя. Это подойдет.
Хотя Шекспир говорит о смене эмоций (в псиномике их называют «изменением состояний») во многих своих пьесах, однако среди них есть одна, «Много шума из ничего», напрямую посвященная исследованию последствий таких изменений. Там жених внезапно отказывается от невесты, несмотря на то что любит ее; один из персонажей клянется, что убьет своего лучшего друга; те, кто терпеть друга не могут, – влюбляются, а кажущиеся глупцами, в конце концов раскрывают все обманы. Женс говорил, что «Много шума» – это символ изменения состояний в таких масках, как Жидкость или Жертвоприношение, потому что в обоих случаях изменения влекут за собой контролируемые пробои. «Иногда, чтобы заглянуть вовнутрь, – говорил он, – нужен скальпель».
И я собралась применить радикальную хирургию.
Я протянула руку к проигрывателю и нажала кнопку «пуск». И тут же загремел рэп, как огромный и верный пес, с лаем примчавшийся на мой зов. И оба мужика уставились на меня. Музыку я использовала как бы для того, чтобы под нее пританцовывать, но на самом деле мои движения были просчитаны. Без всякой паузы я схватила бокал с мартини и сделала вид, что пью, проливая понемногу – так, чтобы ручеек потек по подбородку. Я повернулась к Педро, чтобы он видел мою шею и одежду с каплями жидкости, то есть именно то, что доставляет наслаждение его филии, а еще изобразила пьяный смех и захлопала в ладоши. Но еще раньше, чем я успела это проделать, толстые пальцы Лео уже подлетели к пульту управления и выключили музыку. Это и была финальная деталь, которой я ждала. Внезапно, словно упал занавес, повисла тишина. И мгновенно я заморозила все свои ощущения и реакции, сделавшись серьезной и неподвижной.
Много шума из ничего: содом, сменяющийся спокойствием.
Финал. Длительность моего спектакля – каких-нибудь восемь секунд.
Педро уже выведен из игры. Он был обычным любителем Жидкости, а его мозги – довольно тривиальными. Пробой лишил его способности двигаться, захватив в тот момент, когда правая его рука лежала на широкой спинке сиденья, а в левой он по-прежнему держал телефон, по которому только что разговаривал. Лицо обращено ко мне, глаза широко раскрыты, будто я демонстрирую чудеса акробатики. Губы слегка дрожат. Но отсутствие инициативы с его стороны с лихвой было возмещено реакцией Лео, сидящего за рулем.
– Какого черта?! – завизжал он. – Что это ты делаешь?.. – Он отвлекся от дороги, и машина стала спотыкаться. – Это не твоя чертова машина, русская!
Я подумала, что она теперь и не его.
– В следующий раз, перед тем как что-то тронуть, спроси разрешения! Слышишь? Разрешения спроси! – И все же Лео пока кое-что скрывал, а мне было нужно, чтобы он раскрыл все карты.
– Мне… жаль, – произнесла я, выдав этот простой текст в нужный момент и после короткого дыхательного упражнения, выдыхая слова, словно дым.
И почти ощутила, как снаряд моего голоса попадает в самую сердцевину его Жертвоприношения. Псином – плод нежный и сочный, заключенный в толстую-претолстую скорлупу, самую прочную, какую только можно себе представить. И в этот самый миг скорлупа Лео треснула.
– «Мне… жаль»? «Мне жаль»? – Его глаза, в зеркале заднего вида, бегали от шоссе ко мне и обратно непрерывными зигзагами, и машина, синхронно с этим, начала терять скорость – в противофазе с его словесным поносом, который все усиливался. – Ты знаешь, что я с тобой сделаю за это «мне жаль»? Ты знаешь, что я делаю с девочками, ты, сука русская? Знаешь ты, сука в течке?.. Ах черт!..
Мне в тот самый момент стало известно одно-единственное: псином того, кто истязает своих жертв или смотрит, как их истязают, оказавшись на свободе, не вопит так отчаянно, как псином Лео. Это голосящее желание обнаружило разнесчастного беднягу, переживавшего свой персональный ад.
Этот говнюк, сеньор Черт-возьми, не был моей тайной любовью, моим Великим Сукиным Сыном, моей целью. А его приятель – тем более. Они даже не были связаны с Наблюдателем. Еще раз – ложноположительные.
Вдруг оказалось, что перед нами уже не шоссе, а деревья и кусты. Крыло ударилось об ограждение на обочине, и, пока нас заносило, я думала о том, что серьезная авария значит для меня гораздо меньше, чем этот очередной промах. Наконец машина ткнулась в небольшое деревцо с такими же перекрученными ветками, как мои планы.
– Бог мой! – пробормотал Лео и заглушил двигатель. – Вот черт, надо же так обделаться!..
Я взглянула на его дружка. Он все еще пребывал в пробое, но это состояние пройдет, как только я исчезну. То же самое ожидает и Лео, но если у первого пробой выражался в хлопанье ресниц и оцепенелости, то Лео задыхался, орал, хорохорился:
– Давай вали отсюда! Шевели задницей, сучка! Пойдешь в Мадрид пешком, черт возьми! Да, черт возьми, иди трахни своего гребаного папашу!
Я поняла, что он отключил блокировку дверей. Достала деньги, которые они мне заплатили, и положила их на колени Педро.
– Давай-давай, сучка гребаная! Убирайся! Трахать папочку! Вон отсюда!
Я хотела уйти. Клянусь, хотела уйти.
Даже вышла из машины. Но тут я обернулась и увидела его – разбухшего от собственных воплей и весьма заметного избытка жира, запакованного, как сарделька, в дорогой, сшитый по мерке костюм. Девяносто кило денег и фрустраций, позволяющих мучить беззащитных девчонок. Лысая глыбища с отверстием, изрыгавшим ругань и проклятия. Гора дерьма – этот менеджер XXI века под действием неококи. В голове моей вдруг возник вопрос: а что же он делает с девицами, которых привозит на свои приватные вечеринки вместе с покорным Педро? Этой мысли оказалось достаточно, чтобы я, все еще находясь рядом с машиной, открыла правую переднюю дверь, схватилась руками за потолок, уперла один сапог в сиденье, а другим заехала ему в морду. Хруст послышался как раз посреди последнего «трахай папочку». Затем наступила торжественная тишина. Педро на заднем сиденье застонал и согнулся пополам.
Посмотрев на физиономию Лео – расплывшуюся, залитую кровью, – я подумала, что как минимум разбила нос еще одному ложноположительному. Может, я вообще его убила, что было бы совсем некстати.
– А, черт возьми! – сказала я и захлопнула дверцу.
И пошла оттуда по темному полю, проверяя на ходу телефон, чтобы вызвать такси.
13
Вечер понедельника, четверть девятого. Я дома, стою напротив микрофона своего телефона. Мигание его светодиода – знак того, что произнеси я любой телефонный номер, и соединение установится.
Я смотрела на этот подмигивающий огонек и понимала, что ни за что не решусь.
Скорей всего, я приму другое решение – более логичное, более простое. Проголосую за жизнь. Вернусь к Мигелю, на этот раз – навсегда. Попытаюсь уговорить Веру отказаться от этого безумия, оставить все. И сама – сама я тоже его оставлю, найду другую работу. Наблюдатель рано или поздно, но попадется, а мы с Верой будем живы и здоровы.
Прямо над микрофоном на стене у меня висит зеркало. Поднимаю глаза и смотрю на свое отражение. Оттуда прямо на меня глядит некая женщина с волосами цвета соломы, с огромными глазами на худом лице, небрежно одетая. И эта женщина говорит мне совсем о другом. «Мерзкая трусиха», например. И еще она говорит: «Ты оставишь ее одну, как в тот раз, когда убили маму и папу. И не старайся подыскивать оправдания. Знаешь, что ты собираешься сделать? Ты хочешь спасти свою задницу – только чтобы тебя никто не тронул. А она останется одна и не отступится, не бросит это. Потому что в глубине твоей души, Диана Бланко, супервумен, в самой-самой глубине – знаешь что происходит? Ты до ужаса боишься Наблюдателя, боишься, что он сделает тебя идиоткой до конца дней, как это случилось с Клаудией, да и то – в лучшем случае. Страх заставляет тебя быть эгоисткой. Вот и все, что с тобой происходит. Кого-кого, а меня тебе не обмануть».
Но это не так. Не совсем так, во всяком случае. Я всегда старалась пристрастно к себе относиться, быть требовательной, и это помогало мне становиться лучше. И, несмотря на фырканье моей совести, я знала, что сделала все возможное. Три ночи я провела на работе, выкладываясь полностью, без остатка. Судьба играла не на моей стороне – вот в чем дело. Наблюдатель не вышел на охоту, хотя имелись шансы, что выйдет. Или все-таки вышел, но один из его «помощников» предложил новые, неизведанные охотничьи угодья. Или же, что тоже могло быть, они объехали привычные места и даже видели меня, но по какой-то причине не выбрали. Или сработал его трюк, эта никому не известная уловка, которая помогает обходить наживок стороной. «Но я же – слушай меня, зеркало, свет мой, зеркальце, – я же сделала все, что было в моих силах».
«Нет, – с непоколебимым спокойствием ответило мне зеркало, – всего ты не сделала».
И это вновь заставило меня взглянуть на телефон.
Был понедельник, почти половина девятого вечера. Я почти четверть часа стою здесь перед зеркалом. И тогда я вспомнила, о чем сегодня вечером мы говорили с Валье.
Я решила нанести неожиданный визит доктору Валье. Не знаю, по какой такой причине, накатило что-то. Его секретарша произнесла мое имя, называя пациента, но, когда я вошла в кабинет, лицо его выражало изумление.
– Елена… Как дела? Не чаял тебя увидеть… Присаживайся, пожалуйста.
– Я не Елена, – сказала я, оставаясь стоять. – Меня зовут Диана Бланко. Вы были правы: я вас обманывала.
Он окинул меня оценивающим взглядом, словно собирался купить, но не был уверен, что я стою тех денег, которые он намеревался заплатить.
– Нет проблем, – сказал он. – Тебе не нужно оправдываться. Базовый принцип любой терапии – пациент никогда не говорит всей правды. Но ты сама должна принять ее, и то, что ты вернулась, – уже шаг в правильном направлении. Не вини себя, что скрывала правду.
– Это не я ее скрывала, – ответила я.
– Не понимаю…
– Ее скрывают те, на кого я работаю.
Валье поправил очки на переносице:
– Раз уж ты пришла, почему бы тебе не присесть ненадолго?
Я так и сделала. И уже уловила некое изменение в его тоне: он стал более холодным и более профессиональным. Удивление переросло в подозрение. Мне подумалось, что до сих пор он, видимо, пытался как-то меня каталогизировать, но безуспешно. Я явно не была застенчивой девчушкой с комплексами. Не была и замужней женщиной с рухнувшими надеждами. Не была я и ныряльщицей в бассейн с наркотиками. Но, поместив меня в категорию «другое», он наверняка считал, что в конце концов я, конечно же, под некую категорию подводима и, возможно, нуждаюсь не только в психологе. Мне пришлось повидать довольно много сумасшедших, и я знала, что большинство выдавало себя фразочками, очень похожими на мои.
Я сдержалась, хотя меня подмывало улыбнуться. Пришла я сюда не глазки строить, а избавиться – от всего. Так что я начала говорить, и очень спокойно, еще до того, как он успел задать вопрос. В кабинете, как всегда, царил полумрак, только монитор ноутбука освещал лицо доктора и слегка подсвечивались по углам какие-то индейские артефакты, дипломы, шахматная доска.
– Вы ничего не найдете обо мне ни в «Winf-Pat», ни где бы то ни было еще. Мое удостоверение личности и карточка социального страхования выписаны на имя Елены Фуэнтес. Но все эти данные не настоящие. Нет ничего действительно моего, за исключением инициалов в той статье. Больше ничего. Я – никто.
Он, как показалось, уже решил, что это заявление вызвано моей печалью, поэтому я поспешила добавить:
– И то, что я вам сейчас говорю, – тоже ничто. Вы этого не слышите. Этой беседы никогда не было. Я некое подобие актрисы, однако моя настоящая жизнь – государственная тайна. Если вы выйдете вот в эту дверь и расскажете секретарше хотя бы половину того, что я сейчас наговорю, ни один из вас не протянет и двадцати четырех часов. Представьте, что я – ядовитый газ, заключенный в стеклянную колбу. Со мной следует обращаться с большой осторожностью.
– Ты причинишь мне вред? – спросил он, не меняя выражения лица.
– Не я, это сделают другие. Вы полагаете, люди скрывают правду, чтобы защитить себя. Я же скрываю ее, чтобы защитить других. Поэтому я тогда и ушла из вашего кабинета – вы начали царапать мое стекло. Я не наврала, описывая свои симптомы: я действительно плохо сплю, меня и вправду мучают головные боли… Есть штатные врачи, которые могли бы заняться моим самочувствием, но мне хотелось поговорить с кем-то, кто не имеет отношения к моей жизни. Вначале я думала, что вы мне поможете и так, что мне не придется ничего рассказывать, ну хотя бы посредством, так сказать, рецептов с кухни психологов, не знаю, понятно ли я выражаюсь. Что-то вроде «прими вот это, сделай вот то». С моей стороны это было глупостью. Вы слишком профессиональны. И когда вы упомянули «Winf-Pat», стало ясно, что я должна уйти – чтобы защитить вас.
Я сделала паузу. Выражение лица Валье было миной профессионала, который уже пришел к некоему заключению. Он смотрел на меня как на несчастную девицу, которая «набивает себе цену», не останавливаясь даже перед явным безумием: «Посмотрите на меня, доктор: вон какая я важная». Я была полна решимости развеять его заблуждения, но хотела действовать постепенно, не выпрыгивая на подиум, подобно дебютантке.
– Это – хорошая часть меня, – продолжила я. – Плохая заключается в том, что я эгоистка и… и с вами в первый раз почувствовала себя спокойно и в безопасности. Желание вновь испытать это ощущение привело меня сюда… Так что сегодня утром я решила вернуться и подвергнуть вас опасности, чтобы получить новую порцию поддержки. Но решение остается за вами: если не захотите слушать дальше, я прекрасно пойму. Я уйду, и вы больше никогда меня не увидите. О рисках я вас предупредила.
Он даже не дал мне закончить. Как только я произнесла «я уйду», он выставил вперед руку, будто слова мои были солдатами, выдвинувшимися в его сторону с агрессивными намерениями.
– Диана, я нахожусь здесь как раз для того, чтобы выслушивать разные истории. Ты пришла рассказать, я выслушаю и постараюсь тебе помочь. – Он позволил себе улыбнуться. – И не беспокойся, пожалуйста: сколь бы странным ни было то, что ты собираешься мне поведать, уверяю тебя – мне приходилось слышать еще более странное.
Я тоже улыбнулась. Повисла пауза – такая долгая, словно послеобеденное сидение за столом в дружеской компании. Наконец я произнесла, все еще улыбаясь:
– У вас нет ни малейшего представления о том, что я намерена рассказать.
Я проговорила минут десять, прежде чем он остановил меня. Все уже было по-другому: я – актриса, Валье – моя публика. И постепенно в центре его внимания оказалась не я, а то, о чем я говорила. К счастью, термины, которые я использовала, по большей части были для него не пустым звуком.
– Минуточку, мне известна теория псинома…
– Вот здорово! – пошутила я. – В таком случае вы сможете ее объяснить. Мне так и не удалось ее понять.
– Суть сводится к тому, что то, чем мы являемся, что мы думаем и делаем, зависит исключительно от нашего желания, и мы выражаем это желание буквально каждую долю секунды – жестами, взглядами, голосом… Несколько лет назад кое-кто из психологов даже утверждал, что это желание может быть просчитано. Другими словами, что оно может быть измерено и представлено в виде некой формулы, как геном, отсюда и пошло название «псином». Псином, таким образом, – своеобразный код нашего желания. Но потом было доказано, что подвергнуть количественной обработке биллионы данных о внешнем облике человека и его окружении, а также об их вариациях вследствие текущих изменений невозможно. Это все равно что просчитать бесконечность вариантов в шахматах. – И он указал рукой на шахматную доску. – Так что теория была забыта за недоказуемостью. Я ошибаюсь?
– Только в одном, – сказала я, улыбнувшись, – теперь это действительно стало возможно. Когда были созданы первые квантовые компьютеры, которые совершают… ну, чертову уйму операций в секунду… были зарегистрированы жесты, интонации голоса и поведение людей в бесконечности разных ситуаций и было доказано, что они группируются по неким общим параметрам. Таких групп – более пятидесяти, их называют «филиями», и каждый из нас принадлежит к одной из них.
– Интересно. – Валье недоверчиво улыбнулся. – Но я не знаком с этими исследованиями.
– Они засекречены, – сообщила я шепотом.
Валье, кажется, понравилась эта игра, и свое «а!» он произнес тоже шепотом.
– Люди, относящиеся к одной и той же филии, одинаково реагируют на одинаковые стимулы. Нас, наживок, специально учат различать и определять эти филии.
Я поняла, что Валье возвращается к первоначальному диагнозу: то, что я рассказываю, непременно должно быть «бредовым состоянием».
– Ага, ну-ну, отлично… А какая у меня «филия»? Ты уже знаешь?
– Ваша – Добычи, – немедленно последовал мой ответ. – Не стоит обращать внимание на название, оно условно.
– И что это означает? – поинтересовался Валье, словно речь шла о знаке зодиака.
– В общем, вам нравятся люди, которые страдают, но не по вашей вине… Вам нравятся жертвы поверженные, споткнувшиеся… Но еще больше вам нравятся повороты тел – те, которые позволяют видеть их сзади. Не хочу сказать, что вам нравится исключительно задница, но и задница тоже. – Я улыбнулась. – Вам доставляет особое удовольствие видеть щель между ягодицами, когда тело удаляется от вас. А также разделенные на части образы, как будто отраженные в треснувшем зеркале. Вижу, вы меня понимаете.
Аристидес Валье разинул рот. Стало понятно, что впервые в жизни кто-то – безумный или нет – говорит ему нечто подобное. Но он тут же взял себя в руки, как я и ожидала.
– Очень жаль, но я не признаю своим абсолютно ничего из того, что ты перечислила.
– Это потому, что мы не осознаем, чего на самом деле желаем. Когда мы видим, как кто-то делает то, что нам нравится, мы объясняем произошедшее другими причинами: мы говорим, что влюбились или что нам очень нравится его или ее склад мышления… Мои преподаватели объясняли, что псином не в сознании, – наоборот, он вмещает сознание в себя…
– Но бывает и так, что мы и вправду влюбляемся, – возразил Валье.
– Я уже говорила, что название – не существенно. Вам может безумно нравиться какая-то женщина, и вы назовете это любовью. На самом же деле случилось вот что: когда вы познакомились, она сделала некое движение, или сказала что-то особым тоном, или оказалась перед декорацией, которая доставила удовольствие вашей филии Добычи. По чистой случайности. Если бы вы встретили эту женщину в нужных декорациях, особым образом одетую, и она действовала бы лучше, вы оказались бы «на крючке» и были бы не в силах ее оставить. А если бы она продолжала ублажать вашу филию, получаемое вами наслаждение дошло бы до апогея, и вы оказались бы «одержимым». И больше не могли бы действовать по собственной воле. Наживок учат цеплять на крючок и овладевать, то есть превращать в одержимых.
– Ну-ка, ну-ка… – Валье по-прежнему сомневался, но было заметно, что мой «горячечный бред» его заинтриговал. – По-твоему выходит, что настоящих чувств не существует. Эта женщина из твоего примера двигается, что-то там говорит, и я влюбляюсь… Если смотреть на это под таким углом зрения, то весь мир – всего лишь театр…
– Именно так, театр. И мы, наживки, – практически актрисы: мы заучиваем определенный набор жестов, интонаций, умеем подбирать декорации и костюмы и потом предлагаем что-то вроде… спектакля, результат которого – насаживание на крючок других. Это мы называем «масками». Для каждой филии есть своя маска.
– И чувства для тебя – всего лишь это? «Маски»?
Я пожала плечами:
– Разум называет их «чувствами», но псиному достаточно «масок». Названия не существенны, я уже сказала. По крайней мере, для наживки они точно не существенны… К тому же, по правде говоря, меня не трогают и разного рода философские спекуляции.
– Так, значит, ты работаешь наживкой… – Валье задумчиво покачал головой. – Я всегда знал, что есть такие люди и что они работают в полиции, но не думал, что речь идет о чем-то столь сложном… Полагаю, есть более простые и прямые методы, позволяющие бороться с преступностью…
– Сейчас уже нет. Технологии сегодня доступны всем. Ученые придумывают вещество, которое направлено на удержание ДНК убийцы в трупе жертвы, а завтра уже изобретено другое, уничтожающее эффект предыдущего. То же самое – с оружием, да и со всем остальным. Некоторое время назад было решено отказаться от этого направления. Когда был открыт псином и его классификация, тема была засекречена именно по причине того, потому что только это обеспечивало надежность… Убийца может стереть свою ДНК, но не то, каким образом он выбирает жертву, убивает и избавляется от нее, потому что это зависит от его псинома. Некая организация, подозреваемая в отмыве денег, уничтожит все следы своих операций при помощи передовых цифровых технологий, но в нее можно внедрить наживку и раздобыть улики, если та подцепит на крючок псином какого-нибудь высокопоставленного лица… Псином невозможно подделать, невозможно спрятать: наше наслаждение – это математическая формула. Даже если бы мы попытались, компьютер все равно это обнаружит. И как только становится известен псином преступника, наживки разыгрывают маски, чтобы его привлечь. Сейчас наживок используют везде, во всем мире. В Испании они были взяты на вооружение и засекречены после бомбы 9-N.
Валье слушал меня так, будто хотел найти в моей истории какие-то нестыковки.
– Во всем мире, говоришь… – задумчиво начал он. – Странно, что столько людей желает работать в этой области, не так ли? А как вас отбирают? Вы что, откликаетесь на объявления в газетах?
– Ну, дело в том, что одному из психологов, работавших в проекте псинома, пришла в голову блестящая идея. Возможно, вы в какой-то связи слышали это имя: доктор Виктор Женс.
– Да. Каталонец по происхождению. Был криминалистом. Но ведь он уже умер, разве не так?
– Да, два года назад. Несчастный случай в открытом море.
– Да, припоминаю. Кажется, у него была яхта или что-то в этом роде, налетел шторм, и он утонул. В нашем мирке это стало настоящей сенсацией…
– Ну так вот, именно ему пришла в голову идея, как привлекать наживок. Это просто и в то же время гениально: использовать наш собственный псином. Он определил параметры псинома, которому будет доставлять удовольствие работа наживкой, и он же запустил программу, к которой подключились несколько психологических клиник по всему миру. Ребенок с психологической проблемой приходит в клинику на консультацию, там исследуют его псином, и, если этот псином соответствует установленным параметрам, начинается следующий этап. Обычно отбирают несовершеннолетних из неблагополучных семей, в основном сирот, в таком случае все проще. Правительство улаживает формальности и оплачивает наше обучение. А мы храним все в секрете, потому что речь идет о нашем удовольствии. Кто захочет распространяться о таком? Этот узел завязан очень крепко, как видите. – Я улыбнулась. – В конце концов, мы делаем именно то, что нам больше всего нравится.
– Понятно, значит, «заговор» психологов… – Валье качал головой, возможно решая дилемму: позвонить в дурдом прямо сейчас или отложить до того момента, когда меня здесь уже не будет. – Это все очень интересно, хотя ты должна признать – отдает научной фантастикой…
– Ну, на самом деле это довольно древняя тема… Женс, вообще-то, утверждал, что псином был известен уже пятьсот лет назад… Он говорил, что Шекспир в своих пьесах описал все псиномы. Эта теория не получила признания, но здесь, в Европе, основательное изучение Шекспира – обязательная часть подготовки наживок.
– В итоге мы ловим убийц потому, что читаем Шекспира…
Я проигнорировала эту полную иронии издевку.
– Качества вашей филии, например, филии Добычи, в основном представлены в сцене отречения в «Ричарде II», когда король требует зеркало и разбивает его…
– Понятно. – Валье задумчиво играл авторучкой. – Кстати, могу я узнать, какая филия у тебя? Или это тоже государственная тайна?
– Моя филия – Труда. Мне нравится видеть определенные физические знаки на телах… – Внезапно я замолчала и сделала глубокий вздох. – Слушайте, я ведь понимаю, что вы не верите ни одному моему слову. Но мне необходимо, чтобы вы поверили. За этим я и пришла. Так что мне остается только показать вам это. Я сделаю все очень осторожно, но прошу меня извинить, если потом вы почувствуете себя неловко.
Он взглянул на меня поверх очков, и впервые я отметила взгляд мужчины. Как будто я предлагаю себя по углам, сверкая топом с блестками. Его губы слегка шевельнулись – выражение простого интереса сменилось презрением. Казалось, он говорил: «Я доктор психологии, а не какой-то там тинейджер, бога ради. Ко мне – да с такими подходцами?» Однако было очевидно, что ему в некотором роде импонирует, что я решилась наконец перестать теоретизировать и продемонстрировать прямо здесь, в его интеллектуальном убежище, степень своего безумия.
– Это твое решение. Что ты будешь со мной делать?
– Я сделаю несколько жестов, очень быстро, прямо тут, на софе, – пояснила я. – Прежде чем я окончу, вы поднимете руку к голове и станете ее почесывать либо поправлять очки. Это будет первым признаком вашего удовольствия. Потом… у вас возникнет сильная эрекция. И это станет вторым признаком.
– Ага, – со всей серьезностью поддакнул он, словно упоминание секса – именно та деталь, которой недоставало для постановки окончательного диагноза. Но тут же вновь улыбнулся. – Прекрасно, начинай. Мне можно сидеть или я должен встать?
– Нет, не нужно, так хорошо, – отозвалась я и подняла вверх руки, согнув под прямым углом – со сжатыми неподвижными кулаками, словно была пристегнута наручниками к стене; затем я соединила их костяшками внутрь и резко развела, одновременно выкатив глаза и раскрыв рот – как раз настолько, чтобы получился «разбитый» образ. Проделывая это, я не спускала глаз с Валье, но усилием воли подавила свое сознание. Женс назвал бы это «жестом отречения». Это был театр Жиля Илана. Оригинальные декорации и розовый диван – это не то, без чего не обойтись.
Прежде чем я закончила, Валье поднял правую руку к виску и почесал его. И сразу же, осознав, видимо, что делает, отвел руку и вздрогнул, словно от холода. Я попыталась вести себя игриво, чтобы снять напряжение:
– Вовсе не обязательно демонстрировать второй признак. Я вам верю.
Валье смотрел на меня. Он будто чего-то ждал – указания, приказа, хотя я была уверена, что на крючок он не попал. Мне стало жаль его – растерянность, краска стыда.
– Послушайте, не стоит об этом думать, – сказала я. – Если бы вы приняли снотворное, то сейчас спали бы, ведь так? Стимул – реакция. Так как я кое-что сделала, чтобы вызвать эти реакции, вы и отреагировали, вот и все. Представьте себе, что вы посмотрели фильм или театральную постановку… Единственное, что я сделала, – это изобразила ваше желание, и ваш псином отозвался на это. – Я откашлялась. – А э… эрекция скоро пройдет.
Он сидел все в той же позе – глаза прикованы к моим – и мигал.
– Мне очень жаль, – прибавила я и сглотнула, почувствовав ком в горле. – Я всего лишь хотела, чтобы вы поверили мне, доктор… Мне… мне нужна помощь, ваша помощь. Все мои друзья, мужчина, которого я люблю, моя сестра… все принадлежат к моему миру. Как вы сказали? Театр? Да, и это – моя жизнь… Мне нужно немного искренности. – Я остановилась, смакуя это слово. В глазах у меня защипало. – Мне нравится моя работа, но в то же время я нахожу ее ужасной. Я хочу оставить ее, но проблема в том, что сестра пошла по моим стопам и влезла в чрезвычайно опасное дело… Я должна защитить ее, вот только не знаю как… Не знаю, с кем поговорить… Мне нужен кто-нибудь, кто меня выслушал бы и не воспринимал исключительно как маску… Я же знаю, что внутри у меня есть нечто настоящее… Внутри я не притворяюсь. – Я провела рукой по лицу, смахивая слезы. – Мне жаль… Я не хотела вас беспокоить… Мне так жаль… Ненавижу себя, какая я есть…
Аристидес Валье не шевельнулся. Если бы душу могла пронзить молния, то в эту минуту именно он был олицетворением этого. Он подождал, пока я закончу плакать, а затем очень тихо, но очень жестко, сквозь зубы прошипел, словно проклиная меня:
– Убирайся! Убирайся отсюда!
Я послушалась и пошла плакать на улицу.
«Но ведь это неверно – всего ты не сделала».
Мое зеркало право, конечно, как и любое другое.
Был понедельник, почти без четверти девять вечера, когда я приняла решение. Я сама себя презирала, когда произносила номер телефона, но понять причину этого презрения мне было не дано. Возможно, в его основе лежал мой страх. Страх обратиться к нему вновь, хотя бы просто встретиться с ним, спустя годы. И это рождало во мне ярость – густую ярость, поднимавшуюся по горлу, словно блевотина, пока я слушала гудки: один, второй, третий, но не проросшую в слова, а тут же погасшую, как только мне ответили.
Я произнесла только несколько слов:
– Мне хотелось бы поговорить с сеньором Пиплзом. – И добавила: – Пожалуйста.
14
Парк «Нулевая зона» находится к югу от Мадрида. Он был спроектирован на месте кратера, образовавшегося пятнадцать лет назад после взрыва огромной бомбы 9-N. Теперь это спокойное, ничем не примечательное, приятное место. Проложены дорожки, разбиты цветочные клумбы и установлены некие человекоподобные статуи – их позы, кажется, свидетельствуют о том, что они мигом сбежали бы оттуда, если бы могли. И я бы их не осудила: место это не слишком отличается от пустыря площадью около трех квадратных километров, населенных призраками и преступниками, – и тут никогда не играют дети. Даже в пальто было как-то холодновато. Под пальто на мне только трико Селии Тачстоун, одна из тех уникальных моделей, которые делают только на заказ, – желтого цвета, а боковинки и рукава из прозрачной ткани, так что, если посмотреть сбоку, тело выглядит обнаженным. Сумку я не взяла, зато сапожки хорошо сочетались со всем остальным. Недавние дожди оставили после себя большие лужи, по которым приходилось шлепать. И хотя в этот вторник в десять часов утра солнце было надежно упрятано за тяжелыми тучами, на лице у меня все же красовались солнечные очки – возможно, для того, чтобы не видеть лицо сеньора Пиплза.
По периметру парка кривились деревья – точь-в-точь из сказок о ведьмах и колдунах – с листьями либо сорванными ветром, либо заляпанными дождем. Городские байки утверждали, что по ночам молоденькие проститутки из Восточной Европы забираются здесь на пеньки, чтобы привлекать внимание клиентов, медленно объезжавших соседние улицы. Любой таксист расскажет тебе то же самое, особенно если ты мужчина. Я ни разу не работала в «Нулевой зоне», но тем коллегам, которым доводилось охотиться именно здесь, не случалось увидеть ни одной девушки, поступавшей таким образом. Слухи же объяснялись тем обстоятельством, что район этот был не чем иным, как «маленькой Россией» Мадрида, хотя жили здесь не только русские эмигранты. Разумеется, группа террористов, ответственная за взрыв бомбы 9-N, тоже имела собственную легенду об этом месте.
Под деревьями расположились гротескные творения скульпторов, работавших по заказу правительства. Идя через парк к граничащей с ним маленькой улочке Корин, я заметила несколько таких скульптур – в большинстве своем человеческие фигуры из стекловолокна, с волосами на голове. Они сидели, как-то скрючившись. Вроде в одном документальном фильме объясняли, что они символизируют «боль человеческую». Я тогда подумала, что не было никакой необходимости создавать статуи – по той простой причине, что от бомбы 9-N погибло больше десяти тысяч человек, включая тех, кто подпольно изготовил атомную бомбу, а вдвое больше было покалечено и поражено радиацией. Я никогда не считала, что тут годится количественный подход. И статуи мне не нравились даже в качестве символа человеческой боли. По мне, так «боль человеческая» не отличается столь красивым силуэтом, она, напротив, тошнотворна и даже жалка – это агония, гнойники и стоны. И я ненавижу ее, как ненавижу болезни. Мне и в голову не пришло бы создать скульптуру боли, равно как и поставить памятник бубонной чуме или церебральному параличу.
Естественно, я знала, что сеньор Пиплз так не думает.
Нечто похожее на ощущение, когда мокрыми руками берешься за клеммы под напряжением вольт в двести, пронзило меня с головы до ног, когда я заметила его одинокую фигуру в обрамлении голых деревьев и пустых улиц – фигуру неизменно осознающего свою значимость человека, эдакого степного волка, уникального и гордого этим. Он ждал меня именно там, где обещал, – в конце парка, в начале улицы. Я узнала его даже со спины, но, лишь подойдя поближе, стала понимать, что немногие прошедшие годы обрушились на него гораздо более тяжелым грузом, чем просто количество прожитых дней.
Я и познакомилась с ним, когда он был уже стар, но сейчас он выглядел постаревшим. Спина согнулась, будто у зрителя в театре, что сидит в последнем ряду и тянется, чтобы лучше увидеть сцену между головами впереди сидящих. На голове – шляпа с обвисшими полями, он оброс, отпустил бороду. Недавнее приобретение – трость – воткнуто в землю, как деревянная нога пирата. В нескольких метрах подростки в дырявых джинсах, вязаных шапочках с красными звездами и шарфах, у некоторых полностью закрывающих лицо, тусовались возле стены, исписанной старыми надписями. Еще прежде, чем они заметили меня и стали выкрикивать в мой адрес похабщину, я обратила внимание, как ребята показывали пальцем на старика «в шляпе», будто перед ними забавный снеговик, который начал таять.
Заметив друг друга, мы проигнорировали стайку пацанов.
– Добрый день, сеньор Пиплз, – проговорила я.
Слабая улыбка прорезала снежно-белую бородку под горевшими румянцем впалыми щеками и круглыми черными очками.
– Добрый день, Диана, – сказал доктор Виктор Женс.
– У меня вошло в привычку гулять по парку Бомбы. Это место наводит на мысли о себе самом: нечто совершенно новое, созданное на руинах и костях. Хорошо здесь, никто не побеспокоит. Кстати, слежки за тобой не было, а?
– Да нет, конечно же нет. – Вопрос застал меня врасплох, и я принялась озираться по сторонам.
В парке были только редкие прохожие, да и те двигались, как в наших тренировочных маскарадах, когда тебе завязывают глаза и ты должен идти вперед, бормоча, как в трансе, свои реплики.
– Ах да, пока не забыл… – Женс хрипло хохотнул. – Хочу тебя поблагодарить – за то, что ничего не прибавила после своего приветствия, даже когда я замолчал… Ничего вроде «как я рада, что…» или «как здорово, что…». Ты так же рада меня видеть, как была бы рада таракану, разгуливающему по твоему лицу, я знаю. И это хорошо, потому что не притворяешься. А это означает, что притворяешься ты очень хорошо.
Я нехотя улыбнулась, чтобы замаскировать робость, которая вдруг меня охватила. Прошло всего два года, но передо мной был другой Женс. Какая-то алхимия: и сила, и слабость. Я обратила внимание на жилы на его шее, которые, казалось, поддерживают его голову, как канаты – мачты, и на скопище морщинок вокруг глаз, скрытых за черными очками, и сильный тремор, придававший его рукам сходство с дрожью закоченевшего homeless[38]. Это меня шокировало, не удавалось принять все как должное. Пришлось приложить усилия к тому, чтобы заставить себя думать: это – он. Это Виктор Женс в образе старика. У него хорошо получалось.
– Ты должна рассказать, что там в мире делается… Кое о чем я узнаю, но не обо всем. Я некоторым образом погружен в себя. Консультации с врачом онлайн, цвет утренних таблеток, цвет вечерних таблеток, ну, ты знаешь… Веду что-то вроде дневника своего стула. Раньше я все утро мог вспоминать, сходил ли в туалет, встав с постели, или нет… Когда забываешь уже о собственном дерьме, можно сказать, что пора прикрыть лавочку… И тогда подступают вопросы, как я это называю… Один вопрос за другим… Но все, в конце концов, об одном и том же: создал ли я хоть что-то в этой жизни? Что-то стоящее, хочу я сказать… И знаешь, что я себе отвечаю? Что да, я создал нечто стоящее. И это нечто сейчас гуляет со мной по парку.
Я уж было забормотала подходящую к случаю фразу вежливой благодарности, но он меня остановил:
– Да ладно тебе, помолчи. Я сделал тот единственный комплимент, который был для тебя припасен.
– Я хотела поблагодарить вас не за эти слова, а за согласие встретиться со мной, – ответила я.
Женс стукнул своей тростью:
– О, да будет тебе, Диана! Ведь я сам оставил для тебя открытой эту дверь – и только я сам могу захлопнуть ее у тебя перед носом. Но я хотел этой встречи. Ты – мое наследие, мой завет, так почему бы мне не пожелать увидеть тебя? Клаудия Кабильдо и ты – два моих завета этому миру… Этому миру в руинах, такому вечно юному и такому древнему, который так безмятежно спит… – И внимательно посмотрел по сторонам, будто и вправду увидел кого-то, кто именно так спит… – Так о чем бишь я говорил?
Я ему напомнила. Он кивнул, но не стал продолжать ту же тему, словно она ему наскучила. Поскреб морщинистый подбородок.
– Я же говорил тебе, что ты можешь обращаться ко мне, дал тебе номер и имя Пиплза. Больше никому не известен этот ключ. Я не желаю никого видеть. Не желаю ни о чем знать. Мир для меня кончился.
После непродолжительного молчания, подчеркнувшего последнюю фразу, в тот момент, когда мы дошли до конца парка, Женс поднял морщинистое лицо под этой своей шляпой без затей.
– Ты навещаешь ее? – спросил он. – Клаудию?
– Время от времени.
Еще одна пауза. Еще один вопрос:
– Как она?
– С просветлениями, – сказала я. – Я была у нее на прошлой неделе, и мне показалось, что она меня узнала. Но в общем и целом она не выходит из состояния какого-то ступора. Иногда даже не осознает, кто с ней рядом, не понимает, что я – это я.
– Ренар основательно поработал над ее мозгами – выскоблил и сознание, и импульсы. Он в этом специалист, хотя не только в этом. Да-да, девочка-солдат… Моя девочка-солдат… Я часто о ней думаю. В конце концов, именно я ее воспитал, как и тебя. Диана, моя Диана… – На моем имени голос его затих. А потом он рассмеялся. – Как же трудно тебе давались маскарады послушания! Изображать ученицу, брошенную в каталажку, часами на этой простынке, и в то же время – солдата, морского пехотинца, начиненного тестостероном… «Господин, да, господин!» Как плохо это у тебя получалось… А вот у Клаудии, наоборот, это получалось очень легко.
Он остановился. Оглянувшись назад, я поняла, что ушли мы не так далеко, как казалось. Все еще были видны те пацаны возле стены, слышны их смешки. И поняла, что передвигаться рядом с Женсом в пространстве – это все равно что двигаться в его времени. Теперь мы стояли в одном шаге от тротуара. Небольшая улочка перед нами была все той же улицей Корин, чуть дальше виднелось отделение банка, супермаркет и жилой многоквартирный дом, создавая ложное ощущение спокойствия.
Порыв ветра одновременно взметнул полы моего пальто и толстого шерстяного жакета Женса.
– А как ты? – спросил он. – До меня дошли слухи о твоей отставке…
Меня не удивило, что он был осведомлен на этот счет.
– Ну… я сейчас подчищаю кое-какие хвосты. Когда добью это дело, тогда да, уйду.
– Ага, – отозвался Женс.
Я сама себя возненавидела за смущенный тон, которым это сказала, и решила пояснить, на этот раз с вызовом:
– Я влюблена. Хочу испытать в жизни и другое: родить детей, например, кто знает… Вы ведь помните Мигеля Ларедо, правда? Нашим с ним отношениям уже примерно год или чуть больше. Мы собираемся съехаться.
Женс согласно покачивал головой и вставлял свое «а», слушая меня. Я выдержала его прямой взгляд, но не смогла проникнуть за черные стекла его очков. Однако у меня сложилось дикое впечатление, что он сумел пронзить своим взглядом мои очки. Когда я замолчала, он сказал:
– А твоя сестра? Насколько я знаю, она продолжает тренироваться…
– Она стала для меня чирьем на заднице. – Я улыбнулась. – Вбила себе в голову, что должна совершить нечто грандиозное.
– Ах да, Наблюдатель. Не удивляйся, что я в курсе. Падилья регулярно присылает мне отчеты.
– А я не знала, что Падилья в курсе, что вы не погибли.
– О, бога ради, конечно же он в курсе. Как и этот торгаш… Вылетело из головы его имя… Алварес, да… Алварес Корреа. Эти двое знают все. Может, один из них бывает у другого – и так они делят и постель, и информацию… – Вновь карканьем прозвучал его смешок. – Чего они не знают – так это где меня найти. Поэтому я и не хочу, чтобы ты говорила им, что виделась со мной. Они думают, что я все еще в Париже или в поместье…
Одно лишь упоминание поместья, как появление того, кого ты и ждешь, и боишься, заставило меня вздрогнуть. К счастью, Женс сменил тему, ничего не заметив:
– Как раз Падилье и пришла в голову идея использовать мою привычку выходить в море на яхте, чтобы имитировать мою смерть… Так что у них появилось замечательное объяснение того факта, что мое тело не было найдено. И тебе-то уж должно быть понятно, что я никак не мог бы инсценировать собственную смерть без их помощи… Это как ограбить мафиози – один ты мало что можешь сделать. Но им я запретил встречаться со мной – под каким бы то ни было предлогом. Они отправляют мне отчеты на анонимный адрес электронной почты, потом я пропускаю их через несколько фильтров и снова пересылаю, уже на свой сервер. Тривиальные меры безопасности: когда захотят, они смогут меня найти. Но я, по крайней мере, буду об этом знать. А они не захотят никогда – я им нужен.
Вдруг у меня возникло глупейшее желание польстить ему:
– Они не могут обойтись без такого человека, как вы.
Он взглянул на меня все с тем же выражением на лице, и я вспомнила, что так он вел себя с каждой наживкой: показывал нам, что мы не можем повлиять на него лестью.
– Я в любом случае в отставке. Сослан в свой Арденнский лес…[39] – Улыбаясь, он поднял руки. – Я… кто я? Старый Адам? Меланхоличный Жак?[40] Ты же, верно, знаешь… Говорят, что Шекспир играл Адама в «Как вам это понравится». Она любопытна, ведь так? Я имею в виду эту легенду, что он всегда играл стариков – Адама, призрака отца Гамлета… Он хотел играть старость, быть может… Что-то я забыл, к чему я вел…
– Вы говорили о том, что теперь вы в отставке.
– Да, верно… Я сослан в свой Арденнский лес… до тех пор пока ты, моя прекрасная Розалинда[41], не явишься за мной туда, чтобы вновь вывести к солнечному свету.
– Я не явилась вывести вас ниоткуда, – сказала я в ответ. – Я всего лишь хотела попросить вас о помощи.
Напрасно я ждала его вопроса, в чем мне понадобилась помощь. Он всего лишь молча кивнул. Пока длилась пауза, я пыталась получше приладить постоянно вылезавшую из наскоро скрученного перед выходом из дома пучка на затылке проклятую прядку волос, которую налетавший ветер то и дело трепал по моему лицу. На улице прямо перед нами вдруг резко, с визгом тормозов, остановился микроавтобус. Из него вышли двое и направились в супермаркет. Одной из двоих была крепкого телосложения женщина в кожаном берете, тяжело переваливавшаяся на ходу. И тут наконец Женс произнес:
– Помощи относительно твоей сестры, конечно же. Ты стремишься уберечь ее от этого монстра.
– Вы читали его профиль? – спросила я.
– Разумеется, читал. Хорошая он штучка, наш Наблюдатель. Настоящий трофей. Самый хитрющий псих из всех, с которыми нам приходилось иметь дело за долгие годы. Я многое дал бы, чтобы вновь оказаться на передовой и заняться им… Но и я сделал бы то же, что и Падилья: использовал бы твою сестру. С твоим-то опытом ты и сама должна понимать не хуже меня, что в настоящий момент она – наиболее подходящая для него наживка.
Я постаралась сохранить спокойствие:
– Я так не думаю, но, даже если это и верно, она далеко не самая подходящая, чтобы его обезвредить.
– Да ладно тебе, Диана, неужто после десяти лет работы я должен повторять тебе азы? Решающий шаг для обезвреживания добычи – это чтобы он тебя выбрал. И не только это… – Он поднял слегка трясущуюся левую руку к губам и пошевелил пальцами. – Нужно, чтобы у него слюнки потекли…
– Но Вера не сможет его обезвредить. Этот псих напоминает мне Ренара… Он…
Женс поднял указательный палец, прерывая меня:
– Ты Ренара не знала. – И повторил еще раз, утверждая: – Ты его не знала. Не говори о том, чего не знаешь. – И вновь оперся обеими руками на трость, успокаиваясь. – Забавные вы, наживки-ветераны. Уходите на покой раньше футболистов, зарабатываете бешеные деньги и пожизненную пенсию. Вот это зеленое пальто из искусственной кожи и трико, которые на тебе сейчас… Какая девушка в твоем возрасте может позволить себе такие вещи? А что такого ты сделала, чтобы это заслужить? Получала удовольствие. Услаждала свой псином. Остальное – тишина, дорогая моя. Скорее, невежество. Тебе и не нужно ничего знать: лучшая наживка – ничего не знающая наживка. А невежество – вполне приемлемая имитация невинности… Невинность же – это противоположность притворству. Это такое Адамово состояние, до грехопадения, когда еще и половых различий не было. Твоя сестра в достаточной степени невежественна, чтобы казаться невинной. Если это чудовище на нее клюнет, его псином пробьет от наслаждения и он, скорей всего, сам себя обезвредит. Именно так думают в отделе, и ты это знаешь.
– Нет, я этого не знаю.
– Ты это знаешь! – настаивал Женс. – Не твоими эмоциональными мозгами, конечно. Твои эмоции вынуждают тебя хотеть защитить ее. Однако, обрати внимание, чем больше ты стремишься ее защитить, тем более невинной она становится, поскольку тебя она отвергает, а Наблюдателя выбирает. Единственное, что у тебя получается, – это приправить ее своей заботой, как специями. Прости мне это сравнение, но к этому часу у меня обычно разыгрывается аппетит и я начинаю думать о еде… Желая защитить, ты доводишь ее до нужной кондиции. И твоя сестренка становится еще более лакомым кусочком, сладким, почти приторным… Перфис полагают, что Наблюдатель помрет от несварения. Теперь понимаешь, почему ее не отставляют? Краснеешь – вижу, что понимаешь.
На самом деле я ощущала дикую ярость. Я знала, что Женс прав: Падилья никогда, ни на минуту, не думал отстранять Веру. Он верил в ее наивность, как в бомбу, завернутую в подарочную бумагу. Откашлявшись в носовой платок, Женс прибавил:
– Точка зрения, которую нужно принять в этом деле, сводится к вопросу: сколько наслаждения ты можешь дать этому монстру? Много? Тогда ты не годишься. Все? Тогда, возможно, годишься.
– Я знаю, какая принята точка зрения.
– О да, но только теоретически. Однако ты ее не приняла. Какого черта, куда подевался мой карман? – Он пытался сунуть влажный платок в карман светло-зеленых брюк. – Одежду мне покупает одна сеньора, но, похоже, она ее выбирает, имея в виду устроить тест с целью профилактики Альцгеймера… Ага, вот он…
Увидев его – такого старого, такого дряхлого, я совершила ошибку, воззвав к его сочувствию:
– Но речь идет о моей сестре… Может быть, все, что вы говорите, верно, но Вера…
– О нет, сеньорита. Нет-нет, здесь вы ошибаетесь: речь идет о Наблюдателе. И всегда речь идет только о нем. Вы, наживки, имеете какое-то значение лишь в той мере, в которой привлекаете монстров. Ты достаточно ядовита, но ты не дашь ему столько наслаждения, сколько сможет дать Вера, и именно по этой причине он выберет не тебя, как бы томно ты ни дышала и ни предлагала себя. Кроме того, этот псих – гений, и он никогда не выберет профессиональную наживку. У него есть свой трюк. Веру же отличает требуемая неопытность…
– Он выбрал Элису Монастерио.
Женс внезапно приблизился семенящей походкой. В стеклах его очков я увидела двойной макет себя самой – этакие куколки вуду, пронзенные его взглядом.
– Не играй со мной, дорогая. Монастерио была еще одним новобранцем… Хотя должен признать, что в случае с этой девушкой есть некоторые шокирующие детали… Наверное, нужно подождать, что…
Вдруг мне послышалось что-то странное. Сначала я подумала, что мне показалось, но увидела, что Женс тоже обернулся к улице. На несколько мгновений мы замерли, но было тихо, и я решила, что источник крика, если это был крик, чей-нибудь включенный телевизор. Женс посмотрел на меня, явно раздраженный. Он всегда был одного роста со мной, но из-за сутулой спины его голова оказалась теперь на уровне моей шеи. Он казался похотливым старичком, заглядывавшимся на мою грудь.
– Ну ладно, если подытожить – зачем же ты пришла?
– Я уже сказала: мне нужна помощь. Называйте это как угодно. Я люблю сестру. Вы можете даже думать, что это псином. Правда, я приму эту игру. Но я люблю свою сестру и хочу, чтобы я, а не она отловила эту сволочь. Вы знаете, что за трюк он использует, чтобы избегать профессиональных наживок. Что вы хотите в обмен на то, чтобы поделиться со мной этим?
– «Хочу… Хотите…» – Порыв ветра вынудил Женса схватиться за поля шляпы. – С каких это пор на охоте воля наживки оказывается самым существенным?
– Я всегда была самой эффективной наживкой, когда меня готовили вы.
На этот раз мне показалось, что похвала его несколько смягчила.
– Диана Бланко… – Он остановился и хрипло рассмеялся. – Помнится, впервые увидев тебя, я сказал: «С таким-то именем просто нельзя быть чем-то другим, кроме наживки. Диана Бланко[42]… На тебя нацелятся все монстры в мире… Бог мой, это же идеально!» – Какое-то время он смеялся над собственной старой шуткой. – Как там звали эту девицу, которая нас покинула до того, как стала наживкой? «Командирша» – так вы ее обозвали…
Я ему напомнила имя, и он кивнул, довольный:
– Да, Тереса Обрадор… Я помню ее в пантомимах с этим боа из желтых перьев, таких же желтых, как трико, которое на тебе… А ты никак не могла принять ее превосходство. Ты восставала. Клаудия тоже не была смиренной, но совершала ошибку, стараясь ею казаться, а ты – ты всегда вела себя естественно…
– А вы отчитывали меня за то, что я не полностью отдаюсь игре.
– Я – отчитывал, да. Знаешь почему? Чтобы усилить твое наслаждение. Трудности доставляли тебе особое удовольствие. Твой псином просто лихорадит, когда ты сталкиваешься с тем, что требует усилий… Любительница Труда, ясное дело. И сейчас, разумеется, тебя привлекает Наблюдатель. Ты говоришь, что хочешь защитить сестру. А я тебе скажу, что он – именно то, чего ты сама больше всего желаешь.
– Я же сказала, вы вольны называть это как угодно.
– Да, но важно знать мотив. Очень важно. Я кое-что скажу тебе. Ты наверняка все эти годы задавалась вопросом, с чего это я решил исчезнуть, зачем затеял весь этот спектакль с предполагаемой смертью. В общем, правда в том, что… это не я ушел. – Он делано рассмеялся. – Это как в тех упражнениях, помнишь, когда требуется возбудиться, не желая этого, а потом снова остыть: они говорили мне, чтобы я оставался, но всячески вынуждали меня уйти. История с Ренаром… В самом деле, она разрослась до того, что стала восприниматься не просто как провал, а как скандал. Я истощил их терпение, и они дали мне пинка под зад. Но «не прибегая к унижению», как они сказали… Если бы было возможно, мое имя просто вымарали бы из телефонного справочника. И знаешь почему? Потому что я оказался в дерьме, но – в их дерьме. Им не удалось избежать необходимости тронуть меня, хотя бы и в перчатках. Так что они горели желанием, чтобы я «исчез», и мне пришла в голову идея разыграть собственную смерть, а Падилья придумал этот фокус с яхтой… Падилья поведал обо всем Алваресу, а уж тот – ты и сама знаешь – просто лакей Великой блудницы вавилонской, на том и сошлись. Они хотели втайне продолжать меня использовать. Я у них теперь «консультант» Министерства внутренних дел. Они меня презирают, но обращаются за советом. Знают, что без меня не обойтись. Они знают это уже целых пятнадцать лет. Посмотри вот на этот район… Парк Бомбы, разбитый на месте воронки площадью в три квадратных километра… А всего парочка инфильтрованных наживок – только двое, больше и не надо – могла бы проникнуть в террористическую группу и предотвратить эту катастрофу. Но вместо этого – во что они играли? В шпионов двадцатого века: микрофоны, слежка, анализ интернет-трафика… Обычная фигня. Не понимая того, что никакие технологии уже не могут остановить безумие… Только случайность привела к тому, что все изготовленные ими килотонны взорвались здесь, в районе за окружной дорогой, а не в самом центре города. Десять тысяч погибших. Двадцать тысяч раненых. Тридцатипроцентный рост раковых заболеваний среди оказавшихся в зоне ядерного поражения. После 9-N – да, заторопились с использованием наживок. А сейчас… политики, не важно, к какой бы партии они ни принадлежали, переглядываются, пристыженные, словно трансвеститы в раздевалке, и говорят: «О да, нам пришлось от него избавиться. Он дал маху с этим Ренаром… Его девица, Клаудия, облажалась, и Ренар перетер ее в порошок… Но нам нужны его наживки. Нам нужен Виктор Женс. Больше, чем когда бы то ни было».
Откуда-то издалека, с самых границ слышимости, приближалась сирена полицейской машины, но лицо Женса по-прежнему было обращено ко мне, словно он ничего не слышал.
– Уже не помню, к чему это я… – произнес он.
– Вы рассказывали, по какой причине должны были исчезнуть.
– А, ну тогда ты уже все знаешь: я им помогаю, но тайно. Их отчеты – они также и мои.
– Но кое-какую информацию вы наверняка оставляете при себе, – отозвалась я, и Женс, который, казалось, заинтересовался сиреной, вновь перевел на меня взгляд. – Я-то вас знаю, профессор. Ваши теории остаются при вас, вы их держите в секрете. Что я должна сделать, чтобы вы передали их мне?
В эту секунду произошло нечто. Вернее, сразу две вещи.
Первая: подъехала полицейская машина – огромная, завывающая, остановившись на углу, она, казалось, выплюнула наружу своих пассажиров, словно под действием распрямившейся пружины. Их было двое, одна – женщина, хотя пол нелегко было определить из-за снаряжения: униформа с касками, всякими трубками и системой контроля, только лица отличались. Похоже, оба прошли обучение по одной программе и практически одновременно взяли оружие на изготовку. Дула были направлены на супермаркет. А из него выкатилось и нечто второе: трудноопределимое, предваряемое новыми криками (теперь вполне уверилась, что и раньше прозвучал крик), проклятиями, смятением. Этих тоже было двое, и тоже вооруженных, и один тоже оказался женщиной. Я узнала ту самую женщину в кожаном берете, которая чуть раньше вошла в супермаркет. Она обливалась потом, отдуваясь, зыркала по сторонам, как зашоренная лошадь, но ее корпулентность и огромные ручищи наводили на мысль, что это может быть либо переодетый мужчина, либо транссексуал. У второго глаза были узкими, как у китайца, но и он, и она вполне могли оказаться испанцами. Каждый имел заложника: женщина держала за горло служащего в белой форме, приставив к нему автомат с разрывными пулями, а ее напарник удерживал беременную женщину. Все кричали.
Женщина-полицейский потребовала поднять руки вверх, в ответ женщина в кожаном берете перевела дуло автомата на нее. Оглушительный грохот заставил меня моргнуть. Я соображала, что в моих силах предпринять, чтобы положить этому конец, и решила: ничего. Кожаный берет палила наобум, но у нее в руках было оружие, убить из которого способен и ребенок. Левое плечо женщины-полицейского разлетелось осколками – в полном соответствии с названием «разрывные», – а тело ее, ударившись о дерево, оказалось отброшено на расстояние в несколько метров. Ее коллега, мужчина-полицейский, закричал «вот дьявол!», «черт возьми!», что-то еще в этом духе и поднял руки, сдаваясь.
– Что ты делаешь, вот дерьмо! – завизжал узкоглазый, обращаясь к тетке в кожаном берете. – Что ты наделала?! Замочила полицейского!
– Она чуть в меня не выстрелила! – кричала его сообщница, вернее, вопила. – Чуть не выстрелила!
В следующую секунду я уже могла рассуждать. И первой моей мыслью было: «Так, а результат? Что они взяли, кроме заложников? Они ведь даже соседний банк не ограбили! Это всего лишь супермаркет, бог мой! И что они получили?» И тут же я поняла, что дело не в этом. Все были напуганы, это ясно, – и мы, и они, но они гораздо больше. Может, еще и накачаны наркотой. Завтра вся история займет не более трех сантиметров площади на мониторе компьютера: «Вооруженное нападение на супермаркет в Мадриде, ущерб оценивается в…» Сущий пустяк, ноль по сравнению с бомбой 9-N, всего-то парочка идиотов. Но это тоже выглядело ужасно.
– В машину, блин! Давай в машину!
– Они нас опознают! – завизжала ненормальная в кожаном берете. – Эти! Они нас видели!
И вдруг оба – Женс и я, даже не успев испугаться, разом осознали суть ситуации: обезумевшая тетка в берете контролирует наши бедные жизни. И наши бедные жизни внушают ей бесконечный ужас.
И пока узкоглазый, прикрываясь беременной как щитом, подбирался к дверце своей машины (но со стороны пассажира, где было безопаснее), Большая Шефиня отступила назад и уставилась на нас выпученными глазами. Фиолетового цвета шевелюра выбивалась из-под берета, а еще кожаный сапог и что-то вроде бирюзовой майки виднелось из-за белой униформы умиравшего от страха служащего супермаркета. Мне пришло в голову, что ее филией могла быть филия Разморожения.
– Чего пялишься, козел, засранец старый? – Она снова подняла свой автомат и направила дуло прямо в Женса, стоявшего, как и я, метрах в пяти.
«Будет стрелять» – это было второе, что я подумала. У меня перед глазами лицо Женса – белое и блестящее, как балетки танцовщицы. Я видела Женса-мертвеца. О нем и вообще не напишут в новостях – ведь он один раз уже умер. Возможно, мне разрешат написать правду в своих мемуарах, когда мне будет лет восемьдесят: «Женс умер на моих глазах, на этот раз – всерьез, причем самым идиотским образом, который только можно себе представить: разорванный пулями на куски, выпущенными из автомата некой drag-queen[43] под кайфом, что вышла из супермаркета, в котором она, возможно, воровала колбасу…»
Один удар сердца. Два.
Оружие у нее в руках – двуствольный автомат с проводами, крепящимися на запястье. С детектором цели и датчиком движения, который поворачивает руку, если стрелок окажется захвачен врасплох. Даже в Испании можно купить такую штуку через Интернет, на таких сайтах, как, например, www.vi-tranz.co. Оплата при получении товара. Полная конфиденциальность. К оплате принимаются карты VISA. Чрезвычайно мощное оружие.
Но я – тоже.
Шансов в пользу филии Разморожения было немного, но в запасе не было ни времени, ни второго шанса. «Познай свою добычу, – говорил Женс на тренировках. – Изучи каждый ее жест, прислушайся к ней, выясни, чего она желает. И удовлетвори ее».
Один удар. Я сняла солнечные очки, чтобы лучше видеть. Два удара. «Осознанно относись к своей одежде, к своей позе и к своему окружению». Я синхронно подняла обе руки – одинаково медленно, чтобы привлечь ее внимание и не дать выстрелить в Женса. Выиграла еще один удар. Автомат переместил свою ужасную темную морду. Теперь в качестве мишени drag-queen избрала меня. Я отвела взгляд, расставила ноги и напрягла мышцы. «Псином – это как бы невидимый спрут: он вытягивает свои щупальца и начинает тебя ощупывать. Касается твоей сексуальности, твоего подсознания, твоих мыслей». Я отвела поглубже в тыл сознание. Заморозилась, как мы называем это между собой. Выиграла еще один удар. Но почувствовала, что моя добыча всего лишь колеблется. Она выстрелит в меня. В адекватных декорациях – в усадьбе мы разыгрывали Разморожение перед стеной, окрашенной в розовое, – мои жесты стали бы решающими. Но сцены в моем распоряжении не было. «Импровизируй. Ты – актриса. На тебя смотрят. Импровизируй…»
Три удара. Маска Разморожения базируется на изменении сексуального восприятия с помощью жестов, как в тех пьесах Шекспира, где мужчина изображает женщину, которая изображает мужчину, который изображает женщину. И я решила использовать пальто. Правой рукой запахнула воротник, пряча грудь. Волосы у меня были собраны в пучок на макушке, так что я приподняла лицо, чтобы его не было видно и в глазах добычи мои волосы выглядели бы короткими. А потом быстро наклонилась и развела лацканы пальто, демонстрируя округлости грудей, обтянутых трико. Андрогинное существо – и того и другого пола сразу.
Кажется, я даже почувствовала: ей понравилось.
Наслаждение обладает собственными звуками. Я подумала, что слышу один из них: звук сдерживаемого дыхания.
Моя добыча выпустила заложника, и он осел на землю, плача и стеная, а потом в замешательстве, не сводя с меня взгляда, опустила автомат.
Когда ее настиг выстрел полицейского, я знала, что она умерла, желая меня.
Вскоре Женс и я повернули назад, повторяя в обратном направлении свою недолгую прогулку. Позади осталась суматоха полиции, карет «скорой помощи», пожарных машин и всех тех служб, которые оказываются тут как тут, когда катастрофа уже произошла. Жертвы: женщина-полицейский, один из грабителей. «Китаец», увидев, как упала его сообщница, сдался. Заложники спасены. Счастливый финал Грабительского Нападения с Целью Умыкания Вареной Колбасы. Женс со смиренной иронией прокомментировал ситуацию следующим образом: «Маленькие неудобства жизни вдали от центра» – и больше ни он, ни я не произнесли ни слова. Как будто вышли из театра после просмотра захватывающего спектакля. Но настал момент, когда Женс остановился и принялся постукивать тростью о землю. Даже не взглянув на меня, он заговорил, но я заметила, что он улыбается.
– Должен признаться: давно уже, несколько лет, не видел тебя в деле, но ты… умопомрачительно прекрасна. Никогда не думал, что Разморожение можно сделать именно так… Диана Бланко, самая быстрая наживка на всей Миссисипи…
Какое-то время он ковырял тростью дорожку. Я, естественно, молчала. Было понятно, что он к чему-то склоняется, так что я просто ждала.
Потом Женс произнес:
– Полагаю, что должен тебя отблагодарить. Ты спасла мне жизнь. Кстати, – прибавил он, прекратив ковырять землю, словно его осенила внезапная идея, – я живу совсем недалеко. Давай-ка проводи меня. Покажу тебе, как правительство оплачивает мои услуги. И я хочу кое-чего взамен.
– Взамен чего? – поинтересовалась я.
Но Женс уже двинулся вперед ковыляющей походкой, ничего не сказав в ответ.
15
Мне казалось, он должен был жить в каком-то особенном месте, нездоровом, что ли, но все мои фантазии развеялись как дым, когда мы вошли в маленькую квартирку – «третий этаж, левая дверь» – одной из новых многоэтажек в районе «Нулевой зоны». Дома, прижавшись друг к другу вдоль улицы, выглядели совершенно одинаково и безлико: белые стены с дырками окон, забранными зелеными жалюзи. Дверь парадной оказалась окруженной рвами и осажденной экскаваторами. Набрав комбинацию цифр на домофоне, Женс обтер строительную пыль о бирюзовые брюки. Потом я стала свидетелем его покрасневшего лица и пыхтения, пока он поднимался по лестнице, потому как – пояснил он – лифтом он не пользовался. Уж и не знаю, входило ли в его намерения вызвать во мне сочувствие. Однако в первую очередь он вызвал мое изумление.
– Ничего особенного, без излишеств, – произнес он банальные слова, приглашая меня пройти. – Можешь оставить пальто на этом стуле… Вытирать ноги о коврик вовсе не обязательно. Тем более что и коврика нет… – И вновь натужный смех. – Моя советская детинушка все уберет, когда явится.
На самом деле меня удивило не отсутствие роскоши. Его мансарда со скрипучими полами в Париже или особняк в Барселоне также являли взору спартанские интерьеры. Но здесь недоставало истории, всегда столь важной для Женса. Я помнила, как он презирал людей, равнодушных к истории. И говаривал, что единственный смысл существования – в прошлом. Он занимался коллекционированием: огромные полотна с морскими пейзажами, мебель с роскошной обивкой, грандиозные книжные шкафы, ароматы средств по уходу за древесиной. Он очень гордился своими каталонскими и итальянскими корнями, а также династией именитых медиков, венцом которой стал его отец, хирург Рикар Женс. Он старался подражать предкам в их привычках, жестах, словно хотел показать воображаемой публике, что существовал еще до собственного рождения. «Чтить прошлое – обеспечивать будущее», – обычно говорил он, цитируя своего отца.
Но, судя по этой квартире, не было в мире ничего более необеспеченного, чем будущее Женса.
Обезличенность этого мирка пугала. Это как застать молодого парня за обедом в столовой дома престарелых. Меня это навело на мысль, что Женс согласился на это в обмен на нечто другое: деньги, быть может, или анонимность, или что-то еще. Я начала нервничать.
– Этот дом – настоящий муравейник пенсионеров среднего достатка, – пояснил он, пока искал какое-нибудь место (или особое место) для только что снятых шляпы и жакета. – Мы, можно сказать, в общем ладим, но я уже бросил ходить на ежемесячные собрания, поскольку некая шестидесятилетняя молодка положила на меня глаз. Избежать этого она не может – таков ее псином, хе-хе. Не нравятся мне соседи, – вынес он свой вердикт, в чем совершенно не было нужды, поскольку я уже по пути, на лестнице, заметила, как он поглядывает на соседские двери – как на норы опасных хищников. – Присаживайся, пожалуйста. Что будешь пить? Могу кофе сварить, а может, Аннушка уже сварила и оставила… Есть и вино. Среди моих знакомых – владелец винодельни, и на каждое Рождество он присылает ящик вина. О, да не беспокойся ты из-за этой грязи…
Я и вправду смотрела на свои испачканные сапоги, но мне подумалось, что этой фразой Женс стремился замаскировать специфичный взгляд, которым он меня оглядывал, особенно мое желтое трико с прозрачными боками. Я осталась стоять, повесила пальто на спинку стула и попросила стакан воды. Возникшая пауза позволила мне завершить осмотр. Судя по всему, это была двухкомнатная квартира: гостиная, кухня и спальня, не считая ванной комнаты в дальнем конце крестообразной прихожей. Гостиная – светлая, в обстановке преобладают металл и пластик, и ни следа прежних сокровищ. Взгляд в первую очередь притягивают книжные полки, забитые битком, стол со встроенным монитором и репродукция чандосовского портрета Шекспира (единственное, что осталось от прежних времен) на маленьком свободном от полок кусочке стены. На столе апельсиновые корки на тарелочке, рядом грязный стакан из-под кофе с молоком. И запах как в склепе – так пахнет убежище беглеца.
Женс вернулся, шаркая серыми домашними шлепанцами, фиолетовый шейный платок вкупе с зеленым джемпером, бирюзовыми брюками и белоснежными волосами делал его похожим на экстравагантного актера. Очки он снял, явив миру бледно-голубые глаза. Взяв из его рук стакан с водой, я заглянула в них и обнаружила отблеск столь характерной для Женса силы. Но она тут же была потушена нахлынувшей старостью. Он извинился, будто о чем-то забыл, подошел к столу и повертел рукой перед монитором. Понятно – медицинский осмотр онлайн. Обратила внимание на подмигивание медицинского браслета на костлявом левом запястье.
– Давление у меня скачет, – пояснил он, разглядывая на мониторе показатели, сопровождаемые прерывистым пиканьем, – и то обстоятельство, что сегодня в меня чуть было не всадили пулю, никак не могло послужить его выравниванию… А еще я держу под контролем пульс и сердечный ритм… По-видимому, мне все же хочется жить и быть здоровым как можно дольше, иначе никак не объяснить, какого черта я так дергаюсь по поводу этой ерунды…
Я сделала пару глотков и вдруг подумала, что драма Женса волнует меня куда меньше, чем моя собственная. И что моя, во всяком случае, требует более срочного вмешательства.
– Чего вы хотите от меня, Женс? – выдала я с ходу. – Скажите же, наконец.
– Чего я от тебя хочу? А чего я вообще могу хотеть? – Его глаза скользнули по моему телу, с головы до ног, а потом вновь устремились к монитору. – Наслаждения, конечно. Этого мы все хотим, без исключения, причем каждую секунду. Даже когда стремимся к страданию, единственное, чего мы жаждем, – это наслаждение. Да ты и сама знаешь.
Я стиснула кулаки. Воспоминания об унизительных упражнениях в поместье и за его пределами стали взрываться у меня в голове, стоило ему об этом заговорить. Я продолжала смотреть на него сквозь свои темные очки.
– Это не ответ.
– Но это единственное, что я могу предложить тебе в качестве ответа. – Взмахом руки он погасил монитор. – Ты, как всегда, ищешь такого ответа, который сможешь понять. Ученица перед преподавателем… Сколько сил я потратил, чтобы излечить тебя от этой мании! Знаешь, чего я хочу? Хочу видеть сны. Не спать, заметь… Сплю я как младенец, причем без снотворного. Но ночи мои абсолютно черны, как будто кинолента моего подсознания уже закончилась и никакого второго запуска не предвидится. Я делаю исключительно то, что хочу делать. По моим ощущениям, даже сердце мое бьется только потому, что я прилагаю к этому усилия. Я соскучился по бессознательным действиям.
– Станьте наживкой, – сказала я.
– Очень остроумно… – Он опять хрипло хохотнул, кокетливо приглаживая все еще густую белоснежную шевелюру. – Я не пытаюсь вызвать у тебя сочувствие, дорогая, я всего лишь отвечаю на твой вопрос…
– Вам не удалось ни то ни другое…
Он сделал паузу и неожиданно показал рукой на окно:
– Хочу море. Еще одна вещь, которую я хочу. Я по нему скучаю. В Барселоне мне нравились даже пасмурные дни – там море. А здесь, в Мадриде, слишком много пыли. Скверное место, чтобы ждать. А я только и делаю, что жду, впрочем, как и все. Надоело малость, но кто же может вот так запросто покинуть этот зал ожидания?
Я даже не попыталась расшифровать эти слова. Не понимать его я уже привыкла. Женс жил именно для того, чтобы оставаться загадкой. Понимание для него равнялось разрушению.
– В конце концов, – прибавил он, – я не хочу даже твоей любви. Я не твой отец.
– И правильно делаете, – прошептала я.
– Я хочу всего лишь показать тебе собственную вульгарность. Вернее, мою кажущуюся вульгарность. Если бы ты была непривлекательна, то, даже будучи наживкой… Но посмотри на себя: двадцать пять лет – и такая красивая… Ты слегка поправилась, что очень тебе идет. И то, как ты выглядишь, – это… умопомрачительно… Когда мы сюда шли, на тебя ведь оборачивались на улице, моя дорогая…
Говоря, он вцепился в спинку стула, как будто, чтобы оставаться на ногах, ему была нужна опора. Он вдруг показался таким старым, что его комплименты приобретали и вправду некое патерналистское звучание.
– Завтра я стану притчей во языцех этого квартала руин… Мои соседи-старички наверняка будут спрашивать, кто ты такая… Некоторые припомнят, что недавно видели тебя на экране в качестве кинозвезды. «И как это он смог позволить себе такую шикарную девочку?» – будут они ломать голову. И как раз это – вульгарно. Ненавижу вульгарность.
Сгорая от нетерпения, я перебила:
– Скажите же мне, чего именно вы хотите, вульгарно оно или нет, и я отвечу, смогу ли это сделать.
Он казался не столько удивленным, сколько обеспокоенным, но я уже знала, что в определенном возрасте обеспокоенность перестает нас удивлять.
– Отчасти то, чего я хочу, – это объяснить тебе, почему я этого хочу, – ответил он, на секунду перестав притворяться ласковой бабулькой и показав волчьи клыки.
– Эту часть я уже поняла.
– Но не твоим эмоциональным мозгом. Ты это рационализировала, только и всего. Но твои эмоции всегда берут верх, как бы твоему разуму ни хотелось их контролировать… Твой разум очень похож на пучок у тебя на голове: сложный, но неспособный вместить в себя все волосы. Забавно. Припоминаю, что я уже говорил нечто подобное – когда мы только начинали. В свои шестнадцать ты была просто огонь. Ты только что открыла для себя удовольствие быть наживкой, а я твердил тебе: «Диана, прячь эмоции. Если ты хочешь быть наживкой, ты ею не станешь. Это та уникальная работа, которая делается только тогда, когда ее не хочешь делать». И тем не менее я всегда знал, что ты будешь одной из лучших. Поэтому и отобрал тебя, разве не так? Для индивидуального тренинга. И здесь как раз та точка, к которой я и хочу прийти: я четыре года воспитывал тебя. Ты была прелестной девчушкой. Я видел в тебе все, что следовало видеть, и заставлял тебя пройти через все. Некоторые сластолюбцы умудряются помереть после целой жизни разврата, не испробовав и половины того, что делала ты у меня на глазах. Так же, как и Клаудия Кабильдо или та англичанка – Майя Андерсон, ее я тоже тренировал, или Мигель Ларедо, или Альфредо Фроммер… Извини, но я должен быть предельно ясным. Может, я тебя о чем-то и попрошу, но вовсе не желаю походить на вульгарного похотливого старика. Собственная просьба гораздо сильнее унизила бы меня, чем ты, стараясь меня ублажить…
– Я же вам сказала, что уже все поняла.
– Пусть так, – согласился он.
Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Я изо всех сил старалась подавить отвращение и страх, которые ощущала в его присутствии, показать, что я уже не его «ученица», которая жутко трусила, но все-таки выполняла упражнения, стоя на мачте его яхты. Но вдруг я поняла, что кое в чем он прав: как наживка, я проделала уже довольно разных штук, чтобы еще одна имела для меня какое-то значение. Нужно просто-напросто соглашаться, и все.
Я сняла очки и убрала их.
– Я сделаю то, что вы хотите, однако желаю получить кое-что взамен.
– Конечно, сделка есть сделка. – Женс изменил тон на нарочито естественный. – Ты хочешь поймать Наблюдателя, ведь так?
– Я хочу знать, как сделать, чтобы он выбрал именно меня.
– Ну, это просто: дать ему наслаждение. Все живые существа хотят только его. На нашем языке это означает: ты выбираешь именно то, что услаждает твой псином. К несчастью, самое большое наслаждение псином Наблюдателя получит от Веры, я уже говорил.
– Ну хорошо, не спорю.
Моя реплика, по-видимому, его удивила.
– В чем тогда проблема?
– Но это его желание – то, которое Наблюдатель принимает для себя сам. Желание, им принятое. А вы говорили, что это лишь верхушка айсберга. Что-то есть и внизу – темная, огромная часть его псинома. И я хочу стать для него тем желанием, которое он не может принять.
– И не сможет отвергнуть. – Женс кивнул, улыбаясь, как будто поздравлял меня. – Ты желаешь стать неотвратимой и совершенной. Однако забываешь, дорогая, что он просто сбежит от тебя. В ужасе. Мы не можем видеть свое потаенное желание, не испытывая перед ним ужаса.
У меня был готов ответ на этот аргумент:
– Но вы можете помочь определить точную дозу. Баланс между его желанием и его страхом. То, что он не сможет не выбрать, даже если это его и пугает.
Женса, казалось, забавляло это подобие экзамена. Я сложила руки за спиной, как прилежная ученица.
– Ошибочность твоей идеи заключается в форме, – заметил он. – Каждый псих – это целая вселенная изощренности и изворотливости псинома, а Наблюдатель в определенном смысле – один из самых изворотливых. Гений наслаждения. Он обладает гедонизмом Фальстафа. Ты полагаешь расшифровать его в пять минут, а это невозможно. Даже я не смогу за это время разложить перед тобой псином Микеланджело или Бетховена. – И вдруг его тон стал холодным, а зрачки расширились. – Ты пришла на встречу со мной именно в этой одежде и именно таких цветов, потому что хорошо знаешь, что меня, с моей филией Ауры, это привлечет. И убираешь за спину руки, а сама предлагаешь мне какой-то балаганный текст, представление паяца, надеясь, что старый профессор поделится с тобой своей мудростью. Ну же, Диана… Совсем недавно, под дулом автомата этой ненормальной, ты сотворила шедевр. Не опускайся же до приемов любительского театра. Не оскорбляй меня своей вульгарностью.
Я и бровью не повела. Женс хитер, но и я не лыком шита – и была начеку.
– Вы говорили о сделке. Значит, вам есть что мне предложить.
– Всего лишь некоторые соображения. Они уже никого не интересуют.
– Мне очень жаль, что я не могу подсластить пилюлю вашего пенсионного состояния.
На мой огонь Женс ответил как всегда – контратакой:
– Ты хочешь спасти сестру, но сама же подвергаешь ее опасности – из-за желания защитить ее, что, как я уже объяснил, идеализирует ее в глазах монстра… – И он покачал головой, забавляясь. – При таком раскладе она оказывается самой совершенной наживкой!
Последняя фраза побудила меня действовать. Порой на наших репетициях Женс занимал позицию адвоката дьявола и садиста, отстаивая идею, противоположную той, которую считал верной. И я подумала, что этим он занят и сейчас.
– Возможно, чересчур совершенной, – сказала я.
– Прошу прощения?
– Это ваши же слова – вы это говорили, когда мы отрабатывали наслаждение при контакте: полное удовлетворение желания полностью его истощает.
– Объяснись. – Он смотрел на меня с интересом.
– Вера может быть тем, чего он больше всего желает, но, если дело только в этом, и больше ни в чем, она ни за что не сможет его обезвредить, будучи выбранной. Наслаждение Наблюдателя достигнет кульминации именно в тот момент, когда она окажется в его руках. Вера поторопится показать ему маску Жертвоприношения, но после этого не будет уже ничего. Желание Наблюдателя угаснет само собой, ни к чему его не поведя. Вы говорили, что только холодность может способствовать тому, чтобы нахлынул жар. Если же я стану его тайным желанием, тем, чего он одновременно и желает, и отвергает, то я смогу поднимать градус так высоко, как захочу, – все выше и выше, пока его не разорвет. И вы это знаете, так что прекратите притворяться. Вы были моим профессором, но я уже не ваша ученица. Не оскорбляйте меня своей вульгарностью.
Я остановилась – словно дыхание перехватило. Лицо Женса оставалось спокойным.
– Ты хочешь стать его вытесненным желанием… Превратиться в то, что скрывает в себе его вытеснение. Блестящая идея! – согласился он, подумав для виду. – Но я не стал бы аплодировать.
– Как это вы говорили? «Не важно, что публика не аплодирует, если тишина в театре абсолютная».
Отсутствие похвалы убедило меня, что наконец-то он мной восхищается.
– Изъян лозунга «Хочу стать его вытесненным желанием» заключается в первом слове, – привел он возражение. – «Хотеть» стать и положительной, и отрицательной стороной желания другого невозможно. Воля направлена на уничтожение бессознательного. Желание в целом всегда символ, оно невоспроизводимо: даже проговаривание его разрушает. Скажи, чего хочет Фальстаф? Я имею в виду Фальстафа из «Генриха IV», а не из «Виндзорских насмешниц»…
Я знала, что Женс имел в виду комичного и искрометного толстяка-джентльмена, прославленного Орсоном Уэллсом в старом фильме «Полуночные колокола»…
– Жить, – сказала я.
– Даже не это. Фальстаф – сам по себе чистое наслаждение: эпикуреец, врун, эмоциональный человек… Он не хочет ничего, потому что хочет всего сразу. Это огромных размеров кукла, набитая сахаром – ключом к чистому наслаждению. Как-то я даже размышлял о том, что этот персонаж может содержать в себе секрет маски, которая станет приманкой для всех филий…
Я кивнула, вспомнив старое теоретическое наваждение Женса:
– Маска Йорика.
– Да, джокер. Я был уверен, что внутри нас, в самом эпицентре нашего желания, где бурлит магма, способная нас разорвать, живут образы, и они одинаковы для всех. Ведь если не так, как могут существовать символы? Там, на самом дне этой пропасти, и твое наслаждение, и мое имеют одну и ту же форму. Вот он – это знал. – И Женс, не прерываясь, указал на чандосовский портрет Шекспира. – Потому-то его произведения трогают всех… Я всегда думал, что маска Йорика скрывается именно в них.
Секунду мы смотрели на портрет писателя: на его остроконечную бородку, серьгу в мочке уха, хитрый взгляд откуда-то издалека. Мне казалось и немыслимым, и тревожащим, что Женс продолжает верить в это Эльдорадо псиномики, легенду, которую в немалой степени сам он и выпестовал, продолжает верить в маску, которая может цеплять на крючок все филии и которую нарек Йориком – именем шута, чей череп держит в руках Гамлет в той знаменитой сцене. Вполне возможно, что это признак его старости.
– Но мне не удалось… – наконец сказал Женс, обращаясь как будто к портрету. – Такая маска требует от наживки той степени бессознательности, которая невозможна в живом существе. Ей нужно стать настолько мертвой, как сам Йорик, чтобы изобразить маску Йорика. Если она таки существует. – Он вновь поднял на меня глаза, и я заметила в них насмешку. – Так что единственный выход, который тебе годится, нереален… Даже Шекспиру не удалось его найти.
– Существуют и более заурядные способы. Использовать мое желание спасти сестру…
– Использовать его в качестве эмоциональной подоплеки – да. – Женс, почесывая подбородок, сделал вид, что раздумывает. – В стиле техники Федера для маски Безделья: как будто ты хочешь не привлечь Наблюдателя, а спасти сестру, и таким образом неосознанно привлечешь его… Ты сделала домашнее задание.
Я не ответила. Женс криво усмехнулся:
– Но только ничего у тебя не выйдет. Наблюдатель обладает особой ловкостью и… я бы сказал, использует дьявольский трюк, чтобы избегать наживок… И если ты не преодолеешь этот барьер, ты его не достанешь.
Вдруг я поняла. У меня появилась полная уверенность в том, что Женс играет со мной, как всегда: он играл с самого начала, чтобы получить желаемое.
– Вы знаете, что это за трюк… – медленно произнесла я. – Скажите, что вы хотите взамен. Чем бы это ни оказалось, скажите, и я сделаю это.
И, словно эти слова явились неким паролем, которого он ждал, Женс взмахнул рукой, и электронные жалюзи за его спиной опустились, погрузив гостиную в полную темноту. Меня ослепил направленный свет торшера. Я ощутила жар, услышала звук передвигаемого стула.
Некоторое время он провел, сидя передо мной на стуле и молча разглядывая меня, в то время как лицо его скрывалось в тени. Проходящий над его головой луч света превращал белую шевелюру в подобие нимба.
И тогда он сказал, чего от меня хочет.
16
Приблизительно в это время – утром во вторник, когда Виктор Женс объявил Диане Бланко, чего он от нее хочет, – Альберто Алварес Корреа, уполномоченный по связям Управления внутренних дел с Криминальной психологической службой, заметил машину. Новая модель «БМВ» цвета маренго с тонированными стеклами была припаркована на противоположной стороне улицы. Алварес не мог разглядеть сидящего в салоне, но знал, что там ему назначена встреча.
В темном пальто, помахивая портфельчиком, Алварес, как дисциплинированный гражданин, посмотрел по сторонам улицы, прежде чем начать переходить. Улица была названа в честь битвы одного славного короля, но Алварес не помнил ни какая это была битва, ни какой это король. Улочка была зажата между двумя огромными бизнес-центрами в Кампо-де-лас-Насионес, и обитали здесь исключительно молодые менеджеры и служащие роскошных автодилеров. Имелись также пара ресторанов и винотека. Вход в последнюю находился в нескольких метрах от автомобиля и был украшен бочками, что вызвало в памяти Алвареса идиотскую историю, которую он услышал утром на «неформальном» завтраке с министром внутренних дел и руководителями отделов разведки, материальных ресурсов и оперативного реагирования Национального разведывательного центра. Они потешались над секретарем оргкомитета некоего летнего семинара с участием иностранных коллег, который включил в культурную программу посещение винного склада.
– В следующий раз нам придется сводить их на сарсуэлу[44], – говорил министр. У него было отличное настроение, хотя Алвареса слегка огорчало, что отличное настроение политиков – почти всегда следствие недостаточной информированности. – Вы приехали в Испанию? Ну так ясное дело! Экскурсия с гидом в винный подвал! Боже, какая пошлость!
– Для таких случаев лучше бы коррида подошла, – внес свою лепту в общее веселье руководитель разведки – длинный, смуглый, нуждающийся в услугах ортодонта, что обнаруживалось при каждой его улыбке.
Алварес нехотя улыбался, примостившись в дальнем конце длинного стола, где пилил ножом подсохший круассан, превращая его в приемлемо мягкую массу с помощью отвратного апельсинового сока. На таких завтраках его не покидало ощущение, что мир разваливается на части, но это никого не волнует, потому что, в конце концов, для этого здесь сидит он – Альберто Алварес Корреа, достойнейший уполномоченный по связям Управления внутренних дел и со всем остальным на свете. Он – и его «ребята».
Он отметил, что при воспоминании о завтраке скрипнул зубами, и постарался направить напряжение в другое русло – перенести его на руку, державшую портфель. Взглянул на часы: минута до назначенной встречи – как раз сколько нужно, чтобы прийти вовремя. Пунктуальность, любил повторять его отец, – половина хорошо сделанного дела. «А вторая половина, папа?» – спрашивал он, когда был ребенком.
«Мои ребята», – думал он, переходя улицу, зарывая негодование, да и другие эмоции, поглубже – на километры под свое сознание, что практиковал довольно часто.
Так их называл министр: «ребята». Алварес не мог не признать, что это название нравилось ему больше, чем «агентессы», как именовала их прежняя госпожа министр внутренних дел, ошибочно полагая, что это непременно женщины. Мало того, госпожа министр и слышать ничего не хотела ни о том, что «агентессы» могут совершать нечто несоответствующее или недостойное их пола, ни о том, что поставленные перед ними задачи предполагают ситуации, в которых не будут «гарантированы конституционные права» граждан. Как подозревал Алварес, эта сеньора полагала, что наживки – это не что иное, как «девушки 007»: доки в боевых единоборствах, шпионаже и гонках на спортивных авто. Он же, как обычно, ограничивался тем, что слушал ее, а также выкладывал ей на стол свои рапорты. За те двенадцать лет, что он занимал достойное и почетное кресло уполномоченного по связям Управления внутренних дел и так далее, он привык иметь дело с самыми абсурдными представлениями, которые очередной министр имел об этом мире. Представление о «ребятах» было далеко не самым худшим.
– Ну, как там ребята, Алварес? – спросил его на завтраке министр.
Алварес, пожимая плечами, выдал любимый ответ:
– Хорошо, господин министр. Распределены по участкам работы. – Это был идиотский ответ типа А. В обычных обстоятельствах другого и не требовалось, но сейчас собирались грозовые тучи, и он счел необходимым воспользоваться ответом типа Б, более изысканным: – Но мне думается, будет лучше, если вы зададите вопросы по каждому конкретному случаю…
– Слушай, раз уж ты сам этого коснулся… – вступил в разговор Разведка и выразил обеспокоенность фактом недавнего появления в Испании ячейки неоталибов. И заявил, что нужно срочно организовать какую-нибудь инфильтрацию в их ряды. «Кого-нибудь из „ребят“», – уточнил он.
Со своей стороны, глава Оперативного реагирования желал знать, что следует сообщить в Интерпол по поводу банды, которая занимается организацией «белой» проституции на побережье в Андалусии. Ее связи и ответвления наводили на подозрения о том, что это часть известной «советской» банды (он использовал профессиональный жаргон, – так обозначались все преступники из Восточной Европы). Нужны «две-три девочки». Он не стал уточнять, естественно, что девочек этих неизбежно должны похитить. Когда же очередь дошла до него самого, министр признался, что спит с делами мадридских Отравителя и Наблюдателя под подушкой, вернее, что эти двое ему спать спокойно не дают.
И все, закончив, взглянули на Алвареса.
Он рассказал, как именно были распределены «ребята» и что является приоритетом в каждом случае, не углубляясь в детали. «Вам детали – лишняя заноза в задницу, – думал он, – вам бы только резюме получать». Он оглядывал их по одному, бросая им кости комментариев и хорошо понимая, как мог бы их напугать, если бы сказал, что без крайней необходимости сам никогда не встречается ни с кем из «ребят». Что все вопросы он обсуждает с Падильей, и всегда – как можно дальше от театров. Что он выстроил высоченную стену между собой и наживками – точно так же, как политики выстроили стены между собой и Алваресом. «Потому что, быть может, кто-то и думает, что существуют такого рода люди, – предполагал он, – но ведь они же не работают в этой стране, в этом городе, бок о бок с тобой».
– Так что все заняты – расставляют сети, – подвел черту Алварес, вовремя припомнив, что слово «наживка» находится под строжайшим запретом в разговорах с высшими чинами испанской полиции, не исключая и ситуации «неформального» завтрака.
– Так-так-так. – Хорхе Мартос, министр, улыбаясь, поглаживал изрядно поседевшую бородку. Алварес покорно ждал: он знал, что Мартос использует прием всех политиков – трижды повторяет одно и то же слово с целью выиграть время. – Без сомнения, пора бы получить какой-то результат, а то смотришь на доклады наших людей – и плакать хочется. Последнее, что они предлагают в связи с делом убийцы проституток, – обратиться в суд за санкцией на проведение обыска в более чем полусотне жилых домов по всей провинции.
Министр никогда не называет его Наблюдателем, вспомнил Алварес, то есть прозвищем, которое ни один человек, не имевший отношения к Психологии, не был способен понять.
– Я им и говорю: «Послушайте, будем реалистами…»
– Какой абсурд! – отозвался Разведка.
– Смешно, – с задержкой на долю секунды сказал Алварес.
– Но я их понимаю, черт возьми, коль скоро surveillance[45] не дает ничего, ничего, ничего… – И нашим и вашим – обычная тактика министра в ходе дискуссий. – У нас десять вертолетов со сканерами слежения летают над Мадридом. А результат?.. Пять напрасных обысков в жилых домах. Поданные на нас судебные иски. Да и вообще все это влетает в копеечку.
– Исходная точка… – Алварес остановился, чтобы откашляться и сглотнуть мокроту, мешавшую говорить. – Прошу прощения… Исходная точка – в распоряжении преступника имеется большой двухуровневый подвал. Однако он, по-видимому, использует подавители сигналов последнего поколения плюс некую модель виртуального конвертера, позволяющего фальсифицировать местоположение дома. Наша новая система способна обнаружить это мудреное оборудование, но если, к примеру, он располагает новым F-SASAT, то есть активатором ложных спутниковых сигналов, в таком случае…
И, зачитывая данные и чувствуя неловкость в роли умного мальчика, Алварес думал: «А поместья? Мы их все позакрывали. Верно и то, что в работе с наживками использовались не совсем гуманные методы, особенно в том поместье, где руководил Женс, – здесь, в Мадриде… Да-да, все так, но… Сейчас не хватает хорошо подготовленных наживок, таких, какими в свое время были та же Бланко или та же Кабильдо. Мы наполовину сократили бюджет Психологии как по этическим, так и по экономическим причинам, и теперь… Чего же ты хочешь? Это все, что у нас есть, – 007, лицензия на убийство, да, вот что мы имеем…»
– Так-так-так. Все, стало быть, под контролем, – кивнул министр.
«„Все под контролем“, вот дерьмо собачье!» – подумал Алварес.
Когда завтрак закончился, он вспомнил, что этот урод даже не заикнулся об исчезнувшей с поля боя наживке, «Элисе Иглесиас», как назвал ее чувак из Оперативного реагирования – так, мимоходом, обращаясь только к Алваресу. Элиса Катедраль или Элиса Монастерио, как бы там ее ни звали, пожалуйста, давай не будем ее упоминать[46]. Ей было всего лишь восемнадцать, давил оперативник. Пожалуйста, давай не будем называть наживок, которые не достигли достойного упоминания возраста, не будем говорить о мальчиках и девочках. «Вы поднимаете шум до небес, когда вынуждены объясняться с французским посольством по поводу похищенной местным психом шестнадцатилетней студентки из Тулузы, но не желаете говорить о девчонках, которые работают у нас наживками…»
Переходя улицу, Алварес почувствовал, как круассан переворачивается у него в желудке. Весь ужас в том, что он вполне мог понять нежелание говорить о них, потому что сам был отцом. «Только вообрази своих детей, разыгрывающих этот маскарад… Вообрази, как они тренируются в поместье, чтобы понравиться какому-то безумцу… А теперь представь их похищенными этим безумцем вследствие того, что никто не захотел вложиться в наживок. Представь, как он терзает их вследствие того, что нет профессиональных наживок, способных отдаться безумцу и обезвредить его». В конце концов, как однажды сказал доктор Женс, «наживки делают то, что им нравится», хотя ни один законник на свете не примет в расчет наслаждение наживки как доказательство законности их деятельности.
Неспокойная совесть подкинула Алваресу еще одно неприятное воспоминание: встречу с Дианой Бланко чуть больше недели назад. С Бланко, одной из живых легенд отдела, которую по чистой случайности он увидел в работе на сцене театра несколько лет назад, впервые ощутив на собственной шкуре власть этих существ. Проклятые наживки, его персональные демоны, его дневные кошмары, его «ребята», которым он не рискнет взглянуть в лицо, но и отойти в сторону не может. Наживки – такие же монстры, как и те, кого они ловят. «И как их инструкторы», – с содроганием подумал Алварес. И вот почему: разве можно утверждать, что Виктор Женс более человечен? И Алварес с облегчением припомнил тот день, когда несуразный психолог покинул их навсегда. Разумеется, он знал, что Женс жив, да и Падилья говорил, что время от времени Женсу отправляют доклады, чтобы узнать его мнение. «Но, по крайней мере, он исчез из поля нашего зрения. По крайней мере».
Он не выносил воспоминаний о докторе Женсе. Грехи доктора были и его грехами.
Его грехи, его падение. Несмотря на то что он ничего не смыслил в псиномной психологии, в связи с инцидентом с участием Дианы Бланко о собственном псиноме Алварес прочел. Филия Двойственности, близкая к другой, названной филией Падения, некоторым образом имела отношение к «Генриху V» Шекспира, где речь идет о смерти Фальстафа, символа «падения» в зрелом возрасте, о смерти от наслаждения, которое юный король был вынужден подавлять. «А может быть, – задавался вопросом Алварес, – от собственного падения, от чувства, что низвергается в моральную пустоту, в ту воронку, где и праведники и грешники – все будут перемолоты без всяких различий?»
Автомобиль с тонированными стеклами, казалось, рос по мере его приближения. Алвареса заверили, что встреча займет не более часа, что, естественно, внушало оптимизм, поскольку в таком случае он сможет вовремя вернуться в свой кабинет в Управлении, закрыть двери и подготовиться к голоконференции с Лондоном, где сейчас живет его младший сын, Исмаил. Шестнадцать лет радостей и забот. О боже, он так хочет вновь увидеть его лицо и худую мальчишечью фигурку. Сын учился в закрытом колледже в Лондоне, где предпочтение отдавалось искусствам и гуманитарным наукам. Парень хотел стать актером, и Алварес пошел навстречу его желанию. В конце концов, чтобы удовлетворить фамильные амбиции высшей прослойки буржуазии, достаточно двух старших сыновей: один – свежеиспеченный бизнесмен, а другой – студент дублинского Тринити-колледжа, страстно желающий стать политиком. Так почему не дать возможности Исмаилу поступать по своей воле? И вдруг Алварес вспомнил, как во время прошлой голоконференции парень жаловался на то, что пьесу, постановку которой он смотрел в театре «Глобус», «обкорнали», как раз «Генриха V». Он еще прибавил: «Конечно же, она – не лучшее, что написал этот человек, правда, папа?»
Алварес хотел держать сыновей подальше от своего мира и его опасностей, хотел защитить их от самого существования наживок, таких же молодых, как и они, наживок, игравших Шекспира, чтобы защищать других. «Потому что кому-то приходится делать то, что до́лжно сделать», – повторял Женс.
Алварес пожалел самого себя, взглянув на собственное отражение в темных стеклах автомобиля. Он увидел там человека, которого видели другие: лысого бюрократа, печально шагающего под серым небом осеннего Мадрида. «Уполномоченный по связям, блин: высосанная из пальца должность, даже не политик… Но ведь кто-то должен этим заниматься, верно? И половины хорошо сделанного дела здесь явно недостаточно, папа».
Машина казалась пустой. Изнутри не доносилось ни звука, никто не шевелился. Пока Алварес обходил ее сзади, собираясь открыть переднюю дверцу и сесть рядом с водителем, он думал: «Они, разумеется, в конце концов попадутся… И Отравитель, и Наблюдатель… Мы поймаем их даже без наживок, это ясно. Это вопрос времени. Вопрос – сколько этого времени нужно». Он некоторым образом был исполнен смутной надежды, поскольку поводом для этой конфиденциальной встречи было как раз получение свежей информации, неких зацепок, по обоим делам. И если Алварес сможет доложить министру о некотором продвижении по обоим, день завершится самым благоприятным образом.
Он протянул руку к дверце, и вдруг в голове мелькнула мысль.
Следуя протоколу этой секретной встречи, он приказал охранникам, чтобы те его не ждали и возвращались в Управление. Отпустил он и шофера, и своего секретаря, который, по обыкновению, повсюду его сопровождал. Алварес был один.
Но эти обстоятельства не должны были его тревожить, поскольку встреча, на которую он пришел, была обыденной. Коды были проверены и подтверждены. Он намеревался встретиться со знакомым ему человеком, как обычно.
И тем не менее он почувствовал внезапную тревогу.
«Представь: там один из этих монстров, за которыми охотятся твои „ребята“, и он ждет тебя – в машине».
Мысль была абсурдной, но уже не впервые его одолевали живущие внутри беспокойные призраки. Работа вынуждала его покидать музейные коридоры министерств и иметь дело и с теми и с другими одинаково жуткими, но противниками – опаснейшими безумцами и ужасными наживками. Никто не был способен понять, сколько мужества, сколько отваги требовалось от него, чтобы день за днем просто продолжать быть самим собой.
Он приоткрыл дверцу. Внутренность салона, насколько он мог увидеть со своего места, оставалась темной и пустой. Порыв ветра – и носа коснулся легкий аромат лосьона.
– Привет! – осторожно произнес он.
– Садись, – ответил знакомый голос.
Почувствовав себя несколько спокойнее, Алварес нагнулся и сел рядом с водителем, пристроив портфель на коленях и подбирая полы пальто, прежде чем захлопнуть дверь.
– Надеюсь, это займет не больше часа, – сказал он, обращаясь к человеку, сидящему на водительском месте, – и оно будет стоить того…
И тут он понял.
В машине они были не одни. Без сомнения, был еще один человек – он прятался до этого момента, пригнувшись, на заднем сиденье, а теперь выпрямился. Алварес увидел, как вырастает его силуэт, отраженный в щитке приборов.
Последнее, о чем он подумал, обернувшись и встретившись с темнотой, – это что на лондонскую голоконференцию с сыном он не успеет.
17
Как всегда, я выполняла свою работу с презрением в сердце. И как всегда, старалась обратить это презрение себе на пользу.
В ушах все еще звучал гнусавый голос, которым несколько минут назад он сказал, чего же хочет:
– Сделай для меня Красоту. В полном варианте. Давненько я ее не видел… Подцепи меня ею на крючок…
– Я не смогу подцепить вас Красотой. Это не ваша филия.
Разумеется, Женса не устроило мое возражение.
– Я приверженец Ауры, и ты знаешь, что сможешь, если сделаешь все хорошо и дашь все… И ты это сделаешь, – прибавил он мягко, но уверенно. – Когда тебе было двенадцать, твоих родителей пытали и потом убили, а сестру жестоко избили. Ты тоже была там, но тебя они практически не тронули. А знаешь почему?
– Я этого не помню, – ответила я, дрожа.
Женс кивнул со своего места:
– О, естественно, ты заблокировала это воспоминание, потому что чувствуешь себя виноватой. И с тех пор ты считаешь, что в долгу перед Верой. Хочешь пожертвовать собой ради нее, хочешь спасти ее и знаешь, что я твой единственный шанс поймать Наблюдателя… И именно по этой причине ты дашь мне Красоту и выложишься полностью. И если ты меня подцепишь, я тебе помогу.
Его мерзкий шантаж не стал для меня неожиданностью. Так всегда Виктор Женс и поступал, и теперь передо мной был прежний Женс, а не любезный старикашка, занятый рутинным медицинским чекингом или поглощением апельсинов вперемешку с кофе с молоком. Я уже привыкла ненавидеть его. И накануне внутренне подготовилась к этой встрече.
– Хорошо, я согласна, – прошептала я.
Меня переполняли злость и презрение к самой себе. Я понимала, что Женс хотел использовать меня как наркотик. Использование тренером наживки для собственного удовольствия являлось неким извращением, отступлением от нормы. Конечно, иногда такое случалось, хотя я не знала ни одной наживки, которая пошла бы на такое унижение добровольно. Но подумала: если мне удастся его подцепить, я смогу вытащить нужную мне информацию даже против воли Женса. Если он ведет грязную игру, я отвечу тем же.
Я осмотрела стену позади себя. Ту, что отделяла прихожую от гостиной. Там имелось зеркало в массивной раме и вычурной формы комод – вещи, пожалуй, излишне броские, но направленный мне в лицо свет нивелировал их, скрывая за моей же тенью. А презрение свое я использую в качестве барьера – для усиления эффекта.
Красота требовала дистанции: прикоснуться к ней – значит разрушить. Это одна из масок Воли. Ее суть – заставить твою добычу поверить в то, что ты недостижима. Степень воздействия Красоты возрастает по мере усиления твоей недостижимости и удаленности, насколько ты сможешь их изобразить. Ключ к ней содержит комедия «Двенадцатая ночь», в которой каждый персонаж влюблен или делает вид, что влюблен, в того, кто ему не подходит.
Женс молча ожидал начала представления. Я не могла следить за выражением его лица из-за света торшера, но представляла его улыбающимся, сутулым, пыхтящим, как старый волокита, заплативший звонкой монетой за скоротечное удовольствие. Это помогло создать дистанцию.
Первое, что я сделала, – отошла на несколько шагов и облокотилась о комод. Расслабила руки, слегка согнула колени и изобразила так называемое изменение состояния – открыла рот, резко выдохнула, а потом вдруг улыбнулась:
– Я верила, что знаю вас, профессор… Думала, что вы ученый, мудрец… Однако теперь вижу, что единственный ваш интерес – развлечения…
Я играла. Текст не имел значения, годился любой, и я импровизировала, используя холодный, издалека идущий голос, необходимый на начальном этапе Красоты.
– Хотите увидеть спектакль? – прибавила я. – Что ж, постараюсь угодить…
– Спектакль не отличается от правды, – прошептал Женс из темноты. – Я знаю, почему ты делаешь это. Ты знаешь, почему делаешь это. Никакого обмана. И ты так же хорошо знаешь, почему сегодня оделась именно так – в это трико, прозрачное с боков… – Его колени выдвинулись из темноты, и, говоря, он разглаживал руками мятые бирюзовые брюки. – Никогда-никогда до конца не понимала ты этого тонкого нюанса, Диана… Если ты притворяешься, а я в это верю, на кой дьявол нужна тогда правда?
– Правда всегда нужна, какой бы она ни была.
– Оставь, пожалуйста. Если я верю, что ты меня любишь, для меня это и есть правда. И если я верю, что ты прекрасна, то ты такова. Я не могу пойти дальше твоей маски. Никто не может. Существует лишь то, в существование чего мы верим. В данный момент я вижу, как ты стоишь здесь, передо мной, и не очень-то много знаю о твоих намерениях… Твои слова, твои жесты… все ли они – компоненты маски? Ты – загадка для меня, как и я для тебя. Но если ты предлагаешь мне разгадку своей тайны и я ее принимаю, то какая разница – настоящая она или нет, можешь мне сказать? Для меня она все равно – разгадка. – И прибавил после небольшой паузы: – Вот только не знаю, к чему я все это тебе говорю… Извини, пожалуйста, я тебя прервал…
Я догадалась о хитроумной западне, которую он для меня готовил. Эти рассуждения, казавшиеся столь уместными, были не чем иным, как обороной. Женс прекрасно осознавал, что на него надвигается, и из кирпичей банальной логики строил защитную стену. Тем не менее его слова о том, что он не знает, зачем это говорит, заставили меня сомневаться относительно его истинных целей.
Он хитрый лис, но ведь и перед ним – не первоклассница.
Пока Женс произносил свою речь, я пыталась составить представление о том, как именно отражается свет от моей одежды. Красота нуждается в ярком полуденном свете, но нам, наживкам, приходится импровизировать с тем, что под рукой. Я наклонилась, вызвав целую волну отблесков на одежде, расставила ноги, уперев правую руку в бедро. Выражение лица – бесстрастное.
– Как бы то ни было, если вы желаете, чтобы я притворялась, именно это я и буду делать, – монотонно произнесла я. – Я дам вам то, о чем вы просите. И плевать на ваши мотивы. – Согнув левую руку, растопыренными пальцами я оперлась о край комода. – То, что вы просите…
Руки к голове, словно приглаживают волосы, начинаю слегка задыхаться. Внимание добычи будет приковано к моему лицу, помещенному в рамку из моих рук. Правая рука медленно ползет вниз – взгляд Женса неизбежно будет следовать за ней. Я остановила ее на уровне бедра и отвела в сторону.
Казалось, на сцене воцарилось спокойствие. Если бы кто-то был свидетелем этого действа, он подумал бы, что старик уснул, но я-то знала: мне удалось пробить брешь в его защите. Сам Женс называл эту фазу «комендантским часом»: псином, полузатопленный наслаждением, начинает бунтовать, а разум стремится сдержать его в тисках навязанного перемирия.
– Ты… хороша, – зашептал он. – Но есть предел, есть у этой маски потолок, и ты это знаешь… Ни одна наживка не прыгнет выше его. Ты проиграешь.
– Возможно.
– Мне нравится, что ты не сдаешься. Что продолжаешь… сражаться.
– Это не я сражаюсь. А вы.
Я подняла подбородок. И сразу же резко опустила голову. Этот прием мы называем «zoom»: внимание публики сосредоточивается на той части тела, которой ты шевельнешь два раза подряд. Фокусники тоже его применяют. Я же использовала его, чтобы изменить выражение лица: некая горделивость. Это отвлечет Женса в достаточной степени, чтобы мой жест соединенных на лобке рук застал его врасплох.
Когда я вновь собралась пошевелиться, старик сказал:
– Возможно, следует оставить это… Остановиться прямо здесь, в этой точке.
Этот комментарий несколько сбил меня с толку. Но, убедившись, что он ничего больше не делает и не говорит, я поняла, что он просто выдал мне еще один пустой текст, чтобы притормозить то наслаждение, которое я вызывала. И я использовала эту слабенькую защиту для усиления натиска:
– Вы об этом просили, и я вам это дам.
Я на ходу придумала трюк, как мне стать недоступной, – создать видимость, что я делаю маску Красоты под принуждением. Я изобразила нервную дрожь дебютантки. Легкое дрожание кончиков пальцев, трепетание ресниц, прикушенная нижняя губа. Я доставляла ему наслаждение, всячески демонстрируя, как противно мне его ублажать. Что было чистой правдой. Но в нашем театре наживки используют правду, чтобы играть.
Он застонал. Я поняла, что могу и дальше поднимать градус.
– Возможно… тебе удастся насадить меня на крючок, – признался он. – Но ты никогда не сможешь найти… Как ты говорила?.. Баланс между желанием и страхом Наблюдателя… Психи наслаждаются видимостью. Для них нет разницы между подмостками и партером… Персонаж для психа равен актеру, и… О господи…
Этот жалобный стон не был притворным. Я и вправду его достала.
Неотвратимо я пролагала дорогу к его псиному.
Но Женс не сдавался: нес свою словесную тягомотину с упорством капитана, который отказывается покинуть тонущий корабль:
– У Красоты есть потолок… И я скажу тебе какой: ты не сможешь не притворяться. А сейчас ты притворяешься, что притворяешься… Ты добиваешься своего, я реагирую, это верно, но мое сознание знает, что ты притворяешься. Ты закрыта в собственном театре… Отсюда и твой провал…
– Сделаю что смогу.
Скрестив руки, я обхватила свои бедра. Повернулась так, чтобы Женс мог видеть отражение моей спины в висящем сзади зеркале. Моя спина будет говорить с ним на другом языке. Два тела – два разных языка.
Следствием моего жеста было то, что он прекратил болтовню и откинулся назад. И тогда я резко разорвала контакт между нашими глазами, словно меня внезапно заинтересовала некая точка на стене. Я давала ему передохнуть, не ослабляя при этом нажима.
Женс воспользовался паузой, чтобы вернуться к своим баранам:
– А как ты убедишь публику в том, что твое представление – правда?.. Публика по определению недоверчива… Как зайти дальше? И сейчас перед тобой та же проблема… Маска может сделать тебя сколь угодно прекрасной, но ты не скроешь тот факт, что на тебе маска… Чем она прекраснее, тем более очевидна…
Я постаралась не отвлекаться на его провокационную болтовню и резко сменила тактику. Повернулась в профиль, и свет ударил в прозрачную часть моего трико. Женс не ожидал этого движения – и онемел. Прельщать его боковой частью тела, обнаженной от застежки на шее до самых сапог, было типичной ошибкой новобранца. При этом разрушалась недоступность, стоившая мне такого труда. Но теперь я пошла дальше. Наклонилась, провела руками от щиколотки до молнии правого сапога, расстегнула ее. И сняла сапог мягкими круговыми движениями, будто втирала в кожу крем. И, раздеваясь, не прекращала говорить – спонтанно, словно ощущала разочарование:
– Да ладно, профессор… К чему скрывать? Если то, чего вы хотите, – вот оно, почему бы не сказать прямо? Я не обижусь, я этого и ожидала… Чего еще может захотеть такой человек, как вы?.. Вы давно живете один… Когда в последний раз вы видели женщину? – Текст был примитивен, но я возлагала надежды на искренность тона.
Я сняла второй сапог и чулки – теми же движениями, не останавливаясь. Обычная ошибка начинающей наживки в маске Красоты – слишком дорого продавать обнажение, скатываясь к эротике, не думая о том, что искушение сокрытым каждую секунду играет против себя самого. Правильная тактика – снижать значимость обнажения, чтобы оно становилось не пределом, а началом чего-то. Таким образом можно усиливать напряжение до подсаживания на крючок.
Женс, без сомнения, догадывался о моих намерениях, поскольку молчание его было полным.
– Ну же, профессор, разве это не то, чего вы хотите?
Босая, я встала перед ним. Расставила ноги. Вначале решила раздеться полностью, но снова подумала, что Женс и этого ожидает. Однако резко прервать обнажение тоже было бы неправильно. Так что я выбрала третий путь, нечто среднее, чтобы сохранить недоступность.
Трико застегивалось на спине на молнию. Я взялась за нее руками, но даже не попыталась расстегнуть. Жест получился естественным, связанным с предыдущими. Я поднялась на цыпочки, представив, словно меня омывает невидимый душ или я намазываю спину кремом. Ему должно было показаться, будто я полностью сниму одежду в следующую же секунду. Я этого не делала, но своими жестами вновь и вновь выстраивала этот образ. Сымпровизированный текст звучал так:
– Бедный профессор… Падший ангел…
И именно в этот миг я поняла, что оказалась в конце пути. Текст иссякает, и я вот-вот потеряю недоступность – как в том случае, если выберу раздевание, так и в том, если буду его откладывать. Двигаться дальше в Красоте, будучи совершенно обнаженной, допустимо, но это могут себе позволить только более опытные наживки, это явно не мой случай.
Я умолкла. Прекратила представление. Осознание своего поражения лишило меня сил.
Послышались еле слышные аплодисменты.
– Великолепно! – сказал Женс. – Великолепно. Эта твоя идея с игрой в раздевание… Слова, родившиеся так естественно… В какой-то момент… – Он провел по лицу рукой. – В какой-то момент ты казалась самым прекрасным, что я видел за многие-многие годы… Но дальше тебе дороги нет, ты это знаешь. Ты проиграла, но я благодарен тебе за попытку. Я получил наслаждение, – прошептал он.
Я чувствовала, что устала от этой игры. Подняла с пола чулки.
– Ну так идите к черту, – сказала я.
– В этом нет твоей вины. Пытаться сыграть Красоту только на одной воле – всегда дело рисковое… Морик использовал специальные декорации для…
– Избавьте меня от урока, будьте добры. Я дура, что пришла к вам. – Подавив слезы, я резким движением застегнула молнию сапога.
– Минуточку, одну минуточку… – Женс, казалось, вдруг взъярился: – Это ведь ты просишь у меня невозможного! Это ты пришла ко мне, чтобы я сказал, как превратиться в лакомый кусочек для этого ненормального, а я лишь хотел показать тебе, каким образом твоя невероятная воля становится в этом случае препятствием… Как только ты пожелаешь, ты действуешь, а как только действуешь, играешь. И ты не можешь пойти дальше…
– Прощайте, профессор. – Больше не было сил его слушать. Я расплакалась бы, если бы не ушла оттуда. Я закончила обуваться и потянулась за пальто, когда Женс произнес:
– И ты не можешь пойти дальше… если только я не скажу тебе как. – Увидев, что я остановилась на пороге, он рассмеялся. – Давай попробуем пролить хоть немного света на это запутанное дело, – прибавил он и повел рукой.
Лампа погасла, жалюзи поползли вверх, до половины окон, впустив полосы серого полдня. Лишившись своего убежища в коконе ослепительного света, Женс вновь превратился в дряхлого старика.
– Скажи-ка мне, какая из пьес Шекспира трактует Красоту?
– «Двенадцатая ночь».
– А что там служит основным ключом?
– Персонажи влюблены в тех, кто их любить не может. Недостижимость.
– А какая пара персонажей в наибольшей степени символизирует эту недостижимость?
Мне это напомнило экзамены Женса в ту пору, когда он меня тренировал.
– Виола и Оливия, – ответила я. – Виола переодевается мужчиной, и Оливия в нее влюбляется.
Женс встал со стула и вдруг принялся звучно декламировать:
– «Что обо мне ты думаешь, признайся?..»
– «Что вы не то, чем кажетесь себе», – отозвалась я, узнав диалог Виолы и Оливии, который Женс заставлял нас разыгрывать.
– «Тогда и ты иной, чем я считаю…»
– «Вы правы: я совсем не то, что есть»[47].
Женс разводил руками, как будто строки плавали в воздухе, а рука его указывала на начало, чтобы я вновь их прочла.
– И что ты здесь видишь? – спросил он.
– Виола признается Оливии в том, что носит чужое обличье.
– Именно так, но Оливия, по всей видимости, тоже это знает. Оливия влюблена в обличье, и в то же самое время она знает, что должна отделять обличье, которое любит, от человека, который его носит, и только таким образом она сможет найти Себастьяна, брата-близнеца Виолы, – то есть обличье, ставшее конкретным живым человеком. «Двенадцатая ночь», – размышлял Женс, поглаживая подбородок, – праздник богоявления, «воплощения»… Одно из самых глубоких театральных произведений. Узнал ли Шекспир о ключах к Красоте в кружке гностиков Джона Ди? Не думаю. У меня всегда было впечатление, что кружок этот – полная ерунда, лишь группка аристократов-нонконформистов, желавших вернуть прежние религиозные нормы, которые по вине Генриха Восьмого и королевы Елизаветы оказались вне закона… Хотя вполне может оказаться и так, что шарлатан Ди имел-таки представление о псиноме… Но что-то я далеко ушел от того, что хотел сказать… Итак, если хочешь стать чем-то, что превзойдет твою сестру, превратиться в потаенное желание Наблюдателя, то, в теории, что ты должна ему дать?
– Все, – сказала я.
– Так просто – «дать ему все»? – продолжал настаивать Женс. – Ну же, Диана, ты ведь была моей лучшей ученицей, как и Клаудия… Наблюдатель чрезвычайно прожорлив, как и любой другой псих. Он хочет твои ноги, твою промежность, твой мозг, твою душу, твой банковский счет, твою машину, твой дом… А еще что? Что еще ты можешь предложить ему, чтобы он предпочел не кого-нибудь другого, а именно тебя?
Теперь он говорил, стоя совсем близко. Я пыталась найти ответ, в то же время ощущая, как моего лица касается его зловонное, обжигающее дыхание.
Вдруг в голове кометой пролетел образ. Некое воспоминание – потаенное, жуткое.
«А сейчас ты будешь смеяться, девочка».
Женс закричал:
– Говори! Он хочет всего лишь то, что ты такое?
– Нет… – Я задыхалась.
– В таком случае чего еще он от тебя хочет?
– Еще он хочет… того, чем я не являюсь…
Взрыв тишины оглушил сильнее, чем наши голоса.
– Именно так. – Указующий перст Женса уперся мне в грудь. – Он хочет твоей лжи, твоих обличий, твоего театра… Ему нужна твоя «Двенадцатая ночь». – Женс улыбнулся. – Он хочет видеть тебя в действии. Наблюдатель хочет получить актрису. – Он выдал эту фразу и заговорил совсем другим тоном – ровным, ничего не выражающим, как будто самое главное было уже сказано. – Попробуй какую-нибудь маску дистанционно: сделай Представление, например, или Экспозицию. Начни у себя дома, день-два веди нормальную жизнь… А потом поезжай в какое-нибудь особое место, которое напомнит тебе о том, что ты играешь, и изобрази Жертвоприношение. Поместье сгодится. Может, там ты его и заловишь.
– Поместье не входит в перечень зон охоты, – отозвалась я, насторожившись.
– Тебе не понадобятся никакие зоны охоты. Он носом тебя почует и сам к тебе прибежит. Доказано, что псином не имеет четких границ: он зависит исключительно от силы наслаждения, которое ты можешь предложить. Безграничное искушение имеет и безграничную зону воздействия. Он нюхом тебя учует и помчится к тебе, возможно сам этого не осознавая. И он придет к тебе, даже если будет вынужден ползти на карачках через весь Мадрид, пуская слюни. – В глазах его блеснула искорка смеха. – Только так ты сможешь обойти его ловкий трюк, который помогает ему избегать великих наживок… – прибавил он.
– Его «сотрудники»… – намекнула я, но Женс отрицательно покачал головой:
– О, не будь такой наивной, он у него всего один. Но зато используется по полной.
– Не может быть… Есть признаки разных филий при выборе жертвы и по трупам…
– Диана, умоляю, ты что, так же глупа, как все профилировщики страны? – Женс хрипло расхохотался. – Ох уж эти «эксперты» и их квантовые компьютеры!.. Может, целая армия «сотрудников»?.. Нет, конечно. Я поставил бы на самое простое: он использует только одного человека, но с аморфным псиномом – псиномом, который еще не сформировался. Поэтому и создается впечатление, что у него филия, имитирующая многие другие, но, несмотря ни на что, сильнее всего в нем влияние Жертвоприношения… Это совершенный ход. – Он пристально смотрел на меня, возможно ожидая ответа, который уже увидел в моих расширившихся от ужаса глазах, потому что сказал: – Это ведь самое логичное, не так ли? Полагаю, его «сотруднику» лет десять-одиннадцать…
Идея показалась мне чудовищной, она не укладывалась ни в какие рамки.
– Он… похитил… ребенка, чтобы тот ему помогал?
Лицо Женса застыло.
– Все еще не понимаешь? – И его физиономия медленно стала расплываться в улыбке. – Я уверен, что он использует собственного сына.
18
Мужчина собирался поехать домой, но передумал и принялся нарезать круги на своей машине.
Ему было жарко в салоне комфортабельного «ягуара-виндзора» – автомобиля, который он использовал в городе. Подумал, что лицо горит. Но мальчик попросил не включать кондиционер, и мужчина послушался – в конце-то концов, уже октябрь на дворе, да и вечер выдался промозглый. Так что он с улыбкой терпел жару, хотя потная правая рука – та, что держала руль, – скользила по кожаному чехлу. Уже начало темнеть, зажигались огни в витринах, горели вывески с изображением длинноногих стильных женщин в высоких сапогах. «Сколько мы уже колесим по Мадриду без определенной цели?» – спрашивал он себя. По меньшей мере часа два, ведь он забрал мальчика из школы в шесть, а сейчас начало девятого. И разумеется, не глупый инцидент со школьной училкой стал причиной его метаний. И не история с Деми, не отмененная встреча с Кристиной, не назначенное на завтра собеседование с этим системным аналитиком, Ребекой Как-бишь-там-ее-зовут, с загадочными зелеными глазами. Ни одна женщина не заставит его изменить своим привычкам. Просто он решил прогуляться перед ужином, вот и все.
Колледж находился недалеко от мансарды в квартале Саламанки, где они с сыном жили, пока не появилась возможность поселиться в загородном доме. Это был новый международный образовательный центр. Мужчине нравилась его утонченная, элитная атмосфера – благожелательность и в то же время требовательность к ученикам, безо всякого там религиозного балласта. Нейтральное воспитание и принципиальное уважение к личности ребенка – и это касается не только отношения к пирсингу и длинным грязным дредам Пабло. Там ограничиваются преподаванием и не лезут в жизнь мальчишек. Очень дорогое учебное заведение, но мужчина вносил плату целиком и наличными, а кроме того, делал еще и щедрые пожертвования, которые автоматически превращали его в глазах администрации в persona grata: не следует относиться с пренебрежением к единственному месту, где мальчик проводит все свое время, когда рядом с ним нет отца.
В ту среду мужчина приехал за десять минут до конца уроков, как обычно. Немногочисленные, но роскошные автомобили, почти каждый – с шофером, уже ожидали на парковке под навесом, и мужчина поставил свою машину поближе к выезду. Ребятня посыпалась из дверей ровно в шесть, эдакие улыбающиеся живчики на фоне серого осеннего вечера, но мужчина не обращал на них внимания, размышляя о собственных делах и бросая в рот миндальные орешки. Поэтому вначале он даже не понял. Он всегда наполнял одну из тарелочек мини-бара в своем авто миндалем. Какое наслаждение – плотная мякоть ореха, цвет загорелой кожи, округлые формы, которые можно укусить…
– Сеньор Леман?
Какая-то тень возле его дверцы.
– Привет, Деми, как дела? – Мужчина перестал жевать, опустил стекло и изобразил любезную улыбку под очками с зеркальными стеклами.
Это вмешательство его раздражало, но ничто в его облике на это не намекало. Он вспомнил, что девушка – одна из новых учительниц Пабло, очень способная, очень мотивированная. По происхождению американка, из Штатов, но образование получала в Лондоне и Мадриде. Мужчине она казалась неопасной – еще одна овца в стаде, по крайней мере, до сих пор была.
– Мне хотелось бы с вами поговорить. У вас найдется минутка?
– О! А что случилось?
– Не беспокойтесь, ничего страшного… – Деми говорила по-испански без ошибок, но с сильным акцентом. – Пабло – очень умный мальчик и хорошо учится… Вот только… Мы могли бы на пару минут пройти в мой кабинет?
– Сейчас не могу, времени в обрез. У меня очень важная встреча.
– Тогда завтра?
В нескольких метрах слева от девушки стоял мальчик: глаза в землю, покорно ожидает окончания судьбоносного разговора. Мужчина улыбнулся еще шире:
– Бога ради, Деми, что происходит? Не будешь же ты терзать меня сомнениями до завтра…
– Да нет, ничего не происходит, правда…
Она слегка покраснела и склонилась к его голове в открытом окне, чтобы говорить потише, теребя бусины своего этнического ожерелья и откидывая со лба челку. Мужчина подумал, что она пытается выглядеть более привлекательной.
– Видите ли, вчера я спросила Пабло, что он делал в выходные, и он сказал, что ходил в кино с одноклассником… По чистой случайности я на днях видела этот фильм, так что поделилась и своими впечатлениями о картине, но он не поддержал разговор… А сегодня я спросила этого одноклассника Пабло… Он не встречался с вашим сыном в прошлые выходные – ни в первый, ни во второй день. Его мать это подтверждает. А когда я вновь спросила Пабло о выходных, он признался, что соврал…
Мужчина расхохотался:
– И это все? Бога ради, Деми, как же ты меня напугала… Выходные Пабло провел дома, это верно. У него не было настроения куда-либо выходить.
– Я знаю. Но я хочу сказать, сеньор Леман…
– Да это всего лишь невинная ложь, как обычно бывает среди мальчишек!
– Нет, сеньор Леман, не «среди мальчишек»… Он обманул меня. Но если честно, то больше всего меня встревожило вот что: когда я спросила, почему он это сделал, он ответил, что ему так захотелось, – и все. И совсем непохоже, что это его хоть как-то задело – ни до признания, ни после. Пабло одиннадцать лет, и вранье в этом возрасте не…
– Деми, – перебил ее мужчина, ослепительно улыбаясь, – мне кажется, ты придаешь излишнее значение банальной вещи…
– Извините, сеньор Леман, но мне кажется, что…
– Пабло – очень умный мальчик, ты сама сказала…
– Никто не ставит это под сомнение, я…
– Но он растет без матери, и это еще больше обострило его застенчивость. Моя роль заключается в том, чтобы в максимальной степени, насколько это в моих силах, предоставить ему помощь и поддержку, но я никогда не смогу заменить ему мать. Никогда. Ты должна это понять.
– Насколько я знаю, Пабло очень вас любит, сеньор Леман. Вы для него – весь мир. И именно поэтому…
– Именно поэтому, Деми, – сказал мужчина, неожиданно резко повторив слова, не повышая при этом голоса, – именно поэтому… – повисла пауза, во время которой он барабанил указательным пальцем по рулю, – …полагаю, что ты совершенно права. Нам нужно следить за его поведением.
Выражение лица девушки изменилось: на нем появилось заметное облегчение.
– Именно так, сеньор Леман, я как раз хотела, чтобы вы пришли к подобному выводу, и только…
– Да, определенно, нам следует заняться этим как можно скорее. Поговорим завтра. Спасибо за все, Деми…
– Вам спасибо, сеньор Леман. Единственное, чего я хочу, – это чтобы Пабло рос счастливым…
– Я знаю, Деми, большое спасибо.
Мужчина раздумывал над тем, какими могут быть соски у этой девушки. Груди у нее маленькие, но он был уверен, что соски – большие и темные, как миндальные орехи, которые все еще зажаты у него в руке, и очень может быть, что быстро твердеют при контакте с водой. Он представил ее в ванне, над поверхностью воды возвышается только грудь. У прелестнейшей рыжей голландки, которую подцепил его отец, после того как развелся с матерью, тоже была небольшая грудь, но мужчина очень хорошо помнил ее острые соски. Девица, когда купалась, имела обыкновение приглашать его, чтобы он на нее полюбовался.
– А теперь мне пора… Пабло, садись в машину. Хочешь орешков, Деми?
Она с улыбкой отказалась – толстеть не хочет.
– Спасибо за все, правда.
Отъехав от школы, он стал колесить по улицам, выбирая их наобум, едва осознавая свои действия. Слова девушки с иностранным акцентом все крутились и крутились в голове: «Спашибо вам. Спашибо». Наконец он повернулся к мальчику:
– В следующий раз, когда столь изощренно кому-нибудь соврешь, потом не признавайся, что соврал.
– Что значит «столь изощренно»? – спросил мальчик.
– Сложно.
Ребенок ограничился тем, что поправил свой ремень безопасности и стал смотреть в окно. Мужчина искоса поглядывал на его сине-голубую бейсболку и длинные каштановые ресницы. В профиль мальчик был очень похож на Джесси, свою мать, а она была красавицей, и пирсинг у него такой же – на губе. И он уже в который раз спросил себя: что сказала бы Джесси, если бы ей удалось дожить до этого дня, о ребенке, которого она для него родила?
Ему стоило больших усилий уговорить ее. Кроме того, что она была одной из самых одаренных в группе его студентов курса информатики в Брюсселе, Джесси еще и занималась балетом, хотя и непрофессионально, и вначале с ходу отвергла саму идею: беременность испортила бы фигуру. Он сделал вид, что смирился с ее решением, но через несколько дней упаковал вещи Джесси и объявил, что, поскольку их отношения не имеют будущего, он вынужден с ней распрощаться и выставить ее из квартиры, где они жили. Она зависела от него – он специально выбрал такую – и в конце концов уступила, обливаясь слезами, примирившись с ним после шампанского и косячков. «У нас будет сын, Хуан, я рожу тебе сына…» Джесси нравилось напиваться, и он воспользовался этой ее «полезной» привычкой, когда пришло время устроить как бы автокатастрофу, в которой и завершилась жизнь молодой матери через два месяца и три дня после рождения Пабло. Разумеется, она не могла остаться в живых, потому что сын был не прихотью, а неотложной необходимостью. Ребенок был его защитой от всевозможных ловушек: мужчина все скрупулезно просчитал. Он думал о перспективе оказаться в тюрьме, мало того, знал, что когда-нибудь туда попадет (а также знал, что выйдет оттуда), но не мог даже допустить возможность попасться в одну из этих ловушек. Этого не будет. Что угодно, только не обман со стороны девицы.
Колеся по Мадриду с целью забыть о банальном инциденте с Деми, он обдумывал, что нужно купить в первую очередь. «Новый ковер на пол. Прорезиненные мешки. Веревку. Пару новых фонарей. Другую дрель. Обезболивающее. Биологический нейтрализатор. Изоленту». Потом провел рукой перед датчиком звука, и в машине загрохотал техно-рэп. Ни мальчик, ни он сам ничем не выдали, что слушают гремящую музыку. Самое срочное – прорезиненные мешки и веревка. Он снял солнечные очки – на улице быстро темнело, и над городом собирались тяжелые тучи – и положил их в верхний кармашек темно-лилового пиджака от Валентино. Ему этот цвет нравился, Пабло – тоже. Другим взмахом руки он выключил музыку. Вдруг вспомнилась забавная картинка: груди трупа с одним соском, торчащим вверх, а другим – провалившимся. А еще он продолжает потеть, хотелось бы знать, с чего это.
– Папа, – сказал мальчик.
– Что?
– Ты не мог бы еще ненадолго включить музыку?
– Нет.
Мальчик пожал плечами, сунул руку в карман куртки и достал портативную игровую консоль. Крутя руль, чтобы свернуть в боковую улочку, мужчина бросил взгляд на один из многочисленных рекламных постеров на тему приближающегося Хеллоуина: тыква, которой девушка прикрывает свои гениталии. Виднелись только руки, живот, округлые бедра. Он где-то читал, что Хеллоуин – праздник очень древний, языческий, сопровождавшийся оргиями, но, как и многие другие, деформированный современной цивилизацией. Мужчины с оленьими рогами на голове, высмеиваемые богиней Дианой. «Богини и рогатые», – подумал он. И, раздумывая над этим, жестом активировал автомобильный телефон. «Колледж. Директор», – произнес он. Прозвучали два гудка, потом послышался голос секретарши, а вслед за ним и сеньора Брука. Разговор получился коротким, но даже при этом мужчина успел подумать кое о чем еще, пока взволнованный директор совершенствовал свой испанский в общении с одним из влиятельных родителей:
– Конечно, сеньор Леман, если таково ваше желание, мы готовы…
– Спасибо.
– Должен тем не менее поставить вас в известность, что Деми новенькая и пока не знает…
Мужчина продолжал думать о том, что еще предстоит сделать. Позвонить Кристине и предложить встретиться в другое время. Послать ей букет цветов. Собеседование с Ребекой, системным аналитиком, которая хочет получить работу в его эксклюзивной компании, назначено на одиннадцать в четверг, то есть на завтра. Он не планировал с ней обедать, потому что она могла прийти не одна, а ему совсем не улыбается, что кто-то будет глазеть на него, пока сам он заглядывает в зеленые глаза Ребеки. Кроме того, завтра утром нужно забрать «мерседес» из сервиса, куда он отогнал его в понедельник, чтобы закрасили царапину на дверце, которую эти двое воришек…
Вспомнить об этом было ошибкой. Костяшки его вцепившихся в руль пальцев побелели.
– …она хороший преподаватель, хотя пока еще и очень зеленая в отношениях…
– Понимаю, сеньор Брук, – нетерпеливо оборвал мужчина. – Но я больше не буду обсуждать эту тему. Я просто не хочу, чтобы эта девушка учила моего сына. На самом деле я больше не желаю ее видеть. Даже случайная встреча с ней для меня нежелательна. И мне все равно, зеленая она или желтая. Если я ее увижу, сеньор Брук, если я ее еще хоть раз увижу, даже издали и с обращенной ко мне улыбкой или даже со спины, сеньор Брук, если я снова увижу ее в вашем колледже, то я поговорю с вашим начальником и заберу своего сына. Но прежде я поговорю с вашим шефом, чтобы ему было совершенно ясно, кто ответствен за ситуацию… Так что выбор за вами.
– Разумеется, сеньор Леман, разумеется… Я только хотел…
– Выбор за вами, сеньор Брук.
– Я… Я уже выбрал, сеньор Леман.
– Благодарю, сеньор Брук. Всего доброго, сеньор Брук.
И он отключился, стиснув зубы. «Есть женщины, которые думают, что все мужчины – мазохисты», – сказал он себе. Он, конечно, может им быть, но до определенной степени. Он вспомнил, что существует одна из этих штук (технические термины вызывали у него беспокойство)… одна «филия» по имени Леопольд, связанная с Захер-Мазохом и с его собственной «филией», а также с пьесой «Виндзорские насмешницы», в которой женщины потешаются над мужчинами, вынуждая их носить на голове оленьи рога. Одна мысль о том, что женщина может над ним смеяться, вызывала у него эрекцию, но он приписывал этот факт не какой-то там «филии», а стремлению к честности: когда женщина смеется над мужчиной, она честна, полагал он. Он и сам порой заставлял их над собой смеяться по той же самой причине. Он усаживал их на унитаз и заставлял смотреть на себя и смеяться. Ребенком он частенько подглядывал за матерью в ванной, а потом за девицами, которые жили с его отцом, и каждый раз, когда им удавалось его застукать, они смеялись. «Знаешь, что ты такое?» – выговаривала потом ему мать. Женщины – настоящие эксперты по насмешкам: они учатся им в детстве, закрепляют свои познания в юности, а достигнув возраста кумушек, ничем другим и не занимаются.
Он заметил, что выехал на автостраду, увидел съезд, свернул на него и снова поехал в Мадрид. Уверился, что подцепил грипп: все потел и потел, причем обильно.
– Ты не мог бы выключить консоль? – попросил он. – Пожалуйста, меня раздражает этот писк.
Мальчик выключил ее, но не убрал. Мужчина прибавил:
– Когда приедем домой, я хочу, чтобы ты прежде всего принял душ. От тебя воняет.
– Значит, мы едем домой? – спросил мальчик.
– Конечно, мы едем домой. Просто кружным путем.
– А можно будет перед душем посмотреть головидео?
– Нет.
– А после?
– А после – поглядим.
Тут он вспомнил, что не включил габаритные огни, и сделал это. Вообще-то, они включались автоматически, но мужчина обесточил в машине все автоматы, потому что его тревожило, что машина думает за него. Кроме того, так можно сэкономить.
– Что ты сказал?
– Вагина, – повторил мальчик. – Нару говорит, что это то же самое, что «пизда».
Мужчина засмеялся и понял, что плохое настроение улетучилось.
– Скажи своему другу-индусу, что он, в отличие от тебя, не видел ни одной настоящей пизды за всю свою жизнь… Нет, лучше не говори. Это шутка.
– То, что сказал Нару, – это «зощренное» вранье?
– Нет. Это всего лишь ошибка. И потом, правильно – «изощренное» вранье.
– Ага, – кивнул мальчик. – Мы что, выбираем? – спросил он, поворачивая голову к окну, чтобы взглянуть на стайку смеющихся девушек на тротуаре.
– Нет, катаемся, только и всего.
– Мы разве не должны были ехать сегодня в другой дом?
– Да, то есть нет. Я поеду один.
Мужчина прикусил губу, стараясь ухватить побольше. Вопрос мальчика напомнил ему о том, что съездить в свой дом в горах нужно для того, чтобы вывезти тело. Кондиционер в самом нижнем подвале его на какое-то время законсервирует, но ждать не стоит. Эта последняя фаза с каждым разом все более усложнялась, и то, что у девушки остановилось сердце во время сессии на токарном станке, застало его врасплох: он рассчитывал подержать ее живой еще как минимум три…
– Папа.
– Что?
– Ты слышал, о чем я спросил?
– Нет, – сказал мужчина.
Повисла пауза, и когда ребенок вновь задал вопрос, мужчина уже не мог определить, это был тот вопрос, который он пропустил, или уже другой.
– Я все еще твой помощник, папа?
Мужчина улыбнулся. Он знал причину сомнений. Они с самого воскресенья занимались этим без какого бы то ни было приемлемого результата – он отвергал всех, кого выбирал мальчик: то слишком молоденькая, то чересчур маленькая, то уже перезрелая, и это не добавляло сыну уверенности, как он ни объяснял, что выбранная должна нравиться им обоим. Он уже пару раз уступил детскому вкусу Пабло, даже его капризам, но ломать себя он не станет.
Тем не менее нужно было как-то подбодрить сына, ведь тот был его страховкой. Пока мальчик оказывает влияние на выбор, он гарантированно избегает ловушек.
И вдруг мужчине стало гораздо лучше. Он все еще потел, но уже не было ощущения, что заболевает. Взглянул на освещенный щиток приборов – тридцать пять минут девятого вечера, среда – и сказал себе: а почему нет, в конце концов, им нужна другая, так почему бы не попробовать еще раз? Может, именно этой ночью им повезет.
– Разумеется, ты продолжаешь быть моим помощником, – сказал он, вновь сворачивая в боковую улицу. – Самым лучшим, который у меня когда-либо был. И знаешь что? Я передумал… Открывай глаза, помощник: я уверен, что этой ночью мы выберем.
19
Когда я открыла глаза, вокруг было темно.
«Тебя зовут Эдуардо. Ты будешь смеяться, девочка».
И тут я поняла, что меня разбудило, – назойливый телефонный звонок.
Я протянула руку – зажегся свет. Увидела плетеный стул, узнала свою спальню. Сбитые в ком простыни в ногах, как будто я всю ночь с кем-то боролась. На электронных часах высвечивалось: четверг, 6:50 утра. Я произнесла вслух: «Ответить».
И приготовилась выслушать плохие новости.
Потом я вспомнила, что мне снилось той ночью. Мне приснились папа и мама, пятилетняя Вера; Аида Домингес, последняя известная жертва Наблюдателя; Клаудия Кабильдо, последняя жертва Ренара. И многие другие. Они все смотрели на меня равнодушно, как смотришь на того, кого случайно увидел в зеркале, это напоминало взгляд грязных безруких-безногих кукол, которых Ренар подвешивал рядом с телами убитых им людей. И я подумала, что они от меня чего-то ждали… Но чего? Не справедливости и не возмездия. Возможно, самоотдачи. Или нет, даже не этого: действия.
Все-все без исключения жертвы этой бесконечной войны взывали ко мне, чтобы я что-то сделала, чтобы натянула безликую маску и разыграла для них забвение.
Вчерашнее утро, в среду, через день после разговора с Женсом, я провела в постели со своим ноутбуком на коленях, изучая маску Экспозиции и прихлебывая кофе. Женс сказал, что я могу сыграть ее дома, живя пару дней «обычной жизнью», и я следовала его инструкциям. Я буду выходить, схожу в супермаркет и тренажерный зал, посмотрю телевизор.
И отложу внушающую ужас поездку в поместье на четверг.
Маска Экспозиции была открыта франко-алжирским психологом Дидьером Кора́, но Женс полагал, что нашел к ней собственные ключи в жестокой сатире на Троянскую войну, озаглавленной «Троил и Крессида», которую Шекспир наводнил развратными вояками, вульгарными сводниками и неверными возлюбленными, где ценность жизни и достоинство зависят от мнения других. «Человек гораздо больше ценит то, чего он еще не получил», – говорила Крессида, и позы этой маски как раз и заключаются в экспозиции тела, с тем чтобы воздействовать на подсознательное, сдерживая при этом и желание, и его выражение. «Как украшение в витрине: выставлено всем на обозрение, но под защитой», – пояснял Женс.
Решив, что готова, я взялась за дело. Костюм этой маски был прост, и я тут же подобрала нужные вещи: черные туфли на каблуке, черные трусики-танга. Я разделась, расчесала только что вымытые волосы и сделала хвост. Затем надела свой костюм. Женс рекомендовал воздействовать на подсознательное с помощью какого-нибудь воспоминания, неприятного, травматичного события. Не сказать чтобы у наживок такого добра недоставало, и я воспользовалась собственной трагедией. Я постаралась сконцентрироваться на том, что вспомнилось мне накануне в квартире Женса: то, что сделали с моей семьей Человек-Лошадь, Оксана и та другая женщина. Потом я задернула занавески в гостиной и включила торшеры, осветив пустую стену, которая понадобится в качестве задника сцены. Все это было типичными компонентами театра Экспозиции.
Единственное, чего я до этого не делала, – не работала без публики.
И пока я, расставив ноги, двигалась лицом к стене, время от времени декламируя стихи из «Троила», и готовилась пробудить свою память, держа на минимуме ощущения и эмоции, я задавалась вопросом: выйдет ли из этого хоть какой-нибудь толк? «Ты там? Ты меня чувствуешь?» – вопрошала я тишину. И воображала свою тайную любовь, свою цель, своего сукиного сына, как он сидит в темноте и следит за моими жестами, слушает мой голос…
Телефон зазвонил через полчаса, прервав меня. Я выругала себя за то, что забыла отключить его. Но когда видоискатель сообщил, что это моя сестра и звонит она по защищенному каналу связи, я обрадовалась. Мы не разговаривали со времени той нашей драки у меня дома, неделю назад, и сам факт звонка от Веры принес мне несказанное облегчение. Задыхаясь, я бросила свой этюд, снова натянула трусики, которые уже соскользнули к ногам, и решила принять звонок, перебирая возможные варианты: Вера меня обругает, будет плакать, попросит прощения. А может – даже подумать об этом было страшно, – дело гораздо серьезнее. Но первым, что я услышала, было: до сих пор не обнаружено никаких следов Элисы.
– Ее нет уже целую неделю… – Вера говорила в нос, дрожащий голос наполнил комнату. – Неделю… Если бы у нее получилось, мы бы уже знали, правда?
– Может, да, а может, и нет.
– Думаешь, все еще есть надежда, что она его ликвидирует?
– Элиса сильная. Может произойти все что угодно.
Мы обе знали, что если похититель – Наблюдатель, то девушка либо уже мертва, либо на всю жизнь останется калекой, но Вера позвонила с масличной ветвью мира в руках, и я ни за что в жизни не хотела все испортить.
Я воспользовалась передышкой, чтобы сходить в ванную, отереть пот и пописать, пока слушала Веру по громкой связи.
– Падилья нервничает… Нам всем, новеньким, он поставил подкожные чипы… Система локализации, наномикрофоны, ну, сама знаешь…
– Это… – сказала я и вовремя осеклась. Вариантами продолжения, из которых я выбирала, было: «херня», «бесполезно», «абсурдно». Но снова подумала, что Вера лишь хотела, чтобы я засвидетельствовала ее действия. – Это неплохо, – закончила я.
– Знаю, что это особо не поможет, но говорит по крайней мере о том, что мы для него что-то значим…
– Конечно.
«Это говорит о том, что он хочет содержать тебя в исправном состоянии, глупышка, – думала я про себя. – С датчиками на теле ты будешь чувствовать себя в большей безопасности и вести себя более естественно». Тем не менее объяснять это Вере не следовало, хотя я по-прежнему чувствовала потребность ее оберегать.
Я вернулась в гостиную, где лампы по-прежнему слепили глаза, и, стоя со скрещенными руками, принялась ждать, пока Вера договорит и я смогу приняться за свой этюд.
– Знаешь, Падилья в выходные вызывал меня в театр каждую ночь. Я репетировала и теперь чувствую, что готова…
– Ты собираешься выйти в эту ночь? – спросила я, старательно пряча тревогу.
– Я выхожу каждую ночь, начиная с понедельника, Диана. Хочу спасти Элису сама.
Мне пришлось прикусить губу, чтобы не начать умолять ее остаться дома. Это оказалось так же не просто, как и сдерживать рвотные позывы.
– А что делаешь ты? – поинтересовалась сестра.
– Ничего. Отдыхаю. – И я расправила резинку трусов, свернувшуюся на бедре.
– Но здесь все говорят, что ты вернулась на работу…
– Нет. Я бросила это.
Она задала еще пару вопросов, несколько меня заинтриговавших, будто что-то в моей жизни ее заинтересовало, а потом прибавила:
– Я позвонила тебе, потому что хотела извиниться за прошлый раз. Мне было так плохо…
Но теперь я и вправду ее прервала:
– Ты не должна ни за что извиняться. Давай забудем об этом. – Пока я говорила, на мониторе телефона замигал текст: еще один звонок на очереди, имя – «Доктор Валье». – Мне пора. Береги себя, – добавила я, от души желая, чтобы мой голос обрел волшебную силу и на самом деле ее защитил. «Или она, или я, – подумала я в полной уверенности, – он выберет одну из нас».
– И ты тоже, – услышала я в ответ. – Целую.
После этих банальностей мы повесили трубки. И я подумала: чтобы мирно завершить сестринский разговор, нам обеим пришлось притворяться.
– Спасибо, что захотели меня увидеть, – первым делом сказала я Валье, когда тем же вечером приехала к нему.
– А почему я не должен был хотеть тебя видеть?
Валье смотрел мне прямо в глаза, и мне показалось, что с опаской.
– Не знаю. – Я пожала плечами. – Я думала, к этому времени вы давно собрали чемоданы и затаились где-нибудь в далекой-предалекой стране под чужим именем… Шутка. На самом деле мне очень приятно, что вы позвонили, – добавила я.
– А я сожалею, что в прошлый раз был так резок. – Теперь он тоже решил пошутить. – Ты очень странная, но если бы мне не нравились странные, то что бы я здесь делал?
– Я тоже, бывает, задаю себе этот вопрос.
После этой преамбулы, сотканной из благожелательных улыбок, Валье вновь стал серьезным:
– Я тоже очень рад, что ты пришла. Мне хотелось бы с тобой побеседовать.
– Давайте.
– Вот только… Я тут подумал: как ты отнесешься к предложению пойти куда-нибудь в другое место? Уже поздно, последний пациент уже ушел… Я пригласил бы тебя в кафе или… поужинать… – Пока Валье говорил, голос его становился все тише, а завершил реплику он почти шепотом.
Внезапно я подумала, что мне, пожалуй, очень хочется провести с ним этот вечер. Он выглядел еще более удивленным, чем я, когда я приняла его приглашение, накинул элегантный черный пиджак поверх белой рубашки и отклонил мои опасения, что я буду выглядеть рядом с ним замарашкой в своей курточке, маечке и джинсах. Заведение, куда он предложил отправиться, было прямо за углом, называлось «Кассандрой», в его интерьере в каком-то таинственном содружестве обретались Будды, золоченые маски, греческие шлемы и фото Далай-ламы – прямо под стать сочетанию греческой и индийской кухни, которое обещало их меню. Изображение без звука на огромном экране телевизора, размещенного в гостиной с очагом типа тандыра и настроенного на один из новостных каналов, привносило в этот ансамбль европейскую ноту. В этот ранний вечер там почти никого не было, за исключением нескольких иностранцев.
Пока перед нашими лицами мелькали карты, принесенные официанткой довольно экзотической, в унисон обстановке, внешности, я еще раз поблагодарила Валье за приглашение.
– Прошу, пожалуйста, обращайся ко мне на «ты», – произнес он, разворачивая салфетку. – И зови меня Марио.
– Я думала, тебя зовут Аристидес.
– Аристидес Марио. Если хватит духу, можешь использовать мое первое имя.
– Марио мне нравится.
Мы решили обойтись без шведского стола и ограничиться курятиной под соусом карри и бутылкой красного вина. Когда официантка удалилась с заказом, Валье огляделся и удостоверился, что мы сидим далеко от других посетителей, практически одни. Тогда он склонился ко мне, и я поняла, что пришло время поговорить. Потому, когда он спросил, расположена ли я говорить «обо мне», ответила утвердительно.
– Я тут размышлял о твоей странной профессии, Диана, – сказал Валье. – И должен признать, что мне приходилось сталкиваться с ситуациями самопожертвования, с людьми, отдающими другим все… Но в твоем случае – это просто что-то огромное. Ты человек совсем особенный.
Я покачала головой:
– Я вовсе не особенная. Да и насчет самопожертвования согласиться не могу. Все мы подчинены своему псиному. Все мы делаем то, что нам нравится, хотя и не понимаем, почему нравится то, а не другое. Просто-напросто это единственное, что мы можем делать.
– Ты слишком сурова к себе. Видеть все под таким углом зрения, должно быть, очень тяжело… Чему ты смеешься?
– Меня забавляет, что это говорит психолог.
Валье пожал плечами:
– Признание существования псинома для меня вовсе не означает, что мы лишены свободы выбора. Я именно на этом основывал свою терапию – указывал на возможные пути решения проблемы и давал пациентам шансы изменить ситуацию. Мы все способны меняться. И для этого есть более или менее приемлемые пути.
– И какой есть у меня?
– Неприемлемый.
– Я так и думала. – Я засмеялась.
– Приносить себя в жертву, будучи невиновной, с тем чтобы наказать виновных, – неприемлемо, Диана.
– Я смотрю на вещи проще, доктор… Марио. – Я намазала немного той субстанции, которая, судя по виду, была творожным сыром, на маленький тост. – Всем требуется пища: кому-то нужны овощи, кому-то – мясо, а кому-то – люди. Моя работа – делать так, чтобы последние остались голодными. Виновные? Невинные? В это я не вникаю.
Валье смотрел на меня очень серьезно.
– А я вот – да, вникаю. Ты и твои коллеги невинны. Единственные виновные – те сучьи дети, которые принудили тебя к этой работе. Твою профессию следовало бы запретить, признать ее нелегальной.
– Моя профессия столь же нелегальна, сколь нелегально убийство, но вот тебе пожалуйста – войны.
– Я – первый во всемирных рядах пацифистов, но даже я не могу не признать, что бывают неизбежные войны.
– А эта разве не такая? Смотри.
Я кивнула головой в сторону экрана, где мелькали люди в капюшонах, жертвы терактов, заложники международных групп террористов.
– Кто сможет все это остановить? Как мы это остановим?
– Без наживок, хочешь сказать?
– Да, иначе – что еще мы можем сделать? Полиция и армии уже давно никуда не годятся из-за развития технологий, а технологии с некоторых пор тоже никуда не годятся, потому что стали общедоступными. Как мы можем предотвратить такие вещи, как бомба 9-N?
– Бога ради, Диана, хватит уже вспоминать по каждому поводу 11-С, 11-М или 9-N… Мы не можем приносить в жертву невинного, чтобы ублажить монстра. Это варварство и бесчеловечность.
Появление нашей курицы из тандыра несколько остудило пыл нашей дискуссии: нелепое вмешательство никогда должным образом не оценивают. Мы чокнулись («За тебя», – провозгласил тост Валье) и принялись за еду. Все напряжение, казалось, будто ветром сдуло.
– Кстати, я тут почитал кое-что о псиноме, – произнес он уже совсем другим тоном. – И не обнаружил ни намека на связь с криминальной психологией…
– Ты его и не найдешь. Все идет по другим каналам.
– Я это предполагал. И полистал «официальные» публикации Виктора Женса. Он действительно часто упоминает Шекспира. Почему он придает ему такое значение, как думаешь? Ты говорила, что в пьесах содержатся ключи к псиномам, но почему он? Я имею в виду… Ладно, я знаю, что Шекспир гений, но Гомер, Сервантес и Кафка тоже гении… Почему именно он?
– Ты знаешь, кто такой Джон Ди?
– Напоминает какой-то бренд, связанный с тяжелым машиностроением.
Я от смеха чуть не прыснула ему в лицо вином. И пояснила, что это «Ди», а не «Дир»[48].
– А, тогда он, кажется, был астрологом Елизаветы, так?
– Да, предполагаемым магом и астрологом при дворе королевы Елизаветы. В те времена многие были недовольны официально принятой религией – англиканством, которое было введено отцом Елизаветы, Генрихом Восьмым. Они полагали, что народ должен восстать и вернуться к так называемой чистоте средневековой веры. Некоторые были папистами, но были и те, кто хотел распространить собственное понимание христианства. Джон Ди был одним из таких, он основал подпольную секту, названную «Лондонский кружок гностиков». Его члены собирались во дворцах аристократов и ставили там спектакли, с помощью которых Ди думал преобразовать общество…
– Спектакли?
У меня уже включился автопилот. Теорию Женса я знала назубок и постаралась выдать ее резюме. Что Ди познакомился в Европе с некоторыми ритуалами, оказывающими воздействие на псином, но что сам он объяснял этот эффект магическими причинами. Что, вернувшись в Англию, он стал практиковать и распространять эти ритуалы среди членов кружка и убедился в их эффективности и способности порождать эмоции. Что им нужно было, чтобы эти ритуалы, так называемые ключи, стали доступны народу – в целях побуждения его к мятежу. Что именно по этой причине было решено использовать официальный театр и подготовить авторов, специалистов по ключам. Что Шекспир не был единственным писателем, входившим в кружок: Марло, Джонсон, Уилкинс и Миддлтон также имели к нему отношение, хотя Шекспир и стал самым знаменитым. И что его произведения тем самым являются несколько закамуфлированными ритуалами.
– И чего они добились? – спросил внимательно меня выслушавший Валье.
– Ничего. Женс говорит, что им удавалось вызывать лишь хаотичные эмоции, потому что псином в те времена еще не был толком ни изучен, ни классифицирован, как сейчас. Ди умер через несколько лет после королевы, а новый король и Шекспира-то удалил от подмостков. Театр вернулся в традиционное русло и утратил всю свою магию. Конец истории.
– Любопытная история… Это подтверждено?
– Нет.
Мы дружно рассмеялись.
– Все, что имеет отношение к Шекспиру, – загадка. Женс говорил, что он самый таинственный из всех писателей. Но для нашей работы неизменно оказывается чрезвычайно полезным.
После очередной паузы мы заговорили одновременно. И снова рассмеялись.
– Ну что? – спросила я, уже слегка захмелев.
– Нет-нет, сначала ты скажи то, что хотела, и – извини.
– Я хотела сказать, что уже знаю, что ты думаешь о «нашей работе»…
– И что же я думаю?
– Что я извращенка.
Я считала, что подобное заявление вызовет краску смущения на лице кабальеро, не приемлющего подобного рода непотребств, но в ответ расцвела удивившая меня улыбка Валье.
– А разве я не прав? Смотри: ты рассуждаешь, как психолог, а я, напротив, стараюсь думать, как наживка…
– Вот как? И что же ты думаешь?
Валье отрезал еще кусочек сочной курицы и обмакнул его в соус карри.
– Что, если бы я обладал этой способностью… этой властью над эмоциями других людей, я никогда не смог бы оставить свою работу. Это же как наркотик.
И вдруг мое веселье угасло. Я уставилась на Валье. Он продолжал говорить, опустив глаза в тарелку:
– Знаешь, люди имеют склонность считать наркотиками только то, что называется этим словом, но и автомобиль, и идеология, и спорт может стать наркотиком. Начиная с самого детства в Боготе, да и потом, на протяжении всей жизни, я встречал много разных типов наркозависимых людей, Диана: мужчины под воздействием такого наркотика, как жестокость, женщины – насилия, дети – любви, а старики – страха… Ты, полагаю, назвала бы это «удовлетворением псинома». Как бы то ни было, моя работа всегда состояла в том, чтобы освободить людей от разного рода наркозависимости. – Он поднес к губам салфетку, затем добавил, все еще глядя в тарелку: – Думаю, и ты обратилась ко мне за такой помощью – чтобы я избавил тебя от твоего наркотика. Ты хочешь оставить эту ужасную работу. Хочешь перестать страдать.
– Я хочу жить с мужчиной, которого люблю, – сказала я, оцепенев. – И я назвала бы это не «перестать страдать», а «сменить наркотик». – На долю секунды я уловила какое-то изменение в выражении лица Валье, некий проблеск эмоции. – Что с тобой?
– Да ничего… – Он неловко улыбнулся и на сей раз действительно покраснел. – Ты уже говорила, что… что кого-то любишь… Я рад за тебя.
Повисло молчание.
– А ты? – решила я сменить тему. – Ты кого-нибудь любишь?
– Жена ушла от меня два года назад; она терпеть не могла, когда я анализировал ее за ужином.
Наши улыбки совпали во времени с фотографиями жертв Наблюдателя, которые я увидела на экране телевизора за спиной Валье. Сердце рванулось из груди – я подумала, что говорят либо о новом похищении, либо о найденном теле, но, кажется, это все же был репортаж, посвященный уже известным случаям.
– И вот я задаю себе вопрос: что же мешает тебе все это бросить?.. – произнес Валье. – Что заставляет тебя продолжать этим заниматься, если все твое существо отвергает то, что ты делаешь?..
– Да дело одно не закончено, – пробормотала я, и мне было до лампочки, что он почувствовал мою напряженность и обернулся, проследив за моим взглядом. Но тут репортаж закончился. Валье, как мне показалось, внезапно занервничал.
– Диана, оставь это – раз и навсегда…
Я не ответила. Он наклонился ко мне, и голос его зазвучал умоляюще:
– Ты ведь рассказывала, как тебя туда привлекли… Это ужасно… Разве для тебя это – «услаждать свой псином»? Ты была еще девочкой – всего двенадцать-тринадцать лет… И ты пережила страшную трагедию, которой кто-то воспользовался, чтобы превратить тебя… в кого? В некое подобие оружия? – Его губы изогнулись в презрительной ухмылке. – Их убить мало – тех, кто сотворил это с тобой, Диана. Позволь помочь тебе. Ты кое-что для меня значишь. Ты много для меня значишь…
И вдруг я оказываюсь уже не там, в ресторане, а в каком-то темном помещении, где лицо Валье – этот белый овал, успокаивающий взгляд за стеклами очков – служит единственным источником света.
– Знаешь, – сказала я, – я вспомнила вчера. То, что не могла вспомнить. То, что они сделали с нами – с мамой и папой, с сестрой и со мной. То, что они сделали мне.
«Окса, приведи девочек».
Мне казалось, что с каждым словом, которое выплывало в памяти, я все больше приближаюсь к тому свету, которым был Аристидес Марио Валье.
Я на четвереньках взобралась по лестнице и доползла до комнаты, где спала Вера. Как могла, растолкала ее и заставила залезть под кровать, но Окса нас сразу же нашла. Я попыталась отбиться, но она стала угрожать Вере, и я поняла, что смогу спасти сестру, только если буду слушаться. И я позволила себя увести. Оксана притащила нас вниз, в гостиную, и там они связали Веру и заткнули ей кляпом рот – точно так же, как и моим родителям. Но когда собрались связать и меня, этот… человек, которого я назвала «Человек-Лошадь», сказал, что ему пришло в голову кое-что поинтереснее. «Ты кажешься сильной, девочка», – заявил он. Он так называл меня – «девочка». «Поглядим, что ты из себя на самом деле представляешь». И приказал делать все, что они велят: «Ты будешь смеяться. Или кашлять. Или гавкать, как собака. Или поцелуешь меня в губы – меня или Оксу. Или спустишь трусики и будешь танцевать…» Если я не буду стараться играть хорошо, сказал он, они будут по очереди избивать моих родных…
Я помолчала. Слезы наворачивались на глаза, как и слова, – горячие, трудные.
– Я попыталась. Включилась в игру. Мне было двенадцать, и я подумала, что это единственное, чем я могу хоть как-то помочь родителям и Вере… «А сейчас ты будешь смеяться, девочка», – командовал мужчина, и, если я смеялась не так, как ему хотелось, он бил маму… Он заставил меня танцевать. Петь. «Видно, что ты притворяешься», – говорил он и бил Веру по голове. «Ты притворяешься. Сделай это еще раз». Когда у папы не выдержало сердце и он умер, мама, несмотря на повязку на лице, принялась визжать, биться в истерике. Мужчина приставил к ее горлу нож и сказал, что, если она не замолчит, он ее убьет. Я ее умоляла: «Мама, притворяйся, и ты тоже притворяйся, пожалуйста!» Но мама все кричала и кричала, и он перерезал ей горло… – После очередной паузы я сказала: – Сосед услышал шум и позвонил в полицию. Это нас спасло – Веру и меня… Этих троих через несколько дней арестовали. Думаю, они до сих пор в тюрьме, но не знаю точно. Меня это не волнует.
Я почувствовала руку на своей руке, и это прикосновение вернуло меня к реальности. Открыла глаза – а там опять скатерть, а на ней бокалы и тарелки. Валье смотрел прямо на меня, не переставая поглаживать мою руку. Я уже решила, что он станет утешать, но он снова меня удивил:
– Этот человек был прав. Притворялась ты очень плохо.
Мурашки побежали по всему телу, и я поняла, что именно это мне и нужно было услышать, именно этого я и ждала долгие годы.
– Ты никогда не хотела притворяться, Диана. Ты делаешь это в память о своих родителях и ради своей сестры, но актриса из тебя плохая. Театр – это не твое. И теперь я понимаю, чего ты хочешь от меня: чтобы я помог тебе перестать притворяться. Ты хочешь вновь обрести свою искренность.
Я опять заплакала, но на этот раз было уже легче. Десерт мы заказывать не стали.
Я ждала этого, и оно наконец случилось при выходе из ресторана, когда последний из официантов, поклонившись, распахнул перед нами створки стеклянных дверей. Ночь была холодной, моросил дождь. Марио Валье замешкался, надевая пиджак, и я почувствовала, что его глаза впервые дали себе роздых и взгляд его спустился к моей маечке, прильнувшей к голой, без бюстгальтера, груди (я решила выйти из дома, оставив на себе наряд для Экспозиции, его дополняли узенькие черные трусики и туфли на каблуке), задержался там на мгновение, а потом он вновь посмотрел мне в глаза. Увидев его зардевшееся лицо, я поняла, что не мой бюст вывел его из равновесия, а «наркотик» – воспоминание о том, как я спровоцировала накануне своими жестами.
– Мне очень хотелось бы увидеть тебя снова, – произнес он.
– Мне тоже, – призналась я. – Спасибо за… все.
Я потянулась к его щеке губами. Он с тем же намерением – поцеловать на прощание – наклонил голову, и наши губы случайно встретились. Смущенные, мы улыбнулись, но, взглянув друг на друга, стали целоваться. Каждый поцелуй казался новым, а последний вышел таким, будто наши губы еще не соприкасались.
И вдруг я подумала, что больше ни секунды не могу находиться рядом с ним.
Не могу позволить себе ни одной слабости. Все еще не могу – пока моя сестра в опасности.
Наблюдатель ждал: я должна оставаться актрисой.
– Мне пора, – сказала я, но Валье, подняв руку, остановил меня:
– Диана… Чем бы ты там сейчас ни занималась, прошу: береги себя, пожалуйста.
Я оставила Валье – встревоженного и довольного – махать рукой на прощание и пошла к автобусной остановке. К своему подъезду я подошла около одиннадцати ночи, но и в этот час по улицам все еще торопливо сновали люди. «Ты там? Ты меня чувствуешь?» Я огляделась вокруг и ввела код доступа. Дезактивировала сигнализацию своей квартиры, разделась, оставшись в трусах и туфлях, и принялась за Экспозицию. «Желай меня. Я притворюсь твоей. Приди ко мне. Я хочу обмануть тебя». Именно это порекомендовал мне Женс: «Признай, что ты – наживка, не бойся сказать это самой себе, не пытайся скрыть этот факт». Тем не менее, когда два часа спустя я закончила, вера моя улетучилась. Как можно при помощи этого привлечь его? Женс просто рехнулся.
И я тут же заснула, против всех ожиданий. Но приснился мне не Марио Валье, и не его поцелуй, и не этот необычный ужин, за которым я рассказала о том, о чем не рассказывала никому и никогда, а мне сказали то, чего никогда раньше не говорили. И не Наблюдатель. Мне снились все известные мне жертвы – целый зрительный зал страдающей от боли публики, для которой я работала. Все те, кто продолжал нуждаться в моем представлении.
И когда в четверг телефон разбудил меня в 6:50 утра, я приготовилась услышать дурную новость.
– Диана?.. – Голос Мигеля.
Я слушала его, лежа в постели, в темноте.
– Я хотел… хотел, чтобы ты узнала как можно скорее…
Я взмолилась о том, чтобы всего лишь нашли тело Элисы Монастерио, но раньше, чем услышала, я уже знала, что это не то.
«Это Вера, – подумала я с абсолютной, ужасающей уверенностью. – Он выбрал ее».
20
Вечером в среду Вера Бланко красила губы, стоя перед зеркалом в ванной, когда ей что-то послышалось.
– Стоп, – громко сказала она, и плеер, монотонно повторявший записанные ею же стихи из «Все хорошо, что хорошо кончается», выключился.
Она прислушалась. Ничего. Ей показалось, что она слышала звук открываемого замка. Может, кто-то из соседей. С тех пор как пропала Элиса, ее нервы были натянуты, как струны, и трепетали из-за ерунды. Вера вспомнила, что пару минут назад зазвонил телефон и она точно так же всполошилась. Взяв трубку и ничего не услышав, девушка подумала, что кто-то ошибся номером, но это не помешало ей почувствовать себя глупой психопаткой.
Она просто не может привыкнуть жить в этой квартире одна – вот в чем все дело.
Несмотря на это, она выглянула в открытую дверь ванной. Движение было нелепым, потому что ничего другого, кроме крошечной, как и все остальное в этой квартире, спальни, увидеть она не могла. На незастеленной кровати, в которой неделю назад она спала вместе с Элисой, были разбросаны детали ее костюма: чулки, экстравагантные перчатки, брюки стретч, прозрачные топы. Лампа на прикроватной тумбочке горела, дальше, в небольшой гостиной, тоже был включен свет. «Какая же ты все-таки идиотка!» – подумала девушка и покачала головой, чувствуя, как от стыда начинают гореть щеки. Она только что закончила читать статью Кёнига о том, как важно контролировать эмоции, чтобы свести к нулю зависимость от инстинктивного наслаждения при реализации маски Жертвы, и вот на тебе – при малейшем шуме она оказывается во власти тревоги. Реакция новобранца.
Со вздохом смирения перед своим позорным отсутствием опыта она снова принялась водить по губам темно-синей помадой. Ногти – зеленые, губы – синие: искусственность только добавляла шансов, что маска Жертвы у нее получится. На ней была майка до пупа – ярко-оранжевая, с переливами, и небесно-голубые легинсы, облегающие бедра. Оба цвета были результатом компьютерных вычислений – как наиболее подходящие для маски Жертвы. Сверху она надела курточку из искусственной кожи с многочисленными пряжками, чтобы уж Жертвоприношение прямо-таки било в глаза. Когда она склонялась к зеркалу, блики на ее топике заставляли жмуриться.
Это была ее собственная идея – дополнить костюм Жертвоприношения цветами и деталями костюма Жертвы, чтобы ансамбль в целом получился более призывным. Ольга Кампос одобрила эту затею, что стало поводом для гордости. Хотя для самой Веры это было естественно: она с детства любила соединять несочетаемые цвета и привлекать внимание экстравагантной одеждой. Дядя Хавьер, брат отца, у которого они вместе с Дианой, оставшись без родителей, и жили, даже прозвал ее цыганочкой – из-за страсти украшать себя всем, что только могла она отыскать в сундуках их с тетей старинного дома под Сарагосой. Дом был окружен прелестным садом, по которому Вера расхаживала в компании дядиного кота Фантомаса замечательно яркой тигровой масти, изображая принцессу, прибывшую с некой отдаленной планеты. Она задумалась, что же сталось с Фантомасом, и припомнила, что ее тетя – единственная из всей семьи, кто еще не отправился на кладбище, доживавшая свои дни в пансионате для престарелых, где они с Дианой навещали ее в Рождество, – говорила, что кот умер.
Вера закрыла рот и полюбовалась результатом своих усилий в зеркале. Затем взглянула на часы, инкрустированные в широкий, как кандалы, кожаный браслет: 9:22 – времени еще предостаточно. Она закончит с макияжем, наденет менее броскую одежду, чтобы, столкнувшись с соседями, не разрушить ненароком свою легенду, потом доедет до Цирка на метро, зайдет в туалет на станции, переоденется и там же оставит рюкзак со своей «нормальной» одеждой. Вера еще не решила, примет ли наркотик, перед тем как отправиться в обход своего «охотничьего участка». Ольга Кампос наркотики не запрещала, но и не рекомендовала, а вот Элиса обычно их принимала, когда…
Воспоминание о подруге на какой-то миг ее парализовало. Пальцы, все еще державшие губную помаду, задрожали. «Нет. Сейчас ты не можешь о ней думать. Держи эмоции под контролем».
Но Вера не могла об этом не думать. Как можно не думать о лучшей подруге? Ведь она жила вместе с ней, училась вместе с ней, наслаждалась вместе с ней. Однажды, два года назад, в тот незабываемый вечер, даже возила ее в свой дом в городке под Сарагосой, куда не звала больше никого. Это все равно как пригласить в свою душу, потому что именно этот городок, где они с Дианой жили у дяди с тетей, пока старшая сестра не была отобрана Виктором Женсом для обучения, и был ее домом, а вовсе не Мадрид. В Мадриде оставалось ее выжженное детство и жгучее желание отомстить – сначала за родителей, а теперь и за Элису.
«Этот козел заплатит за то, что сейчас делает с ней. Или уже сделал».
«Не думай об этом».
Она крутанулась перед зеркалом, поправляя маечку и придирчиво оглядывая линию пояса брюк на бедрах, а также проверяя, как смотрится в свете лампы белый живот с блестящим пирсингом на пупке.
Она уделает его, этого скота. Она поклялась себе. Он больше никогда и никому не причинит вреда.
Нужно положить на веки немного теней. Нашла коробочку с тенями и выбрала нужный тон – самый темный. Подумав немного, решила больше не включать плеер: она уже много раз прослушала эти фразы – достаточно, чтобы они были наготове, когда она станет разыгрывать свою маску. Идея записывать реплики из пьес, имевшие отношение к той маске, которую предстояло сыграть, принадлежала Элисе, и Вера хорошо помнила тот день, когда подруга сказала об этом и спросила ее мнение на этот счет. Элиса была сильной личностью, но, обращаясь к подруге, всегда ждала ее одобрения. Вере это очень нравилось, хотя она и сама знала, что причина в ее филии – филии Прошения. Но как бы то ни было, в отличие от сестры, Элиса всегда прислушивалась к мнению Веры.
Ее сестра. Ее вселенная. Ее личные небеса и ад. Иногда девушка думала, что вся жизнь ее вращается вокруг Дианы. И не важно, что она делает, – ей не удается сбежать от всепроникающего влияния сестры, к добру это или к худу. Почему Диана не понимает, что она, Вера, предана ей? Как она может не видеть, что Вера ее обожает? Именно поэтому, из-за этого слепого обожания, которое она испытывает по отношению к сестре, Вера на прошлой неделе и была готова убить ее, когда узнала, что Элиса пропала, а великая Диана, Диана Охотница, использовала свое влияние, чтобы вывести младшую сестру из игры. И хотя она и звонила Диане, чтобы извиниться, Господь знает, что в душе ее клокочет ярость.
Вера закончила наносить тени на веки. Ничто, однако, в ее облике не выглядело завершенным. Костюм для наживки всегда второстепенен. «Как ты действуешь и как ты не действуешь – вот что на самом деле важно в любой маске», – сказала ей как-то Диана. Для Дианочки оказалось очень тяжелым испытанием решение сестры тоже стать наживкой, но она, конечно, в конце концов сдалась. Вера очень хорошо помнила тот день, когда сестра уезжала учиться в «специализированную школу»: ей тогда было десять лет и она долго плакала, оставшись одна с дядей и тетей. Через пять лет ее и саму протестировали, и она узнала, о какой «школе» шла речь. Диана, уже ставшая к тому времени профессионалом, надавила на все известные рычаги, чтобы помешать ей пойти той же дорогой, но добилась только того, что Вера еще больше уперлась.
Она наложила тени погуще, не переставая думать о Диане.
Конечно же, не было ничего удивительного в том, что Диана стала одной из лучших в мире наживок: она просто родилась для того, чтобы носить маски. Никогда не угадаешь, о чем она на самом деле думает, – такая хитрюга! «Она для тебя – просто богиня, ты слишком зависима от нее», – говорила Элиса. Вера знала, что сестра и подруга не очень-то ладили, но в этом случае готова была признать, что Элиса права. По ее мнению, даже Клаудия Кабильдо, с ее огромным опытом, не могла соперничать в мастерстве с ее Дианой.
И поэтому-то Вера так удивилась, когда старшая сестра сказала, что бросает работу.
«И все ради того, чтобы жить с таким чуваком, как Мигель Ларедо», – думала девушка, сжимая зубы. Настоящим театральным жиголо, самонадеянным красавцем, который оставил работу по специальности ради того, чтобы – о, бога ради – уберечь свою гладкую кожу от шрамов. И не то чтобы ей было дело до того, что там натворил Ларедо, да и не ревнует она вовсе – на что однажды ядовито намекнула Элиса – к тому, что ее сестра с ним спит. Чего она действительно не может принять – так это то, что Диана предпочла жить с этим типом, вместо того чтобы прикрывать собой амбразуру. Неужто в этом и заключается зрелость – предпочесть вульгарность, предпочесть трусость? «Вовремя» выйти в отставку, пока кто-нибудь – о, бога ради – не причинил тебе серьезного вреда, такого, как Клаудии Кабильдо (или Элисе, но лучше об этом не думать)? Если уж ты так боишься, зачем стала наживкой? Зачем сказала «да», сестренка? Разве не лучше снять облачение, прежде чем дать обет? Кого ты на самом деле боишься? Наблюдателя? Возможно, ее сестре следовало посоветоваться с Элисой: «Что нужно сделать, чтобы стать такой, как ты, Элиса, чтобы выйти на арену и привлечь к себе быка, вместо того чтобы сунуть голову под подушку, как трусиха, такая, как…»
Вера почувствовала, что глаза ее повлажнели, а это угроза для макияжа, сделанного с таким тщанием. Она глубоко вздохнула и решила побыстрее завершить сборы. Еще раз расчесала длинные каштановые волосы, сделав пробор посередине. Вдела в мочки серебряные серьги. Сложила помаду, тушь, тени и сунула в боковой карман рюкзака, который оставался в спальне. Вернулась в ванную и нажала на клавишу «Delete», стирая записи с репликами из «Все хорошо, что хорошо кончается» – одной из наименее популярных пьес Шекспира как у читателей, так и у постановщиков. Лично ей нравилась история героини пьесы Елены – Золушки, которая бросается в бой за истинную любовь, не обращая внимания на социальное неравенство и даже выступая против того мужчины, которого любит. В их профессиональной среде поведение Елены ассоциировалось с маской Жертвы, однако больше всего Веру привлекали сила и отвага героини: «Чья власть к звездам любовь мою манит?»[49]
Вера прошла в спальню и убрала плеер в тумбочку, стараясь не заглядывать внутрь ящика, где было столько вещей, напоминающих об Элисе.
Ее ноутбук, открытый, все еще лежал на постели. Она закрыла испещренный пометками текст «Все хорошо» и открыла сайт карты с распределением наживок по зонам охоты на Наблюдателя.
Ожидая, пока загрузится сайт, она улыбнулась. Боже, как же ей нравится эта работа! От нее никуда не денешься – и пугает, и возбуждает одновременно. Прошлой ночью, в Цирке, ей удалось подцепить на крючок пьяного парня, который перешел черту, разделяющую приставание и агрессию. Веру до сих пор смех разбирает при воспоминании о том, как легко это было: простая фантазия на тему Вонга, дабы освободить его подсознание и умерить желание, а она всего лишь принимает позу Ульриха. Всего лишь. Было так клево увидеть лицо этого парня, пускающего слюни от…
И вдруг девушка замерла.
На этот раз звук был хорошо слышен – скрип дверных петель.
В ее квартире.
От волнения пересохло во рту. Вера пошла в гостиную. Краешком глаза заметила сексапильную фигуру, скользившую вдоль стены, и непростительно долго не могла понять, что это она сама, отраженная в зеркале.
На первый взгляд в гостиной все было на своих местах: маленький столик посредине, кресла, постеры с любимыми исполнителями, остатки торопливого ужина на большом столе. Дальше коридорчик к входной двери, а налево дверь в кухню, но что там внутри, с того места, где стояла Вера, увидеть она не могла.
Она вспомнила, что скрипит именно кухонная дверь. Элиса уже несколько раз напоминала, что нужно вызвать мастера, потому что смазка не помогает.
Кухня.
Это не мог быть ветер – все окна в квартире закрыты.
Там кто-то был. Вере даже стало казаться, что она представляет себе маршрут его перемещения по квартире: «Он вошел в дом, когда я красилась… И это был первый звук, который я слышала. Спрятался в кухне, а когда решил закрыть дверь…»
Сердце колотилось о ребра, пока она раздумывала, что делать.
Сначала возникла мысль позвонить в полицию, но она тут же отказалась от этой затеи. Черт возьми, ведь она – наживка! Да она одна опаснее целого наряда полиции, особенно в костюме. Несколько жестов маски Жертвы пригвоздят предполагаемого вора, да так, что он с места не сдвинется, и ей хватит времени, чтобы подцепить его на крючок.
Ей-то нечего бояться – стоит опасаться тому, кто сюда проник.
Вера заставила себя двинуться вперед. Вокруг царила тишина. Девушка прошла через гостиную и увидела, что дверь на кухню открыта. Припомнила, что так ее и оставила, но порожденный молодым инстинктом сигнал тревоги уже завывал в мозгу, предупреждая, что, несмотря на видимость, тот, кто спрятался на кухне, несомненно, хотел, чтобы она считала, что там никого нет.
«Наблюдатель», – подумала она вдруг и почувствовала, что по спине будто заструился ледяной ручеек. Но этот убийца никогда никого не похищал из дома, компьютеры не указывали на квартиры как на возможную зону охоты, насколько она знала. Абсурдно предполагать, что…
И тут она поняла, что упустила самое простое.
Бросила быстрый взгляд на пульт сигнализации у входной двери. Сигнализация не снята. Не может здесь никого быть. Ей показалось.
Вера облегченно вздохнула. Без сомнения, она обманулась, услышав какие-то звуки из соседней квартиры. «Боже, я и вправду вся на нервах…»
Успокоившись, она прошла те несколько метров, что отделяли ее от кухни, на пороге выросла ее тень. И – никого не увидела. Правда, кухня имела форму буквы «Г», и второй ее половины – той части, где помещалась стиральная машина, – видно не было. Совсем маленького закутка, но вполне способного укрыть человека. Последнее возможное укрытие. Она легонько толкнула дверь, и послышался характерный скрип. Дверь и раньше никак не могла раствориться сама собой. И Вера снова испугалась.
– Кто там? – спросила она пустоту. И почувствовала себя полной дурой – стоит тут и задает вопросы, не решаясь войти в собственную кухню.
«Не входи! – взывал ее инстинкт. – Беги. Уходи отсюда».
Но ведь это глупо. Как там может кто-то оказаться? Как мог он проникнуть в квартиру, если активирована сигнализация? Господи, да нет там никого, она уверена!
Или почти уверена.
И она решила войти. Но прежде, как хорошая наживка, внутренне подготовилась к представлению, которое должно спасти ее в случае любой, самой невероятной агрессии.
С готовой маской Жертвы она вытянула руку, включила свет и вошла.
21
Одно могу сказать: я никогда не вернулась бы в поместье, если бы не Вера.
Однако звонок Мигеля все мои сомнения по данному поводу стер в порошок. Он оказался для меня чем-то вроде ледяного душа: обновил, завел, лишил чувствительности.
«Исчезновение» – как раз это слово я бы ни за что не пожелала услышать в связи с именем Веры, но в данном случае без него было не обойтись. Просто-напросто минуту назад она была у себя дома, готовилась выйти на охоту, а мгновение спустя словно сквозь землю провалилась. Исчез даже сигнал ее подкожного чипа. Этим идиотам – дежурным в «Хранителях» – и в голову не пришло поднять по этому поводу тревогу, поскольку они решили, что Вера «испытывает игрушку» и собирается снова включить его, когда доберется до своего участка охоты. Но отсутствовали и какие бы то ни было доказательства того, что до Цирка она добралась. Звонки на ее телефоны тоже не дали результатов. Как и срочный осмотр квартиры: дверь взломана не была, сигнализация по-прежнему активирована, никаких следов борьбы. Все утро будут продолжаться поиски следов и аккуратный опрос соседей.
– Падилья разработал просто монументальный механизм поиска, – прибавил Мигель. И подчеркнул: – Мо-ну-мен-таль-ный, солнышко… Они ждут только зеленого света от Алвареса, чтобы запустить его, но он в отъезде… Я имею в виду Алвареса. Его пытаются найти. Ты меня слушаешь?
– Да. – Я слушала его, все еще лежа в постели, уставившись взглядом в потолок.
– Мы вот тут гадаем… а не упоминала ли в разговоре с тобой Вера… В общем, что она собирается куда-нибудь уехать, не знаю. Она ведь так импульсивна… Ты ничего такого не припоминаешь?
– Нет, она ничего не говорила.
Молчание.
– Солнышко, с тобой все в порядке? Может, мне к тебе приехать?
– Со мной все хорошо, спасибо. И – не нужно ко мне приезжать. Я тебе позвоню попозже.
Мигель все еще не отказался от отчаянной попытки приободрить меня:
– Перфис говорят, вполне возможно, что это не Наблюдатель. Верина квартира под прикрытием, как ты знаешь, не входит в зону слежения.
«Но он мог проследить за ней до самого дома, если заметил ее в Цирке прошлой ночью», – подумала я. А еще он мог изменить стратегию или район поиска – под воздействием этого своего «сотрудника», о котором Женс думает, что это его сын. Как бы там ни было, я знала, что Мигель хочет внушить мне ложные надежды, как и я – Вере, утром этого же дня. Я ограничилась тем, что, не шевелясь, продолжила его слушать.
– Кроме того, даже при самом плохом сценарии Вера сможет стать той идеальной наживкой, которая выведет его из игры… Поверь мне, солнышко, все будет хорошо…
– Ладно. Спасибо.
Во время обучения мне приходилось выполнять и такие упражнения, которые не требовали ни ума, ни памяти, ни ловкости, ни физической силы или даже воли, чтобы осилить их. Требовалось только терпеть. Просто-напросто дать пройти времени – тик-так, тик-так, – и эта боль или наслаждение, нередко и то и другое сразу, в конце концов тоже проходят. И пока Мигель пытался меня утешить, я делала именно это. Я не думала о случившемся. Не изливала душу. Не сжимала зубы и не напрягала мускулы. Я всего лишь терпела, уставившись в потолок.
«А что теперь, девочка? А, знаю – теперь ты будешь смеяться».
Моя поездка в поместье представляла собой то же самое упражнение: жать на газ и терпеть. Я выехала в полдень, сыграв дома еще одну изматывающую маску Экспозиции. Потом приняла душ, уложила все, что решила взять с собой, спустилась на подземную парковку, села в машину, нажала на газ и, кажется, не отпускала педаль, пока не оказалась на месте. Как я доехала, в памяти практически не сохранилось. Серое небо, словно нехотя, время от времени сеяло морось. Сидя за рулем, я думала о Вере. Думала о ней почти час – все время, что заняла поездка.
Поместье располагалось километрах в восьмидесяти к юго-западу от Мадрида, за почти обезлюдевшим после взрыва атомной бомбы 9-N районом. Места эти мало пострадали от прямого воздействия ядерного взрыва, но из-за повышенного уровня радиации правительством было принято решение эвакуировать оттуда всех. Городские предместья, предприятия и сельхозугодья – опустело все. А когда непосредственная опасность миновала, владельцы так и не изъявили желания вернуться. Последовали иски о возмещении ущерба, возник даже амбициозный план реконструкции территории при поддержке Европейского союза, отложенный раз, потом другой – по причине бесконечных дебатов и различных превратностей электоральных игр. В результате, по прошествии нескольких лет после взрыва, эти земли превратились во что-то вроде огромного города-призрака с домами и фабриками в руинах, то есть более чем удобным местом для размещения и полностью закрытого от мира, и только что открывшегося заведения, в котором нуждался Женс, – великолепного монастыря для его юных послушников.
Даже сейчас мне по-прежнему тяжело вспоминать о поместье. Думаю, в конце концов я призна́ю, что это был необходимый этап в моей работе, а то, что она мне нравится, сомнению не подлежит. Думаю также, что профессиональные наживки умеют отделять разум от желаний, а навести мосты через пропасть между ними способна только сила воли. Но мое рацио, все, что не имеет отношения к моему псиному, просто кипит от негодования при воспоминании о том, что пришлось пережить за годы ученичества. Я благодарна Небу за то, что после ухода Женса наши тренировки вошли в более спокойное русло, а также за то, что моей сестре не пришлось пройти через эти унижения.
Женс презирал обычный театр. Многие маски, утверждал он, должны осваиваться в полной изоляции и с чувством незащищенности. Нередко он заставлял нас репетировать в открытом море на борту его яхты, во время далеко не безопасных переходов. Или в своем доме в Барселоне, где правила устанавливал только он. Но он всегда мечтал об уникальном пространстве – закрытом и в то же время таком близком, – где «его наживки» чувствовали бы себя и в самом деле уязвимыми. Так что, когда он выбрал это лежащее в руинах поместье в «Призрачной зоне», несколько спин согнулось в угодливом поклоне и несколько рук поспешили подписать необходимые документы. Естественно, то были другие времена – изумление и паника перед ненавистью и безумием «общего врага» явно способствовали реализации проекта. Отдать одиноко стоящий дом и кучку подростков доктору Женсу – высоким чиновникам это не казалось чрезмерной ценой за спасение страны; в отношениях с ними Алварес сыграл ту же роль посредника, как и тот, что понадобился нацистскому правительству для передачи лаборатории и еврейских детей в распоряжение доктора Менгеле. В конце концов и тех и других так ни в чем и не обвинили, поскольку они были всего лишь анонимными бюрократами, которые с известной очередностью сменялись на соответствующих должностях. Если вина на ком-то и лежит, то на Женсе; остальное именовалось «политической ответственностью», которую всегда легко взять на себя, подав в отставку. Что же касается издевательств, которым подвергались в этом месте мы – неопытные девчонки и безусые мальчишки, отобранные Женсом для особого обучения, полагаю, они пошли по статье «побочные издержки».
Навигатор прокладывал мой маршрут: автострада на Эстремадуру, съезд такой-то, ответвление такое-то, шоссе, грунтовая дорога. Не раз, когда я видела ее посреди пустых полей Ла-Манчи, как это случалось и в прошлом, после долгого пути по грязным, раскисшим после недавних дождей дорогам, сердце мое, стоило только выехать на эту грунтовку меж кустов и урбанистических прожектов, пронзила грусть. В то же время давал знать о себе и резкий выброс чистого адреналина: в конце концов, этот пейзаж – декорация моих многочисленных кошмаров, в которых недостатка не было.
После нескончаемого виляния и шлепанья колес по грязи я заглушила мотор на подъездной дорожке и, не вылезая из машины, огляделась. Два флигеля с волнистой черепицей, каменные стены, прорезанные окнами без стекол, старая мельница, которая давно стала просто башней с провалившейся крышей, – элементы декорации. Не могу сказать «то, что осталось», потому что всегда так и было. Летом или в другое время года, хотя бы и посреди зимы, ежели Женс принимал соответствующее решение, мы репетировали в тех жутких декорациях, которые сейчас открылись моему взору. Иногда мы спускались в подвалы – старые винные погреба, переоборудованные для наших целей, воздух там едва согревался кондиционерами, но наши упражнения там были более трудными.
Озираясь с каким-то идиотским любопытством, я задавалась вопросом, что сказал бы Женс, окажись он здесь со мной. Возможно, «возрадуйся, Диана Бланко, о, возрадуйся: это место сделало из тебя одну из лучших наживок страны». Может, это и так, но я не испытывала по этому поводу ни малейшей радости. И уж во всяком случае, вернулась в это поместье вовсе не ностальгировать.
«Это здесь должна я тебя ждать? – проговорила я про себя, мысленно обращаясь к моей цели, моей добыче, моей тайной страсти. – И ты придешь ко мне, распустив слюни, где бы ты ни был, с твоим мальчиком или без него?» Я в это не верила, но мне не оставалось ничего, кроме как верить Женсу. И вдруг я подумала, что если это средоточие страданий, воплощенное в старых камнях, послужит мне для спасения сестры, о, тогда – разумеется, да, мой дорогой профессор…
«Конечно же, я радуюсь. Я ощущаю просто неземную радость».
Я взглянула на часы на приборной доске и убедилась, что до темноты остается меньше трех часов. Пора двигаться.
Дверца моей «тойоты» хлопнула расстрельным выстрелом, когда я закрыла ее, выйдя из машины. Именно это заставило меня осознать стоявшую вокруг мертвую тишину. Было холоднее, чем в городе, но этого я ожидала. И запахи: пахло влажной землей, гнилым деревом. Я достала с заднего сиденья спортивную сумку и направилась ко входу. Входную дверь главного флигеля украшал массивный навесной замок, и эта деталь выглядела тем более смешно, что рядом зияло разбитое окно, через которое проникнуть внутрь мог кто угодно. Стряхнув пыль со своих видавших виды джинсов, я обошла этот этаж. Там было всего одно помещение, однако причудливой формы. Свет, хотя и тусклый, все еще проникал через окна, рисуя серые прямоугольники на полу. В центре комнаты была лестница, уходящая вниз. Я прошла мимо – спускаться мне, естественно, не хотелось. Снизу доносились какие-то звуки, похожие на топот, и я подумала, что не в первый раз увижу здесь мышей, – такое бывало, особенно когда мы приезжали после долгого перерыва. И я содрогнулась, припомнив, что Женс порой использовал их в наших постановках.
Кучи мусора, облупившиеся стены, даже несколько наших матрасов (сейчас они стояли вертикально, прислоненные к стене), рулоны заплесневевших гардин в углу – все выглядело примерно как в моих воспоминаниях, хотя признаки ветхости были заметнее. И я поняла, что даже руинам два года забвения не идут на пользу.
Я дошла уже до конца гостиной и тут, взглянув в окно на противоположный флигель, увидела мужчину.
Он наполовину высовывался из проема и упирался ногой в нижнюю раму, при этом нога и склоненный торс образовывали невероятный угол. Все вместе выглядело ужасающе или, по крайней мере, тревожно, но я была готова и к этому. Это был один из наших манекенов. Женс использовал их в качестве статистов на наших маскарадах или в постановке сцен из Шекспира. Мы обычно одевали их в соответствующие костюмы и вешали на грудь таблички с именами персонажей, если сцена предполагала участие нескольких. Этот оказался голым и лысым, а его нарисованные глаза выражали изумление. За его фигурой в полутьме второго флигеля я смогла разглядеть руки, ноги и головы, сваленные как попало, словно в братской могиле. И я чертыхнулась по адресу неизвестно кого, оставившего этот манекен в окне, явно задавшись целью до смерти напугать непрошеного гостя. Мне было известно, что группы мародеров смущают покой «Призрачной зоны», и я взмолилась (ради их же блага), чтобы никому из этой публики не пришло в голову потревожить меня.
В любом случае ни мыши, ни мародеры не являлись поводом для серьезного беспокойства.
Я вернулась к матрасам, положила на пол сумку и расстегнула молнию. Скрывать, что я приехала ждать, в мои планы не входило. «Делай все в открытую, не таясь, как будто твоя реальность – это тоже театр» – таков был совет Женса. Я достала пару бутербродов, завернутых в целлофан, термос с кофе, бутылку минеральной воды, одеяло и плоский фонарь с батарейкой, рассчитанной на длительный срок. Положила на пол один из матрасов, стряхнув с него пыль. Ветхий, конечно, но еще годный. Я уселась на матрас, достала из сумки ноутбук, открыла файлы с маской Жертвоприношения, разработанной профилировщиками, и еще раз просмотрела их, пока жевала бутерброды, запивая их водой.
А почувствовав, что готова, приступила. Для удобства сняла куртку и кроссовки, но оставила желтую маечку на бретельках, джинсы и носки. «Никаких тебе карнавальных костюмов, и не обнажайся. Сделай маску так, будто он стоит перед тобой», – сказал мне в тот раз Женс. Сначала я сыграла классическую версию Жертвоприношения, а потом – новый вариант, который создали перфис. Женс уверял, что совершенно все равно, какую версию выбрать. «Важно только, чтобы ты ничего не пропустила. Сделай ее целиком – со всеми жестами и звуками, которые ты обычно опускаешь, когда показываешь эскиз. Используй воспоминания о месте, в котором находишься, думай о том, что играешь весь спектакль для того, чтобы привлечь его. Но самое главное – будь порочной». Это означало, что я не должна скрывать ни почему, ни для кого я это делаю. «Не прячь своих сомнений», – прибавил он. Вот это – да, это у меня выходит отлично. И в самом деле, извиваясь и постанывая на матрасе, я не могла не думать, что это полный идиотизм. Невозможно приманить его, сидя в четырех стенах за много километров от зон охоты. Хотя в теории маска и может быть воспринята псиномом объекта на расстоянии, причем так, что он этого не осозна́ет, это работает обычно не направленно. Мы называем это «забросить сеть»: ловятся и невинные рыбки. Конкретная цель требует и конкретного расстояния. Женс просто рехнулся.
Тем не менее я продолжала. Моя задача состояла не в том, чтобы понимать, а в том, чтобы бить в одну точку – бездумно, безвольно. Быть наживкой – это быть ничем, или меньше, чем ничем. Не нужно даже «подчиняться», как солдат командиру. «Я должна», «я делаю» – эти выражения применительно ко мне явно ошибочны. Только перестав быть «я», только став «тем», что корчится на этом отвратном матрасе, издавая стоны, истекая потом и сверкая пунцовыми щеками, я потеряю саму себя. И, только потеряв саму себя, я смогу поверить, что бестия почует меня и подбежит укусить.
И когда она это сделает, мой капкан неумолимо захлопнется на ее шее.
Закончив, я натянула куртку и кроссовки и, не вставая с матраса, сжевала второй бутерброд, прихлебывая кофе. Потом вытащила из сумки одеяло, завернулась в него и приготовилась ждать несколько часов. «Он нюхом тебя учует и помчится к тебе». Я подумала, что выполнила все рекомендации Женса. Не понимая, не принимая их, но исполнила все в точности. Были они полным безумием или нет, но я им следовала добросовестно, как всегда. И больше ничего сделать не могла.
«И он придет к тебе, даже если будет вынужден ползти на карачках через весь Мадрид, пуская слюни».
Капкан был поставлен, и теперь оставалось только ждать, когда добыча почует его и подойдет поближе.
Капканом была я.
В точности не помню, когда именно я поняла, что что-то происходит.
За окнами опускалась ночь – это я помню хорошо, потому что все вокруг стала обволакивать мглистая синь позднего вечера, как это обычно бывает в деревне. В углах гостиной уже сгустилась тьма. Завернувшись в одеяло, я сидела на матрасе на корточках, глядя, как сумерки переходят в ночь, и прислушиваясь к крысиной возне, когда вдруг поняла. Это как если сам себе говоришь: «Как же так?.. Ведь все время оно было у меня перед глазами, но я не замечал…» Все время.
Крысы.
Внезапно я засомневалась в том, что именно они производят эти звуки.
Я прислушалась. Шум повторился. Снова все стихло. Опять повторился. Он не прекращался, насколько я могла судить, с самого моего появления здесь, но это не было похоже на обычное шебуршение грызунов. Это походило на то, словно ты дышишь на оконное стекло и сам слышишь собственное дыхание, – такое глухое, волнообразное хрипение. Но откуда оно доносится?
Заинтригованная, я откинула одеяло, подошла к ближайшему окну и высунулась наружу. Но ни с почерневшего поля, ни из башни на месте разрушенной мельницы не доносилось никаких звуков – только кусты сгибались под порывами холодного ветра. Тихо было и с противоположной стороны, во втором флигеле, где находился склад манекенов. Оставалось третье предположение.
Несколько секунд пошарив в темноте, я нащупала в сумке тонкий прямоугольник фонаря и зажала его в руке, словно полицейский жетон. Луч света – мощный и чистый – разогнал по стенам тени. И я направилась к узенькой лестнице в центре комнаты, ведущей в подвал, предполагая, что дверь туда будет закрыта. Но я ошиблась: проушина для замка была пустой. Левой рукой я толкнула дверь – старое дерево, как в классических фильмах ужасов, громко заскрипело, – а правую, с фонарем, подняла повыше. За дверью – только темнота. Ощупью нашла выключатель, зная, что в подвале должен быть свет, но единственным ответом мне стал тихий треск: правительство не собиралось оплачивать электричество в никому не нужном доме. Пришлось направить вглубь подвала луч фонарика.
Меня словно пронзило током. Ошеломленная, я застыла на месте под шквалом нахлынувших образов: «Вот у этой стены Лилиан… Вон в том углу мы с Клаудией… Боже, это же тот самый высокий металлический табурет… и красный, траченный молью диван, на котором…»
Естественно, человек, не имевший отношения к поместью, никогда не увидел бы того, что видела я: он разглядел бы только темное промерзшее помещение, без единого ведущего наружу проема, со старой мебелью. Возможно, его внимание привлекли бы манекены, подпиравшие стены, а также неуместная здесь душевая кабина в углу. Но он никогда не смог бы представить себе непрекращающуюся оргию юных тел, театральные сцены, реплики, которые исторгали наши юные глотки, мельтешение Женса, бегавшего туда-сюда с режиссерскими указаниями и командами.
А мне тяжело было продвигаться вперед по этому заминированному воспоминаниями полю. Едва я делала шаг, как в лицо била еще какая-нибудь постыдная деталь. Вон там я перестала быть девочкой. Здесь мы с Сесе, как и все остальные, стали воплощенной яростью и чистейшей ложью. Здесь театр взорвал нас изнутри. Но не эти часы притворных либо реальных страданий вызывали во мне острое чувство унижения, а пустой взгляд Женса, так же пристально следящий за малейшими движениями наших тел, как хороший оружейник любовно оглядывает создаваемое им день за днем изделие.
Разумеется, ни темнота, ни состояние этого места не создавали серьезного препятствия при осмотре: у меня был наготове, словно каленым железом выжженный, план этой пещеры, и когда я вновь услышала тот же звук, на сей раз гораздо ближе, то, справившись с волнением, двинулась вперед.
Я знала, что в подвале были оборудованы две сцены, разделенные коридором, который вел в другие помещения – комнатку для реквизита и костюмов, столовую, а также большую комнату в самом конце, которая служила нам спальней. Здесь все было предусмотрено, чтобы провести несколько дней всеми позабытыми – и Господом, и людьми. Звуки доносились из дальней части подвала: так-так, хлоп-хлоп. Я сошла с первой сцены и направила луч к дальним комнатам, черным, как волчья пасть. Обогнув загородку, вошла на вторую сцену. Узнала большое зеркало в металлической раме, в котором можно было видеть себя в полный рост, оно висело на стене при входе, и темно-красный занавес над деревянными подмостками.
А еще в темноте стояли две-три фигуры.
Впечатление не было ошеломляющим, однако я почувствовала себя так, словно вся кровь превратилась в прохладительный напиток и кто-то меня перед употреблением взбалтывает. Обнаружить манекен в дурацкой позе – одно дело, и совсем другое – увидеть их облаченными в гофрированные воротники, камзолы, сапоги, юбки, совсем как в старые времена. Остальные – добрая дюжина – голые и грязные валялись на полу. Как будто кто-то выбрал именно эти три манекена, отряхнул с них пыль и принарядил по случаю.
Два мужских манекена стояли по обе стороны от зеркала, женский был прислонен к занавесу. Я подошла к первым и с некоторым удивлением увидела, что на груди прикреплены таблички – совсем как те, которые мы использовали в наших постановках: «Анджело», «Герцог». Первый в черном камзоле и плаще, слово «Герцог» – из парчи. Один глаз «Герцога» был выеден – то ли временем, то ли крысами, а «Анджело» был лыс. Руки обоих были подняты, словно взывая о пощаде. Это производило сильное впечатление – стоит только представить их стоящими в этой позе в полной темноте.
Я помнила пьесу, к которой они отсылали, – «Мера за меру», – одна из самых извращенных комедий Шекспира. Анджело, человек строгих правил, которому Герцог вручает бразды правления на время своего фиктивного отсутствия, вдруг ощущает неодолимое желание овладеть монахиней[50], которая умоляет его сохранить жизнь ее брату. Герцогу все становится известно, и он карает своего наместника. Согласно Женсу, пьеса, речь в которой идет о беспощадном правосудии, – «Мера за меру» – содержит в себе ключи к маске Целомудрия.
Но наибольшее мое внимание привлекали таблички. Я заметила, что написанные фломастером имена блестят под лучом фонарика, словно надпись сделана совсем недавно.
Я размышляла об этом, когда звук вдруг повторился где-то слева, на этот раз совсем близко. И едва ли нужно было смотреть, чтобы догадаться о его источнике.
Старый занавес, закрывавший всю заднюю стену, от потолка до деревянных подмостков, мерно шевелился, и прислоненный к нему женский манекен колебался вместе с ним, хотя и не падал. Звук производил колышущийся занавес и пластиковые ноги манекена, постукивавшие о деревянные подмостки. Звук повторялся. Стихал. Снова повторялся. Я вспомнила о порывах ветра, которые сгибали кусты. Но это невозможно: я знала, что за этим занавесом нет отверстий, только стена из брезента и кирпичи. Фальшивая стена, мы использовали ее в некоторых масках.
Звук повторился. Так-так, хлоп-хлоп. Стих.
Манекен, казалось, в знак согласия кивал белокурой головой. На нем был парик, а не монашеский чепец, так что изображал он явно не Изабеллу – монахиню из «Меры». И на нем действительно не было таблички. Одет он был в какое-то мятое платье с красными розами, а поднятые вверх руки были повернуты ко мне тыльной стороной, словно приглашая подойти поближе.
Чувствуя себя как во сне, я ступила на жалобно заскрипевшие подмостки, аккуратно подняла манекен и положила на пол. И занялась занавесом. Его, без сомнения, шевелил ветер, и когда я отодвинула материю, стало понятно, в чем дело.
Там была дверь. В стене. Тот факт, что она всегда там была, не был столь очевидным, но мне он показался именно таковым, поскольку работа была выполнена тщательно: дверь справа от меня, открытая настежь, была обложена кирпичом. И когда она была закрыта, разглядеть ее было не просто. К тому же эта стена обычно была завешена темным брезентом, который теперь, кем-то снятый, валялся на полу.
Узкий коридор за дверью походил на вход в заброшенную шахту. Воздух задувал из этих густых потемок, так что с другой стороны должен был быть выход на поверхность, однако по дороге этот ветерок подхватывал какое-то зловоние. Как будто что-то мертвое дышало в лицо, развевая распущенные волосы и осушая, словно слизывая длинным языком, пот на моем лице. Стоя на пороге, я поводила фонарем из стороны в сторону, пытаясь разглядеть, что это за конструкция. Пол был земляной, а вот стены оказались обшиты узкими досками, словно трюм старого корабля.
Но что это такое? Без сомнения, это не выглядело новым сооружением, но я его не помнила. Мы годами репетировали в нескольких сантиметрах от этой стены, но все, что я видела, – только брезент поверх кирпичной кладки. Никто и никогда не говорил о существовании этого туннеля, или чем там оно является. На миг я задумалась: следует ли расстраиваться по этому поводу или, наоборот, рассыпа́ться в благодарностях?
И как случилось, что теперь он оказался открыт, да еще и с тремя манекенами, указующими на него? Кто все это подготовил? Возможно ли, что это Женс и одна из его подсказок или вызовов? Но если так, то что все это значит?
Я сделала шаг, потом другой. Еще до того, как я приняла решение, ноги уже двинулись вперед. Ступив на земляной пол, я подняла глаза, опасаясь, как бы что на меня не свалилось. Однако потолок, насколько я могла видеть, был не слишком высок и состоял из крестообразно уложенных балок. На некоторых мелом были написаны цифры и буквы, загадочным образом избежавшие тлена: «2A», «2Б», «3В», «4Г»… Обнаружение этой архитектурной детали вызвало у меня какую-то странную дрожь.
Коридор был прямым, но вдруг с левой стороны доски закончились, открыв некое отверстие. То, что на первый взгляд выглядело ответвлением коридора, оказалось маленькой каморкой, к деревянным стенам которой крепились пустые металлические полки. Я вернулась в коридор и остановилась.
Скрип. Далекие удары. Шаги.
– Эй! – громко сказала я. – Кто здесь?
Тишина, снова звуки. В конце концов я решила, что это все-таки могут быть крысы. «Или манекен, которого не хватает. Возможно, это Изабелла, шествующая в своем белом чепце». Я устыдилась этой глупой фантазии, потому как точно знала: призраки существуют, но все они без исключения являются живыми людьми. Или это моя тайная любовь? Но как мог Наблюдатель узнать об этом туннеле?
Справа оказалась еще одна камера, побольше, с металлическим столом, складным стулом и электрическими розетками в полу. В доски на стенах на разной высоте вбиты крюки. Дальше по коридору было еще две камеры. Все двери распахнуты настежь, хотя каждая снабжена задвижкой, а у дверей этих двух камер они расположены снаружи. И если первая показалась мне складом, а вторая – маленьким кабинетом, назначение двух последних оставалось неясным: еще больше крюков на стенах и в полу, свешивающиеся с потолка цепи, еще больше розеток…
Не то чтобы я не имела представления о том, для чего могут служить некоторые из этих предметов. Мой curriculum[51], возможно, и не поможет устроиться на приличную работу, однако он полон реального или фиктивного опыта в подобного рода интерьерах. Память профессиональных наживок хранит воспоминания о комнате Синей Бороды, которую мы стараемся никогда не открывать. И в моей персональной комнате, когда я что-то искала, дверные петли издавали некий клик, и перед глазами, как живые, вставали сцены, о которых я предпочитала не вспоминать: псих, державший меня подвешенной за руки несколько часов, пока его не удалось подцепить, садисты, которые приковали меня цепями к стене и развлекались, гася о мою кожу сигареты, пока я не заставила одного из них уничтожить другого… Душные камеры, кляпы, тьма и цепи составляли часть моей жизни. Тело мое отмечено маленькими шрамами – как некими заголовками, знаками начала тех пыток, которые, к счастью, всегда удавалось вовремя остановить. Но даже и начало пыток – опыт такого свойства, что не забывается, как умение кататься на велосипеде.
Я полагала, что знаю, для чего могут служить эти тайные комнаты, но не знала ни с какой целью, ни для кого. В конце концов, обучение в поместье включало в себя упражнения подобного рода – когда тебя часами держат привязанной и взаперти, навещая только для того, чтобы отстегать хлыстом. И казалось необъяснимым существование этой «подцензурной» части: словно спрятали всего одну операционную в залитом кровью госпитале. Что же здесь происходило?
Через несколько метров коридор пошел вверх. В другом конце должен был находиться выход, и, судя по сквозняку, открытый. Может, при входе были вентиляционные отверстия, на которые я не обратила внимания, и они усиливали поток воздуха. Здесь нашлась еще одна каморка: зловонный закуток с отхожим местом – замшелой парашей, возле которой я действительно увидела шмыгнувшую прочь крысу. Поморщившись от отвращения, отступила назад и тут увидела в стене напротив еще одну камеру, мимо которой я прошла, не заметив, потому что дверь была закрыта, хотя и не на защелку. Я толкнула дверь носком кроссовки – послышался стук. Дверь обо что-то стукнулась, о какое-то препятствие. Свободной рукой я надавила на дверь, но она не открывалась – что-то ей мешало. Пришлось заглянуть в образовавшуюся щель.
Охвативший меня ужас превратил луч фонарика в театральный прожектор в руке безумца.
Я не закричала, по крайней мере я этого не помню, но не помню и того, сколько времени простояла, пытаясь как-то переварить открывшуюся перед моими глазами картину. Так, каждый раз, когда я, леденея от ужаса, прыгала в бассейн головой вниз, я не могла потом даже приблизительно восстановить ни одной мысли: в организме произошла химическая реакция, и все, что я есть, растворилось в том, что я видела.
Эта камера почти не отличалась от остальных. В углу были сложены одеяла, всюду прогнившее дерево, сырость. Отличие было на потолке. Четыре куклы были подвешены за шею к самым высоким доскам. Три были обычными – лысые, безрукие, грязные, голые. Четвертая была огромной, в человеческий рост, и именно она мешала двери открыться. Она тоже была голой, и хотя ее конечности были на месте, выражение лица с выпученными глазами свидетельствовало о гораздо большем страдании, чем у ее товарок. Она мягко, тяжело раскачивалась, а под ней лежал опрокинутый стул и элегантная мужская одежда.
Это был Алварес.
– Он не появлялся на работе всю неделю, – рассказывал Мигель, когда я позвонила ему во второй раз за ночь, и его успокаивающий голос эхом отзывался внутри салона машины, в которой я на полной скорости возвращалась в Мадрид. – Сначала подумали, что он уехал, но ни у него дома, ни в министерстве никто не знал о поездке… Сегодня в полдень официально объявили о его исчезновении… И говоришь, ты нашла его машину?
– Да, на выходе из этого… туннеля… Там, позади башни, есть такая дверца, и она была открыта… Алварес оставил машину там, поэтому я ее и не заметила, когда приехала.
– Ага. – Мигель делал паузы, будто записывал. – Это, наверное, было так ужасно – найти все это, солнышко. Сочувствую.
– Да, зрелище не из приятных. – Я кусала губы, обгоняя попутные машины, которые, как мне казалось, просто стояли. – Мигель, ты уверен, что ничего не знаешь об этом туннеле?
– Абсолютно ничего. Но если он был там, когда мы репетировали, то логично, что я ничего не знаю… Я тоже был в то время наживкой, припоминаешь? И естественно, читал ту часть своего контракта, которая набрана мелким шрифтом, где речь идет о предметах, обозначенных как…
Мне недоставало терпения, чтобы вынести типичные для Мигеля легалистские рассуждения, но я изо всех сил сдерживалась.
– Мне известно, что нам не все рассказывают. Но я спрашиваю о том, что именно это было…
– Я не знаю. А ты все там обошла? Надеюсь, ничего не трогала… Сейчас там целая армия спецов в фосфоресцирующих жилетах, которые досконально исследуют это место…
– Нет, ничего не трогала… Но ведь очевидно, что Алварес-то об этом знал.
– Очевидно, – откликнулся Мигель, и в его голосе послышалось замешательство. – Думаю, ты понимаешь, что с тобой захотят поговорить. У меня уже с дюжину пропущенных звонков и пять в очереди ожидания, два из которых от Падильи… Он же ухитряется звонить одновременно с двух телефонов, знаешь ли, – прибавил он, умудрившись пошутить, и я улыбнулась. – Что я хочу сказать… Это… А ты действительно поехала в поместье, чтобы… подумать?
Я сказала ему эту глупость, чтобы скрыть свои планы, связанные с Женсом. Учитывая даже, что Мигель знал о «фиктивном» характере смерти Женса, он понятия не имел, что я обращалась к тому за помощью. Естественно, я не была расположена об этом рассказывать. Так что, повторив свою версию, я добавила лишь, что была вся на нервах после исчезновения Веры и чувствовала потребность вернуться для медитации туда, где стала наживкой. Но вдруг мне пришло в голову, что вопрос Мигеля имел под собой другие основания.
– Слушай, то, что случилось с Алваресом, это же самоубийство, ведь так? – спросила я, пока стояла на первом светофоре, которому удалось меня остановить при въезде в Мадрид. В ушах у меня гудело.
– Разумеется. – Мигель, казалось, удивился моему вопросу. – Когда я звонил Падилье, чтобы передать то, что услышал от тебя, он сказал, что в кабинете Алвареса только что найдена прощальная записка… И честно говоря, чего-то подобного следовало ожидать – в последнее время он будто сгорел на работе… И конечно, он выбрал поместье из-за его удаленности…
«Ох, бедняга! Сгорел он. Посмотрел бы ты, в каком сейчас состоянии мы, наживки», – подумала я в раздражении, вспоминая встречу с Алваресом две недели назад, когда я заявила о своей отставке. Мне на самом деле было жаль его (это жуткое лицо, как будто повеситься – такая медленная пытка), но не очень.
Однако оставались детали, которые все еще шокировали меня. И мне хотелось обсудить их с Мигелем.
– Эти манекены, которые он подготовил, с персонажами из «Меры за меру»… Странно это. Помнится, Алварес никакого интереса к нашей работе никогда не выказывал…
– В последнее время он читал кое-что о филиях и театре. Падилья рассказывал…
– Но зачем подвешивать к потолку кукол, Мигель?.. Они так похожи на… – Я умолкла, предоставляя ему возможность самому догадаться о том, что я не договорила.
Ренар.
– Понимаю, на что ты намекаешь, солнышко, – прошептал Мигель, – но хочу напомнить, что Ренар погиб года три назад, перед самым арестом…
– Я знаю, но почему Алварес это сделал?
– А почему совершают то, что совершают, люди, у которых снесло крышу? – ответил вопросом на вопрос Мигель. – Думаю, у него были на то свои причины, но мы никогда о них не узнаем… Солнышко, я должен повесить трубку, а то Падилья отправит отряд быстрого реагирования, чтобы выломать мою дверь…
– Хорошо. А ты точно можешь держать оборону до завтра? Я страшно устала, Мигелин, и ни с кем не хочу разговаривать… Я сама поговорю с Падильей, завтра, прямо с утра, клянусь. И подготовлю доклад.
– Нет проблем. Надеюсь, что нет. – Он изобразил смешок. – Сейчас почти одиннадцать. Скажу им, что ты хочешь спать, а свои вопросы они смогут задать завтра… Самое главное – это чтобы ты отдохнула. Сначала Вера, а теперь еще… Ты должна восстановить силы, солнышко…
«Ты должна была бы уже заловить его», – подумала я. Но никакой Наблюдатель не прибежал в поместье, пуская слюни. Я ругала себя за то, что послушалась выжившего из ума старикана.
Вдруг, уже на своей улице, когда я подъезжала к подземной парковке, в голове возник новый образ: я лежу одна в постели – на этом ворохе простыней, где свила гнездо бессонница, и мне так захотелось попросить Мигеля приехать, даже не попросить, а умолять. Захотелось обнять его, ощутить всей кожей его горячее тело. Но я знала, что это невозможно. Он должен стать моей защитой и держать за меня оборону до завтра.
– Люблю тебя, солнышко, не забывай, – сказал Мигель и отключился.
– И я тебя люблю, – громко сказала я, стараясь проглотить вставший в горле ком. – Люблю тебя, люблю…
Я оставила машину на парковке, заглушила двигатель, но выходить не стала. Ждать – разве не это я умела делать лучше всего? Молча терпеть.
Некоторое время я смотрела, как капают на руль слезы. Думала о Мигеле, о Вере, о своем провале как наживки, о Женсе и темном туннеле, в конце которого Алварес решил подвести итог собственного провала, в чем бы он ни заключался. Но в первую очередь – о Мигеле, о том, как же я хочу ощутить его такое благотворное присутствие рядом.
Несколько секунд спустя, когда мне удалось успокоиться, та Диана в моей голове, которая всегда стоит настороже, вынесла вердикт: «Ты же до чертиков устала, идиотка! Отправляйся в кровать. Завтра посмотришь на все другими глазами».
Я послушалась совета и вышла из машины. На полдороге по безлюдной парковке, уставленной машинами, я вспомнила, что оставила на заднем сиденье спортивную сумку, выругалась сквозь зубы, развернулась и чуть было в кого-то не врезалась.
Куртка фиолетового цвета, торчащий вперед козырек бейсбольной кепки, дреды до плеч – и убийственно прекрасное лицо, когда оно поднялось ко мне. Мальчик.
– Знаешь, что ты такое? – без всякого выражения сказал он.
В этот миг что-то со страшной скоростью пролетело мимо, и как будто занавес опустился перед моими глазами.
II Антракт
Ночь, завяжи глаза платком потуже Участливому, любящему дню[52]. «Макбет», III, 222
Темнота.
Два луча света, рассекающие ее.
Глухой ночью четверга северная автострада свободна.
Удобное кресло, удобное управление, податливость руля, тихо звучащий саксофон бархатом ласкает ухо… все для того, чтобы можно было расслабиться. Бортовой компьютер мерцает, показывая дорогу без трафика. Скоро он будет уже на съезде, ведущем к поселку в горах и тому месту, где стоит старый охотничий домик. Самое большее – через полчаса.
Приборная доска подсвечивает мужское лицо голубым. Следы усталости заметны в набрякших веках, но в общем лицо совершенно спокойно. Время от времени его обгоняют машины – свет фар набегает, словно пелена, и спадает с его лица: мигнуло – и снова темнота.
Торопиться ему некуда.
Мальчик сидит рядом, какой-то притихший. Мужчина взглянул на него и увидел, что подбородок у того поднят, голова откинулась назад так, что козырек кепки закрывает пол-лица. Легкая зыбь «мерседеса»-универсала, как куклу, покачивает и тело мальчика под ремнем безопасности. Мужчине это не нравится.
– Эй, помощник! – говорит он, улыбаясь.
Розовый кончик языка высунулся изо рта мальчика и пробежался по губам, словно ощупывая их. Козырек медленно развернулся к мужчине. Тут их обогнала еще машина, и сонные глаза замигали.
– Не спи, мачо. Ты что, устал?
Вопрос был дурацкий, но мужчина знал, что с ребенком лучше все четко проговаривать. Очевидные вещи дают ему пищу для размышлений.
– Немного. – Уклончивый ответ сопровождается зевком.
– Ладно, спи. Разбужу, когда приедем.
Если честно, его раздражало, что сын спит, но он мог это понять: почти шесть часов ребенок провел в напряжении. Он и сам чувствовал себя измотанным.
– Скоро приедем? – спросил мальчик.
– Я и сам хочу поскорей добраться, Пабло.
– Я только спросил.
Мужчина тяжело вздохнул, подумав, что сердиться смысла не имеет.
– Где-то через полчаса, плюс-минус… Не хочу ехать очень быстро – заметил, что здесь полным-полно полиции… транспортной, – добавил он с улыбкой, почувствовав, как смотрит на него мальчик. – Ты же не хочешь, чтобы мне вкатили штраф, а? Слушай, почему бы тебе не снять куртку? Потом будет холодно, когда выйдешь…
– Мне и так хорошо.
– Я только спросил. – И мужчина изобразил смешок.
– А почему так много транспортной полиции?
– Откуда мне знать? Но это не важно.
Он лукавил. Вдоль пустынной, почти без машин, трассы он то тут, то там замечал полицейских, причем не только из транспортной полиции. Его обгоняли и машины полиции национальной – не включая сирен, не ставя проблесковых маячков, как будто инкогнито. «Спокойно! Прежде всего – не привлекать внимания. Проверь панель приборов – не хватало еще, чтобы тебя остановили из-за выключенной фары». Еще в городе ему показалось, что активность полиции как-то возросла: он заметил много патрульных машин – и припаркованных, и нет. Мужчина подозревал: ищут что-то особенное.
В довершение всех неприятностей при выезде из Мадрида ему пришлось остановиться – сын просился в туалет, а сам он в этой суматохе забыл залить доверху бак своего мощного «мерседеса-блюфайера». Он остановил выбор на знакомой заправке: при ней был магазинчик с хозяевами-филиппинцами, что оказалось очень кстати, поскольку надо было купить что-нибудь на ужин – в доме шаром покати. Пока заливал бензин в бак, заметил на выезде с заправки еще пару полицейских машин вместе с седоками. Они, кажется, как-то чересчур пристально оглядели его? Позже, в магазине, когда покупал сэндвичи, чипсы, шоколадки, лимонад для Пабло и пиво для себя, ему почудилось, что немногочисленные клиенты – в том числе и шлюха под кайфом с остекленевшими глазами – поглядывают на него с тем же вызовом. «Это он! Это он!» — казалось, думали они. Он знал, что голод и усталость могли спровоцировать всевозможные иллюзии, но все равно слегка нервничал, протягивая банкноты, которыми расплачивался за бензин и покупки.
Однако ровное движение по трассе вроде бы помогло развеять тревогу. Сейчас, уже за полночь, он чувствовал себя прекрасно и даже прикидывал, не перекусить ли где-нибудь по дороге, но тут мальчик спросил:
– Завтра я в школу не пойду?
– Нет, завтра не пойдешь. Мне придется съездить в офис около десяти, но я сразу же вернусь. А пока меня не будет, я хочу, чтобы ты сделал кое-какие задания.
– У меня нет заданий.
Мужчина мельком взглянул на мальчика: развалился на сиденье, будто сломанная кукла, с этими его дредами, упавшими на плечи, в кожаной куртке ядовито-фиолетового цвета, которая ему великовата.
– Математика и язык, – объявил мужчина. – Дроби и спряжение глаголов. Вот тебе задание. Сделаешь – можешь поиграть наверху. Или спуститься ненадолго вниз, если захочешь.
– Что можно с ней делать?
Он хорошо понимал, что сын и так прекрасно знает ответ на вопрос, к тому же для мужчины не остался незамеченным серьезный тон, которым вопрос был задан: у Пабло это означает раздражение. Но он решил, что мальчик его послушается, и смягчился:
– Никаких разрезов, ударов по голове или применения техники до моего возвращения… Первый день, сам понимаешь… Слушай, Пабло, ты что, сердишься?
Мальчик ничего не ответил. Мужчина продолжил:
– Я знаю, что этот выбор отличается от остальных, но ты по-прежнему мой помощник, и я обещаю, что буду очень осторожен… Очень.
– Она тебе не нравится, – наконец сказал мальчик, словно констатируя очевидную вещь – такую же, как ночная темень за окнами машины.
Мужчина какое-то время молчал.
– Ну, в общем, не слишком нравится, – в конце концов признался он и заметил, что во рту пересохло.
– И мне тоже.
Страшно было осознать, что мальчишка, несмотря на юный возраст, попал в самую точку: не то чтобы девушка была некрасива, но это был не его тип. И это настораживало. Девица в джинсах, в какой-то задрипанной курточке – и выглядит так, будто более чем довольна собой. На такую, при иных обстоятельствах, он бы на улице второй раз и не взглянул…
Очень настораживает.
Поворот он прошел на более высокой скорости, чем следовало, и слегка приотпустил педаль газа. Ладони вспотели, а волосы, судя по ощущениям, прилипли ко лбу.
Некоторое представление о том, что могло послужить истинным мотивом, у него все-таки было. Необходимую литературу по теме он читал годами. И знал, что существуют способы заставить тебя выбрать даже то, что внушает отвращение. Точнее говоря, выбираешь именно потому, что нечто внушает тебе отвращение. И он припоминал, что одна из подобных техник, названная «маска Представления», была описана в «Гамлете». Разыграем тебе пьесу, чтобы завладеть твоим сознанием, устроим спектакль-ловушку, чтобы прищемить тебе лапки, поставим мышеловку. Ты получишь именно то представление, которое сильнее всего ненавидишь, и именно по этой причине не сможешь от него оторваться. На эту фальшивую наживку поймаем твоего настоящего карпа.
Он, конечно, должен провести расследование. Нужно все выяснить. Он ее допросит, это как пить дать. С величайшей осторожностью, будто имеешь дело с жидкой взрывчаткой, но он должен принять вызов, потому что на кону стоит его собственная идентичность – того свободного и сознательного создания, того черного смерча, который является его сутью.
Вдруг он ощутил себя как бы в потемках, прокладывающим себе дорогу ощупью, словно потерявшимся, неспособным осознать реальность. Он глубоко вздохнул, некоторое время послушал саксофон, и странное ощущение исчезло. Он списал его на счет усталости. «Спокойно… Это же она находится в темноте, это она потеряла все, это она станет кричать от боли… Мы отделаем ее по полной программе…»
– Что? – услышал он.
– Чего тебе? – И удивленно взглянул на мальчика.
– Ты разговаривал, папа.
Тут он понял, что высказал какие-то мысли вслух, делано засмеялся, что опять-таки поставило его в неловкое положение перед сыном.
– Я говорил, что мы как следует отделаем ее в задницу… – пропел он. И повторил, повысив голос, словно хотел, чтобы было слышно издалека: – Мы отделаем эту суку через задницу.
– Это одна из этих… ловушек? – Мальчик произнес это слово с необычной интонацией – с такими страшными, перенятыми у мужчины оттенками, что взрослый предпочел дать ребенку наиболее оптимистичный ответ:
– Уверяю тебя, Пабло, если это и так, то она скоро увидит, что мы тоже парочка неслабых ловушек. Так что ты не… – Монитор бортового компьютера вдруг ожил, рисуя белую молнию прямо перед лицом мужчины. – Вот дерьмо!
– Что случилось?
Мужчина не ответил, среди прочего еще и по той причине, что пока и сам в точности не знал. Сверкающие огоньки менее чем в километре впереди. Монитор показывает небольшую пробку. Объяснений может быть несколько.
И, сбрасывая скорость, он горячо пожелал, чтобы там, впереди, оказалась всего лишь банальная авария.
Темнота.
Внутри и снаружи.
Я не только ничего не видела, но и сами глаза мои казались ни на что не годными. Попробовала поморгать – что-то коснулось ресниц. Услышала какое-то бульканье – это мой голос. Хотела пошевелиться, но только желанием все и ограничилось: мышцы не слушались.
Это сон? Не уверена.
Секундой раньше я находилась на чем-то похожем на носилки. Видела лампы операционной, слышала приглушенную мелодию саксофона и урчание какого-то мотора – несомненно, одного из хирургических аппаратов. Человек-Лошадь склонялся надо мной, будто ему предстояло меня оперировать. Он сунул мне в рот какие-то резинки, которые едва позволяли дышать, связал руки и ноги. Мне нужно было изогнуться всем телом, чтобы изобразить маску (Представления, согласно технике Бауманна), но удалось лишь повернуть голову. Сделав это, я смогла увидеть на носилках, стоявших рядом с моими, голый искореженный труп Алвареса: глаза словно две плашки, втиснутые в орбиты, и распухший, как дохлая жаба, язык. Человек-Лошадь, с головы до ног заляпанный кровью, держит в руке нож.
«А теперь ты будешь смеяться, девочка».
В это мгновение саксофон умолк, как и мотор, и операционная растаяла в плотной, гнетущей темноте.
Когда я попыталась ухватить ртом воздух, ничего не вышло, что сильно меня напугало, поскольку нос-то дышал хорошо и я ощущала резкий запах роз. Так вот оно что – у меня между зубами что-то есть, какая-то продолговатая и тонкая резинка, и, если ее пожевать, она тоже отдает розами. Это не так уж и плохо, но все-таки хочется дышать нормально.
Внезапно я поняла, что все это не сон: я не могла двигаться, говорить и хоть что-то видеть, и я задыхалась. Если сложить все эти ощущения, то в результате получалось – «паника». Однако на тренингах я усвоила, что нужно оценивать каждое ощущение по отдельности, не создавая из них высшую математику ужаса, которая запросто тебя раздавит.
В принципе, задохнуться я не могла. Если дышать через нос, не пытаясь глотать воздух ртом, то его вполне хватит. Так что нос относился к тем немногочисленным органам, которые функционировали нормально. Другим таким органом были уши – то, что я слышала, наводило на мысль, что кто-то открыл окно, хотя звук долетал до меня приглушенно, словно я была завернута в вату. Проезжающие мимо машины. Голоса. Резкий, командный тон:
– Будьте добры, предъявите… на машину и ваши права, пожалуйста…
Я не пыталась вспомнить, что со мной произошло, потому как рано или поздно, но я все равно это сделаю, а единственное, чего можно добиться, упорствуя в припоминании, – это расстроиться. Вместо этого я сфокусировалась на том, что снаружи, чтобы проанализировать ситуацию, как меня и учили. «Вы можете сидеть в скорлупе грецкого ореха, – говорил нам Женс, – и при этом чувствовать себя повелителем безграничного пространства: вспоминайте Гамлета, Гамлета, всегда – Гамлета».
Я, конечно, была жива, но такой жизни не позавидуешь. Лежала я на боку на чем-то твердом, руки заведены назад, запястья связаны за спиной чем-то похожим на резиновый жгут, и он идет дальше, до самых лодыжек. А поскольку ноги у меня сильнее, чем руки, то они тянут резинку на себя, заставляя болезненно выгибаться дугой. На лице я чувствовала повязку, во рту – кляп. Он представлял собой двойной резиновый жгут, соединенный на затылке с центральной, расширявшейся частью, а мой язык пихала внутрь какая-то круглая штуковина. Но я могла кусать ее, и я это делала. Мне удалось застонать, но звук глушился намотанным поверх кляпа широким скотчем, из-за которого к тому же саднило щеки. Повязка полностью закрывала глаза и, казалось, крепилась не узлом, а липучкой – она несколько раз обматывала голову и застегивалась где-то на носу.
Я была одета, обуви на ногах не было, только носки. На мне, судя по ощущениям, нижнее белье, джинсы и маечка, причем одна бретелька – та, что должна быть на «верхнем» плече, – спустилась и сейчас болтается у локтя. Кажется, я даже узнала эту вещичку – желтый топ, который я использовала для масок Представления и Жертвоприношения. Надела я ее не просто так, а по какой-то причине, которую никак не могла вспомнить, – тут вообще все было туманно. Ощущала я и ту ткань, которая покрывала меня целиком, – что-то вроде наброшенной сверху простыни.
Но нет, это не простыня: помотав головой во все стороны, насколько это было возможно, я везде натыкалась на одно и то же препятствие, да и кончики пальцев могли нащупать его – до самого пола.
«Мешок. Я в мешке».
Этим объяснялось многое – и нехватка воздуха, и духота, от которой по телу струился пот, да и звуки доносились приглушенными, словно я приложила ухо к стенке аквариума: машины, далекие голоса, явственный крик:
– Проезжайте, проезжайте, пожалуйста!
Прежний, громкий и властный голос, чуть ближе:
– Не могли бы вы открыть… багажник?
Ответ вежливый, но ближе:
– Что-то случилось, офицер?
– Нет… проверка, сеньор. Открывайте багажник.
Я изо всех сил прислушивалась, хотя меня стало мутить и слова ускользали, как вода сквозь пальцы.
– Слушайте, прошу вас… мой сын был на… дне рождения, и я везу его в… Но ему нездоровится… Нельзя ли нам поехать дальше, прошу… Ведь никогда не знаешь…
– Это не займет много времени… Багажник… пожалуйста…
Что со мной случилось? Почему я в таком состоянии? Образы манекенов и повешенных кукол в моей больной голове появлялись и удалялись, словно крутясь на карусели. Меня, очевидно, накачали наркотиками. Запах роз. Начо Пуэнтес, один из наших профилировщиков, говорил, что есть такой анальгетик, который оставляет этот аромат, когда…
И тогда мягкий голос сказал что-то вроде: «Я сейчас вернусь… Спокойно, парень…» – а другой, тоже где-то очень близко, ему ответил:
– Ладно. – Высокий, без интонации, напоминает голос неопытного актера-ребенка.
Ребенок. Дреды под бейсболкой. Фиолетовая куртка. Очень красивое лицо.
Понимание пришло в ту же секунду: «Они ждали меня на паркинге, в моем доме: мальчик меня отвлек, а тот подошел сзади и закрыл чем-то нос и рот…»
От волнения все в животе перевернулось, и на секунду стало страшно от мысли, что меня сейчас вырвет и я захлебнусь собственной блевотой. Так что лучше продолжать думать. «Не оставляйте свой мозг без работы: мозг, который не задает себе вопросов, мгновенно попадает в ловушку страха», – наставлял нас Женс. Гамлет, Гамлет, всегда Гамлет, в любой ситуации: думать, думать, думать.
Что происходит? Где я? Прежде я слышала мотор – значит, в машине. «Меня куда-то везут». Но мы остановились. Почему?
Неожиданный резкий звук, будто выстрел прямо в голову. Совсем рядом открывается дверца. «Это багажник. Он упаковал меня в мешок и засунул в багажник. Но почему его открывают?»
Тут я вспомнила, что слышала чуть раньше. «Что-то случилось, офицер?» – «Нет, проверка».
И я все поняла. Случайность, конечно, просто случайность: полиция в определенной точке трассы выбирает каждую десятую машину, останавливает ее и просвечивает переносным сканером багажник. Скорей всего, эта предосторожность – из комплекса мер безопасности, который ввел Падилья после исчезновения Веры. Я быстро прикинула, что произойдет дальше. Найдут подозрительный мешок. Полиции даже не придется требовать, чтобы он его открыл, – сканер и так меня обнаружит. Его арестуют.
По этой схеме все должно закончиться через пять секунд.
Но происходило что-то странное.
Багажник должен был быть уже открыт, а мешок – предстать перед взором полицейского. Я явственно слышала шум немногочисленных проезжавших машин, распоряжения полицейских и даже попискивание предполагаемого сканера. Но почему тогда полицейский не упоминает мешок? Я попробовала застонать, но получилось еле слышное бульканье. Внезапно разговор возобновился:
– Что в этих коробках?
– О, это запчасти для садовой техники. Хочу заняться в выходные.
– Можете открыть одну?
– Конечно. – Металлическое бряканье у моего лица, несколько слов я не слышу. – «…Сделай сам». Прошу вас, офицер, мы закончили? Моему сыну нездоровится…
«Коробки», – пронеслось в голове. Я уже знала, что лежу вовсе не в коробке, а на чем-то мягком. Может, я спрятана где-то сзади? И да и нет. Без сомнения, речь шла о великолепной штуке: большая машина, специально сконструированный багажник – с перегородкой, поставленной между мной и коробками. Полицейский, должно быть, видит второе дно. А что касается сканера, так в коробке с «запчастями» легко можно спрятать преобразователь сигнала. Ясное дело, он подготовился к такого рода проверкам.
Прекрасно придумано, ловко, но допущена серьезная ошибка.
Ошибка – это я.
«Моему сыну нездоровится». Я понимала тревогу, которая сквозит в его голосе. «Мальчику не нездоровится, это ты сам попался, ведь так, приятель? Ты заподозрил, что действие твоего анальгетика уже закончилось, и если я очнулась, то могу и зашуметь, не так ли?»
Мне по-прежнему не хватало воздуха, у меня болело все, даже корни волос, а напряжение любой мышцы вызывало тошноту и желание тут же умереть, но я знала, что если поставить цель, то я смогу сделать и кое-что заметное: заставить мешок шевелиться – при помощи рук или ног – или, еще лучше, перевернуться. Пространство, в котором я находилась, явно очень узкое, и если я всего лишь повернусь на бок, то устрою заметный шум.
Полицейский вновь заговорил:
– Ну так отвезите ребенка к врачу, если он плохо себя чувствует…
– Возможно, я так и сделаю, как только вы позволите нам ехать дальше…
Я решила повернуться на левый бок. Даже если мне, со связанными ногами, не удастся выбить второе дно, шум, несомненно, услышат, полицейский обратит на это внимание и меня найдет. Но до окончания проверки остается несколько секунд. Я набрала в легкие воздуху, приготовилась. И начала короткий обратный отсчет.
– Вы закончили, офицер?
«Три… Два…» Внезапно я замерла.
В голову пришла другая мысль.
Я спросила себя, что будет, если его арестуют прямо сейчас. «Суд… Приговор… Десять лет? Пятнадцать?» Сколько времени проведет он в тюрьме, прежде чем сможет получить условно-досрочное освобождение или же наше правосудие, отличающееся столь короткой памятью, окончательно забудет об Аиде Домингес и других жертвах и пожалеет их палача? А может статься, что его вообще не арестуют. Он прирожденный боец и так же хорош в своем деле, как я в своем. Может, ему удастся вскочить в машину и удрать, пока полицейские будут собираться с мыслями. А ведь укройся он в своей берлоге, то даже если его и арестуют – получасом позже, что за это время успеет он сделать с моей сестрой?
Шуметь? Или не шуметь? Гамлетовский вопрос.
– Хорошо, – произнес полицейский. – Можете следовать дальше, спасибо.
– Вам спасибо.
«Значит, будет…»
Оглушительный удар, как будто упала стальная могильная плита, накрыв склеп.
«…нет».
Мне пришло в голову, что багажник он захлопнул с огромным облегчением, не догадываясь о том, что и я его разделяю. Я почти что улыбалась под повязкой. «Вместе навеки – ты и я». Я его теперь не потеряю – раз уж удалось заполучить. Нет, конечно нет. «Я пришла не для того, чтобы отправить тебя в тюрьму, сукин ты сын, – я пришла тебя уничтожить».
Снова качка. Мы едем дальше. Меня тошнит, хочется пить, я почти задыхаюсь, вся пронизана болью и желанием покончить с этой мучительной пыткой, но я знаю, что скоро это закончится, что мы приедем, куда бы там ни должны были приехать. «По дороге он меня не убьет. Вероятно, мы уже близко».
И я спросила себя: подозревает ли Наблюдатель, что вот кто из нас сейчас в опасности, так это он?
23
И это, разумеется, закончилось. Как и все в жизни. Вдруг меня перестало покачивать. Открылась одна дверца. Потом, через несколько секунд, другая.
Но за мной они не торопились, и именно теперь, когда я уже считала себя почти на свободе, мое страдание сделалось нестерпимым. Я чувствовала себя так, словно вынуждена танцевать классический балет в ванне: надо поддерживать в равновесии все болячки. Едва я расслабляла колени – позвоночник начинал стрелять огненными стрелами. Когда мне казалось, что вот-вот потеряю сознание от боли, – давала знать о себе жажда. Чтобы не думать о жажде, я втягивала в себя воздух, которого становилось все меньше, а это вынуждало не двигаться, чтобы не расходовать его напрасно. Но если я долгое время не двигалась, то расслабляла колени – и все начиналось сначала, как в Дантовых кругах ада. Как говорил Женс: «Порой придется притворяться, что вам до чертиков плохо, но вы не беспокойтесь, потому как в большинстве случаев именно так на самом деле и будет».
Спустя целую вечность, судя по моим ощущениям, послышались ожидаемые звуки: багажник, коробки, перегородка. Кто-то дернул за мой мешок, и я почувствовала, как меня поднимают. Оба молчали – и он, и его сын, слышались только натужные «уф, уф». Он нес меня, словно жених невесту в ночь свадьбы. «Идем же, Дездемона. Мне остался… лишь час любви»[53]. И я отметила это дело соответствующими стонами из-под повязки. Чувствовать, что меня несут, гадюкой прильнуть к его груди – это придавало мне сил. Я знала, что моя добыча неотвратимо вносит в свой дом тот яд, что его и уничтожит. «Ну же, так держать – возьми меня с собой, не выпускай…»
Он меня выпустил, но очень деликатно. Тем не менее, когда он меня опустил, мне удалось вновь увидеть звезды, и я яростно впилась зубами в пересохший кляп, как разъяренный пес в обугленную палку.
Послышался его голос:
– Пабло, открой дверь.
Не думаю, что он имел в виду главный вход. Ноги мои стояли на гладком полу, и я слышала эхо – значит над головой потолок. Может, это гараж? Стала думать об этом имени: Пабло. И принялась повторять его, как мантру: Пабло, Пабло. Имя мальчика. Имя «загадки», как назвал его Женс. Чего он хочет, что он вообще такое – этот Пабло? Нужно его разгадать, потому что с ним маски бесполезны.
И вот – мое второе рождение: молния, резкое движение вниз, мешок спадает на плечи. Наконец-то благословенный свежий воздух! Но мне нужно контролировать себя: когда испытываешь страдания, миг твоей наибольшей уязвимости – как раз наступившее облегчение. Все заплечных дел мастера знают это, и именно в такой момент и закручивают гайки по полной. Так что я продолжала дергаться и стонать на ледяном полу, изображая обычное поведение до смерти напуганной и молящей о спасении девушки, которое так по вкусу разного рода сучьим детям.
– Подержи вот здесь, Пабло.
Они освободили мою голову. Резкий рывок – и появилось все остальное. Я услышала шелест чего-то прорезиненного и хлопок закрывшейся металлический двери. Узкая полоска света пробивалась из-под нижнего края повязки, но она не позволяла мне видеть дальше своего носа – в прямом смысле: это выражение оказалось в данной ситуации как нельзя более уместным. Послышалось какое-то жужжание, и, раньше, чем я успела испугаться, резинка, соединяющая мои руки и щиколотки, лопнула.
На этот раз – никакого облегчения, наоборот – самая сильная боль, какую довелось испытать с тех пор, как я очнулась. Резкое снятие напряжения оказалось подобно еще одному повороту винта механизма дыбы для моих конечностей; я закричала, вернее, попыталась это сделать, потому что раздался какой-то звериный рык. Опять жужжание – и мои щиколотки разъединились. Я почувствовала на левом запястье, под резинками, пальцы и сдуру подумала, что сейчас мне развяжут и руки. Но это оказалась всего лишь мера предосторожности. «Хочет удостовериться, что со мной все в порядке, что не требуется срочного медицинского вмешательства». Пощупав пульс, он схватил меня за руку и потянул. Хотел, чтобы я встала, но, без сомнения, кабальеро, это оказалось невозможным: мои ноги были словно два протеза, только что присоединенных к туловищу.
Тогда стратегию поменяли: отпустив мою руку, он схватил меня за волосы. И оторвал меня от пола, держа только за клок волос. Клейкая лента, залеплявшая мой рот, вздулась от вопля. Я пыталась как-то удержаться на тех двух штуках, которые, горя и дрожа, пытались вновь стать моими ногами. Еще рывок за волосы – и я, спотыкаясь, двинулась вперед. Когда с дядей Хавьером случился инсульт, превративший его в колясочника, он говорил, что самое худшее – ощущать ноги полностью бесполезными, «как нечто такое, что стало для тебя лишним». Я не была колясочницей, но похоже, мне снова нужно было учиться ходить: я скользила, стукалась коленями об пол, снова поднималась – и все это одновременно, как в комедии. Наконец мои ноги (без обуви в одних, носках) как-то сумели скоординировать свои действия, и дерганье за волосы несколько ослабло.
– Дай-ка мне пройти, сынок.
Мы вошли. Я догадалась об этом по изменившейся полоске света под нижним краешком повязки. И эта догадка уберегла меня от вывиха лодыжки, поскольку я оказалась готова к тому, что меня ждет лестница, до того, как нащупала первую ступеньку. «Подвал, естественно. Он ведет меня в подвал». Облегчить мне задачу передвижения в его планы явно не входило: он заставлял меня спускаться без всяких пауз, таща за волосы, все еще скрюченную, с завязанными глазами. Ему было до лампочки, поранюсь я или нет, сломаю ли я себе ногу; как и для всякого истинного филика Жертвоприношения, самое главное было – держать меня в подчинении, а не сохранить в целости. На последнем участке лестницы, там, где она поворачивала, была маленькая площадка. Я потеряла равновесие – и вот здесь почувствовала руку, поддерживающую меня за талию. Так что, несмотря ни на что, моя целостность его все же заботила. Впрочем, он тут же потащил меня дальше.
Еще больший холод, запах сырости – это мое первое впечатление о подвале. Сильнейший удар правым бедром об угол металлического стола – это второе. Я подскочила и взвыла от боли, из глаз брызнули слезы, подтекло и немного мочи. В ответ – сильный рывок, но уже через секунду мы остановились. По-видимому, другой его хитроумной тактикой – с тем, чтобы показать, какой он мачо и какой властью надо мной обладает, – было принуждать меня к неким действиям, не говоря, чего он хочет. На этот раз я должна была догадаться, что он желает, чтобы я встала на колени. Рывки, толчки – но вот я и на коленях. Коснулась стены руками и ногами. Ледяное железное кольцо, громко лязгнув, защелкнулось на моей влажной от пота шее, и сзади послышался шум какого-то регулировочного механизма. Я не могла ни сесть, ни встать, что очень огорчило, потому что я хорошо знала, во что можно превратиться за несколько часов стояния на коленях.
Снова проверка пульса, на этот раз – на шее. Расширяется щелка у нижнего края моей повязки. Какой-то червяк лезет под мой левый глаз. Вслед за пальцем – ослепительный блеск, какой-то скрип, и рывком снизу вверх повязка снята.
В глаза ударила белизна, полились слезы, но лицо мужчины, что склоняется надо мной, все яснее, все отчетливее.
Он.
– Привет, – говорит он.
Ни с чем не сравнить ощущение, которое испытываешь, видя перед собой монстра.
Я говорю не об официальных фотографиях, тиражируемых СМИ, которые пытаются показать нам, какими порочными или же обыденными они кажутся. Нет, я имею в виду видеть вживую, в их собственном мире, среди их вещей, в нескольких сантиметрах от своего лица.
Мне довелось их повидать, и, какими бы различными они ни казались, у всех есть общая черта. Она так же заметна, как рот, нос или глаза. Ни одному актеру ни в одном фильме о психопатах не удалось ее воспроизвести. Это – непередаваемо.
Речь вот о чем: монстр тебя никогда не видит.
Он может смотреть на тебя или не смотреть, может говорить с тобой или молчать, презирать тебя или быть заинтересованным, смеяться над твоими шутками или плакать вместе с тобой. Не важно, что он делает или на что направлен его взгляд, но он никогда тебя не видит. И когда ты смотришь на монстра в первый раз в жизни, именно это бросается в глаза. Для этого чудовища ты – невидимка.
Не знаю, почему так. Я не исследователь. Женс полагал, это оттого, что они полностью погружены в свой псином. Живут, обращенные к нему. Как будто их глаза расположены по-другому: черные зрачки направлены в темную глубину черепа, а глазное яблоко, которое ничего и не видит, – наружу. Это нечто очень странное и – каждый раз, когда я это ощущаю, – приводит в состояние ступора, потому что я думала: все, что есть на лице, все, что на тебя смотрит, говорит и улыбается, это – человеческое.
Но есть исключения.
Я смотрела на лицо этого мужчины не более секунды, но успела понять. Это он. Все остальное – весьма банальные детали: лет примерно сорока, кряжистый, лицо широкоскулое, волосы темно-каштановые. Он мог бы сойти за постаревшего рок-идола или университетского профессора – из тех, по кому сходят с ума студентки. На нем черные рубашка и брюки, коричневые ботинки «Кампер». На большом и среднем пальцах левой руки – простые кольца.
Но мне ни капли не было интересно, на кого он похож, – это был Наблюдатель.
И еще я ощутила его желание. Свирепое желание, обращенное на меня, сравнимое по силе лишь с одним – моим страстным стремлением его уничтожить.
Мы оба, терзаемые жаждой другого, смотрели друг на друга в упор.
Сказав мне «привет», он поднял руку и содрал с моего лица скотч. Затем между резиновым кляпом и щекой всунул острое лезвие с зазубренными краями, которое один раз уже использовалось, чтобы перерезать закрывавшую глаза повязку. Что-то вроде электроножа. Расположил его плоское полотно плашмя возле моего лица, хотя и не касаясь его, и нажал кнопку. Послышалось шипение – резинки с треском лопнули.
Я не стала сглатывать слюну. Рот мой превратился в безводную пустошь, пересохшие губы потрескались, язык присох к нёбу. Я застонала и закашлялась. Увидела приближающуюся пластиковую бутылку с водой и жадно, проливая ее на подбородок и джинсы, принялась пить. Вода была такой свежей, что глотнуть ее было все равно что впервые коснуться губ любимого. Но, пока пила, я вонзала ногти связанных за спиной рук в стену, вонзала так, чтобы стало больно. «Никогда не позволяй добыче собой манипулировать: если он делает тебе что-то приятное, постарайся сделать так, чтобы тебе стало неудобно», – советовал Женс.
Когда я опустошила бутылку, Наблюдатель отодвинулся и улыбнулся.
– Кто вы… такой? – простонала я, разыгрывая роль жертвы.
– О, да ты уже знаешь. – И он взмахнул унизанной кольцами рукой. – И я знаю, кто ты такая. Не будем терять времени. Ты использовала по отношению ко мне нечто особенное. И я хочу знать, что это было.
Я смотрела на него, моргая, из-под упавшей на глаза пряди волос. Наблюдатель ласковым жестом отвел ее, другой рукой вынимая из кармана и показывая электронное удостоверение со своей фотографией. Я сделала вид, что испугалась.
– Меня зовут Хуан Леман Годой, а возглавляемая мной компания называется «AZ-Sec». У меня всего тридцать сотрудников, но мы лидеры в области безопасности второго уровня в Европе. Знаешь, что это? Сейчас объясню. Мы разрабатываем softwear[54] для информационной безопасности. Работаем как с частными лицами, так и с организациями, среди которых испанская полиция и европейский Интерпол. Я даже не то чтобы раскрываю пароли к конфиденциальным данным, я их, собственно, создаю. И довольно много знаю о наживках – за исключением личности каждой из вас. Мне известно, что ты сыграла именно для меня. – Его узкие губы вновь растянулись в улыбке. – Явилась спасать своих подружек? Они там, внизу, привязаны к токарному станку. – И он кивнул в сторону запертой двери в противоположном конце комнаты, рядом с лестницей.
На моем лице не дрогнул ни один мускул, но в животе похолодело.
– Полагаю, ты знаешь, для чего эта машина, – продолжил Наблюдатель, – наверняка видела фотографии жертв. Но я тут кое-что добавил. – И он сделал широкий жест, словно показывая гостю свой дом. – Видишь вот ту маленькую камеру над монитором, ту, что мигает? Она отслеживает поведение. Есть и другая, вот здесь, на пульте. Они тебя записывают. Не веришь? Я знаю: для того чтобы распознать маски любой наживки, нужен квантовый компьютер, и я обязательно заведу такой. Но я давно хакнул систему Психологического отдела и годами сижу в ней. Так что могу использовать и его – как свой собственный. А токарный станок внизу управляется другим компьютером, который получает сигналы от первого. Так что, если ты начнешь разыгрывать какую-нибудь маску, он включится и… – Он соединил оба кулака перед моим лицом, а потом медленно их развел. – В общем, для твоих товарок это будет как в русском балете: ноги врозь, одни силуэты. Теперь веришь?
Нет, я ему не верила. Даже на четверть. Я знала: он играет собственную роль, ту самую, которая так хорошо удается монстрам, – распоследнего лгуна, манипулятора, наилучшего Яго из всех возможных. Имеющаяся у меня информация этого не подтверждала, а два устройства могли быть как камерами слежения, так и обычными камерами системы безопасности.
Но, несмотря на все это, холод сводил внутренности. Я понимала, что он и не ожидает, что я ему поверю: он хочет играть на моих сомнениях, использовать их.
Я так же молча смотрела на него, тяжело дыша.
– Мы с тобой поладим, – заявил он. – Ты, похоже, девушка умная и сразу должна принять мое предложение: если расскажешь о том, что меня интересует, я убью вас быстро. Тебя и твоих коллег. Никаких сверл, страданий и насилия – выстрел в голову. Клянусь. Наживки меня не возбуждают, они мне не нужны. Но если ты будешь молчать, я продержу вас живыми как можно дольше… Месяц-два манипуляций у токарного станка – и вы станете спрутами: головой посреди тела-медузы. Могу устроить. Так что выбирай.
– Не… не знаю, о чем вы говорите… – прошептала я, не выходя из роли.
– Пожалуйста, кончай притворяться. Скажи, что ты со мной делала.
– Ничего я с вами не делала. Не понимаю, о чем вы говорите…
Наблюдатель поцокал языком. Он выглядел разочарованным. Не без труда он подцепил лямку моей маечки, – она скользила, мокрая от пота, – ту, что, упав с плеча, висела на руке, и деликатно поднял ее, расположив возле бретельки бюстгальтера. Я снова застонала, изображая страх. Он заговорил – мягко, не обращая внимания на мое представление:
– Слушай, вчера вечером я забрал сына из школы. – Он указал на мальчика, который сидел здесь же, на столе, и болтал ногами, все еще в куртке и бейсболке, нахлобученной поверх дредов. – И собрался поехать домой, но вместо этого принялся колесить по городу без определенной цели. Выбирать я и не думал и при этом понятия не имел, чего хочу. Тогда случайно – или я поначалу решил, что случайно, – уже поздно вечером увидел, как ты входишь в подъезд. Развернулся при первой же возможности, чуть ткнулся в другую машину. Запомнил номер подъезда. Потом уж думал, что позабыл тебя, и переключился на твою коллегу – похитил ее прямо из дома: я уже несколько раз видел ее, проследил и поэтому знал, где она живет. Когда это было сделано, вернулся в свою мадридскую квартиру, включил компьютер, хотя до смерти устал, и зашел в базу данных недвижимости. Среди фото собственников жилья по твоему адресу я тебя не увидел, но потом предположил, что эта квартира-прикрытие – съемная. Просмотрел договоры аренды дома – и нашел. Елена Фуэнтес, двадцать пять лет, телеоператор. Из этого я вывел все остальное. Той ночью я почти не спал: только закрою глаза – вижу тебя. Я был совершенно уверен, что ты – та самая чертова ловушка, но мне нужно знать, как ты это делаешь. Как тебе удалось стать моим наваждением, практически не показываясь мне на глаза, за какие-нибудь несколько секунд…
На мгновение он умолк, поглаживая лезвие электроножа. Теперь он стоял на полу на коленях, как и я. Его длинный рассказ мало что значил – лишнее подтверждение ошеломляющего успеха техники Женса. А вот от чего щемило сердце, что не выходило из головы, так это возможность того, что Вера еще жива, привязана к его токарному станку и что мои маски приведут в действие эту пыточную машину. Разумеется, даже не зная, что она моя сестра, он сможет шантажировать меня этой угрозой. «Если он с тобой разговаривает, значит пытается манипулировать, – говорил Женс. – Он здорово умеет использовать других: между его целью и им самим есть только инструменты». Но имею ли я право рисковать? В том положении, в котором находилась – на коленях и с железным обручем на шее, – маска Жертвоприношения получится запросто. «Но если Вера…» Я просчитывала возможность изобразить какую-нибудь маску покороче, потому как есть и такие, которые камера слежения не распознает. Например, Агония, основанная на той технике, которую использует Яго, чтобы обманывать и терзать других персонажей трагедии «Отелло», но эти маски не всегда срабатывают.
Наблюдатель, казалось, угадал мои сомнения и улыбнулся, прежде чем продолжить:
– Сегодня утром я посетил подземный паркинг в твоем доме и установил под задним бампером твоей машины жучок, что позволило весь день отслеживать твои передвижения на мониторе… Оставалось только ждать. Ты выехала в полдень и направилась по автостраде на Эстремадуру в расселенную зону 9-N. Провела там всю вторую половину дня. Я предположил, что ты отправилась туда разыгрывать свой спектакль, вы ведь используете для этого заброшенные дома. Мы с сыном ждали на паркинге твоего возвращения, как голодные волки, так ведь, Пабло?
Мальчик кивнул.
– Мы устали, издергались, в какой-то момент я решил, что ты проведешь ночь не дома, но наконец точка на мониторе ожила. Мешок и связанные руки-ноги – это уже потом. Я задался целью устроить тебе не очень приятное путешествие.
Вдруг он поднял лезвие электроножа и провел по моему лицу. Я отвернулась.
– Скажу тебе, что думаю. Я кое-что знаю о масках. До конца их не понимаю, но прочел довольно много… Но ведь это другое, правда? Это как напиться вдрызг или накуриться опиума. Ты мне не нравишься – не мой тип телок… Возможно, ты показалась бы привлекательной, если б оделась по-другому, но никогда… никогда для этого. Скажи мне, что такое ты сделала.
Я что-то залепетала, но меня остановил его шепот:
– Знаешь что? Ты очень плохо притворяешься…
Я бросила на него быстрый взгляд.
«Сделай это еще раз, девочка».
– Не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите, – твердо сказала я.
Наблюдатель вздохнул:
– Твои коллеги пока еще ничего… но ведь я могу и включить токарный станок.
– Не знаю, о каких коллегах вы говорите, – продолжила я тем же тоном.
Медленно кивая, он перевел взгляд в угол и переложил электронож в другую руку. Я внимательно за ним следила и успела опередить и отвернуть голову, но, так или иначе, удар кулаком по моей челюсти получился неслабый. Мы вскрикнули одновременно. При повороте головы ошейник врезался в горло, и я вернула голову на место, чтобы не задохнуться. Заметила, что из угла рта побежала струйка крови.
– Ну-ну, значит, нам подослали сильнейшего игрока команды, – сказал он, потирая костяшки пальцев.
Вернее, я думаю, что он это сказал, поскольку удар наполовину оглушил меня.
– Ну да ладно. – Он встал и обратился к ребенку: – Пабло, ты уже проголодался?
– Да.
– Пойду достану из машины продукты. Помой руки. – И он направился к лестнице и начал подниматься.
24
Мальчик некоторое время смотрел в ту сторону, куда ушел Наблюдатель.
Пабло.
Я оглядела его. Синяя кепка, фиолетовая куртка, джинсы, желтые ботинки, коричневые дреды, пирсинг на нижней губе. Пестрый попугайчик с лицом задумчивого ангела. Дорогие шмотки, одиночество, избалован донельзя, интроверт. На мой взгляд, ему десять или одиннадцать лет, как Женс и предполагал. Бледная, с голубизной кожа. «Эта кожа не знает солнечного света». Я представила его себе сидящим в подвалах, при электрическом свете, занимающимся… чем? Меня в дрожь бросило от мысли о том, что он мог делать или при чем присутствовать.
Решила его прозондировать.
– Пожалуйста… – умоляющим тоном произнесла я. – Помоги мне…
Он взглянул на меня, не отвел глаза и после повторной просьбы, что было хорошим признаком. По крайней мере, он меня не избегает. Но взгляд его не выражал эмоций. Мигание век – как камушки, брошенные в пруд: волнение на воде, а потом ничего.
Важно было понять, можно ли им манипулировать. Не при помощи маски, конечно. Псином ребенка очень неустойчив, и даже самые простые маски эффекта с детьми не дают. Некоторые маски, например маска Разрушения, способна воздействовать на детей, если использовать правильную технику, но я не могла рисковать. Угроза Наблюдателя, реальна она или нет, связывала мне руки.
Нужно было попытаться выяснить, что скрывается за этими темными глазами.
Я начала говорить, очень спокойно. Решила назвать его по имени:
– Пабло… Тебя ведь зовут Пабло?
Он слез со стола и отошел, не ответив. Это тоже мне понравилось. «Он играет роль», – подумала я. Старается избегать меня, но первое прощупывание дало скорее обнадеживающие результаты.
Я следила за мальчиком. Он остановился перед безупречно чистой, как в лаборатории, раковиной, повернулся ко мне спиной, послышался шум льющейся воды. А потом сделал то, что часто делают дети: снял куртку после того, как вымыл руки, словно осознав, что может намочить рукава. Под курткой оказалась футболка – и тоже яркая: что-то среднее между оранжевым и багровым.
Пока он мыл руки, я оглядывалась по сторонам, стараясь составить представление о месте, в котором нахожусь.
Это не было похоже на то, что обычно обозначают словом «подвал». Просторная прямоугольная комната с климат-контролем, мигают огоньки пожарной сигнализации. Меня приковали к одной из длинных стен, в углу, напротив лестницы и закрытой двери во второй подвал. Потолочные светильники льют свет на два стола, один очень похож на стол для вскрытия – с круглыми отверстиями в столешнице и отводной трубкой. Рядом со столами на металлических подставках – бутыли с физраствором. Вдоль стен – витрины с флаконами. Полный комплект оборудования для поддержания жизни в твоей игрушке, пока ты с ней развлекаешься. И все вокруг такое чистое – из камня или стекла. Белый – преобладающий цвет: белые полки, на которых разложены стальные инструменты с белыми ручками, белые банки, белые халаты. Даже мониторы, в которые вмонтированы два гипотетических датчика, направленных на меня, тоже белые. Вдруг вспомнился старый и глупый анекдот, над которым тем не менее мы с Верой долго хохотали, когда его рассказывал папа: один белый-белый человек падает с белого-белого балкона на белый-пребелый тротуар, тут приезжает белая-белая «скорая помощь», отвозит его в белую-белую больницу; там к нему выходит врач, одетый в зеленое, и вдруг говорит: «Черт побери, я ошибся анекдотом». И хотя мы знали его конец, но смеялись как ненормальные. Вера, тогда девчушка четырех-пяти лет, хлопала в свои маленькие ладошки – так ей нравился тон, которым папа произносил реплику врача: «Черт побери, я ошибся анекдотом».
«Черный-черный мужчина и черный-черный мальчик приводят тебя в белую-белую комнату…»
Вымыв руки, мальчик порылся в карманах куртки и достал портативную игровую консоль. Я не специалист в виртуальных играх, так что не могла бы узнать, что он предпочитает, и здорово пожалела. Открыл консоль, достал очки, не снимая бейсболки, и голова его вдруг стала похожа на голову огромной мухи. В черных стеклах вспыхивали огоньки. Это мне не понравилось – контакт с ним терялся. К счастью, быстро ему играть надоело, а может, он боялся, что вернется отец и застанет его за этим делом. В общем, он снял очки, убрал их внутрь и закрыл консоль. Я повторила свою просьбу.
К моему удивлению, он спокойно ответил, глядя на меня своими огромными глазами:
– Я не могу тебе помочь. Боюсь папы.
Ответ его стал такой неожиданностью, что я не нашлась что сказать. Я только кивнула, и пока подбирала нужные слова, на лестнице послышались шаги.
Наблюдатель появился с большой коробкой в руках, заслонявшей лицо.
Я подумала, что коробка – одна из тех, что лежали в багажнике, внутри должны были быть «запчасти». Сверху он положил несколько пакетов из супермаркета. Он поставил коробку на стол с дырками и стал доставать из пакетов и выкладывать на второй стол продукты: чипсы, сэндвичи в упаковке, орешки, сладости и несколько банок с напитками. Одна из банок упала, он нагнулся поднять ее, и тут я заметила, что волосы на затылке у него здорово поредели. Мальчик подошел к столу, переваливаясь, как утенок, готовый к приему пищи.
– Пепси у них не было, извини, – сказал в свое оправдание отец, протягивая сыну банку.
Они ели и пили в нескольких метрах от меня: Наблюдатель – прислонившись к столу, а мальчик – стоя. Время от времени взрослый говорил что-то банальное, а ребенок согласно кивал: миндальные орешки были «очень вкусные и гораздо дешевле», чем те, которые они обычно покупают; футболка Пабло «запачкалась foie»[55], и ее нужно «почистить». Все выглядело настолько естественно, что казалось заранее подготовленным с целью продемонстрировать, что мое присутствие – коленопреклоненной и прикованной к стене – им до лампочки.
Я решила поменять тактику. Вспомнила, что говорил нам Женс о короле Лире. Горделивый король велит дочерям рассказать ему, как они его любят, поставив условие: та, что окажется наиболее красноречивой, получит большее приданое. Две старшие рассыпаются в восхвалениях отца, а младшая, Корделия, которая предположительно любит его больше других, не говорит ничего. Женс объяснял: «Лир, раздосадованный ее молчанием, лишает ее наследства, но весь остаток пьесы неотвязно ходит за ней. Как раз потому, что она молчит, что она – загадка, Корделия становится наваждением Лира, той, кто в самом деле его влечет, его пленяет и, наконец, его разрушает».
В этой зрелой пьесе Шекспир представляет маску Разрушения: молчание и непритворная самоотдача. Я не собиралась разыгрывать никакой маски, однако решила использовать ее структуру. Вначале я придерживалась прежней роли – пока они ели, я продолжала стенать и умолять. Но внезапно замолчала и своим молчанием бросила вызов. Результат: Наблюдатель, заинтригованный, пару раз искоса на меня взглянул. Я тоже посмотрела на него, изобразив легкую озабоченность, а сама изнутри ощупывала языком тот угол рта, на который пришелся удар кулаком. Мне хотелось выглядеть двусмысленной, не слишком простой. Как бы хорошо он ни знал (или думал, что знает), что я – наживка, нужно было показать ему, что дорога ко мне извилиста. Если Вера еще жива, если жизнь ее зависит от моих действий, то, чтобы превратиться в манящую загадку, нужно молчать и перестать притворяться. Что я из себя представляю? О чем думаю? Пусть-ка поломает голову над этими вопросами.
Настал миг, когда Наблюдатель, очевидно, потерял терпение. Он вытер губы салфеткой и указал рукой на пустые банки на столе:
– Убери это, Пабло. Я пойду вниз, за вещами.
Увидев, что, набрав код на табло, он скрылся за дверью в дальнем конце комнаты, я решила: пришло время действовать. У меня уже болели колени, на которых я стояла, болело ушибленное о стол правое бедро, рана наверняка кровоточила. Щека возле разбитого рта распухла, словно за ней была картофелина, я по-прежнему хотела пить, а теперь еще есть и пи́сать. Собрав эти ощущения в один комок, я превратила их в эмоцию. Это были физические проблемы, но я трансформировала их в интонацию:
– Пабло.
Мальчик убирал со стола пустые упаковки из-под сэндвичей. Он поднял глаза.
– Пабло, давай так: ты поможешь мне, а я помогу тебе, идет?
Он не ответил. Я взглянула на дверь в противоположном углу. Спустившись вниз, во второй подвал, Наблюдатель оставил ее приоткрытой: мне были слышны его шаги. Сколько времени ему понадобится, чтобы сходить за «вещами»? Не думаю, что много. А может, он еще и наблюдает за мной через скрытые камеры, так что если я попытаюсь, то ничего не потеряю.
Женс тогда сказал: «Ребенок может стать ключом. Вряд ли он увидит в тебе союзника, но, даже если и так, попробуй его завербовать».
Пабло продолжал убирать со стола, сгребая остатки ужина в металлическое ведро, тоже белое. У него, как и раньше у его отца, тоже упала банка, но он терпеливо повторил требуемое действие и не успокоился, пока крышка ведра не закрылась как следует. «А он настойчив», – подумалось мне. Я попробовала воздействовать на его рациональную сторону:
– Если ты мне поможешь, обещаю: отец тебе ничего не сделает. Нас будет двое.
– Мы не сможем победить моего папу. Он очень сильный.
– Но мы можем сбежать.
– Он нас поймает. Папа хорошо бегает.
– Ты знаешь окрестности. Мы где-нибудь спрячемся.
– Нет, я не сумею хорошо спрятаться.
Давить было нельзя. Заметив, что мальчик вертит что-то в руках, я сменила тему:
– Что это у тебя?
Он пожал плечами. Это была маленькая игрушка, которую он вынул из пластикового пакетика, – она, наверное, служила бонусом к чипсам или конфетам: черная тыква на гибкой палочке. Когда палочка раскачивалась, глаза тыквы начинали светиться и слышалось уханье. Я вспомнила, что до Хеллоуина оставалось меньше недели. Встряхнув тыкву пару раз, мальчик, казалось, устал и сложил палочку пополам, будто задался целью ее сломать. Мне показалось, он так погрузился в это занятие, что я решила использовать ситуацию, чтобы завоевать его доверие.
– Так ты не сможешь ее сломать, – сказала я. – Она слишком гибкая.
– Парень из моего класса это делает, – объявил ребенок. – Его зовут Нару, и он индиец, а не индеец.
– Тем лучше для Нару. Но что ты хочешь сделать? Вытащить тыкву?
– Нет, сломать это.
После того как он безрезультатно, наступив желтым ботинком на палочку, подергал за тыкву, он потащил ее в зубы. Я видела, что на столе без дыр лежит электронож. Но не рискнула его упомянуть: Пабло не был похож на ребенка, который не догадался бы при случае использовать очевидное. И я, как и он, принялась раздумывать, как бы помочь решить эту задачку.
– Послушай, если и дальше будешь тянуть, испортишь зубы. Это пластик, а не жвачка, он более твердый. Сделай вот что: закуси палочку, а потом, не разжимая зубов, поверти ее в разные стороны. Крути ее.
Мальчик послушался.
– Да, вот так. А теперь дергай из стороны в сторону…
– Все равно, – сказал он вдруг и уставился на обкусанный конец палочки. И выбросил игрушку в мусорное ведро.
Тыква поухала немного и затихла.
– Пабло, а ты знаешь, как расстегивается этот ошейник? – Я подняла подбородок, чтобы он взглянул на меня.
– Да. Я могу его открыть. Это просто.
– А потом ты мог бы разрезать резинки вот той штукой… – И я кивнула в сторону электроножа. – Как ты думаешь? Сможешь это сделать, да?
Он, казалось, размышлял. Вынужденное стояние на коленях стало уже мучительным. Я перенесла вес тела с одной коленки на другую.
– Ты – одна из этих ловушек? – спросил мальчик, поглядывая то на электронож, то на меня.
– Нет, никакая я не ловушка, Пабло.
– Если я тебе помогу, папа сядет в тюрьму.
Я быстро сообразила, что сказать:
– Нет, он ляжет в больницу. И там его вылечат.
– Папа болен? – Выражение лица под синей бейсболкой ничуть не изменилось.
– Ну, сначала его нужно будет обследовать, так? Может, он ничем и не болен, но это еще надо установить. Ему ведь тоже нужно помочь… Ты же не хочешь, чтобы он и дальше делал то, что делает, правда? – Я поглядывала на дверь, в любую секунду ожидая какого угодно звука.
– Что делал?
– Ну, делал то, что он делает… делает с нами, с девушками…
– Вы не девушки, вы шлюхи.
Даже тени эмоции не прозвучало в том, что он сказал. Он просто меня поправил – словно я неверно произнесла слово, а он меня поправил. Я проигнорировала его последний комментарий и улыбнулась:
– Пабло, если я буду свободна до возвращения твоего папы, я уговорю его лечь в больницу…
– А если он не захочет?
– Тогда я сделаю то, что он скажет. – Ложь должна быть незамысловатой, и было очень важно не позволять ему раздумывать о ней. – А теперь почему бы тебе не попробовать меня освободить?
Взгляд на электронож. Взгляд на меня.
Я напрягала слух, но вокруг стояла тишина. Дверь, через которую вышел Наблюдатель, оставалась неподвижной.
Мальчик взял в руки электронож и присел рядом со мной на корточки.
– Молодец, Пабло… – подбадривала его я. – Нет, подожди… Сними сначала ошейник…
– Нет, сначала резинки. – Он взял меня за руки выше локтя и потянул вверх и назад, вынудив меня натянуть цепь железного ошейника. Как могла, я раздвинула руки, чтобы ему было легче достать до резинки, но он сделал другое: зажал в кулак мой левый мизинец, вытянул его и с негромким щелчком привел в движение лезвие ножа.
Мой вопль был пресечен ошейником, поскольку неожиданная боль заставила меня прыгнуть вперед. Полсекунды я не дышала, придушенная железным обручем, затем выгнулась назад, и воздух проник в горло. Я знала, что если упаду в обморок, то задохнусь, а это неизбежно и скоро случится, поскольку кровь отхлынула от головы и лилась из руки: хотя я не могла ее видеть, но чувствовала, какими мокрыми и теплыми становятся джинсы. Перед глазами все расплылось, я больше не была способна оставаться на коленях в вертикальном положении. Железный ошейник начал меня душить.
Что-то ударило меня по щеке. Это был мой мизинец: мальчик швырнул мне его в лицо.
– Сдохни, – сказал он без всякого выражения.
И его захотелось послушаться. Мне было гораздо больше жаль Веру, чем себя, – я успела подумать о ней, когда у меня уже закрывались глаза.
И тогда какая-то тень заслонила свет, и я оказалась на полу с поднятой вверх левой рукой. Наблюдатель склонился надо мной, смеясь и торжествуя.
Вопль. Я открыла глаза. Увидела крест.
Он огромный, давит на правый глаз. Шевельнула головой – крест превратился в крестовину. Она касалась ресниц, задевала их грубыми краями. Это были веревки. Я чувствовала их и во рту, хотя могла просунуть между ними язык. Они сдавливали лицо, стянутые в узел на затылке. «Он перевязывает им лицо».
Меня мутило, я была вся в поту. Со своего места я видела белое мусорное ведро с игрушкой-тыквой, выглядывающей из него, – насмешливой и черной. Вывод: меня оставили в той же комнате. Но вот условия, в которых я находилась, действительно изменились.
Я лежала на боку на полу и сразу же поняла, что я абсолютно голая. Меня снова связали – так же, как для перевозки в багажнике: щиколотки подтянуты к запястьям, но на этот раз веревка очень тонкая. Боль в руках заставила попытаться схватиться за веревки. Пошевелив пальцами, я заметила что-то на левом мизинце – вроде бы тугую повязку. Вспомнила, что мизинец мне отрезали. Сильной боли я не чувствовала и подумала, что это наверняка воздействие анальгетика. Сколько же я потеряла крови? Дьявольски хотелось пить, вся кожа казалась липкой от пота и, похоже, от подсохшей крови.
Вопль повторился, даже не вопль, а визг – исполненный страдания, оглушающий. Когда звук ударил по барабанным перепонкам, я застонала. На этот раз не игрушка – явно живое существо, испытывающее невыносимые муки. Я подумала о Вере и задергалась, несмотря на веревки. Ее подняли в мой подвал? Ее терзают где-то рядом?
Я вывернула шею и постаралась оглядеться, но единственное, что удалось в результате почти сверхчеловеческого усилия, – увидеть опоры первого стола. Яркий свет с потолка слепил глаза.
Две маленькие ножки с гладкой, забрызганной кровью кожей остановились в полуметре от моего лица. Что-то упало возле мусорного ведра, это пнули ногой, и оно заскользило по плиточному полу. Я услышала голос мальчика:
– Он обкакался.
Меня словно загипнотизировали. Я забыла о собственных страданиях, и даже тревога о сестре отошла на второй план. Мне пришлось повидать немало жестокости, но это поразило меня так, что трудно было подыскать слова.
Это был щенок. Кажется, лабрадора, хотя я не смогла бы в точности определить, даже если была бы специалистом по собачьим расам. Никто с первого взгляда не смог бы определить породу этого тюка в темной шкуре, так безжалостно обезображенного: отрезанные и перевязанные лапы и глаза, похожие на багровую цветную капусту. Но поразили меня не столько раны – старые или свежие, а та покорность, то смирение, та готовность быть там, куда его швырнули; словно это был пузырь, вздувавшийся при вдохах и стонах в агонии, длившейся, казалось, без конца.
Мальчик присел на корточки. На нем были шорты и майка с номером на спине, но и кепка поверх дредов пребывала на обычном месте. Одежда была заляпана кровью, в крови были и руки. Он сердито поднял с пола собачонку и исчез из поля зрения. Послышались еще завывания, потом – тишина.
На мгновение лившийся с потолка свет опять заслонили. Я взглянула вверх – фигура с длинными дредами, казалось, принадлежит выходцу из другого мира. Холодная струя упала мне на лицо, заставив заморгать. Я подумала о чем угодно – кислоте, моче, но это была вода.
– Пей.
Жажда жгла изнутри, и я быстро повернула голову, но струйка воды тут же отдалилась. Я вытянула шею, но вода по-прежнему оставалась за пределами досягаемости.
– Пей, – повторил он.
Вода падала теперь в пяди от моего рта. Я перевернулась, вцепившись в веревки, и чуть не вскрикнула, упав на живот и ударившись грудью о ледяные плитки пола. Миллиметр за миллиметром я продвигалась вперед. Привязанные друг к другу руки и ноги раскачивались в воздухе, шершавые плитки царапали соски.
– Шевелись. Пей. – Только это я и слышала, снова и снова, а еще плеск воды, падавшей в нескольких сантиметрах от моего лица. Мне удалось попить немного, слизывая воду с плиток и ловя отскакивавшие от пола капли, но в конце концов я сдалась, выбившись из сил.
Тогда вода перестала литься, и внезапно маленькая холодная ручка оперлась о мою щеку, засовывая в правое ухо какой-то предмет. Это могло быть шило. Острие проникло в слуховой проход, остановившись прямо перед барабанной перепонкой. Меня сковал ужас. Лицо мальчика внезапно заполнило собой весь мой мир: бескрайняя гладкая поверхность его неподвижных глаз. В выражении этого лица не было ничего, даже интереса к этой забаве.
– Шевелись, или я воткну его.
Лицо отдалилось, но шило осталось в ухе. Вода снова заструилась, и мне не оставалось ничего другого, кроме как корчиться, будто одержимой. Вдруг до меня дошло, чего мальчик хочет, и я могу обеспечить ему это. Его желание не было слишком уж оригинальным: как и любой другой ребенок, он хотел играть. Он играл со мной точно так же, как раньше играл со щенком, и он отрезал бы еще один палец или воткнул бы шило в ухо, если б это позабавило его больше, чем то, что смогу предложить я. Мне нужно было не доставать воду, а развлекать его. Именно это и требовалось от игрушки из плоти и крови, в которую я превратилась. Так что больше я не пыталась ни напиться, ни даже по-настоящему ползти, а только создавала видимость этого. Я устроила целое представление – с рыканьем, высунутым языком и корчами на полу, – весь тот театр, которого он жаждал, и вскоре мальчик потерял ко мне интерес, вынул шило из моего уха и удалился. Я по-прежнему испытывала жажду, но хоть ухо осталось целым.
Во время этой паузы я попыталась сосредоточиться. Так как я лежала на животе, дышать было трудно: при вдохе спина поднималась, еще сильнее натягивая веревки, связывавшие руки и ноги. Я сделала открытие: если втягивать живот, то удавалось лучше наполнить воздухом легкие. Сердце стучало так, словно его биение пробивалось прямо из-под пола. Я не думала, что с момента моего водворения в подвал прошло много времени. Покалывание и онемение были не слишком сильными, а обезболивающее, или какой другой наркотик, который мне дали, еще утихомиривало боль от ампутированного пальца. Это наводило на мысль, что прошло лишь несколько часов. Самое позднее – сейчас утро пятницы. Я предположила, что оба отправились спать, оставив меня здесь, но мальчик проснулся первым и пришел сюда поиграть со щенком. В любом случае не замедлит явиться и папаша.
Тот факт, что Наблюдатель вовремя вернулся из второго подвала, чтобы остановить кровотечение и перевязать мне руку, не доказывал того, что он за мной следил. Но вполне могло оказаться, что он это делал, и не только посредством своих датчиков, но и при помощи обычных камер наблюдения. Затем он раздел меня и связал веревками. Не думаю, чтобы меня изнасиловали, пока я спала: скорей всего, с меня просто сняли одежду, стремясь превратить в тот презренный материал, который потом он же и порвет на куски. Я была грязной, от меня пахло потом, мочой и кровью, что только усиливало мое сходство со скотиной на бойне, готовой к забою. Кто из них начнет первым? Он? Мальчик?
Я чертыхнулась про себя по поводу ошибки с последним. Пытаясь склонить его на свою сторону, взывая к его разуму, я не сообразила, что в этом смысле он за пределами досягаемости. В общем, это он обманул меня. Возможно, мальчик и следовал каким-то правилам, которым подчинялся в школе или общаясь с отцом, но со мной, как и со щенком, он был чистый псином. «Темная материя» – так охарактеризовал бы его Женс: создание, доверху наполненное желанием, без каких бы то ни было ограничителей. Со мной он дойдет до тех пределов, до которых его доведет желание, и ничто во мне его не остановит: он просверлит в теле дырки, разрежет, сотрет в порошок, будет вгрызаться в мою плоть, как термит, пока не насытится. От него невозможно чего-то добиться в рамках человеческого общения. И таким его сделала его несчастная коротенькая жизнь рядом с Наблюдателем. Раньше нужно было догадаться.
Из-за тревоги за Веру я допустила серьезнейшую ошибку и теперь за это плачу́ – и очень дорого.
Стала думать об оставшихся возможностях. Не нашла ни одной. Женс предупреждал меня: «С того момента, когда он разденет тебя и перевяжет лицо веревками, начнется обратный отсчет. С этой минуты твои шансы захомутать его будут стремиться к нулю». Ясное дело, мы оба – и Женс, и я – полагали, что у меня будет возможность разыграть маски, и, соответственно, готовясь к встрече с Наблюдателем, я шла тем единственным путем, который доступен наживке. Но я не могла предвидеть подготовленного им трюка. Я рассчитывала найти свою сестру – живой или мертвой, а не напороться на шантаж при помощи датчиков отслеживания поведения, есть они здесь или нет. Это спутало все карты, связало мне руки надежнее, чем веревки. Я была почти уверена, что Наблюдатель лжет, что не может такого быть, чтобы его датчики просчитали быструю маску. И если я хочу иметь ничтожный шанс спасти Веру или выжить самой, я должна-таки отважиться на маску – рано или поздно.
Но чтобы принять решение, нужно спокойствие и время, а я уверена, что Наблюдатель не даст мне ни того ни другого.
25
Как он пришел, я не услышала. Мальчик незадолго до этого включил грохочущий рок.
– Выключи это, – велел Наблюдатель.
Внезапно наступившая тишина встревожила не меньше шума. К этому моменту не было уже ничего, что не причиняло бы беспокойства.
– Ты дал воды?
Долю секунды я не могла решить: вопрос о щенке или обо мне.
Ответа не последовало. Наблюдатель повторил вопрос, и ребенок сказал «да».
– Отвечай, когда я тебя спрашиваю, Пабло.
Я так и лежала на полу – лицом вниз, вцепившись в веревки, соединявшие руки и ноги, чтобы хоть немного ослабить напряжение. Когда я уставала, то старалась напрячь мышцы ног. Боль в отрезанном пальце, как голодный пес, в любой момент готова была сорваться с цепи. Все было хреново, но я знала, что худшее впереди.
Чувствую его прикосновение – и страстно желаю, чтобы моя кожа стала кислотой и сожгла его пальцы. Он проверил мне пульс на шее, осмотрел повязку, сделал укол в правое предплечье. Наверное, какой-то анальгетик. Наблюдатель не хочет, чтобы я лишилась чувств раньше, чем начнется спектакль.
Единственное, что я могла видеть, – его упертое в пол колено под черной тканью опрятных, выглаженных брюк. Вдохнула аромат мужского парфюма. Тут он дернул меня за руку, и я оказалась на боку. Одновременно с вырвавшимся у меня стоном я почувствовала пластиковое горлышко во рту, просунутое между веревок. Выпила столько, сколько смогла. Часть воды выблевала назад. Наблюдатель выглядел расплывчатым силуэтом в слепящем свете.
– Хорошо отдохнули? – Он завинтил крышечку. – Хотите есть? Что еще мы можем для вас сделать?
Ни один из вопросов не требовал ответа. Но я заметила, что время от времени мужчина оглядывается и немного отодвигается. «Проверяет, не заслонил ли глазки датчиков», – подумала я.
Снова послышался визг, на этот раз совсем слабый, и строгий папаша поднял голову:
– Отнеси собаку вниз, Пабло.
– А здесь ее нельзя держать?
– Я уже сказал. И сходи прими душ, переоденься и надень ботинки.
Воцарилась напряженная тишина, разорванная грохотом. Что-то упало на стол за спиной Наблюдателя и прокатилось до самого края: мальчик, несомненно раздраженный, уходя, швырнул электронож, который держал в руке. Его отец изобразил тяжелый вздох. Снова перевел взгляд на меня и улыбнулся. Вид у него был такой, словно он извиняется за поведение сына перед соседкой.
– Признаюсь, я и сам иногда его боюсь, – сказал он. – Он умный мальчик, но живет в своем собственном мире. Полагаю, это та цена, которую я плачу́, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я уговорил его мать, в Брюсселе… Я там жил несколько лет, ты знаешь? Работал преподавателем информатики и параллельно создавал собственную фирму по компьютерной безопасности… Она была моей студенткой, из Штатов. Я уговорил ее завести ребенка. Когда она родила, я ее убрал. Мне нужен был мальчик, а не она. Я многое прочел о вас и знал, что ребенок будет прекрасной защитой. Подстава за подставу – так я считаю. Вы обманываете – и я обманываю. Логично. – Говоря, он не переставал меня трогать: отводил волосы со лба, тискал грудь, задницу, бедра. Второй рукой он поглаживал себя между ног. Теперь на нем была другая рубашка, лиловая, и замшевые туфли. – Ты не поверишь. Знаешь, что изменило мою жизнь? 9-N. До этого момента компания моя была крошечной, почти семейной, но после взрыва атомной бомбы в Мадриде правительство стало просить помощи у всех работавших в этой области. Я был испанцем, и здешние боссы подумали, что я идеальная фигура для обеспечения их безопасности. Именно бомба 9-N стала тем, что привело меня в Мадрид. Вот так. – И он улыбнулся, словно рассчитывал на ответную улыбку. – А потом я дожидался, пока Пабло не исполнится одиннадцать, чтобы развернуться по полной. Подожди-ка, дай взгляну, как там твой палец.
Вновь перевернув на живот, он взял меня за обе руки. И стал ковыряться с повязкой. Может, он делал перевязку – не знаю, в этом месте чувствительность была минимальной. Несмотря на это, было больно. Стон вырвался из прорезанного веревками рта. Он вновь заговорил:
– Больше всего на свете я не хотел, чтобы вы меня провели. У вас сила. Вы – ведьмы. Используете психологию, как в стародавние времена – разные зелья. Мне известно, что есть и другие, вроде тебя, шастают по Мадриду, стараются меня поймать. Время от времени, думаю, мне на глаза попадалась то одна из вас, то другая и так завораживала, что я спать не мог. Но я всегда предоставлял выбор Пабло. Его вам не обмануть. Пока не увидел тебя.
Внезапно пришло понимание: он боялся меня гораздо больше, чем я его. И как раз потому, что желал так, как никогда и никого до сих пор. Техника Женса открыла брешь в его псиноме, и хлынул поток, увлекая за собой все, снося тщательно выстроенную защиту, в том числе и доверие к сыну.
– Я почти всю жизнь делаю это, – продолжил он, – не только с женщинами, хотя в первую очередь – с женщинами. В разных городах Европы. Когда я сообразил, что могу заметать следы и подменять информацию, стало значительно проще полностью, так сказать, отдаться процессу. Единственное отличие – теперь я стал знаменитостью, а все оттого, что занимаюсь этим в одном и том же городе и к тому же начал использовать Пабло. Ты считаешь, что я тварь, и я это понимаю. Но я спрашиваю: причина всего этого не в том ли, что вы называете псиномом? Если я делаю лишь то, к чему вы, наживки, меня подталкиваете, то на ком вина? Если я привез тебя сюда только потому, что ты меня искушала, то кто из нас виновен? Могу ли я не делать того, что делаю? Однажды в Брюсселе я похитил немецкого психолога и заставил его сказать мне, какая у меня филия. Название мне понравилось: Жертвоприношение. Так вот, я ничего не могу с этим поделать. Жертвоприношение – вот что я такое. Раньше психологи считали таких, как я, больными или дефективными. Теперь мы знаем, что мы такие, потому что таков наш псином. Это как родиться с голубыми глазами или темной кожей. Мы вынуждены ублажать нашу филию, так же как любой другой. Шекспир давным-давно это сказал, раньше, чем кто бы то ни было: Макбет не более виновен, чем Лир, разве не так? Ну-ка посмотрим… Что ж, выглядит не так уж и плохо…
Я поняла, что последние слова о моей ране. Почувствовала прикосновение к коже марли и какой-то мази. Я по-прежнему лежала на животе, тело согнуто дугой, левая щека прижата к полу, лицо обвязано веревками, щиколотки и запястья притянуты к ягодицам. Пришлось терпеть этот осмотр со сведенными мышцами, обездвиженной. Пару раз казалось, что я теряю сознание, и я вгрызалась в веревки, рассекавшие лицо, чтобы не допустить этого.
– Мои соболезнования по поводу пальца, – заявил Наблюдатель, вновь накладывая на рану повязку. – Я отругал Пабло, но ведь нужно принять во внимание, что ты пыталась его завербовать, так ведь? Это с твоей стороны был неудачный ход. Ну ладно, кровь уже не идет. И я наложил на рану мазь, чтобы бинт не прилипал. Больно?
Я не ответила. Только смотрела на него, хлопая ресницами.
Он склонился еще ниже. Его дыхание – мне в лицо – пахло кофе.
– Скажи, что ты со мной сделала. Только это, всего лишь это, и я убью тебя прямо сейчас, клянусь.
Сквозь свои веревки я процедила ругательство.
Он не выказал ни удивления, ни злобы. И легонько похлопал меня по плечу.
– Я могу причинить тебе гораздо больше страданий, чем ты способна вообразить, – любезно сообщил он. – Таких, что ты поверишь в то, что я – Господь Бог, и будешь умолять меня остановиться. Будешь мечтать о смерти, как об оргазме, и отправишься на тот свет, хорошо запомнив все, что я сделал. А когда перевоплотишься, то каждый день в новой жизни тебе будет сниться то, что ты испытаешь сейчас, и просыпаться ты будешь от собственного крика. Твои будущие жизни окажутся ввергнуты в безумие тем адом, через который пройдешь здесь и сейчас, начиная с этого самого момента…
Говорил он так, словно все это уже сделал. Типичные интонации психа – такое мне уже приходилось слышать. В театре ужасов его разума все это уже осуществилось. Затем он поцеловал мои волосы, поднялся и поступил как обычно: он, казалось, полностью забыл обо мне и занялся ребенком, который только что вернулся, облаченный в штаны-бермуды и обутый в свои вызывающие желтые ботинки.
Они что-то ели, усевшись в том конце стола, которого я не видела. Потом установили что-то вроде штатива и какое-то время возились с небольшой голокамерой, выбирая уровень освещенности и цветовую гамму картинки. Трудились плечо к плечу, без малейших признаков взаимной привязанности, но, очевидно, в ней вовсе не нуждаясь. Это был такой симбиоз, как говорил Женс, – взаимопомощь и взаимная поддержка: Макбет и леди Макбет, занятые любимым делом. Папочка желал знать, в каком режиме мое тело будет более выгодно смотреться на фоне белой стены и как бы устроить, чтобы камера двигалась автоматически и сняла меня крупным планом, когда они перенесут меня на стол. Он характеризовал мои ноги как «слишком длинные и тощие» и разглагольствовал о моих грудях или моей заднице, словно ему доставляло особое удовольствие, что мальчик все слышит. Я была предметом – чтобы трахать, резать, жечь, ломать. Не думаю, что реплики эти преследовали иную цель, кроме саморазогрева. Они явно привыкли к этому ритуалу.
Убрав штатив и выключив камеру, оба подошли ко мне.
– Мне нужно съездить в офис, примерно на полчаса, Пабло, – сказал Наблюдатель, – но все же начнем.
Эта фраза молнией ударила в меня – желудок сжался в комок. Теперь их уже не остановишь. Я могла моментально обездвижить Наблюдателя какой-нибудь быстрой маской, но использовать маску для собственного спасения, не имея понятия, что происходит во втором подвале, не входило в мои планы. Я закусила веревки, чтобы не дать ужасу вырваться наружу стоном, когда Наблюдатель склонился надо мной.
– Знаешь, что ты такое? – произнес он, тяжело дыша.
Я догадалась, что это что-то вроде ритуальной фразы, спускового крючка, направляющего в меня весь его смертоносный снаряд. Тут мальчик сказал:
– Коробка со стеклом.
– Ты что, не принес ее? Тащи сюда.
– Один я не справлюсь.
Папаша выдохнул «ладно», поднялся, и я услышала, как оба выходят и спускаются по лестнице.
Составленный мной план был на грани абсурда, но что-то ведь нужно было делать, и теперь предоставлялся такой шанс. Возможно, последний.
План базировался на одном-единственном предмете. Во время глупейших разглагольствований моего палача я не переставала о нем думать. Я вновь увидела его, когда Наблюдатель отошел, чтобы поесть и настроить камеру, – электронож, который мальчик, рассердившись, бросил на стол, и тот покатился, остановившись на краю стола.
На краю стола.
И они его не трогали. Так он там и лежал, выставив свой острый конец. Ножка под ним, как раз под этим углом стола, находилась где-то рядом с моим бедром.
План был отчаянный, то есть полностью соответствовал моему положению. «Дай мне всего несколько секунд». Я набрала в грудь побольше воздуха. Кусая веревки, стягивавшие лицо, с такой силой, что чуть было не перегрызла их, я начала продвигаться, как раньше, когда мальчишка со мной играл. Довольно быстро я добралась до ножки стола. Я точно знала, что в таком положении ударить по ней не смогу, нужно перевернуться лицом вверх. К счастью, развернуться я смогу через правый бок, не задев обрубок левого мизинца, который пульсировал глухой, но нарастающей болью.
Я напрягла все мускулы и попыталась сделать это в два приема. Сначала потянула за веревки, словно за вожжи, и уронила себя на бок. Это оказалось просто. Но когда я собралась закончить поворот и перевернуться лицом вверх, выяснилось, что это практически невозможно. Я просчиталась, и ножка оказалась слишком близко. Тут я сорвалась и, захныкав, стала извиваться – так близко и одновременно так далеко от своей цели. Образ изувеченного щенка лишил меня рассудка, и на мгновение я забыла о сестре и думала только о себе, о своем паническом ужасе перед перспективой испытать те же пытки, что и щенок. Но эта дорожка неизбежно приведет меня в колодец, который поглотит мое тело. «Нет, так не пойдет. Прежде всего сохранять спокойствие».
Я глубоко вздохнула – раз, второй, третий. Где-то далеко послышался шум. Уже идут? Все равно. Я решила, что не сдамся.
Обдумала ситуацию. Я лежу на правом боку, спиной к ножке стола, а значит, могу ударить по ножке пятками. Конечно, не сильно – щиколотки привязаны к запястьям, но ведь я совсем близко, и сильные удары не понадобятся. Возможно, удастся использовать и левое бедро. Электронож лежит на самом краешке, а ручка у него округлая. Он покатится. Если немного повезет – всего-то и надо, чтобы стол ответил на мои толчки.
Надавив рукой с перевязанным пальцем на ягодицы, я сильнее выгнулась назад, оперлась пятками о ножку и принялась раскачивать стол. Не считая электроножа и пластиковых упаковок, стол был пустым, и мои толчки заставили его качнуться. Шум был еле слышен.
Я не хотела думать, что будет потом, что я буду делать, когда нож упадет – если он, конечно, упадет, – или о том, что буду делать, если он перекатится на другую сторону. «Будущее – это призрак, мы сами его придумываем, чтобы пугаться, – говорил нам Женс. – Макбет боится того, что может произойти, и это приводит к тому, что он не осознает того, что действительно происходит».
Я продолжала толкать стол.
– Посмотри-ка на нее, Пабло, ей надоело ждать, и она заснула… Ой, нет, я ошибся – она не спит. Мы что, надолго задержались? Всего-то несколько минут… Какая нетерпеливая… Положи это туда, Пабло…
Замшевые ботинки двигаются то туда, то сюда: от стола для вскрытия – к другому столу, остановка, поворот, носки направлены в мою сторону.
– Ты что, устал, Пабло? – Ответ не слышен в лязге металлических предметов. – Будь спокоен, мы все сделаем по-нашему. Сейчас немножко, потом еще… Она с нами надолго. И не важно – ловушка она или обычная шлюха… Она появилась здесь одна, и сейчас она одна, и никто здесь не сможет ее защитить, как никто не смог защитить и других… Сделаем с ней все, что захотим… Помнишь, как она завизжала, когда ты отрезал ей палец?
Утвердительный ответ. Ботинки снова двигаются.
– Они всегда в конце концов кричат, какими бы ни казались сильными, твердыми, гордыми… Без одежды, связанные – это всего лишь мясо. И это понятно.
Звуки стихли. Ботинки потоптались в нерешительности.
И вдруг – ожидаемый поворот. Теперь носки сменились пятками.
– Оставим это здесь… А та коробка отправится на полку…
Я подняла глаза. Наблюдатель, произнося это, стоял ко мне спиной.
– Она могла бы уменьшить свои страдания, однако выбрала другое – продолжать притворяться… Жаль. Как, однако, не хватает искренности. Ни одной искренней женщины.
«Сейчас».
– А как бы мне хотелось встретить искренность, настоящую искренность, а не это лицедейство…
Я начала выпрямлять ноги, руки… Тут ботинки снова развернулись, и я услышала щелчок. И взглянула вверх.
Глаза Наблюдателя были разве что на йоту живее, чем дуло его пистолета.
– Но это – слишком многого просить, так? – Он улыбнулся. – А теперь будь хорошей – если уж не искренней – девочкой и положи, пожалуйста, на пол электронож.
Я не двигалась. Отец и сын стояли передо мной. Семейка из двух человек, такая дружная. Четыре глаза смотрят на меня. Пять, если считать пистолет.
– Ну и ну, неужто ты поверила в мое представление?.. – Наблюдатель, казалось, улыбался. – Неужто тот фарс, который мы устроили со штативом и камерой, заставил тебя поверить, что за тобой не следят другие камеры? Я-то думал, ты умнее… Конечно, что касается физической формы – никаких претензий. Ты на высоте: двигаться, будучи связанной, толкнуть нож со стола, подползти и взять его… Мы получили удовольствие от этого спектакля, так что я дал тебе время, чтобы ты решила, что все получилось. А теперь расскажу, что будет: я не убью тебя, даже не надейся… Но я буду считать до пяти, и, если ты после цифры пять не выпустишь нож, я вдребезги разнесу тебе руку. Потом окажу первую помощь и сделаю то, что и собирался, просто одной рукой будет меньше. Выбор за тобой. Раз, два…
Я распрямила ноги, и куски веревки, которые я обернула вокруг лодыжек, упали на пол. И выплюнула предварительно разрезанные веревки на лице. Показала электронож в правой руке и положила его на пол перед собой.
– Очень хорошо. – Наблюдатель выглядел довольным. – Вот теперь ты начинаешь быть искренней…
Улыбаясь и не переставая целиться, он сделал шаг вперед. Увидев гримасу, скривившую его губы, и палец на спусковом крючке, я поняла, что он все равно выстрелит.
– Знаешь, что ты такое? – спросил он хрипло.
– Да, – ответила я с пола. – Я – чертова ловушка, идиот.
Понимая, что сейчас произойдет, он все же на секунду опоздал.
Разумеется, мой план включал в себя не только освобождение. В театральных студиях учили, что всегда следует готовить больше одного сценария – так сказать, «запасные варианты», как мы их называли. Разрезав веревки, я переместилась в такую позицию, чтобы глазок камеры справа от меня оказался закрыт столом, и, уже освободившись, дождалась, пока тело Наблюдателя, незаметно для него, не заслонит и второй. Я знала, что долгое время закрытыми они не останутся, но и этого мгновения будет более чем достаточно.
Времени для маски Тайны было недостаточно, но зато вполне хватало для Злодейства. Маска Злодейства могла быть сыграна двумя способами – быстро и медленно. Первый использовался для отражения внезапного нападения, и эта маска оказывалась эффективной для нескольких филий. В ее основе лежала демонстрация некоего «обещания», а потом – его немедленной отмены с помощью определенных жестов и эмоциональных гримас. В стиле ведьм из «Макбета»: искушать пророчеством, долженствующим исполниться в будущем, которое оказывается не более чем блефом. Для этой маски не требовалось специфических декораций, поз, света или костюма; она могла быть сыграна в ресторане, концертном зале или в чистом поле. Я разыграла ее в позиции лежа, на полу, за две секунды. Я шевельнулась, улыбнулась, сделала серьезное лицо, закрыла глаза, открыла их. Эффект был непродолжительный, но я могла на него рассчитывать.
Ничто на свете, даже страх, не делает нас такими беспомощными, как наслаждение. Если и вправду хочешь разоружить кого-то – не угрожай, дай ему наслаждение. Наблюдатель опустил руку, в которой держал пистолет, и уставился на меня, пока я медленно вставала с пола, снова схватив электронож. Сцена для человека со стороны выглядела в точности как прерванная репетиция. «Пауза, джентльмены: актриса поднимается, актер опускает игрушечный пистолет». В следующее же мгновение, разумеется, действо возобновится.
Но я уже бросилась на него, не дожидаясь, пока это мгновение наступит.
В цель я попала, но не в яблочко. Джекпот сорвать не удалось, даже десятую часть. Часами я лежала связанной, мышцы практически не работали, и один лишь подъем вызвал головокружение. Но, по крайней мере, я почувствовала, что лезвие ножа беспрепятственно вошло в левую полочку его великолепной лиловой рубашки. Что там у нас? Селезенка? Я подумала, что селезенка – не идеальное место, но и это неплохо. Наблюдатель издал стон и, что гораздо важнее, уронил пистолет.
И тут я совершила серьезную ошибку: захотела вытащить нож, чтобы снова пустить его в дело. Только время потеряла. Я выдернула его, но он выскользнул из потной руки. Ответный удар не заставил себя ждать, а я, естественно, серьезным противником не являлась. Меня мутило, все тело болело, у меня был ампутирован палец, и я была голой. Мне еще повезло – от первого удара я уклонилась, откинув голову, но мой живот оказался поблизости от его колена. Он ударил дважды – в живот и в лицо, и у меня перехватило дыхание. Я попятилась, отступая, пока не наткнулась задом на гладкий край, вскрикнув от боли и упав на поверхность, заваленную разными предметами. Это был стол. И конечно, Наблюдатель увидел нечто на этом столе, что с легкостью мог использовать, потому что даже не встревожился по поводу упавшего пистолета. Он бросился на меня, словно паук с растопыренными лапами. Левой рукой зажимая рану, правой он пытался дотянуться до той вещи, которую увидел, а она была рядом с моей головой. Я схватила его за правую руку, выставила вперед колени, и мы начали бороться. Инстинктивно я чувствовала: если Наблюдатель дотянется до этого предмета – чем бы он ни оказался, скальпелем или ножом, – все будет кончено.
Мало-помалу его правая рука отвоевала пространство у моих рук. У меня в общем неплохая физическая подготовка, но он был сильнее и в более выгодной позиции. Перед лицом расползалась его улыбка – красная, яростная, словно оскал победившего в схватке кобеля. Конечно, мы, наживки, не борцы, мы – ловушки. «Ведьма» – разве не так он меня назвал? Внезапно я решила устроить ему сюрприз.
И, вместо того чтобы попытаться оттолкнуть его, я скрестила за его спиной ноги, словно мы занимались любовью. Пряжка его ремня впечаталась в мой лобок, а его лицо прилипло к моему – контакт двух кипящих котлов.
Тогда я просто-напросто выпустила его руку и позволила взять то, к чему он так стремился.
Секунду он в растерянности смотрел на меня. Он вложил всю энергию в овладение этим предметом, и вдруг я ему предлагаю: «Вот оно, бери. А заодно и меня. Два по цене одного». Он застыл от изумления – глаза как два блюдца. И я использовала этот момент, чтобы согнуть в локте левую руку – ту, от которой он менее всего ожидал неприятностей, – и двинуть этим локтем прямо ему в лицо.
У людей полных локоть – довольно тупая часть тела, но у худых, вроде меня, чьи руки в самом толстом месте можно обхватить пальцами одной руки, локоть состоит из пары острых костей – что-то вроде доисторического орудия, вытесанного кремневым ножом. Я не раз использовала это орудие в самых разных обстоятельствах. И теперь направила левый локоть прямо в его правый глаз, застав его врасплох – с разинутым от изумления ртом и абсолютно беззащитного, как младенец в колыбели. Признаюсь, мне доставило большое удовольствие ощутить, как лопается в орбите глазное яблоко и содержащаяся в нем жидкость, напитанная образами истязаемых девушек, брызжет мне на руку.
Наблюдатель взвыл. Послышался не просто звук «а», а то ли «ме», то ли «ма». Может, маму свою звал? Но назад отшатнулся – что да, то да, – и я развела ноги, выпуская его, а потом любезно, теми же ногами, помогла ему с размаха влететь в стену. Тут я протянула руку и схватила первое, что попалось, – металлический кронштейн с подвешенной к нему бутылкой с физраствором.
Выбор был не самым лучшим: штуковина была тяжелая, и когда мне удалось поднять ее и встать на ноги, то я с ужасом обнаружила, что мой противник подобрал пистолет и сидит на полу, намереваясь пустить его в дело. Похоже было, что, ударившись о стену, он повредил левую руку, и теперь, да и то кое-как, работала только правая, и вот ею он пытается взяться за рукоятку. Но ему здорово досаждали слезы, вытекший глаз дергался, и это ему никак не удавалось.
Тем не менее я поняла, что на этот раз он выиграл.
Это было похоже на игру в камень, ножницы и бумагу: я пыталась использовать металлическую палку, а он – пистолет. Даже если мне удастся нанести удар раньше, то, не вырубив его с ходу, я не помешаю ему выстрелить – даже если, что маловероятно, мне удастся оглушить его какой-нибудь быстрой маской. Перед идиотской палкой пистолет имел явное и решающее преимущество. Рискнуть? Я решила, что не стоит.
И, швырнув кронштейн ему в голову и молясь, чтобы бутылка с физраствором разбилась о его рожу, я со всех ног бросилась бежать.
Краешком глаза различила силуэт – мальчик, но он ушел с дороги, и я не обратила на него внимания. Один шаг, два. Мои босые ноги перепрыгивали через разнообразные предметы, разбросанные по полу. Мысленно я прикинула время, нужное Наблюдателю, чтобы прицелиться и выстрелить. Три шага, четыре. Впереди была винтовая лестница, ведущая наверх, и дверь во второй подвал – открытая, а за ней еще одна лестница – вниз. Пять, шесть шагов. Две возможности.
Выбрала вторую, поскольку спускаться легче, чем подниматься, и не прогадала. Когда, пригнувшись, я прыгала через порог, над головой прогремел гром. Вторая пуля попала в дверную раму, а третья – в наклонный потолок над лестницей, и на меня посыпался град осколков. И я прыгнула через две последние ступеньки.
Лестница вела в короткий коридор с белыми стенами. Для меня это была незнакомая территория. Но не для него. И в этом было его преимущество. Я видела два дверных проема – один слева, другой в конце коридора. Слева оказалась маленькая подземная кладовка; затаив дыхание, я вошла туда и лихорадочно огляделась. Бидоны, жестяные банки с горючим, множество инструментов и приспособлений, разложенных вдоль стен. Каждая такая вещь могла стать оружием, и именно поэтому я оказалась в тесной мышеловке, набитой соблазнами. Пространство, наполненное лезвиями, отвертками, остриями, металлом и бензином, – всем, что может понадобиться для уничтожения плоти. Однако, чтобы применить это, нужны аккумуляторные батареи, запчасти, умение и зажигалка. Ничего однозначного, вроде пистолета, молотка или гаечного ключа.
Я только потеряла драгоценное время в этом шоколадном домике, набитом инструментами, малопригодными для того, чтобы покончить с преследующим тебя безумцем: его тяжелые шаги послышались на лестнице. Он хромал, но, с большой долей вероятности, его пистолету это не помеха.
Я снова выскочила в коридор и метнулась к двери в его конце. Она была снабжена кодовым замком, но сейчас – открыта, и, когда я вошла, меня разом атаковали пронизывающий холод и вонь разложения. Я захлопнула за собой дверь и застыла на месте.
Комната Синей Бороды. И она здесь. Моя сестра.
Этот подвал был меньше верхнего, освещался гудящими лампочками бледно-голубого цвета, как в холодильнике. Одна стена была увешана полками с флаконами. Был там и стол с примыкавшими к нему двумя чудовищными клетками для щенков, и компьютеры. Но все это я заметила потом. В первый момент я увидела лишь огромный аппарат в форме горизонтально расположенной крестовины, находившийся в центре. Должно быть, токарный станок. На нем – тело лицом вниз, уже распухшее. На ногах, закрепленных на дальних концах крестовины, выступают вены. С того места, где я стояла, хорошо была видна лишь разодранная плоть ягодиц.
Я была настолько ошеломлена, так дрожала, обхватив себя руками, что даже не обратила внимания на яростный крик Наблюдателя, все ближе и ближе по коридору:
– Ты в западне, сукина дочь! Отсюда нет выхода-а-аа-а-а!!!
Я все так же стояла на месте, ожидая смерти.
«Как же плохо ты сделала это, девочка».
И тогда я стала двигаться, но не для того, чтобы спастись. Я думала только об одном – как уничтожить его.
Я прошла вглубь маленького помещения, переступая через протянутые по полу кабели. Я не собиралась смотреть в лицо трупа, но не могла не взглянуть хотя бы краешком глаза. И внезапно до меня дошло, что это не моя сестра. Я осознала, что это не могла быть Вера, – девушка была мертва уже несколько дней, и только низкая температура подвала препятствовала полному разложению тела. Но она также не была Элисой Монастерио, она незнакомка. Это открытие не придало сил, но и не убавило, лишь взбудоражило.
Все мое существо сосредоточилось на контратаке.
Шаги стихли перед дверью. Я проклинала себя за то, что не сообразила забаррикадироваться изнутри. Теперь уже поздно. Возможность обмануть его новой маской я отбросила – он выстрелит, как только войдет, а с таким разбитым и одеревеневшим от холода телом я ни за что не смогу быстро выполнить необходимые движения.
Он замешкался при входе. И я знала почему: в единственной работающей руке он держал пистолет, а нужно было справиться с замысловатым замком. Это обстоятельство подарило мне немного времени. На столе возле компьютера я увидела толстый стальной прут длиной с мою руку – тяжелый, но управиться можно, – а также заметила пластиковую клавиатуру с пиктограммами, соединявшуюся кабелем с токарным станком. Справа располагался закуток с чем-то, похожим на мусоросжигатель, а также с отхожим местом, над которым, не сомневаюсь, он заставлял приседать девушек, чтобы они справляли нужду прямо у него на глазах. Только я успела там затаиться, зажав в руке железный прут, как дверь открылась.
Шаг, потом другой, его голос:
– Я знаю, где ты… Знаю, где ты, шлюха…
Я дала ему пройти подальше. Видеть я не могла, зато хорошо слышала его прихрамывающие шаги, усиленные эхом. Я ждала – ждала в гудящем свете морга, напрягшись от страха и ярости, вцепившись в железный прут и, как дракон, выпуская клубы пара через ноздри и рот. Волосы прилипли ко лбу, будто я только что вышла из душа, а пот заледенел на поверхности голого тела. Шаги. Шаги. Я знаю, где ты. Еще шаг.
Вдруг я увидела его тень, отраженную в мониторе компьютера. Он остановился рядом со станком, как я и думала. Чтобы добраться до меня, ему нужно пройти мимо. И тогда я резко выбросила левую руку. Она жутко болела, но я использовала только большой палец – чтобы ударить по клавише разведения лопастей крестовины, как это и было изображено на пиктограмме, молясь при этом, чтобы станок оказался включен. Я знала, быстро лопасти не раскроются, но рассчитывала на то, что это движение собьет его с толку.
Послышался скрежет. Я выскочила из своего убежища и крутанулась, обеими руками сжимая железную дубину, как игрок в бейсбол. Замахиваться высоко я не хотела: если метить в голову вслепую, есть риск промахнуться. Так что я ударила его в левое плечо, и так уже пострадавшее. Он заорал и поднял пистолет вверх, но лопасти продолжали вращаться позади его ног, и он потерял равновесие. Я ударила его по руке, выбив пистолет, а затем в живот и по коленным чашечкам, пока не убедилась, что встать он не сможет. Когда с этим было покончено, я нажала клавишу сведения лопастей, подошла к корчившемуся на полу телу, поставила на горло мужчины правую ногу и уперла в него прут.
– Где они? – произнесла я.
Нас обоих трясло. Его, казалось, позабавил мой вопрос, и здоровый правый глаз насмешливо взглянул на меня. Из-под второго века сочилась кровь.
– Их нет… И никогда не было… – Ему удалось улыбнуться, будто именно он вышел победителем. – Я не похищал твоих коллег… Что касается датчиков, то это тоже вранье: они никогда ничего не обнаружили бы… Видишь? Я хотел провести тебя при помощи этого трюка, и это сработало… Вы обманываете – я обманываю… Но что сейчас самое важное…
Я прервала его, придавив пяткой шею:
– Об их исчезновении не было объявлено официально, козел вонючий. И ты сейчас не в том положении, чтобы вешать мне лапшу на уши, сукин ты сын…
– Я не вру… – забормотал он, и это явно потребовало усилий. – Я же сказал, что у меня есть доступ к полицейским рапортам… В прошлую субботу я узнал, как исчезла первая, а вчера – о второй… Но послушай, тебя это должно заинтересовать: кто-то в обоих случаях изменил степень вероятности…
– Что ты хочешь сказать?
Он хохотнул – гулкий, пустой смешок. Левой рукой он по-прежнему зажимал рану на животе. Белый пар вырывался вместе с его сбивчивыми словами.
– Не знала этого, а? Компьютеры твоего отдела при каждом похищении высчитывают вероятность того, что его совершил я… Сначала проводится предварительный экспресс-анализ, а потом – другой, более детальный. Предварительные анализы по двум твоим коллегам показывали почти стопроцентную вероятность, что это был я… Это меня заинтересовало, и я решил разобраться… И довольно скоро понял, что происходит… Я знаю, когда данные подтасовываются изнутри, ведь я эксперт, и могу тебя заверить, что кто-то сфальсифицировал данные, чтобы ответственность пала на меня… Кто-то из своих вас водит за нос, недоумки… Мне, может, и удалось бы помочь сцапать его, но, если ты сдашь меня полиции, вы никогда не узнаете, кто он…
Я взглянула на привязанный к станку труп: при жизни этой девушке могло быть столько же лет, сколько Вере.
– Я и не думаю сдавать тебя полиции.
Его единственный глаз распахнулся, а голова качнулась из стороны в сторону.
– Нет… ты не убьешь меня вот так, безоружным… Ты не посмеешь…
– Нет, не посмею, – согласилась я.
Я убрала ногу с его горла и отшвырнула прут. Когда он понял, что именно я собираюсь делать, он прекратил прикидываться большим и сильным.
Не обращая внимания на его слезы и мольбы, я расставила ноги по обе стороны от его тела и подняла руки. Классическая техника Эшбёрна для Жертвоприношения. Моя нагота, а также то, что добыча смотрит на меня снизу, усилили соответствующие эффекты. Чтобы овладеть им, хватило пятнадцати секунд. Потом я отошла, чтобы он не мог меня видеть, лишив высшего источника его наслаждения в самый момент овладения, что запустило пробой – мучительный, настоящую агонию.
Я оставила его завывать, глядя на труп на станке и вспоминая другие свои жертвы. Ад был создан как раз для таких, как он. Но мне этот ад не был нужен: Наблюдатель уже был в аду. Его крики становились все пронзительнее по мере того, как его псином, не в силах получить меня, спускался все глубже. С его визгом изливался весь ужас, одиночество и тревога, залежи которых хранила его биография. Этот визг уже не был голосом человека. Так звучат чистые, беспримесные желания. Он мотал головой, колотясь ею о каменный пол с постоянством и яростью ритмично падающего молота, не перестал и тогда, когда брызги крови обагрили плитку. Наоборот, даже ускорил ритм, словно бил в бубен, совершая зловещий ритуал. Изо рта у него летела пена, все тело дрожало. Как будто внутренний демон пытался вырваться из черепа после обряда изгнания. «Я жгу твою душу… Я сжигаю твою душу…» – думала я.
Наконец я сжалилась и подтолкнула к нему пистолет, но было уже слишком поздно: он не смог им воспользоваться. В какой-то момент его шея изогнулась, как порванная пружина, и раздался хруст. Упав в очередной раз, голова осталась неподвижной.
«Понравилось тебе мое представление?» – мысленно спросила его я. Его муки длились едва ли больше минуты, страдания его жертв – целыми днями. Некоторые вещи в жизни несоразмерны.
И тут со мной что-то случилось. За его агонией я наблюдала не моргнув глазом, гнев и чувство торжества, подобно пламени в очаге, то затухали, то вновь вздымались. Но когда все закончилось, я почувствовала себя опустошенной, поникшей, словно за эту минуту прошли пятьдесят лет жизни. Силы меня внезапно покинули, и, даже не пытаясь выйти из этого промороженного помещения или одеться, я упала на колени. Я проклинала свою жизнь, свою работу, но прежде всего – свою жизнь. И там я и оставалась, согнувшись пополам, как человеческое отребье, безутешно рыдая. В голове чередой проходили образы родителей, Веры, Мигеля, доктора Валье… Не хотелось думать, что, горько рыдая, оплакивала я и Наблюдателя, и невозможность понять немыслимое, невозможность придать смысл некоторым вещам. Кто виновен?
Когда я наконец успокоилась, то сообразила, что совсем забыла о мальчике. И решила отправиться на поиски. Стоило мне открыть дверь, как я его увидела. Он ждал моего появления в коридоре – лицо скрыто козырьком кепки и дредами, а в руке нечто, что в тот же момент низверглось на меня. Маслянистая жидкость окатила тело с головы до ног. Завоняло бензином. Увидев, что он достает из кармана брюк коробок, я подняла руки.
– Нет, Пабло!.. – в ужасе закричала я.
Его лишенное выражения лицо высветилось на секунду, когда он зажег спичку.
А потом бросил ее в меня.
26
Псином.
Математическая формула нашего наслаждения.
Теперь кажется, что открытию этому – века, а на самом деле не прошло и пятидесяти лет. Сон Ю, Джакомо Паллатино, Дэвид Аллен, Чарльз Блисс, Натали Паркс… их имена, скорей всего, ни о чем тебе не говорят, но именно эти люди доказали, что псином существует. А эксперименты Дэвида Сана перевели его в практическую плоскость.
Некая синяя стена, красная простыня, черный пиджак, обнаженное тело, какой-нибудь жест или чей-то голос являют для тебя различные степени наслаждения. Наслаждение это такое же неуловимое и мимолетное, как форма облаков в небе, – ты не всегда его и почувствуешь. Тем не менее квантовые компьютеры смогли высчитать их и каталогизировать, сведя в folders[56]. Каждый folder подобен генетическому коду желания человека: оно там записано – цифрами. Именно этот код и получил название «псином». Позже было доказано, что псиномы могут объединяться в классы по неким общим характеристикам. Каждый такой класс был назван термином «филия». Всего у людей было выявлено пятьдесят восемь филий.
А теперь сюрприз. Оказывается, на один и тот же стимул, ведущий к наслаждению, ты реагируешь так же, как и все люди, что разделяют общую с тобой филию: ты почесываешь ногу, поднимаешь бровь, прокашливаешься, говоришь «люблю тебя», плачешь, испытываешь оргазм. Ты просто не можешь отреагировать иначе.
Еще один сюрприз. Если стимул очень силен, ты ему подчиняешься, становишься одержимым. И это значит, что ты превращаешься в его раба. Ты можешь теперь сделать что угодно – покончить с собой, убить кого-нибудь, пытать, насиловать.
А знаешь, что самое забавное? Стимулы можно изображать. Представлять. Как в театре – при помощи костюмов, жестов, света, голоса. Такое представление получило название «маска». И не важно, слепой ты, глухонемой, умственно отсталый или гений: если маска сделана качественно, ты ее так или иначе воспримешь, получишь наслаждение, станешь одержимым.
Начиная с этого пункта можно выдвигать любые предположения. Возможно, мы рождаемся с равной предрасположенностью к различным филиям, а потом по воле случая попадаем в ту или иную. Возможно, серийный убийца отличается от других людей только тем, какой именно он получил стимул, когда находился в стадии развития. На одной из закрытых сессий Конгресса Соединенных Штатов Америки доктор Натали Паркс внесла предложение: кардинально – снизу доверху – пересмотреть все законы. Если у нас нет другого выхода, как делать исключительно то, что доставляет наслаждение, то почему сажают в тюрьму только некоторых? За что их осуждают? За что казнят? По ее мнению, необходима всеобщая амнистия.
К ней не прислушались. Предпочли создать наживок.
– Понимаю, – сказал Сесенья.
Нет, он не понимал, но мне это показалось естественным. Гонсало Сесенья, молодой и девственно-чистый адвокат с неожиданно ранней сединой в волосах, привлекательным лицом и вежливыми манерами, стал после смерти Алвареса новым уполномоченным по связям. Он получил срочное назначение в конце недели, как обычно и происходит в этой стране, – чтобы заткнуть дыру, и оказался в мире, где просто терялся. Первым его делом в новой должности стал визит в КСЗ – Клинику специальной защиты, – специально чтобы навестить меня. Под помпезным названием прячется больница: туда нас отправляют в случае поломки, поэтому мы и прозвали ее «ремонтной мастерской». Было воскресное утро, и Сесенья пришел небритым, без галстука, в помятом сером костюме, кроме того, он все время моргал. Его телохранители, более элегантные, чем шеф, окружили его со всех сторон – ни дать ни взять заботливые наседки вокруг едва вылупившегося цыпленка. Они всячески провоцировали его к осознанию собственной значимости, но Сесенью вполне устраивала роль ученика.
После официального представления он принялся задавать всякого рода технические вопросы, на которые я старалась ответить – отчасти потому, что его общество было мне приятно.
– А Шекспир? Какое он имеет ко всему этому отношение?
– Это всего лишь теория Женса, но многие ее принимают… – И я вновь пускалась в объяснения.
– Понимаю, – снова говорил Сесенья, выслушав меня.
Он сидел в изножье моей постели в просторной больничной палате. По-настоящему красивый мужчина, но, в отличие от нашего перфи Начо Пуэнтеса, он не производил впечатления типа, страдающего зависимостью от зеркал.
– Кстати, а у меня какая филия? Ты можешь определить это, едва взглянув на меня?
Я сообщила, что его филия Аура, и, казалось, он остался под впечатлением.
– А что это значит?
– Филия Ауры означает, что твои глаза всегда направлены на окружающее, что ты анализируешь окружение раньше, чем человека. Войдя сюда, ты так и сделал – огляделся и только потом со мной поздоровался. И когда я говорю с тобой о чем-то, ты начинаешь шевелиться. Тебе не понравилось бы получить меня как таковую, вырезанной из контекста… Тебе нужно вставить других людей в некий заранее созданный образ. Пьеса, в которой изображена эта филия, – «Антоний и Клеопатра»: ее герои, по Женсу, влюблены не друг в друга, а в те образы и контекст, в котором каждый из них воплощается для другого. У обоих филия Ауры.
– Но я ведь могу и не двигаться, когда ты со мной заговоришь, – предложил он, улыбаясь.
Я тоже улыбнулась, очарованная его наивностью.
– Да, но… Видишь? Я сказала «да», и ты дважды быстро моргнул, что тоже является симптомом Ауры… Невозможно сделать что бы то ни было вопреки нашему псиному… Легче усилием воли остановить сердце.
– Понимаю.
В этот момент, как всегда бесцеремонно, в разговор вмешался Падилья:
– Извини, Гонсало, но как насчет того, чтобы перенести на следующий раз вторую часть лекции «Все, что вы хотели знать о псиноме, но боялись спросить»? Моя девочка очень устала…
– Прошу прощения, Хулио, – остановил его Сесенья вежливо, но твердо, – но я здесь новичок, а за спиной уже толпится легион законников, которые желают знать, каким образом их клиент, знаменитый директор компании «AZ-Sec», мог покончить с собой, полсотни раз стукнувшись башкой о каменный пол… Как насчет того, чтобы дать им твой телефон, чтобы ты сам ответил на вопросы?
– Бога ради, Гонсало! – возопил Падилья. – На этом «знаменитом директоре» более двадцати убитых девушек только здесь, в Мадриде! А если прибавить к этому его брюссельский период, он вполне сможет войти в топ списка Великих Извергов вместе с Чикатило и компанией!
– Я и не говорю, что…
Но Падилья уже закусил удила, и ничто не могло его остановить:
– А его драгоценный сынок, занятый сейчас пластмассовыми кубиками в окружении толпы психологов! Знаешь ли ты, что намеревался сотворить этот ангелочек с дредами?
– Диана уже знает, что он хотел сотворить, и я тоже, – сказал Сесенья.
Это верно. Я не только это знала – каждый раз, когда его при мне упоминали, мое тело снова горело. Оно уже двадцать раз сгорело в воображении, пока ко мне летела та спичка. Спасло меня лишь то простое обстоятельство, что моим противником был ребенок. Взрослый никогда не придумал бы атаковать меня при помощи спички – он просто уронил бы эту спичку в лужу бензина. Но Пабло все-таки был ребенком, и он запустил в меня свой снаряд, словно я была мутантом в виртуальной игре «Умри, чудовище!». Спичка, как падающая звезда, погасла в середине полета, даже не коснувшись меня. Вот что было похоже на чудо. И это позволило мне броситься на него и скрутить, постаравшись не нанести вреда.
Но вред уже был нанесен, и гораздо более серьезный, чем даже отрезанный им у меня левый мизинец или едва не реализованная угроза сгореть заживо: он был воплощен в его напряженном лице, внезапно превратившемся в хищную акулью пасть, бессильно щелкающую зубами, в то время как я блокировала его тело своим – голым и облитым бензином. Самый худший вред – то, чем Пабло стал. Если Наблюдатель и заслужил вечное проклятие, думала я, то именно за эту единственную в своем роде жертву. Потому что, в отличие от замученных до смерти девушек, у мальчика и раньше не было никакой другой жизни. Не будет ее и после – он всегда будет жить в том аду, который создал для него отец.
Когда ураган по имени Падилья несколько стих, Гонсало Сесенья восстановил статус-кво:
– Я всего лишь старался понять, откуда у всего этого растут ноги, Хулио… Самый опасный убийца из всех, кого повидал Мадрид за последние годы, был остановлен при помощи методов, скажем так, не совсем тривиальных… Я должен иметь представление о том поле, на которое вступил… – Он поднялся с кровати и обвел взглядом палату («дворцовым взглядом», как характеризовал эту особенность Ауры Женс). Затем улыбнулся, адресовав улыбку лично мне. – Сожалею, что пришлось задать столько вопросов. Я прекрасно понимаю, что тебе нужно отдохнуть. – И, поздравив меня «от имени президента и министра», удалился вместе с телохранителями.
Когда мы остались одни, Падилья покачал головой:
– У этого Сесеньи внутри больше дерьма, чем в общественной уборной на деревенском празднике со спаржей в качестве основного блюда, – проворчал он. – Но его можно понять: этот козел Леман был одним из главных экспертов в области информационной безопасности, он консультировал наших людей… Так что у нас, оказывается, сидела под задницей гадюка, а мы – ни сном ни духом… Иногда я думаю: а что было бы, если бы кто-то из вас появился на заседании конгресса, разыграл перед ними маску и убедил все политические партии разом, что нам необходимо делать то, что мы делаем? Как ты себя чувствуешь?
– Устала, но уже лучше, – призналась я.
– Извини, не получилось навестить тебя раньше. В пятницу, когда тебя привезли, ты была совсем плоха, а вчера, в субботу, устроили срочное совещание в министерстве по случаю закрытия дела этого Наблюдателя…
Я сказала, что все понимаю, и Падилья явно приободрился:
– В целом как дела, принцесса? Вижу-вижу, в окружении букетов… С тобой хорошо обращаются? Дают супчик с фрикадельками и рагу по-мадридски? – Сложив руки на животе, он подошел поближе и понизил голос: – Сейчас, когда наконец ушел этот зануда, могу по секрету сказать, что Мартос хочет дать тебе то ли медаль, то ли орден, то ли еще что-то в этом духе… Все это будет непублично, конечно, но они готовы целовать тебе задницу… И правильно делают, козлины этакие! – Он подмигнул и улыбнулся. – Слушай, а ты в курсе, что ты чертовски красива? Я думал, ты будешь выглядеть хуже…
– Страшно жаль тебя разочаровывать.
– Не прикидывайся дурочкой. Я тебя и вправду поздравляю. Захват – зашибись. Chapeau![57]
– Спасибо.
Хулио Падилья, всегда такой скупой на похвалы, погрузился в неловкое молчание. Он был мужчина корпулентный – почти столько же в ширину, сколько в высоту; бритая голова, серые глаза и черты лица, напоминающие охотничью собаку. Голова эта торчала из ворота толстого свитера. Он хорошо знал наживок, но своей долгой, поистине ветеранской службой во главе Криминальной психологии обязан был несомненному таланту выходить сухим из воды в любой ситуации, а также невозмутимости, мастерски отлакированной тонким флером эмоций. Поговаривали, на него сильно повлиял несчастный случай с дочкой, навсегда усадивший ее в инвалидное кресло. Тем не менее его филией было Прошение, как и у Веры, и ему страшно нравилось чувствовать себя необходимым, чтобы его о чем-то просили. И тут я доставила ему удовольствие.
– Не хочу я медаль, – зашептала я. – Я всего лишь хочу знать, где моя сестра.
– Черт возьми, принцесса, если бы это было нам известно! Уже просканировали окрестности вокруг этого чертова дома в горах. Завтра, в понедельник, проверят также близлежащее водохранилище. Клянусь тебе, что…
Я остановила его, не повышая голоса, глядя со своей кровати прямо в его глаза:
– Наблюдатель не похищал ее, Хулио. Как и Элису Монастерио.
– Что? Откуда ты это взяла?
– Он мне сказал, – ответила я, чуть поколебавшись.
– Тьфу ты! А что еще он тебе сказал? Что хочет взять тебя замуж? Он же псих! Он сказал бы тебе, что ты королева Египта, если бы при помощи этого…
– У него не было никаких резонов врать мне на этот счет. К тому же он никогда не прятал тела и не избавлялся от них в тот же день. Труп этой девушки-венгерки все еще был у него…
– Румынки… – поправил меня Падилья, почесывая подбородок. – Ева Рутлу, двадцать два года. Она как раз оформляла у нас документы, поэтому никто и не заявил о ее исчезновении…
– Румынка она или венгерка, но ее тело было там единственным трупом, Хулио. Она была последней, кого он похитил.
– Диана, компьютерный анализ показал, что и Элису, и Веру похитил этот тип с вероятностью девяносто девять, запятая…
Я слушала его молча. «Кто-то сфальсифицировал данные, – сказал мне тогда Наблюдатель. – Кто-то из вашего отдела водит вас за нос». Но можно ли ему верить?
Устав называть цифры, Падилья умолк и задумчиво взглянул на меня:
– Тебе надо отдохнуть, Бланко. У тебя стресс – исчезновение Веры, потом захват. Этот дикарь и его отпрыск тебя… причинили тебе много вреда. Но охоту ты провела безукоризненно. Ты – лучшая, и всегда ею была.
Меня удивил этот комплимент, более подходящий к Клаудии Кабильдо. Да и его самого, кажется, тоже, потому что он вдруг решил разбавить бочку меда ложкой дегтя:
– Конечно, я в курсе, что ты сделала и как ты это сделала… но, поскольку результат налицо, у меня нет никаких возражений, наоборот…
Я знала, к чему он клонит. О своей встрече с Женсом я уже рассказала психологам, беседовавшим со мной в больнице, а также о примененной для поимки Наблюдателя технике. Большим сюрпризом это не стало. Как говорил сам Женс, высшие чины в руководстве отдела знали, что он жив, и время от времени пересылали ему рапорты и отчеты. Тот факт, что Женс открыл пару трюков своей давней ученице, а не им, естественно, понравиться не мог, но такое поведение хорошо вписывалось в горделивый образ психолога в отставке.
Я подумала о другом. И решила задать вопрос самым естественным образом:
– Хулио, а что все-таки случилось с Алваресом?
Реакция была – словно вошел полковник: Падилья весь вытянулся и посерьезнел:
– Самоубийство. Оставил записку, классика… Твоя поездка в поместье, чтобы сыграть маску, по чистой случайности совпала с его смертью, только и всего…
Я разгладила простыню рукой, на которой не было повязки, и кивнула.
– А что это за… туннель? Я ведь провела в этом доме несколько лет, но понятия не имела о его существовании.
– О, некое расширение, которое устроил в подвале Женс, чтобы оборудовать еще пару сцен, но это помещение так ни разу и не использовалось.
Появление в палате медбрата послужило для моего шефа предлогом свернуть тему, а в этом он явно нуждался. Он какое-то время смотрел на меня, словно в нерешительности.
– Я вернусь завтра. Постарайся отдохнуть.
Я не ответила – думала о туннеле с обшитыми деревом стенами и потолком с перекрещенными балками.
А еще о том, как плохо врут все филики Прошения, когда у них что-то пытаешься узнать.
«Мастерская» – больница без всяких вывесок и отличительных знаков, с чахлым садиком, по которому наживки, как старые патриции, передавшие потомкам часть своих владений по всему миру, разгуливают в пижамах. Ее построили на территории одного из промышленных полигонов, расположенного, одному Богу известно почему, гораздо ближе к Сеговии, чем к Мадриду. В ней есть операционная, а также терапевтическое отделение на двадцать коек. Интерьеры, к сожалению, живо напомнили мне подвалы Наблюдателя: те же белые стены и мебель, металлические оконные рамы. С потолка за тобой шпионят датчики слежения и глазки голокамер.
Но заведение это все же не тюрьма, поэтому в то же воскресенье сразу же после визита Падильи я решила отправиться домой.
Мигель, который приезжал в субботу – поцеловать меня и завалить букетами, подношением от вышедших в отставку коллег (дань традиции, в соответствии с которой тебя засыпают цветами в случае удачного захвата), – привез в том числе и кое-какую одежду из моей квартиры. После обеда я встала, взяла ее и пошла в ванную переодеваться.
Все еще ощущалась слабость: меня мутило и болело все тело. На лице видны были отметины от резинового кляпа и веревок, а также синяки от ударов Наблюдателя, на шее – красная полоса от железного ошейника, ко всему прочему – несколько ссадин на животе, спине и ногах. И разумеется, вживить мизинец не смогли, хотя попытка, как мне сообщили, предпринята была. После лихорадочных и методичных поисков палец был найден в тот же день, в пятницу, в качестве одного из экспонатов жутчайшей коллекции фрагментов тел жертв. Эти экспонаты Наблюдатель хранил в стеклянных банках в нижнем подвале. И хотя температура там не превышала пяти градусов по Цельсию, мой мизинец был помещен в консервирующий раствор, после чего восстановить жизнеспособность тканей было уже невозможно. Честно говоря, мне было до лампочки: расстаться с левым мизинцем было далеко не так тяжело, как принять другие потери, и в первую очередь, естественно, исчезновение сестры. Если бы каким-то чудом я смогла найти живую и здоровую Веру, я послала бы к черту и всю руку.
В «мастерской» почти весь персонал был мужской, почти все мужчины были в белом и почти все они тебя трогали: похлопывали по плечу, жали руку, прослушивали или меняли повязки. Моего медбрата звали Альфредо, и этот статный парень с квадратной челюстью появился в палате, как раз когда я застегивала туфли. Я сообщила, что ухожу, и он позвал врача, тот, в свою очередь, – еще одного. Они сказали, что шов из пяти стежков, который они, предварительно очистив рану, наложили на мой обрубок, заживает хорошо, хотя при физических усилиях может разойтись, и что нужно провести еще обследование, чтобы убедиться, что нет внутренних повреждений. Однако, после того как я подписала документ о том, что ответственность за физическое состояние я беру на себя, они сдались. Я была чем-то вроде «гвоздя программы», героя дня. Они даже оказали любезность: рейсовые автобусы по случаю воскресенья ходили редко, и Альфредо вызвался отвезти меня в Мадрид на своей машине.
Вернувшись домой, я сделала телефонный звонок. Потом приняла душ и, усевшись перед телевизором, выпила обезболивающее, разведенное в стакане молока, заедая это дело печеньем. Повторяли новости, которые я уже видела в больнице: о смерти «предполагаемого» убийцы проституток, случившейся как раз перед тем, как «специализированный отряд» намеревался осуществить его арест. Детали пока неизвестны, но предполагается, что жертва происшествия – «известный предприниматель в области информационной безопасности» – самоубийца. Журналисты вели свой эмоциональный репортаж на фоне страшного дома в горах. Ребенок был упомянут мимоходом, без всякой связи с описываемыми событиями. Я-то знала, что его поместили в центр психологической помощи для несовершеннолетних и что ведется поиск родственников.
Но спокойствие продается куда хуже, чем тревога, так что похищение девочки в Барселоне и обнаружение тела новой жертвы Отравителя заполнили собой основной объем выпуска новостей. Последняя была женщиной около шестидесяти, она умерла у себя дома в Монклоа. Тем не менее ясности не было, и даже само существование Отравителя ставилось под сомнение, поскольку все еще не был установлен вид отравляющего вещества. Затем показали фото похищенной девочки. Печальные глаза, светлые волосы, шесть лет. В животе все перевернулось; я выключила телевизор и отправилась на встречу, о которой договорилась по телефону.
Стоял великолепный мадридский осенний вечер, из тех, когда на небе ни облачка, а солнце хоть и клонится к закату, но еще пригревает. После дней, которые я провела погруженной в кошмары, я должна была бы почувствовать себя намного лучше, вдохнув золотистого, пронизанного светом воздуха. Однако, против всех ожиданий, я нервничала, и руки были влажными на руле, когда я выезжала из Мадрида по направлению к Лас-Росас. То, что я собиралась предпринять, мне совсем не нравилось, и расслабиться, даже чуть-чуть, не удавалось. Вразрез с моим настроением улица Тесео имела идиллический, цветущий вид. Нели Рамос вышла навстречу, как только я нажала кнопку звонка возле садовой калитки. В мочки ее ушей были вдеты огромные золотые кольца.
– Как здорово, что ты позвонила! – Девушка улыбалась. – Она будет так рада тебя видеть!.. Но что это такое с тобой случилось?
Не вдаваясь в подробности, я сообщила, что произошел «небольшой несчастный случай». Так или иначе, повязка не позволяла видеть, что палец ампутирован. Нели повела меня к дому, но, вместо того чтобы войти, мы обогнули строение и оказались в садике. И все это время Нели не прекращала щебетать своим хрипловатым и в то же время таким сладким голоском с сильным канарским акцентом:
– Она греется на солнышке в хорошую погоду, как ящерка, – так ей это нравится… И мне даже кажется, стала гораздо больше понимать, представляешь? На днях вот попросила садовника достать из сарая старую газонокосилку… Тот говорит, что эта тарахтелка – старье, что сейчас пользуются электрическими, но она так настаивала, ну, ты знаешь… она ведь такая капризная… В конце концов бедняга весь вечер провозился с этой колымагой – чистил ее, купил горючее… Похоже, звук двигателя напоминает ей детство… Все что угодно, только бы угодить ей, бедняжке!
Да, там она и была – сидела в саду, откинувшись на спинку раскладного кресла, босая, худые коленки торчат из-под юбки голубого платья, соломенного цвета волосы митрой сверкают в лучах солнца. Красиво подстриженная зеленая изгородь обрамляет картину. Кажется, спит. Выглядит такой беззащитной и в то же время величественной.
– Клау, смотри, кто к нам пришел… Да открой же глаза, глупышка!
Нели подняла с земли упавший плед и прикрыла ее. Ее материнские замашки выглядели странно, ведь Нели гораздо младше Клаудии.
– Она не спит, просто-напросто плохо себя ведет, очень плохо… Ей нравится притворяться, правда? Правда, вашему величеству нравится притворяться?
Клаудия хихикнула, как девчонка.
– Ну что, будешь и дальше так вести себя с подругой? Это же Диана! Диана Бланко!
Чтобы подойти поближе, нужно было пересечь газон, и мои каблуки тут же увязли в грязи после недавних дождей. Пока Нели шутила свои шутки, я, улыбаясь, скрестила руки на груди.
– Привет, Сесе.
– Вау. Жирафа. Та, которая number one[58].
Она заговорила с закрытыми глазами, и мы с Нели расхохотались. Вдруг у меня ком встал в горле и слезы поползли по щекам. И я не услышала, что там такое сказала Нели, оставляя нас одних, наверное, что сейчас принесет мне стул. Я стояла, смотрела на Клаудию Кабильдо и пыталась совладать со своими эмоциями.
– Ты настоящая number one, Сесе, – сказала я, – и всегда ею будешь.
Она открыла свои фантастические синие глаза. Кажется, и вправду выглядит несколько живее, но тут вдруг я обратила внимание, что вечернее солнце светит ей прямо в лицо, а она смотрит на меня не мигая. Как будто круглые окошки глаз распахнулись в пустую комнату.
– Ну что, укусила?
– Я поймала добычу, Сесе, – ответила я ей. – В пятницу. Помнишь, я тебе рассказывала об этом, и ты сказала, что я это сделаю? Так вот, я сделала. Это был огромный змей, он вонзил в меня свои зубы, но я их вырвала – с корнем. Больше он никого не тронет.
– Ты – супервумен.
– Ба, – сказала я таким тоном, который должен был снять пафос происходящего, – самый обычный захват, он и близко не лежал с твоим – с тем, что ты сделала с Ренаром.
Секунду она смотрела на меня, а потом, ничего не сказав, склонила голову к плечу.
Я знала, что это неправда. Что Клаудия не преуспела с Ренаром и на самом деле полиция спасла ей жизнь, случайно обнаружив тот тайник на юге Франции, где держал ее Ренар. Он не оставил на ней даже шрама, но пытал ее голодом, жаждой, током – день за днем, целый месяц, пока не свел с ума, причем ни одна из многих разыгранных Клаудией масок остановить его не смогла. Клаудия Кабильдо была для нас всех роковым монументом – символом, напоминающим, что даже самая опытная наживка может потерпеть неудачу.
Возвращение Нели со стулом прервало наш разговор. Я села, отказалась от предложенного напитка и стала ждать, когда она снова уйдет. Клаудия тем временем продолжила притворяться спящей. Она казалась такой невинной, что я вновь испытала острое желание отказаться от своего жестокого плана. Но этот образ Клаудии сломанной, по сравнению с моими воспоминаниями о Клаудии прежней, заставил меня проявить упорство.
«Это необходимо, – подумала я. – И для нее тоже».
– Ренар, – мягко, но настойчиво сказала я. – Его захватила ты.
– Это он захватил меня, – сказала она неожиданно отчетливо.
– Нет. Он всего лишь похитил тебя и причинил тебе вред, Сесе, но это ты напоила его ядом, ты выжгла ему душу… Помнишь, мы говорили о том, как выжечь душу психам?
– Ренар, – прошептала она, уставясь в некую точку перед собой, словно вдруг он явился ей, встав во весь рост над зеленой изгородью.
– Ты сделала это, Сесе, ты выжгла ему душу, этому чудовищу. Ренару. Несмотря на то что он целый месяц держал тебя взаперти в этой… этой подземной пещере на юге Франции, под Тулузой, я думаю… – Наклонившись вперед, я говорила медленно, глядя на нее с тем вниманием, с которым смотришь на тонкую корочку льда, прежде чем ступить на нее. – Эта дыра, о которой ты мне рассказывала, с каменными стенами…
– Моя жизнь, Жирафа. – Она открыла глаза. – Моя жизнь испаряется, как лужа мочи на солнце.
Мягко, но я продолжала настаивать:
– Эта пещера, Сесе… Ты помнишь ее? Где он держал тебя…
– Деревянными… Стены были деревянными…
Я замолчала и принялась изучать ее лицо, не находя в нем ничего, что контрастировало бы с пронизанными солнцем листочками за ее спиной. Но, по крайней мере, теперь я знала, что до ее памяти можно достучаться. И хотя я хорошо помнила, что именно рассказывала она некоторое время назад о том месте, где ее держали, нужно было, чтобы она сама еще раз это повторила.
– Да, деревянные, точно… – поддакнула я. – Ты говорила, что подолгу лежала и видела только потолок… Ты, должно быть, очень хорошо запомнила этот потолок… Он был, наверное, гладкий…
– Я так рада видеть тебя, Жирафа… – произнесла она. – Ты – супервумен.
– Я тоже рада видеть тебя, Сесе.
– Мы столько всего вместе пережили…
– Да, конечно, но это, с Ренаром, сделала ты – совсем одна.
– Да, я, – согласилась она.
– Он держал тебя месяц, целый месяц в этой темнице… – Вдруг я умолкла: слова обжигали горло… Сделав глубокий вздох, я продолжила: – Месяц в этом ужасном месте, с деревянными стенами, со множеством темных коридоров… и этот потолок…
– Только один.
Я остановилась:
– Что-что?
– Я думала, что их много, но был всего один коридор – прямой… – Она подняла худущий указательный палец, и на ее запястье я увидела шрам от кандалов, в которых держал ее Ренар.
Я почувствовала, как забилось сердце – так сильно, что мне показалось, будто удары его слышит и Клаудия, но вдруг до меня дошло, что она меня даже не видит: словно кто-то вошел в ее глаза и тень его падает на ее зрачки изнутри.
– Сначала я этого не знала… Мне завязывали глаза, прежде чем переводить из камеры в камеру… Затем он повязку снял. Трудно играть маски, когда ничего не видишь…
Я согласилась, стараясь ее подбодрить.
– Но я начала играть их даже раньше, Жирафа… Я испробовала все… «Не сдавайся, только не сдавайся», – говорил он мне…
– Кто? – перебила ее я.
– Что?
– Кто тебе говорил «не сдавайся, только не сдавайся»?
Она улыбнулась, поглаживая лежащий на коленях плед. В саду было тихо. Время от времени тишину нарушала проезжавшая по улице машина, скрытая от наших глаз оградой и зеленой изгородью.
– Доктор Женс всегда это говорил, Жирафа.
– Да, но ведь мы говорили о Ренаре.
– О Ренаре? – Она несколько раз мигнула, и лицо ее как будто изменилось, словно свеча подтаяла от пламени.
Я решила зайти с другого конца:
– Не важно. Ты помнишь комнаты?
– Камеры.
– Ну да, камеры.
– Без брусьев… Деревянные двери… Иногда он оставлял меня спать на полу… И он всегда верил в меня, многому меня научил…
У меня пересохло во рту. По спине поползли мурашки, будто ящерица пробежала.
– Ты теперь говоришь о Женсе, Сесе.
– Нет, о Ренаре… Он целый месяц держал меня там, внутри…
– Но ты имела в виду доктора Женса. Ты сказала «он всегда верил в меня, многому меня научил»…
– Да, Женс. Он верил в меня. Он целый месяц держал меня там, внутри, но я сожгла ему душу…
– Ты говоришь о Женсе или о Ренаре, Сесе?
Сладкий голосок Нели с порога дома прозвучал не так сладко, как обычно:
– Слушай, извини, но лучше бы тебе прекратить… Ты ее изматываешь…
Я не обратила внимания на Нели, направившуюся к нам, и ласково погладила Клаудию по плечу:
– Сесе, ну пожалуйста, вспомни… Ты видела там Женса? Видела ты доктора Женса, когда была в этих камерах?..
Ее глаза не изменили выражения, они все так же смотрели на меня с пустой кровожадностью. Но губы ее дрожали.
– Клаудия, ты меня слышишь?..
Еще одно тело оказалось между нами.
– Все уже хорошо! – властно объявила Нели, обнимая свою маленькую. – Посмотри только, что ты с ней сделала! Ну-ну… Ничего страшного, я с тобой… – Она остановилась лишь для того, чтобы метнуть в меня гневный взгляд. – Будет лучше, если ты уйдешь, Диана…
Я извинилась, распрощалась с обеими и пошла к калитке. И пока я шла, вновь зазвучал задумчивый голос Клаудии:
– Там были цифры и буквы на балках… Я их считала… Два а, два бэ, четыре…
27
«Ну пожалуйста, Мигель, ответь мне».
Я звонила ему несколько раз – и домой, и на мобильный, но ничего, кроме голосовой почты, так и не услышала. Припомнила, что в субботу, навещая меня в «мастерской», он говорил мне, что проведет выходные в «Хранителях», где будет готовить наживок к спецоперации по внедрению в южную банду торговцев белым товаром. На работе он обычно телефон отключал. Наконец я решила оставить сообщение, чтобы он перезвонил. Говорила спокойно, как всегда, чтобы не вызвать подозрений, если нас прослушивают.
В тот момент казалось возможным уже все.
Когда я вернулась в город, шел уже девятый час. Смеркалось, но мысль вернуться в свою одинокую квартирку не прельщала. Только не после того, что я узнала, или мне казалось, что узнала, в результате визита к Клаудии. Нужно было с кем-то поговорить. И вдруг я сообразила, с кем именно.
Я даже не стала предварительно звонить. Было воскресенье, консультация все равно закрыта. Но как-то он сказал, где живет, прибавив, что я могу приходить, когда захочу.
Дом был роскошный, хотя чем-то напоминал одинокий остров или окруженную стенами крепость. Модный ночной клуб на первом этаже уже был открыт. Я набрала на домофоне номер квартиры и подумала, что, если его нет или он не захочет меня принять, поеду в «Хранители». Однако после визуального изучения через две установленные при входе камеры дверь открылась.
Он ждал меня десятью этажами выше, перед дверью своей квартиры.
– Бог мой! – произнес он, увидев меня.
Доктор Аристидес Марио Валье выглядел как всегда – при полном параде и в облаке парфюма, элегантная светло-зеленая рубашка навыпуск и к ней брюки цвета бильярдного сукна. Белоснежная шевелюра тщательно уложена, стекла очков сияют.
– Со мной все в порядке, – сообщила я, понимая, что мой вид свидетельствует об обратном. – Знаю, что свалилась как снег на голову, и если помешала, то уйду. Серьезно.
– Нет, не помешала. Проходи.
Интерьер квартиры, просторной и комфортабельной, включал разного рода подсветку и индейские артефакты, как и в его кабинете, и свидетельствовал о состоятельности и хорошем вкусе хозяина. Огромный телеэкран на стене гостиной беззвучно показывал новости. Валье сел, вернее, уронил себя на низенький пуф, а мне предложил удобное анатомическое кресло.
– Я знал, что это ты, – сказал он, внимательно изучая боевые раны на моем лице и руке. – Я знал это. Понял сразу, как только в пятницу появилась эта новость, но не хотел звонить – из уважения к твоей… твоей работе.
– Правильно сделал. Спасибо тебе.
– Как ты? – Он говорил шепотом, словно громкие звуки могли превратить меня в руину.
– Хорошо, правда. Все вышло удачно. – И я посмотрела на повязку на пальце. – Полагаю, могло быть и лучше, но могло и хуже.
– Хочешь об этом поговорить?
– Да не о чем здесь говорить. Я сделала это – вот что главное.
Валье, вздохнув, кивнул, а я вдруг покраснела, словно рассказываю о сексуальном приключении.
– Извини, – сказал он, помолчав, – сижу здесь как дурак…
Он поднялся и взмахнул рукой. Телевизор выключился, и комнату заполнили мягкие звуки джаза.
– Хочешь чего-нибудь выпить? Если для тебя не слишком поздно, могу сварить кофе.
– Чего-нибудь прохладительного, пожалуй.
Пока Валье ходил за напитками, я немного огляделась. В безукоризненном интерьере наблюдался некоторый беспорядок: распечатки с выделенными маркером фрагментами, открытая книга обложкой вверх, тетради и ноутбук на столе посреди комнаты, рядом с диваном, на мягкой поверхности которого еще виднелись вмятины. Все говорило о том, что до моего прихода Валье читал и делал какие-то пометки. Книга оказалась шекспировской пьесой «Жизнь Тимона Афинского» в переводе на испанский. Стены были украшены индейскими масками и серией голографий, некоторые из которых были движущимися. Я подошла поближе. Они иллюстрировали прекрасную прогулку по жизни Марио Валье: вот он с друзьями, вот с королем Испании, рядом с бородатыми мудрецами. Другие снимки изображали юного Валье – тощего, потного, в нахлобученной соломенной шляпе – среди группы аборигенов бассейна Амазонки.
– Прежде чем уехать из родной страны, я несколько месяцев прожил в индейских племенах, – сказал он, протягивая стакан. – И если чему-то научился, так тому, что достоинство – превыше материальных благ. Современная цивилизация теснит их со всех сторон, но они не отказались от собственного, только им присущего пути, гордые собой и своей многовековой мудростью. Думаю, и у тебя, и у меня есть что-то общее с ними… За тебя, – продолжил он, поднимая свой стакан.
– Да, но я не ощущаю никакой гордости за себя, – сказала я, после того как мы чокнулись. – Я делаю свою работу, больше ничего.
– Твоя скромность достойна всяческих похвал, – заявил Валье, – но она следствие того, что тебя научили быть инструментом, а не использовать его. Вы должны были бы стать главной новостью, ты и твои коллеги… – И он показал на телевизор. – Они часами разглагольствовали о смерти этого сумасшедшего… Вся слава – полиции, о тебе – ничего.
– Но я тоже – полиция.
– Конечно. Знаю, что говорю глупости. Вы «секретный контингент», ясное дело. Но, черт возьми, меня так расстроило, что не получает признания твой… твоя работа.
Я хотела сказать, что если уж выбирать, то я предпочла бы известности наживок известность жертв, но решила сменить тему, отчасти желая разрушить ауру сентиментальности, которую мягкий голос и пристальные взгляды Валье успели вокруг меня соткать.
– Спасибо, что принял меня, Марио.
– Не говори глупости. Я очень рад, что ты пришла. Даже представить себе не можешь, как рад.
Я показала рукой на стол и улыбнулась:
– Уроки делаешь?
– Ну, мне когда-то уже представляли великого Уильяма, но теперь я читаю его гораздо внимательней. – Валье тоже улыбнулся и взял в руки книгу. – Тебе знакома эта пьеса?
– Я с ними со всеми знакома, это часть моей работы. Тимон богат, щедр и наивен, и когда теряет все деньги и всех друзей, то решает отправиться… – я сделала паузу и состроила гримасу, – на Амазонку?
Хохот Валье, который я слышала в первый раз с момента нашего знакомства, оказался громоподобным.
– Хочу напомнить, что психолог здесь я. – И он ткнул в меня книгой. – Но отчасти ты права, я чувствую с ним некую общность. Я не мизантроп, но и филантропом себя не считаю. Человечество не располагает к этому. Однако крайне любопытна интерпретация, которую давал этой пьесе Женс… Мне удалось найти его статью в Интернете… – Он взял распечатки с подчеркиванием. – Он, конечно, не упоминает масок, но говорит, что Тимон, уже во второй части, когда кажется, что он всех презирает, становится таким щедрым, каким никогда раньше не был. Настолько, что отдает себя полностью – и телом, и душой: пейте мою кровь, ешьте мою плоть… Как Христос… и наживки. – И он посмотрел на меня.
– На самом деле он имеет в виду филию Жестокости, – сказала я. – Чтобы подцепить ее представителя, нужно притвориться, что, какой бы страшный вред ни желал он причинить тебе, ему этого не добиться, потому что ты жаждешь еще бо́льших страданий. И это его блокирует… Ключ, по Женсу, заключается во внешне презрительном поведении Тимона…
Валье слушал, легонько покачивая головой. Когда я замолчала, он заявил:
– Дорогая Диана, позволь сообщить тебе, что твоя профессия – это…
– Настоящий кошмар, я знаю.
– Да, абсолютный.
Он положил и книгу, и бумаги на стол. Я воспользовалась моментом, чтобы вставить:
– Я пришла кое-что рассказать.
– А вот это – кошмар моей профессии: все хотят что-то мне рассказать…
Повисло неловкое молчание, которое ни один из нас не знал, как прервать. Марио Валье как-то смущенно вновь предложил мне сесть, снова опускаясь на пуф и выключая музыку. Затем оперся локтями о колени и положил подбородок на сплетенные пальцы, приняв тем самым профессиональную позу. Щеки его вспыхнули.
– Извини, – сказал он. – Когда я веду себя как идиот, то оказываюсь еще большим идиотом.
– Не извиняйся, пожалуйста. Это ведь я пришла без предупреждения.
– Не помню, кто сказал, что мы, мужчины, теряем голову, если нас в нее целуют, – негромко сказал он, и мы смущенно улыбнулись. – Возможно, это был Эрих Фромм, – шутливым тоном прибавил он.
– Когда вам целуют… какую голову? – сострила я, и он вновь разразился громоподобным хохотом, так не вязавшимся с его невозмутимыми манерами.
– Ну, тогда это уж точно не Эрих Фромм!
И мы дружно рассмеялись. И вдруг я заметила, что уже не так напряжена и могу говорить. Валье подбодрил меня жестом, а моя серьезность передалась ему.
– Предположим, – начала я, – меня обманули. На работе.
Он резко выпрямился, будто я обвинила именно его:
– Что ты имеешь в виду?
Я объяснила. Рассказала о Клаудии Кабильдо и Ренаре. Сделала паузу, чтобы снять куртку – с некоторым усилием, потому что левая рука болела. На мне была багряная маечка, почти такого же цвета, как мои синяки. Валье поднялся и галантно помог мне с курткой.
– Не припомню такого случая, – сказал он, снова усевшись.
– О нем не сообщали. Чисто теоретически Ренар был птицей не очень высокого полета, однако был нужен, чтобы вывести на крупную дичь – главаря мафиозной банды из Марселя, которого собирались расколоть. А кроме всего прочего, Ренар был психом, причем из махровых…
– Был кем?
– Психопатом. Он лично пытал своих жертв и имел обыкновение оставлять или подвешивать сломанных кукол рядом с трупами. Он, кстати, как раз филик Жестокости. – И я показала на «Тимона». – Самая большая проблема заключалась в том, что он знал о существовании наживок и потому представлял опасность. Дело поручили доктору Женсу, и для внедрения в банду он выбрал мою подругу Клаудию… Сценарий был классическим: рано или поздно Ренар должен ее заподозрить и захотеть допросить… Тогда она им завладеет, допросит его сама, а потом обезвредит. Но что-то пошло не так. Ренар держал ее в некоем тайнике на юге Франции и обрабатывал целый месяц, а Клаудия не смогла его даже зацепить. Она пыталась, пробовала самыми разными способами, но безуспешно. И напротив… Ренар – он действительно смог с ней совладать.
Я говорила, не отрывая глаз от забинтованной руки, лежавшей на колене. Подняв взгляд, я увидела, что Валье побледнел.
– Один из первых трюков, которым нас учат, – это прятаться внутри себя самого, когда начинается боль. Но Ренару удалось разрушить все убежища Клаудии, одно за другим, пока ей уже некуда было отступать. Французская полиция обнаружила это тайное убежище до того, как Ренар ее прикончил, но Клаудия уже упала в колодец… Мы используем это выражение, когда хотим сказать, что один из нас слетел с катушек. Она жива, но так и не пришла в себя.
– А что стало с этим… Ренаром?
– Его застрелила полиция.
Валье глубоко вздохнул и потер глаза под стеклами очков.
– Конечно, это был совершенный ужас, Диана. И я могу понять, что…
– Это еще не самое худшее, – прервала его я.
И я рассказала о невероятном сходстве туннеля в поместье и того места, где мучили Клаудию. Я не стала упоминать о смерти Алвареса, о подвешенных куклах, хотя и расценивала это как доказательства угрызений совести одного из предполагаемых виновных. Валье слушал со все возраставшим беспокойством.
– Ты хочешь сказать, что Ренар работал на твоих шефов?
– Я хочу сказать, что, возможно, Ренара вообще никогда не было. – Теперь каждое слово давалось мне с трудом. Вся усталость и вся боль обрушились на меня лавиной. Я погладила свои руки – обнаженные, бессильные. – Я хочу сказать, что, возможно, проводился эксперимент, от нас чего-то хотели добиться… И возможно, подобного рода эксперименты продолжаются: моя сестра и еще одна наша девушка несколько дней назад бесследно исчезли… Компьютерный анализ показал, что они стали жертвами убийцы проституток. Но есть… – Тут я умолкла, засомневавшись. А что есть? Слово Наблюдателя против слов тех, кому я доверяла? Но я подумала, что уже никому не доверяю. – Есть факты, которые указывают: данные этого анализа были сфальсифицированы, – договорила я, глядя Марио Валье прямо в глаза.
Свет превращал стены вокруг нас в белую пустыню – лицо Валье было того же цвета.
– Ты должна рассказать об этом всем… – наконец сказал он.
– У меня нет доказательств, есть только воспоминания больной подруги.
«И слово убийцы», – продолжила я про себя.
– Ты должна их добыть! Я помогу тебе!
– Ты уже помогаешь – хотя бы тем, что слушаешь.
– Хотя бы?.. Диана, прошу тебя, ну как так можно?
Валье резко встал и закрыл рот рукой, словно опасаясь, что из него польются бессмысленные слова. А потом, расхаживая из угла в угол, заговорил горячо, чего и сам, похоже, не замечал:
– Послушай, я тебе все-таки это скажу: перестань думать, как солдат на фронте! Я готов признать, что твоя работа служила на благо общества, я готов это признать! Но это уже кончилось, понимаешь? Ты ничего им не должна! Ты не должна ничего и никому!
Я смотрела, как он бегает по комнате.
– Чего еще они от тебя хотят? Нравится тебе то, что ты делаешь, или нет, но что еще тебе предстоит? Взгляни на себя! Взгляни на свое тело! Ты боролась, тебя серьезно ранили, ты сделала все, чего они хотели… А чем они отплатили? Ложью? И это та справедливость, которой ты, по их мнению, заслуживаешь?.. Хватит уже, Диана! Пусть они хищники, но ты-то не кусок мяса!..
На стене висело зеркало в форме ацтекского солнца. Внезапно Валье остановился прямо перед ним.
– Мне пришлось испытать немало страданий, – продолжил он уже более спокойно. – Несправедливость имеет разные обличья, как и наркотики, о которых я тебе уже говорил… Я видел детей, которые торговали своим телом, чтобы выжить, и все равно не выживали. Нищета – это такой всемирный психопат, причем самый жестокий. Ты говоришь о Ренаре, об убийце проституток, о бандах террористов и похитителей… Знаешь, на что это похоже? Это как если бы кто-то увидел фотографии евреев в нацистских концлагерях и сказал: «Вот оно – единственное зло, единственный порок…» Но это все – не более чем театр нашей священной западной цивилизации, оправдание Первым миром того факта, что он закрывает глаза на бо́льшую часть преступлений… Знаешь, скольких детей я видел в точно таком же состоянии, как эти евреи, Диана? Знаешь, сколько детей до сих пор живет в концлагере слаборазвитых стран? Они все – наживки, как и ты. Работают, отдавая свою плоть и кровь, чтобы их пожрали. А между тем наша цивилизация ставит фарс с преступлениями, террористами, убийцами… и дает им поддержку. – Он повернулся и взглянул на меня. Его глаза за стеклами очков сверкали так, словно тоже были стеклянными. – Оставь этот театр, Диана… Спустись с подмостков, не подыгрывай этим лицемерам, этим царькам… Умоляю тебя, как друг.
– А сам ты им не подыгрываешь?
Вопрос погрузил его в безмолвие. Брови его поехали вверх, и лицо приобрело страдальческое выражение.
– Я этот фарс не принимаю, – наконец сказал он. – Жизнь в джунглях, в первобытных племенах, научила меня быть таким, какой я есть. Без маски на лице. – Он подошел поближе. – Я уже просил тебя об этом, еще не зная тебя, и прошу снова: оставь все свои маски и будь самой собой.
– Но ведь я уже не твоя пациентка, – сказала я с некоторым раздражением. – Я здорова.
– Я говорю тебе это не как психолог, а как… как мужчина, которого ты поцеловала. – Он произнес последние слова очень тихо, но удивительно отчетливо.
Я встала. Мы стояли друг напротив друга.
– Я допустила ошибку… – Начав, я внезапно ощутила, что каждое слово отдается во мне резкой болью. – Как только ты узнал, что я не Елена, нужно было все бросить… Выйти из твоего кабинета и никогда не возвращаться! А я что сделала? В очередной раз втянула тебя во все это!
Валье принялся уверять, что все не так, но его возражения перекрывались моими рыданиями.
– Рассказав о себе, я подвергла тебя опасности! И продолжаю это делать! И ведь знаю обо всех рисках, но в голове лишь одно – облегчить душу!
– Ну так облегчай, – тихо сказал он, раскрывая свои объятия.
– Я тебя использую… чтобы быть самой собой!
– И это мне очень нравится…
– Но я ставлю тебя под удар! – Я остановилась и шепотом договорила: – А ты многое для меня значишь.
– И ты для меня, Диана.
И я бросилась в эти объятия, в их ласковую пучину, разнежилась в них, как будто его фамилия была его телом: гостеприимная, способная защитить равнина, овеянная его дыханием[59]. Я закрыла глаза, но слезы проступали сквозь ресницы каплями росы.
– Позволь мне помочь тебе… – шептал Валье, прижимая к себе и невольно причиняя мне боль – мои гематомы, – но я не обращала внимания. – Пожалуйста, кончай уже быть сама себе папой и мамой и позволь хоть кому-нибудь, наконец, тебе помочь!
Пока длился первый поцелуй, я не могла думать ни о чем, кроме как о его губах. Подняв руку, я сняла с него очки, как снимают маску с партнера по танцу на бале-маскараде. Мы снова поцеловались, и внезапно я ощутила это соскальзывание, это падение с ускорением, этот тобоган плоти, попав в который понимаешь: пути назад уже нет, потому что ты и не можешь, и не хочешь затормозить и так и летишь вниз.
По дороге в спальню, куда он ласково меня увлекал, я поняла, что все еще держу в руке его очки.
Марио Валье занимался любовью страстно и нежно, с той неожиданной деликатностью, которую мне не довелось испытать с Мигелем, но в самом конце его тяжелое дыхание превратилось во всхлипы, словно его собственное наслаждение или то, что он давал мне, причиняло ему боль.
Когда все закончилось и мы оба лежали на кровати носом кверху, он нащупал мою руку, и так мы и застыли – взявшись за руки, словно собрались вместе прошествовать на потолок. Освещение в спальне было слабым, а стены – землистого цвета, напоминавшего воды рек бассейна Амазонки.
– Это была… ты? – спросил он вдруг, повернувшись и взглянув на меня. – Это не было… чем-то другим?
Сначала я не поняла, что он хочет сказать, но потом догадалась: он все еще думает о той маске, которую я в прошлый раз сыграла в его кабинете. Полученное тогда наслаждение занозой сидит в его псиноме. Я сказала, что в том, что произошло, не было ничего, кроме меня.
– Я хочу жить с тобой, – шепнул он.
– Ты с ума сошел, – отозвалась я.
– Да.
Все еще лежа в постели, он предложил сделать мне «лечебный индейский массаж». Положил ладони на мои гематомы внизу живота и принялся их с бесконечной нежностью поглаживать. Было больно, но говорить ему об этом не хотелось. Какое-то время он водил руками по моему телу, а потом зашептал:
– Диана, я знаю, ты любишь другого… Своего коллегу, как ты сказала… Послушай меня… Я только прошу тебя… решить. Твоя работа, твоя постоянная отдача этому миру, который тебя использует, или – мой мир и мы с тобой такие, какие есть, без масок. Будем вместе бороться за то, чтобы правда вышла наружу, найдем твою сестру и доведем до суда всю эту шваль… Обдумай это и реши. Если придешь ко мне, это будет ради тебя самой. Я не могу принять того, что ты будешь и дальше страдать. Я не принимаю страдание. Проси чего угодно, но не этого. Но если ты решишь продолжить свою прежнюю жизнь, тогда…
Я подняла бровь, и вдруг Валье наклонился ко мне и поцеловал.
– Тогда – пипец. Тебе от меня не избавиться… – Он тихонько засмеялся. – Нет, серьезно – выбирай. Я буду и дальше помогать тебе, что бы ты ни решила, но, если ты и дальше пойдешь своей дорогой, я… клянусь, я больше никогда тебя не побеспокою…
– Спасибо, – сказала я.
– Обещаешь подумать?
– Обещаю.
Телефон создан для того, чтобы прерывать именно такие мгновения. Звонил мой, валявшийся где-то на полу в куче одежды. Я прикинула, кто бы это мог быть, и взяла мобильник с чувством стыда.
Но прозвучавший возле моего уха испуганный, взывавший о помощи голос не был голосом Мигеля.
– Уж и не знаю, что такое с ней творится! – выдохнула вконец растревоженная Нели, встретив меня в дверях. – Клянусь! Кажется, уж я-то должна знать, но не знаю! Ужас какой-то!
– Успокойся, Нели, солнце мое. – Я вошла в дом – как в склеп: абсолютная тишина и темень. – А почему света нет?
– Да не дает включать! Сразу рычит, как тигрица! С тех самых пор, как ты ушла, она вся на нервах, Диана!.. – И она, как призрак, повела меня по темным коридорам. – Уж не знаю, о чем вы там говорили, но она так в себя и не пришла!.. Есть ничего не стала, а когда я вечером собралась ее купать – отказалась… Мне страшно!
– Ты звонила кому-нибудь?
– Она не разрешает! – всхлипнула Нели. – Ни врачам, ни Падилье! Только одно твердит: «Пусть приедет Диана, позвони ей, хочу видеть Диану!» Сначала я думала, что сама справлюсь, но уже почти одиннадцать, а все по-прежнему. Извини, что пришлось тебя побеспокоить…
– Ты правильно все сделала, дорогая. – Мне пришло в голову, что Марио Валье с этим не согласился бы: я стремглав убежала от него, оставив его встревоженным, напряженным.
Нели распахнула обе створки двери в дальнем конце гостиной. Клаудия стояла у противоположной стены, возле открытого окна, в слабом свете уличных фонарей. На ней было то же простое бирюзовое платье, и она казалась такой худой и маленькой, что совсем терялась среди мебели. Когда она повернулась взглянуть на меня, я заметила, что лицо ее бледное, как у трупа.
– Я тут… вспоминала, Жирафа, – сказала она, увидев меня. – Разное…
– Успокойся, Сесе, я уже здесь… – Я помахала Нели рукой, и она отступила назад. – Могу я зажечь свет, Сесе?
Мой вопрос она пропустила мимо ушей.
– Я видела доктора Женса… Видела его в своей камере. Я смотрела вверх. Мне было трудно смотреть вверх: у меня даже глаза болели… У тебя когда-нибудь болели глаза? Я не могла ни говорить, ни шевелиться, но я смотрела вверх и видела его. Лицо Ренара я не видела ни разу: на нем была маска…
– Сесе, послушай…
– Я не могла ни говорить, ни шевелиться. Он не хотел, чтобы я шевелилась. И ему не нужно было меня связывать: Ренар умел убеждать. – Она хрипло расхохоталась. – Знаешь, что он однажды со мной сделал? Окатил бензином и заставил держать в зубах горящую спичку, пока он… Ладно, он не «бил меня» и даже не «колупал»… Впрочем, возможно, что все сразу. А самое интересное, как сказал бы Женс, самое-пресамое, заключалось в том, что мне эту спичку хотелось уронить. Мне хотелось пылать, как навоз в чистом поле. – Она скорчила гримасу, задрожала. Теперь, когда я стояла ближе, стало заметно ее безумие – оно как пот, пропитавший ее тело, оно – та даль, из которой она говорила, словно со дна колодца. – Сдохнуть тысячу раз… Нет, даже больше. Сколько раз хотелось умереть тебе?
– Все уже позади, Сесе… – Я медленно подходила, протягивая руки.
– Но так и не выронила эту спичку. Предпочла жить, как навоз. Доктор Женс сделал мне большой подарок… Ему это дорогого стоило, но он добился. Под конец я выблевала все, чем была. Наконец я узнала. Чем я была, я это имею в виду. Почему захотела стать наживкой. Я это выблевала. Ты этого не знаешь, Жирафа: тебе понадобится Ренар, чтобы он заставил тебя все это выблевать… Но я-то знаю, что мы такое. Рвотные позывы. Даже не желчь. Тошнота. Вот что такое мы, наживки.
– Да, Сесе, именно это… А теперь ты позволишь нам о тебе позаботиться, хорошо? – Я взглянула на скорчившийся силуэт Нели возле дверей. – Нели, позвони в отдел и…
– Я упала в колодец! – перебил меня пронзительный крик Клаудии. – И знаешь, что там, Диана?.. Огромное зеркало. Но самое страшное вот что: ты в него смотришься, но абсолютно ничего не видишь…
– Нели, – осторожно повторила я, – позвони в отдел или дай это сделать мне…
Наконец Нели ожила. Но сделала она совсем другое – она вцепилась в мою руку:
– Это была плохая идея – звать тебя, ей только хуже стало! – И она потянула меня из комнаты. – Уходи, Диана! Уходи! Я сама со всем справлюсь!
Я не испытывала никакого желания выходить из гостиной, но дала себя увести. Мне внезапно показалось, что состояние Нели гораздо серьезнее, чем состояние Клаудии. Мы вышли, и я взяла ее за плечи:
– Нели, приди в себя! Клаудия больна, и ей нужна наша помощь! Мы должны помочь ей!
– Я не могу больше! – Нели мотала головой. Рыдания сделали ее совсем некрасивой. – Я столько времени за ней ухаживала – и больше не могу!.. Я очень люблю ее, клянусь, но я больше не могу!..
Я обняла ее, положив голову себе на плечо, чтобы дать возможность выплакаться. И вдруг мы обе это услышали: какой-то перестук в соседней комнате, звук открываемых ящиков. Появившись в дверях гостиной, мы успели увидеть, как Клаудия ставит на пол пластиковую канистру, содержимое которой только что вылила себе на голову. Резкий, столь знакомый мне запах, как призрак, поплыл по комнате. На долю секунды я застыла в изумлении, но потом пришло внезапное понимание: «Газонокосилка с двигателем внутреннего…»
Зрелище крошечного пламени в руках Клаудии в жутком дежавю воскресило позавчерашнюю сцену с сыном Наблюдателя. Не помню, сколько раз я прокричала ее имя и сколько раз услышала тот же крик в исполнении Нели, когда мы бежали ей навстречу.
Пока ослепительный факел, в который превратилась Клаудия Кабильдо, не остановил нас.
28
Иногда кажется, что внутри у меня ничего нет. Как будто вся я – только слои глины, наложенные друг на друга, которым придана форма женского тела. Я привыкла имитировать столько различных эмоций, что часто мне бывает сложно определить, что же я на самом деле чувствую.
На похоронах Клаудии было совсем не так.
Клаудия Кабильдо не была моей подругой. Мы никогда не ходили вместе ни в кино, ни на вечеринки, мне никогда не приходило в голову поздравить ее с днем рождения. Но она была для меня неким символом – символом нашей борьбы, нашего страдания, нашего поражения. А теперь еще – и того обмана, в котором мы живем, того ужасного фарса, в котором мы вынуждены участвовать.
На этот раз я не чувствовала себя пустой. Внутри кое-что было: глубокая, хотя и не всепоглощающая, боль, которая оставляла место и для едва сдерживаемой ярости. Все тело было натянуто как струна, а слезы жгли глаза, словно лава вулкана. Как будто мне вновь предстояло вступить в схватку с Наблюдателем.
И в ходе той церемонии, в которой я принимала участие, мое состояние только усугубилось.
Предшествующий день был изматывающим. После того как пожарные и санитары огородили то, что оставалось от домика на улице Тесео в Лас-Росас, – обугленное тело и четыре черные стены, – начался изнурительный допрос в полиции. Уж и не помню, сколько раз мне пришлось рассказывать, каким образом Клаудия принесла себя в жертву на манер буддийских монахов, к тому же с впечатляющими приготовлениями – припрятав остатки горючего для бензиновой газонокосилки. Или как мы с Нели бегали по всему дому в поисках чего-то, что поможет погасить огненный шар, катавшийся с оглушительными воплями и поджигавший все на своем пути. Или как я, смирившись с неизбежным, тащила Нели из горящего дома. К счастью, Падилья приехал в участок как раз вовремя, чтобы перехватить эстафетную палочку и сменить меня в роли свидетеля. Вернувшись домой, я отключила телефон и, не раздеваясь, рухнула в постель. Начиная с этого момента я почти ничего не помню. Понедельник начисто выпал из моего календаря.
К ночи я нашла в себе силы проверить сообщения в телефоне, обнаружив одно – от Мигеля: завтра состоится прощание с той, кто был «одним из грандов». Непубличное, разумеется, в траурном зале крематория Лас-Колумнас, на Северном шоссе. Мы приглашены. Я решила присутствовать – отчасти потому, что надеялась, если представится случай, поговорить с Мигелем с глазу на глаз. Но все пошло совсем не так, как я ожидала.
Во вторник, в последний день октября, когда я приехала в Лас-Колумнас, дождя не было, хотя в небе собирались серые тучи. Сказать, что это были похороны в камерной обстановке, было бы неточно. Скорее, они были тайными. Пять лет надлома и сражений и еще пять – безумия оказались сведены к двум казенным автомобилям и десятку людей: Падилья, Гонсало Сесенья, замдиректора Ольга Кампос, перфис Начо Пуэнтес и Рикардо Монтемайор, несколько бывших наживок и мы с Мигелем. И – странное дело – мать Клаудии, высокая, вся в черном, с коротко подстриженными волосами с проседью, – женщина, которой я раньше не видела. Я была поражена тем, что у Клаудии еще оставались любимые люди, а может, и не оставались, потому что выражение лица этой женщины было бесстрастным, – я видела, когда она оборачивалась со своего места в первом ряду. И мне подумалось, что она пришла только потому, что этого требовали правила приличия, так же как Падилья и Сесенья – два консула среди плебеев на похоронах солдата.
Часовня была по-идиотски артистической, а внутри звучал идиотский «Лунный свет»[60] и детский хор. Молодой священник, лысый и низенький, как ребенок, запнулся, произнося фамилию Клаудии, и вынужден был сделать паузу, чтобы заглянуть в сценарий. Гроб стоял на двух подставках, очень похожих на стулья, и до начала мессы Начо Пуэнтес шепнул мне, решив шуткой снять излишнее напряжение: «Нехватка бюджета». Но я даже не улыбнулась. Именно в тот миг я осознала всю театральность происходящего.
Или почти всю. Мигель обнял меня и пару раз с чувством шепнул: «Люблю тебя». И еще были оглушительные рыдания бедной Нели, опоздавшей к началу церемонии. С гладко причесанными волосами она казалась постаревшей лет на двадцать. «Теперь и ей нужен кто-то, кто будет за ней ухаживать», – подумалось мне. Боль Нели, которая, без сомнения, была единственной настоящей подругой в жизни Клаудии, подействовала на меня сильнее, чем я ожидала. Возможно, потому, что я ей позавидовала. Как и она, я тоже очень хотела бы иметь возможность открыто выразить свои чувства перед всеми этими политиками, наживками и профилировщиками, которые изображали подходящую к случаю скорбь. Парадоксально, но только Нели – единственный зритель среди стольких актеров – дала волю своим переживаниям.
Никто не стал произносить речи, как это принято на похоронах у американцев. В Испании нет такого обычая. Кроме того, сказать что-то о Клаудии было бы нелегко. В ее биографии не было семейных трагедий, как у большинства из нас: родители – уроженцы Валенсии, в разводе, какая-то поведенческая проблема в детстве – и это почти все. Ее выбрал Женс, чтобы учить лично, – вот что было важно.
А также, насколько я могла судить, лично ее сломал.
Но мишенью моей ярости был не только Женс или прикрывавшие его чиновники. В первую очередь она была направлена на меня саму.
Хотя было чрезвычайно тяжело это признать, но именно я воскресила кошмар Клаудии после трех лет забвения. И мысль о том, что знать правду лучше, вовсе не утешала, потому что вся эта правда уместилась в жалком гробу – скрюченные останки, которым скоро предстоит превратиться в пепел, останки девушки, преданной своими собственными наставниками. («О, дорогая, – сказал бы Начо Пуэнтес, – ты поистине сгорела на работе».) Чувство вины стало практически невыносимым.
Возможно, именно это и послужило причиной того, что произошло потом.
– Аминь.
Краткая церемония была окончена, священник удалился в боковую дверь, первый ряд начал освобождаться. Падилья, в черном пальто и свитере, с Ольгой Кампос по одну руку и еще одним тренером, имени которого я не помнила, по другую, проходя мимо, кинул на меня быстрый взгляд и вздохнул.
– Наконец-то все кончилось, – сказал он с удрученным видом.
Именно эта его фраза, произнесенная среди уже отвернувшихся от еще не вынесенного гроба немногочисленных участников церемонии, включая сеньору, игравшую роль матери, послужила спусковым крючком.
Все кончилось.
Я отняла свою руку у Мигеля и повернулась к Падилье. Слезы еще лились из-под темных очков, закрывавших верхнюю часть моего лица.
– Нет, кончилось еще не все, – произнесла я дрожащим голосом. – Все только начинается.
Падилья застыл на месте, хотя удивился гораздо меньше, чем можно было ожидать от абсолютно невиновного человека. Яйцевидное лицо его побледнело и постарело. И я предположила, что его, как и Алвареса, мучают угрызения совести. Это дало мне силы продолжить:
– Я докопаюсь до дна, дойду до сути, Хулио. Возможно, это станет последним, что я сделаю, прежде чем уйду с этой чертовой работы, но клянусь тебе, что начиная с этого момента ты не сможешь сидеть в своем гребаном кабинете, не думая обо мне… Я стану чирьем на твоей заднице…
– Ничего не понял, извини, – проговорил Падилья, хлопая глазами.
К сожалению, никогда не получается сделать что-то хорошо, когда я даю волю истинным чувствам. Я почти всегда теряю над собой контроль, как Кориолан – гордый воин из одноименной трагедии Шекспира. И после первой пары точных выстрелов я выпустила целую очередь абсурда:
– Пока не знаю, имеет ли отношение то, что касается Клаудии, к истории с моей сестрой… Думаю, что да… Да что там, я вполне уверена… И доказательства добуду, можешь не сомневаться…
– Диана, солнышко… – раздался голос Мигеля у меня за спиной.
Я не повышала голос, но, несмотря на это, у нас уже появились зрители: убедившись, что мать Клаудии вышла, Сесенья повернулся к нам. То же самое сделали Ольга, Начо и Монтемайор.
– Иди-ка ты лучше домой и как следует отдохни, Бланко, – прервал меня Падилья. – Ты совсем плоха.
– Хочешь, чтобы это рассказала им я? – Я подошла вплотную, так что мой синий джемпер коснулся его пальто. – Чтобы я рассказала Сесенье и Ольге, как именно упала в колодец Клаудия, или они уже знают?
Падилья мотнул головой, давая понять, что я не достойна ответной реплики, и пошел прочь, а вслед ему понесся мой голос:
– Клаудия умерла, но я – еще нет! Слышишь меня? И пока еще даже в колодец не рухнула! Пусти меня, пусти, пожалуйста… – Я оттолкнула пытавшегося удержать меня Мигеля, но внезапно, увидев выражение его лица, смутилась. – Извините.
– Диана, нам нужно поговорить, – произнес Мигель. – Только не здесь.
– Да, нам нужно поговорить, – сухо сказала я. – Пойдем отсюда.
Опустевшая часовня давила своим дурманящим цветочным ароматом погребальных венков, а вот атмосфера пасмурного осеннего дня подействовала освежающе. Ведомственные машины уже разъезжались, а остальная публика – неофициальная – степенно направилась к парковке. И никого не осталось в длинном застекленном вестибюле перед траурным залом.
Или почти никого.
Я сразу его узнала: темная фигура, прихрамывая, идет в дальний конец вестибюля. Несмотря на медлительность, он был уже далеко, из чего я сделала вывод, что за церемонией он следил прямо от входа, как зритель, купивший билет в последний ряд, чтобы иметь возможность первым покинуть зал.
«И конфиденциально, ведь так? О да, прежде всего – конфиденциально».
И я молниеносно приняла решение: разговор с Мигелем может подождать, а вот когда еще представится подобный случай, неизвестно. Поцеловав Мигеля, я пообещала, что сегодня же обязательно позвоню, и, не обращая внимания на встревоженные вопросы, побежала вслед за ускользающей тенью.
– Сеньор Пиплз! Уже уходите? Пропустите торжество. Падилья всех пригласил на бокал вина, чтобы отметить успешное завершение операции «Ренар»…
Виктор Женс, услышав мой голос, почти не прибавил шагу, но упоминание имени Ренара его остановило. Он был в строгом трауре: весь в черном, с головы до пят, – шляпа, пальто, перчатки. Со спины гамму нарушали только седые волосы, от полей шляпы до воротника пальто. Лакированная трость поблескивала.
– Диана… – Я услышала свое имя, произнесенное шепотом, словно оно воплощало боль в паху. – Я не хочу говорить с тобой, дорогая…
– В таком случае вам придется узнать, что чувствуешь, когда делаешь что-то без всякого желания. – Я встала у него на пути. И была готова поставить ему подножку, если возникнет необходимость. – Я люблю свою сестру, Женс.
Он гулко хохотнул:
– Ну, в этом я никогда не сомневался, она – твоя слабость. Как поживает Вера?
– Я скажу вам как, если вы скажете мне где.
Он обошел меня, но я вновь встала прямо перед ним:
– Пожалуйста, верните ее, и я дам вам слово, что не донесу на вас, доктор…
Эта мольба остановила его. Секунду он смотрел на меня. На нем были круглые очки с такими черными стеклами, что на белом костлявом лице они казались пустыми глазницами. Как будто на меня глядит череп в шляпе.
– Главная проблема всех профессионалов, – сказал он, – смешивать свои привязанности с работой. Я вправду, дорогая, не намерен с тобой говорить. Я очень устал…
Я была готова врезать кулаком прямо в его стариковское лицо, но передумала – вовсе не из уважения к нему, меня остановил взмах тростью, будто он кого-то подзывал. Мы стояли возле бокового выхода, за которым виднелась открытая калитка в белой ограде крематория и темный автомобиль, рядом с которым двое мужчин. Один из них, здоровяк, походил на шофера грузовика – он вполне мог быть водителем. Второй, молодой и тощий, приближался к нам с воинственным видом, размахивая руками.
– К вашим услугам, доктор! – Сильный восточный акцент. – Сеньорита причиняет вам беспокойство?
– Именно так, Василий, – подтвердил Женс. – Убери ее, пожалуйста.
Я подумала, что Василий сейчас бросится на меня, и приготовилась. Но вместо этого он встал передо мной, расставив тонкие ноги, поднес руки к груди и переплел пальцы, одновременно наклоняясь под прямым углом вперед и перенося вес с одной ноги на другую. Я узнала первый шаг Бассиани в классической маске Скрытности. Совокупность этих жестов, как и декорация в виде белой стены, на которой четко вырисовывалась его фигура, вызвали мурашки на коже, и я ощутила смутное наслаждение. Эта техника была в высшей степени эффективна, чтобы отбить атаку при нападении или при других насильственных действиях, и даже исполнение было вполне приемлемым. Только одна ошибка была допущена – маленькая, но существенная.
Я ни на кого не нападала.
Это как когда ты засыпаешь, а тебя целуют: ты можешь либо полностью проснуться, либо все-таки заснуть. Моему псиному понравилось то, что было сделано, но не настолько, чтобы заблокировать меня. Вместо этого я попробовала кое-что другое. Я видела выражение лица Василия, когда он получил приказ Женса, и подумала, что он может оказаться приверженцем филии Оратора. И я использовала технику Орвилла: преобразовала желание допросить Женса в притворную любовь, соединила руки над головой и прошептала: «О, как мне жаль». Я знала, что эффект этой маски будет усилен моей одеждой – черной курткой с поднятым воротником и кожаными штанами. Маска имела целью представить могущественного человека, которому так же трудно просить других, как Кориолану в грандиозной политической трагедии Шекспира, которому едва-едва, на какую-то йоту, удается умерить свою гордость, чтобы обратиться к народу за поддержкой. Быстрый Оратор – дело случая и совсем не годится как средство скорой помощи, но если попадешь в точку, то сорвешь джекпот. И я решила рискнуть.
И попала в точку.
Когда лицо упомянутого Василия стало физиономией идиота или же он просто бросил притворяться, я улыбнулась:
– Вы поденщиков теперь нанимаете работать наживками, Женс?
Профессор расхохотался. Смех был таким, как будто всем при рождении было отмерено определенное количество приступов хохота и в запасе у него осталась всего парочка.
– Бедный Василий! – прокаркал он. – Он хороший помощник и усвоил несколько трюков, но не более того… На самом деле ты ошиблась: он не Оратор, а Невинный, но обе филии связаны друг с другом, и ты смогла сбить его с толку… Давай, Василий, иди в машину, я сейчас… И не расстраивайся, парень, ты сделал все, что мог, но она – Диана Бланко. Ее тренировал я! – гордо прибавил он. – И сотня таких, как ты, не смогут ее остановить.
Василий перестал глазеть на меня, как будто бы я материализовалась в ночи голой в его постели между ним и его женой, и походкой зомби зашагал к машине. Женс улыбнулся мне:
– Ну хорошо, твоя взяла. Есть здесь одна симпатичная дорожка, давай совершим осеннюю прогулку по крематорию…
Лас-Колумнас[61] были обязаны своим названием короткой извилистой дорожке, для украшения которой архитектор использовал гранит и безграничное воображение, чтобы поставить здесь полдюжины столбов. Это были простые цилиндры, высокие, безо всяких украшений, но присутствие Женса словно превратило их в декорацию кинокартины о древних римлянах. Он остановился возле одной и вперил в меня взгляд. И вдруг я почувствовала себя в ущербном положении, как на репетиции.
– Мне сказали, ты произвела невероятный захват. О, вовсе не обязательно благодарить меня… Это был своеобразный бартер: ты подарила мне очень приятный сеанс Красоты, а я снабдил тебя адекватной для ситуации техникой… И ты победила – с разгромным счетом, как я погляжу. Он ведь не слишком тебя покалечил, верно? Всего-то несколько царапин на лице, пара-другая ушибов и… – И он указал тростью на повязку у меня на руке. – О, а это что? Мизинец? Я знал, что малец сделает что-то подобное… Это просто автомат какой-то, этот мальчик; я видел головидео из психологического центра и послал им доклад, в котором рекомендовал принять мальчика в колледж и сделать из него «Артура». У него есть все, чтобы стать таким, как ты: красив, умен, пластичен, и ему так нравится обманывать, что он даже не осознает, когда врет… Мало того, тоже есть семейная травма. Настоящий «сын Кориолана», развлекающийся тем, что отрывает крылышки живым бабочкам. После хорошей подготовки он станет великолепной наживкой…
– И вы будете с ним экспериментировать так же, как с Клаудией? – задала я свой вопрос.
Женс с явной неохотой повторил имя, словно давая понять, что уже не важно, что бы мы о ней ни сказали, но я не сдавалась:
– Позвольте кое о чем спросить: зачем вы пришли сюда, доктор? Хотели увидеть результат своих экспериментов или все-таки еще способны чувствовать угрызения совести?
В ответ он взглянул на меня:
– Вижу, ты по уши в кризисе, но тоже задам тебе вопрос. Ты могла бы уничтожить кого-нибудь вроде Наблюдателя, терзаясь угрызениями совести? Тебя мучила совесть, когда ты уничтожала этот… ограненный брильянт чистого наслаждения?
– Хотите знать, что я чувствовала? Отвращение. От себя самой и своей работы. Как будто, раздавив насекомое, я осознала, что я – тоже насекомое.
– Ты чувствовала отвращение, потому что чувствовала наслаждение. Не я виноват в том, что нас с детства приучили: за вторым с неизбежностью следует первое. Он чувствовал наслаждение, раздевая и связывая тебя. Его сын чувствовал наслаждение, отрезая тебе палец. Ты получила удовольствие, ликвидируя их. Ты никогда не принимала то, что значит быть наживкой, и именно поэтому ты – очень хорошая наживка.
Я покачала головой. Мне вовсе не хотелось вступать в диалектические игры.
– А как вы думаете, что чувствовала Клаудия, когда узнала, что Ренара не существовало в природе? Или когда она вспомнила, что вы тоже были там, где ее пытали?
– Диана. – Женс провел рукой в перчатке по лицу. – У меня врачебный осмотр, беседа с доктором онлайн через час… – И он показал мне медицинский браслет. – Ну, знаешь, сердце, давление, вся эта стариковская хрень… И мне хотелось бы быть к этому времени дома. Так что уж скажи мне, пожалуйста, чего тебе нужно…
– Я хочу знать, на кого работала все это время.
– Никто и не говорит, что твоя работа была легкой.
– Она не была легкой, – согласилась я. – Но ни Клаудия, ни я не знали, что главная трудность – это вы.
Над нашими головами, в сером небе, загрохотало, и этот гром прозвучал как шум океанского прибоя. Порыв ветра взметнул вверх черные полы пальто Женса. Мы подняли глаза к небу, но я опустила взгляд раньше.
– Это все из-за маски Йорика, ведь так? Ваше личное наваждение, ваше отвратительное стремление открыть ее… Вы втайне построили этот туннель, выдумали психа, ну или раскопали его в архиве, и заперли там Клаудию, заставив ее поверить в то, что она выполняет реальную миссию. Она пробовала раз за разом маску для филии Ренара, но безуспешно, и теперь я знаю почему. Клаудия сама об этом сказала, не понимая, о чем говорит: лицо Ренара всегда было скрыто маской. Это были разные люди, или я ошибаюсь? Каждый день ее пытал новый тип с другим псиномом, а она старалась подцепить их всех при помощи одной и той же маски. Это и есть ваш метод, чтобы открыть маску Йорика, так ведь, доктор? Очень ловко.
Я была уверена в своей правоте, но Женс не собирался ее подтверждать. В тот момент он, кажется, меня даже не слушал: он горделиво задирал подбородок, глядя то ли в грозовое небо, то ли на верхушки окружающих нас колонн.
– Псином, – произнес он, будто это слово должно было объяснить все происходящее. – Самый важный шаг, который сделало человечество с тех пор, как оно осознало себя. Конечно, не мы первыми заподозрили его существование. Древние каббалисты говорили о наличии чего-то промежуточного между телом и душой, они называли его зелемом, что некоторые приравнивают к голему – некоему образу нас самих, райскому созданию, вместилищу нашего наслаждения. Не счастья, – уточнил он, – наслаждения. Которое может принести нам как величайшее счастье, так и величайшее несчастье. Каббалистом был Джон Ди, и он использовал эти знания, создавая свой Кружок гностиков. Возможно, Шекспир с детства воспитывался именно этим Кружком и его сочинения есть не что иное, как ритуалы, в основе которых лежит то, чему он там научился. Псином… Фактическое признание того, что жесты некоего тела или некий голос приводят нас либо к безумию, либо к экстазу. Причина верований и страстей. Возможность для одного человека контролировать массы… И мы будем ставить препоны ложно понятой морали перед изучением этой вселенной плоти и духа? – Он вновь обратил ко мне черные дыры своих солнечных очков, совершенно ненужных в сером свете этого дня. – Конечно же, и Падилья, и Алварес одобрили этот эксперимент! И ты его одобрила бы, окажись на их месте! Это невозможно было сделать по-другому: ваши тренировки были очень суровыми, но вы знали, что это тренировки. А с Йориком было просто необходимо, чтобы наживка думала, что ситуация реальна. Была кровь, это верно, но, как говорил Кориолан, «искупительная»… Ясное дело, они одобрили… А потом всё похоронили, пока этому идиоту Алваресу не пришла в голову идея все раскрыть…
– По крайней мере, ему хватило достоинства убить себя…
Женс, казалось, не слышал меня: его лицо исказила гневная гримаса.
– А знаешь, почему они тогда захотели всё похоронить? Скажу тебе: потому что я потерпел неудачу. Если бы мне удалось получить Йорика, я командовал бы теперь всеми наживками Европы. А что вместо этого? То, что Падилья и Алварес приняли решение о моей «официальной смерти», а испанское правительство чуть не дустом посыпало всюду, куда ступала моя нога, а теперь… теперь я заслужил еще и твою ненависть. Потому что я потерпел неудачу. Вернее, потому что Клаудия потерпела неудачу.
На этот раз – да. На этот раз он сказал это.
Секунду спустя я смотрела на свою руку, словно не веря, что могла дать пощечину старику. Очки Женса беззвучно упали на землю, а он, прислонив трость к колонне, молча принялся их искать, возможно слегка утрируя дрожь, чтобы я сильнее ощутила свою вину. Но я чувствовала не вину и даже не гадливость, а только безбрежную, неистощимую грусть.
– Все время спрашивала себя: почему я согласилась стать наживкой? – сказала я, наблюдая за тем, как он, подобно слепцу, ощупывает газон. – Теперь знаю: хотела избавить мир от таких тварей, как вы.
Мы не вернулись к разговору, пока Женс не водрузил очки на прежнее место, не водворил шляпу на голову под тем же углом и трость вновь не оказалась в его руке, затянутой в перчатку. Затем он потер щеку, отпечаток моих пальцев на которой начал краснеть, и тут я поняла, что этот румянец – единственный, который люди вроде Женса могут себе позволить. К тому времени первые дождинки упали рядом с каплями моих слез.
– Но почему Клаудия? – всхлипывала я. – Она любила вас, обожала… Почему это должна была быть она? Бог мой, Женс… Почему она?
– Как раз поэтому. Потому что она меня любила и знала, что не отступится. Клаудия была словно частью меня самого. Она полностью отдавала себя. И она могла дать мне Йорика…
– А вы – вы, напротив, ее предали… и уничтожили.
– Так ведь не в моем присутствии опрокинула она на себя канистру бензина, – прошептал он, отплатив мне за пощечину.
Мне понравилась эта жестокость: она высушила слезы. И быть может, именно осознание непрочности своей позиции вынудило его сменить тон и изобразить сочувствие:
– Но я не забирал Веру, если ты имела в виду это… Подпольные эксперименты были закрыты сразу же после провала с Ренаром. И с тех пор – уже несколько лет – я вне игры…
– А что это за хрень – завести телохранителей, которым знакомы приемы наживок? Зачем? Что-то мне не кажется, что это означает быть вне игры…
– Думай что хочешь. Но что касается лично меня, повторяю: я больше не занимаюсь постановками – ни запрещенными, ни официальными.
Капли дождя все чаще стучали по его шляпе.
– А теперь, если ты уже закончила меня бить, мне нужно возвращаться домой. Этот дождь вполне способен навредить моему псиному… – Неверными шагами пустился он в обратный путь, но успел кое-что сказать на прощание – по своей привычке, не оборачиваясь: – Тебе лучше расспросить Падилью… Если и есть какие-то секреты, то знать может только он.
Тем не менее, пока он уходил, меня не оставляло ощущение, что он солгал.
29
Хулио Падилья не находил покоя.
Это был не рациональный страх перед конкретной угрозой, а своего рода размытая, без четких контуров, тревога человека, ожидающего очень неприятного, но пока что неопределенного события.
Он не представлял себе, чем эта тревога может быть обусловлена, хотя и признавал наличие проблемы. Вовсе не нужен диплом криминального психолога, висящий в его кабинете, чтобы понимать, что два самоубийства – Алвареса и Клаудии – заставили всплыть на поверхность утопленное когда-то дерьмо, да еще Диана Бланко взялась в нем ковыряться.
Тем не менее он не был склонен объяснять свое состояние именно этим. Все эти проблемы были известны, и он способен держать их под контролем. Невозможно стать шефом такого подразделения, как Криминальная психологическая служба, если проблемы могут затуманить тебе голову.
Возможно, все дело в грозе или в тоскливых похоронах, которые он только что посетил, и все это наложилось на сильную головную боль и несколько беспокойных ночей. В общем, ничего такого, что нельзя было бы поправить с помощью хорошего отдыха, решил он.
Раздумывая об этом, он почувствовал, как на колено легла рука Ольги Кампос, и бросил взгляд на водителя машины, которая везла их из крематория в студию «Хранители», однако глаза водителя не отрывались от дороги. Тогда он повернулся к Ольге и посмотрел на ее полные, чувственные губы.
Он восхищался Ольгой – она была выдающейся наживкой, отличным сотрудником и время от времени замечательной любовницей. Был период, когда их отношения разладились, из-за того что Падилья был женат и не выказывал ни малейшего желания уходить из семьи. Однако после череды разрывов и примирений у них с Ольгой установились сердечные, с некоторой дистанцией, отношения, полные взаимного уважения. Ольга была умна, кроме того, гораздо моложе его и довольно амбициозна, и Падилья прекрасно понимал, что она использует его для карьерного роста, впрочем, он тоже ее использует, когда приходит к ней домой. Он полагал, что они квиты, и пока так будет продолжаться, его это будет устраивать.
– Как ты? – спросила Ольга.
– Да ничего, – приврал он. – Держусь пока.
– Прими мое сочувствие по поводу произошедшего. – Она продолжала поглаживать его колено. – Однако тебе не следовало приглашать на похороны Диану.
– Я ее и не приглашал, это Сесенья.
– В любом случае она не сказала ничего такого, чего Сесенья уже не знал бы.
Падилья кивнул.
– Диана странная какая-то после своего захвата, – прибавила Ольга в качестве пояснения. – И исчезновение сестры никак не способствует ее спокойствию. Может, она тоже упала в колодец? Нужно бы приглядеть за ней, понаблюдать с близкого расстояния. Если хочешь, могу устроить.
Ее интонация не осталась незамеченной. Падилья знал, что экс-наживка хитро обхаживает его риторическими вопросами, которые так приятны его филии Прошения. Он накрыл своей рукой руку женщины, но лишь для того, чтобы мягко убрать ее с колена…
– Очень хорошо. Слушай, Ольга, дорогуша…
– Слушаю.
– Я неважно себя чувствую. Думаю, подцепил грипп. Возьмешь на себя все оставшееся на сегодня и позволишь мне закрыть лавочку и пойти домой?
– Конечно же. Разумеется.
– Спасибо, моя красавица. Увидимся завтра.
– Завтра я тоже закрываю лавочку, Хулио, завтра праздник. – Ольга не засмеялась, но приготовилась это сделать: рот раскрыт, зубы блестят, веселое выражение на лице. – Ты что, забыл?
– Ах черт! Первое ноября[62], конечно. Забавно.
– Что забавно?
Он решил не отвечать, потому что на самом деле не думал, что хоть что-то из того, над чем он размышлял, являлось действительно забавным. Приехав в «Хранители», он собрал документы и ноутбук, сунул все в портфель и отправился домой на своей машине. По дороге ему в глаза бросались зловещие тыквы и гномы под грибными шляпками – символы Хеллоуина. Конечно, как раз этой ночью. Карнавал, праздник масок. Тридцать первое октября, все правильно. «В один из этих дней три года назад начался эксперимент с Ренаром, – подумал он. – Совпадения в нашей гребаной жизни».
Однако, прежде чем он доехал до своего дома на улице Артуро-Сория, дождь усилился. Дворники работали как сумасшедшие, а машина встала в плотную пробку, обычную для Мадрида в предпраздничный день. При других обстоятельствах Падилья тут же выругался бы и стал бы давить на клаксон, но в тот момент мысли – и треклятая тревога – заставили его отвлечься.
«Нам бы стереть с лица земли это поместье… Но казалось, что оно еще понадобится… Какая глупость, черт возьми!»
Он не мог взять в толк, как идиот Алварес решился открыть этот ящик Пандоры своим самоубийством. Зачем ему понадобилось вешаться в туннеле? Из-за угрызений совести – было написано в его предсмертной записке. А с какой стати испытывать эти угрызения три года спустя? Вся ответственность за это лежит на Женсе, а самое отвратительное – что дело в результате провалилось. Что же касается Клаудии Кабильдо, так она – наживка, разве не так? Наживки для того и существуют, чтобы их испытывать и использовать. Угрызения и раскаяние? «Чувствовал бы их лучше, дьявол тебя подери, по поводу жертв, всех тех невинных, кто страдает!» Глаза Падильи увлажнились, и он понял, что по какой-то странной ассоциации думает сейчас о дочери Каролине. «Всех тех невинных, чьи жизни были навсегда искалечены, черт возьми, всех тех…»
В этот момент он понял, что едет по улице Артуро-Сория и уже проехал свой дом. На этот раз он действительно громко выругался. Вращая руль на круглой площади, где пришлось разворачиваться, он заметил, что руки вспотели. В конце концов, возможно, после всего этого он и вправду заболевает треклятым гриппом.
Его дом был одним из новых зданий, недавно построенных в процессе реновации старинного проспекта. Оборудованный новейшими системами безопасности, он обладал ни с чем не сравнимыми атрибутами типичного индивидуального жилого дома в городском предместье: сад, гараж и даже собака. Падилья набрал код на пульте управления, открыл ворота гаража и заехал внутрь, оставив за спиной шум ливня. Порадовался тому, что «хонда» его сына Алваро стоит в гараже, стало быть, тот приехал рано. Но тут же сообразил, что Алваро вечером наверняка отправится на вечеринку и что, скорей всего, сын раньше, чем обычно, уехал из института домой. Мысль о вечеринке радости не доставила: это означало, что сын опять поедет на своем мотоцикле и вернется под утро, обязательно выпив. И, как бы ни был Алваро аккуратен, его планы отца не слишком устраивали. Кроме того, в связи с праздником возникала еще одна, причем довольно болезненная, проблема, и Падилья, едва переступив порог, приготовился к боевым действиям.
Алваро – высокий красивый восемнадцатилетний парень – перебирал в гостиной музыкальные видеофайлы на подключенном к телевизору компьютере, скачивая их на свой планшет, без сомнения, с целью использовать сегодня вечером. Он стоял на коленях спиной к входной двери, из бермудов торчали длинные ноги. Грохот бил по барабанным перепонкам.
– Сделай потише, Алваро! – крикнул Падилья.
– Ты сегодня рано, папа. – Сын даже не обернулся, приглушая звук.
– Я взял выходной. А мама?
– Она еще не вернулась. – На этот раз Алваро посмотрел на него и улыбнулся. – Еще рановато.
– Ну да.
Ребека, его жена, была юристом и работала в адвокатском бюро. Они познакомились на юридическом факультете, где он и сам проучился несколько курсов. Иногда Алваро в шутку говорил, что отец изучал «все то, что потом ему не пригодилось» – юриспруденцию и менеджмент среди прочего. Отчасти ирония сына была обоснованна, потому что его должность руководителя Криминальной психологической службы не требовала ни знания законов, ни навыков управления предприятием, и Падилья, в общем-то, получил образование в области криминальной психологии уже после того, как занял это место. Но один черт знает, какие именно познания нужны на этой должности, так что, в конце концов, Падилья полагал, что просто так карты легли.
Он снял пальто, повесил в шкаф в прихожей и заодно проверил, все ли системы безопасности, включая датчики движения, включены. Он делал это в силу привычки, но на этот раз осмотрел все особенно внимательно. Падилья по-прежнему чувствовал беспокойство. В прихожую с улицы доносился шум дождя, льющего на крыльцо, как вода из душа на дно ванны.
– Ты куда-то собираешься сегодня вечером, Алваро?
Сын вновь обернулся и взглянул на него как на умалишенного:
– Сегодня же Хеллоуин, папа. У нас вечеринка. С тобой что-то не так?
– Да нет, все в порядке. А что ты все-таки решил с сестрой?
Алваро фыркнул, но, по крайней мере, Падилья добился того, что сын оставил расспросы о нем самом.
– Папа, я договорился встретиться с Мишель на Пласа-де-Кастилья в десять, о’кей? Я еду на мотоцикле. И я уже говорил, что не смогу отвезти Каролу.
– Сможешь, – отрезал Падилья еще более категорично, чем сам ожидал. – Возьмешь машину матери, отвезешь ее к девяти, потом успеешь вернуться к своему чертову мотоциклу и к Мишель… А заберу ее оттуда я. Твоя сестра тоже имеет право развлечься.
– Замечательно, так отвезите ее сами!
– Я не хочу спорить с тобой, Алваро. – И он на самом деле не хотел, но услышал ответную реплику сына:
– На прошлой неделе ты сказал, что сам постараешься ее отвезти!
Он об этом забыл. Эта подлость собственной памяти вызвала краску на лице, в чем он смог убедиться, глядя в зеркало на свою яйцеобразную бритую голову. Он таким не был. Что это с ним? Нервы, это очевидно. Но из-за чего?
Он решил отложить дискуссию и направился в спальню, чтобы переодеться, но тут увидел, как из комнаты Каролины выходит служанка, и сообразил, что дочка тоже уже вернулась из школы и сидит у себя.
Падилья посторонился, пропустив девушку, и вошел в комнату дочери, словно в поисках глотка свежего воздуха. Комната была светлой и радостной – благодаря стенам, выкрашенным в бирюзовый и светло-зеленый цвет. Каролина в своем инвалидном кресле с электроприводом сидела перед мольбертом, орудуя тонкой кисточкой, распространявшей запах акварели, который витал вокруг. У Падильи сердце радовалось, пока он с гордостью, как всегда, смотрел на дочь: длинные прямые, как у Ребеки, белокурые волосы, голубые глаза и круглая мордашка – это от него, одета в оранжевую маечку и черные лосины, то есть в форму для спортивных занятий в реабилитационном центре. Беспристрастный наблюдатель счел бы, что перед ним самая красивая в мире четырнадцатилетняя девочка, но Падилья полагал, что красота – это еще и душа. А Каролина – и внутри и снаружи – была самым прекрасным, что ему довелось повидать в жизни.
– Привет, папочка, ты сегодня рано.
– Привет, сердечко мое. – Может, из-за нервов, но пару секунд спустя он осознал, что слегка переборщил с приветствием: облапил ее своими ручищами и поцеловал в макушку, мешая рисовать.
– А что случилось? – немедленно спросила Каролина, не переставая улыбаться, но с сомнением в голосе. – Что-то на работе не так?
– Да нет, все в порядке. Просто очень рад тебя видеть.
Он никогда не говорил о своей работе. Даже Ребека знала далеко не все – только то, что ее муж руководит отделом полиции, специализирующимся на создании психологических профилей преступников. Мир наживок был неким полем высокого напряжения, которое он держал вдали от семейного очага.
«Нет, ничего, со мной – ничего, – думал он, обнимая дочь. – Сегодня мы похоронили одну наживку, и из-за этого ты нервничаешь. Но с этим уж ничего не поделаешь». Да, пойти на то, чтобы Виктор Женс сделал с Клаудией Кабильдо то, что он сделал, было ошибкой. Ну и что с того? Алварес тоже дал добро, хоть и изображал, что умывает руки. И если бы этот идиот выбрал другое место, чтобы удавиться, вся эта история не лежала бы теперь на столе у Сесеньи. Тем не менее даже сейчас никакой особой проблемы с этим не возникло. Ольга права: нынешнее правительство знало о том, что случилось с Клаудией, и все это приняло. Единственное, чего он хотел, – закрыть тему. А что касается Дианы, ею займутся: заткнут рот деньгами, как обычно и делается, или надавят на нее при помощи Мигеля Ларедо. И никому не интересно воскрешать мертвецов – лучше в данном случае и не скажешь.
«Успокойся. Все в порядке. Несколько вопросов требуют своего решения, только и всего…»
– Я тоже рада тебя видеть, папочка, – сказала Каролина, бодрая, как всегда. – Что ты об этом скажешь? – Она указала на рисунок, и Падилья разомкнул объятия, продолжая склоняться к ее плечу, время от времени целуя дочь в свежую щечку, пока разглядывал ее работу.
– Гениально, – одобрил он. – Вот только ангел слишком серьезный.
– Это потому, что он ангел. Он не может ни улыбаться, ни плакать. Я назову эту картину «Воскрешение».
– У тебя замечательно получилось, моя дорогая.
Падилья задумчиво смотрел на фигуру в длинном белом балахоне с поднятыми к небу руками и расправленными крыльями, парящую над морем. Он с горечью отметил, что Каролина в своих работах всегда изображает водное пространство – море, озеро… Как будто пытается таким способом избыть воспоминание о своем несчастье – о том, как в шесть лет она самым глупым образом поскользнулась, упала, ударившись о бортик бассейна в школе, и сломала позвоночник. Тогда Падилья и встал во главе Криминальной психологической службы, он почувствовал в себе достаточно сил и хладнокровия, чтобы жертвовать девушкой подчас не старше своей дочери, отправляя ее охотиться за монстром. Наживки есть наживки, и работают они, черт возьми, как раз для того, чтобы другие юноши и девушки могли жить спокойно. Таково его убеждение, и он верил, что так всегда и думал, а несчастный случай с дочкой никак на него не повлиял.
Он все еще смотрел на картину. «Воскрешение», – подумал он.
Каролина что-то ему говорила:
– …нарисовать Таису, но потом я решила оставить так…
– Кого?
Она тяжело вздохнула, отчасти притворно:
– Папа, когда ты меня не слушаешь, я тебя просто ненавижу.
– Извини.
– Я говорила, что думала еще нарисовать Таису в руках ангела, но потом не стала. Ты помнишь, кто это? Таиса, жена царя[63] из книжки, которую ты мне дал…
Он наконец вспомнил. Это был его подарок Каролине – сказочное переложение нескольких драм Шекспира, среди которых был и «Перикл». Одна из последних шекспировских пьес, и в ней с избытком – приключения, магия и любовь. Женс находит в ней ключи к филии Падильи – филии Прошения, – в производящей неизгладимое впечатление сцене встречи героя и его дочери. Но Падилья ни за что не рассказал бы об этом Каролине.
– У тебя и так очень хорошо получилось, – сказал он, старательно скрывая от нее неприятное чувство, возникшее при воспоминании об этом старом пройдохе. – Вовсе не обязательно что-то еще добавлять…
– Папа, а я знаю, что с тобой такое.
Серьезный тон дочери вновь заставил его взглянуть ей в лицо. За окном в саду Пират, их золотистый ретривер, облаивал прохожих из-за завесы дождя.
– Это из-за моего праздника сегодня вечером, так? Я слышала, как вы с Алваро спорили, а я на самом деле совсем не хочу, чтобы он меня отвозил, не хочу, чтобы он из-за меня сердился…
Падилья собирался что-то ответить, когда зазвонил телефон. Послышался голос Алваро: «Папа, телефон!» Он еще раз поцеловал дочку и пошел к дверям.
– Мы еще поговорим, – сказал он, удаляясь, – но ты обязательно будешь сегодня на школьном празднике вместе с одноклассниками, Карола, кто бы тебя туда ни отвез. Уверен, ты очень хорошо проведешь время.
Дочка согласно кивнула. В отличие от Алваро, она никогда не спорила. Возможно, по той причине, что (так говорил ее брат) «всегда получала что хотела». С этой радостной мыслью в голове и чувствуя себя уже лучше, Падилья направился в спальню, где стоял ближайший телефон. «Незнакомый номер», – подумал он, глядя на монитор.
– Да, – произнес он.
После секундного замешательства Падилья повесил трубку. Он ничего не услышал. Наверняка кто-то ошибся номером.
Он поднялся и прямо из спальни прошел в кабинет.
«Ничего не случилось. Просто надо сделать еще кое-какие дела…» Он включил стоявший на столе компьютер и открыл электронную почту. Послал файл по конкретному адресу и закрыл почтовую программу. Потом вернулся в спальню, насвистывая песенку, и припомнил, что портфель с бумагами оставил в машине. Но у него еще будет время сходить за ним. Много времени. Сначала он должен испытать наслаждение. И он склонился над монитором телефона.
– Телефоны, – произнес он. – Отключить.
Забавляясь зрелищем, он смотрел, как один за другим гаснут огоньки всех каналов. Потом прошел в гостиную, где Алваро все еще записывал свои видео, так что музыка гремела по всему дому, и отключил датчики системы безопасности. Заколебался, глядя на сына, но потом подумал: «Нет, пока что – нет. Первое есть первое…»
Он вошел в кухню. Амелия, их домработница, прищурив глаза, тыкала пальчиками в сенсорную панель микроволновки. Падилья нагнулся за ее спиной, выдвинул ящик и вынул оттуда продолговатый предмет. И повернулся к девушке.
«Первое всегда раньше второго…»
Он оставил Амелию на полу в алой луже, в которой запачкались его туфли и подмок низ брюк, и вернулся в гостиную через другую дверь. Сын по-прежнему стоял к нему спиной, занятый своей музыкой. Падилья мягкими, но решительными шагами подошел к нему, сжимая в руке обагренный нож для разрезания мяса.
Каролина Падилья подправляла свою картину, когда ее заставил вздрогнуть звук – будто где-то в доме что-то разбилось.
– Что случилось? – воскликнула она.
Никто не ответил. Может, ее не услышали, потому что дверь в комнату закрыта, а в гостиной все еще звучит музыка, которую записывает брат. Пират во дворе лает, как никогда, да и дождь идет.
И она решила, никакой трагедии нет. «Амелия, наверное, опять за свое: еще одна безделушка отправится в мусор», – подумала она, улыбнувшись, и вернулась к своей картине. Но решила, что устала рисовать, опустила кисточку в стаканчик с водой, где уже стояли другие, и вытерла руки. Она была очень аккуратной, чистюлей, ей нравилось убирать вещи на свое место, и комната ее выглядела безукоризненно. Несколько лет назад брат, когда родители распекали его за бардак, пошутил: «Карола ничего не разбрасывает, потому что не двигается». Вспыхнул грандиозный скандал, был крик и даже мамины слезы. Но девочку жестокая фраза брата нисколько не задела. Алваро она очень любила и знала, что их чувства взаимны. «Это потому, что он мальчик, – думала она. – А мальчики всегда такие дураки». И конечно, она не станет портить ему праздник.
Девочка взглянула на часы и подумала, что с минуты на минуту в дверь постучит Амелия, чтобы сказать, что обед на столе. Ее всегда звали, а брата – нет. Каролина терпеть не могла, когда родители обращались с ней «по-особенному». Иногда ей казалось, что мама и отец больше ухаживают не за ней, а за ее инвалидностью: они тратили время и деньги, чтобы обеспечить ей дорогостоящие реабилитационные занятия или обременительные и бесполезные сеансы терапии с использованием так называемых стволовых клеток. Почему они не хотят принять ее такой, какая она есть? Это вызывало досаду, но досаду вызывало и собственное неумение сказать им об этом так, чтобы не обидеть.
Девочке показалось, что кто-то приближается к ее двери. Амелия, конечно. Но, кем бы он ни был, войти он не решался. И она подумала: не братик ли надумал сыграть с ней какую-нибудь шутку?
– А я тебя слышу, – сказала она громко, улыбаясь.
Никто не ответил. Она уже собралась нажать на кнопки управления креслом, чтобы подъехать к двери, когда внезапно что-то привлекло ее внимание в картине.
Папа был прав: ангел слишком серьезен. Она нарисовала его с такими распростертыми руками, что он, казалось, уже никого не приглашает в свои объятия, а хочет сцапать какую-нибудь невинную жертву. Пальцы у него – как когти.
Ты моя, Каролина.
Он был плохо сделан, совсем нереальный. Только выражение его лица оставалось привлекательным, и Каролине вдруг пришло в голову, что, несмотря на всю серьезность, в его глазах – блеск какого-то…
Внезапно дверь рывком распахнулась; та фигура, что, пошатываясь, вошла в комнату, тоже была плохо сделана и тоже была нереальной. Он, казалось, появился из фильма ужасов – весь в кровище, с ножом в руке. Каролина даже не закричала. Она просто-напросто в это не поверила. Одна когтистая лапа схватила ее за оранжевую маечку, и она почувствовала себя вздернутой вверх. Ее бесполезные ноги задергались в воздухе, как щупальца кальмара, а потом она снова упала на спину, на свою кровать. Больно ей не было – она будто отключилась от того, что происходило, глядя на все, словно на фрагмент собственной картины. И когда он набросился на нее, давя своим рычанием, запахом свежей крови и звериными жестами, и потянул вниз ее черные лосины, пытаясь их снять, Каролина поняла, что это не ее отец, он просто не мог им быть, – это был ангел.
Она поняла это, потому что разглядела в глазах ангела то же самое, что видела теперь, так близко, в глазах этого мужчины.
Наслаждение.
30
Весь остаток того дня я задавала себе одни и те же вопросы. Откуда у меня ощущение, что Женс скрывает что-то? Может, ему все же известно, где Вера? А что следует думать о похищении Элисы? Связаны ли оба исчезновения с проектом «Ренар»?
Я решила поговорить с Падильей, но в отделе мне сказали, что он взял выходной, а у меня не было номера ни его мобильника, ни домашнего телефона. Единственной надеждой оставался Мигель. Я послала ему эсэмэску. К вечеру, когда за окном уже темнело, зазвонил мой телефон. Это был Мигель. Он казался довольным, извинился, что не позвонил раньше, и предложил нечто необычное: встретиться в мексиканском ресторане на улице Принсеса, который нравился нам обоим. У меня не было желания ужинать в ресторане, но Мигель принялся уверять, что хочет лишь найти какое-нибудь приятное место, где можно спокойно поговорить. В конце концов я согласилась, надела куртку и, проехав по холодному, мокнущему под дождем Мадриду, оказалась в ресторане раньше его. Должна признать, что атмосфера заведения, достаточно многолюдного в канун праздника, воспоминания о других наших встречах в этом зале и первые глотки «Маргариты» меня таки расшевелили. Пока я изучала меню, снабженное с фотографиями блюд, передо мной выросла тень, что побудило меня поднять взгляд. Это был он.
– Привет, солнышко.
– Привет.
Выглядит как на картинке: черная атласная рубашка, белые как снег волнистые волосы. Его улыбка, обрамленная тщательно подстриженной бородкой, согрела меня лучше, чем коктейль. И внезапно я поняла, что идея встретиться здесь была хорошей.
Мигель быстро сделал заказ, а потом приготовился слушать. Нас усадили за столик возле кухни, откуда доносились голоса официантов, но зато мы были далеко от веселившихся гостей. Впрочем, в любом случае весь мир перестал для меня существовать, пока я рассказывала о встрече с Женсом и о подозрениях относительно исчезновения Веры. Мигель ласково поглаживал мою забинтованную руку, и я вспомнила о таком же жесте Марио Валье в другом ресторане, но, кажется, уже несколько веков назад. Когда я договорила, он тяжело вздохнул:
– Хочешь знать, что я об этом думаю?
– Да, как будто мы с тобой – в «комнате правды», – сказала я.
– Думаю, что ты загоняешь себя в тупик, солнышко.
– Пусть так. А теперь ответь мне на вопрос: ты знал правду о проекте «Ренар»?
– Нет.
Я смотрела прямо в его прекрасные глаза и видела только искренность – как два зеркала, отражающие мою собственную.
– Ничего не знал, клянусь. Но буду с тобой откровенен: меня это ничуть не удивляет. Эксперименты с наживками проводятся во всем мире… Подожди, дай сказать… Если ты спросишь, как я отношусь к этому с точки зрения этики, я скажу, что это достойно осуждения. Идет? Теперь дальше. Думаю ли я, что нужно устраивать скандал, звать журналистов, писать заявление? Нет, не думаю. А еще я не думаю, что случившееся с бедной Клаудией имеет хоть какое-то отношение к исчезновению твоей сестры… Сфальсифицированные данные компьютеров? Извини меня, но слово какого-то психа, причем в состоянии, когда его вот-вот уничтожат, не кажется мне заслуживающим доверия…
Меня так обескуражили его слова, что я ничего не ответила. Потом сказала:
– Мигель, профессор Женс устроил фальшивое похищение нашего товарища, Клаудии, целый месяц подвергал ее пыткам в целях какого-то научного эксперимента. И это – всего лишь «достойно осуждения»?
– Все мы прошли через жестокие испытания во время нашего…
– Но это не было гребаным испытанием!
Несколько голов повернулось в нашу сторону. С какой-то садистской радостью я подумала, что среди них, быть может, есть сотрудники секретной службы и на следующий день газеты выйдут с заголовками: «Две наживки арестованы за громкое публичное обсуждение конфиденциальных вопросов за блюдом фасоли с гуакамоле»[64]. Мой взгляд остановился на девушке, которая с удивлением смотрела на меня, в то же время примеряя что-то вроде браслета, и мне вспомнилось, что в этом ресторане принято в конце ужина одаривать женщин побрякушками, предположительно изготовленными в традициях ацтеков. Девушка отвела взгляд.
К счастью, Мигель хорошо меня знал и не стал отвечать на резкость фразочками типа «не кричи, пожалуйста», «на нас смотрят» или другой глупостью в том же роде, что возымело бы обратное действие. Он ограничился тем, что выдержал паузу, намазывая очередную кукурузную лепешку гуакамоле. Затем обтер губы салфеткой и отхлебнул глоток вина.
– Диана, солнышко, в том, что делают наживки, вообще нет ничего нормального, так?
– Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы ты об этом напоминал.
– Работа наша основана на вымысле, игре, обмане…
– Но ведь есть и кое-что настоящее. Наши привязанности – настоящие. Наше с тобой – настоящее.
– Да, наше – настоящее, – согласился он, глядя на меня.
– И наше человеческое достоинство – тоже.
– Прошу прощения, но разве ты думала о человеческом достоинстве, когда готовила себя для Наблюдателя? Разве ты не хотела отдаться ему?
И вдруг я ощутила под его напускным спокойствием другие эмоции – он выплескивал на меня свою обиду:
– Та девушка, которую я люблю, которая решила бросить работу и вместе со мной начать новую жизнь? И вдруг – что она делает? Бегом бежит на бойню и кладет голову на плаху. – Он покачал головой. – Я всего лишь хочу сказать тебе: то, что мы делаем, само по себе ненормально, но мы это принимаем. И нам даже нравится. А когда перестает нравиться, как это случилось со мной, тогда – прости-прощай. Мы уходим. И никого силой не держат.
– Клаудию держали.
– Нет, ее всего лишь обманули. Она была готова отдаться Ренару, но Женс выбрал ее для чего-то большего, чем просто захват одного сумасшедшего, – чтобы она попыталась открыть, как захватить их всех. И если кто-то и мог дать Женсу маску Йорика, так это она. Клаудия была одной из лучших наживок, и не только в нашей стране, но и во всей Европе. Такой же, как ты.
Его последняя фраза повисла в воздухе, подобно резкому запаху. Мы взглянули друг на друга.
– Но Женс выбрал ее, – сказала я.
– Чему я только радуюсь от всего сердца.
Неприкрытая и такая жуткая правда, открывшаяся в его словах, лишила меня дара речи. Мигель прибавил:
– Мне очень жаль Клаудию. Я чувствую к ней сострадание, какое мог бы чувствовать к солдату, которого рядом со мной в бою сразила шальная пуля. Сострадание… но и облегчение – от сознания того, что сраженный солдат – не ты. «Слава богу, – говорю я, – слава богу, что это была она, а не ты». – Он пожал плечами. – Вот такая моя любовь – насквозь эгоистичная.
Принесли второе, но я не двигалась, не поднимала глаз от скатерти.
– Кстати, хотел сказать тебе еще кое-что, – продолжил Мигель совсем другим тоном – тем, которым обычно рассказывают анекдоты. – Поиски Веры зашли в тупик, и теперь рассматривается возможность, что она просто-напросто уехала.
Перестав что бы то ни было понимать, я подняла глаза. Мигель пояснил, что Вера воспользовалась личными данными одного из своих прошлых прикрытий для покупки билета на самолет в Лондон. Даты совпали, и уже начался обзвон крупных тренеров наживок этой страны, чтобы выяснить, нет ли ее у кого-то из них.
– Очень характерно для твоей сестрички, – прибавил он, – обиделась на тебя и решила всех нас оставить с носом…
– Боже мой! – Я ощущала почти физическое облегчение. – Боже, боже мой…
– Я очень хотел, чтобы хорошую новость ты услышала именно от меня.
Я сжала его руку и решила его не обманывать:
– Мне гораздо лучше. Моя любовь тоже, должно быть, эгоистка…
Мигель склонился ко мне и поцеловал в лоб, пока я едва сдерживала слезы, а потом добавил нежным шепотом, но так отчетливо, словно нас окружала тишина леса:
– Очень хочу, чтобы ты поняла, солнышко: что бы ты ни выбрала, какое бы решение ни приняла, я буду на твоей стороне. И если ты собираешься поднять скандал до небес в связи с историей Клаудии – вперед, мы сделаем это вместе.
– Я люблю тебя, – сказала я.
– И я люблю тебя. Но наши «такос-де-Халиско»[65] уже остывают.
Начиная с этого момента вечер полностью изменил свое направление. И не то чтобы я сразу поверила, что проблема с Верой решается так просто, но само допущение, что все могло быть именно так, позволило мне расслабиться. Кроме того, эта версия показалась мне вполне правдоподобной: сестра не раз выражала желание порепетировать в театрах Скотленд-Ярда. Я тут же припомнила, что один из ее проектов заключался в том, чтобы брать уроки у Софи Атанассио, одного из самых больших специалистов по маскам бессознательных отношений. Моя память услужливо подбросила живую картинку: Вера в «Хранителях», из одежды на ней – одни перчатки, она отрабатывает технику «Краска стыда» для филии Переговоров и говорит: «Думаю, я знаю, почему она не срабатывает на этой стадии. Как бы мне хотелось рассказать об этом профессору Атанассио».
«О боже мой, боже мой, Вера, – думала я, не в силах сдержать улыбку. – Черт тебя побери! Ты у меня попляшешь, когда вернешься… Уж я тебе покажу, где раки зимуют…»
Ужин получился просто великолепным. И еще более великолепным стал момент, когда, отвечая официанту, порекомендовавшему в качестве десерта клубничный пирог, Мигель сказал, глядя на меня:
– А вот десертом мне хотелось бы полакомиться не здесь.
Даже официант расхохотался вместе с нами. Мигеля отличала та счастливая манера говорить, которая нравилась абсолютно всем, и я тотчас поняла, что провести с ним ночь – это как раз то, чего я хочу после жуткого дня. Он предложил отправиться ко мне, и мы поехали по отдельности, потому что оба были на своих машинах, кроме того, утром Мигелю придется рано уехать – в «Хранители». Это обстоятельство подарило мне время спокойно подумать, пока я выбирала маршрут движения по широким центральным проспектам и, поглядывая в зеркало, раз за разом убеждалась, по свету фар его машины, что он послушно следует за мной. Временами на глаза попадались компании гуляк в маскарадных костюмах, словно Хеллоуин стал в Мадриде вторым карнавалом.
Думала я и о том, что же мне делать с историей Клаудии, но ничего в голову не приходило. Разумеется, это был бы далеко не первый случай, когда кто-то из мира наживок выступает с заявлением. Однако конкретных последствий подобные заявления не имели, причем по двум причинам. Во-первых, все мы были заинтересованы в том, чтобы молчать – так же, как мы замалчивали и наши общие грехи. Все знали, что мусор имеется, но при этом хорошо знали и о том, что самое лучшее – собрать его в пластиковые пакеты и отправить на переработку.
Существовала и вторая причина: псином – слишком сложная штука для массового сознания. Даже психологам, не специализирующимся в этой области, таким как Марио Валье, трудно принять все последствия. То, что наркотики вызывают галлюцинации, – это одно, но совсем другое – принять, что некое движение, интонация или мимолетный взгляд на какую-то часть тела способен свести тебя с ума. Любая новость, которая будет намекать на нечто столь же странное, получит меньше шансов привлечь к себе внимание, чем заявление о том, что ЦРУ скрывает доказательства визита к нам инопланетян.
А что будет, если, несмотря на все эти соображения, я решусь заговорить? Женс официально мертв, а вернуть жизнь Клаудии скандал не поможет. Я превращусь в прокаженную, в доносчицу, и это как минимум повредит карьере Мигеля, не говоря уж о наших судьбах или судьбе Веры. Мы, наживки, – создания деликатные, мы принадлежим, если можно так выразиться, к «гениталиям» Системы, жизненно важные точки которой могут быть задеты с большей легкостью, чем органы чувств: возможно, тебе удастся отправить в тюрьму министра, вынудить президента подать в отставку или даже распустить правительство, но не трогай Систему за яйца.
Доехала я до дома, все еще бултыхаясь в пучине сомнений, и сочла за лучшее оставить свои раздумья вместе с машиной в паркинге. Единственное, что казалось важным в тот момент, – побыть с Мигелем. Я чувствовала себя расслабленной впервые с тех пор, как исчезла моя сестра, и не желала упустить ни одной секунды. Безо всяких там преамбул мы перешли от взаимных ласк сразу в постель, и Мигель взял меня, предоставив возможность любоваться его ставшим более привлекательным из-за возбужденного дыхания лицом и ласкать его широкие плечи и мускулистые руки. И я чувствовала, как с каждым поцелуем рассеиваются наши разногласия и остаются только добрые воспоминания, и я стонала, двигаясь под его телом на своей узенькой кровати и желая только одного – чтобы это никогда не кончалось. И когда это кончилось, все равно казалось, что еще нет, что все продолжается, потому что мы все еще были возбуждены и обоим думалось, что вся эта ночь – наша и потому мы вполне можем себе позволить паузу. И хотя я собиралась уговорить его отправиться в душ вдвоем, мне понравилось, когда он сказал: «Иди сначала ты, чуток передохну». И я, одна, смеялась под душем, думая, что люблю его, хочу жить с ним, и продолжала думать о том же, когда вышла из душа и вытиралась в наполненной паром ванной, и все еще о том же, когда почувствовала холодное дуло пистолета у своего затылка и увидела в зеркале, с которого постепенно исчезала испарина, Мигеля Ларедо, старательно держащего меня на мушке и готового выстрелить.
– Не двигайся, Диана. Ни одного жеста.
Я, разумеется, не двигалась. Я и не смогла бы, даже и без всяких угроз. Я просто застыла на месте с полотенцем в руке и взъерошенными мокрыми волосами.
– Теперь я хочу, чтобы ты обмотала голову полотенцем.
– Полотенцем, – по-идиотски пробормотала я.
– Да. Голову. И не говори ни слова. Сделай это быстро, не оборачиваясь.
Мне захотелось рассмеяться, уж и не знаю почему. Может, потому, что все это выглядело очень смешным. Мы только что занимались любовью, целовались, шептали друг другу на ушко всякие нежности. Он оставался все тем же Мигелем Ларедо, и, как бы резко ни звучал его голос, это был тот же голос, который успокаивал меня, когда я вдруг просыпалась по ночам из-за приснившегося кошмара.
– На голову, Диана, – повторил он. – Полотенце. Или я буду стрелять.
Я повиновалась. Мир вдруг стал влажным и запа́х гелем. Тогда я ощутила у себя на талии его руку, он потянул меня за собой, и я, как слепая балерина, закрутилась в жестоком вальсе. Моя босая нога наткнулась на его туфлю, и тут до меня дошло, что, пока я мылась, он полностью оделся. К счастью, квартирка у меня крошечная и между комнатами в ней нет коридоров, только двери.
Когда мы оказались в спальне, он снова выдал мне инструкции: встать на колени перед кроватью, руки на голову, полотенце не снимать. Я так и сделала. Просто призрак какой-то из душа. Я вспомнила нашу постановку «Цимбелина» в поместье – там мое тело тоже прикрывала только простыня.
И снова дуло приставлено к моему виску. И его голос – прямо в ухо. Произнося свою речь, он ухватил пальцами мое лицо, впрочем не касаясь кожи.
– Я очень хорошо знаю, на что ты способна, Диана. И ты знаешь, что я знаю. Оба мы профессионалы. Ты можешь подцепить меня какой-нибудь быстрой маской, но предупреждаю, что ты должна быть очень быстрой. Если ты попытаешься, но не успеешь, я неизбежно выстрелю. Поверь, это полотенце защищает скорее тебя, чем меня. Поняла? Скажи «да» или «нет».
Я пробормотала быстрое и безразличное «да». Конечно, я понимала: филия Мигеля – Переговоры, и его слабое место – отношения между наживкой и ее добычей. Маска потребовала бы, чтобы мое тело, и в первую очередь лицо, было на виду, так что полотенце было мерой предосторожности на тот случай, если бы я собралась подцепить его на крючок. Это обстоятельство навело на мысль, что все очень серьезно. Мне стало страшно.
Его пальцы выпустили мое лицо, но пистолет остался приставленным к виску. Я замерла, дыша под полотенцем выдыхаемым воздухом. Впереди я ничего не видела, кроме пробивавшегося сквозь ткань света ночника на тумбочке. Опустив глаза, различала свою вздымающуюся грудь и бедра. Руки были подняты, как он и приказывал, и забинтованная болела.
Внезапно Мигель вновь заговорил:
– А теперь скажи: что ты делала сегодня после похорон?
– Заметила Виктора Женса, и мы какое-то время разговаривали… Ты же знаешь… Потом приехала домой. Звонила тебе несколько раз, но ты не отвечал. Потом позвонил ты…
– И все это время ты оставалась здесь?
– Да.
– Можешь это доказать?
– Доказать? – выдохнула я. – Нет… Не знаю… Я была одна… Да что происходит, Мигель?..
Пауза была такой долгой, что я подумала было, что Мигель ушел. А потом снова услышала его голос – монотонный, словно читающий молитву:
– Падилья погиб. Сегодня днем, после возвращения с похорон, у себя дома. Взял кухонный нож, перерезал горло домработнице и старшему сыну и изнасиловал свою четырнадцатилетнюю дочь-инвалида, прежде чем убить и ее. Потом вырвал себе глаза и кончил тем, что повесился. Жены его дома не было, что и спасло ее от гибели.
Я вообразила себе эту жуткую сцену, и волосы встали дыбом.
– Он что… он сошел с ума? – прошептала я.
– Его свели с ума.
– Что?
– Уверен, ты хорошо понимаешь, что я хочу сказать, – ответил он.
Все тепло от недавно принятого душа мгновенно испарилось с поверхности моего тела. Ощущения были такие, словно кто-то распахнул сзади дверцу морозильника.
– Разумеется, цифровой анализ займет несколько дней, – продолжил Мигель, – но осмотр места происшествия не оставляет никаких сомнений: им овладели. Кроме того, уже есть результаты квантового анализа предполагаемого «самоубийства» Алвареса, сам Падилья сегодня их и отправил нам. Сама можешь догадаться: микропараметры выражения его лица, способа раскладывать предметы и одежду на полу, узла веревки…
Я знала, что это значит. И постаралась говорить спокойно:
– Мигель, я ничего с ними не делала.
– Именно ты нашла тело Алвареса в поместье, – перебил Мигель. – И не стоит напоминать тебе об угрозах, которые ты адресовала Падилье сегодня в крематории. Если и есть среди нас наживка, способная овладеть кем-то с подобной силой, то это ты…
– Но почему я? Это же абсурд какой-то!
– Конечно, это не было обычной маской, – продолжил он, – и даже необычной… Мы пока не знаем, как ты это сделала, но ведь и с Наблюдателем ты использовала новаторскую технику, разве не так?
– Ничто из того, что ты сейчас говоришь, ничего не доказывает!
– Сними с головы полотенце, – внезапно приказал он. – Только с головы, медленно.
Этот неожиданный приказ меня напугал. Чего он хочет? Дрожащими руками я приподняла края полотенца и спустила его на плечи. Свет ночника ударил прямо в глаза, и я заморгала, но это не помешало мне впиться взглядом в то, что лежало передо мной на постели и на что указывал Мигель. Меня замутило от чистого, беспримесного ужаса.
– Это находилось в твоем шкафу, – сказал он.
Старая кукла – грязная, без одежды, глаз и волос. И без рук. Шея обвязана веревочкой. Вокруг на полу разбросана моя одежда, бижутерия, обувь. Мигель стоит возле плетеного стула из дома моих родителей и целится в меня. На его лице – странная смесь страха и напряжения.
– Не смотри на меня, – процедил он сквозь зубы.
– И что все это значит? – спросила я, отводя взгляд.
– Рядом с трупом Алвареса висели три куклы, помнишь? После того как Падилья вырезал свою семью, он подвесил к потолку похожую куклу. – Каждое произнесенное слово звучало с необычной для Мигеля жесткостью, дуло пистолета было направлено на меня. – А эту я только что нашел в дальнем углу твоего шкафа, Диана… Для кого ты ее припасла? Кто должен был стать твоей третьей жертвой?
Вдруг я поняла, что куски этого кошмара связаны между собой. Недоставало нескольких фрагментов, но я уже улавливала общий принцип.
Я поняла, что мы не ужинали в ресторане, не признавались в любви, не наслаждались сексом в постели – мы играли роли в его театре. Как в той сцене из «Цимбелина», где Якимо, вылезши из сундука в комнате мирно спящей Имогены, пытается насобирать каких-нибудь липовых доказательств того, что он с ней переспал, так и Мигель обхаживал, ублажал меня и за ужином, и в постели тщательно продуманными жестами моей собственной филии, филии Труда, с единственной целью – проникнуть в мой дом и обыскать его. Женс говорил, что в этой сцене из одного из последних творений Шекспира явлен символ Переговоров – как и в обезглавливании героя, облаченного в чужие одежды, или в травестизме Имогены. Однако в моем случае сцена с сундуком вполне годилась и на роль символа обманутого доверия.
Но предательство – в моем случае – было двойным. Я попыталась это объяснить.
– Мне это подбросили, – сказала я со всем спокойствием, на которое хватило сил, не глядя на него и не двигаясь, чтобы дать понять, что в мои намерения не входит его атаковать.
– Подбросили… – эхом повторил он.
– Кукла не моя, кто-то специально положил ее в шкаф, чтобы подозрение пало на меня.
Я услышала, как он прищелкнул языком. А когда заговорил, в голосе звучала печаль:
– Диана, найдя куклу, я проверил все коды доступа в твою квартиру. Только ты входила сюда на протяжении месяцев… Пожалуйста, выслушай меня. Не усугубляй ситуацию, она и так очень тяжелая. Целый вечер, с того момента, как полиция обнаружила тело Падильи, я старался уломать Ольгу, чтобы она не арестовала тебя, чтобы дала мне возможность найти какую-никакую улику… Мы даже не можем полагаться на то, во что ты сама веришь, ты что, не понимаешь? – В его голосе прорвалась такая боль, что я содрогнулась. – Если ты упала в колодец, ты уже не отвечаешь за свои действия…
Так вот, значит, что они думают: что исчезновение Веры, мои усилия с Наблюдателем или то, что я открыла правду по делу Ренара, свели меня с ума, что на нашем языке называется «упасть в колодец». Разумеется, смерти Алвареса и Падильи, да еще эта ужасающая и издевательская деталь с подвешенными куклами в духе никогда не существовавшего Ренара, выглядят плодом больного рассудка. Но кто за этим стоит? На одно мгновение, увидев куклу на своей кровати и выслушав Мигеля, я ощутила головокружение: неужели правда это совершила я, сама того не осознавая?
– Сейчас я сделаю один звонок. Накрой снова голову полотенцем, пожалуйста. – Краем глаза я заметила, что он собирается использовать наручный мобильник на левом запястье. Я уже обратила на него внимание за ужином.
Одно было совершенно ясно: если Мигель сейчас позвонит – Ольге или в полицию, у меня не останется ни единого шанса. Обвиненные в преступлениях наживки просто исчезают. Мы слишком опасны, чтобы нас можно было отправить в обычную тюрьму. Суд состоится, это без вопросов, но не раньше, чем будут приняты все необходимые меры безопасности, которые сделают меня ни на что не годной и беззащитной. Habeas corpus – положение о неприкосновенности личности – неприменимо, если обвиняемая являет собой бомбу с испорченным часовым механизмом.
– Мигель, пожалуйста, подожди…
– Делай, что я сказал.
Я постаралась быстро напрячь свои извилины и вдруг увидела шанс.
– Виктор Женс, – сказала я.
– Диана, накрой голову, – повторил он, хотя я заметила, что мои слова его несколько смутили.
– Мигель, послушай, это мог быть Женс… – Внезапно эта мысль показалась просто очевидной. – Он продолжает использовать наживок, сегодня я в этом убедилась! Может, это опять его комбинация, очередной эксперимент!.. Это должен быть Женс! Пожалуйста, пошли кого-нибудь к нему домой! Я знаю, где он живет!
То, что я услышала в ответ, отозвалось внутри звоном разбитой тарелки:
– Наши люди уже побывали у него, Диана. Сегодня вечером, после гибели Падильи, наш отдел бросился к Женсу. Но его не застали. Он спешно собрался и позвонил шоферу и домработнице, сообщил, что некоторое время будет отсутствовать. Куда он отправляется, не сказал. Его поиски продолжаются.
– Это говорит о том, что ему есть что скрывать!
– Или о том, что он боится кончить так же, как Алварес и Падилья, – последовал резонный ответ. – В любом случае его найдут, Диана, можешь не беспокоиться. А теперь повторяю в последний раз: накрой голову. Не вынуждай меня применить вот это, пожалуйста. Только не к тебе, – прибавил он.
Это полотенце вдруг стало для меня последним, финальным занавесом. Когда оно опустится мне на голову, все будет кончено. Но я допускала и то, что, если не послушаюсь, Мигель выстрелит. Он может выстрелить даже в том случае, если я буду играть честно. Я – голая, стою на коленях, голова открыта: малейшее движение – взгляд, дрожание губ, простое изменение позы – все это может быть истолковано превратно. Какая разница, что я говорю правду? Всего час назад Мигель говорил, что любит меня, и это, быть может, отчасти даже правда, но в то же самое время он играл роль. Правда в мире наживок – всего лишь еще один текст в великом всемирном театре.
Я перевела взгляд на пистолет. Он был разборный, как игрушки лего, – из тех, что можно легко спрятать в кармане брюк. Мигель наверняка достал составные части, пока я была в душе, и в пять секунд собрал. Глушитель тоже есть. Пуля в руку или в ногу приведет меня в негодность за гораздо меньшее время, чем то, которое понадобится, чтобы свести его с ума наслаждением. Палец его лежит на спусковом крючке, и он, понятное дело, нервничает. Я знала, что он выстрелит.
Я просчитала возможность обмануть его, сделать, несмотря ни на что, быструю маску, но оказалось, что просто не могу применить ее к Мигелю. Я предпочла бы что угодно, но только не это.
И я стала приподнимать полотенце.
Одновременно Мигель поднимал левую руку с браслетом, чтобы позвонить.
Вдруг я вспомнила.
Браслет.
– Подожди, – зашептала я, – на нем медицинский браслет.
– О чем ты?
– Виктор Женс. Он носит медицинский браслет с контролем состояния онлайн. – Я на него не смотрела, но, судя по молчанию, сделала вывод, что этого они не знали.
– Он включен? – спросил он, помолчав.
– Насколько мне известно, да. Но даже если его выключить, браслет все равно сгодится, если он еще на руке.
Современные клинические браслеты содержат все необходимые биологические данные о пациенте – они похожи на отпечатки пальцев, но с тем преимуществом, что информацию можно считать на расстоянии. И где бы он ни находился, если браслет еще на руке Женса, для компьютеров он так же хорошо различим, как ураган для спутника.
Мигель опустил руку с телефоном, но по-прежнему держал меня под прицелом.
– Диана, ну как можно тебе верить?
– Я всего лишь прошу, чтобы ты сначала нашел Женса… Можешь позвонить Ольге и сказать, что я только что сообщила тебе о браслете… Мигель, я знаю, что ключ ко всему этому – в руках Женса… Ну сделай это, умоляю тебя… А потом можешь доносить на меня, если захочешь.
Повисла пауза. Я накрыла голову полотенцем и улеглась на полу, ожидая развития событий. Ничего другого не оставалось: начиная с этого момента все было в руках Мигеля.
– Вот что мы сделаем, – сказал он наконец. – Я позвоню Ольге и скажу ей о браслете Женса. Если он у него на руке, мы тотчас установим, где он. Но я расскажу и о том, что нашел в твоем доме, Диана. Тот факт, что Женс сбежал, не означает, что ты невиновна.
Свойственное Мигелю чувство справедливости. Я приняла эти условия: альтернативы не было. Он приказал не двигаться, пока он будет говорить по телефону.
И в этот момент раздался очень знакомый звук.
– Может, Ольга? – предположил Мигель, прослушав два звонка моего домашнего телефона. – Ответь.
– Ответить, – дала я команду прямо с пола, даже не шевельнувшись.
Однако голос, зазвучавший в установленных в спальне динамиках, принадлежал не Ольге.
– Приветствую вас, Диана и Мигель… Узнаёте меня, ведь так? Я Виктор Женс… – Это был он, его нельзя было не узнать: эта интонация и спесивое кряканье, но к обычной спеси добавились жестокость и тяжелое дыхание, словно он охвачен яростью. – Я знаю, что вы вдвоем, я вас вижу и слышу все, что вы говорите… – Пауза. – Хорошая догадка относительно медицинского браслета, Диана, правда, я об этом не подумал, но теперь поздно избавляться от него… – Пауза. – Но поздно и просить о помощи. – Пауза. – Хочу видеть вас обоих, сейчас же. Я в поместье. Дорогу вы знаете… – Послышался хриплый смешок. – Должен предупредить, что держу под контролем все ваши звонки, Мигель, так что не вздумай никому ничего сообщать, или я очень рассержусь… И не думаю, что это понравится тебе, Диана… Хочешь знать почему?
Внезапно я услышала другой голос – тоскливый, страшный крик:
– Диана?.. Диана, помоги мне!
И прежде чем я смогла как-то отреагировать, голос Женса вновь заполнил комнату:
– Твоя сестра у меня.
31
Мне очень жаль.
– Это не твоя вина.
– С каждым разом это случается с наживками-ветеранами все чаще… Падение в колодец – я это имел в виду… Но я не верил, не верил по-настоящему, пока не нашел эту куклу в твоем шкафу… Я…
Произнося эти слова, Мигель склонялся к рулю. Мне пришла на память одна из техник маски Игры, в которой нужно именно так сгибаться, чтобы лучше были видны декорации. Но я понимала, что в тот момент единственное, чего хотел Мигель, – быть искренним.
– Все нормально, – сказала я.
Мне не хотелось душеспасительных разговоров. К тому же я действительно его понимала. Иногда и самой казалось, что я вот-вот упаду в этот колодец. Мы, наживки, играем с нашими эмоциями, нашим наслаждением, нашими потаенными правдами, пока граница между масками и тем, что под ними, не стирается. И то если под маской есть хоть что-то, а не всего лишь, как полагал Женс, очередные маски, которые, подобно геологическим стратам, скрывают под собой, в самой глубине, только магму наслаждения.
«Женс, – подумала я. – Теперь и он, кажется, свалился в колодец».
– Я хотел доверять тебе, Диана… – Мигель продолжал разматывать клубок своего никому не нужного раскаяния. – Хотел верить тебе, клянусь… Но моя работа, я должен делать то, что должен. И признаюсь тебе, это было самое трудное задание в моей жизни…
– Знаю.
Мне слишком хорошо была известна та почти фанатичная лояльность, с которой Мигель исполнял приказы. Именно это мне в нем не нравилось, именно оно более всего походило на мышление солдата, перенесшего лоботомию, которое Марио Валье приписывал всем нам. Но я не осуждала Мигеля: у всех были свои способы справляться со стыдом – его способом было подчинение. Чтобы играть свой спектакль, актеру Мигелю требовалось слепо выполнять все указания режиссера.
Мгновение я смотрела на него со своего места: прекрасное лицо, белоснежные шевелюра и бородка, словно у короля из детской книжки. Мне и в самом деле было не важно, что он подозревал меня. Фрейд сказал бы в этом случае, что я пытаюсь заместить себе утраченного отца. Женс сказал бы, что в первый раз, когда я увидела Мигеля, он сделал нечто такое или вокруг него произошло нечто такое, что подцепило мой псином на крючок. Да все равно. Чем бы там оно ни было, я звала это любовью. И спрашивала себя, возможно ли будет спасти наши отношения, когда этот кошмар закончится.
– Ты сделал ровно то, что должен был сделать, – сказала я. – И я благодарна тебе, что сейчас ты решил не просить о помощи…
– Мы не можем рисковать жизнью Веры. Этот ублюдок играет по-взрослому. Не знаю, как ему это удалось, но он, по-видимому, может подключаться к полицейским каналам связи. Если я им сообщу, он тут же об этом узнает.
Так оно и было. Мигель попытался позвонить Ольге, когда я уже оделась и мы спешно покинули квартиру и пошли за его машиной, но голос в трубке оказался голосом Женса. И он объявил, что не допустит еще одного подобного неподчинения его требованиям. И мы решили играть по его правилам.
Мир вокруг нас превратился в тьму кромешную – педаль газа Мигель утопил в пол. Приближался рассвет, и все, кто собирался в канун праздника выехать из города или, наоборот, въехать в него, это уже сделали. Мы почти в полном одиночестве двигались по автостраде, наши лица едва виднелись в свете фонарей или фар встречных машин. Скоро мы окажемся в «Призрачной зоне» – пустых, вечно зимних полях взрыва бомбы 9-N, – и черная ночь обступит нас со всех сторон.
И там нас ждет Женс. И моя сестра – у него.
И что мы будем делать, когда приедем в поместье? Мы говорили и об этом, хотя в точности не знали, возможно ли, что Женс каким-то образом продолжает нас слушать. У Мигеля при себе пистолет, хотя хорошо известно, что ни одно оружие не опаснее нас самих. С другой стороны, в этом случае мы имеем дело не с обычным психом. Мигель на этот счет выразился предельно ясно:
– Безумен он или нет, но это Виктор Женс, а он знает наживок лучше, чем кто бы то ни было. Не знаю, чего он добивается, – может, надавить на нас или вообще убрать, чтобы никто на него не заявил в связи с делом Ренара… Но если твоя сестра у него в руках, нужно быть чрезвычайно осторожными…
– «Если»? – повторила я, и Мигель кивнул:
– Не забывай – то, что мы слышали, всего лишь голос… Даже если это был голос Веры, это еще не доказывает, что она сейчас там или что ее жизнь в руках Женса. То, о чем я говорил, – правда: есть предположение, что Вера уехала в Лондон… Если Женс и это сфальсифицировал, то он гений мирового масштаба…
– Дай бог.
Его молчание позволяло думать, что он понимает, что я хочу сказать. То, что случилось с Алваресом и Падильей, а также появление в моем доме куклы говорило о чем-то большем, чем простая хитрость. Я вообще не могла взять в толк, каким образом все это удалось проделать Женсу, или к кому там он обратился за помощью, но предчувствовала, что тот, кто ждал нас в поместье, – не совсем обычный Женс, если этот кто-то вообще существует. И это внушало страх. Как в тех случаях, когда стараешься сделать маску в момент острой необходимости, но ничего не выходит – из-за страха и замешательства. Не говоря уж о том, что может случиться с Верой, если Женс и в самом деле ее похитил.
«Диана, помоги мне».
Я предпочла бы о ней не думать.
Почувствовала руку Мигеля на своей и поняла, что наша телепатия снова работает.
– Я не допущу, чтобы он хоть пальцем тронул Веру. Клянусь тебе, солнышко. Эта свинья не посмеет тронуть ни одну из вас.
Я взглянула в его глаза – они на секунду оторвались от дороги и смотрели на меня с лица, словно вставленного в рамку бокового окна, – и поверила ему.
– Ни одного из нас троих, – сказала я и покрепче прижала его руку к моей.
Весь остаток пути мы молчали, как будто бы стремясь тем самым продлить теплоту и сияние этих последних слов. Скоро мы уже парковались перед чудовищным черным силуэтом главного строения поместья. Снова шел дождь, хоть и не проливной, и когда я вышла из машины, то меня пронзил холод, и я принялась похлопывать себя руками. Сильный ветер раздувал дождевые капли в мелкие брызги. «Здесь все для меня началось, – подумала я, – и здесь, быть может, все и закончится».
– Виктор! – позвал Мигель, и его крик прозвучал почти непристойно в наводящем ужас безмолвии. – Мы уже здесь! Слышите меня? Почему бы вам не выйти, и мы поговорим!
Стоя по обе стороны от машины, под дождем, мы ждали ответа.
– Непохоже, чтобы там кто-то был, – сказал Мигель.
– Но туда можно проникнуть и с другой стороны, – заметила я. – Алварес свою машину оставил именно там.
Мы привезли с собой фонари, и, когда фары погасли, в дело пошли они. Мигель взял фонарь в левую руку, а в правую – пистолет. На землю легла его длинная и узкая тень. В свете фонариков все эти строения, которые мы привыкли называть поместьем, выглядели как прежде. Оба флигеля с растрескавшимися стенами и выбитыми окнами вместе с мельницей, давно ставшей башней, оставались такими же серыми и заброшенными. Растительности вокруг не было – словно жизнь опасалась коснуться этой мертвой материи.
Мы намеревались обойти оба флигеля, но Мигель остановился перед первым. Его силуэт четко рисовался на фоне оконного проема: он освещал лучом фонарика внутренность помещения, которой я пока не видела. Затем он закинул ногу на подоконник – и поместье словно поглотило его.
– О господи! – прошептал он изнутри.
– Что там такое?
Я влезла в окно и встала рядом с ним, вся дрожа. Мы оба молчали довольно долго – только водили своими фонарями из стороны в сторону, осматривая все это.
Все помещение, насколько хватает глаз и лучей фонариков, было заставлено. Они стояли в самых различных позах, словно застигнутые в танце вспышкой фотоаппарата. Карнавал, парализованный во времени. Кринолины, гофрированные воротники, сюртуки, чулки, плащи, полумаски на лицах. Ночь Хеллоуина. Добро пожаловать на нашу частную вечеринку, Диана. Потом ты присматриваешься и замечаешь: отломанные руки, безжизненные лица, глаза с облезшей краской, возможно съеденной бесчисленными полчищами грызунов, – куклы, такие же пыльные, как и их одеяния. Табличек на них нет, но облик некоторых напомнил тех персонажей, которых они воплощали в наших постановках: «Гамлет», «Леди Макбет», «Отелло», «Джульетта»… Слетевшая с катушек вселенная Шекспира…
Добро пожаловать в наш театр, Диана. Сыграем Шекспира еще раз, вместе с тобой.
– Что за безумие!.. – услышала я шепот Мигеля.
– Это он устроил, – сказала я. – Разодел все манекены.
Их было столько, что трудно было пройти мимо, ни за что не задевая и не испытывая леденящего кровь ощущения, что они – живые: то там, то здесь чья-то кисть болтается на сквозняке, чья-то рука подрагивает, чья-то улыбка, казалось, звенит колокольчиком… Одна фигура повернулась ко мне.
Но это был Мигель.
– Внизу горит свет. – Он показал рукой на ведущую к сценам в подвале лестницу, расположенную посреди зала. Дверь внизу была приоткрыта, и в щель проникал свет – слабый, но вполне различимый. Было ясно, что Женс хочет заманить нас туда. Мы обменялись условными знаками. В машине мы разработали базовый план нападения и защиты с использованием быстрых масок и готовились его применить. Затем стали спускаться: первым Мигель, у него в руках фонарик и пистолет, словно обе вещи должны произвести одинаковый эффект. Я смотрела за тем, как приближается он к этой двери, и сердце мое сжималось.
– Будь осторожен! – взмолилась я.
– Виктор? – громко произнес он, толкая дверь ногой. – Доктор Женс? – прибавил он уже другим тоном – тем, от которого у меня заледенела кровь.
Я тоже спустилась, и оба мы остановились на пороге в полной растерянности.
Пространство первой сцены было освещено переносной лампой, установленной на полу. Больше там практически ничего не было, кроме мебели, которую мы использовали в наших постановках, – сейчас она была составлена у стены – и старой душевой кабины.
И фигуры, сидящей к нам спиной.
С того места, где мы стояли, лица было не видно, но эту белую гриву волос мы ни с чем спутать не могли. Он сидел, опираясь на высокую спинку деревянного кресла – одного из наших старых, раздолбанных театральных «тронов», и сверху, по всей видимости, что-то было наброшено – нечто похожее на плащ покрывало его сгорбленные плечи.
Мигель еще раз позвал его, но ответом вновь была тишина, – казалось, даже сердце мое не бьется. Мы стали осторожно приближаться с обеих сторон, я – справа. Виктор Женс – а я была уверена, что это он, – даже как-то измельчал под тяжелой серо-зеленой мантией, окутывавшей его от шеи до тупых носков ботинок. Он сидел на троне, подобно старому королю в театральной пьесе, подобно усталому и такому далекому Лиру, и я почти не удивилась, когда увидела именно это имя, криво написанное на маленьком листочке, прилепленном к его груди: «Лир». Руки его лежали на подлокотниках. На них – те же самые перчатки, которые я видела утром в крематории. Но именно его лицо взметнуло в душе волну настоящего ужаса.
Лицо скрывала маска – от корней волос на лбу до самого горла. Сзади у маски не было ни веревочки, ни резинки, которая крепила бы ее на затылке, и казалось, что она как-то вмонтирована в его лицо. Она была белая, как кость, с прорезями для глаз и рта, лишенная каких бы то ни было черт. Голова Женса клонилась вниз, и волосы падали на эту жуткую маску сверху. Недвижность делала его практически неотличимым от манекенов наверху.
– Профессор… – тихо заговорил Мигель. – Виктор?..
Я взглянула на Мигеля и поняла, что подумали мы одно и то же. Эта поза, этот упертый в грудь подбородок, абсолютная неподвижность тела… Наши глаза видят труп… Но нигде ни крови, ни следов какого бы то ни было насилия.
– Я сниму это с него. – Мигель протянул руку.
Но внезапно, когда его рука уже почти коснулась маски, она стала приподниматься и страшный блеск оживил ее отверстия.
– Сначала дайте мне сказать!
И он поднял руки в перчатках, словно желая помешать Мигелю снять маску. Мигель продолжал держать его под прицелом.
– Почему вы в этом костюме, Виктор? Что все это значит?
– Театр, – сказал Женс. – Что же еще? То, что было всегда, и не только это…
Он вдохнул, а может, засмеялся – трудно было понять, ведь губ я не видела. Но это был именно Женс, никаких сомнений, хотя голос его и звучал иначе, как-то отличался от того голоса, каким он говорил с нами по телефону час назад. Причиной могло быть порождаемое маской эхо, хотя в ней было отверстие для рта, но ко всему прочему у меня возникло ощущение, что ему трудно произносить слова. Возможно, он был под действием наркотика или очень болен – так что вот-вот отдаст концы. Честно говоря, меня не слишком трогало, что там с ним происходит. В тот момент интересовало меня только одно.
– Где она? – произнесла я почти умоляющим тоном. – Что вы сделали с моей сестрой…
Он не обратил на меня никакого внимания.
– …то, что мы думаем…
Мне пришлось наклониться поближе, чтобы разобрать, что он там говорит.
– …то, что мы делаем… Или то, что нас заставляют делать другие… Театр. Псином. Бал масок… И что тебе останется, когда ты это поймешь? Ничего. Вакуум – навсегда. Стаканы, наполненные тем, что туда нальют другие… – Он все еще держал руки перед маской, заслоняя ее. Пальцы в темных перчатках дрожали. Перчатки явно были новые, дорогая кожа поблескивала в свете фонарей, а тени от пальцев, ложась на маску, вызывали мысли об огромных пауках, ползущих по черепу. – Я виновен, – добавил он.
– Как вы расправились с Алваресом и Падильей, профессор? – спросил Мигель. – Кто вам помогал?
– Я виновен, – повторил Женс и покачал головой. Он медленно опустил руки вниз, пока они вновь не легли на подлокотники. Говорить ему становилось все труднее, он как будто жевал, произнося слова. – Но, наверное, не стоит говорить «я есть»… Я – то, чем ты хочешь, чтобы я был, а ты – то, чего от тебя хочу я… Я говорю, мы говорим, «я есть», «мы есть»… Но мы – всего лишь наслаждение… Отсутствие наслаждения, избыток наслаждения… И, несмотря на это, я виновен.
– Я сниму с вас маску, Виктор.
Угроза Мигеля вновь подействовала на Женса, и он повторил свой защитный жест:
– Нет! Я всегда ее носил! Ты носишь свою, так дай и мне носить мою! Я тебе уже сказал: я виновен! Потому что разбудил древнюю силу… Нечто, что покоится в нас и должно с нами и умереть… Подождите! Хотите узнать больше? Я вам скажу: Шекспир знал эту силу и записал ее…
Пока я стояла, склонившись над ним, я заметила одну деталь: написано было не «Лир», а «Леонт». Складки мантии согнули листок, и поэтому вначале я прочла неправильно.
Леонт – король из «Зимней сказки», одной из последних пьес, авторство которых бесспорно принадлежит английскому драматургу, – основа маски Игры. Заподозрив супругу в неверности, Леонт всячески над ней измывается, пока она на глазах у всех не умирает, но в действительности выживает и в финальной, полной всяческих чудес сцене «воскресает», перестав притворяться статуей. Великое произведение, пронизанное символикой, однако в тот момент оно меня ничуть не интересовало, как и невыносимо долгая и нудная болтовня Женса.
– Но Шекспир в конце концов понял, что… что не способен что-то изменить своим театром, ведь если мы изменяем других своими жестами и речами, то кто же контролирует изменения? Поэтому-то он все и оставил… Джон Ди, его учитель, умирает в тысяча шестьсот девятом… И уже на следующий год Шекспир навсегда отходит от дел, Кружок гностиков закрывается, их голоса умолкают… и псином оказывается похороненным внутри нас, пока его не возрождает наука…
Внезапно я растеряла остатки терпения:
– Все, хватит уже! Подыщите себе другую публику, Женс. – Я подняла лампу забинтованной рукой, а другой схватила его за правую руку, которая все еще прикрывала маску. – Прекратите играть с нами!
Мигель жестами показывал, что нужно сохранять спокойствие, но мое нетерпение росло с каждой секундой, как и мой гнев. Я подумала, что слушала этого старого шарлатана долгие годы и мне плевать, слетел он сейчас с катушек или, наоборот, полностью в своем уме: я не намерена позволять ему и дальше лишать меня того, кого я люблю больше всех.
– Говорите, что вы сделали с Верой! – закричала я.
Женс вырвал свою руку и, в свою очередь, схватился за мою с неожиданной и нехарактерной для него силой.
– Больше ты не увидишь ее живой! – воскликнул он.
Этих слов оказалось достаточно, чтобы ярость захлестнула меня. Я дернулась, стараясь высвободить свою руку, и при этом стянула с него перчатку.
И застыла.
Голая рука Женса словно была в еще одной, внутренней перчатке – яркого, блестящего алого цвета. Ногти были так густо покрыты этой субстанцией, что их почти не было видно. Я вонзила ногти в края его маски, но она словно прилипла к коже. Женс отвернул голову, послышался тихий хруст, и красные ошметки показались в щели и заскользили между моими пальцами, брызнув мне на руку. Как будто лицо Женса представляло собой сплошную кашу, и, когда оказался разрушен барьер, который держал эту массу, оно расползлось и начало подтекать.
Но тут я услышала нечто, что заставило позабыть об этом ужасе.
– Вера! – Я бросилась к коридору. Не остановилась и тогда, когда раздался голос Мигеля:
– Диана, погоди! Здесь что-то странное происходит!.. Не ходи туда одна, там может быть ловушка! – Еще один крик вычеркнул Мигеля из моего восприятия и, кажется, из моего сознания.
Я перебежала коридор и оказалась на второй сцене. Фонарь мой высветил другие манекены: силуэты, воздетые руки, старые шляпы, безглазые лица. Некоторые лежали на полу. Красный задник был сорван, и краем глаза я заметила, что теперь он свешивается с большого зеркала по левую руку от меня. Брезент, закрывавший стену над подмостками, тоже снят, и хорошо видна дверь, замаскированная кирпичной кладкой под стену. Дверь была распахнута, и, вновь услышав крик, к ней-то я и бросилась, опрокидывая на бегу манекены, будто приходилось расчищать себе дорогу посреди застывшей толпы.
Луч фонаря, везде плесень, густой мрак вокруг… все работает на то, чтобы этот коридор претендовал на роль пещеры ужасов. А теперь, кроме криков, слышались еще и удары. Когда же то и другое стихало, я слышала собственное громкое дыхание и собственный голос, повторявший имя сестры. Я уже представляла, где может держать ее этот выживший из ума старик, но не решалась даже думать, что он с ней сделал или что с ней происходит прямо сейчас.
На полдороге на меня обрушилась внезапная тишина. Я снова позвала Веру, но ответа не получила. Я уже пробежала мимо камер, которые не запирались, но остальные, запертые, были впереди. Я попыталась открыть первую. Мои нервы и ржавая задвижка осложняли задачу. Когда я все же ее открыла, то подняла фонарь повыше. Камера была пуста. Повторила те же действия в следующей. И с тем же результатом. Подбежав к третьей, расслышала из-за двери тихие всхлипывания.
– Вера! – Смрад накатывал волнами, и я закашлялась. – Вера, это я!
Эта задвижка сопротивлялась упорнее всего. Я тянула и раскачивала ее изо всех сил, пока она наконец не сдвинулась, и мне пришлось сдержать горячее желание пнуть дверь ногой, потому что Вера могла оказаться прямо за ней. Борясь с этой дверью, я сто раз успела пережить тот момент, когда, повернувшись на петлях, эта ли, другая ли подобная дверь (я уже точно не помнила которая) явила моим глазам жуткую картину с телом Алвареса.
Однако на этот раз дверь распахнулась легко и до отказа – препятствий не было.
И меня вновь поразила тишина. Даже всхлипы стихли. Как будто я оказалась в могиле.
Поводила фонариком. Вначале показалось, что и в этой камере никого нет. Но через мгновение увидела ее – скрючившуюся в углу, спиной ко мне.
– Вера?
Когда я дважды позвала ее, она, вздрогнув, обернулась. «Бог мой, это не Вера». – Уверенность в этом на ужасную долю секунды овладела мной.
Пока она не развернулась ко мне лицом.
Как ни странно, но тут я и окаменела.
Похудела, подумала я: щеки бледные, глаза ввалились и покраснели, ничего не видят, ослепленные светом. Влажные волосы прилипли к вискам, на плечах какая-то кофта, а еще – сверкающий, но грязный оранжевый топ и бирюзового цвета брюки. Слегка изменилась, отметила я, заметны следы перенесенных страданий, но вроде бы ничего серьезного. Напугана, но, кажется, цела. Вот она, здесь. И это – точно она.
Она застонала и протянула ко мне руки.
Мы обнялись.
– Я здесь, с тобой, – сказала я, прижав ее к себе. – Все прошло…
Мгновение для меня не существовало ничего, кроме наших объятий. Она и я – предоставив ей приют на своей груди, защищая ее – навсегда. «Ты будешь смеяться, девочка». – «Нет, я не буду смеяться. Я больше не боюсь тебя. И ты не сделаешь нам ничего плохого. Никогда. Я нашла ее. Она со мной. И если она со мной, то папа и мама тоже – со мной. Мы избавились от тебя. Все».
Я спросила Веру об Элисе, но она только стонала. Я подумала, что ее, должно быть, накачали наркотиками, но сейчас не самый подходящий момент, чтобы выяснять подробности, нужно поскорей выбираться из этого подземелья.
– Я вытащу тебя отсюда, – шепнула я.
И даже не стала осматривать оставшиеся камеры. Взяла фонарь перебинтованной левой рукой, правой обняла ее за плечи и, не переставая нашептывать на ухо что-то успокаивающее, вышла в коридор и направилась к выходу. Мне приходилось приноравливаться: хотя Вера и могла идти сама, однако передвигалась маленькими шажками, обняв меня за талию и дрожа, словно, вместо того чтобы идти самой, она хотела, чтобы я тащила ее на себе. Подавляя гнев, я спрашивала: что же такое сотворил с ней Женс?
Однако когда мы оказались на второй сцене и я увидела там Мигеля, то почти забыла о Верином состоянии.
Он поджидал нас – странно неподвижный, руки приподняты, в одной зажат фонарик, в другой – пистолет.
То и другое было направлено на нас.
– Диана, отойди от нее.
– Что?
– Отойди от нее подальше…
На миг я подумала, что он свихнулся, а потом получше присмотрелась к его лицу: судя по его выражению, Мигеля охватил ужас.
– Ты что, не понимаешь? Все это устроил не Женс! Это не может быть он!
– Что ты имеешь в виду?
За все время, что я его знала, Мигель никогда так не пугался. Я почувствовала, как его ужас передается мне – прямо здесь, в этом мрачном подземелье, и кожа вдруг покрылась мурашками.
– Я снял с него маску и вторую перчатку… Боже мой, видела бы ты… Все лицо у него… Он, должно быть, сделал это собственными руками еще до того, как мы приехали, понимаешь? Кожа, мышцы… Он доковырял до кости… – И Мигель поднес левую руку к лицу, чтобы показать, как это могло быть, а сам продолжал шептать – лихорадочно, с отвращением: – И он снова принялся это делать, прямо сейчас! Он, судя по всему, одержим, Диана… И он тоже!
– Это не Вера, – заявила я, обнимая сестру. – Вера не смогла бы овладеть им!
– Но кто в таком случае? Неопытная она или опытная, но она – наживка! И она была здесь!
– Может, здесь есть кто-то еще, – прошептала я.
Эта вероятность внушала серьезное беспокойство. Мы стали осматриваться. Лица манекенов в свете фонарей издевательски ухмылялись.
Внезапно Вера вырвалась из моих объятий, попятилась назад – до стены с зеркалом – и подняла руку. Судя по перекошенному лицу и нечленораздельному, исполненному ужаса бормотанию, она увидела по меньшей мере призрак.
– Что случилось? – спросила я.
Сам ее жест настолько меня поразил, что я не сразу поняла, что именно она делает, – а она на что-то показывала. На что-то позади нас. Она как будто хотела сообщить о чем-то, предупредить об опасности.
Мы с Мигелем развернули фонари одновременно. И я едва сдержала крик.
В глубине сцены, за первыми рядами фигур, один из манекенов шевелился.
Он медленно-медленно опускал руки, двигался вперед.
Невысокая, изящная женская фигура в траченном молью длинном платье – я узнала это платье в цветочек, именно оно было на манекене, прислоненном к занавесу, и тогда он указывал мне на туннель. Голова еще была опущена, поэтому я не могла видеть лицо, но зато разглядела приколотую к груди карточку: «Гермиона». Супруга короля Леонта в «Зимней сказке», вспомнила я, женщина, которая притворялась мертвой, а потом вышла из оцепенения фальшивой статуи, вновь вернувшись к жизни.
Гермиона, воскресшая. Манекен из плоти и крови. Живая кукла.
Я снова и снова прокручивала в голове эти мысли и даже не моргнула – ни тогда, когда, исполнив несколько изящных жестов, фигура без усилий выхватила из руки Мигеля пистолет и выстрелила в него в упор; ни тогда, когда, с той же легкостью взяв у меня фонарь, она осветила себя – грудь, шею, лицо… Свое лицо целиком – рожденное из теней, материализованное из тьмы иной жизни, – худое, улыбающееся…
Гермиона, вернувшаяся к жизни.
– Добро пожаловать в мою смерть, Жирафа, – сказала она.
III Финал
Все чары в силе, Мои враги совсем поражены Своим безумьем и в моей все власти[66]. «Буря», III, 332
Клаудия Кабильдо улыбнулась. Не было нужды снова использовать пистолет: она с легкостью подцепила обоих при помощи маски Тайны. Эффект продлится всего несколько минут, но Мигель уже выбыл из игры после первого же выстрела и теперь агонизирует на полу. А что касается Дианы… что ж, она не представляет никакой проблемы.
На самом деле ее присутствие придавало всей задумке захватывающую дух новую конфигурацию.
Клаудия смотрела на нее, освещенную светом фонаря:
– Вечно тебе надо перемудрить, Жирафа. В этом твой главный недостаток.
Диана Бланко – везучая сука. Она не знает, ей так и не довелось узнать, что значит по-настоящему страдать от чужих рук. Теперь, пожалуй, настал момент, когда ей придется это испытать.
Из угла доносился тихий скулеж. Это идиотка Вера все еще дрожит, скорчившись на подмостках. Ее тоже нечего опасаться: она одержима, и если раньше она и кричала, и барабанила в дверь камеры, то только потому, что выполняла инструкции. Контролирует ситуацию она, Клаудия. А все остальные – статисты у нее на службе, манекены, массовка в пьесе, которую она сама и написала, а теперь играет в ней главную роль.
Она повернулась к Диане и увидела, что у той шевелятся губы.
– Слушаю тебя, дорогая, – приободрила ее Клаудия. – Уверена, у тебя много вопросов…
– Ты покончила с собой… Я видела, как ты умирала, сгорала заживо…
Клаудия расхохоталась:
– Воскреснуть на самом деле – это то единственное, чего пока нельзя добиться при помощи маски. Это был спектакль. Ты все время смотрела представление в моем балаганчике. Да и сама ты оказалась прекрасной куклой. Я два года создавала этот спектакль. И ведь неплохо получилось, а?
Говоря, она стала снимать старое платье, вытащенное, без сомнения, из гардеробной поместья. Она дала ему упасть, соскользнув по узким бедрам до самых щиколоток, освободила одну ногу, потом другую. Под платьем обнаружилась маечка на бретельках, задравшаяся мини-юбка, гольфы до колен и туфли на высоких каблуках – все черное. Идеальный костюм для Труда, филии Дианы.
– Конечно, не все я сделала сама. Помогал Падилья, причем бескорыстно. Я им овладела год назад, через несколько месяцев после Нели. Оказалось очень полезным держать в руках нашего директора, Жирафа, – вот это был ход, я тебе доложу. Именно Падилья, например, использовал протоколы для срочных встреч и назначил такую встречу Алваресу в одном укромном местечке – прямо в машине, как раз в тот день, когда ты встречалась с Женсом в «Нулевой зоне». Я поджидала его на заднем сиденье и, как только Алварес оказался в машине, сделала ему Двойственность и запрограммировала удавиться через два дня прямо здесь, в этом самом месте. С ним было просто. Заарканить старика – потруднее. Он, ясное дело, никому не верил. Я уже знала, что он вовсе не погиб на этой треклятой яхте, что он жив, прячется от всех и что у него даже имеются телохранители-наживки. Он боялся меня. Устроить так, чтобы его локализовал Падилья, было все равно что послать ему предупреждение по почте. Но сам же Падилья сказал мне однажды, что ты единственная, кому Женс позволяет с собой контактировать. Мы не знали о ключе «сеньор Пиплз», но я была уверена, что, если его попросишь ты, старикашка выпрыгнет и высунет клювик, где бы он ни прятался. Что правда, то правда, я не могла использовать с тобой маску, чтобы заставить пойти к нему, – Женс ее учуял бы. Старик – матерый волк, скажу я тебе… Так что я использовала твою сестричку. Такой повод, как Наблюдатель, был именно тем, что требовалось: псих из самых мощных, сложный, загадка даже для Женса… Любой хороший сюжет нуждается в зачине. И вот как-то ночью мы с Нели отправились на участок охоты Элисы Монастерио, Вериной подруги, и, когда она проходила мимо нашей машины, я вышла на сцену и прибрала ее к рукам. Спрятала в подвале своего дома и запрограммировала. Полиция когда-нибудь найдет ее труп на дне водохранилища на северо-западе, где она сама и утопилась. Таким образом, поведение Веры должно было показаться тебе более логичным. Гениально, а? Наживки, которые используют наживок в виде добычи, чтобы заловить еще кого-нибудь. Не хуже творения Уильяма.
Сняв замызганное платье, Клаудия взяла паузу, а потом за пять секунд изобразила маску Труда. Использовала она классическую технику Гонилова: повернулась под нужным углом и с нужной скоростью, подобрала руками низ юбки, напрягла мышцы спины, осветив их лучом фонаря, в то же время показав, на долю секунды, ягодицы. Затем повернулась в профиль и изобразила задумчивость. И – финал: лицом ко мне, ноги выпрямлены и расставлены. Маска Труда базируется на резких контрастах: напряженные мышцы и в то же время хрупкость, изящество versus жестокость. Ариэль и Калибан, эти два странных существа в услужении у волшебника Просперо в «Буре», – ее символы: дух воздуха и что-то вроде демона земли. В последнем творении, написанном уже в одиночестве, Шекспир задался целью явить тайные ключи к Труду. И техника Гонилова именно эти контрасты и использовала.
Перекошенное лицо Дианы и то, как она приоткрыла губы, были явным индикатором той силы, с которой маска поразила ее псином.
«На крючке, – подумала Клаудия. – Теперь главное – чтобы не сорвалась». И она продолжила:
– Разумеется, Верой я тоже овладела не без помощи моего ассистента по сценографии, любезного Падильи, который однажды привел ее ко мне. У Веры был код доступа к твоей квартире, и ей не пришлось взламывать дверь, когда тем утром она вошла к тебе. Именно она спрятала куклу в твоем шкафу, а потом занялась установкой жучков и микрокамер в гостиной и спальне – успела до твоего возвращения. Так я начала контролировать все твои движения и звонки. Затем она подралась с тобой, разбила портрет ваших родителей… Все очень реалистично, правда? Признайся. Ты это заглотила. Я знала, что ты попытаешься подцепить Наблюдателя, чтобы спасти сестру, и таким образом подталкивала тебя попросить помощи у Женса. Ты именно так и поступила. Как только я узнала, где живет старикашка, я получила возможность контролировать и его. Узнав о том, что он отправил тебя изображать маски именно сюда, я сделала так, чтобы Алварес появился здесь с утра пораньше и, прежде чем удавиться, расставил манекены с табличками… Затягивать тебя нужно было постепенно, чтобы ты сама связывала одно с другим… Женс создал образ Ренара, добавив такую черту, как привычка оставлять рядом с жертвами повешенных кукол, так? Я решила сделать то же самое. Это было мое послание. «Ренар вернулся» – вот что я хотела сказать. Я воспользовалась символом «Меры за меру» – пьесы о справедливости. Хотела, чтобы Женс обливался по́том и сходил с ума от тоски, прежде чем я до него доберусь. Последние штрихи – это творение мастера, ты должна это признать. Я похитила твою сестру в ту ночь, когда она должна была выйти на охоту, запрограммировав ее так, чтобы она открыла дверь, когда я позвоню по телефону. Потом спряталась у нее на кухне и, когда она вошла, сыграла для нее маску Прошения. Потом приказала ей отключить подкожный чип и забрала ее с собой. Теперь ты должна была подумать, что она – очередная жертва Наблюдателя, чтобы ты еще больше влипла в эту историю. Сначала я держала Веру в подвале своего дома, а потом – здесь. Естественно, следуя моим инструкциям, Падилья подделал результаты компьютерного анализа…
Она замолчала. Почему ей кажется, что Диана слишком часто мигает? Она абсолютно уверена, что та не может соскочить с крючка исключительно усилием воли, но Клаудия слишком хорошо знает, насколько опасна ее бывшая коллега. Она пристально взглянула в глаза Дианы, и хлопанье ресницами прекратилось.
– Что это с тобой, Жирафа? Нервишки пошаливают? Успокойся и «послушай еще немного». – Ей было приятно вспомнить эту фразу Просперо, волшебника из «Бури». – Разве тебе не хочется узнать, как мне удалось «умереть»? Над этим планом я работала почти год, но до лета мне не удавалось найти идеальную девицу. И вот я ее нашла: украинка Олена, работала официанткой в одном из баров Ибицы. «Лени» для друзей, как она мне сама поведала, когда я овладела ею. Ее внешнее сходство со мной было просто поразительно. Я встретилась с ней благодаря объявлению одного липового агентства о кастинге и овладела ею прямо во время пробы. Ее филия – Власть, так что это было не сложно: техника «Комедии ошибок». Затем я использовала особые способности и запрограммировала ее. Инструкции поначалу были простыми: она должна была прилететь в Мадрид, как только я вновь позвоню. Когда ты нашла Алвареса, я позвонила ей, а потом спрятала у себя в подвале. В воскресенье, как раз после твоего визита и всех этих расспросов, я поняла, что настал момент моего «самоубийства». Я позаботилась даже о том, чтобы обеспечить правдоподобное объяснение того, как у меня оказался бензин, – под предлогом старой газонокосилки. Нели всего лишь пришлось ненадолго вывести тебя из комнаты, и – раз! – произошла подмена. Олена впрыгнула через окно в гостиную, а я, секунду назад изображавшая травмированную в результате вернувшихся воспоминаний девушку, покинула сцену тем же путем и ждала снаружи, пока она, одетая и причесанная в точности как я, занималась самосожжением у тебя на глазах. В доме были потемки – по причине моего «нервного срыва», так что обмануть тебя стало еще проще. Я приказала Олене бегать по дому, поджигая все, что можно, ведь я по нескольку дней прятала людей в подвале, а огонь способен уничтожить все следы. Затем я села в машину, где меня уже ждала Вера, и уехала раньше, чем подоспели пожарные. О, не смотри на меня так. Девочка мечтала попробовать себя в качестве актрисы, не так ли? Я дала ей этот шанс. Роль оказалась «искрометной», – прибавила Клаудия с явным удовольствием. – Но необходимой: имея на руках твое свидетельство, а также свидетельство Нели, Падилья не испытал никаких затруднений, когда потребовал выдать тело без вскрытия. Конец истории: Клаудия Кабильдо мертва. И сегодня утром, побывав на мероприятии, заявленном как мои похороны, старик решил, что ему незачем меня бояться, и, поехав домой, даже отпустил телохранителей. Там-то я его и ждала. Мне хватило одной лишь Ауры. Я приказала ему собрать чемодан и сообщить всем, что он отправляется в путешествие. А потом привезла его в поместье и сказала: «Раз уж для тебя такой ценностью всегда были твои блестящие мозги, я доставлю тебе удовольствие при жизни прикоснуться к ним своими руками». – И она расхохоталась, порадовавшись своей удачной фразе. – И он собственными руками разодрал себе лицо. Нарядить его в костюм Леонта и нахлобучить маску пришло мне в голову позже, когда я поняла, что придется вызвать в поместье вас с Мигелем. Я приказала Женсу позвонить тебе. Свою речь он повторял за мной: я говорила, что считала нужным, а он повторял… Честно говоря, Жирафа, финал был задуман другой. Я собиралась лишь убить Женса и твою безмозглую сестричку, а потом исчезнуть – раз, и все. – Она взмахнула рукой. – Вина была бы возложена на тебя, тебя закрыли бы, а я начала бы все сначала на каком-нибудь безлюдном острове, как Просперо. Но из-за твоего своевременного, блестящего замечания о медицинском браслете я поняла, что вы сможете обнаружить Женса еще до того, как я успела бы уехать… Так что ты вынудила меня импровизировать. Говорю же, ты перемудрила, дорогуша. И вот посмотри, чего ты добилась – мне пришлось заняться еще и «твоим» Мигелем. Наконец.
Диана снова заморгала. Теперь она еще и дрожит. Пытается заговорить:
– По… почему… все это?
Клаудии этот вопрос показался крайне глупым.
– Ты хочешь спросить, почему я это сделала? А как тебе такое слово – «месть», Жирафа? Думаю, оно коротковато. Знаешь, меня целый год мутило во сне. Я закрывала глаза и снова видела этих мужиков в масках, которые прикидывались одним и тем же и то лапали меня, то пропускали через мое тело ток, и я просыпалась от позывов рвоты… Не раз и не два в тот год хотела я наложить на себя руки, но мне не дали. Правительство оплатило дом и служанку, но первый был напичкан датчиками слежения, а вторая – бывшая наживка. И я поняла, что лучше продолжать притворяться безумной перед теми немногочисленными визитерами, которые меня навещали, – перед врачами, Падильей, тобой… И вот когда пошел второй год, я решила затеять свою игру. Однажды я завела Нели в единственное место в доме, где не было датчиков, – в ее ванную комнату. И там моментально ею овладела. Я обнаружила, что в результате эксперимента «Ренар» у меня появились новые способности… Начиная с этого момента Нели стала моим главным инструментом. Жаль, что и для нее этот выход оказался последним…
И Клаудия направила фонарик вниз, высветив место возле деревянных подмостков. На первый взгляд могло показаться, что там лежит манекен с раздвинутыми ногами, но в луче света проступили сухожилия на ногах, загорелая кожа, черные как вороново крыло кудри. Лужа крови под головой уже подсохла.
– Пока еще не придумала, как ее назвать, – сказала Клаудия. – Может, стоит ее сделать «Ариэлем»? Ариэль – духовный раб. Падилья был моим «Калибаном» – звероподобным рабом. Любопытно, но, когда я впервые овладела Падильей, я хотела лишь его допросить… Мне нужно было знать, что происходило с Ренаром, почему все мои маски, которые я делала для него, ни к чему не привели… И – сюрприз-сюрприз! – он поведал то, чего я никак не ожидала. – Гримаса исказила ее лицо. – Можешь себе представить, каково было это слушать? Можешь себе представить, как он мне рассказывал, что они со мной делали? Ты можешь, Диана Бланко, составить себе хотя бы отдаленное представление о том, что с тобой происходит, когда ты думала, что тебя истязал, выходя за все мыслимые и немыслимые пределы, какой-то псих, и вдруг тебе открывается, что это были твои же шефы? – И она бросила взгляд на атлетическую фигуру поверженного Мигеля. – Нет, не можешь. Ты всегда была любимицей. В отделе тебя всегда больше уважали, Жирафа… И когда нужно было выбрать подопытного кролика, они решили: «Лучше пусть будет Клаудия. Она ниже ростом. Меньше потеряем…» – Постаравшись овладеть собой, она добавила: – Признаюсь тебе кое в чем. Когда я выслушала Падилью, мне страшно захотелось приказать ему, чтобы он разбил зеркало и сожрал все осколки – один за другим. Но я тут же подумала, что если сделаю это, то уже никогда не смогу отомстить всем остальным. Так что я пошла потихоньку, шаг за шагом. Наш любимый директор был ключевой фигурой, и, прежде чем разделаться с ним, я выжала из него все, что можно, до последней капли. Он пригодился, чтобы помочь обзавестись машиной, создать фейковую кастинговую компанию и нанять на Ибице Олену, воспользовавшись поездкой на курорт… И чтобы заманить Алвареса, разумеется… С Алваресом я обошлась гуманно – до определенной степени, конечно… С Хулио Падильей все было не так. В конце концов, Алварес всего лишь не воспрепятствовал проведению эксперимента «Ренар». А Падилья, напротив, с самого начала поддерживал Женса. Это была его идея – построить тот туннель. Ты знала об этом, Жирафа? Он хотел заполучить Йорика так же горячо, как и Женс, а выбрать меня для этого проекта для него было не сложнее, чем раздавить муху на своей лысине. Вот почему при последнем его программировании я добавила некоторые забавные подробности, связанные с его семьей. И сегодня, накануне ночи Хеллоуина, в третью годовщину начала их гениального эксперимента, я позвонила ему и запустила эту программу. Сказала всего одно слово: «Сделай». Когда он услышал мой голос, его псином взял управление на себя, и с этого момента он испытывал чистое наслаждение. А Нели – нет, она не слишком страдала. Я велела ей перерезать себе горло – только и всего. Это было необходимо: после почти года одержимости ее псином не мог бы жить без меня, так что оставлять ее одну было опасно. Ее, конечно, не должны никоим образом связать со всей этой историей, поэтому я устрою так, что тело ее исчезнет… Мне очень жаль, Нели, – прибавила она, обращаясь к трупу. – В утешение могу сказать тебе только одно: всем остальным придется гораздо хуже…
– О-о-она тебя… лю-лю-любила… – с трудом выговорила Диана. – Та-та-так же, как Ве-ве-вера и я…
Она дрожала и заикалась, словно в лихорадке. Внимание Клаудии привлекла такая реакция подцепленного на крючок, но она решила, что это не выходит за пределы возможного.
– Любили меня? – В первый раз Клаудия почувствовала ярость. – Полагаю, ты все же не думаешь, что твои жалостливые визиты все эти проклятые годы и твои похлопывания по моему колену делали тебя в моих глазах лучше, не так ли, супервумен? Мы с тобой не были подругами, почему же ты ко мне таскалась? А я скажу тебе почему: чтобы не чувствовать себя виноватой. Нас, одинаково годных, было две… Нет, я – более годная, чем ты, как и всегда… И когда этот старый хряк решил растерзать именно меня, ты поняла, что осталась в живых исключительно по блату, и приходила ко мне, только чтобы сказать: «О, мне так жаль, Сесе, что тебя поимели сзади, чтобы сохранить меня…» Конечно, тебе было «жаль», но то, что ты чувствовала, было не жалостью, сукина ты дочь… Это было чувство твоего громадного облегчения!
Отдавшись своей ярости, Клаудия не замечала, что поза ее жертвы изменилась, пока не стало слишком поздно. «Но это невозможно, – подумала Клаудия. – Не может она слезть с крючка всего лишь…»
И в тот момент, когда она это подумала, навстречу ей полетел кулак.
Удар, однако, вышел неловким, и ей ничего не стоило уклониться. Диана попыталась ударить еще раз, но двигалась она, словно боксер, оглушенный ударом противника, и единственное, что ей удалось, – это потерять равновесие. Другого шанса Клаудия ей уже не дала. Она взялась левой рукой за правое плечо, одновременно наклоняясь и сгибая колено. А потом внезапно подняла обе руки, словно сдаваясь, и напрягла мышцы груди, испустив при этом странный стон. Типичная быстрая маска Труда. Эффект наступил мгновенно: Диана будто потеряла всякое представление о том, что делает.
– Сукина дочь! – повторяла Клаудия, вновь овладев ситуацией.
Она спрашивала себя: как же это удалось ее бывшей товарке? Как она могла напасть на нее, несмотря на то что была на крючке? Она осветила пол под ногами Дианы и все поняла. Кровь продолжала капать с грязной разодранной повязки, свисавшей с левой руки. Клаудия покачала головой – тактика Дианы впечатляла: все это время та терзала свою повязку, пока ей не удалось расковырять шов. Сильная боль притушила наслаждение и ослабила зацеп.
Кто бы сомневался – перед ней не новобранец! «Она дьявольски опасна».
Но Клаудия быстрее. Кроме всего прочего, еще и отлично натренирована: она скрупулезно изучала все нюансы маски Труда в ожидании момента, когда нужно будет овладеть всесильной коллегой. Все еще держа пистолет и фонарь, Клаудия подняла руки к поясу юбки и сняла ее, акцентируя свое усилие выверенными жестами. Именно это и гипнотизирует филиков Труда – видимость усилия. Сняла и туфли. Теперь ее тело – белая фигура с черными полосами: топ, трусики и гольфы. Она встала в профиль, а потом бросила на Диану финальный взгляд. Неожиданно подняла фонарь и с близкого расстояния осветила лицо наживки. Убедилась, что та не мигает: состояние, близкое к предодержимости.
Но в этом еще тоже нужно удостовериться. С этим дьяволом любая предосторожность не помешает.
– Сними куртку и дай ее мне, – приказала она.
Диана тотчас же послушалась, и Клаудия отшвырнула куртку подальше.
– Встань на колени.
Диана почти рухнула на колени. В свете фонаря было видно, как блестит пот на ее лице, руках и под шеей – еще один признак предодержимости. Оранжевая маечка прилипла к влажному телу.
– Ударь себя по щеке правой рукой.
И увидела, как Диана падает набок после удара собственной рукой по скуле, поскольку ее длинные ноги, обтянутые джинсами, теряют равновесие. Но она тут же поднялась и вновь встала на колени, поднимая вверх лицо, как будто готовое принять следующий удар. И даже звука не издала. Эта реакция – окончательна.
Сомнений больше нет: Диана полностью находится под ее контролем и даже сильная боль не позволит ей вновь начать двигаться, руководствуясь собственной волей.
Секунду Клаудия смотрела на нее в полном осознании своей над ней власти: Диана у ее ног, с выгнутой спиной, подставленным горлом, тяжело дышит – полностью готова подчиниться ее воле. Как и Нели Рамос, Алварес, Падилья или Женс. «Все чары в силе». Единственное, что ее беспокоит, – она пока не может овладеть ею полностью. С такой Дианой, в ее нынешнем состоянии, она могла бы добиться этого, всего лишь изменив тон голоса, превратив его в некое подобие мелодии – таинственной песни духа Ариэля. Однако Клаудия хорошо знает, что это разрушит весь ее методично выстроенный план. Она овладеет ею, естественно, но не раньше, чем завершит начатое.
И усилила эффект маски с помощью жеста притворной любви – опустила голову и подошла ближе, так близко, что ее колени коснулись маечки Дианы. Торопиться не хочется. Чувство своей власти над добычей такого класса было для Клаудии новым и чрезвычайно сильным. И вот она, словно пианистка-виртуоз, наслаждается, нажимая клавиши на псиноме жертвы с необходимым усилием, а потом наблюдает за результатом: тик на веке, приглушенный стон, губы то приоткрываются, то вновь смыкаются… И не то чтобы она ненавидела Диану, но вдруг сделала открытие: ей всегда хотелось показать, кто из них двоих лучшая.
– Скажу тебе, что собираюсь сделать, Жирафа, – зашептала она, поводя фонарем перед лицом Дианы, словно укротительница перед носом любимого дельфина. – Это просто. Месть несовершенна, если мстителя хватают. Мы с тобой – лучшие наживки Европы, и только одна из нас смогла бы сотворить все это, так что ты нужна, чтобы обо мне забыли… Хотя я и «умерла», но ведь может быть начато и очень неприятное расследование, если виновный не будет найден сразу. А мне это вовсе не нравится, ведь я, как только закончу стирать с лица земли свои следы, собираюсь уехать. Да, разумеется, ты проведешь остаток жизни, накачанная наркотиками, в тюряге или в клинике, но ведь я-то уже провела три года в аду, Жирафа. Так что баш на баш – по справедливости.
Ее забавляло, что Диана пытается коснуться ее руки губами, как только эта рука приближается. Естественно, руку Клаудия отдергивала раньше, чем это могло произойти, что вызывало у стоящей на коленях девушки прямо-таки собачье выражение привязанности и обожания. Но пока что позволить ей коснуться своей кожи нельзя – это привело бы к тому, что она станет одержимой раньше, чем требуется.
– Я овладею тобой, – объявила Клаудия. – Затем велю тебе убить свою сестру и сдаться полиции. – Тут ее внимание привлекло внезапное изменение выражения лица ее обожательницы, и Клаудия поняла, что воля ее еще не сломлена. Она не сможет приказать Диане сделать это, пока полностью ею не овладеет, да и в этом случае, появилось у Клаудии подозрение, если Диана разорвет с ней визуальный контакт, то сможет соскочить с крючка. Но этого не случится – наслаждение сорвет с нее последние ошметки воли так же легко, как курортник пальцами сдирает лоскуты обгоревшей на солнце кожи. Падилья изнасиловал свою обожаемую дочь-паралитичку, а потом из-за этого сам себя искалечил. Никакая воля не способна затормозить такое всесокрушающее наслаждение, и Клаудия об этом знает.
Она сделает с Дианой все, чего только душа пожелает.
– А также, – продолжила Клаудия, – ты возьмешь на себя смерть Алвареса, Падильи, Женса и Мигеля… Это никого не удивит: ты наживка-ветеран, они просто решат, что ты упала в колодец. На самом деле, если бы ты не упомянула браслет, то была бы уже арестована, а может, тебе уже и обвинение предъявили бы. Но так даже лучше, так ни у кого не останется ни малейших сомнений… Ты сама во всем признаешься. Однако вначале мне нужно тобой овладеть, а вот с этим проблема. Как ты сама хорошо знаешь, анализ микропараметров преступления способен ответить на вопрос: был ли совершивший его человек одержим или нет? Именно это произошло в случаях с Алваресом и Падильей. То же самое могло бы быть и с тобой, но допустить этого нельзя. Я заинтересована в том, чтобы следы одержимости оставались даже в случае с Женсом, но не с тобой, потому что твоя роль в этой пьесе – быть виновной… Хорошо, но как этого избежать? Может, существует способ обмануть квантовый компьютер? Оказывается, да! Я провела эксперименты с Падильей и компьютерами нашего отдела: на это способна маска Йорика.
Она улыбнулась, словно ожидая со стороны Дианы реакции на эту новость, но вдруг поняла, что ее рабыня уже не может вести себя разумно: на корточках, с запрокинутой головой, она отдается Клаудии в некоем бесконечно длящемся оргазме.
– О да, маска Йорика и правда существует, – заявила Клаудия. – Женс вырвал ее из меня, разодрав меня в клочья. И боялся, и хотел, чтобы я ее показала. Поэтому-то он и прятался, но – в Мадриде. Этот старый колдун забился в свою пещеру в окружении телохранителей-наживок и ждал, пока я появлюсь… И его маленький Ариэль не разочаровал его… У меня не хватило времени разобраться в этом досконально, но я думаю, что, так или иначе, он знал, что эксперимент «Ренар» не кончился провалом… Возможно, он почуял это в последние дни, незадолго до того, как вставшие на дыбы из-за возможного скандала политики заставили его прервать эксперимент и разыграли мое «спасение». На самом деле Йорик – не другая маска, а всего лишь дополнение. Я назвала ее «особый штрих Клаудии». Он годится не только на то, чтобы усилить до пределов, ранее неизвестных, воздействие любой маски, но и кое на что другое: испытываемое жертвой наслаждение достигает такой силы, что ее псином просто тонет, понимаешь? В прямом смысле слова. Как книга Просперо: погружается на такую глубину, где его не сможет найти ни один зонд… А в этой бездне наслаждение уже неотличимо от боли или безумия. Ни один компьютер не сможет обнаружить его следы. Преимущества? Очевидны. Недостатки? Затрачиваешь больше времени, чтобы подготовить овладение, но…
Она отступила на шаг. И это движение тоже было тщательно просчитано. Ее добыча застонала от фрустрации – предмет ее обожания отошел на несколько сантиметров. Клаудия на это и рассчитывала – усилить страстные желания Дианы перед финальной сценой этого действа.
– …у меня есть для тебя две новости – плохая и хорошая, супервумен. Вот плохая: я уже все подготовила…
Это было правдой. Техника «Йорик» заключалась в том, чтобы вообразить маску во всех ее деталях, как будто ты ее разыгрываешь; и не только каждый ее жест, но и всю целиком, будто смотришь на нее глазами жертвы. И как заметила Клаудия, чем больше времени ты отдаешь этому, тем сильнее воздействие Йорика, словно это аккумулятор, подключенный к розетке. И на тот момент маска у нее была уже окончательно готова.
– А хорошая заключается в том, как именно ты будешь наслаждаться, подруга. Я тебе почти что завидую. Ты будешь смеяться над своими прошлыми оргазмами. С этого момента вся твоя сексуальность будет заключаться в воспоминаниях о том, как ты снесла черепушку своей сестрен…
Вдруг что-то ударило ее сзади по ногам, и она рухнула на свою коленопреклоненную жертву. И Клаудия почти физически ощутила, как тонкая леска, соединявшая ее с псиномом Дианы, лопнула.
И, уже падая на пол, она услышала предсмертный крик Мигеля Ларедо:
– Диана! Ее… пистолет!
33
Я погружена в какую-то патоку – густую, липкую.
– Диана…
Имена не существуют. Что такое имя, как не некая форма разделения? Но в моем восприятии рука была частью тела, а также частью того воздуха, в котором она движется. И декорации, и актеры являли собой неделимое целое.
…ее…
И звуки, и образы уподобились какому-то длинному коридору с разных точек обзора или же граням сверкающего на солнце драгоценного камня. Левая рука и челюсть болят, верно, но эта боль – всего лишь штрих на общем фоне, вышивка на парадном одеянии. Единственное важное ощущение – или, по крайней мере, единственное, что я запомнила, – было исключительно геометрическим: как будто я представляла собой незавершенную окружность – линию, ожидавшую своего часа, чтобы стать совершенной.
…пистолет!
И в этот момент в меня врезаются эти костлявые коленки. Произошла небольшая смена декораций. Луч света развернулся, словно прожектор в концлагере во время массового побега заключенных. И я увидела публику: густую толпу трупов, одетых в старинные костюмы, и все они – на ногах. Один напоминал Анну Болейн, но голова у него пока еще была на месте.
С этого мгновения реальность возобновилась.
– Эге, да ты живой, Мигель… – Я прислушалась.
И вдруг все стало происходить очень быстро, будто кто-то запустил видео в ускоренном режиме. Я сижу на полу, еще не придя в себя после столкновения с Клаудией, а возле меня пистолет. Его я узнала: тот самый, сборно-разборный, которым мне дома угрожал Мигель. Кажется, я помню, как Клаудия держит его в руке, и он, должно быть, только что из этой руки выпал. И Мигель почему-то хочет, чтобы я его взяла.
Я протянула руку к пистолету, но тут зазвучал голос Клаудии:
– Да, в последние годы я недостаточно тренировалась в стрельбе…
Она уже встала на ноги и, воспользовавшись импульсом этого движения, ударила правой ногой Мигеля, тело которого еще корчилось на полу. Она была босиком, но и без туфли удар пяткой оказался неслабым. Мигель взвыл и откатился, оставляя за собой влажный темный след, к ногам манекена, тут же на него и рухнувшего. Там они оба и остались – без движения. И тогда другая рука – тонкие щупальца – появилась в поле моего зрения и схватила пистолет.
– Но мою ошибку еще можно исправить, не так ли? – произнесла Клаудия и направила пистолет на Мигеля.
«Приведи сюда девочек, Окса».
Зрелище того, как Клаудия бьет Мигеля, заставило меня действовать.
Ничто из того, что говорила или делала со мной до этого момента Клаудия, меня не слишком заботило. Я знала, что была в состоянии предодержимости и что Клаудия потеряла контроль надо мной из-за толчка Мигеля, которому, несмотря на ранение, удалось подползти к ней сзади, пока она говорила. Но вмешалась я лишь потому, что хотела не дать ей выстрелить.
И я прыгнула на нее в тот самый миг, когда со звуком открывшейся банки пива из маленького ствола вылетало нечто невидимое и смертельное. Я не успела даже коснуться ее до того, как она выстрелила, но мое нападение вынудило ее непроизвольно дернуться, и пуля изменила траекторию. Я услышала удар и взмолилась только о том, чтобы это оказалось безвредным звуком попадания в стену.
Больше я ничего не могла сделать для Мигеля – теперь нужно было позаботиться о себе.
Клаудия, может, и тощая, но ее тело – сплошные жилы, прочные, словно морские канаты, и когда я врезалась в ее живот, то больше, кажется, навредила себе, чем ей. По крайней мере, удалось сбить ее с ног, и мы превратились в один из летательных аппаратов, которые изобретали наши предки: я вместо мотора, а Клаудия машет руками, как крыльями. Так мы пронеслись через половину помещения, и мне удалось, уже перед самым столкновением, высвободить наконец руки.
Но врезались мы не в стену – я поняла это, услышав звон металла, – это была рама большого зеркала, скрытого за занавесом. Стекло, кажется, не разбилось. К счастью, я – тоже.
Пистолет.
Я уже говорила, что не могу считаться большим специалистом по борьбе. Тем не менее азы, вроде приоритета действий в любой драке, мне известны. «Сначала разоружи ее». Воспользовавшись ударом о зеркало, я схватила Клаудию за правое запястье. Мне пришлось делать это правой рукой, потому что левая, с разодранной повязкой, болела ужасно. Краем глаза я видела, что Клаудия улыбается, ощущала на лице ее дыхание, как после изматывающего упражнения, когда мы должны были ласкать друг друга. Она что-то сказала, но я не расслышала. Наконец пистолет вывалился из ее пальцев и упал неизвестно куда. Мне показалось, я поняла, что именно она сказала: «Хочешь отобрать его у меня? Ну, вот он».
Она сама выпустила пистолет из рук.
Клаудия, конечно же, тоже не была экспертом в вольной борьбе. Мы – наживки, мы – мошенницы. Дело не в том, кто сильнее, а в том, кто искуснее обманет. И, отвлекая мое внимание тем, что отпускала пистолет, она подняла левую ногу таким образом, что казалось, тело ее плывет в воздухе.
И я полетела назад от страшного удара этой ноги. Я раскинула руки, и толпа пыльных призраков приняла меня, оказывая мне фальшивую поддержку, словно подхалимы-подданные лишившейся чувств королеве. Я попыталась за них уцепиться, но единственное, что удалось, – это опрокинуть пару-другую манекенов. Я подумала, что Клаудия снова меня ударит, и постаралась как можно быстрее встать на ноги, но она этого не сделала.
– Отлично, супервумен! – воскликнула она. – Давай! Поднимайся!
Она выбросила кулак вперед, но я уклонилась. Следующий удар уже попал в цель, и по моему подбородку потекла кровь.
– Давай, Жирафа, шевелись! Ударь меня!
Тактика Клаудии была неизменной: ждет, бьет, опять ждет. И тогда я поняла почему. Она хочет держать меня на расстоянии, а вовсе не драться. Ее цель – не выбить из меня сознание и даже не победить меня, а снова насадить на крючок. Она готовится к новой маске. И это подтолкнуло меня выработать план.
Я передвинулась в угол – тот, что был напротив входа и возле зеркала, которое мы обычно использовали во время репетиций. Закрывавший его занавес с одного угла был оторван и висел только на втором углу, наполовину занавешивая стекло. Я специально упала после очередного удара, чтобы оказаться к Клаудии спиной, близко от зеркала, и подготовила свою маску – за десятые доли секунды.
Филия Клаудии – Кровь. Ничего общего с вампирами, скорее с притяжением, которое может спровоцировать наживка, притормозившая свой собственный псином в пользу яркой декорации, где будет доминировать ярко-красный цвет. Женс связывал эту филию с «Генрихом VIII», одним из последних творений драматурга, написанным предположительно совместно с другим членом Кружка гностиков, Джоном Флетчером. Замысловатые и подробные ремарки, пышные декорации, пурпурные одежды таких персонажей, как кардинал Уолси, и даже тот факт, что главный герой – король – стал знаменит в том числе тем, что отрубил голову нескольким женам, – все это тайные символы маски Крови. Все жидкости красного цвета, в том числе и кровь, усиливают эффект. Женс заставлял нас репетировать эту маску, предварительно обливая нам кожу красным вином.
Я быстро перебрала в уме необходимые компоненты: свет – фонарь в руке Клаудии, костюм – моя маечка, вымазанная в крови, а также фон – красный занавес с зеркалом в виде украшения – и решила, что они идеальны. В следующую паузу между двумя ударами я выпрыгнула, заняв позицию перед зеркалом, и развернулась лицом к Клаудии, приготовившись сыграть маску.
Она вышла неплохо. Но я упустила одну деталь. Или даже две.
Клаудия тоже была хорошей наживкой.
А теперь стала еще лучше.
Это как игра в покер. И я почувствовала, что она поворачивается, швыряя в меня full[67], и мне даже показалось, что я вижу не улыбку, а руку, которая открывает передо мной четырех тузов.
И джокера в придачу. Джокера колоды. Йорика.
Часть сознания – та, которую еще не окутал туман, – поняла, что это, видимо, и есть Йорик, потому что та маска Труда, которую она показала, хотя и была безукоризненна (раскрыть руки, напрячь бицепсы, направить свет на свой живот), никогда сама по себе не оказала бы на меня такого мощного воздействия.
Но Йорик сделал ее чем-то сокрушительным.
Я содрогнулась и ударилась о зеркало, вцепившись обеими руками в занавес.
– Ага, – произнесла Клаудия, фыркнув. – Посмотрите-ка на нее: в плену.
Именно так я себя и чувствовала: еще не стала одержимой, но уже не могла отвести от нее взгляд. Еще не потеряв способности думать, искать объяснения, я уже вновь дала увлечь себя этому тщедушному телу. Это как проглотить лошадиную дозу афродизиаков и начать ощущать первые симптомы – жар, учащенный пульс…
– О, бога ради, Диана. – Маленькая богиня передо мной укоризненно качала белокурой стриженой головкой. – Ты пыталась атаковать меня маской? В мужестве тебе не откажешь, это да… Позволь, я кое-что поясню: я готовилась к этому в течение нескольких лет. Даже и без Йорика я бы с тобой справилась, Жирафа.
Я попыталась мыслить ясно. И заговорила, задыхаясь:
– Ты рубишь сук… Ты убиваешь тех из нас, кто действительно тебя любит, Клаудия…
– Действительно меня любит? – с удивлением отозвалась она. – Не понимаю. Кто это любит меня «действительно»? Мои родители? Женс? Нели? Может, ты? Нет никаких «действительных» чувств, Жирафа. Разве ты этого не знала? Есть только псином. Театр. Маски.
– Я никогда не делала тебе ничего плохого, как и Мигель…
– Я же тебе объяснила: ты нужна мне, чтобы выйти сухой из воды. А своего парня ты сама сюда притащила.
– Ты больна… Упала в колодец… Тебе нужна помощь…
Я надеялась на то, что мои слова вызовут ее ярость и тот контролируемый аффект, с помощью которого она меня держала, ослабеет. Это было ошибкой. Клаудия сразу же это почуяла и ответила по-своему: повернулась в полупрофиль – левое колено согнуто, мышцы длинных худых ног напряжены, – сопровождая действо такими словами:
– Ты так думаешь? Возможно…
Как будто волна жара накрыла меня с головой. Я почти могла прочертить по своему телу траекторию этой молнии наслаждения. Я изогнулась, все еще держась руками за занавес, повернулась к Клаудии боком и испустила продолжительный стон. Больше я не могла выговорить ни слова.
Все еще стоя ко мне в профиль, Клаудия оттянула резинку трусиков и прижала ею фонарь, поместив его ниже живота. Свет, направленный таким образом, бил ей в грудь и лицо снизу, рождая небывалые эффекты. Мускулы вздымались прямо из-под кожи, и к ним-то и был прикован мой ставший пленником взгляд. Из своего тела и света Клаудия создавала такую роскошную декорацию для маски Труда, что я почувствовала, как из моего приоткрытого рта текут слюни. Тут она обернулась взглянуть на Мигеля и Веру – без сомнения, чтобы удостовериться, что уж на этот раз никто ей не помешает. Надежды на это не было никакой: Мигель лежал без сознания, или мертвый, возле противоположной стены, а поза Веры – на корточках на подмостках – говорила о том, что она в чужой власти.
Не торопясь, Клаудия снова повернулась ко мне. Ее глаза, вокруг которых свет фонаря рисовал полумаску теней, насмешливо блестели.
– Наконец-то мы одни – ты и я. А теперь представь себе Йорика, коллега. Пока мы боролись, он продолжал подзаряжаться. Это будет до сих пор никем не испытанное, беспрецедентное, можно сказать, ощущение. Никто и никогда за всю гребаную историю не испытывал такого наслаждения… Да ты просто описаешься от удовольствия, пока будешь убивать свою сестру и Мигеля, подруга! Да, это будет нечто, уж поверь мне. Как жаль, что потом ты уж ничего и не вспомнишь. А после позвонишь в отдел… Я отправлю тебя на небеса, Жирафа. И там ты узнаешь то, что я познала с Ренаром, – как эти небеса похожи на ад. Два невыносимых полюса.
Я понимала, что она не блефует. Говоря, она расставила тощие ноги, утвердившись на ступнях носками ко мне, и стала медленно поднимать руки, освещенная бьющим снизу светом. Выглядело это так, будто свет, поднимающийся от ее паха, заставляет пламенеть всю фигуру.
И я поняла, что через пару секунд обратного пути не будет. Последние обрывки мысли покинут мою голову – так вылетают на большой высоте разные вещи из дыры в фюзеляже самолета.
– Скажу тебе кое-что напоследок, – зашептала Клаудия, пока тени ее рук в определенном ритме карабкались, как плющ, по стене за ее спиной. – Никогда ты не была лучше меня. Ты была красивой, потрясной… Женс поэтому тебя и сохранил – ты ему нравилась. Но никогда ты не была как я.
Ее худые руки поднимались, словно рассвет: когда они взойдут, солнце маски ослепит меня окончательно. Я почти ощущала сметающее все на своем пути приближение наслаждения – этот гул тяжелой техники, от которого трепещут все мои органы. Оставалось несколько секунд. Поэтому так важно было правильно все рассчитать, а концентрация давалась все тяжелее.
– Это я дала ему Йорика, Жирафа… – прибавила она, в то время как ее руки уже почти завершили свое восхождение. Я обратила внимание на кисти: пальцы растопырены, и руки вращаются с мягкой точностью модулей космического корабля. – Это я получила эту маску, не ты… Запомни это навсегда.
– В добрый час, Сесе, – сказала я.
И сделала это.
Мы – наживки, мы – мошенницы. Еще оставалась надежда, что я провела ее при помощи той маски, которую показала раньше. На самом же деле, как и обычно, я заготовила и второй план, гораздо более невероятный. Моей целью было встать перед зеркалом и ухватиться за занавес, частично его закрывавший. И в тот момент, когда Клаудия выполняла последние жесты, я сделала единственное, что еще могла сделать в том состоянии, в котором находилась. Я не могла атаковать ее, не могла убежать и даже закрыть глаза не могла.
Но я могла прекратить сопротивление и пасть к ее ногам.
Именно это я и сделала, позволив весу моего тела увлечь меня вниз, – рухнула, как фанат перед обожаемым актером. Мои руки, все еще сжимающие занавес, потянули его за собой. Я рассчитывала, что этого усилия окажется достаточно, чтобы полностью открыть зеркало.
Занавес упал вместе со мной.
Я не вскрикнула, больно ударившись об пол коленями, и даже не «очнулась», как фантазируют о загипнотизированных. Зато убедилась в том, что сохранила некий оплот сознания, моей собственной воли.
Но мне не было ведомо, может ли то же самое сказать о себе Клаудия.
Она продолжала недвижно стоять перед зеркалом, в котором отражался ее собственный, застывший в заключительном жесте маски образ. Я-то замыслила этот план в надежде, что, увидев свое отражение, Клаудия потеряет концентрацию и воздействие ее маски на меня ослабеет. Но результат превзошел все ожидания. Что такое с ней случилось? Я не могла припомнить ни одного такого случая – не было прецедента, когда наживка овладела бы сама собой.
Я отползла подальше и некоторое время лежала на полу, тяжело дыша. Возврат физических ощущений, далеких от наслаждения, – боль в обрубке пальца, боль от ушибов – свидетельствовал о том, что влияние Клаудии понемногу слабеет. Меня все еще мутило, как будто при сильном похмелье, но я была свободна.
И я подняла голову. Клаудия продолжала стоять в той же позе: ноги расставлены, руки подняты. Казалось, она даже не дышит. Это было так странно, так жутко, что я отвела взгляд через несколько мгновений сильнейшей зачарованности, поборов искушение заглянуть ей в лицо.
Но в тот момент я не думала, что мне делать с Клаудией, – моего внимания требовали другие.
Я подбежала к Мигелю и с облегчением убедилась, что пульс у него еще есть, хотя и слабый. Снова замотала повязку у себя на руке, чтобы иметь возможность использовать здоровые пальцы и остановить кровотечение. Потом зажгла фонарь Мигеля и, подсвечивая себе, расстегнула его рубашку и осмотрела рану. Пуля вошла чуть пониже левой ключицы. Жив он остался каким-то чудом. К счастью, в него попала только одна пуля, но бледность и покрытая потом кожа свидетельствовали, что он в состоянии шока. Я обратила внимание, что он сам пытался остановить кровь, зажимая рану рукой, и я стала помогать, приспособив для этого свою куртку. Потом достала мобильник, хотя и полагала, что это не поможет, потому что Клаудия наверняка подключила подавители сигнала. Тем не менее значок на мониторе говорил о том, что телефон в зоне действия сети. Возможно, она считала, что ситуация полностью под контролем, и пренебрегла мерами предосторожности, или же ее отвлек наш приезд в поместье. Я позвонила в отдел – так выйдет быстрее, чем в полицию, назвала себя и сообщила, что у меня на руках тяжело раненная наживка.
Закончив разговор, я увидела, что Мигель повернул голову. Склонившись над ним, я прошептала, что люблю его. И обняла, желая закрыть его рану всем своим существом, не дать вытечь его последней крови, сберечь хотя бы их – эти жалкие остатки. Он закрыл глаза – словно провалился в глубокий сон. «Не позволю тебе умереть», – крутилось у меня в голове.
Я обернулась к Клаудии. Не думаю, что она сдвинулась хотя бы на миллиметр. «Это, должно быть, Йорик», – подумала я. Маска Труда, которую она для меня сделала, никогда не произвела бы на нее такого эффекта, но я вспомнила ее же слова о том, что Йорик – всего лишь «дополнение», которое поднимает наслаждение от любой маски до невообразимого градуса. «Она видит в зеркале отражение Йорика, и это ею и овладело» – таким был мой вывод.
В эту секунду послышался стон с другой стороны сцены.
Я вспомнила о сестре и направила туда фонарик: Вера все еще сидела на корточках, хотя уже подняла голову и смотрела прямо на меня. Было так радостно видеть, как с ее глаз спадает пелена смятения, покрывавшая их раньше, что я почти позабыла о Мигеле.
– Диана? – тихонько позвала она.
– Да, это я. Спокойно, все хорошо. – И отодвинула фонарь, чтобы не слепил глаза.
Она глядела на меня поверх плеча, испуганная, словно ожидая удара, однако между страхом и одержимостью есть явное различие: Вера выбиралась из своего колодца, и с каждой минутой это было все ощутимее. У меня на глазах она отреагировала панически, увидев Клаудию:
– Что… что это с ней?
– Она попыталась сделать маску, – объяснила я. – И думаю, что овладела сама собой.
– Это… это ужасно!
– Знаю. Не смотри на нее. Лучше помоги мне, пожалуйста, – вот этим нужно зажимать ему рану. – И я показала ей мокрый сверток из моей куртки.
Вера подошла и стала помогать. Я знала, что сама возможность быть хоть чем-то полезной немного ее успокоит. Мы посмотрели в глаза друг другу, и Вера разрыдалась:
– Клаудия хотела… хотела навредить тебе!.. А я ненавидела ее, но должна была подчиняться!
– Забудь об этом, – шепнула я.
– Я хотела остановиться! Но она настаивала, и мне пришлось…
– Хватит уже, Вера. Мы вместе, а это самое главное.
– Я ненавидела ее, Диана! Ненавидела ее! Нена…
Я понимала, чего она добивается: сочиняет нелепые оправдания, чтобы успокоить себя. Единственным реальным объяснением служит псином, но ее рациональный мозг не допускал, что наслаждение довело ее до такой крайности – играть против меня.
– Вера. – Я взяла ее лицо в ладони. – Посмотри на меня. Все уже кончилось, дорогая. Клаудия уже не опасна.
Как будто упоминание ее имени было сигналом – мы вновь посмотрели на нее. С того места, где мы находились, склонившись над Мигелем, она была видна со спины: худущие, голые до черных гольфов ноги, ягодицы вздымаются двумя холмиками мышц по обе стороны от перемычки трусиков, спина со вздыбленными лопатками, похожими на атрофировавшиеся крылья, поднятые руки. Напоминает статую балерины, одну из скульптур, воплощающих «боль человеческую» в парке «Нулевой зоны». Но теперь появилось что-то еще. Ее облик изменился.
Больше всего в глаза бросалась кожа: и спина, и ноги были словно покрыты мелкими блестками или чешуей, сверкавшей в луче света. Я догадалась, что это пот. Одинаковые, словно клоны, геометрически правильные капельки, как будто все поры решили открыться одновременно и выплеснуть одинаковое количество жидкости. Я наклонилась и заглянула в зеркало – посмотреть на ее лицо.
Мне пришлось закусить губу, чтобы не вскрикнуть.
Глаза ее сделались двумя раскрашенными камешками, вылезающими из орбит, и мне показалось, что я вижу скользившие по глазным яблокам капли пота, веки при этом оставались поднятыми. Рот, словно еще одна орбита, широко открыт, язык прилип к нёбу. Даже лицо как будто сильнее заострилось. Я подумала, что, упоенный наслаждением, ее псином, этот король-тиран, не позволяет ей и на долю секунды оторваться от образа, доставляющего такое удовольствие, и требует еще и еще. И все это одновременно делает образ все более желанным, но при этом его же и истощает. Что-то вроде короткого замыкания. Ее образ напомнил плоское бесполое существо с полотна «Крик» Эдварда Мунка. «Вот он, Йорик», – пронеслось в голове, и к горлу подкатила тошнота. Череп шута Гамлета, этот его костный лик с глазами и ртом, зияющими, как колодцы, глядящий и поверх себя самого, и поверх самой реальности. Мне подумалось, что Женсу наверняка доставило бы удовольствие взглянуть на конечный результат своего жуткого эксперимента.
Воспоминание о Женсе заставило меня обернуться к двери. Мне удалось разглядеть его в тусклом свете походного фонаря на соседней сцене: сидит на том же месте, лицо – кровавый студень. И хотя в эту минуту я ненавидела его сильнее, чем когда бы то ни было, я от души пожелала, чтобы он был уже мертв. Подумала, что Виктор Женс испытал запредельную боль, но, возможно, судьба Клаудии должна вызвать еще большую жалость, поскольку в ее случае речь идет о запредельном наслаждении. Боль вела и наконец привела к заключительному облегчению – смерти, а наслаждение, кажется, оставляет жить и замораживает эту жизнь в некоем растительном, парализующем, бесконечном экстазе. Чем защититься от вечного счастья? Клаудия ошибалась: небеса гораздо хуже адского пламени. Убить ее сейчас было бы актом милосердия, но я предпочла дожидаться помощи.
– Мигель выздоровеет? – спросила Вера.
– Обязательно. – Я отвела с его потного лба волосы и почувствовала, что он реагирует на мое прикосновение. Кожа его была холодной и влажной. Пульс еще ощущался, но постепенно слабел. – Ты спас мне жизнь, – шепнула я. – А теперь будешь спасать себя, слышишь? Ты не уйдешь, нет, ты не можешь этого сделать…
Про себя я чертыхнулась по адресу запаздывающей «скорой» и вдруг разревелась. Рука Веры легла мне на плечо.
– Все будет хорошо, – шепнула она.
Неожиданное чувство охватило меня, когда я взглянула на сестру, черты которой были размыты пеленой слез. Вдруг я увидела в ней взрослую женщину. Увидела ее не как свою сестру, не как девочку с лопнувшими барабанными перепонками, за которой я ухаживала в больнице после гибели наших родителей, а как подругу, как человека, которого я люблю, но кого как раз по этой причине не следует обременять своей любовью. Как независимого от меня, разумного человека, который пойдет своей дорогой, какой бы эта дорога ни оказалась. Я оберегала ее настолько, насколько это было в моих силах, но, возможно, пришла пора отпустить ее, чтобы дальше она пошла одна.
– Да, – сказала я, вытирая слезы и все еще удивляясь этой внезапной мысли. – Все будет… – Я прислушалась: завывание сирен, еще далекое, но, несомненно, это оно. Мое плохое самочувствие отчасти улетучилось, и я улыбнулась Вере. – Послушай! Слышишь? Они уже приехали! Уже…
Оглушительный грохот заставил меня умолкнуть. Мы с Верой вскрикнули одновременно.
Я обернулась и не сразу поняла, на что смотрят мои глаза.
Окровавленное существо, вздыбленное на пиках битого стекла, было похоже на не поддающийся расшифровке иероглиф.
Затем я взглянула на расколотое зеркало и, кажется, поняла.
Каким-то образом Клаудия преодолела свою неподвижность и бросилась на зеркало, разбив его, а вместе с ним и свою собственную плоть – ту жилистую плоть, которая была ее телом. Осколки стекла торчали отовсюду, кровь омыла кожу, сделав блестящим ее черный топ. Как ей это удалось? Это не могло быть исключительно триумфом ее воли. Возможно, псином бросил ее на изображение в зеркале, чтобы окончательно им овладеть?
Я этого не знала. К тому же в тот момент единственное, что имело значение, – наблюдение за тем, как это скопище костей, объединенное черной магией желания в некую фигуру, подобную человеческому телу, наклоняется, чтобы поднять один из остроконечных, размером с охотничий нож, осколков стекла, и прыгает в нашу сторону.
Я была уверена, что в ней уже не оставалось ни капли разума, который мог бы спланировать это нападение, – это был только ее псином, ставший абсолютным монархом, своеобразным Генрихом VIII, жаждущим крови и слепо ищущим тело, чтобы ее получить. И именно поэтому, резко оттолкнув свою сестру, я увидела отраженную в глазах Клаудии смерть.
Времени у меня хватило только на то, чтобы выставить вперед руки. Ее удар отбросил меня к стене, и я взвыла от боли. Правой рукой мне удалось остановить поршень, в который превратилась рука Клаудии, прежде чем острый край стекла вошел мне в горло, но это был предел моих возможностей. Левой рукой она схватила меня за волосы, дернув так, что почти вырвала их с корнем, в то время как правой с неумолимой легкостью сокрушала препятствие, какое являли собой мои тщетные усилия. Все поле зрения занимало ее лицо – жуткий череп с осколками стекла, пронзившими недвижные губы, скулы, брови, даже глазные яблоки, которые тем не менее пристально глядели на меня.
Тишина, извергаемая ее открытым ртом, была оглушительной. Чаша весов склонялась в ее пользу, и острие стеклянного ножа коснулось моей шеи. Я понимала, что умру, но тут вспыхнула последняя мысль – мимолетная, но отчетливая: может, Клаудия права и в ее слепой мести есть некая справедливость? В конце концов, все мы были подточены собственным удовольствием, все мы были наживками для самих себя. У псинома нет другого выхода: мы – только то, чего желаем. Так что я закрыла глаза и стала ждать спасительной смерти, финального наслаждения, последнего исполненного желания. Пока я ждала, раздался выстрел, и на меня брызнула плоть Клаудии – остатки ее пустых измышлений. Когда я снова смогла что-то видеть, моим глазам предстало зрелище падения ее скелетообразной фигуры с дыркой в левом виске и застывшим на лице выражением удивления. Словно диктатура псинома рухнула как раз в момент смерти, позволив ей снова стать обычной Клаудией, какой она всегда и была. А рядом я увидела перекошенное, но решительное лицо своей сестры – над дулом пистолета Мигеля, который она все еще сжимала в руке.
Помню целую толпу санитаров вокруг тела Мигеля.
Помню, что умоляла его спасти.
Помню ничто – темноту, занавесом упавшую перед глазами.
Эпилог
Мадрид, две недели спустя
– Привет! Можно войти?
– Конечно. Что за вопрос? Рад тебя видеть.
– А я тебя.
– Садись, пожалуйста.
Мы улыбнулись друг другу. Марио Валье поправил очки на носу. Его кабинет, как всегда, был чист и элегантен, хотя на этот раз – в виде исключения – жалюзи подняты и в окна льется полуденный свет.
Я выбрала диван, а не стул перед его письменным столом, что, кажется, его позабавило. Сам он садится в пациентское кресло напротив меня.
– Собираешься сделать очередное признание?
– Ну, есть немного, – согласилась я.
Его улыбка как будто застыла.
– Что-то случилось?
– Да ничего особенного. – Я сняла куртку и положила рядом с собой на диван. – Извини, что за все время так и не позвонила.
– Я подумал, что ты… работаешь, наверное, – отозвался он.
– Ну, у меня оставались кое-какие дела.
Валье кивнул:
– А теперь ты с ними покончила?
– Можно сказать, что да. И мне очень жаль, что я опять пришла без предупреждения. Подумала, что перед обедом ты уже закончил прием, но еще не ушел…
– Бог мой, Диана, может, хватит извинений? Мне очень приятно видеть тебя, правда.
– Я тоже очень рада тебя видеть. – Я провела ладонями по рукам. – Я долго думала.
– Это очень полезное упражнение, которое людям следовало бы делать почаще. Кроме того, размышления тебя украшают. – Он взглянул на мою левую руку с обрубком мизинца. – Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо. Раны затягиваются.
– Прекрасно. Ты такая красивая.
– Спасибо. Ты тоже хорош собой.
Меня позабавило, как Марио Валье реагирует на комплимент – как и большинство мужчин, просто не обращает внимания, словно речь идет об очевидном. Когда он вновь улыбнулся, я заметила, что он слегка расслабился.
– Так, а теперь, когда ты подольстилась к психологу, отдав должное его красоте, скажи, о чем же ты думала.
– Ну, ты просил меня принять решение, помнишь?
На мгновение показалось, что Валье подозревал у себя какое-то смертельное заболевание и ему сообщили, что пришли результаты анализов.
– Не хочу, чтобы ты говорила мне то, чего сама не хотела бы. – Он остановил меня жестом.
– Но я хочу это сказать.
– Нет-нет, Диана, нет. Правда.
– Не хочешь знать, какое решение я приняла?
– Но я уже знаю. Бога ради, я уже знаю. Я знал, что́ именно ты решишь, в тот самый момент, когда просил тебя подумать. – И он махнул рукой. – Ты любишь одного… одного из твоих товарищей, разве не так? Ты собиралась уйти в отставку и сойтись с ним. Ну и замечательно. Единственное, чего я хочу, то, чего я хотел всегда, – это чтобы ты оставила эту работу. Клянусь. Мне важно одно – твое счастье. Чтобы ты больше не страдала. Не смотри на меня так, я говорю серьезно…
– Да никак я на тебя не смотрю, но…
– Может, я сейчас скажу тебе то, чего не следует, – заторопился он. – Я поддался порыву… Думаю, что это составляющая синдрома зрелого мужчины, который увлекся красивой девушкой. Я не хочу, чтобы ты подумала, что я преувеличил свои чувства. Я был искренен. Мы всю жизнь порой ищем того, кто способен нас понять, и вдруг находим. Как и случилось со мной. Я очень сожалею.
– А можно сказать мне? – Я с улыбкой подняла вверх указательный палец[68].
– Нет, нельзя. Не хочу слышать того, что уже и так знаю. Это лишнее. Моя просьба к тебе подумать и принять решение была подростковой выходкой, недостойной… Чего ты смеешься?
– Да вы, психологи, такие забавные. Из трех мыслей, которые от вас слышишь, две – самоанализ.
– В тот день, насколько я помню, я выказал и третью, – нашелся Валье, и мы умолкли, улыбаясь. – Я буду по тебе скучать, – прибавил он после паузы, таким тихим и мягким голосом, словно говорил сам с собой. – Но вовсе не обязательно было приходить ко мне извиняться за твое решение.
– Я пришла вовсе не извиняться, Марио.
Валье оглядел меня. Если бы я была сейфом, то можно было бы сравнить выражение его лица в ту минуту с миной классного взломщика. Я тоже смотрела на него. Его мягкость, обаяние, даже элегантность – в тот день на нем были зеленые брюки и рубашка, а под ней бадлон цвета бургундского – все, казалось, было направлено к одной-единственной цели. Как будто он говорил: «Вот он я: очень симпатичный, вежливый, могу тебя выслушать и понять». Мне нравилось, как он себя подает.
Я стала серьезной, но взгляд не отвела. Потом глубоко вздохнула и договорила:
– Я пришла сказать, что выбрала тебя.
Двумя неделями раньше я и представить себе не могла, что буду это говорить. Но, конечно же, тогда мне было о чем подумать. А ребята из службы безопасности нашего отдела позаботились, чтобы думать для меня стало нелегкой задачей. Они вломились на сцену поместья в ту трагическую ночь, которую устроила Клаудия, обвешанные той бредятиной, которую используют против опасных наживок, – преобразователями изображения и звукофильтрующими устройствами, а также подкожными пистолетами, – хотя и знали, что качественная маска способна дать сто очков вперед этим идиотским средствам защиты. Я уже потеряла сознание – сразу после того, как моя сестра выстрелила в Клаудию, но эти ребята все равно не преминули «помочь» мне – без лишних колебаний запустили мне в горло дротик с отключающим сознание средством.
А после этого занавеса – «мастерская». Обычные медбратья, обычный надзор. Или, возможно, чуть более строгий, чем обычно.
Я часами лежала, чувствуя себя так, словно даже мое дыхание может заразить любого, кто приблизится, вирусом, вызывающим кровотечение. Меня держали за полупрозрачными занавесками и разглядывали из-за них как до сих пор не каталогизированное животное. Меня переодевали, ничего заранее не сообщая, иногда вообще оставляли голой по нескольку минут, с мыслью, что так я не смогу подготовить ни одной маски, требующей какого-никакого специального костюма. Стоит ли говорить, что мои настойчивые вопросы полностью игнорировали, пока наконец не появился Тот, Кто Отвечает – тип в рубашке, без пиджака, в очках и с таким выражением лица, что сразу стало понятно: он гораздо больше времени смотрит в монитор, чем на людей. Он явился в окружении службы охраны.
– Ваша сестра вне опасности, – заявил он.
Но я спрашивала и о Мигеле, и молчание по поводу его состояния пронеслось ледяным ветерком по моему затылку.
Чиновник скрестил руки на груди и продолжил:
– Ларедо потерял много крови, сейчас он в отделении интенсивной терапии. Пуля не задела ни сердце, ни основные кровеносные сосуды, однако прошла через верхушку левого легкого. Прогноз – сдержанно-хороший.
Услышать, что Мигель жив, было таким облегчением, что мне захотелось подпрыгнуть. Но я даже не улыбнулась, верная своему воспитанию наживки. Нередки случаи, когда из-за несвоевременного выражения эмоций можно потерять все, это я знала очень хорошо.
В обмен на эту информацию я должна была поделиться своей. Я говорила о Клаудии, о Женсе, о своих подозрениях относительно того, что они сделали в прошлом, и о том, что они делали у меня на глазах. Говорила о Йорике – о том, что, по-моему, он собой представляет и какой эффект производит. Последняя часть моих показаний была особенно детальной, потому что, за исключением Веры и меня, все, кому довелось испытать на себе ее воздействие или кто умел ее изображать, в том числе Клаудия и Женс, унесли эту тайну в могилу. Пока я говорила, человек этот только слушал и кивал. Никто ничего не записывал, и я подумала: если бы мои мысли были образами, они повесили бы дополнительную камеру – фиксировать образы.
И когда этот инквизиторский допрос завершился, мне позволили увидеть Веру.
Она была в такой же палате, как моя, но с охранниками при входе. Понятное дело, это не ее охраняли от возможных враждебных действий, а всех остальных защищали от нее. Она была простая девчонка, или, по крайней мере, такой казалась, но ею овладели при помощи Йорика, а Йорик, совершенно очевидно, пока сбивал их с толку. Кроме того, порой неясно, когда именно маска утрачивает свою эффективность, хотя она и может быть повторена вновь. Как бы там ни было, меня пропустили – и она была там. Глаза в пол, смиренная, вся какая-то маленькая, внешне совсем неопасная.
Я на нее взглянула, и у меня возникло странное ощущение «на грани всего сразу» – радости и печали, доверия и сомнения, умиротворенности и тревоги. Этим ощущением, по мысли Женса, пронизаны последние творения Шекспира, где автор старался преодолеть границы между театром и литературой. В частности, мне вспомнилась последняя его пьеса, в которой заметны эти попытки, написанная в соавторстве с Флетчером, – «Два знатных родича». Вот так и мы с Верой – в одинаковых больничных халатах, связанные отдаленным, но все же заметным физическим сходством: знатные, или же незнатные, родичи, встретившиеся практически впервые после долгой разлуки.
Словно подтверждая на деле наше родство, мы одновременно произнесли:
– Как ты себя чувствуешь?
И улыбнулись, не зная, как начать эту трагикомическую сцену.
– Давай ты первая, – предложила я.
– У меня все хорошо. Говорят, что я сплю почти по двенадцать часов в сутки. А ты как?
– Да то же самое. Ты же знаешь – чтобы начать сибаритствовать по полной программе, только-то и требуется, что заболеть.
Я была страшно рада вновь увидеть ее фирменную улыбку.
– Да, но ты не выглядишь больной, – сказала она.
– Хочешь сказать, что я растолстела?
– Вовсе нет – ты все такая же длинная, стройная и…
– И «неотесанная», – докончила я, узнав шутливую фразу, которую часто адресовал мне папа. И меня кольнуло изумление. Я уже не в первый раз задалась вопросом: что на самом деле помнит о родителях Вера, а что в ее познаниях – всего лишь память о моих рассказах? – Не думаю, что удастся растолстеть на той стряпне, которую здесь приносят.
– Это уж точно. – Она теребила край простыни.
Мне не хотелось, чтобы она разволновалась от разговоров о том, что с нами произошло, но Вера – моя сестра, к тому же еще и наживка, как и я: мы привыкли погружать скальпель в самую сердцевину сознания. Так что я подсела поближе и принялась поглаживать ее руку:
– Мне жаль, что так получилось с Элисой… Очень жаль.
Она пожала плечами, но слезы сдержала: по-видимому, хотела показать, что может с этим справиться.
– Ты все помнишь?
– Да. – Она поколебалась. – Это мой провал…
– Нет, ты спасла мне жизнь. И вела себя как настоящий профессионал.
– Я позволила собой овладеть. Попала в ловушку.
– Клаудия оказалась слишком крепким орешком для всех.
Но не в этом заключалась ее главная мука, и, постаравшись сгладить мелкие шероховатости, я, как полная дура, не заметила более серьезной проблемы.
– Знаешь?.. – прошептала Вера. – Сначала я ведь не хотела… стрелять в… в нее…
Я кивнула, думая, что понимаю, что она имеет в виду. «Не хотела стрелять в нее, а хотела, наоборот, в тебя» – вот та фраза, которую она не решилась произнести. Естественно, она наклонялась и брала в руку пистолет с другим намерением, но передумала или же усилием воли заставила себя это сделать – в последнюю секунду.
– Вера, дорогая, успокойся. – Я обняла ее, увидев выступившие слезы. – Сильная одержимость оставляет свои последствия, ты не должна себя из-за этого корить… Твой псином был склонен защитить ее, потому что Клаудия стала для тебя источником наслаждения. Но в конце концов ты решила защитить меня, а это доказывает, что я тебе даю счастья больше. – Мне не удалось вызвать на ее лице улыбку, но, по крайней мере, плакать она перестала. Я поцеловала ее в голову и прибавила: – Кроме того, хорошо, что ты на своей шкуре узнала, что такое быть одержимой. Каждая хорошая наживка должна испробовать на себе свое же лекарство…
Она отстранилась и подняла на меня удивленные заплаканные глаза.
– «Каждая хорошая наживка»?
Я кивнула:
– Ты и сейчас хорошая, но скоро станешь еще лучше.
– Я не совсем уверена, что хочу продолжать этим заниматься…
– Сейчас рано принимать такого рода решения, тебе не кажется?
Она смотрела на меня во все глаза. Ее улыбки – одна за другой – были похожи на недоношенных детей, умиравших сразу после рождения.
– Но ведь ты не хотела, чтобы я… продолжала…
– Я была не права, теперь я точно знаю. – Отведя с ее лба волосы, я глубоко вздохнула. – Ты уже не девочка. Теперь тебе не нужно, чтобы я защищала тебя, Вера. – Произнося это, я подумала, что это неправильно. Но это было правильно, и я тут же пришла в себя. – Ну, или ты нуждаешься в моей защите не больше, чем я – в твоей. Так что ты обдумай все – не торопясь, спокойно. Это твоя жизнь, и я не буду вмешиваться – ты проживешь эту свою жизнь так, как сама захочешь. Только одно могу сказать: что бы ты ни делала, как бы ты ни поступила, не делай этого ради папы с мамой. Мы уже отдали свой долг – и с лихвой – за ту любовь, которую они нам дали. Они знают, что мы никогда их не забудем, но теперь нужно позволить им отдохнуть. Что бы ты ни делала – делай это для себя.
– А ты? Что будешь делать ты?
Я не допустила ошибки – не стала скрывать собственные сомнения:
– Не знаю. Я тоже должна принять решение.
– Тогда мы в одинаковом положении, – улыбнулась Вера.
– Да, в одинаковом.
Мы обнялись, и пока я чувствовала, как ее тело дышит, прижавшись к моему, пришло понимание, что та девочка с лопнувшими барабанными перепонками, о которой я заботилась всю жизнь, исчезла навсегда. Теперь – другое, теперь мы с ней – и Вера, и я – две женщины с различными судьбами. Уже ни одна из нас не нуждается в другой. Обе мы наконец одиноки.
И как раз именно поэтому обе мы наконец вместе.
Остальное можно описать просто: я наводила порядок на столе. Именно таким были впечатления от последующих дней: я чистила свой мир и ждала, что же будет дальше. Мигель поправлялся, и, хотя виделась я с ним не часто, меня радовало, что с каждым разом его пульс становился более полным, а взгляд – более внимательным. Говорили мы мало и ни разу – о будущем. Нужно было дождаться, когда он наберется сил, и тогда я смогу поговорить с ним и о своих сомнениях, и о надеждах, и о пока еще далекой тени моего решения.
Между тем пришлось наводить порядок и на чужих столах. Клаудия оставила больше вопросов, чем ответов, но при этом начала распространяться идея, что Йорик – это инновационная находка. Последним свидетелем этой маски, кто был способен о ней рассказать, оказалась я, и до выписки явились несколько высокопоставленных посетителей: Винсент Джолия и Стивен Барт из Отдела криминальной психологии ФБР в Виргинии и Жан-Поль Ален из Парижа, большой друг и многолетний соратник Женса. Я чувствовала себя ярмарочной диковинкой. И повторяла одно и то же, как попугай, за исключением того, что было связано собственно с Женсом. Новый директор Психологии – перфи Рикардо Монтемайор, – как и новый уполномоченный по связям с правительством Гонсало Сесенья, сказал, что для всего мира Женс и так давно мертв, так что нет нужды убивать его во второй раз. Тем не менее это не стало поводом отказать ему еще в одних похоронах.
Похороны состоялись в Барселоне, спустя три дня после моей выписки, и были совсем не публичными, закрытыми, но Сесенья, к моему удивлению, меня пригласил. И я, к еще большему своему удивлению, это приглашение решила принять. Села на самолет и молча, в сторонке, постояла на помпезном кладбище, где находится пантеон семьи Женс, в котором и была установлена урна с его прахом. И подумалось, что этот мавзолей с горгульями на фризах, напоминающими маски, – самое подходящее место для его останков: целый театр с каменными куклами, финальный занавес для сеньора Пиплза, человека, который показал, что люди – актеры, что мир – сцена и что все это гораздо раньше знал другой человек – лет за пятьсот до него. И я вспомнила того человека, гораздо более от нас далекого.
Женс мне об этом рассказывал. Завершив последние произведения, в создании которых участвовали, запрятывая ритуальные ключи, и «официальные» авторы, Уильям Шекспир удалился в родной городок и вскоре умер. «Очень разумная мера: правительство расправилось с ним быстро и не прибегая к насилию – всего лишь обязав его жить с семьей» – таким был ироничный комментарий Женса. «У меня нет семьи, к счастью, – прибавлял он, – и это заставляет меня думать, что со мной не удастся расправиться столь хитроумным способом. Я умру, творя, паду на поле битвы». Я припомнила эти слова и подумала, что различия уже сглажены: оба – Шекспир и Женс – дошли в своих разысканиях до пределов, оба были поглощены собственными созданиями, и теперь оба – что-то вроде тайны и что-то вроде памятника.
В те последние дни я думала о Женсе, о Клаудии, которой Сесенья захотел воздать последние почести, стерев с лица земли поместье, и, конечно же, о Мигеле и Марио Валье, но прежде всего – об этом мире безумцев, лишенном глубоких истин, за исключением наслаждения, мире, в котором только наука и театр могут попытаться достичь собственной справедливости.
И тогда, однажды ночью, я приняла решение.
И на следующий день появилась в кабинете Марио Валье.
– Я выбрала тебя, – повторила я, на этот раз более твердо.
Марио Валье встал:
– Диана… ты… Нет… Ты любишь другого…
– Я так только думала, – призналась я. – Я тебя не обманывала: да, я любила одного человека. Думаю, до сих пор люблю его, но… дело ведь не только в том, чтобы выбрать того или другого мужчину, Марио, а в том, чтобы выбрать ту или иную жизнь. А я не хочу той жизни, которую предлагает мне он.
– Возможно, ты обманываешься.
– Возможно.
На лицо Валье словно набежала туча, но в то же время было слышно, как шумно он дышал, обнадеженный. Я улыбнулась:
– Если ты передумал относительно меня, могу это понять, правда. Я…
– Нет-нет, – прервал он. – Просто я хочу, чтобы ты была уверена в своем решении, Диана. Из-за тех неприятностей, которые ты могла бы навлечь на себя, или тех, которые мы могли бы доставить друг другу…
– Это решение не было простым, но оно уже принято.
Я тоже встала. Мы стояли друг напротив друга, как и в тот день, у него дома, когда начали целоваться. Но сейчас – никаких поцелуев, только пристальный взгляд глаза в глаза, удивление и долгое молчание. В конце концов Валье улыбнулся:
– Вот ведь черт – ну и конец приема у меня сегодня выдался!
Услышав его осипший голос, я засмеялась.
– В конце концов, нам нужно поговорить… Я вот думал… Нет ли здесь… бутылки шампанского, но у меня и банки пива не осталось… Только вода.
– Тогда – вода.
– Могу послать за шампанским секретаршу…
– Не вздумай напиваться, пожалуйста, перед обедом. Можем чокнуться и водичкой.
Мы расхохотались, как малые дети. Он пошел в соседнюю комнату, где, по-видимому, размещалась маленькая кухонька. Слышно было, как он гремит стаканами. Я подошла к двери и стала смотреть, как он наливает холодную воду из графина, вынутого из все еще открытого холодильника. Он стоял ко мне спиной, так что не составило труда приставить к его затылку дуло маленького пистолета, который я успела вытащить из кармана.
– Положи все, что у тебя в руках, Марио, и медленно повернись ко мне.
Его словно парализовало. Я повторила приказ, снимая с предохранителя курок плоского пистолетика, который удалось пронести незамеченным даже в кармане брюк. Я видела, как он ставит на стол предметы, которые держал в руках: графин с водой и пузырек, который чуть раньше достал из маленького – не больше детской ладошки – сейфа, расположенного в дальнем углу полки над холодильником. Там находилось еще несколько пузырьков, а также флакон без этикетки.
– А теперь руки за голову и повернись ко мне лицом. И не пытайся ничего делать.
Тот Марио Валье, который повернулся ко мне, был уже совсем не похож ни на Марио Валье несколькими минутами ранее, ни на того, которого я хорошо знала: веко дергается, зубы оскалены. На лице не столько удивление, сколько ярость.
– Это что, Диана?.. Что ты сделала?
– Я спровоцировала у тебя пробой. Это такой способ преодолеть зацеп, соскочить с крючка, чтобы псином в течение нескольких секунд руководил сознанием. Что-то вроде смеси кокаина и алкоголя: некоторые от этого бросаются в драку, другие хватаются за нож, а тебя потянуло к потайному сейфу…
Вдруг Валье сделался серьезным:
– И с каких пор ты обманываешь меня?
– С самого начала, – сказала я. – Но в любом случае я занялась этим позже, чем ты стал Отравителем.
– Я… не…
– Да ладно, – перебила я. – Что ты там прячешь? Очень похоже на сейф. Наверняка снабжен блокаторами сканера. Когда он закрыт, его никто не сможет обнаружить. Дорогая штука. И что же такого ценного содержат эти пузырьки, а, доктор? Держу пари, органического происхождения яд, из тех, что не оставляют следов, приготовлен по древним рецептам индейцев, среди которых ты жил, так?
Пробой – это как проблеск: ослепительный, непредсказуемый, порой смертельный, но молниеносный. Я заметила пробуждение разума в глазах Валье – в выражении лица, мигании век. И поняла, что он уже не на крючке. Но не собиралась его туда возвращать.
– Нет такого закона, который запрещал бы хранить токсичные материалы в медицинском кабинете, – произнес новый Валье – более рассудительный, гораздо более хладнокровный, но не менее возмущенный. – Я должен обратиться к своему адвокату. То, что ты делаешь, противозаконно. То, что делают наживки, противозаконно…
– Однако не противозаконно, по-видимому, травить пациентов, которые обращаются к доктору за медицинской помощью.
– Я никому ничего плохого не делал. – И прибавил после паузы: – Я вовсе не собирался давать тебе это.
– Я знаю. Это пробой вынудил тебя раскрыть маленький секрет, только и всего.
– У тебя нет доказательств… Ничего у вас нет.
Этот новый Валье в позиции защиты начал внушать мне отвращение. Не отводя дула пистолета, я улыбнулась:
– Скажите лучше, что после обнаружения яда у нас есть все, что нужно, доктор. Компьютеры давно определили двух-трех врачей и психологов, к кому могли обращаться жертвы, включая и вас. Разумеется, имея доступ в «Winf-Pat», вы могли стирать данные о пациентах, которые приходили к вам впервые, ведь так? Так что оказалось практически невозможно установить, что все они обращались в вашу консультацию. Кроме того, этот яд обладает отложенным действием: вы предлагали жертве стакан воды и потом она спокойно от вас уходила. Нанокапсулы, так? Действующее вещество высвобождается через несколько недель, иногда – месяцев и не оставляет следов своего пребывания в организме… Никто не может обнаружить его, и, конечно, ни один судья не подпишет ордер на обыск по месту жительства того, кого определил компьютер. Понадобились наживки. К вам послали меня. Когда я собиралась выйти в отставку, у меня на руках было два дела: убийцы проституток и ваше. Мы еще не были уверены в том, что вы – Отравитель, но, поскольку я думала оставить работу, я пришла к вам – в последний раз. Должна была распрощаться наиболее «естественным» образом, чтобы мне на смену спокойно могла прийти другая наживка. Позже, решив закончить начатое, я вновь взялась за обе свои охоты и снова пришла к вам. То, что вам удалось найти мое настоящее имя в «Winf-Pat», а также раскрыть мои воспоминания и мою идентичность, было подстроено заранее. Все входило в сценарий театральной постановки.
Валье качал головой, стараясь изобразить сарказм.
– Но это же абсурд! – взорвался он наконец. – Ты сама говоришь, что я был в числе подозреваемых, и тем не менее ты сказала о себе правду: что работаешь в полиции наживкой…
– Это было частью маски. Ваша филия – не филия Добычи, как я тогда сказала, а другая – похожая на нее и очень редкая, ее называют филией Наживки. Название роли не играет. Важно, что мне, чтобы разыграть свой спектакль, нужно было рассказать правду о себе самой. Эта маска требует, чтобы наживка открыто объявила о том, что она ею и является. Нельзя было ничего скрывать о себе, за исключением намерений. Это очень сложная маска, на ее подготовку уходят дни. Мне удавалось совершенствовать ее с каждым визитом к вам. А сегодня я решила, что настал самый подходящий момент для пробоя.
– Все, что ты сделала, – противозаконно, – повторил Валье с испариной на лбу.
– Более законно травить пациентов?
– Но я их не травил! Никогда и никому не причинил я вреда, Диана. Я всего лишь облегчал их невыносимые страдания… Это были пленники! Люди, одурманенные собственными маниями! Мальчишка, которому едва исполнилось двадцать, разрушенный героином… Женщина шестидесяти лет, больная раком, считавшая дни до того момента, когда ей уже не будет помогать обезболивающее… Мужчина, который избивал жену – снова и снова, не обращая внимания ни на угрозу тюрьмы, ни на предписания о раздельном проживании… Я уже говорил, что многому научился у индейцев на Амазонке. И не только рецептам ядов. Они не такие, как мы! Отчаявшись, они не цепляются за свою несчастную жизнь! С ними я выучился ценить человеческое достоинство! Я усвоил: если не удается сохранить достоинство, желательно убраться с дороги!
– Именно это я и думаю, – сказала я, глядя ему в глаза. – И поэтому хочу убрать с дороги вас, доктор.
Мгновение он молчал, не отводя взгляда. Все, что он наговорил, было записано и передано посредством малюсенького микрофона, присоединенного к моему браслету, и я полагала, что судья не будет слишком долго раздумывать перед тем, как выдать ордер на его арест, и через несколько минут сюда явится полиция.
Но Валье и не думал сдаваться. С улыбкой на лице он медленно, словно бросая вызов, опустил руки:
– Диана… во что ты со мной играешь? Говоришь, чтобы подцепить меня на крючок, тебе нужно было рассказать правду о себе… но ты рассказывала не только о своей жизни…
– Руки на голову, доктор.
– Нет. Я не собираюсь подчиняться. Попробуй в меня выстрелить.
Я по-прежнему держала его на мушке. Валье улыбнулся, разводя руками:
– Я не убийца, Диана. Можешь думать все, что хочешь, но я-то знаю, что помогал людям. Два года назад от меня ушла жена, потому что терпеть не могла мою работу. Считала, что я слишком много внимания уделяю пациентам, что у меня не остается времени для нее… Я любил ее, но принял ее выбор. Понял, что моя миссия – идти дальше в одиночку. И по-прежнему помогать тем, кто страдает…
Я хорошо понимала, чего он добивается: Наблюдатель, как и Вера, пытался найти разумное объяснение своему псиному. Не одиночество и не желание помогать людям было тем, что толкало его убивать, а наслаждение, которое он при этом испытывал. Но объяснять это не хотелось – мое собственное наслаждение заключалось в том, чтобы его схватить.
– Ничего плохого ты мне не сделаешь, Диана… – продолжил он, расплывшись в улыбке, поскольку убедился, что я не стреляю. – О своих чувствах ты сказала правду… Такие вещи подделать невозможно. Ты полюбила меня, ты мне открылась… Это не было театром…
– Руки, доктор, – вновь предупредила я.
– И это тоже – не театр, – сказал он, не обращая на меня внимания, и нажал на ручку маленького ящика справа от себя. Извлеченный оттуда пистолет был гораздо больше моего, хотя, наверное, убивал на этом расстоянии так же надежно. – Ты не будешь в меня стрелять. Ты меня любишь. Но я знаю цену собственному достоинству…
Когда он направил пистолет себе в рот, я сделала Занавес.
Маска Занавеса очень эффективна в тех случаях, когда нужно остановить насильственные действия филиков Добычи или Наживки. Ее суть – резкие контрасты между жестами и голосом, которые должны быть разнонаправлены, а потом нужно блокировать и то и другое, как будто упал занавес. Я ожидала подобной реакции, и мой наряд – черная блузка, белые брюки, черные сапоги – был тщательно подобран. По Женсу, ключи к этой технике представлены в пьесе «Два знатных родича» – в той борьбе, которую герои ведут за женщину. И то, что Шекспир закончил творческую жизнь, оставив нам ключи к маске Занавеса, казалось Женсу очень удачной метафорой.
Я развела руки, потом соединила, вытянулась вверх, издала низкий стон и сплела пальцы перед лицом, закрыв его. Все очень просто. Валье, задрожав, попятился. Когда я протянула руку, он вложил в нее свой пистолет. Он все еще находился под воздействием Занавеса, когда я услышала испуганный возглас его секретарши и дверь кабинета распахнулась, впуская толпу полицейских. Марио Валье дал надеть на себя наручники, все еще не сводя с меня взгляда.
– Это были твои истинные чувства, Диана… – зашептал он. – Врала ты мне только сегодня, когда пришла сказать о своем решении, но ведь ты использовала настоящие чувства, чтобы обмануть меня… Ты хоть понимаешь это, Диана?.. Вся твоя разнесчастная жизнь – сплошной театр… Что остается от тебя самой, когда кончается представление? Ты любишь меня, я знаю… Ты не притворялась. Почему ты так со мной поступила?
Думаю, я нашла бы что сказать в ответ. Например, что решение, которое так тяжело принималось, не является и никогда не было выбором между Мигелем и им. Я выбирала между тем, продолжу ли я свою работу или оставлю ее, как намеревалась сделать сначала. Я могла сказать ему, что решила продолжить и что, когда Мигель поправится, постараюсь жить вместе с ним, оставаясь тем, чем являюсь, чем всегда была, как бы я себя за это ни ненавидела. Я не гожусь ни для чего иного и никогда не годилась. Я никогда не бредила, как Женс или Марио Валье, ни театром, ни достоинством. Не лелеяла веру в то, что во мне нуждается мир. Для меня это всего лишь вопрос о том, принимаю ли я свою судьбу, буду ли верной тому, что действительно доставляет мне удовольствие, стану ли обманывать себя.
Я могла сказать ему столько всего… но сказала только:
– Потому что я – наживка.
Полиция заполнила помещение, прибыли также и эксперты-токсикологи. Валье не представлял никакой опасности, в том числе и для себя самого: он все еще был под воздействием маски. Теперь наступал черед судей и адвокатов. Моя работа закончена.
Я повернулась и сошла со сцены, оставив Валье там, под Занавесом.
Комментарии автора
Существуют явления более значительные, чем они сами, явления гораздо более масштабные, они практически бесконечны, и Шекспир – одно из них. О нем невозможно ни написать, ни придумать ничего нового. И тем не менее, когда я собирал материал о любимом авторе для этого романа (каждая глава которого, нужно сказать, посвящена одному из его творений в связи с какой-то филией или маской), то, кроме многократного обращения к не знающему себе равных великолепному Арденовскому изданию его театральных произведений на английском языке (постоянно сожалея об отсутствии аналогичного полного издания Шекспира на современном испанском), мне довелось прочесть не одну дюжину книг, авторы которых пытаются сказать о Шекспире что-то новое. Из этих работ хочется выделить три: «Шекспир. Изобретение человека» Гарольда Блума (думаю, что в издательстве «Анаграма» выходил ее перевод на испанский) – провокационное чтение для шекспироманов, «Игра теней» Клэр Эсквит – оригинальная фантазия (?) о тайном значении шекспировских произведений, и «Шекспир и современная культура» Марджори Гарбер[69] – как и гласит название, гимн «моде» на Шекспира.
Псином – выдумка, Шекспир, возможно, тоже. Но есть люди, показавшие грандиозное величие любой выдумки. Хотя напрямую я и не прибегал к его помощи, но мой друг – писатель и театральный режиссер Денис Рафтер – неизменно вставал перед моим мысленным взором, когда я писал эту книгу. Денису я обязан премьерной постановкой моего первого драматического произведения, пьесы «Мигель Уилл», в которой речь также идет о Шекспире, и он же рискнул пригласить меня на свои мудрые репетиции. Таким образом мне довелось познакомиться с маской изнутри. Спасибо тебе, Денис, а еще спасибо превосходной команде актеров, сыгравших пьесу, потому что без них ни «Мигель Уилл», ни этот роман не были бы тем, чем они являются. Отдельное спасибо всем друзьям, с которыми мы провели незабываемые «Шекспировские празднества» у меня дома (Денис входит в их число), чье активное участие и горячие сердца продемонстрировали мне еще раз, что вполне возможно развлекаться – и преотлично – с помощью творений писателя, умершего четыреста лет назад. Также я в долгу перед доктором и другом Игнасио Сансом, консультировавшим меня по поводу медицинских вопросов. Спасибо, как всегда, моим неизменным издателям – Давиду Триасу, Эмилии Лопе и Нурии Тей – за их энтузиазм и веру в меня, моим грандиозным агентам – Карине Понс, Глории Гутьеррес, Глории Масдеу и их помощникам, а также Кармен, еще и еще раз Кармен Балселлс – за ее неиссякаемые энергию и силу духа. И разумеется, всего этого не было бы без вас, мои читатели. От всей души благодарю вас.
Не могу обойти молчанием и моих сыновей, Хосе и Ласаро, и мою жену, Марию Хосе. Спасибо, потому что вам удается придать моей жизни смысл и целеполагание, когда я заканчиваю писать.
А это не удалось даже Шекспиру.
ХКС
Ноябрь 2009
Примечания
1
Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)2
Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)3
Легкое (англ.). (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)4
Чуэка – богемный район Мадрида, расположен сразу за проспектом Гран-Вия, известен также как гей-квартал.
(обратно)5
Филик – авторский неологизм, от слова «филия» – приверженец, почитатель.
(обратно)6
Взять (пассажира), снять в значении «соблазнить» (англ.).
(обратно)7
Открыто (англ.).
(обратно)8
Тай-цзи – на Западе так часто сокращенно называют тайцзицюань – один из видов единоборств, упражняясь в котором человек достигает душевного равновесия, гармонии.
(обратно)9
Перфис – профессионализм, сокр. от исп. perfiladores – профилировщики, или профайлеры, психологи Криминальной психологической службы, чьей обязанностью является составление психологического профиля (портрета) преступника.
(обратно)10
Образ действия (лат.).
(обратно)11
Кафедральный собор Мадрида, расположенный напротив Оружейной палаты Королевского дворца и посвященный покровительнице города – Богородице Альмудене. Полное название – Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена.
(обратно)12
Конец (нем., англ.).
(обратно)13
Реплики леди Анны и герцога Глостера из 2-й сцены I акта «Ричарда III» (пер. М. Лозинского); вторая реплика ближе к оригиналу звучит так: «Не проклинай себя, прекрасное создание, ведь ты – обе эти вещи сразу…»
(обратно)14
В современном испанском языке такое сокращение – 9-N – прочитывается как «9 ноября», т. е. как дата события.
(обратно)15
Луперкалии – древнеримское празднество-фестиваль в честь Луперка (Фавна), божества плодородия, проводилось ежегодно 13–15 февраля; сопровождалось жертвоприношениями собак и коз.
(обратно)16
Вне игры (англ.).
(обратно)17
Мартовские иды – имеется в виду убийство Юлия Цезаря, диктатора Римской республики, 15 марта 44 г.
(обратно)18
Пожалуйста (англ.).
(обратно)19
Извини (англ.).
(обратно)20
Дорогой профессор (англ.).
(обратно)21
Хорошо (англ.).
(обратно)22
Прошу прощения, папочка (англ.).
(обратно)23
Захват, взятие (англ.).
(обратно)24
Наркотики (англ.).
(обратно)25
Пойдем (англ.).
(обратно)26
Сукин сын (англ.).
(обратно)27
Дорогой – ласковое обращение к человеку (англ.).
(обратно)28
Подросток (англ.).
(обратно)29
Психиатрический термин, переводимый как «психоз на двоих» (фр.) – форма индуцированного бреда, при котором одинаковые по содержанию бредовые идеи наблюдаются у двух лиц.
(обратно)30
Реплика Оберона из комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник).
(обратно)31
Голограмм.
(обратно)32
Бетадин – антисептическое средство. За счет включения в состав йода имеет широкий спектр действия против бактерий, простейших, грибов и некоторых вирусов.
(обратно)33
Дисодол – обезболивающее и противовоспалительное средство.
(обратно)34
Аллюзия на пьесу У. Шекспира «Венецианский купец»: по завещанию отца Порция не может ни выбрать, ни отвергнуть жениха сама. Ее мужем станет тот, кто угадает, выбирая из трех ларцов – золотого, серебряного и свинцового, – в каком находится ее портрет.
(обратно)35
Еще одна аллюзия на шекспировского «Венецианского купца»: Шейлок – имя еврея-ростовщика, который попросил у своего заемщика в качестве обеспечения займа фунт его собственной плоти.
(обратно)36
Яппи (англ.) – молодые люди с приличным доходом, увлеченные профессиональной карьерой и ведущие активный образ жизни; имеют высокооплачиваемую работу, в одежде предпочитают деловой стиль.
(обратно)37
Высокого класса (англ.).
(обратно)38
Бездомный (англ.).
(обратно)39
В комедии У. Шекспира «Как вам это понравится» Арденнский лес – место изгнания старого герцога, свергнутого своим младшим братом.
(обратно)40
Адам и Жак – персонажи шекспировской комедии «Как вам это понравится», слуга и вельможа соответственно.
(обратно)41
Еще один персонаж той же шекспировской пьесы, дочь изгнанного герцога.
(обратно)42
Диана – в римской мифологии богиня охоты; Бланко (исп. blanco) – слово со значением «мишень, цель».
(обратно)43
Гомосексуал или актер-мужчина, одевающийся как женщина (англ.).
(обратно)44
Сарсуэла – испанский музыкально-драматический жанр.
(обратно)45
Патрулирование, слежение (фр.).
(обратно)46
Персонаж несколько раз неверно называет фамилию Элисы, перебирая близкие по смыслу понятия: настоящая фамилия девушки – Монастерио – единственное число от испанского слова «монастырь»; первый неправильный вариант – Иглесиас – это множественное число от слова «церковь», второй – Катедраль – слово со значением «собор».
(обратно)47
Фрагмент из 1-й сцены III акта комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно» в переводе Э. Л. Линецкой.
(обратно)48
Имеется в виду североамериканская компания «John Deer», основанная в 1837 г., выпускающая сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесозаготовительную технику.
(обратно)49
Реплика Елены из пьесы «Все хорошо, что хорошо кончается» У. Шекспира (пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник).
(обратно)50
Здесь автор допускает неточность: Изабелла не монахиня, она просто живет в монастыре.
(обратно)51
То есть curriculum vitae – жизнеописание (лат.).
(обратно)52
Фрагмент реплики Макбета (пер. Б. Пастернака).
(обратно)53
Слова Отелло, обращенные к Дездемоне, из 3-й сцены I акта трагедии У. Шекспира «Отелло» (пер. М. Лозинского).
(обратно)54
Программное обеспечение (англ.).
(обратно)55
Паштет (фр.).
(обратно)56
Папка, пакет (англ.).
(обратно)57
Снимаю шляпу! (фр.)
(обратно)58
Номер один (англ.).
(обратно)59
Фамилия доктора, Валье, совпадает с испанским словом valle, значение которого «равнина».
(обратно)60
«Лунный свет» – одна из четырех частей «Бергамасской сюиты» французского композитора Клода Дебюсси (1862–1918).
(обратно)61
Лас-Колумнас – Колонны (исп.).
(обратно)62
Первое ноября – День Всех Святых – праздничный и выходной день в Испании, посвященный поминовению усопших.
(обратно)63
Здесь у автора неточность: Таиса – дочь Симонида, царя Пентаполисского (а не его жена), в трагедии У. Шекспира «Перикл».
(обратно)64
Гуакамоле – блюдо из авокадо, сока лайма и различных приправ, что-то вроде соуса.
(обратно)65
Такос (taco в ед. ч.) – традиционное блюдо мексиканской кухни: кукурузная или пшеничная тортилья (запеканка) с начинкой. Такос-де-Халиско – популярная в штате Халиско (Мексика) разновидность тако – с козлятиной, приправленной специями и запеченной в глиняной печи.
(обратно)66
Фрагмент реплики Просперо (пер. М. Кузмина).
(обратно)67
«Полный дом», одна из покерных комбинаций – одна тройка и одна пара (англ.).
(обратно)68
Поднятая рука с вытянутым указательным пальцем – принятый в Испании жест ученика, желающего ответить на вопрос учителя.
(обратно)69
Оригинальные названия: Harold Bloom. Shakespeare. The invention of the human; Clare Asquith. Shadowplay; Marjorie Garber. Shakespeare and Modern Culture.
(обратно)

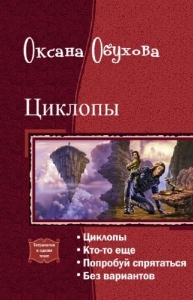





Комментарии к книге «Соблазн», Хосе Карлос Сомоса
Всего 0 комментариев