Анатолий Дроздов Денарий кесаря
Часть I Профиль императора
1
Тихо… Угомонились мои беспокойные соседи, спит Александрия, забылся тяжким сном Египет, накрытый душной, весенней ночью — никто не мешает одинокому старику в его думах. Язычок пламени на конце фитиля светильника горит ровно, без копоти — сегодня я заправил его хорошим маслом. Мягкий медовый свет выхватывает из тьмы свиток папируса, глиняную чернильницу и ряд заостренных камышинок для начертания букв — на ночь хватит. Гладкий, отшлифованный камнем, папирус принимает описание моей жизни равнодушно, как греческий стоик весть о кончине близких.
Зачем я пятнаю папирус, старательно выводя заостренной камышинкой ровные строчки? Не знаю… Я не ищу вечной славы. Я не император или родовитый патриций, в непомерном тщеславии решивший оставить наставление потомкам. Я обычный человек. И я не молод. Говорят, старики любят вспоминать юность. Если бы… Приходит ночь, ты остаешься один на скрипучих ремнях жесткого ложе, и, ворочаясь с боку на бок, малодушно просишь Господа ниспослать целительный сон, дабы миновала тебя чаша сия. Но воспоминания приходят… В груди поселяется боль, а горло цепенеет, будто сдавленное чьей-то сильной рукой. Единственное спасение — сесть к столу и писать, писать, пока не занемеет рука, а веки станут тяжелыми, как мешки с зерном на александрийской пристани.
Наверное, я лукавлю, пытаясь перехитрить самого себя. Мне хочется это рассказать. Хотя бы самому себе. А прочтет ли кто… Пергамент хрупок, и проживет куда меньше каменной доски. Если людям суждено найти этот свиток, прежде чем он рассыплется в прах, на то воля Бога. А если нет? По крайней мере, я буду спокойно спать…
Я, Марк Корнелий Назон Руф… Я вспоминаю свое полное имя раз в пять лет во время очередной переписи. Римская империя ведет строгий учет плательщиков налогов, дабы знать, сколько миллионов сестерциев очередной Август сможет потратить на свои безумства. Денег императорам всегда не хватает, поэтому сборщики налогов так ревностны и строги. Я смиренно являюсь на перепись, отдаю кесарю кесарево, большего от меня не требуют. Друзьям и ученикам мое полное имя ни к чему. Это суетный Рим жаждет знать, кто ты и откуда. Тяжкое это дело — копаться в родословных… На миллионы мужчин, живущих в Римской империи, приходится два десятка личных имен, причем, некоторые употребляются совсем редко. На берегах Средиземного моря обитают сотни тысяч Гаев, Луциев, Секстов, Публиев, Титов… Вторым именем у римлян служит название рода, но наши роды так велики… Во многих есть патрицианская и плебейская ветви, а во времена империи они стали перемешиваться… К тому же существует обычай: отпущенный на волю раб принимает имя своего хозяина. Уважающий себя римлянин обязательно указывает в завещании отпустить на волю хотя бы одного раба, но некоторые отпускают всех: назло наследникам и чтоб было кому искренне плакать на похоронах. Так в мир одновременно приходят несколько сотен Гнеев Лициниев, Марков Туллиев, Квинтов Эмилиев… Разберись потом, кто из них патриций древнего рода, а кто просто разбогатевший вольноотпущенник! Еще Август пытался с этим бороться и всячески мешал освобождению рабов. Император Клавдий и вовсе запретил вольноотпущенникам принимать римские имена, но было поздно…
А взять римлянок! У них нет собственных имен, только имя рода. Поэтому у Клавдиев все женщины — Клавдии, у Эмилиев — Эмилии… Поскольку в семье может быть несколько дочерей, то первую зовут Клавдия Старшая, следующую — Клавдия Младшая. Затем приходится считать: Третья, Четвертая, Пятая… В списки граждан обязательно заносят имя отца и мужа женщины — как иначе отделить одну Клавдию от другой?
По этой причине римляне награждают людей прозвищами. Имя Гай Юлий ничего не говорит, но если добавить «Цезарь», станет ясно, о ком речь. Прозвище Цезарь, кстати, означает «косматый», кто-то из предков великого диктатора был таким, хотя сам Гай Юлий, как известно, был лыс. После того, как приемный сын Цезаря, будущий император Август принял имя отца, Цезари в Римской империи стали множиться: каждый из последующих императоров считает долгом прибавить к своему родовому имени столь славное…
Я увлекся. Старики любят поговорить…
Я принадлежу к роду Корнелиев, но не патрицианской его ветви, из среды которой вышел завоеватель Африки Сципион, жестокий диктатор Сулла и прочие убийцы, чьими мерзостями так гордится Рим. Мой дед, Марк Корнелий, родился в бедной плебейской семье, основатель которой носил прозвище Назон, то есть «носатый». Носатые в нашей семье давно перевелись, но прозвище осталось. Семья Назонов, как тысячи других римских бедняков, десятилетиями жила на государственное пособие: получала бесплатно хлеб и масло, иногда деньги. Кроме того, Назоны состояли клиентами Эмилиев: те давали им деньги, одежду, взамен Назоны как и прочие клиенты голосовали за Эмилиев на выборах и шумно поддерживали на форумах. Вы спросите, почему мои предки не пошли на службу знаменитым Корнелиям, не стали греться в лучах славы патрицианского рода? Потому что Эмилии платили больше. И предки предпочли вкус хорошего вина и тепло жаровни, полной углей, эфемерной славе однофамильцев. Назоны издавна славились расчетливостью.
Мой дед стал первым в семье, кому надоела сытая, но скучная жизнь. Началась эпоха гражданских войн… После убийства Цезаря потомки знатных родов раздирали страну на части, и молодой Назон быстро нашел себя в этой смуте. Его патрона, сенатора Эмилия, внесли в проскрипционные списки и объявили награду за голову. Октавиан, в ту пору еще не Август, безжалостно расправлялся со своими врагами. Денег не жалел. Но не все прельстились его серебром. Случалось, даже рабы прятали своих господ, а затем помогали им скрыться. В Риме об этом знали. Испуганный Эмилий переоделся в лохмотья, пробрался ночными улицами и постучал в дверь потомственного клиента, умоляя спрятать его. Свою просьбу он подкрепил увесистым кошельком. Молодой Назон кошелек взял и Эмилия приютил. Но рано утром сбегал к Агриппе, правой руке будущего Августа… Излишне говорить, что денарии Эмилия доносчик оставил себе…
Получив награду за голову сенатора, дед почувствовал вкус, и ревностно стал выискивать врагов Августа, обшаривая оцепеневший от ужаса Рим. В проскрипционные списки были внесены друзья несчастного Эмилия, и Назон, с детства сопровождавший бывшего патрона, хорошо знал их, но еще лучше — клиентов и рабов обреченных. Он находил приятелей в винных лавках и тавернах, не скупился на угощение, а когда вино развязывало языки, намекал, что знает, как безопасно пробраться в Сицилию или Испанию. О том, что он предал Эмилия, не знали, к тому же дед давал понять, что помогает обреченным за награду. Низменным устремлениям в Риме всегда верили охотнее, чем благородным, поэтому Назона сводили с затаившимися сенаторами. Дед требовал деньги вперед, яростно торговался, уверяя, что в такое сложное время нельзя верить обещаниям даже самых почтенных мужей, это внушало еще большее доверие. Если у беглеца не было денег, Марк предлагал собрать их по друзьям и знакомых, терпеливо ждал, иногда неделями. Затем приходил ночью, забирал серебро, и уводил патриция навстречу неизбежному концу. Дед решительно отметал все попытки обреченного взять с собой раба или клиента, замечая, что в таком случае за успех не ручается, так как вдвоем выбраться из Рима куда проще, чем троим или четверым. Это было правдой, с дедом соглашались, и ему долго удавалось сохранить тайну. Рабам и клиентам убитого дед назавтра заявлял, что патриций благополучно покинул Рим, держит путь на юг с надежными документами почтенного купца, а как доберется до места, то обязательно вытребует к себе верных слуг.
Никто в Риме, кроме Марка Назона, не додумался получать плату от жертвы и палача одновременно. А ведь деду в ту пору было всего семнадцать! Но он рано потерял отца и мать, растила его бабушка, умершая, едва юный Марк примерил тогу, поэтому дед рано понял, что и почем в Риме.
Полгода в Риме царил ужас, и этого времени Назону хватило, чтобы разбогатеть. Марк не стал спускать деньги на роскошных пирах, как поступил бы на его месте другой выскочка, а вложил их с расчетом. В ту пору многие жаждали продать дома и уехать, но покупателей не было. Цены упали многократно, чем дед и воспользовался. Иногда хитроумный Назон просто выпрашивал себе имущество казненного. Серебра новой власти не хватало, продавать конфискованные дома было долго и хлопотно, и деду часто заменяли денежную награду выдачей недвижимости. Марк Назон стал владельцем десятка доходных домов, которые, как только смута в государства миновала, выгодно перепродал. На вырученные деньги дед откупил у государства право сбора налогов в одной из дальних провинций и за год удвоил состояние. После этого откупил провинцию побогаче и снова удвоил капитал… Август еще не стал императором, страной правили триумвиры, мечтавшие поскорее зарезать соперников; никому не было дела до лихоимства откупщиков. Дед умножал свое состояние несколько лет. Но как только новая власть окрепла, благоразумно отошел в сторону и даже отказался от должности, которую ему предлагали исхлопотать. Из прошедшей смуты Назон вынес твердый урок: люди при должностях — первые кандидаты на заклание. Тысячи патрициев веками боролись за право стать квестором, эдилом, претором или консулом, воссесть в сенате, важно расхаживать по городу в тунике и тоге с широкими пурпурными полосами. Тем, кому должностей не досталось, копили злобу и устраивали заговоры. Хотя должности в Риме не оплачивались, наоборот, стоили их обладателям бешеных денег, стремление к ним было столь велико, что политических противников резали беспощадно. За деньги в Риме убивали реже. Особенно тех, кто не выставлял богатство напоказ. Император Август внес имя деда в список всадников, второе по значимости сословие в Риме после патрициев, Марк Корнелий Назон получил право носить тунику и тогу с узкой полосой пурпура, тем и удовлетворился. Ему это ничего не стоило: стать всадником мог любой римский гражданин, чье состояние было не менее четырехсот тысяч сестерциев. У деда были миллионы. И не медных сестерциев, а серебряных денариев…
Марк купил просторный дом в Риме, неприметный снаружи, но роскошный внутри, виллу за городом, завел рабов и стал наслаждаться жизнью. Денег оставалось много, дед стал ссужать их под проценты, получая стабильный и законный доход. Жить было хорошо. Но однажды, нежась в мраморном бассейне с горячей водой (общественные бани дед не любил — там можно было встретить родственников сенаторов, убитых с его помощью), дед вдруг подумал, что ему уже за сорок. Большая часть жизни позади, а после его смерти этой роскошью будет владеть не Назон, а какой-нибудь прощелыга, сумевший подольститься к императору и выпросить выморочное имущество. Ради кого тогда старался свежеиспеченный римский всадник?! «Нужны наследники!» — решил дед и стал подыскивать жену.
В Риме Марк Корнелий Назон считался выгодным женихом. Среди плебеев. Даже многие всадники смотрели на выскочку косо, не говоря о патрициях! Но дед не боялся трудностей. Он хорошо знал, что и почем в Риме.
Сенатор Луций Пульх был горячим сторонником Августа, за что собственно его и отметили тогой с пурпурной полосой. Кроме императора, сенатор обожал изысканные кушанья и римских прелестниц. Удовольствия стоили дорого, поэтому сенатор со временем продал виллу, затем другую… Когда вырученные деньги закончились, Луций Пульхр стал их занимать. Так он познакомился с дедом. Должником сенатор был неаккуратным, ссуду возвращал не вовремя, но дед, обычно очень жестокий в таких случаях, по отношению к Пульхру держался любезно: Луций имел влияние в Риме и мог оказаться полезным. Долг сенатора рос, и пришло время, когда Назон решил, что деньги важнее. Он пригласил сенатора в гости, накормил изысканными яствами, а после пира достал расписки и потребовал немедленной уплаты долга.
Луций Пульхр, едва не изверг из себя то, что перед тем с наслаждением заталкивал. Положение казалось безвыходным. Денег, чтобы рассчитаться с кредитором у сенатора не было, занять не представлялось возможным — в Риме ему давно одалживал только Назон, а из имущества у Пульхра оставался только дом — богатый, с многочисленными рабами. Но потеря дома означала и потерю должности: Август требовал от сенаторов состояния в миллион двести тысяч сестерциев. Недостаточных из сенаторских списков вычеркивал безжалостно. (Позже Август станет тайно помогать обедневшим, но в ту пору он был небогат.)
Забыв, что перед ним презираемый выскочка, Пульхр стал умолять деда не губить его. Умолял он долго: дед умел подводить должников к крайней стадии отчаяния. Когда сенатор стал всхлипывать и растирать слезы по жирным щекам, дед ласково отер их чистой салфеткой. Затем сказал, что истребовать долг — святое право гражданина. Римский закон строг и беспристрастен в таких делах. Но если кредитор и должник родственники…
Пульхр понял мгновенно. Еще вчера он с негодованием отверг бы саму мысль породниться с плебеем, но теперь об этом мечтал. Поэтому с искренней радостью обнял будущего зятя…
Свадьбу сыграли пышную. Закон запрещал римлянину тратить на свадьбу более тысячи сестерциев, но кто посмел бы упрекнуть в расточительстве сенатора? Хотя деньги были Назона, и он их не жалел: самые изысканные вина и кушанья, которые только можно было найти в Риме, подсластили родственникам невесты горечь неравного брака. Только сенатор весь вечер мрачно вздыхал. Не от жалости к юной дочери, на нее Пульхру было плевать. После церемонии в храме зять честно вернул долговые расписки, но предупредил сенатора: впредь денег ссужать не будет. Поэтому Пульхр горестно размышлял: где найти кредитора, что будут так же милостив? В семье сенатора подрастали еще две Пульхерии…
Если тесть грустил, то невеста радовалась. Накануне свадьбы Марк Назон пригласил семью сенатора в гости и показал невесте роскошный дом, в котором Пульхерии предстояло стать полноправной хозяйкой. Жених был учтив, любезен и дал ясно понять, какое счастье для него стать мужем такой почтенной девушки. К тому же Марк не выглядел стариком: статный, без единой седой пряди в густых черных волосах (цирюльник не пожалел краски), можно сказать, красивый. Пульхерии, выросшей в суровой экономии (своих домашних сенатор не баловал), кружила голову мысль управлять таким богатством, поэтому ее мало заботило низкое происхождение мужа.
Дед был тоже доволен. Пульхерия сияла юной красой, славилась строгим воспитанием — не в пример многим римским распутницам. Прежде, чем сделать ее отцу предложение, от которого Пульхр не смог отказаться, дед навел справки — он никогда не заключал сделок, предварительно не просчитав варианты. Только в этот раз расчет оказался неверен.
Пульхерия, искренне любя мужа, не смогла удовлетворить его страстей. За годы холостяцкой жизни дед имел возможность познать искусство изощренных римских женщин, и хотел того же от жены. Но строгое воспитание мешало ей. Пульхерия пыталась угодить мужу, но делала это без охоты. Вскоре Марк Назон стал пренебрегать семейным ложем. Через год после свадьбы Пульхерия родила мальчика, названного в честь именитого деда Луцием. Это был мой отец…
Рождение сына на короткое время сблизило супругов: как никак желанный наследник! Но вскоре дед с обидой заметил, что мальчик на него совсем не похож. Голубоглазых и рыжих в роду Назонов не водилось, да и Пульхры в своем вспомнить не могли. У деда не было причин подозревать Пульхерию в неверности, в дело явно вмешались боги, но их участие Назону не нравилось. Он забросил жену, и стал проводить время с доступными женщинами. В Риме такое было не редкость, и Пульхерия смирилась. Тем более, что у нее был маленький Луций. Все бы шло своим чередом, не явись вдруг Корнелия…
Разбогатев, дед с удивлением обнаружил, как много у него родственников! Чуть ли не каждую неделю к нему являлся какой-то Корнелий, прося, а то и нагло требуя денег. Так вышло, что дед был единственным ребенком у родителей, двоюродные братья и сестры хоть и имелись, но жили где-то в провинции, поэтому поначалу дед с любопытством взирал на объявившуюся родню. Кое-кому он ссудил немного денег (просто так Назон не давал никому и ничего); не сумев ввернуть долг, родственники исчезали навсегда, чему дед был только рад. Подозреваю, что одалживал он родственникам не без умысла, потому и не взыскивал с них долгов, хотя в других случаях действовал без пощады. Когда родственные визиты деду наскучили, он заплатил вольноотпущеннику из императорской канцелярии, и тот составил ему подробный список всех Назонов — до пятого колена. Привратнику дед велел при объявлении очередного родственника сверяться со списком, и всех, не отмеченных хозяином, отправлять восвояси без долгих церемоний.
Корнелия в списке отмечена не была, но привратник ее впустил. Когда дед увидел просительницу, то понял раба. Корнелии в ту пору минуло девятнадцать, она была матерью двоих мальчиков, и женская прелесть ее расцвела. Худощавая, стройная, с большими черными глазами и такого же цвета пышными волосами, она неудержимо привлекала мужские взгляды. Лицо ее трудно было назвать красивым: большой рот с пухлыми губами, вздернутый нос и острый подбородок в Риме, воспитанном на классических греческих пропорциях, прелестными не считались. Но сочетание столь неправильных черт в одном лице неудержимо манило. Оно обещало доступность. Худой, охромевший голубь влечет кошек больше, чем его жирный, но здоровый собрат…
Корнелия приходилась деду троюродной сестрой. Замуж ее выдали в четырнадцать, к восемнадцати она овдовела. Оставшись без средств, она некоторое время жила у родителей мужа, но те вскоре выгнали ее (как говорили злые языки — за недостойное поведение). Корнелия забрала детей и отправилась в Рим — к богатому брату. К несчастью, смутные времена миновали, дороги стали спокойными, и разбойники не встретились ей на пути…
С Корнелией Назон сговорился мгновенно. В тот же день он снял для нее дом, купил рабов и все, что необходимо для жизни достойной женщины, а после этих трудов остался ночевать у родственницы. Некоторое время дед жил на два дома, но потом решил, что так хлопотно. Аренда стоила денег, а Назон был расчетлив. Поэтому он перевез Корнелию с детьми к себе, таким образом став мужем сразу двух жен.
Но счастью деда воспротивилась Пульхерия. Она готова была терпеть любовные похождения мужа на стороне, но столь открытый разврат ее возмутил. Пульхерия вспомнила, что она дочь сенатора, и в резких выражениях потребовала убрать распутницу. В противном случае обещала развод.
Разводиться деду не хотелось. Уход Пульхерии означал, что деньги, подаренные ее отцу, пропали, к тому же влиятельный сенатор после развода становился врагом. Попытка убедить жену в том, Корнелия — всего лишь бедная родственница, которой дед покровительствует, не удалась; Пульхерия была не глупа и твердо стояла на своем. Отказаться от Корнелии Назон даже не помышлял. Ситуация казалась безвыходной. Разрешила ее сама Пульхерия — она внезапно умерла.
Злые языки приписали эту смерть Корнелии. Якобы и первый муж ее умер также внезапно — как раз после того, как уличил жену в неверности. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Бабушка моя был молода, здорова, и смерть ее вызвало немало толков даже в привычном к таким делам Риме. Сенатору Пульхру предлагали выдвинуть официальное обвинение и в рамках судебного процесса подвернуть пыткам домашних рабов Назона — в Риме до сих пор считают, что раб говорит правду только под пыткой. Но обычай требовал предварительно выкупить рабов у хозяина. Денег у сенатора не было, и он сделал вид, что поверил зятю.
Корнелия стала полноправной хозяйкой в доме, но семейному счастью препятствовал пятилетний Луций, нелюбимый, но все же сын Марка Назона. Корнелия стала внушать деду, что мальчик совсем не его, что покойная Пульхерия родила его от кого-то другого, и что держать такого выродка в почтенном доме означает позорить достойную семью. Старания ее не убедили Назона — в измену Пульхерии он верил. Тем не менее, мальчик мешал. Можно было отослать Луция деду, но это означало полный разрыв отношений с сенатором. Странная смерть Пульхерии и без того обострила их. Но мой дед был находчив…
Как нарочно в те дни к нему явился очередной Корнелий. Это был отставной легионер по имени Публий и деду он доводился двоюродным дядей. С юных лет Публий пошел в армию, служил ревностно, но дослужился только до опциона, то есть помощника центуриона. После двадцати пяти лет муштры и походов Публий получил отставку и вернулся в Рим в надежде исполнить долгие годы лелеемую мечту: купить домик, пару рабов и жить в довольстве, пока боги не призовут его к себе. Однако выяснилось, что сбережений опциона и выплаченных ему при увольнении денег недостаточно для исполнения мечты. Публий почесал затылок и явился к богатому родственнику — в надежде, что тот не откажет ветерану.
В другое время Публий ушел бы ни с чем: если дед не церемонился с сенаторами, что значил для него ветеран? Но бывшему опциону повезло. Со свойственной ему находчивостью Назон мгновенно сплел узлы на концах двух веревочек. Незадолго до описываемых событий он стал владельцем скромного дома с небольшим участком земли в Кампании — это был залог несостоятельного должника. Деду дом был не нужен, продавать его было хлопотно, а тут явился родственник… Дед предложил дом Публию при условии, что опцион заберет сына. Разумеется, дед объяснил это желанием воспитать мальчика в старых римских традициях, чего в развращенном Риме добиться невозможно. Император Август всячески способствовал возрождению старого римского духа, поэтому дед, отсылая сына в деревню, выглядел не самодуром, а достойным гражданином. Но хитроватый Публий (он был тоже из Назонов) почувствовал, что дело нечисто. Поэтому потребовал десять тысяч денариев в год и пять рабов. Торг был стихией деда, и он сбил цену. Условились на тысяче денариев и двух рабах. Публий все равно остался доволен. За тяжелую службу в легионе ему платили вдвое меньше, а тут все лишь присмотреть за мальчишкой… Ему приходилось командовать сотней отчаянных голов, а тут только одна рыженькая…
Публий выбрал из домашних рабов деда грека Амфитриона и молодую гречанку Беренику. Обоих он предварительно расспросил и выяснил, что Береника хорошо готовит, а Амфитрион был сыном фермера и любит сельский труд. Подозреваю, что Береника приглянулась Публию не только своим поварским искусством… Как бы то ни было, но, получив задаток, Публий погрузил в нанятую им повозку свои небогатые пожитки, вещи мальчика и рабов и отправился в Кампанию. Осторожный дед на всякий случай выдал родственнику только доверенность на управление имуществом, сам домик с участком и рабов перевел в собственность малолетнего сына.
По римским законам даже взрослые дети не имеют права владеть недвижимым имуществом при жизни отца. Поэтому Марк Назон оформил Луцию «эманципацио», официально освободив сына от родительской опеки. В Риме так поступали с недостойными детьми, поскольку «эманципацио» лишает сына прав наследования. Применение такой процедуры к маленькому Назону не могло не вызвать удивления у чиновников городского магистрата, но дед умел справляться с такими затруднениями. В ту пору он, видимо, радовался своей находчивости. Человеку часто кажется, что он умнее судьбы…
Публий Корнелий Назон был добросовестным служакой. В легионе за денарии императора он честно платил потом и кровью, деньги богатого родственника тоже отработал сполна. К тому же маленький Луций был ему не чужим. В шесть лет мальчик пошел в «лудус», начальную школу, после окончания которой перешел в «грамматику» (среднюю школу), где получил отличное образование. То есть знал начала философии, географии и геометрии, полный курс римской истории. Публий ревностно следил за учебой внучатого племянника. К четырнадцати годам тот прилично писал на латыни и греческом, достойно говорил на обоих языках, как то надлежит образованному римлянину. Публию жилось хорошо. Амфитрион весь день работал в поле (два раза в сезон отставной опцион нанимал в помощь ему временных работников), Береника хлопотала на кухне, творя любимые кушанья хозяина; ночами она же доставляла хозяину другие удовольствия. Публий завербовался в легионеры семнадцатилетним, после двадцати пяти лет службы он был еще здоров и способен к любви. Что подтверждали дети, которых Береника рожала чуть ли не ежегодно, увеличивая тем самым имущество молодого хозяина — как известно дети рабыни остаются рабами, кто бы ни был их отцом. Публию быстро наскучило безделье, и он решил поучаствовать в воспитании Луция. Обучить он мог только воинскому делу, ибо сам едва читал. Зато ремесло воина Публий знал отменно: опцион в легионе как раз занимается муштровкой солдат, случайному человеку такое важное дело не доверят. Публий собственноручно смастерил Луцию деревянные меч и щит, выстрогал несколько дротиков, скроил из воловьей кожи простенький панцирь и приступил к занятиям.
Военное дело Луций постигал куда охотнее, чем спряжение латинских глаголов. Старик и его воспитанник часами метали дротики в сплетенную из лозы мишень, дрались на деревянных мечах, а когда Луций подрос, дротики и мечи стали настоящими.
— Ты дерешься, как настоящий солдат! — хвалил Публий воспитанника. — Даже лучше! Ты вполне мог стать опционом, только надо прослужить лет десять. Молодых на такие должности не назначают.
Публий ошибся, что подтвердили последовавшие события.
Марк Корнелий Назон сына не навещал, хотя деньги Публию присылал исправно. В первое время отставной опцион вел тщательный учет расходов на случай если хозяин спросит, но потом забросил. Участок земли при доме давал постоянный доход, жизнь в деревне была дешевая, поэтому две трети из присылаемой тысячи денариев Публий откладывал про запас. Но воспитанник у него был исправно одет и обут, накормлен и здоров — как и надлежит солдату у хорошего командира. К тому же Публий любил Луция, куда сильнее детей Береники. Те ведь были рабами по рождению, а Луций — потомком старинного рода…
Отец не приехал к Луцию, когда мальчику исполнилось четырнадцать и пришло время объявлять его взрослым. Тогда Публий, как ближайший родственник, сам вывел юного гражданина на сельский форум и надел на него тогу. Формально это означало окончание детства, хотя по настоящему оно для Луция закончилось через два года. В мирный домик в Кампании пришло известие о смерти Марка Корнелия Назона…
Дед умер внезапно, как и его несчастная жена. Ему было шестьдесят, выглядел он крепким и сильным мужчиной, потому смерть эта возбудила толки. Вновь обвиняли в отравлении Корнелию, но не нашлось человека для возбуждения дела в суде. В Риме с таким обвинением выступают близкие родственники, но близкими Назону давно стала сама Корнелия и ее дети.
Получив известие о смерти отца, Луций мгновенно собрался и отправился в Рим. Публий вызвался его сопровождать. Отставной опцион предвидел, что юноше придется нелегко, и решил не давать воспитанника в обиду. Публий не пожалел денег возчику, и они домчались за день. Дорогой Луций составлял погребальную речь. Он смутно помнил отца и тяжело переживал его холодность, но смерть отодвинула это далеко. По римским традициям речь на похоронах говорит старший сын, и Луций, сидя в повозке, вспоминал примеры красноречия, которые преподавали ему в «грамматике», и сплетал величественные слова в возвышенный монолог.
Родной дом встретил путников запертой дверью. Оба принялись в нее колотить, и к ним вышла женщина в черном траурном одеянии. Луций не сразу узнал ненавистную ему Корнелию (он не видел ее одиннадцать лет), а, узнав, нахмурился.
— Чего вам надобно? — недовольно спросила женщина.
— Я, Луций, сын Марка Корнелия Назона, — сердито сказал мой отец. — Мы приехали на похороны.
— Уже похоронили! — насмешливо ответила Корнелия. — Могила — у Аппиевой дороге, последний саркофаг по правой стороне. Найти легко. Можешь отнести венок.
Корнелия повернулась, чтобы уйти, но Публий остановил ее.
— Перед тобой, женщина, стоит новый владелец этого дома! — сказал он, насупившись. — Как ты смеешь держать его на пороге?!
— Ему здесь ничего не принадлежит! — усмехнулась Корнелия и захлопнула за собой дверь.
Крякнув от злости, Публий велел Луцию ждать его, а сам побежал к городскому магистрату. Вскоре он вернулся с чиновником и двумя солдатами. По всему было видно, что все трое получили от Публия поощрение, потому что рьяно принялись колотить в дверь. Корнелии пришлось не только открыть, но и впустить всех внутрь. Попросив незваных гостей подождать в триклинии, она ушла, но скоро вернулась с небольшим свитком в руках. Протянула его чиновнику.
Тот вначале пробежал текст глазами, а затем стал читать вслух. Это было заявление Марка Корнелия Назона об «эманципацио» сына.
— Документ подлинный, — сказал чиновник, закончив чтение и рассматривая пергамент. — Текст написан покойным собственноручно, что подтверждают свидетели, приложена печать.
— А где завещание? — спросил Публий. — Не может быть, чтобы мой племянник обидел единственного сына!
Корнелия метнула на него злобный взгляд.
— Завещания нет, — сказала она, — можете справиться в храме Весты.
— Вам придется уйти, граждане, — сказал чиновник, вернув свиток Корнелии. — Этот дом вам не принадлежит.
На улице Луций побежал прочь, но Публий нагнал его и уговорил не спешить. Он оставил отца в гостинице, а сам пошел по инстанциям. Он нашел дарственную Луцию на дом, участок земли и рабов, чему был неприятно удивлен, так как считал все это своим. Будучи человеком честным Публий вручил документ Луцию, но это было все. В храме Весты, где римляне хранят свои завещания, подтвердили, что Марк Корнелий Назон к ним не обращался… Публий сказал, что ему, пожалуй, стоить нанять хорошего адвоката, он ведь тоже родственник покойного и может потягаться за наследство, но Луций так посмотрел на него, что старик прикусил язык. Он любил своего рыженького, и не решился его огорчить.
Вечером следующего дня Луций и Публий сидели за столом в своем домике и долго беседовали. Как равные. После смерти отца римлянин приобретает право самостоятельно распоряжаться своим имуществом и судьбой, но Луций приобрел это право давно и собирался им воспользоваться. Ему принадлежал домик с участком земли, Амфитрион и Береника с детьми, но покойный Марк Назон обещал их Публию. Как бы ни поступил по отношению к нему отец, но воля покойного священна. На следующий день Луций, Публий, Амфитрион и Береника отправились к местному магистрату. Дом с участком земли стал собственностью Публия, Амфитрион и Береника с детьми получили свободу, а Луций стал владельцем тысячи денариев. На эти деньги в лавке кузнеца приобрели полный комплект вооружения легионера: панцирь из воловьей кожи, покрытый броней из железных колец, только-только начинавший входить в моду стальной шлем вместо бронзового, крепкий щит, острый меч, кинжал, два дротика, солдатские тунику, плащ и тяжелые, подбитые железными гвоздями, сандалии, так называемые калиги. Публий лично выбрал каждую деталь снаряжения, придирчиво оценивая и качество металла, и кожаный подбой панциря, баланс меча и дротиков.
— В легионе за все надо платить, да и выдадут дешевое, — говорил он, перебрасывая меч из руки в руку. — Там не выберешь! Хороший меч — лучший друг солдата…
В конюшне торговца лошадьми Публий выбрал молодого, крепкого мула и долго торговался с хозяином, призывая богов обрушить свой гнев на неуступчивого. Торговца это ничуть не смутило, и Публий, скрепя сердце, ударил по протянутой грязной руке. Денег после всех покупок осталось еще много, Луций хотел вернуть их Публию, но тот отказался.
— В легионе пригодится! — сказал, отталкивая протянутый кошель. — Центуриона подмаслить, ребятам из контуберния амфору вина поставить, чтоб не злобились. Без денег на службе никак…
Вечером новый хозяин домика устроил прощальный пир, впервые пригласив за стол вместе с собой двух новоиспеченных римских граждан: Марка Корнелия Назона (бывшего Амфитриона) и Пульхерию (бывшую Беренику). Луций не захотел, чтоб гречанка стала Корнелией. Вольноотпущенники за столом не засиделись: выпили по чаше вина и скромно удалились, оставив родственников одних. Публий, захмелев, долго рассказывал Луцию про свою жизнь в легионе, царящие там нравы, и как следует вести себя новобранцу, если он хочет сохранить спину от суковатой палки центуриона…
2
Легионы завоевали Риму мир. Они принесли ему славу, земли и богатство. Народы трепещут, заслышав грохот сандалий легионеров, чем Рим очень гордится. Удивительно, но римских солдат нельзя назвать самыми сильными и храбрыми, есть много народов, чьи воины куда отважней. Тем не менее, римляне покорили их. Потому что дисциплинированы, организованы и упорны. Их войско устроено настолько правильно, что нет необходимости иметь великих полководцев. История бесчисленных войн тому свидетельство.
Римляне разумно использовали в армии кипучую предприимчивость своего народа. Империя платит легионеру двести двадцать пять денариев в год, этим ее забота о солдате исчерпывается. На эти деньги легионер покупает себе вооружение, одежду, еду, откладывает на пирушки по случаю многочисленных праздников, на будущее увольнение и похороны случае гибели в бою. (Римляне страшатся остаться не погребенными, поэтому тела казненных преступников бросают в Тибр — для многих это куда большее наказание, чем сама смерть.)
Армия римлян устроена настолько просто, что я дивлюсь, почему это никто не заимствовал. Видимо, дело в дисциплине. Варвары, парфяне, иудеи и другие народы не любят подчиняться даже своим вождям; в этом их слабость. Они бросаются в битву, горя яростью, но, натолкнувшись на несокрушимый строй железных воинов, отступают или бегут.
Самое мелкое подразделение римской армии — контуберний. Это восемь солдат, которые живут в одной палатке, вместе спят, едят, работают и сражаются. После нескольких лет такой жизни они становятся больше, чем братья, и в бою каждый из легионеров сражается прежде всего за своего товарища, а не за далекий Рим. Если кто струсит и убежит, его убьют свои же; и ни один военачальник не будет препятствовать. Десять контуберниев составляют центурию, шесть центурий — когорту, в легионе — десять когорт. Вот и вся организация. Есть, конечно, в легионе госпиталь с врачами, писцы (римляне любят все записывать), архитекторы (армия много строит), кузнецы, шорники… Но их куда меньше легионеров, к тому же они не воюют.
Мой друг Аким, о котором я расскажу дальше, говорил, что в его далекой стране армия организована наподобие римской. Контуберний у них называется «отделение», центурия — «рота», когорта — «батальон», легион — «дивизия». Он даже выписал мне эти названия латинскими буквами: otdelenie, rota, battalion, divisia. У них эта «rota» имеет в своем составе части крупнее контуберния, которые называются «взвод», vsvod. По численности этот взвод равен турме в римской коннице, но мне кажется, что в пехоте такое деление излишне. В стране Акима все военачальники называются «командир»; соответственно — «командир роты», «командир батальона», «командир дивизии». Слишком длинно. У римлян куда проще: центурион, трибун, легат…
Я опять увлекся…
Спустя две недели после того, как Луций Корнелий Назон оставил дом, в котором вырос, он въехал в ворота лагеря Пятого легиона, носившего прозвище «жаворонок». Этот легион некогда сформировал сам Цезарь для нужд гражданской войны, его воины украшали шлемы перьями, за что и получили свое прозвище. Теперь «жаворонки» стояли на Рейне и охраняли римскую Галлию от орд буйных германцев.
Отец выбрал «жаворонков» не за славную историю, были и куда более именитые легионы. Пятым командовал легат Секст Пульхр, младший брат сенатора Пульхра, деда Луция. Римляне чрезвычайно чтят родственные узы (если это не препятствует их личным интересам) и готовы помочь члену семьи, когда это ничего им не стоит. Моему отцу шел семнадцатый год, но он это знал. Он был тоже Назон.
В легион можно поступить и в Риме, для этого вовсе не обязательно ехать в Галлию. Тебя внесут в списки, выдадут подъемные, и в составе команды таких же новобранцев препроводят в лагерь. Обычно так и бывает. Но, подписав обязательство легионера, ты становишься солдатом. Ты не сможешь пойти к легату без разрешения центуриона, а центурион такого разрешения новобранцу не даст. Ослушаешься — и тебя высекут на площади перед преторием, и легат такую расправу только одобрит. Дисциплина в армии превыше всего.
Часовым у ворот лагеря дед назвал свое имя и попросил препроводить его к легату. Секст Пульх принял родственника. Дед честно рассказал о своей беде, и легат одобрил намерение Луция поступить в легион. Секст был младшим братом в многочисленной семье Пульхров, его карьере в Риме мешали старшие, к тому же в должности легата есть свои преимущества. Ты пребываешь в сенаторском достоинстве, то есть носишь ту же тогу с широкой красной полосой, к тому же практически бесконтрольно распоряжаешься огромными суммами, выделяемыми империей на содержание легиона. За тобой шесть тысяч солдат, готовых на все по твоему повелению, поэтому наместник провинции разговаривает с тобой почтительно…
Легат вызвал к себе центуриона Квинта, указал ему на деда и велел опекать нового легионера, сына всадника и своего родственника. Квинту не нужно было объяснять дважды. Он привел отца в палатку, где жили семеро новобранцев и представил им контубернария. Так началась служба отца в армии.
В его контубернии все легионеры были старше отца и поначалу недружелюбно косились на «мальчишку». Но отец не зря слушал советы Публия, и при первом удобном случае купил товарищам амфору вина, вареной говядины, свежих лепешек, и те подобрели. Сослуживцы Луция были из бедноты и вольноотпущенников, неумелые и необразованные, а «мальчишка» владел оружием лучше многих опытных легионеров. Сын всадника, он не чванился происхождением, вместе со всеми копал землю, носил бревна, выполнял другие тяжелые работы, первым хватая лопату или топор, — солдаты это замечают. Луций не жалел времени, помогая товарищам овладеть мечом и дротиком. Его контуберний скоро стал первым в центурии, поэтому его товарищей меньше муштровали и наказывали. Скоро легионеры из других контуберниев, вначале посмеивавшиеся над подчиненными «мальчишки», стали им завидовать. Когда людям завидуют, они начинают гордиться. В легионе отец получил кличку «Руф», то есть «Рыжий», и товарищи стали звать его ласково «наш Руф».
Чтобы сделать из овчара или волопаса хорошего солдата, нужен минимум год, и весь этот год новобранцев усиленно готовили. Граница с германцами была беспокойной, Пятый легион нес тяжелые потери в стычках с варварами, поэтому новобранцы составляли пятую его часть. Вскоре им выпало принять сражение.
Обозленный частыми набегами германцев, наместник Галлии отдал приказ вторгнуться на их территорию и примерно наказать варваров. Пятый легион навел наплавной мост через Рейн, ранним утром перешел на территорию врага и быстрым маршем двинулся к ближайшему селению. Центурию из новобранцев под командованием опытного Квинта оставили охранять переправу, наказав: ждать подхода вспомогательных войск из пограничной стражи, передать им пост и двигать вслед легиону. Пограничники явились только к полудню, центурион Квинт, ворча на запоздавших, снял своих солдат и быстрым шагом повел строй по проторенной легионом дороге. Центурия углубилась в лес миль на пять, когда на нее напали.
Германцы любят засады. В открытом поле они не могут на равных сражаться с римским войском, даже если их больше. Поэтому варвары долго выслеживают врага, устраивая ловушки оторвавшимся от легиона передовым или отставшим частям. Центурион Квинт был опытным воином, но даже он не мог предположить, что при виде римлян, вторгшихся в их земли, германцы не побегут, а оставят отряд в тылу. В своей ошибке Квинт убедился лично. Пущенная с вершины высокого дуба стрела пробила ему шею прямо над краем панциря. Квинт осел на дорогу. Рядом с лязгом упал опцион, которому повезло меньше: стрела попала ему в глаз.
К счастью для римлян лучников у германцев оказалось мало; иначе они перебили бы половину центурии, прежде чем солдаты, потеряв обоих командиров, пришли в себя. И без того новобранцы растерялись, услыхав дикие вопли бегущих из леса врагов. Первым нашелся юный Руф.
— За мной! — закричал он, увлекая центурию вперед.
Солдаты подхватили раненого центуриона (опциона спасать было поздно) и, что есть сил, рванули за отцом. Это не было бегством. Лучший контуберний центурии всегда идет впереди, и Луций издали приметил, что лесная дорога выходит на поляну, а на ней виднеется возвышенность с несколькими дубами на макушке.
Германцы не поняли маневра римлян, они видели лишь, что те убегают. Поэтому еще сильнее заулюлюкали и завопили, устремившись следом. Нет ничего слаще, чем колоть и рубить бегущего в панике врага…
Луций с товарищами успел. Подгоняемые страхом, легионеры взлетели на холм, когда от преследователей их разделял полет стрелы. На вершине Луций мгновенно развернул центурию лицом к врагу, и германцы вместо спин убегавших, вдруг увидели ровный ряд зеленых щитов. От неожиданности они стали останавливаться, и это дало Луцию возможность правильно организовать предстоящий бой.
Возвышенность на поляне была небольшой, к тому же наверху росли деревья, это не давало возможности выстроить легионеров в несколько рядов, как то требует наставление. Луций увел товарищей из леса, чтобы германцы не перебили их, метая дротики и стреляя из луков из-за деревьев (пригодились советы старого Публия), и здесь он вдруг подумал: почему бы перенять германскую тактику? «Наш Руф» отдал приказ. Хотя «сигнифер», знаменосец центурии, третий начальник после центуриона, был жив, он не стал препятствовать.
Луций отгородился от врага одним рядом легионеров, отобрав самых крепких и умелых в рукопашном бою. (Отец хорошо знал, на что способен каждый в его центурии.) Позади он поставил лучших метателей, велев остальным воинам передать им дротики. Тем временем германцы опомнились и, подгоняемые огромным рыжебородым верзилой, своим вожаком, плотной толпой ринулись на римлян.
Правильно выбранная позиция приносит войску победу, этому Луция учили еще в «грамматике». Теперь он убедился в этом воочию. Воин, бегущий в атаку вверх по склону, уязвим. Он невольно прижимает щит к себе, хотя в бою его следует держать на вытянутой руке, он не может легко увернуться от летящего в него копья, так как тело его наклонено вперед, и воин тратит много сил для сохранения равновесия.
Когда германцы приблизились, Луций, а следом и другие легионеры, метнули дротики. Римский «пилум» — страшное оружие. У него длинный и тонкий железный наконечник, а там, где он крепится к древку, есть свинцовый шар для усиления удара. Пробив щит, такой наконечник не застревает в дереве, а проскальзывает к телу. Если держать щит на вытянутой руке, можно уцелеть. Но германцы их к себе прижимали…
Первый ряд нападавших, пораженный дротиками, покатился вниз, мешая другим. Германцы стали перескакивать через тела убитых и раненых, непроизвольно отводя щиты в сторону и открываясь врагу. Луций с товарищами метнули дротики снова, затем еще и еще… Германцы стали замедлять бег и уже не так решительно поднимались к вершине, откуда летела смерть. Два десятка все же добежали к зеленым щитам, но из-за них им ударили пилумами в лицо — Луций с товарищами действовали дротиками, не выпуская их из рук. Германцы, защищаясь, стали поднимать щиты, и легионеры в переднем ряду кололи их мечами в открытый пах или живот…
Не выдержав, германцы отхлынули, оставив на склоне с полсотни убитых и раненых. Воспользовавшись сумятицей, легионеры быстро собрали дротики и копья, добили раненых врагов, и вернулись на вершину.
Неудача ненадолго обескуражила варваров. Их было много, им противостояла жалкая центурия, и раздосадованный вождь не мог позволить себе уйти. Он перестроил свое войско и вновь двинулся на врага. В этот раз германцы не бежали, а поднимались шагом, держа щиты на вытянутой руке. К тому же вождь поставил в передние ряды воинов с большими щитами, закрывавшими все тело.
Луций понял, что враг, добравшись до груды убитых, станет бросать оттуда копья и дротики, поэтому дал приказ центурии идти на врага. Пройдя половину расстояния до тел убитых германцев, легионеры вновь стали метать дротики. Теперь наступавшие были вынуждены бросать щиты с застрявшими в них пилумами. Немногие из германцев имели панцири, да и панцирь из железных колец — плохая защита от пилума. Груда тел убитых врагов росла, мешая другим двигаться вперед. Германцы тоже стали метать копья в римлян, но бросать вверх намного труднее. Их копья летели не так прицельно, да и били в щиты римлян не сильно. Если копье застревало в нем, легионеры меняли товарищу из переднего ряда щит, из пробитого вытаскивали копье, которое тут же отправляли обратно.
Трупы убитых варваров мешали живым. Скоро германцы остановились. Противники стояли друг против друга в двадцати шагах, поражая друг друга копьями и дротиками. Римляне метали прицельнее. Вождь германцев понял, что он попросту теряет людей. Подняв над головой топор, он издал боевой клич и ринулся на врага, решив одним стремительным натиском опрокинуть упорных римлян. Варвары устремились следом. Первый ряд их полег под римскими дротиками, но остальные во главе с вождем добежали. Но предводитель германцев не успел обрушить свой топор на шлем ближайшего римлянина. Луций хладнокровно взмахнул трофейным германским копьем, широкий, острый наконечник распорол шею вождя до позвонков. Верзила с топором рухнул ничком, а набежавших врагов римляне взяли в мечи.
Широкий римский «гладиус» не предназначен для рубящих ударов, им колют. При рубке солдату надо сделать широкий замах, противник его видит, поэтому легко может прикрыться щитом или отскочить. К тому же страшные на вид рубленые раны успешно заживают. Колющий удар из-за щита молниеносен. Лезвию достаточно войти в грудь или живот врага на ширину ладони — и тот обречен…
Многие из добежавших до римлян германцев были с маленькими щитами, а то вовсе без них, и центурия Квинта, вопя от боевого исступления, колола врагов, пробивая тяжелыми лезвиями панцири и нагрудники, вонзая безжалостную сталь в разгоряченные тела… Стоявшие во втором ряду легионеры действовали копьями из-за спин товарищей, а варвары так не могли: их передний ряд, стоявший выше, заслонял врага. Германцы теряли убитыми ряд за рядом, их вождь пал, и скоро они ослабили напор, а затем и вовсе покатились вниз…
Если первый приступ центурия Квинта отбила без потерь, то во втором погибло одиннадцать легионеров, два десятка были ранены. Германцев полегло много больше, но их оставалось еще несколько сотен против тридцати способных держать оружие римлян. Еще одна, две атаки, и центурия погибнет — Луций это понимал.
Но атак не последовало. Германцы не ушли, они всего лишь отступили и стали совещаться, крича и размахивая руками. Они выбирали вождя взамен убитого. У варваров это длится долго — слишком много желающих стать во главе. В легионе римлян убитого военачальника сменяет следующий за ним — вплоть до рядового легионера. И происходит это мгновенно, поэтому центурии и когорты не попадают в ловушку, как то случилось с германцами. Занятые спорами, они не заметили, как на дороге показалась когорта вспомогательных римских войск, конные галлы, развернувшись, стремительно ударили на врага…
Как выяснилось позднее, бой центурии Квинта с германским отрядом увидел гонец, скакавший из легиона к переправе. Ему удалось незамеченным проскользнуть мимо варваров, не сообразивших выставить пост на дороге, гонец прискакал к мосту и привел пограничников. Галлы перебили с сотню германцев, остальные убежали. Луций со своими легионерами помогал преследовать врага, а после боя с поклоном поднес префекту когорты массивное золотое ожерелье, снятое с убитого вождя.
— Золото оставь себе! — ответил тот, показав в улыбке белые зубы. — Мы заберем оружие. Моим галлам платят мало, они не могут купить себе хорошие мечи и доспехи. Здесь их много…
Хотя разгромили германцев галлы, вся слава досталась римлянам. Поход Пятого легиона выдался не слишком удачным, германцы вовремя заметили врага и убежали, успев сжечь свои дома, поэтому добычи не было, пленных тоже. Следовало как-то оправдать неудачу, и беспримерный бой центурии новобранцев с огромным отрядом германцев хорошо ложился в текст победной реляции. Всем подчиненным Квинта выдали по годовому жалованью, наиболее отличившимся вручили позолоченные круглые медали с головой бога Марса для ношения на панцире, а Луций заменил убитого опциона. Это был невиданный случай (всего через полтора года службы, в восемнадцать лет!), но за Руфа горячо ходатайствовал выживший центурион, который считал отца своим спасителем, за него хлопотал и легат Пятого легиона. Наместник провинции назначение утвердил. Он ведь сам доносил в Рим о геройском сражении…
Через три года центурион Квинт уволился из легиона по выслуге лет, и Луций Руф наследовал его должность. Он оказался самым молодым центурионом не только в легионе, но и в провинции. Отец стал носить посеребренный кованый панцирь, вместо кольчужного, и такие же поножи. Это обошлось ему в половину годового жалованья. Для центурии он устроил пирушку, но завтра, выстроив своих легионеров, показал им суковатую палку из виноградной лозы, с которой центурионы не расстаются, и пообещал, что любой, кто нарушит дисциплину или будет нерадив, станет носить на своей спине следы от лозы. Солдаты поняли. Вскоре центурия Луция стала лучшей в легионе. А спустя три года, Секст Пульхр вызвал отца и предложил ему должность префекта вспомогательной когорты — той самой, галльской.
Если центурионами в легионе становятся простые солдаты, то когортами командуют выходцы из знатных семей. За место трибуна идет борьба, без высоких покровителей занять его трудно. Луций Руф был всадником всего лишь во втором поколении, легат ценил его, но трибунов назначал наместник провинции…
Легионы — скелет римской армии, они обходятся империи недешево, поэтому их берегут. Другое дело «ауксилии» — вспомогательные войска. Их набирают в провинциях из неримских граждан, которым платят втрое меньше, чем римлянам. Ауксилии первыми идут в бой, несут большие потери, но империю это мало волнует. Желающих занять место убитых хватает: в провинциях полно бедноты, а солдат вспомогательных войск сыт, обут и одет, к тому же по окончанию службы становится полноправным римским гражданином. У сенаторских сынков командовать ауксилиями считается не престижным, к тому же это опасно. Куда приятнее жить в лагере за надежной оградой, проводить время в пирах и прочих развлечениях, а всю черновую работу в когорте свалить на центурионов.
Отец получил в подчинение пятьсот пехотинцев и сто двадцать всадников. Все они были галлами и, следовательно, отличными солдатами. В свое время Цезарь пролил реки римской крови, покоряя галлов; приняв владычество Рима, галлы сохранили свою отвагу, проявляя ее теперь на службе империи. Буйные германцы и фризы регулярно приходили в Галлию грабить, они сжигали селения и уводили в плен жителей, поэтому галлов не приходилось уговаривать сражаться с врагом. Когорта Луция почти не знала отдыха. Варвары обычно переправлялись через Рейн малыми отрядами, численностью в две-три сотни. Молодые германцы, которым становилось скучно сидеть в своих лесах, были отважны, но неопытны. Получив извещение об очередном набеге, Луций проводил разведку, выставлял пехоту в заслон, а конные галлы неожиданно нападали на германцев. Завидев вдалеке галльские турмы, германцы поспешно отступали, не желая рисковать жизнями и захваченной добычей. Но у переправы их ждала галльская пехота… В дело шли пилумы, обнажать мечи ауксилиям приходилось не часто. Пленных германцев вязали и отправляли в легион, где квестор или префект претория выводил их на торги. При Августе империя не захватывала новых земель, рабы были в цене. Луций получал свою долю добычи, которую раздавал солдатам; галлы его за это боготворили. К тому же он делил с солдатами тяготы беспокойной пограничной службы, ел с ними из одного котла, спал, как они, на голой земле, завернувшись в плащ, — немногие римляне вели себя также.
Однажды, когда когорта отца как обычно перехватила ватагу германцев, на нее напали сзади. Позже выяснилось, что в набеге участвовал сын германского вождя, его отец встревожился, что сына долго нет, и с тысячей лучших воинов переправился за Рейн. Поспел он вовремя. Галлы уже использовали пилумы и готовились вязать разгромленных грабителей.
Стремительный удар варваров разрезал когорту на две части, в образовавшийся проход выскользнул сын вождя с остатками ватаги; соединившись, германцы дружно навалились на ауксилиев. Отец пытался наладить оборону, но у германцев были копья, а у галлов — только мечи. Исколотый копьями, отец упал, германцы уже ревели от радости, предвкушая захват знамени и значков когорты — редкий и потому особо чтимый варварами трофей.
Положение спасла галльская конница. Она с такой яростью врубилась в толпу германцев, что те не выдержали и откатились. Под прикрытием всадников когорта перестроилась, ощетинилась подобранными трофейными копьями, и у германцев отпала охота сражаться дальше. Поле боя осталась за галлами, но это была пиррова победа. Германцы беспрепятственно ушли, а когорта понесла невиданные потери: каждый второй был убит или тяжело ранен. Отца привезли в легионный лагерь бездыханным, неделю он лежал в беспамятстве, и все решили, что Луций Корнелий Назон отдал жизнь за империю. Когорту возглавил новый префект.
Но отец очнулся. Он долго болел, и только спустя полгода почувствовал себя способным стать в строй. Но его должность была занята, а вакантных в легионе не было. Не идти же недавнему префекту в рядовые легионеры!
Римляне — большие бюрократы. Их государственная машина работает исправно; ты получаешь свое, если сумел стать ее частью. У отца не было должности, следовательно — и жалованья. Оставить легион он не мог: ничего другого, кроме как воевать, Луций Корнелий Назон не умел. Легионер приносит присягу императору и обязан служить двадцать пять лет. Префект когорты, если Рим в нем не нуждается, может уйти. Только вот куда? Пока у отца были деньги, он терпеливо ждал случая. Но деньги закончились, и он обратился к легату.
— Ничего не могу сделать! — ответил ему Секст Пульхр. — В легионе вакансий нет. Я писал о тебе наместнику Галлии, но он ответил, что у него нет для тебя должности. Ты знаешь: прежний наместник умер, новый враждебен нашей семье, к тому же у него полно родственников…
— Что ж мне, в гладиаторы идти! — вскричал раздосадованный отец.
Легат посмотрел на него с интересом.
— Это мысль! — сказал он с улыбкой…
При Августе в обширной Римской империи воцарился мир. Государство и его граждане богатели, жаждали развлечений, спрос на хороших гладиаторов возрос невероятно. Частные гладиаторские школы множились, поскольку приносили огромный доход. Владельцу ее, ланисте, достаточно было дважды сдать гладиаторов в наем, и он окупал расходы. В играх погибал один из восьми бойцов, уцелевшие приносили чистую прибыль. Дороговизна гладиаторов привела к созданию императорских школ (Август часто устраивал роскошные игры для граждан), следуя примеру императора, школы стали заводить легионы. Им это не стоило дорого. Рабов захватывали в стычках с врагами, содержание их обходилось дешево, требовался только хороший инструктор по фехтованию и умелый начальник.
Отец возглавил гладиаторскую школу легиона и скоро сделал ее лучшей в провинции. Гладиаторы Луция неизменно побеждали в боях, отец получал хорошее жалованье, но положение ланисты его тяготило. Так удачно начавшаяся военная карьера прервалась на полпути, трибуны из легиона возвращались в Рим, оттуда приезжали новые, а отец все готовил своих рабов. Казалось, так будет продолжаться вечно, но внезапно один случай все изменил.
В главный город Галлии, Лугдунум, приехал император Август. Несмотря на свои семьдесят лет, он любил путешествовать, а Лугдунум считался его резиденцией. Наместник провинции, не знавший как угодить высокому гостю, затеял гладиаторские игры. Легатам двух легионов, Третьего и Пятого, было велено выставить лучших бойцов, поэтому отец отправился в Лугдунум вместе с легатом.
Римские легионы издавна соперничают за звание лучшего; это распространяется и на гладиаторские игры. Каждому из легатов хотелось отличиться перед императором. Существует множество приемов обернуть схватку в свою пользу (например, вовремя выставить против слабого бойца противника посильнее, сменить вооружение бойцу и тому подобное), наместник это знал. Поэтому велел определять пары гладиаторов, их вооружение по жребию, а ланистам занять место в амфитеатре. Отец сидел рядом с Пульхром, неподалеку от императора, и с волнением следил за боями на арене.
Борьба складывалась равной. Побеждал то гладиатор Третьего легиона, то Пятого. Оставалась последняя, десятая пара. От Третьего легиона на арену вышел огромный фриз, от Пятого — бывший легионер по кличке Рябой. Пьяным он ударил центуриона, за это полагалась смертная казнь, но по просьбе товарищей виновного записали в гладиаторы. У зрителей были таблички с именами бойцов, поэтому появления Рябого амфитеатр встретил шумными криками. Все сочувствовали римлянину, никто не хотел болеть за фриза.
Рябой был отличным фехтовальщиком, в схватке на мечах одолеть его было трудно, но в этот раз жребий определил ему роль ретиария: он должен был сражаться трезубцем и сетью, даже без шлема на голове. Хорошие ретиарии получаются из высоких и длинноруких бойцов, Рябой же был приземист и коренаст. Луций Назон, как только увидел пару, понял, что его боец проиграет. Но даже он не ожидал того, что произошло. Рябой только успел взмахнуть трезубцем, как фриз, отбив выпад, ударом щита свалил противника на арену. В таких случаях правила предписывают победителю ждать решения устроителя игр; не приходилось сомневаться, что Рябого помилуют. Но фриз ждать не стал. Схватив трезубец, выроненный оглушенным противником, он одним ударом пробил ему череп. Убить гладиатора его же оружием считается выражением высшего презрения к сопернику. Фриз, вдобавок, поднял вверх оружие, на зубьях которого краснели куски мозга убитого, и заорал, что так будет с каждым римлянином.
Это было оскорблением Рима, все произошло в присутствии императора, и наместник побледнел. Легат Третьего легиона — следом. Лучше б его гладиатор проиграл! Зрители в амфитеатре возмущенно кричали, и в этот момент отец встал и поклонился Августу.
— Позволь мне убить фриза! — крикнул он, чтоб перекрыть шум толпы.
Август посмотрел на него с любопытством.
— Кто ты? — спросил строго.
— Луций Корнелий Назон, по прозвищу Руф.
— Вижу, что Руф, — усмехнулся Август, бросив взгляд на рыжую голову отца. — Но это имя ничего не говорит мне.
— Я — сын всадника Марка Корнелия Назона и внук сенатора Луция Пульхра.
Август кивнул: несмотря на возраст, память у него была отменной, он помнил всех своих сподвижников, как живых, так и давно умерших.
— Почему ты хочешь драться, Руф? — поинтересовался Август.
— Там лежит мой товарищ, — сказал отец, указывая на мертвое тело на арене. — Я готовил его к бою. Он провинился перед государством, но он был римлянин и не заслужил такой смерти.
— Ты сумеешь убить фриза? — с сомнением спросил Август, разглядывая невысокого и худощавого ланисту Пятого легиона.
— Если выйду драться с мечом, — ответил отец. — Тогда я не просто убью дерзкого варвара, но сделаю это вот здесь! — отец указал на арену, прямо перед трибуной императора.
— Пусть будет так! — согласился Август.
Зрителям объявили о решении императора, и они радостно зашумели. Но когда отец вышел на арену (тело Рябого уже убрали, кровь присыпали свежим песком), его встретил вздох разочарования. Он не только выглядел жалко рядом с огромным фризом, но к тому же вооружен был слишком легко. Отец надел простой кожаный нагрудник, армейский стальной шлем, оставлявший его лицо открытым, взял солдатский гладиус и овальный щит, каким обычно пользовались ауксилии. Руки его оставались незакрытыми, в то время как гладиаторы с мечами, защищали сегментным стальным доспехом как минимум правую руку. Когда соперники по обычаю подошли к трибуне императора, чтобы поприветствовать его, Август наклонился к ним.
— Эй, Руф! — крикнул он (и это услышал весь амфитеатр). — Ты не слишком легко вооружен? Надень хотя бы панцирь.
— Спасибо, Цезарь! — ответил отец. — Мне так удобнее.
Август пожал плечами и дал знак начать бой.
Отец действительно знал, что делал. Он был Назон, к тому же не мальчик и вызвался драться не в минутном порыве. Тренируя гладиаторов, он знал тонкости боя. Тяжелые доспехи защищают бойца, но они же делают его медлительным. Когда вооружение одинаково, выигрывает тот, кто проворнее. Высокий и мощный гладиатор выглядит устрашающе, но он уступает в быстроте движений маленькому и худощавому. К тому же глухой шлем мурмилона с решеткой на уровне глаз и выдающейся вперед нижней частью закрывает гладиатору обзор под ногами. Чем выше боец, тем больше невидимая зона. Фриз, против которого вышел отец, был высок, и облачен в доспехи мурмилона.
Отец это знал, но зрители в амфитеатре — нет. Фриз, скептически воспринявший появление нового соперника, — тоже. Едва бойцы встали напротив, он обрушил на противника град ударов. Прием, который использовал фриз, называется «мельница», и получил свое имя за подобие вращающимся лопастям ветряка. Отец показывал его мне. Левая рука щитом бьет в щит противника, правая тут же наносит удар мечом, соперник пытается закрыться, но удары левой расшатывают его защиту, а меч все ближе и ближе скользит возле открытых частей тела врага…
Зрители видели только одно: фриз наносит удары, руки варвара действуют так быстро, что их движения невозможно различить отчетливо, слышен звон металла и треск дерева разбиваемого щита; амфитеатр замер в ожидании горестного финала. И в едином порыве вздохнул, когда один из бойцов упал на песок. Но вздох сменился удивлением: упал фриз. Отец, вместо того, чтобы добить поверженного соперника, стоял, подняв вверх щит и меч.
Амфитеатр взревел. В этот момент зрители неотвратимо поняли: этот невысокий римлянин убьет фриза. Если он не сделал это сейчас, только потому, что хочет доставить им удовольствие. У Луция Корнелия Руфа мгновенно появилось двадцать тысяч друзей. В том числе наместник провинции и легат Третьего легиона…
Единственным, кто остался в неведении о предстоящей победе Руфа, был фриз. Он разъярился еще больше, и в исступлении набросился на жалкого римлянина. Он бил щитом и мечом, ожидая, что соперник вот-вот свалится, но тот не падал. Только неуловимо ускользал от ударов, а потом снова упал фриз…
Отец научил меня этому приему. Улучив момент, ты резко приседаешь и цепляешь подъемом стопы лодыжку противника. Рывок вверх — и тот падает навзничь. Враг оглушен, умелому бойцу хватит времени, чтобы перерезать горло поверженного. Это опасный прием. Стоит промедлить, и ты получаешь удар сверху. Но противник Луция Назона даже не видел, куда бить…
Когда фриз упал в третий раз, амфитеатр охватило безумство. Зрители вскочили со своих мест, и в один голос скандируя: «Убей его! Убей его!..» Свалив фриза в четвертый раз, отец оглянулся на Августа.
— Убей! — сказал император.
Из-за рева толпы отец не мог слышать повеление, но догадался. Пятясь, он медленно отступал к трибуне императора, и фриз решил, что враг наконец-то сломлен. Но отец просто исполнял обещание. Когда оба гладиатора встали против трибуны Августа, отец скользнул вниз. В этот раз он не действовал ногой. Гладиаторы сражаются босыми, и отец перерезал фризу ахиллово сухожилие.
Фриз упал и попытался встать, но не смог. Отец, заскочив ему за спину, перерезал второе сухожилие. Теперь фриз мог стоять только на коленях. Он на них встал — с мечом в руках. Отец спокойно перерубил ему пальцы, сжимавшие рукоятку, затем стащил шлем. Фриз молча смотрел на беснующуюся толпу, единодушно желавшую его смерти. Гладиатор просит пощады, поднимая руку. Фриз не поднял.
Отец оглянулся на Августа. Тот сделал знак. Отец схватил фриза за волосы, оттянул его голову назад и ударил мечом сверху вниз, над левой ключицей. Широкий гладиус, войдя в грудь, разрезал сердце фриза, и тот безмолвно упал лицом в песок.
— Так будет с каждым врагом Рима! — крикнул отец, поднимая окровавленный меч.
Восторженный рев толпы был ему ответом.
Отец едва успел снять доспехи и переодеться, как за ним прибежал посыльный. Август не любил пышных пиров, тем более с возлежанием, поэтому гости за столом наместника сидели. Наместник — по правую руку императора, легаты Третьего и Пятого легионов — по левую, дальше располагались какие-то важные сенаторы, но отец на них не смотрел. Когда он вошел в триклиний, Август указал ему на место напротив себя. Побежавшие рабы мгновенно поставили гостю стул без спинки, на стол перед ним — чашу с вином. Все напряженно смотрели на отца, и тот понял. Взял чашу и встал.
— Да будут боги милостивы к тебе, Цезарь! Да продлятся твои дни, дабы все мы благоденствовали!
— Ишь как! — сказал Цезарь. — Хитер! И меня похвалил, и себе благоденствия пожелал.
Гости за столом засмеялись. Отец смутился.
— Садись! — велел ему Цезарь. — Ешь, пей — заслужил! Отстоял славу Рима. Откровенно говоря, я сомневался. Фриз был силен.
— Он двигался слишком медленно, — сказал отец.
— Ты, конечно, приметил это? — сощурился Август. — Еще до того, как попросил меня? Ведь так?
— Так! — признался отец.
— Хорошо, что не врешь! — заключил Август и продолжил: — Ты показал, что Рим побеждает не грубой силой, а умом и упорством, и заслужил награду. Часто выступаешь на арене?
— Впервые.
— Я вижу шрамы на твоем лице и руках. Много шрамов.
— Я получил их, сражаясь с германцами.
— Луций Назон был префектом когорты ауксилиев, — пояснил, не утерпев, легат Пульхр.
— Почему же теперь тренирует гладиаторов? — Август повернулся к легату.
— Я долго оправлялся от ран, — поспешил отец на помощь. — На мою должность назначили другого. Теперь жду вакансии.
— Давно ждешь? — сощурился Август.
— Третий год…
Август повернулся к наместнику.
— Если не ошибаюсь, только в этом году мы направили в Галлию семь новых трибунов. Почему не нашлось когорты для Руфа?
Наместник не знал, куда деть глаза.
— Я сомневался… — наконец произнес он сдавлено. — Ауксилии под началом Назона были разбиты.
— Нам ударили в спину! — поспешил отец. — Неожиданно, когда мы сражались с другими. Германцев было вдвое больше.
Но Август продолжал смотреть на наместника.
— Когорта ауксилиев бежала с поля боя?
— Нет, Цезарь! Отступили германцы.
— Варвары захвали знамя и значки когорты?
— Нет, Цезарь.
— Почему говоришь, что когорту разбили?
— Ауксилии понесли большие потери. Был убит или ранен каждый второй.
— А у германцев?
Наместник замялся. Отец вновь не выдержал:
— Перед тем, как нам ударили в спину, мы положили сотни полторы. Потом меня ранили… Но мне говорили, что галлы убили еще не менее двух сотен. Иначе германцы не ушли бы.
— Я постарел, — со вздохом произнес Август, — и многого не понимаю. Наша когорта сражалась на два фронта. Ауксилии сохранили строй, значки и знамя, они убили много врагов и заставили германцев отступить. Мне говорят, что это поражение. Когда я был молод и сам водил легионы, такое считалось победой.
Наместник смотрел в стол. Август вновь повернулся к отцу. И вдруг заговорил на греческом.
— Ты сын всадника, но носишь простую тогу. Почему?
— У меня нет имущества для ценза всадника, — ответил отец на том же языке.
— Сколько времени ты командовал когортой?
— Больше трех лет.
— Вы часто брали добычу?
— Часто.
— И ты не сумел скопить четыреста тысяч сестерциев?
Отец молчал.
— Он распутник? — повернулся Август к легату Пульхру. — Тратит все на вино, женщин и другие удовольствия?
— Нет, Цезарь! — возразил легат. — Назон живет, как простой солдат. Я никогда не видел его с женщинами, у него только одна рабыня, а воду он пьет чаще вина.
— Куда ты подевал свои деньги? — сердито спросил Август отца.
— Я раздал их галлам, — выдавил Луций.
— Зачем?
— Они хорошо сражались…
Отец хотел добавить: «Им ведь так мало платят!», но вовремя осекся — размер жалованья ауксилиям утверждал император.
— Ты выдавал им награды из своих денег? — уточнил Август.
— Да…
Луций ждал выговора, но его не последовало. Император молчал. После смерти приемного отца Август, в ту пору всего лишь Октавиан, стал наследником Цезаря. По завещанию он был обязан треть денег отдать римлянам. Но Марк Антоний присвоил наследство. Тогда Октавиан продал свое имущество, занял огромные суммы у ростовщиков, но волю Цезаря исполнил. Потом, конечно, он восполнил свои траты с лихвой, но это было потом…
— Ты хорошо говоришь по-гречески, — нарушил тишину Август, — и пишешь?
— Я закончил грамматику.
— Итак! — принялся загибать пальцы Август. — Отважен, правдив, умен, образован и к тому же не корыстолюбив. — И такой человек тебе не нужен? — повернулся он к наместнику.
Тот молчал.
— Раз не нужен тебе, то мне пригодится, — спокойно заключил Август и сделал знак Луцию.
Тот встал и поклонился.
— Эй, Руф! — окликнул его Август у самых дверей. — Тебе сколько лет?
— Тридцать, Цезарь.
— Ты женат?
— Нет.
— Почему?
— Я на военной службе.
— Это легионерам запрещают жениться! — сердито сказал Август. — На префектов запрет не распространяется. Ладно, иди! Завтра не отговоришься…
Отец вышел из дворца наместника и остановился, не зная как понять состоявшийся разговор. Но собраться с мыслями ему не дали. Рядом остановился «карпентум», легкая открытая повозка, в которую была впряжена пара мулов. В повозке сидела молодая женщина, настолько красивая, что у Луция перехватило дыхание. Он молчал, не зная, что сказать, и женщина улыбнулась, поняв его смущение.
— Меня зовут Випсания, — сказала она весело. — А ты — Руф?
— Луций Корнелий Назон.
— Август в цирке назвал тебя Руфом. Мне нравится.
— Как будет угодно, — поклонился отец.
— Ты учтив, — засмеялась Випсания и вдруг спросила: — Проголодался?
Луций вспомнил, что с утра ничего не ел. За столом Августа он только выпил вина и в самом деле был голоден.
— Я как раз собралась ужинать, — продолжила Випсания. — Там хватит двоим.
— Благодарю, госпожа.
— Я тебе не госпожа! — возразила Випсания. — И благодарить рано. Угощение может не понравиться.
— Не думаю! — смело возразил пришедший в себя Луций.
Випсания взяла в руки вожжи, отец приготовился идти рядом.
— Еще чего! — воскликнула Випсания и за руку втащила его в повозку…
* * *
Випсания была дочерью обедневшего всадника, Гая Випсания Катона. Отец ее вел дела с богатым откупщиком Фульвием, тот однажды пришел в дом Гая и увидел юную красавицу. У старого сластолюбца перехватило дыхание. Фульвию было за шестьдесят, но он уговорил Гая выдать за него дочь. Убедили всадника не столько слова, сколько увесистые мешочки с серебром… У Фульвия был лучший дом в Лугдунуме (не считая дворца наместника, конечно), миллионы сестерциев, и слава самого безжалостного кредитора в провинции. Откупщик ранее был дважды женат, но детьми не обзавелся. Был проклят богами за жадность, как шептали в Лугдунуме. Випсания ему тоже никого не родила. Она вышла замуж в пятнадцать, а к восемнадцати овдовела. Фульвий поехал лично взыскивать долг в отдаленный город. Это случилось зимой. При переправе через быструю Рону, лодка опрокинулась, и холодные волны мгновенно утащили старика на дно.
Випсания стала единственной наследницей огромного состояния. Она была молода, красива и невероятно богата. Десятки мужчин из самых знатных семей провинции осаждали ее, но Випсания отвергла их. Похотливый старик надолго отбил у нее охоту к брачному ложу, а юной вдове нравилась независимость. Випсания посещала конные ристания и гладиаторские бои, водила дружбу с ланистами и коннозаводчиками, хорошо разбиралась в лошадях и достоинствах гладиаторов, бывала на пирах, но всегда ночевала в своей постели. Кто-то из отвергнутых женихов распустил слух, что Випсания избегает мужчин из-за низменной страсти к женщинам. Вдова и в самом деле часто появлялась на людях не одна. Бывшая рабыня Фульвия, Афина, стала ее близкой подругой еще при жизни мужа. Овдовев, Випсания отпустила ее на волю, но Афина (теперь уже Фульвия) не покинула госпожу. Им было хорошо вдвоем, но никакого распутства в их отношениях не было. Это стало ясно спустя год, когда Афина-Фульвия влюбилась в бравого центуриона из галлов и тот, сраженной ее черными очами, позвал гречанку замуж. Випсания устроила подруге пышную свадьбу, дала богатое приданое. Тем менее слух о порочных склонностях богатой вдовы оказался живучим. В таком городе как Лугдунум любят посплетничать, рабы за амфорой вина чешут языки с товарищами из других домов, а Випсания с Афиной, так увлекались девичьей болтовней вечерами, что, умаявшись, засыпали в одном ложе. Но к тому времени как Випсания впервые увидела отца, Афина-Фульвия уже год была замужем.
Когда Луций Руф вышел на арену, Випсания как обычно сидела в первом ряду амфитеатра. Случись отцу надеть обычный, глухой шлем гладиатора, Випсания порадовалось бы его победе вместе с другими зрителями, тем дело и кончилось бы. Но Луций вооружился как римский солдат. Из своего ряда Випсания видела его мужественное, красивое лицо, сильные руки и ноги… Многочисленные шрамы только украшали Руфа в ее глазах, а когда воин убил фриза прямо перед Випсанией, ей показалось, что он сделал это лично для нее…
Випсания привыкла исполнять свои желания немедленно. Она вышла из амфитеатра, села в «карпентум» и стала ждать. Она видела, как отца препроводили в дворец наместника, и решила оставаться у выхода хоть до ночи. Но отец не задержался…
Луций Корнелий Назон по солдатской привычке просыпался с рассветом, но утро следующего дня выдалось для него поздним. Истомленный, он крепко спал, и раб едва его растолкал.
— К вам пришел сенатор, господин! — испуганно сказал раб, когда Луций открыл глаза.
Отец торопливо оделся и спустился вниз. В зале, в тоге с широкой багряной полосой стоял легат Пульхр и три воина. Отец спросонья решил, что он вчера обидел Августа, и его пришли арестовать, но тут заметил, что воины стерегут тяжелые кожаные мешки. Он почтительно поприветствовал легата.
— Едва нашел тебя, — проворчал Пульхр. — Хорошо, что привратник наместника заметил повозку и узнал хозяйку. Принимай! Август велел передать.
— Что это? — удивился отец.
— Ты жаловался на ценз, — хмыкнул легат. — Август дарует его тебе! Однако сказал, что это в долг, отдашь, как разбогатеешь.
С этими словами он протянул Луцию свиток с императорской печатью. «Заемное письмо! — понял Луций. — Ладно, пересчитаю деньги, подпишу и отнесу в канцелярию наместника. Неудобно при Пульхре». Отец небрежно сунул свиток за пояс. Легат изумленно глянул на своего ланисту.
— Еще Август велел тебе передать, чтобы ты женился как можно скорее! — сердито сказал Пульхр. — Иначе не видать тебе должности!
— Но у меня нет невесты!
— Разве? — язвительно спросил легат, глядя Луцию за спину.
Отец обернулся. Випсания, небрежно одетая, но все равно прекрасная стояла на лестнице, с тревогой глядя на гостей.
— Тебя зовут Випсания? — спросил ее Пульхр.
Женщина кивнула.
— Мне сказали, что ты вдова и дом принадлежит тебе, — продолжил легат, с завистью обводя взглядом мраморную колоннаду.
— Тебе сказали правду, — подтвердила Випсания.
— Ты знаешь его? — указал легат на отца.
— Да.
— Хочешь выйти за него замуж?
— Да.
— Вот видишь! — повернулся Пульхр к отцу. — Прощай, Руф! Не забудь пригласить на свадьбу! За что тебя так любят боги? Всего лишь убил фриза… Ты вовремя познакомилась с Руфом! — проворчал он в адрес Випсании. — И как только узнала? Наверное, подкупила вольноотпущенника в канцелярии наместника…
С этими словами легат и солдаты ушли. Луций, все еще ничего не понимая, смотрел на оставленные мешки. Будучи центурионом и префектом когорты, он часто имел дело с деньгами и на глаз мог определить сумму. Это не могли быть медные сестерции — понадобилось бы сто таких мешков. Четыреста тысяч в серебряных денариях поместились бы двадцати пяти. Но мешков было три. После бурной ночи думалось плохо, и отец сломал императорскую печать на ближайшем к нему мешке — в нем лежали золотые ауреии. Не веря глазам, отец вытряхнул мешок на мраморный пол — золото засверкало горкой у его ног. Монеты были новенькие, только что отчеканенные. Отец схватил второй мешок — там тоже лежало золото, четыре тысячи новеньких монет с профилем императора. В серебряном денарии — четыре сестерция, в аурее — двадцать пять денариев. Денег было втрое больше, чем необходимо для ценза всадника.
Только сейчас отец вспомнил о свитке и лихорадочно развернул его. Это был указ Августа, возвещавший о возведении Луция Корнелия Назона Руфа в сенаторское достоинство и назначении его префектом монетного двора в городе Лугдунум с подчинением ему когорты вспомогательных войск, предназначенных для охраны вышеуказанного двора.
Отец перечитывал строки раз за разом, с трудом вникая в их смысл. Очнулся он от горячего дыхания у щеки. Он скосил взор. Випсания на цыпочках стояла за его спиной, по-детски высунув от любопытства язычок. Отец понял, что она прочла указ.
— Я ничего не знала! — испуганно заспешила Випсания, поймав взгляд Луция. — И никого не подкупала! Я все время была с тобой… Я согласилась не поэтому… — она запуталась в словах.
— Знаешь, я проголодался, — сказал отец. — Мне понравился вчерашний ужин. Как насчет завтрака?..
3
До Августа деньги Рима чеканил сенат. Монетный двор располагался у храма Юноны Монеты, там он находится и по сей день. Управляют двором триумвиры, ежегодно переизбираемые. Это низшая должность в списке римских магистратов, самая первая ступенька на пути к тоге широкой полосой пурпура, поэтому трое сенаторских монетариев особого рвения к делу не проявляют. Август презирал республиканскую систему ежегодной сменяемости должностных лиц, но сохранил ее: Рим издавна наводняют потомки патрицианских родов, мечтающих о почестях, а император был слишком умен, чтобы плодить врагов по таким пустякам, как упразднение древних магистратур, давно лишенных реальной власти. Он оставил за сенатом право чеканить медные сестерции и ассы, забрав себе золото и серебро. Сенат предоставил Августу ряд провинций в управление, и император (вернее, принцепс, то есть первый из сенаторов, как Август велел называть себя) создал в них свою систему правления. Принцепс построил огромный монетный двор в принадлежавшей ему Галлии в городе Лугдунум. Недалеко были испанские рудники, где тысячи рабов добывали серебро и золото, к тому же никто в Галлии не мог помешать принцепсу чеканить денарии и ауреи как для казны, так и для себя лично. Управляет лугдунумским двором префект, накануне столь онетным двором префект, накануне памятного для расионетный дворпочестях, и император збираемые. памятных для отца событий тот умер, и Август не знал, кем его заменить. Луций Назон попался на глаза императору как нельзя вовремя. Рассказывали, что в тот миг, когда отец убил фриза, с левой стороны от места принцепса высоко над амфитеатром показались три коршуна. В Риме это считается счастливым предзнаменованием, а принцепс был чрезвычайно суеверен. Сам Август коршунов не видел; он, как и все зрители, смотрел на арену. Коршунов заметила стража снаружи, начальник ее поспешил доложить принцепсу о добром знамении, рассчитывая на награду. Но награду получил отец…
Я мало верю в эту легенду. Август был проницателен и хорошо разбирался в людях. Он сумел оценить смелость, ум и честность Луция Назона. К тому же цезарь хорошо знал: человек сомнительного происхождения, стремительно вознесенный к вершинам власти, будет не только предан, но и не станет щадить себя в новой должности. В Риме Луций Назон не смог бы занять сенаторскую должность, поскольку был всадником. В Галлии происхождение не играло такой роли. Август и сам вышел из семьи всадника. Его мать была сестрой Юлия Цезаря, но в Риме происхождение считается по отцу, поэтому Цезарю пришлось усыновить племянника, иначе путь к власти был бы ему закрыт. Что до коршунов… Возможно, они действительно были. В тот день на арене амфитеатра в Лугдунуме пролилось много крови, коршуны знали, где поживиться…
Формально префект монетного двора в Лугдунуме подчиняется наместнику Лугдунумской Галлии, но фактически — только императору. Это вторая по значимости должность в провинции, ее многие желали и желают поныне. Однако Август выбрал Назона, и все смирились. Легат Пульхр пришел на свадьбу отца, Август прислал молодоженам свои поздравления, торжество прошло, как подобает. Невеста под традиционным красным покрывалом выглядела счастливой, жених в тунике и тоге с широкой багряной полосой — тоже. Жрец, испросив повеления богов, сказал, что они не только согласны на этот брак, но и сулят молодым небывалое счастье — так оно и вышло.
Супружество в Риме перестало быть желанным еще до Августа. Рим погрязал в разврате, Август как мог боролся с падением нравов. По его указанию везде выявляли и строго наказывали распутников. Принцепс не пожалел даже единственную дочь, уличенную в оргиях, — сослал ее на пустынный остров. Август не назначал на должности холостых мужчин, понуждая их тем самым к женитьбе. Но брак Луция и Випсании состоялся бы без императора. Мои отец и мать любили друг друга даже спустя много лет после свадьбы. Нигде и никогда больше я не видел такой любви. Я вспоминаю взгляды, которыми они украдкой (как они считали) обменивались за столом, как, улучив время, нежно обнимали друг друга. Дети наблюдательны и любят подглядывать…
У Луция и Випсании родились подряд две дочери, прежде чем появился я. Это случилось в иды летнего месяца, названного в честь Августа, ровно за год до смерти самого императора. Хорошо, что я поторопился. Многие отцы выбрасывали детей, родившихся в несчастливый день смерти принцепса, считая, что из них все равно не будет проку. Римляне суеверны. Они верят в бесчисленные приметы, по любому поводу советуются с богами — вернее жрецами, толкующими волю богов. Накануне моего рождения мать увидела во сне льва: огромный зверь с пышной гривой подошел к ней, но не напал, а улегся у ног. Авгур, к которому мать обратилась за толкованием, заявил, что появившийся на свет младенец будет отважен и силен. Совершив по просьбе родителей ауспицию, гадание по полету птиц, авгур сообщил, что мальчика ждет необыкновенная слава, имя его узнают все народы, и будут помнить спустя тысячелетия. Памятники Марку Корнелию Назону Руфу возведут повсеместно, и статуи эти простоят века…
Я улыбаюсь, вспоминая это пророчество. Мое настоящее имя забыли даже чиновники императорской канцелярии, братья по общине зовут Иоанном. Это имя нравится им больше, я не спорю. Смешно думать, что ученики закажут ваятелям мою статую: наша община подчиняется древнему закону Моисея, запрещающему возводить памятники людям. «Не сотвори себе кумира…»
Я опять увлекся, поэтому буду краток. К предсказаниям в Риме относятся серьезно. Отец, впечатленный пророчеством, не знал, на каком поприще я прославлюсь, поэтому на всякий случай готовил сына ко всему. Он нанимал лучших учителей, сам обучил меня воинскому ремеслу — к шестнадцати годам я не только мог на равных сражаться с умелым легионером, но и водить в бой центурии и когорты. Я знал латинскую и греческую поэзию, историю, геометрию и начала философии. Подробно учить меня воззрениям греков отец, однако, не стал, считая, что их философия вредна римлянам. Он придерживался старых правил, а ревнители старины и поныне утверждают, что греческое учение склоняет граждан к изнеженности и погоне за наслаждениями. В конце концов, это римляне победили греков, а не наоборот! Правда, это было давно. Ныне Греция завоевала Рим, причем без оружия. Греки привили нам вкус к поэзии и театру, их мировоззрение победило суровость древних римских обычаев, статуи римских богов ваяют греки, да и сами боги в империи греческие — только с римскими именами.
Как любой мальчишка я с малых лет обожал оружие, и все свободное время проводил в казармах. Ауксилии отцовской когорты выделяли меня среди прочих офицерских детей. Солдаты любят удачливых, верят в приметы и талисманы. Стремительная карьера моего отца — от рядового легионера до префекта — свидетельствовала: боги покровительствуют Луцию Корнелию Назону Руфу. К тому же отец был хорошим начальником — строгим, но справедливым. Он не плутовал с солдатским жалованьем, ауксилии у него были сыты, исправно одеты и обуты, отлично вооружены. Продвижение по службе в когорте осуществлялось по заслугам, а не по прихоти префекта. К тому же ауксилии знали о пророчестве авгура (никто не делал из него тайны) и считали меня маленьким талисманом. Солдаты сами сшили мне военную форму и маленькие калиги, выстрогали деревянный меч и щит… В десять лет у меня был железный меч (только меньше обычного), а также настоящий щит и бронзовый шлем; солдаты собрали деньги и заказали оружие кузнецу. В четырнадцать, когда пришел мой черед надеть тогу, оружие уже было настоящее. Отец зачислил меня в когорту простым солдатом, и я вместе с остальными ауксилиями маршировал перед префектурой, потел на учениях и стоял в ночной страже. Единственной моей привилегией была возможность ночевать дома, хотя отец поначалу всерьез решил поселить меня в казарме. Но этому воспротивилась мать, а ей отец отказать не мог.
Когда мне минуло шестнадцать, ауксилии через выбранных от когорты представителей попросили назначить меня центурионом. Отец поначалу слышать об этом не хотел, ссылаясь на юный возраст кандидата, но ауксилии жарко убеждали, и отец уступил. Боюсь, что с охотой. Когда отец рассказывал мне о споре с ауксилиями, лицо его светилось гордостью. Разумеется, в настоящем легионе не решились бы назначить центурионом шестнадцатилетнего юнца, но Лугдунум охраняла вспомогательная когорта. Да и чем я был хуже сенаторских сынков, свежеиспеченных трибунов, приезжающих в легион командовать когортами? К тому же раннее приобщение к армейской жизни изменило мою внешность — я выглядел старше своих лет, никто не давал мне меньше двадцати.
Мне стыдно вспоминать, но отец любил меня куда больше сестер. Не только потому, что отцы всегда и везде любят сыновей. Мои сестры, Корнелия Старшая и Корнелия Младшая, выросли очень похожими на отца — такие же рыженькие и худощавые. Они были миловидны, но не красавицы. Замужеству это не помешало: желающих породниться с самой богатой семьей в Лугдунуме хватало. Отец сам выбрал мужей дочерям, но они не противились: женихи были молоды, красивы и знатного происхождения.
Кровь матери взяла свое только в сыне: я рос черноволосым и кареглазым. И чем дальше, тем более походил на мать. Поэтому отец так любил возиться со мной. А я нахально ревновал его к сестрам: маленьким, расталкивая их, пробирался поближе и норовил забраться отцу на колени. Он смеялся, но протягивал руки…
Мать умерла, когда мне было пятнадцать. В один из холодных зимних дней она вышла в атриум после бани легко одетой, простудилась, и лихорадка в три дня убила ее. К тому времени обе старшие сестры были замужем и жили с мужьями; мы остались вдвоем с отцом. На людях отец держался по-прежнему невозмутимо, но только немногие, в том числе и я, знали, чего ему это стоило. Греческие мастера еще при жизни Випсании сделали замечательную ее статую. Они так умело раскрасили ее восковыми красками, что мать выглядела как живая. Отец велел перенести изваяние к себе в спальню, несколько раз я тайком наблюдал, как он обнимает мраморную Випсанию и плачет. С потерей жены отец старался повсюду брать меня с собой: то ли мое лицо напоминало ему о любимой, то ли он страшился остаться один со своим горем. Через год я прекрасно знал все тонкости монетного дела, разбирался в поставках металла и угля, дружил с чиновниками канцелярии префекта и лучшими резчиками. Видя это, отец сделал меня своим помощником. Я продолжал числиться центурионом, на праздничных построениях когорты надевал свой посеребренный панцирь, поножи и шлем с красным гребнем поперек, но в остальное время помогал отцу. Центурией командовал опцион. Мне не нравилось монетное дело, куда с большей охотой я служил бы в легионе на границе с варварами (как любой молодой солдат я мечтал о славе), но мне было совестно просить отца о переводе. Я был нужен ему.
К тому времени, как начались события, изменившие нашу жизнь, в Риме правил император Тиберий. Мрачный и подозрительный, он панически боялся заговоров и возмущений, поэтому со временем уехал из беспокойного Рима, заявив, что ноги его там больше не будет. Слово свое Тиберий сдержал. Он жил на острове Капри в укрепленном поместье под охраной преданных преторианцев. В Риме хозяйничал Луций Элий Сеян. Тиберий доверял ему безгранично, и некогда скромный всадник смещал и назначал сенаторов, а также осуждал и казнил неугодных. Рим дрожал от страха при одном упоминании имени Сеяна.
В декабре, накануне сатурналий, в Лугдунум пришла весть об избрании Сеяна консулом в паре с самим Тиберием. Эта новость вызвала много толков. Всадник по происхождению, Сеян не мог занять высшую должность в государстве, тем не менее, это произошло. К тому же его соправителем стал сам Тиберий, не слишком ценивший консульство и предпочитавший выдвигать на эту должность других. Толковали, что престарелый император готовится передать власть Сеяну, что скоро тот женится на родственнице Тиберия и войдет в правящую семью Юлиев-Клавдиев.
Мой отец внимательно слушал гостей, судачивших о столичных делах, но сам отмалчивался. Чтобы ни происходило в Риме, в Лугдунуме оставался Луций Корнелий Назон Руф. Его не трогали. Слава Августа была так велика, что Тиберий ревностно сохранял его наследие. Ссылки, конфискации имущества и казни Лугдунумскую Галлию затронули мало: Сеян и Тиберий боролись с римской знатью, а отец к ней не принадлежал. К тому же император был достаточно умен, чтобы не рушить то, что приносило государству славу и доход. Вот почему отец чувствовал себя уверенно в своей должности и, подозреваю, втайне мечтал передать ее сыну.
Меня политика не влекла. Я больше интересовался домашними рабынями — мужское естество пробудилось во мне. Рабыни охотно шмыгали ко мне в спальню — женщины любого народа любят подарки, а я не скупился. Отец знал об этом, но не мешал: римляне считают, что мужчине для поддержания здоровья необходимы женщины. Вот если бы я стал спускать отцовские деньги в лупанариях или затевать оргии, как сынки некоторых лугдунумских богачей…
Те сатурналии выдались грустными. Я с детства любил этот милый веселый праздник. По улицам ходят толпы ряженных, заходят в дома, поют песни, поздравляют хозяев. Рабы получают свободу на несколько дней, хозяева управляются сами. За столом собираются близкие, преподносят друг другу заранее подготовленные подарки (дети получают больше всех), затем благодарят богов за ниспосланные милости… Но в этот раз за столом пустовало место Випсании, и даже мои сестры, пришедшие со своими мужьями и детьми, не могли скрасить отцу горечь потери.
* * *
В январские иды, в год консульства Тиберия Цезаря Августа и Луция Элия Сеяна мы с отцом находились в его префектуре и занимались тем, что просматривали пергаментные свитки с хозяйственными записями. У отца возникло подозрение, что поставщики древесного угля обманывают нас, и мы проверяли, сколько и по какой цене мы купили угля в предшествующие годы. Эту работу следовало поручить вольноотпущеннику, ведавшему хозяйством двора, но его-то отец как раз и подозревал в сговоре с угольщиками. Мы работали увлеченно и как раз начинали выводить вольноотпущенника на чистую воду, как в дверь постучали.
— Войдите! — ответил отец недовольно.
Это был Скавр, центурион дежурной когорты. Торопливо выбросив руку в приветствии, он выпалил с порога:
— У ворот центурион с солдатами. Говорит, прибыл из Рима по поручению консула.
Отец встал. По его лицу я сразу понял, что далее заниматься углем нам не придется.
— Ты впустил его? — спросил отец.
— Нет! — Скавр замялся. — Я поступил неправильно?
— Правильно, — успокоил отец. — Как выглядят гости? Сколько их?
— Центурион и восемь солдат. В полном вооружении, верхом. С ними еще какой-то старик, по одежде — вольноотпущенник. Видно, что они долго скакали. Уставшие, одежда в грязи.
— Преторианцы на лошадях, — усмехнулся отец. — Неделя пути… Этот контуберний не скоро сможет маршировать по римским улицам. Построй во дворе свободных солдат! — велел он Скавру. — В полном вооружении. Затем впусти гостей. Отведите их лошадей в конюшню, гостям предложи умыться и вина с дороги. Затем препроводи сюда. Вели преторианцам оставить пилумы и щиты в казарме, станут сопротивляться, окружи и отбери силой. Мечи пусть сохранят. Не хватало, чтобы они своими палками чаны с металлом перевернули, — пояснил он Скавру, но я сообразил, что вовсе не это соображение заставило отца отдать приказ. Скавр это тоже понял.
— Будет исполнено, префект! — улыбнулся он и убежал.
Отец подошел к шкафу и достал панцирь; короткий, из двух пластин, выкованных по форме тела — защитное вооружение префекта. Панцирь был позолочен и украшен бронзовыми медалями, полученными отцом в легионе. Я помог ему застегнуть ремни, затем быстро надел свою центурионскую лорику. Без медалей. Шлемы остались в шкафу. Мы накинули перевязи с мечами и встали у стола. На душе у меня стало тревожно. Я не помнил, чтоб мы встречали гостей при оружии.
Мы успели. Дверь распахнулась, и в зал стремительно вошел невысокий плотный центурион в кованном, как у отца, панцире. Лицо его было красным от гнева.
Публию Элию Сеяну, так звали гостя, было двадцать пять, то есть он был совсем молод для должности центуриона преторианцев, привилегированного, личного войска императора, служить в котором было великой честью даже для родовитых патрициев. Центурионами у преторианцев становились, как правило, люди заслуженные, но Публий был племянником самого Сеяна, поэтому обязательные для всех нормы не действовали. На госте был богатый плащ, забрызганный грязью, в грязи были его шерстяные штаны — «браки» и изящные сапоги из мягкой кожи. Ножны и рукоять меча Элия были украшены золотом, золотые узоры змеились и на грудной пластине панциря — слишком богатый наряд даже для преторианца. Ступал центурион не слишком уверенно, широко расставляя ноги — отец был прав, говоря о последствиях скачки пехоты на лошадях. Легионеров учат ездить верхом, но делать им это приходится редко. Особенно изнеженным преторианцам…
Все это я разглядел и узнал потом. В тот миг я видел лишь перекошенное гневом лицо гостя и невольно потянулся к мечу. К счастью, преторианец не заметил моего движения.
— Почему не пустили моих солдат?! — вскричал гость с порога. — Кто смеет препятствовать посланцу консула?
В дверном проеме я заметил мелькнувшую голову Скавра и сообразил: центурион истолковал веление префекта по-своему.
— Откуда мне знать, кто ты? — спокойно ответил отец. — Это монетный двор Рима, его строго охраняют. Посторонний может войти сюда лишь с моего разрешению или по велению римского консула. Так приказал мне сам Август, а сын его, Тиберий, этого повеления не отменял.
— Я… — начал было гость, но потом молча достал из сумки на боку свиток в красном кожаном футляре и протянул отцу.
Отец молча развернул пергамент. Я глянул через его плечо. Это был указ об оказании всякого содействия посланнику консула Рима, Публию Элию Сеяну. Указ скрепляла печать консула.
— Чем могу помочь? — спросил отец, возвращая свиток Элию.
— Я хочу осмотреть монетный двор.
— Что именно?
— Все!
— Это займет много времени.
— Я не тороплюсь.
— Тогда идем!
— Вели позвать моих солдат! — сердито сказал Элий.
— Зачем они тебе?
Элий замялся.
— Если ты опасаешься за свою жизнь, то напрасно, — невозмутимо сказал отец. — Монетный двор охраняется, никто не посмеет причинить вред посланцу консула. Если ты просто хочешь, чтоб тебя сопровождали, — продолжил отец, увидев, как изменился преторианец в лице при первых его словах, — то лучше не делать этого. Здесь не улицы Рима; там, куда мы пойдем, тесно, шумно и грязно. Посторонний может нечаянно опрокинуть на себя котел с расплавленным серебром или горячие заготовки. Я не хочу, чтоб в моем дворе пострадал преторианец. Втроем мы сумеем этого избежать, но если нас будет десять…
— Он пойдет с нами! — перебил его Элий.
Только сейчас я заметил человека, скромно стоявшего за спиной преторианца. Он был одет как вольноотпущенник (каковым и являлся), на вид ему было не меньше пятидесяти. Отец пожал плечами, и мы спустились во двор.
Я много раз бывал внутри монетного двора, поэтому больше смотрел на гостей, чем на работников. Элий пожелал увидеть все, поэтому отец начал с резчиков. Пятеро их, склоняясь над каменными заготовками, сосредоточенно работали закаленными резцами, создавая формы для инструментов. Кожаной печатью, смоченной в туши, резчики наносили рисунок на камень, затем, очертив резцом контуры, начинали убирать лишнее с образа монеты. Сначала они работали грубым инструментом, затем брали в руку маленький, в завершение тщательно полировали изображение песком — крупным, а затем мелким, как пудра. Отец рассказывал это Элию, центурион важно кивал в ответ, скользя по сторонам равнодушным взглядом. Сопровождавший его вольноотпущенник (как мы узнали позже, его звали Юний) проявил куда более пристальный интерес. Проворно достав из сумки круглое шлифованное стекло, он стал рассматривать сквозь него готовые формы и не отошел от стола резчиков, пока не пересмотрел все. Такой же интерес он проявил в литейной, где каменные формы заливали горячей бронзой: снова внимательно осмотрел каждый отлитый чекан и даже едва не обжегся, протянув руку к горячим, только что извлеченным из форм, инструментам. Отец упредил его, плеснув на чеканы водой из ковша. Облако пара взмыло к потолку, Юний отшатнулся, но потом склонился в благодарном поклоне. По знаку отца раб окатил горячий инструмент водой из ведра, после чего Юний смог их осмотреть, не опасаясь обжечься.
— Почему вы используете бронзу, префект? — спросил вольноотпущенник, закончив осмотр. — На сенатском дворе чеканы железные.
— Бронзу легче обрабатывать, — пояснил отец, — ведь отливки приходится чистить и полировать. С железом это труднее, к тому же при литье железом получается много негодных чеканов. На сенатском дворе чеканят монеты из меди и бронзы, эти металлы твердые, там железо необходимо. У нас серебро и золото, они мягкие.
Юний остался удовлетворенным ответом, и мы двинулись дальше. К моему удивлению вольноотпущенник остался равнодушным к отливке заготовок для монет, хотя, на мой взгляд, это было самое интересное. Вдоль стены литейной стояли большие закопченные печи, у которых суетились полуголые рабы, раздувая меха. Вот литейщики сдвинули заслонку и выхватили щипцами на двух длинных ручках чан с жидким металлом. Быстро отнесли его в угол к заранее приготовленным формам и стали разливать брызжущее искрами горячее серебро. Вот еще одна печь пыхнула жаром, затем следующая. Вокруг было дымно, жарко, пахло горько и кисло, литейщики сновали вокруг, как подручные в Тартаре. Центурион засмотрелся. Увлекшись, он подошел слишком близко, и литейщики, бежавшие к формам, едва не столкнулись с гостем. Жидкий метал колыхнулся в чане, выбросив сноп горячих капель. Если б отец не дернул гостя за руку, его окатило с головы до ног. Элий опасливо отошел в сторону, подбежавший раб быстро смахнул метелкой брызги серебра в совок и высыпал в чан для переплавки.
— Теперь понимаешь, центурион, почему я не пустил сюда преторианцев? — прокричал отец сквозь шум. — Я не смогу усмотреть за контубернием, кого-нибудь из солдат непременно обожгли бы.
Элий в ответ надулся, но спорить не стал. Отец жестом пригласил его следовать дальше.
Когда-то литейную и место чеканки разделяла стена, но отец приказал снести ее. Прежде отлитые заготовки остывали, а перед чеканкой их грели заново. Это требовало много угля, и отец приказал подавать горячие заготовки прямо из литейной. Это требовало ловкого сочетания труда многих, но у нас работали опытные люди… Новшество прижилось. Угля монетный двор стал потреблять меньше, на чем и пытался нажиться управляющий хозяйством.
В чеканной стоял грохот. Рабы подносили кузнецам горячие заготовки в маленьких железных корзиночках, затем выхватывали их по одной щипцами и клали на чекан. Кузнец приставлял сверху второй, быстро, с короткого размаха, бил молотом и стряхивал готовую монету в большую медную чашу. Раб тут же подавал следующую заготовку. Когда заготовки кончались, кузнец бросал нагревшиеся чеканы в воду и взамен брал остывшие. Тем временем подносчик подавал новую порцию заготовок… Со стороны казалось, что кузнецы словно играют своими молотами, но я знал, сколько умения нужно для точного удара. Чуть сильнее — заготовка раздавится, края монеты загнутся вверх, чуть слабее — не оттиснется рисунок. Стоит руке кузнеца дрогнуть, и отпечаток не впишется в серебряный кружок, съедет вбок. Все испорченные монеты отправятся в литейную, и императорский фиск понесет убыток на угаре серебра.
Некоторое время Элий заворожено смотрел, как только что отчеканенные монеты сыплются в чаши.
— Здесь работают рабы или вольноотпущенники? — спросил отца.
— И те и другие. Рабы подносят, убирают, раздувают меха. Резчики, литейщики и кузнецы — вольноотпущенники.
— Им много платят?
— Двадцать денариев в месяц.
— Больше, чем легионеру!
— Легионеров у Рима много, умелого резчика или кузнеца найти труднее.
— Раб обошелся б дешевле.
— Возможно, в Риме можно купить кузнеца или резчика, но здесь Галлия, центурион! На невольничьем рынке продают германцев или фризов, взятых в бою, они умеют только драться и пить пиво, резчика из такого не сделаешь. Германцы не годны даже на подноску угля или раздувания мехов: здесь они задыхаются, начинают тосковать по своим лесам, поэтому мрут или бегут. Все наши рабы родились или выросли в Галлии. Хозяева и родители научили их подчиняться, они спокойны и терпеливы. К тому же их сытно кормят, тепло одевают и дают немного денег, чтоб они могли купить себе вина или женщину. Рабы знают: через двадцать лет они получат свободу. Если, конечно, будут хорошо работать и не воровать.
— Не расточительно ли отпускать их?
— После двадцати лет на монетном дворе от раба мало проку. Многие получают увечья или умирают раньше этого срока. Если б законы Августа позволяли, я отпускал их через пятнадцать лет. У меня сейчас с десяток уже не годных рабов, которых нужно кормить…
Пока отец с Элием разговаривали, вольноотпущенник Юний проворно инспектировал только что отчеканенные монеты. В этот раз он был осторожнее: перед тем как коснуться монеты плевал на нее и брал в руки только остывшие. Закончив, он подошел к центуриону.
— Теперь мы осмотрим хранилище! — сказал центурион. Отец молча кивнул.
У хранилища стояла стража, четверо ауксилиев, после того как отец открыл замок, они стали подносить Юнию тяжелые кожаные мешки с денариями. Отец сам срывал печати, Юний горстью зачерпывал новенькие денарии и рассматривал их через свое стекло, по одному бросая обратно в мешок. После чего отец заново его запечатывал. Вольноотпущенник не пропустил ни одного мешка, и к концу осмотра устали все: Юний, ауксилии, отец и даже центурион, который ничего не делал, а только внимательно следил за всеми.
— Мы закончили! — объявил Элий, после того как Юний, ссыпав денарии в последний мешок, выпрямился и отрицательно покачал головой в ответ на взгляд преторианца.
— Поднимемся ко мне! — предложил отец, и центурион охотно согласился.
Пока мы ходили по двору, рабы не теряли время: стол в триклинии был уставлен блюдами с вареным и копченым мясом, хлебом, фруктами и кувшинами с вином. В погребах префекта нашелся виноград, яблоки и мандарины. Был здесь изюм, маслины, смоквы и многое другое. Рабы поставили у стола селлы с мягкими кожаными сиденьями и два биселлия для отца и Элия. Рабы помогли нам снять доспехи и подали чаши для умывания. Все мы здорово проголодались, поэтому некоторое время молча ели, запивая кушанья сладким галльским вином. Виноград в Галлии стали возделывать совсем недавно, но местные вина уже славились. Многие считали, что они лучше италийских, даже знаменитого фалернского. Когда гости насытились, рабы по знаку отца унесли кушанья, оставив только фрукты и вино. Отец сам наполнил чашу Элия, затем свою и, отплеснув по обычаю на пол, пожелал здоровья консулам Рима. Гость поддержал.
— Теперь, когда мы сыты, а ты увидел, что хотел, — начал отец, глядя на центуриона, — можешь сказать, что искал?
— Покажи ему! — велел Элий вольноотпущеннику.
Юний встал и положил перед префектом монету. Я не удержался, и скользнул за спину отца. Это был серебряный денарий, обычный, какие мы совсем недавно видели в хранилище. Отец недоуменно повертел денарий в пальцах, затем подкинул его на ладони, проверяя вес.
— Принеси лидский камень! — велел мне.
— Не стоит, префект! — упредил меня Юний. — Серебра в этом денарии больше, чем в обычном. Чистый металл, без примеси.
— Тогда в чем дело?
— Смотри внимательней, префект!
Юний протянул отцу свое стекло, и я вновь наклонился над отцовским плечом. Выпуклое стекло увеличивало рисунок, я отчетливо видел буквы «TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS» вокруг профиля императора, означавшие «Тиберий Цезарь, сын Божественного Августа, Август». На оборотной стороне денария вокруг женской фигуры на стуле (мать Тиберия Ливия в образе богини) надпись покороче: «PONTIF. MAXIM.», «великий понтифик». Отец еще раз повернул монету, и я вдруг ощутил, как напряглась его спина. Следом и меня прошиб холодный пот: вместо уродливого профиля Тиберия на монете был выбит неизвестный облик молодого человека в лавровом венке.
— По ошибке? — хрипло спросил отец.
— В твоем дворе проверяют монеты, прежде чем наполнять ими мешки? — ответил Юний вопросом.
— Два вольноотпущенника заняты только этим.
— Значит, пропустить не могли. Странная монета, не правда ли? Надпись Тиберия, а вот лицо…
— Эту монету сделали умышленно! — торжественно сказал Элий. — Те, кто хотел оскорбить великого Тиберия.
— Известно, чей это профиль?
— Некоторые полагают: Гай Юлий Цезарь, сын Германика и внук Тиберия, — тихо сказал Юний.
— Он же ребенок!
— Не совсем так. Семнадцать лет. Достаточно, чтоб стать знаменем в руках заговорщиков.
— Надо его допросить!
— Юный Гай находится под строгим присмотром! — вмешался Элий. — Дядя исключает его участие в заговоре. Кто-то воспользовался им для своих гнусных намерений!
— Возможно, шутка? — задумчиво сказал отец. — Одна монета…
— В наших руках более сотни таких денариев, — покачал головой Юний. — Все новенькие, недавно отбитые. Их чеканили не фальшивомонетчики на постоялом дворе. Глянь внимательней: оттиск ровный, гладкий, все буквы четкие. Работал умелый резчик и опытный кузнец — люди знающие монетное дело.
— Не с моего двора! — сердито сказал отец, возвращая денарий.
— Знаю! — спокойно ответил Юний. — Видишь ли, префект, мы бросили эти странные денарии в прозрачный уксус, и тот порыжел — монеты били на железных чеканах. Ты работаешь с бронзой, а твои литейщики никогда не имели дела с железом — я успел их расспросить. Я десять лет управлял хозяйством монетного двора в Риме и хорошо знаю, как делают железные чеканы; в твоем дворе нет ничего, чтоб говорило о железе.
— Денарии чеканят не только в Лугдунуме, — заметил отец.
— Еще в Испании и Африке, — подтвердил Элий. — Туда тоже направлены посланцы консула. Где бы не таился враг Рима, его обязательно найдут.
— Враг?
— Ты живешь в Лугдунумской Галлии и многого не знаешь, — снисходительно сказал Элий. — У вас здесь спокойно. В Риме уже много лет враги народа таят злобу и плетут заговоры против сына божественного Августа. На Тиберия много раз покушались, только стараниями моего дяди, консула Луция Элия Сеяна (да хранят его боги!), Цезарь жив. Дядя казнил сотни заговорщиков, но они не унимаются. Сейчас вот придумали эти монеты… Они жаждут создать возмущение в народе и придумали ловко. Пустить слух, что Тиберий стар, его пора сменить, и подкрепить этот слух фальшивыми денариями. Люди каждый день берут в деньги в руки, чем больше будет в ходу этих монет, тем чаще они станут задумываться. Мы должны пресечь это в зародыше! Решительно и жестоко, чтобы враг надолго запомнил!
Глаза центуриона блеснули. За столом воцарилось молчание, и первым нарушил его Элий.
— Благодарю за угощение, префект, — сказал он, вставая. — Подозрение с тебя снято, но ты поедешь со мной в Рим. Так нужно! — ответил он на немой вопрос отца. — Консул хочет тебя видеть, велел не медлить. Отправляемся прямо сейчас!
— Твои солдаты и кони устали, — хрипло сказал отец, вставая. — Будьте моими гостями! Мы отправимся на рассвете. Я велю заложить две крепкие и быстрые повозки, мы отвезем в Рим все готовые денарии, дабы консул лично мог убедиться в моей невиновности. Припасы в дороге тоже не помешают. В повозках смогут ехать те, кто обессилел или заболел. Дай мне возможность распорядиться, в Лугдунум я вернусь не скоро.
Элий нерешительно посмотрел на Юния, и тот кивнул. Меня удивил этот совет с вольноотпущенником, как и то, что Элий усадил его за один стол с нами. Позже я узнал, что Юний — важный человек в императорской канцелярии и советчик Сеяна. К счастью для нас всех, вольноотпущенник был стар, и не горел рвением, как молодой центурион. Он устал и не хотел вновь трястись в седле — упоминание о повозках подвигло его согласиться. Повозки спасли нам жизнь, но это будет позже, а в тот вечер согласие Юния дало отцу возможность собраться без спешки, а мне — попрощаться с рабынями. Весь вечер рабы суетились, собирая нас в дорогу, а отец сходил в храм Юпитера и принес жертву на алтаре Августа. Покойного императора обожествил сенат, и отец обратился за помощью к тому, кто некогда возвысил его.
Ранним утром, не выспавшийся, я забрался на испанского жеребца и у ворот оглянулся на домашних, высыпавших на ступени мраморной лестницы — провожать. Здесь были сестры, их мужья, рабы и вольноотпущенники. Я искал среди десятков лиц своих милых рабынь — кивнуть напоследок, поэтому так не бросил взгляд на дом, в котором родился и вырос. Сделать это следовало: я видел его в последний раз.
4
Пирамиды и дворцы, возведенные египтянами в эпоху фараонов, выглядят величественно. Храмы Греции изящны и нарядны. Римляне стоят много и быстро, но их здания меньше египетских и проще греческих. Римляне превзошли своих учителей в другом: никто в мире не сравнится с ними в умении прокладывать дороги. Мне пришлось путешествовать по Виа Аппия, самой старой римской дороге; ей уже более трехсот лет, но выглядит она так, будто проложена вчера. Легионы завоевали Риму мир, но удержал он его благодаря дорогам. Многим не нравится римское владычество, но когда по каменным плитам новых дорог грохочут подбитые железом калиги легионеров, даже бесстрашные бунтовщики задумываются…
В период гражданских войн римские дороги пришли в запустение; Август отремонтировал их. Он не только искоренил многочисленных разбойников, безжалостно грабивших и убивавших путников, но и создал императорскую почту, снабдив дорогу станциями с конюшнями для сменных лошадей, хранилищами фуража, гостиницами и харчевнями. Центурион Элий добрался из Рима в Лугдунум за семь дней. Если б он отправился в это путешествие во времена республики, то потратил бы месяц.
Ранним утром мы оставили Лугдунум, а к полудню были уже двадцати милях к востоку. Два преторианца с большой охотой вызвались управлять нашими повозками: ездить верхом им нравилось меньше. В одну из повозок забрался Юний, туда же солдаты сложили свои пожитки, щиты и пилумы, а мы с отцом — дорожные припасы: одежду, оружие, хлеб, вяленое мясо, сыр и кожаные бутыли с вином. Вдоль дороги хватало харчевен, но отец мой был человеком запасливым. Он даже прихватил лук и кожаный мешок стрел, как будто в дороге нас ждала охота. Отец, как многие римляне, плохо стрелял из лука, но один из ауксилиев нашей когорты, родом с Балеарских островов, научил меня сбивать птиц на лету. Наша повозка оказалась загруженной до верха, и Юнию пришлось устраиваться на узлах и свертках. Он не роптал. Скоро все поняли почему. Когда мы после долгого пути остановились у харчевни пообедать, вольноотпущенник неуклюже выбрался из повозки и, пошатываясь, побрел к отхожему месту. Поначалу я решил, что он отсидел ноги, но потом учуял запах… Зря отец взял в дорогу столько вина!
Вторая повозка была гружена мешками с денариями, отец не позволил класть в нее что-либо еще. На монетном дворе кожаный тент повозки стянули льняной веревкой сквозь бронзовые кольца на бортах, концы веревки опечатали; теперь открыть повозку предстояло императорскому фиску в Риме.
Мы с отцом ехали на конях преторианцев, а лошадь Юния вел на поводу один из солдат. Центурион, один из преторианцев и мы с отцом, скакали впереди колонны, далее следовали повозки, за ними — остальные солдаты. Так решил центурион, и отец не стал ему перечить. После того, как Лугдудум остался за нашими спинами, отец ехал, опустив голову. Я видел, что ему не по себе, но не стал выяснять причину. Понимал: не скажет.
Стоял ясный день, солнце подсушило грязь, скапливавшую на участках, где мощеную дорогу пересекали грунтовые, поэтому к станции, где предстояло менять лошадей, мы подъехали чистыми. Элий спешил, поэтому мы не остановились ночевать на станции, а проскакали еще десять миль (от скуки я считал милевые столбы), и уже в сумерках въехали во двор небольшой гостиницы. Хозяин ее, немолодой галл с плутоватой рожей, увидев военную форму и богатые панцири отца и Элия, засуетился. Скоро мы сидели за большим столом триклиния. Отец проследил, чтобы у повозок выставили охрану, и только потом присоединился к нам.
Слуги подали блюда с тушеной козлятиной, вареными овощами, свежий хлеб и простые медные чаши. Вино отец велел принести свое. Мы сели ужинать. Все были голодны, но Юний вскоре встал и поднялся наверх, где размещались спальни. Вольноотпущенник почти не ел и за столом клевал носом — не столько от усталости, сколько от выпитого. Когда преторианцы насытились, Элий поднял взгляд на того, что сидел напротив.
— Смени Гая и Авла! Пусть поедят.
— Пошли двоих, центурион! — вмешался отец.
— Хватит одного!
— Двоих!
— Это мои солдаты, префект! — вспылил Элий.
— А груз принадлежит императору! Ты обязан его охранять как должно!
— Боишься за свои денарии? — ухмыльнулся Элий.
— Будь осторожен, центурион! — сказал отец по-гречески. — Здесь много посторонних ушей.
Я не сразу сообразил, почему отец перешел на греческий язык. Понял позже: в Галлии на нем говорили только образованные римляне. Вряд ли хозяин гостиницы из галлов или его слуги знали греческий. Они и по латыни объяснялись коряво.
Элий в ответ на осторожное замечание отца рассмеялся.
— Кто посмеет напасть на преторианца? Это лучшие солдаты Рима, префект! Дни напролет они проводят в учениях, никто лучше не умеет обращаться с пилумом, мечом и щитом. Ты обратил внимание, какие они рослые? Один преторианец легко справится с десятком разбойников!
— Они воевали?
Центурион удивленно посмотрел на отца.
— Я верю, что у тебя умелые солдаты. Но я хочу знать: часто ли им приходится стоять лицом к врагу? Видеть летящие в них копья, отражать их, а затем ударить на врага в мечи и колоть, колоть, скользя по крови и кишкам — чужим и своим? Твои преторианцы видели, как гибнут их друзья, собирали на поле боя отрубленные руки и ноги, чтобы похоронить их вместе с тем, что осталось от товарищей? Хоть раз летела на них конница варваров? Знаешь, что это такое? Варвары вопят, гудят в рожки, бьют в медные тарелки. За сто шагов уже различимы дубины и мечи, которые они крутят над головой. За пятьдесят шагов тебя обдает запахом конского пота и мерзкой вонью их шкур. Кони хрипят, их морды в пене, и воины, что стоят в первых рядах, в этот момент понимают, что обречены. Кто б не выиграл битву, но первые ряды сомнут, стопчут копытами, пробьют копьями или оглушат дубинами. Им не уцелеть. Знаешь, что чувствует обреченный солдат?
— Ты видел это? — хрипло спросил центурион.
— Много раз. Я до сих пор не понимаю, почему те, кто стоял впереди, не бежали. Ни разу. Это были лучшие солдаты из всех, каких мне приходилось видеть.
За столом установилась тишина. Преторианцы, забыв про еду и вино, смотрели на отца, и я понял, что никто из них не обиделся.
— Децим и Поступ! — велел центурион. — Смените стражу!
Двое солдат встали и вышли.
— Мы не виноваты, что император бережет преторианцев и держит их подле себя, — извиняющим тоном сказал Элий. — Поверь, я б с охотой пошел в легион! Я даже просил дядю. Но он ответил, что я нужен в Риме…
— Выпьем! — предложил отец, наполняя чашу центуриона. — За души тех, кто погиб — чтоб им было легче в Тартаре! И за нас — чтоб мы присоединились к ним как можно позже! Прикончим это вино! Иначе это сделает Юний…
Преторианцы засмеялись и подняли чаши. Пришли сменившиеся Гай и Авл, скоро за столом стало шумно. Отец о чем-то тихо говорил с Элием, я сидел в отдалении и не мог слышать. Преторианцы не обращали на меня внимания, я тихонько встал и поднялся в комнату, отведенную нам с отцом.
Я устал и выпил вина, но сон не шел. Ложе было жестким и неудобным, к тому же слуга перестарался с жаровней — в комнате стояла духота. Но более всего не давали мне спать слова отца. Он учил меня владеть оружием, но не рассказывал о сражениях. Вернее, о том, что чувствовал, нападая на врага или отражая его удары. Рассказывали другие. Став префектом, отец пригласил в свою когорту бывших сослуживцев-галлов, в Лугдунуме они стали центурионами, опционами, возглавили конные турмы. За чашей вина в харчевне галлы любили вспоминать минувшее. Я отирался рядом, меня не гнали. Нередко захмелевший центурион усаживал меня на колени, гладил по голове и начинал: «Как-то мы с твоим отцом…» В разговор немедленно встревали другие, и начиналось бесконечное сбивчивое повествование о схватке с шайкой прорвавшихся на правый берег Рейна германцев или о походе в земли варваров. Ауксилии перебивали друг друга, спорили, случалось, хватали друг друга за туники, но никто никогда не сказал плохого слова об отце. Его они обожали. И не только потому, что префект был щедр и добр. Главным мужским достоинством галлы почитают отвагу: Луций Корнелий Назон Руф по единодушному мнению был отважнее даже галлов. Центурионы красочно живописали мне, как отец бесстрашно врубался в толпу варваров, даже не оглянувшись, чтобы посмотреть, скачут ли следом галлы. Как, утратив в схватке щит и копье, сражался мечом, а, коли тот ломался, то поднимал с земли германскую дубину и разил ей — еще ловчей, чем коротким гладиусом. Один удар префекта выбивал германца из седла, его копье с одного замаха пронзало щит и укрывшегося за ним врага, а меч Корнелия разрубал кованный шлем вместе с глупой германской башкой. Чем больше галлам подливали вина, тем грознее и бесстрашнее представал в их воспоминаниях мой отец. Мальчишки любят слушать про войну. Я жадно впитывал малейшие подробности отцовских подвигов. Много позже я узнал, что война совсем не такая, как в тех рассказах. Что в рукопашной люди приходят в неистовство. Они рычат, плюются, кусаются, разрывают противнику рот, выдавливают глаза, бьют кулаками или просто душат, забыв про оружие. Что это настолько страшно, что даже седые ветераны после боя плачут или бьются в судорогах, и стараются поскорее забыть. Годы спустя, за чашей вина солдаты вспоминают иное; немногим хватает духа, чтобы поведать правду.
Но я был мальчишкой и радовался рассказам галлов, как нищий — серебряному денарию, найденному посреди улицы. Я гордился своим отцом и хотел походить на него. Вести в атаку конные турмы и пешие центурии, с ходу врубаться в строй врага, бить, колоть, рубить — так, чтоб мои солдаты смотрели на меня с восхищением, а после битвы благоговейно подносили венок, сплетенный из ветвей дуба. В мои годы отец служил в легионе, а я прозябал в городской когорте. Я стал центурионом, но что значили посеребренные лорика и поножи в сравнении с тревожной и опасной службой легионера! Я жаждал славы. В Лугдунуме у меня не было надежды: отец держал меня при себе, покинуть его самовольно я не мог: по римским законам отец волен распоряжаться жизнью сына как угодно, даже приговорить его к смерти. И вот теперь мы ехали в Рим…
Я не мог знать, зачем могущественный консул призвал отца. Дорогой у меня было время подумать, и я решил, что отцу хотят предложить должность в Риме. Центурион Элий рассказывал в префектуре и за ужином в нашем доме, как много патрициев поплатилось жизнью за участие в заговорах против Тиберия. В сенате образовалось много вакансий. Мой отец был сенатором, много лет преданно служил Риму, никогда не участвовал в заговорах, наконец, он был умен, честен и отважен. Кому, как не ему, занять вакантное место?! «Если отец станет заседать в сенате, — думал я, — что делать сыну?» Для магистрата я молод, но дл военной службы — как раз. Дети сенаторов едут в легионы трибунами когорт. Конечно, шестнадцать лет — это маловато для трибуна, но я могу побыть центурионом. А через год-два…
Мечтания овладели мной. Я видел себя в золоченом панцире и шлеме с красным гребнем, ниспадающим на спину. Я не буду, как изнеженные дети римских сенаторов, отбывать обязанности трибуна в четырех стенах, попрошусь на самый тревожный участок. Походы, сражения… Рим услышит о молодом, отважном трибуне! Я вернусь в Рим с почетными венками и займу сенаторское кресло рядом с отцом. Он станет гордиться мной! Но я не останусь в Риме на всю жизнь. В положенный срок выдвину свою кандидатуру в легаты. Изнеженных римлян не посылают в легионы, ими командуют опытные воины. Я стану легатом, мой легион будет лучшим в империи! Из легатов прямая дорога в прокураторы или наместники провинции…
Сладкие мечтания кружили мне голову. Подумав, я решил, что прокуратором или наместником быть плохо. Канцелярия, свитки, бесчисленные просители… Лучше легатом. В твоем подчинении шесть тысяч легионеров, вспомогательные войска, строители, врачи, кузнецы, шорники. Стоит только велеть, и вся эта громада снимется и двинет на врага. «А если отца позвали, чтобы назначить легатом»? — внезапно подумалось мне. Я улыбнулся этой мысли, настолько предположение выглядело правдоподобным. Конечно, легатом! Рим держит двадцать восемь легионов в провинциях, кому-то надо ими командовать! После смерти Августа Рим почти не воевал, опытные полководцы состарились или умерли, а новые не бывали в походах. Отец — опытный воин, прославленный в боях, пришло время, и о нем вспомнили. Но если отец станет легатом, то я неизбежно последую за ним в легион. Там все будет легче и проще…
Мне было шестнадцать, и я искренне считал, что идти с войском в чужие земли, убивать ни в чем не повинных людей, забирать их имущество, уцелевших продавать в рабство — почетное занятие и верный путь к славе и людской любви. Что я? Миллионы римлян уверены в том и ныне. Чем больше крови проливают их полководцы, чем больше пленников идет за их триумфальной колесницей, тем радостнее кричат толпы. Рим до сих пор думает, что мир держат в повиновении железом и кровью. Слепцы…
Мои сладостные мечтания прервал отец. Он ввалился в комнату, и, пошатываясь, направился к ложу. Я вскочил и помог ему.
— Этот центурион может выпить амфору! — заплетающимся языком, сказал отец. — И потребовать вторую!.. Наверное, их этому учат… Так и не сказал, зачем мы консулу. Клянется, что не знает…
Я не стал звать слугу, сам снял с отца мягкие кавалерийские сапоги и плащ. Он повалился на жесткое ложе и захрапел. Глаза у меня тоже стали слипаться, и я едва добрел к своей кровати…
* * *
Центурион Элий оказался не так крепок, как думал отец — выехали мы поздно. Преторианцы поднялись с рассветом, позавтракали и сели играть в кости. Я присоединился к ним. Солдаты встретили меня усмешками, но после того, как у меня дважды выпала «Венера», никто не смеялся. Играть в кости меня учили галлы и учили хорошо. Азарт охватил нас. Мне везло, и я поначалу обчистил своих противников до калиг — они проиграли браслеты, перстни, не говоря о деньгах. Но в тот момент, когда на кону был последний залог, у меня выпала «собака». Затем еще… Скоро преторианцы вернули свои перстни и браслеты, затем деньги. Денарии из моего кошелька перетекали в чужие, когда в триклиний спустился отец. Увидев префекта, преторианцы вскочили и ловко спрятали кости — играть в них запретил сенат, императоры подтверждали этот запрет, в том числе Август, хотя сам принцепс кости любил. Как мне показалось, солдаты сделали это не из страха: они оставались с выигрышем, а отцу было не до них. Префект был бледен, лицо его кривилось — по всему было видать, что у отца болит голова.
— Горячей похлебки! — потребовал отец, садясь за стол.
Римляне не едят по утрам похлебку, но наш хозяин был опытным человеком, и спустя мгновение перед отцом стояла дымящаяся паром миска. В это время в триклиний спустился Элий. Выглядел он не лучше, и сразу потребовал вина.
— Послушайте меня, господин! — склонился хозяин. — Берите пример с префекта! От вина вам станет хуже. У меня нет достойного вас напитка, осталось только местное, кислое. Я заказал торговцу десять амфор фалернского, но их не привезли.
Мгновение подумав, центурион кивнул и сел рядом с отцом. Последним в триклиний спустился Юний. Он не поддался на уговоры хозяина, стоя выпил чашу красной кислятины и, отказавшись от завтрака, вышел.
— Сколько с нас? — спросил центурион, расправившись с похлебкой.
— Господин уже заплатил! — подобострастно ответил хозяин, кивая на отца.
Элий пожал плечами и спрятал кошелек. Выглядел он довольным. Хозяин вышел нас провожать и во дворе подошел к сидящему в седле Элию.
— Если вы не очень спешите, господин, — сказал, заискивающе глядя снизу вверх, — то через сорок миль будет гостиница, которую держит мой брат. У него вы найдете прекрасное вино, вкусную еду и мягкие постели. У брата молодые и красивые служанки, которые будут рады усладить господ по первому их желанию.
Стремление хозяина удружить брату, направив к нему богатых путешественников, выглядело естественным, и Элий, подумав, кивнув.
— Могу я попросить господина, взять с собой моего племянника? — продолжил хозяин. — Он давно не видел отца, а у вас есть свободная лошадь. Дороги сейчас неспокойны, я боюсь отправлять его одного. Брат будет рад видеть сына, выставит вам все самое лучшее и не попросит за это много.
Лошади у центуриона были казенные, и он снова кивнул. Тут же из дверей гостиницы выскочил вертлявый малый с узелком в руках и ловко забрался на запасного коня. Мы, наконец, выехали.
Даже если центурион и думал поспешать, то у него не получилось бы. Солнце садилось, когда мы подъехали к гостинице, которой владел отец нашего нечаянного спутника. Гостиница оказалась больше прежней и богаче. Перебросившись парой слов с сыном, хозяин ее заулыбался, и, низко кланяясь, повел нас в триклиний. Слуги уставили стол блюдами с жареным, тушеным и вареным мясом; были здесь покрытые румяной корочкой куры, молодой барашек с овощами, фаршированный заяц, копченые свининые языки, свежий хлеб и многое другое. Подогретое вино с пряностями приятно оживило продрогших путников, скоро за столом стало шумно. В этот раз отец пил умеренно и строго следил, чтобы стража у наших повозок несла службу как должно и сменялась вовремя. Элий не перечил. Он сходу заинтересовался одной из служанок, розовощекой и смешливой фракийкой, и после ужина увел ее к себе. Примеру центуриона последовали солдаты: завели игривые разговоры с оставшимися женщинами и скоро, один за другим, стали вставать из-за стола. Отец на женщин даже не посмотрел, а я в его присутствии не решился. Спать мы легли рано, и отец, истомленный дорогой и вчерашним пиром, сразу уснул. Я — тоже.
Среди ночи я проснулся: выпитое за ужином вино требовало выхода. Взяв с полки светильник, я обшарил комнату и понял, что служанки забыли поставить нам ночные горшки! Конечно, им ведь было не до того! Суровый обычай постояльцев римских гостиниц позволял в таких случаях справить нужду прямо в постель, но мне предстояло в ней спать. Я выглянул в коридор. Здесь было темно, и мне расхотелось искать лестницу, затем на ощупь пробираться через триклиний, рискуя налететь в темноте на стол или лавку, свалить стопку блюд или опрокинуть котел. Еще с вечера я заметил старый вяз под окном нашей комнаты, решение пришло мгновенно. Я открыл ставни, ухватился за ветку и по стволу скользнул вниз. Светила луна, во дворе никого не было, и я валкой рысью заспешил к отхожему месту.
Обратно я возвращался умиротворенный. Влезть на дерево оказалось труднее, чем спуститься с него, после первых неудачных попыток я уже подумывал, не постучать ли в дверь, как услышал неподалеку голоса. Прислушавшись, я понял, что разговаривают неподалеку. Движимый любопытством, я прокрался к углу гостиницы и выглянул.
В двух шагах от меня стояли двое. Один, высокий, широкоплечий, с наброшенным на голову краем плаща, сказал грубо:
— Клянешься, что это он?
— Клянусь! — ответил второй, и я узнал голос хозяина гостиницы. — Это лугдунумский префект. Я был в городе в прошлом году и видел его.
Я почувствовал, как по спине пробежала дрожь: говорили о моем отце! И говорили недружелюбно.
— Префект может ехать и по другим делам, — продолжил высокий. — Мало ли?
— Брат сам слышал, как центурион говорил про денарии, — возразил хозяин. — А префект стал укорять его по-гречески. Думал, что его не поймут… Брат два раза прошел мимо повозки и хорошо ее рассмотрел. Верх стянут веревкой через кольца и опечатан. Вино так не возят.
— А вдруг там свитки? Из канцелярии?
— Брат послал сына проверить. Тот дорогой присматривался и разглядел: повозка тяжелая, кони тянут с натугой. Свитки — легкие. Какая тяжесть может быть в повозке префекта? Подумай, Галл!
«Значит, с нами был не племянник, а сын хозяина первой гостиницы!» — сообразил я, припомнив, что дорогой вертлявый малый угрюмо молчал, хотя преторианцы от скуки пытались с ним разговаривать. Я отвлекся на воспоминание и упустил следующую фразу высокого незнакомца, которого хозяин гостиницы назвал Галлом, и различил лишь последнее слово:
— …Посмотреть?
— Там двое стражников! Зарубят!
— Смотри! — с угрозой в голосе сказал Галл. — Если обманул…
— Сам знаю! — сердито возразил хозяин. — Не ты убьешь, так римляне повесят. Сомневался, не позвал бы…
Я спустился во двор в одной тунике и сапогах. Ночь выдалась холодная, я мерз, и зубы мои вдруг непроизвольно клацнули. Высокий насторожился и двинулся в мою сторону! Не помня себя от страха, я махом взлетел на ранее недоступное дерево и, встав на толстую ветку, прижался спиной к стволу. Я едва успел. Двое показались из-за угла и остановились прямо под вязом.
— Нет здесь никого! — с досадой сказал хозяин.
— Но я слышал…
— Наверное, кошка. Римляне давно спят.
— Может, их прямо здесь? — хмыкнул Галл. — По-тихому?
— Без шума не получится, — возразил хозяин. — Стража не спит, женщины подымут визг… Тогда меня точно на крест!
— Как скажешь! — Галл хлопнул хозяина по плечу и двинулся прочь. Тот заспешил следом.
Я еще немного постоял, затем, дрожа не то от холода, не то от страха кое-как забрался в окно. Отец спал. Я плотно закрыл ставни и разбудил его. Отец выслушал мой сбивчивый рассказ, не перебивая.
— Разбойники… — сказал, когда я закончил. — Говорил я Элию…
— Надо его разбудить!
Отец покачал головой.
— Незачем. До утра не нападут, а там поговорим…
Тем не менее, отец проверил засов на дверях, взял из сваленных в углу вещей наши мечи и прислонил их к кроватям. Скоро он спал. Я, поворочавшись, тоже уснул.
Утром Элий, едва выслушав нас, велел позвать хозяина гостиницы. Но хитрый галл все отрицал.
— Вечером было много вина, — твердил он, глядя в пол. — Почудилось мальчику…
— Этот мальчик центурион! — возразил отец.
— Не хотел обидеть его, господин! Но он совсем юный…
— С кем ты договаривался во дворе? Отвечай! — рявкнул Элий. — Не то велю поджарить тебе пятки!
— Спал я! Не верите мне, спросите жену, сына… Может, кто и шлялся по двору ночью, откуда мне знать? Твои солдаты несли стражу, спроси их, господин…
Элий вознамерился и вправду кликнуть солдат с жаровней, но отец переубедил его.
— Не скажет! — пояснил, когда хозяин, низко кланяясь, ушел. — Когда дело пахнет распятием на кресте, такой будет молчать. Видел его рожу? Хотелось бы знать, откуда он взял деньги на эту гостиницу? Рабыни у него — по тысяче сестерциев каждая. Надо возвращаться, центурион!
Элий изумленно посмотрел на отца.
— Отъедем миль двадцать обратно и остановимся в гостинице. Галлу скажем, что возвращаемся в Лугдунум, он даст знать своему сообщнику. Тот подумает, что добыча уплыла и перестанет нас ждать. Мы же выедем вечером, ночью минем эту проклятую гостиницу, и к утру будем далеко. У меня в повозке миллион сестерциев, я не хочу рисковать.
— Мы и так не рискуем, — возразил центурион. — Одиннадцать вооруженных людей, из которых девять — преторианцы!.. Даже если разбойников тридцать…
— Они могут напасть внезапно!
— Теперь уже нет, — Элий встал. — К тому же я не помню, чтобы разбойники осмеливались встать на пути солдат. Я не могу терять целый день, префект! Консул ждет!
Элий сдержал слово: впереди нашей колонны теперь скакал преторианец, внимательно поглядывая по сторонам. За ним, настороженно следя за дозорным, двигались остальные. Ехать так было утомительно, и мы порядком устали, когда в час шестой стражи увидели станцию. Рабы увели наших уставших лошадей, привели свежих, оседлали их и перепрягли в повозках. Мы тем временем наскоро перекусили. Перед тем, как отправиться дальше, Элий стал расспрашивать начальника станции о разбойниках. Тот клятвенно заверил, что ничего о них не слышал.
— Вот так, префект! — самодовольно сказал центурион, забираясь на коня. — Мимо станции каждый день едут путники. Если б встречали разбойников…
— Случается, люди в пути пропадают, — возразил отец. — Разбойники не любят свидетелей — им на крестах висеть неохота.
— Напасть на нас следовало вблизи от гостиницы, — невозмутимо продолжил Элий. — Чтоб добычу недалеко прятать, да и с хозяином поделиться. Так что или разбойники померещились кое-кому, — центурион бросил выразительный взгляд в мою сторону, — или же мы их спугнули, дав знать, что проведали их намерения.
Отец, подумав, согласился.
— Пусть все же преторианец скачет впереди! — попросил он. Элий возражать не стал.
После станции дорога стала забирать вверх, скоро то с одной ее стороны, то с другой стали вставать каменные склоны — мы пересекали предгорья Альп. Солнце скрылось за облаками, ощутимо похолодало, преторианцы кутались в плащи и грели руки о крупы коней. Колонна втянулась в узкое ущелье. Скалистые склоны, почти отвесные, вставали с обеих сторон, словно стремясь раздавить узкую полоску мощеного тракта. Дорога петляла по дну извилистого ущелья, и наш дозорный ехал теперь всего шагах в двадцати от колонны. Если он отрывался больше, то сразу исчезал за поворотом. Преторианцы угрюмо поглядывали на подступавшие к дороге горы — место было невеселое. Разговоры как-то сразу стихли. Поворот следовал за поворотом, был слышен лишь цокот копыт да скрип колес. Поэтому удивленный возглас, раздавшийся впереди, заставил всех вздрогнуть.
Дозорный, повернув коня, что есть мочи скакал к нам, махая рукой. Внезапно из-за поворота выскочил человек и стал крутить над головой тонкую полоску. Я не сразу догадался, что это праща. Послышался звонкий удар камня о доспехи, преторианец упал на шею коня и стал клониться на бок.
— Спешиться!
Солдат муштруют ежедневно для того, чтоб они выполняли команды, не задумываясь. К тому же префект рявкнул так, что все мигом оказались на мостовой — даже Элий. В следующее мгновение отец подбежал к передней повозке и стал разворачивать ее поперек дороги. Преторианцы, не ожидая приказа, бросились помогать.
Мы успели вовремя: конь с раненым дозорным проскользнул по краю дороги, как повозка наглухо перекрыла путь. В следующий миг несколько камней ударили в тент с наружной стороны. Я упал на колени и заглянул под повозку: путь впереди преграждали трое пращников. Не спеша, как на учениях, они раскручивали пращи и метали камни в нашу сторону. Те звонко щелкали о толстую кожу тента и падали на плиты мостовой. Тем временем отец и солдаты развернули вторую повозку; мы оказались запечатаны в пространстве длиною не более двадцати шагов, где теперь толпились десять вооруженных людей, невооруженный и растерянный Юний, и двенадцать оседланных лошадей. Скоро мы убедились, что были правы со второй повозкой — камни ударили и в нее. Гляну под низ, я заметил у поворота, который мы только что миновали, четверых с пращами.
— Помнишь Вара, центурион! — спросил отец, сердито щерясь.
Лицо Элия стало серым. Кто в Риме не слыхал о Варе? Во времена правления Августа Квинтиллий Вар завел три легиона в Тевтонбургский лес, где германцы устроили засаду. Вар командовал неумело, из пятнадцати тысяч солдат уцелели меньше сотни, германцы захватили легионные орлы и богатую добычу. Вар бросился на меч, но это никого не утешило.
— Командуй, префект! — выдавил Элий.
Подчиняясь приказу отца, преторианцы достали из повозки пилумы и щиты, даже Юнию сунули в руки короткий меч. Тем временем отец осмотрел раненого. Камень угодил ему в правый бок. На преторианце была новомодная сегментная лорика из стальных полос, камень сделал в одной из них вмятину и, как решил отец, ушиб или сломал одно из ребер. Преторианец, хотя и кривился от боли, но встал и твердо взял свой щит.
Солдаты замерли у повозок, готовые отразить врага, но враг нападать не спешил. Отец и Элий поочередно выглядывали из-за повозок, но видели тех же пращников. Время от времени кто-то из них пробовал на крепость тенты наших повозок — и напрасно: хорошо выдубленная кожа буйвола выдерживает удар острого меча, что ей тупой камень?
— Почему они медлят? — не утерпел Элий.
— Боятся, — ответил отец. — Ты сам говорил, какие молодцы у тебя преторианцы!
Думаю, что отец сказал это с умыслом. Солдаты, поначалу растерявшиеся, приободрились, Элий тоже воспрял духом.
— На что они рассчитываю? — спросил вновь.
Отец вместо ответа хмыкнул и снова выглянул из-за повозок. Вернулся довольный. Достал из ножен широкий солдатский кинжал и присел на корточки.
— Смотри, центурион! — отец вычертил кончиком кинжала узкую дугу на каменной плите. — Это дорога. Мы — здесь! — отец указал на вершину дуги. — Они — здесь и здесь! — лезвие коснулось концов дуги. — Тебе не кажется это странным?
Элий покачал головой.
— Представь, тебе нужно захватить груз, который охраняют хорошо вооруженные и обученные солдаты. При этом всех, кто сопровождает груз, нужно убить…
Металл лязгнул о камень. Мы оглянулись. Юний, смущенно бормоча, поднимал с дороги свой меч.
— Свидетелей они не оставляют, потому никто и не слышал о разбойниках, — как ни в чем ни бывало, продолжил отец. — Но солдат убить непросто, особенно, если разбойники не римская центурия, а толпа сброда. Думаю, среди них есть бывшие солдаты, дезертиры из ауксилиев. Но центуриона с палкой у них нет наверняка. Не для того ауксилии дезертировали, чтобы одну палку сменить на другую. Значит, у них нет ежедневных учений и крепкой дисциплины. Даже если их трое-четверо против одного нашего, при столкновении с солдатами они не устоят. Понятно, центурион?
Элий покачал головой. Я тоже ничего не понимал.
— Победить они могут, либо напав внезапно, либо заманив нас в ловушку, — терпеливо пояснил отец. — Внезапно у них не получилось — мы выслали дозорного. Остается ловушка. Тебе не кажется странным, что их предводитель разделил свое ненадежное войско на две части? Прекрасно сознавая, что мы может напасть первыми и разбить их по частям?
Элий все еще недоумевал.
— Зачем войско высылает вперед пращников, помнишь?
— Расстроить строй врага.
— Если тот наступает, — согласился отец. — Но если враг не решается напасть?
В глазах Элия мелькнула искра.
— Они хотят…
— Чтобы мы напали первыми, — подтвердил отец. — Когда мы завязнем в бою, вторая шайка ударит нам спину. Неожиданно.
— Им будет трудно преодолеть это, — Элий указал на повозки. — К тому же можно оставить заслон.
— Поэтому я говорю, что это все странно, — вздохнул отец.
Он снова подошел к краю повозку и выглянул на дорогу. Я по привычке посмотрел снизу. Не встречая противодействия, пращники подошли ближе и теперь крутили свое оружие в шагах тридцати. Время от времени кто-либо из них бросал камень, но делал это с ленцой — по всему было видать, что в бой разбойники не стремятся.
Отец задумчиво обвел взглядом горный склон слева от дороги и вдруг нырнул в повозку. Вскоре появился обратно — с луком и мешком стрел. Протянул их мне. А затем стал расстегивать ремни своего панциря. Я хотел помочь ему, но отец знаком велел мне натянуть тетиву.
— Прогони их, Марк! — сказал он, освободившись от панциря, и я понял, что отец говорит о пращниках. — Хорошо бы убить кого! Но достаточно, если просто ранишь…
Я обиженно вытащил стрелы из мешка. За тридцать шагов в человека! Я попадал в летящую птицу за сто шагов…
Отец взял у одного из преторианцев щит; я понял, что хочет прикрыть меня от камней. Ну уж нет! Я подбежал к передку повозку, к просвету между тентом и упряжкой, бросил связку на скамью возчика. Затем схватил стрелу и натянул тетиву.
Пращники прозевали мое появление. Первый разбойник свалился на дорогу со стрелой в груди, когда заметили нежданную опасность. Однако поздно. Я стрелял, почти не целясь. У меня был сильный лук, предназначенный для охоты на птиц. Тетива в нем натягивается не к груди, а к уху, поэтому стрела летит очень далеко и бьет сильно. Простые стрелы с наконечниками-листочками не пробивают стальную лорику, но лорик у разбойников не было. Кожаный нагрудник для стрелы не преграда…
Два камня просвистели над моей головой, но спустя мгновение бросать уже было некому. Два разбойника лежали на дороге, один при этом еще корчился, а третий, сидя, пытался отползти к своим, волоча перебитую стрелой ногу. Элий скомандовал, два преторианца выскочили из-за повозки и побежали к пращникам. Раненый в ногу, увидев солдат, вытащил меч, но бежавший впереди Авл заколол его пилумом. Постум перерезал глотки лежавшим. Подобрав оружие, солдаты вернулись обратно. Все это произошло так быстро, что я не успел удивиться. Впереди на дороге лежали три тела, Авл и Постум, тяжело дыша, стояли рядом, вытирая окровавленное оружие полами плащей.
— Хорошо, Марк! — отец потрепал меня по плечу. — Теперь тех, что позади.
Четверо пращников за второй повозкой не могли видеть гибель своих товарищей, но, наверное, услышали их крики. Застать врасплох их не удалось. Несколько камней полетели мне в голову; если б не щит отца, лук остался бы без владельца. Но праща не сравнится в скорости с луком. Нужно вложить камень в мешочек, раскрутить, прицелиться… Опытный лучник успевает за это время выпустить три-четыре стрелы. Скоро один из разбойников лежал на дороге, двое, подхватив раненного, тащили его к повороту. Я собрался выстрелить им вслед, как вдруг понял, что отца нет рядом. Я оглянулся. Преторианцы смотрели на левый склон. Ловко цепляясь за камни и неровности, отец лез вверх.
В то время моему отцу было пятьдесят два года. Немногие римляне доживают до таких лет, но отец, вдобавок, был худощав, быстр и силен, как и в молодые годы. Даже я бы поостерегся лезть на эту кручу, а отец быстро преодолел склон и исчез за его гребнем. Элий недоуменно посмотрел на меня, я ответил ему таким же взглядом, и центурион велел своим преторианцам смотреть за дорогой. Посылать людей вдогонку убегавшим пращникам Элий не стал — было поздно.
Время тянулось медленно, я нетерпеливо топтался у повозок, размышляя, зачем понадобилось отцу взбираться наверх. Похоже, что Элий думал о том же, но молчал. Солдаты поглядывали на дорогу, мы — тоже; но на обеих ее сторонах не было ни души, только трупы.
Отец появился, когда терпение мое стало подходить к концу, и я уже стал подумывать, не взобраться ли наверх и мне. Отец спустился куда медленнее, чем взбирался, при этом порвал тунику и ободрал руки, но смотрел весело.
— Смотрите! — Он подвел нас с Элием к давешнему рисунку на плите и кончиком кинжала соединил края дуги ровной линией. — Это расщелина, выходит на оба края дороги. Узкая, но по пройти ею можно. Теперь понятен их замысел?
— Мы в ловушке! — мрачно сказал Элий. — На кого бы мы не напали, вторая группа быстро пройдет по расщелине и ударит нам в спину.
— Поэтому и выбрано это место, — подтвердил отец. — У них умный главарь.
Удивительно, но, несмотря на плохую новость, выглядел отец довольным.
— Что будем делать? — спросил Элий.
— Нападем! Прямо сейчас! Пока не опомнились…
— ?
— У разбойников умный главарь, но плохие солдаты, — улыбнулся отец. — Они не знали, что у нас есть лучник и растерялись от неожиданных потерь. Будь это легионеры, центурион послал бы солдата к главарю узнать, что делать дальше, только и всего. Но они отправились за указаниями разом.
— Все?.. — просветлел лицом Элий.
— Сейчас они там, — отец указал вперед. — Разбираются с главарем. Я ждал, пока мимо пройдет последний разбойник. Это не легионеры и спорить будут долго. Но нам не следует ждать.
Я помог отцу застегнуть панцирь. Отец велел Юнию и раненому Постуму охранять повозки (как я понял, от них было бы мало проку в предстоящем бою), остальные выбрались на дорогу и вслед отцу быстро пошли по левой обочине. Здесь не было плит, влажная земля гасила звук кованных железом солдатских калиг, и я еще раз подивился находчивости отца. Перед поворотом префект выстроил преторианцев в шеренгу, указав мне место позади ее.
— Поднимешься на склон и стреляй! — велел. — Каждая стрела должна попасть! Разбойников много… Вспомните, чему вас учили, — обратился отец к преторианцам. — По моей команде бросаем пилумы, потом — в мечи! Вперед!
Разбойники не догадались поставить у поворота стражу, поэтому появление преторианцев их ошеломило. Не давая врагу опомниться, наша шеренга побежала вперед, затем по команде замерла и солдаты метнули пилумы.
Когда в битве сходятся два войска, пилумы бросают в щиты. Наконечник застревает в них, и враг вынужден щиты бросать. Не у всех разбойников были щиты, многие не успели ими загородиться, поэтому стальные наконечники ударили не в дерево, а живую плоть. Вопль боли и отчаяния раздался из пестрой толпы разбойников, солдаты в ответ взревели и, обнажив мечи, бросились на врага. Удар их был стремителен и страшен. Заученным движением щита преторианцы отбивали направленное в их сторону оружие и с размаху кололи гладиусами. Разбойники подались назад и стали отступать, оставляя на дороге недвижимые тела. Я увидел на левом склоне невысокий уступ, взобрался на него и натянул тетиву. Я не выбирал цели; разбойники стояли настолько плотно, что каждая стрела находила жертву. Расстреляв весь запас, я спустился на дорогу, подобрал брошенный кем-то из разбойников щит и побежал к своим.
— Возьми копье и охраняй расщелину! — велел, увидев меня, отец. Он стоял позади преторианцев с пилумом в руках, время от времени ловко ударяя им между преторианских щитов. — Вдруг не все разбойники с того конца дороги пришли…
Мне хотелось сражаться рядом с преторианцами, но спорить не приходилось. Успокоив себя мыслью, что сегодня я убил врагов не меньше, чем любой из солдат, я побрел к расщелине. Разумеется, там никого не было, и я повернулся лицом к кипевшему неподалеку бою.
Отец выбрал правильную тактику. Шеренга преторианцев преградила дорогу от края до края, разбойники не могли проскользнуть по обочине и зайти солдатам с тыла. Одновременно враг был не в состоянии использовать свое большое число: с солдатами сражался только первый ряд разбойников, те, что толпились за их спинами, только мешали. Отец следил, чтобы строй солдат не нарушился; если кто-либо из преторианцев увлекался и прорывался вперед, префект возвращал его обратно. На дороге валялось уже с полтора десятка убитых разбойников, а наши солдаты все как один были в строю. Присмотревшись к убитым, я понял причину. Редко на ком из разбойников была кольчужная лорика, многие вообще носили короткие кожаные нагрудники и небольшие круглые щиты. Преторианцы были одеты в стальные сегментные панцири и кольчужные передники, защищавшие их от плеч до паха, их большие овальные щиты не позволяли нанести удар по рукам, а кованые шлемы с гребнями надежно укрывали головы. К тому же разбойники не могли сравниться с солдатами императорских когорт в искусстве владения мечом. «Зря отец назвал главаря разбойников умным, — подумал я. — Надо быть дураком, чтоб выйти с таким вооружением против римских солдат».
Над дорогой стоял запах крови и внутренностей. Преторианцы кололи гладиусами в незащищенные животы разбойников, широкие лезвия вспарывали брюшины; кишки вываливалось наружу. Солдаты топтали все это калигами — там, где прошли преторианцы, кроваво-черное месиво покрывало каменные плиты дороги густым слоем. В месиве ползали еще живые разбойники, некоторые в предсмертных судорогах пытались собрать свои кишки и затолкать их обратно. Над дорогой стоял звон мечей, тяжело бухали в щиты дубины и топоры, вопили раненые, остервенело кричали, сшибаясь в схватке, преторианцы и разбойники.
Элий сражался в строю рядом со своими солдатами, я решил, что он хоть груб и не очень умный, зато не трус. Вдруг я увидел, как сражавший рядом с центурионом солдат упал на дорогу, строй римлян сразу же выгнулся в месте бреши. Положение спас отец. Он ударил пилумом в проем между щитами, затем обнажил меч и занял место рядом с Элием. Разбойники катились назад все быстрее, и главарь, тот самый высокий бородатый Галл, которого я видел во дворе гостиницы, вскинул дубину, призывая своих товарищей к отваге. Словами вожак не ограничился. Протолкавшись между разбойниками, он напал на Элия, посчитав его главным у римлян. Элий закрылся щитом, но после двух сокрушительных ударов тяжелой дубины, рука со щитом опустилась. Главарь махнул дубиной еще, и Элий осел на дорогу. Вожак разбойников торжествующе закричал и занес оружие для последнего удара. В этот миг отец едва уловимым движением ударил его мечом в шею. Галл выронил дубину, и ткнулся лицом в грязное месиво на дороге.
Увидев, что вожак убит, разбойники стали бросать оружие. Некоторые пустились наутек.
— Приведи коней! — крикнул мне отец.
Мгновенно сообразив, зачем ему кони, я побежал к повозкам.
Отец ошибся: не все разбойники ушли по расщелине к главарю. Четверо остались. Двое лежали крови рядом с бездыханным Постумом — раненый преторианец взял дорогую плату за свою жизнь. Третий разбойник возился у повозки с денариями, срывая печати, а его товарищ неподалеку душил Юния, сжимая тощую шею старика грязными пальцами. Разбойник то сдавливал горло вольноотпущенника, то ослаблял хват — забавлялся. Юний хрипел и хватал воздух широко открытым ртом.
Тяжелое германское копье было со мной, я метнул его на бегу. Широкий наконечник с хрустом разрубил хребет грабителя, суетившегося у повозки, тот беззвучно повалился набок. Веселый разбойник бросил Юния и вытащил меч.
Мой противник явно служил в ауксилиях — меч он держал умело. Но центурион не занимался с ним давно — мне хватило двух выпадов. Разбойник упал ничком, и я побежал отвязывать лошадей. Когда же, ведя их на поводу, оглянулся, то увидел, как Юний остервенело колет мечом недвижимого обидчика…
Победа римлян была полной. Пытавшихся сбежать разбойников догнали конные преторианцы, сдавшихся повязали, раненых добили. После подсчета выяснилось, что из сорока двух нападавших мы убили больше тридцати, девять сдались. Два преторианца, Постум и Децим, пали, остальные солдаты были ранены, к счастью, большей частью легко. Элия лишь слегка оглушило дубиной, к возвращению конников, он пришел в себя и вовсю распоряжался. Разбойники приехали к месту засады на трех повозках. В одну из них положили мертвых преторианцев и захваченное оружие, в другую затолкали связанных пленников. Перед этим их заставили расчистить дорогу, оттащив трупы на обочину. В третьей повозке разместились раненые преторианцы — те, кому ехать верхом было невмочь. Мы тронулись в путь, когда хмурое небо над горами стало темнеть, и ехать нам предстояло долго…
5
Как ни спешил Элий в Рим, но в ближайшем городе нам пришлось задержаться. Местный префект, когда ему доложили о сражении на дороге, поначалу изумился и выслал конную турму для проверки сведений. Та вернулась к полудню и привезла на повозках, взятых у местных жителей, тела убитых разбойников. Трупы свалили на рыночной площади, и к часу девятой стражи весь город смог удостовериться в отваге римских солдат.
Галла и еще нескольких убитых опознали — они служили в местной когорте. Галл был опционом и часто жаловался на скупость Рима, платившего крохи заслуженным ветеранам. Летом прошлого года Галл и еще несколько солдат дезертировали, префект поклялся их найти и примерно наказать, но о беглецах не было ни слуху, ни духу. Вспомогательная когорта кроме города охраняла и участок дороги, поэтому Галл хорошо знал все ее повороты и расщелины, к тому же он был родом из здешних мест. Выходило, что ему удалось собрать по здешним селениям ватагу из бесшабашного люда, она наделала бы много бед, не вздумай бывший опцион проверить на стойкость преторианцев. Городские магистраты решили, что Галла подвела алчность, хотя преторианцы как один были уверены, что спас их Луций Корнелий Назон Руф. Не окажись рядом лугдунумского префекта, неизвестно, кто сейчас бы считал сестерции…
Специально отряженный десяток всадников был послан для ареста хозяина гостиницы, сообщника Галла. Но солдаты его не нашли — хозяин бесследно исчез. Видимо, он узнал о случившемся раньше, чем префект города. Племянник хозяина показал солдатам документ, из которого явствовало, что гостиница и все в ней, включая рабынь, отныне принадлежит брату беглеца. Никто не сомневался, что сообщник разбойников притаился где-то до лучших времен, а то и вовсе подался куда-нибудь в Испанию. Никого это не удивило. Содержатели римских гостиниц имеют дурную репутацию, в любом городе вам расскажут десятки историй о несчастных путниках, на свою беду решивших отправиться в дальнюю дорогу с большими деньгами…
Лекарь городской когорты зашил раны преторианцев и настоял, чтобы Гая, истыканного копьем, оставили до выздоровления — путешествовать ему было опасно. Среди захваченных в плен разбойников бывших солдат не оказалось. Префект города допросил пленных галлов и решил, что вешать их нужды нет. Имелось на то и другая причина: империя не воевала, рабы были в цене. Незадачливых разбойников тут же продали: испанские рудники нуждались в молодых и сильных руках. Половину вырученной суммы городские власти отдали победителям, отец от своей и моей доли отказался, так что деньги поделили Элий и его солдаты. Еще раньше местному кузнецу было продано захваченное у разбойников оружие, барышникам — повозки и кони, поэтому каждый из преторианцев получил по тысяче с лишним сестерциев (Элий, понятное дело, много больше). Надо ли говорить об их радости! Преторианцы торжественно преподнесли отцу дубовый венок — высшая награда, какую солдаты могут присудить начальнику. Венок получился некрасивым, из веток с сухими листьями, но дорог был почет. Юний потребовал преподнести венок и мне, но тут воспротивился Элий: венок полагался за спасение в бою товарищей, а Юний не был солдатом. Элий возражал не со зла, после боя на дороге он относился к нам с отцом с нескрываемым уважением, но порядок есть порядок, дубовый венок от солдат — это не бронзовая медаль на панцирь, им гордятся даже легаты.
Павших в бою Постума и Децима схоронили со всеми почестями. Обычно убитых солдат закапывают в землю, но в этот раз были устроены погребальные костры, принесены полагающиеся жертвы, после сожжения Элию вручили урны с пеплом. Постум и Децим принадлежали к уважаемым трибам, их праху суждено было упокоиться в семейных склепах у стен Рима. Отец и Элий не преминули принести жертву в храме Марса, где бородатый понтифик заклал на алтаре белого, без единого пятнышка, козленка.
Жизнь в маленьком городке скучная, истребление римскими воинами таинственной шайки разбойников всколыхнуло ее до основания. Все хотели видеть героев. Богатейшие горожане наперебой звали нас на пир; если б мы приняли все приглашения, то потратили бы месяц, обходя дома. Поэтому каждый из преторианцев отправился куда захотел, Элию, отцу и мне пришлось принять приглашение префекта. Тот постарался. В нашей семье любили вкусно поесть, но это была простая еда: мясо, рыба, фрукты, сладости. Моя мать выросла в бедной семье, ее первый муж был скуп, отца воспитывал бывший опцион — несмотря на богатство, Назоны не принадлежали к безумцам, готовым отдать за диковинную рыбу упряжку волов. Префект, чье имя я запамятовал прошествии стольких лет, на безумства не скупился. Он настойчиво угощал нас диковинными блюдами, но оценить их по достоинству смог только Элий — привык в Риме. Мне краснобородка, томленная на пару из сладкого вина со специями из Индии, показалась приторной. Зато вино было великолепным: чуть терпкое, без малейшей кислинки, с густым вкусом солнечного осеннего дня. Раб услужливо наполнял мою чашу, я и не заметил, как отяжелел от выпитого. Заметил отец. Он учтиво попросил хозяина пиршества позволить мне отдохнуть после тяжкого дня, и тот милостиво согласился. Я об отдыхе не просил, но спорить не приходилось; поблагодарив префекта, я поднялся, и раб проводил меня в отведенную для сна комнату. Следом вошла юная служанка с тазом для омовения…
Память начинает меня подводить. Мне всего пятьдесят три — на год больше, чем было отцу в те дни, а я не могу вспомнить, как звали эту рабыню. Афина? Артемида? Киприда? В Риме любят давать рабыням имена греческих богинь. Ту худенькую гречанку с огромными черными глазами тоже звали как-то так. Пусть будет Артемида… В ней было все: легкость и стремительность богини охоты Дианы, решительность и напор Афины, нежность и нега Киприды… Хозяин ли ей велел ублажить юного центуриона, или она решилась по собственной воле — не знаю… Тогда мне очень хотелось верить, что она сама… По приказу так не целуют и не ласкают…
Зачем я вспоминаю это сейчас, спустя столько лет? Это грех, прошлое от которого я давно отрекся. Грех был… Но была в ее ласках и какая-то исступленность в сочетании с неумелостью. Гречанка не была искушена в любви, но отдавала себя с такой радостью, с такой искренностью, что это даже пугало. Наивная девочка, которой было столько, как и мне, а может и меньше! Чего она ждала от юного центуриона, волей случая занесенного в дом ее богатого хозяина. Сытной и красивой жизни? Свободы? Или любви, о которой мечтают все девочки ее лет? Пьяному центуриону требовалось иное… Прости меня, Артемида…
Щедрый префект помимо угощения подарил преторианцам новые одежды, заменил им сломанные пилумы, разбитые щиты, выщербленные мечи. Нам поменяли коней, отец, пересчитав мешки в повозке, заново ее опечатал. Спустя два дня после сражения с разбойниками наша поредевшая колонна выехала на Виа Эмилиа, дорогу, ведущую в Рим…
* * *
Непредвиденная задержка в пути заставила Элия спешить пуще прежнего. Мы скакали, пока кони и люди не выбивались из сил, с рассвета до заката, останавливаясь в гостиницах лишь для короткого отдыха. Дорога, милевые столбы, гостиницы, почтовые станции — все слилось для меня в одно серое пятно, как природа в ненастный зимний день, и расчленить это впечатление на детали моя слабеющая память уже не в состоянии. Запомнилась лишь короткая остановка в Равенне. По каменному мосту мы пересекли реку Рубикон и ненадолго остановились в гостинице. Здесь Элий и его преторианцы переоделись: сняли «браки», надев вместо них короткие форменные штаны до колен, сложили шлемы и пилумы в повозку, заменили простые дорожные плащи на форменные. За Рубиконом начинались исконные римские земли, преторианцы не хотели появляться здесь в длинных варварских штанах и при полном вооружении. Мы с отцом тоже сменили запылившуюся дорожную одежду, по совету отца я снял доспехи и меч. Отец также сложил оружие в повозку, оставив только панцирь — чтобы не выглядеть пленником в окружении вооруженных преторианцев.
В начале своего пути по Виа Эмилия мы редко встречали путников. В Цезальпийской Галлии движение по дороге стало куда оживленнее. И чем дальше мы продвигались на юг, тем все чаще встречались на пути всадники, повозки и просто пешие путники. Через двести миль от Равенны мы уже не скакали, а ехали неторопливой рысью, а то и вовсе шагом — настолько запружена была дорога к столице мира. Особенно досаждали тяжелые повозки, влекомые упряжками флегматичных волов. Они везли в Рим вино, овощи, зерно и другую провизию, многие были гружены огромными блоками мрамора, предназначенными для статуй и или облицовочных плит. Хотя Элий выслал вперед двух солдат для расчистки пути, получалось это у них плохо: тяжелые повозки слишком медленно выползали на обочины, да и повозок было слишком много. Мешали и наши упряжки: там, где легко проскальзывали конники, повозки цеплялись колесами за колеса других, чтобы их растащить, преторианцам приходилось спешиваться…
К Риму мы подъехали в час седьмой стражи, я настолько устал дорогой, что даже не изумился огромным стенам, выросшим вдали, многоэтажным домам, стиснувшим улицу, как только мы миновали ворота. Повозкам было запрещено двигаться улицами Рима в дневное время, но нас вел посланник консула, поэтому мы благополучно добрались до здания императорского фиска, где отец сдал по описи денарии и повозки, принадлежавшие казне. Пересчет и взвешивание мешков с серебром заняло немало времени, я даже задремал, сидя на каменной скамье у входа. Отец растолкал меня и в сопровождении двух преторианцев мы отправились в ближайшую гостиницу. Как все римские постоялые дворы, она располагалась на окраине, у городских ворот. Я едва добрел к своему ложу и, отказавшись от ужина, рухнул в постель.
Отец разбудил меня засветло. Он был не один. Проворные служанки мгновенно стащили с меня тунику и набедренную повязку, я не успел придти в себя, как меня омыли теплой водой, вытерли, причесали и переодели во все новое и свежее. После чего стали облачать в тогу, тщательно расправляя складки вокруг тела. Придя в себя, я увидел, что отец также надел тогу с широкой полосой пурпура. Как я понял позже, отец не прилег этой ночью: следовало купить нам новые наряды, проследить, чтоб их отгладили, договориться с хозяином гостиницы, заплатить служанкам и парикмахеру…
Мы вышли из гостиницы в час первой стражи, то есть с рассветом. Слуга шагал впереди, показывая дорогу, — отец не был в Риме почти сорок лет, город сильно изменился. Улицы самого большого города мира выглядели пустынными — столица спала. Только пустые повозки, запряженные четверкой или парой волов, попадались навстречу — в Риме разрешалось перевозить грузы ночью, возчики спешили покинуть город. Шли мы долго. Я уже проснулся и с любопытством рассматривал многоэтажные дома — «инсулы», теснившиеся вдоль улиц. В Лугдунуме не строили домов в четыре-пять этажей — места внутри городских стен хватало. В Риме их были тысячи — высоких и длинных, новых и уже обшарпанных, с приятными глазу красными стенами или с уже потускневшими и в щербинах. «Исулы» вскоре кончились, их сменили «домусы» — роскошные особняки знати. Многие из «домусов» были украшены резьбой по камню, колоннами и статуями. Кирпич уступал место мрамору, ближе к центру по сторонам улицы совсем исчез красный цвет, остался лишь белый и серый. Мы пересекли площадь, окаймленную портиками — форум и подошли к величественному дворцу.
— Это здесь, господин! — сказал слуга и, получив плату, удалился.
Я во все глаза рассматривал величественное здание: высокую беломраморную лестницу, ряд стройных колонн, украшенных капителями, резной фриз над монументальным входом.
— Дворец Августа, — пояснил отец.
— Ты бывал здесь?
— Его построили после того, как я оставил Рим.
— Хорошо бы зайти внутрь! Посмотреть…
— Нас позовут, — сухо сказал отец и замолчал.
Ждали мы долго. Я не удержался и присел на ступеньку, предварительно убедившись, что не испачкаю свой наряд. Отец покосился на меня, но промолчал. Время от времени мимо проходили люди: они поднимались по ступеням, либо спускались вниз, некоторые с любопытством поглядывали на нас, но большинство даже не удостаивало незнакомцев взглядом. Вдруг отец оживился. Я проследил его взгляд и увидел пересекающего площадь Юния. Вольноотпущенник тоже заметил отца и подошел к нам.
— Зачем ты здесь, префект? — спросил он тихо, но я расслышал. — Тебя позовут.
— Не хочу, чтоб меня и сына вели под конвоем! Через весь Рим!
— Ты подведешь меня! — взмолился Юний. — Консул поймет, что вас предупредили, и накажет меня. Иди к форуму и жди! Я скажу охране, где вас искать…
Отец кивнул, и мы перешли на другой край площади. Солнце уже показалось над домами, но было холодно, мы с отцом шагали вдоль портика, стараясь согреться. Из короткого разговора с Юнием я понял, что нас ждет встреча с консулом, и вновь пустился в давние мечтания. Мне нестерпимо хотелось поговорить с отцом о предстоящей аудиенции, но лицо его было хмурым, и я не решился.
Внезапно отец насторожился. Я посмотрел на дворец. Два преторианца стояли у лестницы, вертя головами. Они заметили нас и торопливо зашагали через площадь.
— Чтобы ты не услышал, молчи! — торопливо сказал мне отец. — Говорить буду только я!..
— Ты префект Луций Корнелий! — спросил один из преторианцев и, получив утвердительный ответ, добавил торжественно: — Консул ждет тебя!
Преторианцы стали по обеим сторонам от нас, мы вместе пересекли площадь. Прохожие оглядывались, в их взглядах читалось любопытство и насмешка; теперь я понял, почему отец привел меня к дворцу заранее. Нехорошее предчувствие заползало мне в душу. Нас вели, как преступников.
Мы поднялись по лестнице, вошли в огромный зал с колоннадой, миновали его, и преторианцы ввели нас в зал поменьше. Вдоль стен его стояли бисселии, некоторые из них были заняты людьми в тогах. Один бисселий стоял посредине, на нем восседал человек в пурпуре. Я присмотрелся. Человек был примерно одних лет с отцом, но крупнее телом; лицо его, тяжелое, с толстым носом и квадратным подбородком, было хмурым. В нем не было ничего величественного, наоборот: встреть я Сеяна на улице и в простой одежде, то принял бы его за волопаса. Но присутствовавшие в зале сенаторы поглядывали на консула со страхом, я вспомнил рассказы Элия и решил строго следовать приказу отца.
Сеян протянул руку и подскочивший Юний вложил в нее небольшой свиток. Консул развернул и быстро пробежал глазами.
— Назовись! — велел он отцу, опуская свиток.
— Луций Корнелий Назон Руф, префект Лугудумского монетного двора, сенатор, с сыном Марком.
— Знаешь, зачем ты здесь?
— Нет, консул.
— Ты обвиняешься в оскорблении Тиберия Цезаря Августа, сына Божественного Августа, императора, народного трибуна, консула и великого понтифика. Тебя также обвиняют также в участии в заговоре против императора с целью его убийства…
Сеян говорил монотонно, словно читая, хотя свиток он давно отдал Юнию. Я понял, что такое обвинение он произносил много раз.
— Что скажешь, префект? — спросил консул, и я уловил в его голосе интерес — впервые, как он заговорил.
— Кто обвиняет меня?
Голос отца был спокойным.
— Это важно? — усмехнулся Сеян.
— Да, консул! Обвинения ложны. Поэтому я хочу, чтобы обвинитель повторил их здесь, передо мной.
Сеян сделал знак, и преторианец ввел в зал женщину. Она была одета в некогда богатую, но теперь грязную и изорванную столу. Шла она медленно, шаркая ногами, и, присмотревшись, я понял, что это старуха. Лицо ее было цвета земли и все в морщинах.
— Она обвиняет тебя, префект!
— Не знаю ее. Никогда не видел!
— Знаешь, префект, — вновь усмехнулся Сеян. — Посмотри внимательнее!
Отец подошел к незнакомке и несколько мгновений внимательно рассматривал ее. Затем повернулся к консулу и покачал головой.
— Нет, консул!
— Как зовут тебя? — обратился Сеян к старухе.
— Корнелия, — голос женщины был тихим и сиплым.
— Знаешь человека, что стоит перед тобой?
Корнелия взглянула на отца и не ответила.
— Я спросил тебя! — повысил голос Сеян.
— Мои глаза плохо видят… — забормотала старуха. — Я столько месяцев в подземелье… — она еще что-то бубнила себе под нос, но по всему было видно, что Корнелия боится.
— Ты отказываешься узнать человека, которого обвиняешь в соучастии в заговоре? — помог ей консул. — Я правильно понял?
Старуха вместо ответа подошла к отцу и в свою очередь стала рассматривать его.
— Ты Луций? — спросила тихо.
— Меня так зовут.
— Не узнала тебя, — продолжила старуха, — столько лет прошло. У тебя морщины и ты с сединой. А когда-то был маленький, пухлый и рыжий. Как я ненавидела тебя тогда!
Отец побледнел.
— Ты Корнелия?!
Вопрос был глупым, имя женщины было названо ранее, но никто в зале не удивился.
— Вспомнил! — хмыкнул Сеян. — А говорил «нет»!
— Прошло более тридцати лет, консул! — твердо сказал отец. — Когда я в последний раз видел эту женщину, мне было шестнадцать.
— Но ты ее знаешь?
— Она моя дальняя родственница.
— Какие отношения вас связывают?
— Я ее ненавижу.
— За что?
— Она отравила мою мать, чтобы занять ее место. По ее наущению отец отослал меня из Рима под присмотр отставного легионера. Я прожил одиннадцать лет на ферме, так больше не увидев отца. К тому же он подписал «эманципацио», лишив меня наследства. В этом я тоже вижу влияние этой женщины. Когда мне исполнилось шестнадцать, Корнелия отравила моего отца и завладела его богатством. Я, единственный сын всадника, одного из богатейших людей Рима, был вынужден поступить в легион, чтобы не умереть с голоду. Эта женщина разрушила мою жизнь. Ты считаешь, консул, что после всего того, что она сделала, я вступил бы с ней в заговор? Найдется ли хоть один человек в Риме, который поверит этому?
В зале стало тихо. Речь отца была не просто смелой, она прозвучала, как обвинение.
— Что скажешь? — обратился Сеян к Корнелии.
Старуха молчала.
— Говори! — нахмурился консул. — Это правда?
— Я отравила их! — вдруг выкрикнула старуха. — Это правда. Почему он должен жить в довольстве и богатстве, а мои дети — в нищете?! Разве его отец добыл свое золото честно? Он предавал людей, посылал их на смерть и завладевал их имуществом! Разве не так?
— Моя мать никого не убивала! — воскликнул отец. — Она была доброй и добродетельной!
— Люди, которых твой отец обрек смерти, тоже не убивали! Тем не менее, их зарезали.
— Эти люди были преступниками! Они выступили против императора Августа, и Цезарь приговорил их к смерти. Мой отец только помог их отыскать.
— Враги Цезаря — враги Рима! — в голосе Сеяна звучал металл. — Тот, кто помог отыскать врагов, заслуживает награды. А какая награда причиталась тебе, женщина?
— Если б ты знал, консул!.. Его отец заставлял меня делать такое!.. Каждый день… Распутный старик!
— Ты могла уйти.
— Обречь своих детей на нищету?
— Но ты терпела одиннадцать лет!
Корнелия замолчала.
— Отвечай! — раздраженно воскликнул Сеян.
— Позволь мне, консул!
Сеян удивленно глянул на подошедшего Юния.
— Говори!
— Дорогой из Лугдунума у меня было время поговорить с префектом Корнелием. Мне показалась странной внезапная смерть его отца. Я попросил рабов из канцелярии проверить записи. Вот! — Юний достал из-за пояса свиток.
— Что это?
— «Адопцио». Марк Корнелий Назон усыновил Луция Корнелия, то есть принял его обратно в семью. Он сделал это за два дня до своей смерти.
— Будь он проклят! — завопила старуха. — Мне сказал, что только собирается!..
— Почему же наследство досталось Корнелии? — удивился Сеян.
— Луций Корнелий Назон не знал о свитке. О нем никто не знал, кроме свидетелей и чиновника, составлявшего документ. Марк Корнелий попросил всех хранить тайну и оставил «адопцио» в канцелярии. Там его и нашли сегодня.
— Зачем ты оговорила префекта, женщина? — повернулся Сеян к Корнелии. — Ты утверждала, то Луций Корнелий Назон писал тебе письма, в которых оскорблял великого Тиберия, а также выражал желание всячески содействовать убийству императора. Писем не оказалось, но ты заявила, что уничтожила их из опасения перед наказанием, однако помнишь их содержание. После того, что мы здесь услышали, трудно поверить, что префект писал тебе. Ты лгала! Ты завладела чужим наследством, твои сыновья жили в довольстве и роскоши. Они погрязли в распутстве. Думаю, они превзошли в нем несчастного старика, которого ты отравила. Чего им не хватало?
Корнелия молчала.
— Я отвечу за тебя, — продолжил консул. — У них было богатство, которое они растратили, и они пожелали власти, чтобы вновь обогатиться. Поэтому составили заговор против императора…
— Они всего лишь бахвалились на пирах! — завопила Корнелия. — Пьяная болтовня!
— Они во всем признались.
— Их морили голодом! Твои тюремщики это умеют! Мои мальчики… Они не привыкли голодать…
— Признание сделано ими в присутствии свидетелей и записано, — спокойно сказал Сеян. — Вина их не вызывает сомнения. А вот префект невиновен. Зачем ты его оговорила?
— Почему он должен благоденствовать, когда мои дети томятся в тюрьме?! Любимчик богов… У него не было ничего, но сейчас он богач. Его отец был простым всадником, а сынок стал сенатором. За что это ему? Пусть и он посидит в подвале…
Лицо отца побагровело.
— Ты страшнее ядовитой змеи! Ты отняла у меня родителей и наследство, но я не выдвигал обвинений. Однако тебе показалось мало причиненного мне горя. Нет меры, чтобы измерить твою злобу. Пусть боги поразят тебя!
— Оставь в покое богов, префект, — спокойно сказал Сеян. — Меру мы сами найдем. Только что в присутствии свидетелей Корнелия призналась в двойном убийстве и ложном обвинении. Сегодня ее отправят к сыновьям.
— Я увижу своих мальчиков! — встрепенулась старуха.
— В Тартаре. Твоих сыновей казнили месяц назад, рыбы уже обглодали их тела на дне Тибра. Сегодня они закусят тобой.
— Будь ты проклят! — завопила старуха. — Гнев богов на твою голову, консул! Пусть тебе перережут глотку, как моим сыновьям, пусть твои дети плачут, как плакала я…
Преторианцы подскочили к Корнелии и потащили ее прочь. Старуха извивалась в их руках, стараясь вырваться. Поразительно, сколько силы оказалось в этом тщедушном теле — двое молодых и сильных солдат еле справились.
— Подойди, префект! — сказал Сеян, после того как Корнелию наконец вытащили из зала. — Теперь, когда обвинения против тебя сняты, я хочу поблагодарить тебя.
— За что, консул?
— Мой племянник Публий уверен, что ты спас его. Я считаю, что там, на дороге, ты, прежде всего, спасал себя и сына, но все равно благодарю — племянник, которого я люблю, уцелел. К тому же Юний очень хвалил тебя за правильное устройство монетного двора в Лугдунуме. Так, Юний?
Вольноотпущенник встал и поклонился консулу.
— У Юния нелегко заслужить похвалу, префект! Можешь идти. Однако из Рима не уезжай, возможно, понадобишься.
— Это еще не все, консул! — Юний подошел ближе. — Корнелия призналась при свидетелях, что обманом завладела наследством Луция Корнелия Назона.
— Ну и что? — нахмурился Сеян.
— Имущество преступников отошло в казну. Надо вернуть его Луцию.
— Нечего возвращать! Сыновья этой ведьмы промотали все.
— Дом уцелел. Он даже не заложен.
— Тогда верни дом — префекту надо где-то жить, — усмехнулся Сеян. — Внутри, наверное, одни стены остались, но крыша будет…
В ближайшей к дворцу цветочной лавке отец заказал самый большой и красивый венок, прихватил раба, чтобы нести его, и мы снова пересекли Рим — в этот раз по пути на юг. Миновав ворота, мы вышли на Виа Аппиа. Отец оставил нас с посыльным на обочине, а сам принялся бродить между многочисленных саркофагов и памятников, тянувшихся по обеим сторонам дороги. Возле некоторых он останавливался, вглядываясь в надписи. Это заняло много времени. Наконец отец махнул нам рукой. Забрав венок, он отослал слугу, а цветы возложил на плиту. Вокруг саркофага стеной стояла сухая трава — по всему было видно, что за могилой давно не смотрели.
— Здесь лежит твой дед, Марк, — сказал отец, обнимая меня за плечи. — Я хочу, чтобы ты хорошо запомнил это место и присматривал за могилой, когда меня не станет. Я назвал тебя его именем.
— Почему?
— Потому что никогда не верил, что он от меня отказался!
— А где похоронена бабушка?
— В семейном склепе Пульхров. Мы обязательно там побываем.
Мы спустились на дорогу и пошли к воротам.
— Идем к нашему дому! — предложил я. — Пусть там нет ничего, но все же лучше, чем в гостинице.
— Поживем там немного, — согласился отец. — Только дом этот больше не наш. Я обещал его Юнию.
Я удивленно глянул на него.
— Дорогой в Рим мне удалось расспросить старика — он любит вино, — продолжил отец, — К тому же считает, ты спас его. Юний сообщил: консул вызвал нас в суд. Я просил помочь. Юний сказал, что ему очень понравился дом, в котором жили Корнелия с сыновьями. Дом находится очень близко к дворцу, в тоже время неприметен — вольноотпущеннику в самый раз.
— Юний мог выкупить дом.
— Не хватит денег. Сорок лет назад эта часть Рима была не престижной, теперь земля здесь так ценна, что можно выложить участок серебряными денариями. Стоит только выставить на торги!
— Мы сами можем его продать! Часть денег отдать Юнию…
Отец грустно улыбнулся:
— Он не возьмет. Юний — государственный чиновник, ему запрещены подношения. Если узнают, он кончит дни в каменоломне. Думаю, Юний купит у нас дом, но вот по какой цене… Нам не на что сетовать: именно Юний обнаружил «адопцио», без него дом оставался бы в казне. Юний нам помог и заслуживает награды. Не будем больше об этом!..
…Свиток мой заканчивается, завтра куплю другой. Римлян учат писать ясно и кратко, у меня не получается — слишком долго прожил на Востоке. Или жизнь моя так богата событиями? Второго свитка может не хватить… К счастью, папирус в Александрии не дорог: его изготавливают прямо здесь, можно зайти в лавчонку ремесленника и сторговаться. Камышинки для письма и чернила я делаю сам. Я опять отвлекся… Какое дело читателю до моих расходов? Ему интересен центурион Марк, которого я оставил на Виа Аппия.
Марк — это я. Это я иду по старой римской дороге рядом с отцом, испытывая тихую радость. Мои испытания кончились. Мы счастливо избежали смерти по пути в Рим, она миновала нас на суде консула. Пусть мечты о назначении отца легатом не сбылись, но зато мы живы, здоровы и пребываем в столице мира, о которой я мечтал детства. Что еще нужно для счастья? Наивный! Как часто свалившуюся на нас беду мы воспринимаем как огромное горе, не подозревая, что это еще не буря, а только дуновение ветерка. Мой друг Аким говорил по этому поводу: «Пришла беда — отворяй ворота!» Мне ближе другое: ящик Пандоры. В первые дни февраля тридцатого года от рождества Господа мы приоткрыли его…
Часть II Римская волчица
1
Я, Марк Корнелий Назон Руф, сын и внук римских сенаторов, в прошлом трибун италийской когорты, ныне брат Иоанн александрийской общины, с печалью в душе открываю новый свиток своего повествования. Никого из людей, о ком пойдет речь, уже нет живых. Их облик, слова и поступки сохранила лишь моя память. Когда я закончу земные дни, угаснут и эти воспоминания. Некому будет поведать о моем отце, друге Акиме, славной команде либурны «Дельфин», которая под флагом с римской волчицей одержала победу в неравном бою под Критом… По этой причине я сижу при светильнике, выводя заостренной камышинкой буквы на гладком папирусе. Вчера я закончил первый свиток. Навернутый на гладкий шест, он покоится в высоком кувшине. Надеюсь, время будет милостиво к нему, а мыши, иногда забегающие в мою комнату, обойдут папирус своим вниманием. Заведу кошку. В Египте их много. Итак…
…Возле дома нас встретил раб с ключами — Юний оказался предусмотрительным. Раб ждал давно, замерз и был очень рад избавиться от тяжелой связки. Отец дал ему сестерций и пообещал второй, если он сбегает в гостиницу, где мы остановились, и передаст хозяину повеление принести наши вещи. Раб, довольный, убежал, и мы открыли дверь.
К моему удивлению, дом не выглядел запущенным. То ли в нем кто-то жил, то ли Юний позаботился; комнатах было прибрано. Самые ценные вещи, конечно, исчезли, но часть обстановки уцелела. Отец выбрал комнату (как я узнал позже именно в ней жила бабушка), мы снесли в нее два ложа, стол и селлы — простые, но прочные. Ими пользовались рабы, но лучших в доме не оказалось. Как и одеял — только набитые сухой травой матрасы. Отец бросил их на кожаный верх кроватей и сразу прилег — было видно, что устал.
Однако отдохнуть префекту не пришлось. Прибыли слуги с нашими вещами, а вместе с ними и хозяин гостиницы — за расчетом. Отец внимательно проверил, все ли на месте, затем аккуратно расплатился. После чего уже лег отдыхать. Мне спать не хотелось, к тому же в доме было холодно. Я обшарил все комнаты, даже кухню — нигде не было ни крошки съестного, как и воды. К тому я сделал неприятное для себя открытие: в доме не оказалось жаровен и угля. На кухне не было посуды и дров — мы не могли ни согреться, ни приготовить пищу. Мой дед Марк жил не бедно: его дом требовал заботы большого числа рабов. Их не было, а ночи в Риме стояли холодные.
Я отправился в ближайшую харчевню, где заказал еду и посуду. Увидев мою богатую тогу, хозяин стал чрезвычайно предупредительным и пообещал быстро достать жаровни и уголь. Слово он сдержал. Не успели присланные им рабы сложить в корзины мясо, овощи и хлеб, принести сосуды с вином и водой, как прибыли жаровни и несколько мешков угля. Хозяин не забыл даже сухие ветки для растопки. Правда, цену он запросил немалую, но я не стал торговаться. Во главе целой процессии я вернулся домой и принялся за дело.
Мне было не привыкать к походным условиям, наша вспомогательная когорта часто бывала на учениях, где приходилось самим заботиться о еде и отдыхе. Скоро в комнате стало тепло. Среди принесенной из харчевни посуды оказалась глиняная сковорода, я бросил в нее куски жареной свинины, поставил на угли, и жирное мясо заскворчало, пуская прозрачный сок. В глиняной чашке я подогрел воду, разбавил ею вино и с удовольствие пообедал. Затем последовал примеру отца.
Проснулись мы к первому часу ночной стражи. Я зажег светильники, помог отцу умыться и приготовил поесть. Ел отец мало, зато много пил — я только успевал подливать в его чашу неразбавленное вино. Затем он вдруг заговорил…
Ранее отец никогда не рассказывал мне о своем детстве, хотя маленьким я часто просил. Подозреваю, что и матери он ничего не поведал. Но той ночью — при тусклом свете двух фитильков, горевших в носиках глиняных ламп, отец говорил и говорил. Рассказывал будто себе самому, тихим голосом, умолкая на некоторое время, а затем продолжая ровно с того места, на каком остановился. Я воочию видел милую Пульхерию, мою бабушку, и ее мужа — сурового Марка Назона. Жизнелюбца Публия, воспитавшего отца, веселого и строгого одновременно, хлопотливую рабыню Беренику, трудолюбивого раба Амфитриона… Отец рассказывал долго, пока сон не сморил его. Я укрыл его плащом, а потом долго сидел напротив, глядя на спящего. Никогда прежде мне не было так тепло и радостно…
Наутро отец решил, что нам не обойтись без слуг. Мы отправились на невольничий рынок, где неожиданно встретили Юния.
— Вы опоздали! — улыбнулся вольноотпущенник, узнав причину нашего визита. — За хорошими рабами нужно приходить с рассветом — войны нет, подвоз плох, самых лучших расхватывают сразу. Мне нужна пара писцов в канцелярию, месяц найти не могу. Не брать же этого?! — Юний указал на высокого раба, стоявшего напротив. На нем была шапка, а ноги выбелены мелом — знак того, что раба только что привезли из-за моря и продавец в соответствии с законом за него не ручается. — Наглый и дерзкий раб! Ругается, грозит… Его даже к веслам на корабль подпускать опасно — взбунтует команду!
— Как быть? — расстроился отец.
— Я пришлю тебе государственных рабов, — успокоил его Юний, — у меня в подчинении три сотни, отсутствия двух трех-трех не заметят. Это ведь не надолго…
— Я помню свое обещание, Юний! Можем хоть сегодня подписать дарственную.
— Никаких дарственных! — замахал руками вольноотпущенник. — Что ты? Только купчая! Я покупаю у тебя дом, префект!
— Пусть будет так.
— Но не сегодня. Никто не продает дом, едва получив его! Я тридцать лет служу Риму, пользовался доверием Августа, Тиберия, сейчас Сеяна… В Риме знают, что Юний честен и не берет взяток, поэтому верят мне. Я могу купить дом у человека, который уезжает из Рима, и которому дом не нужен, — вольноотпущенник лукаво улыбнулся, — в этом нет ничего необычного. Но всему свое время.
— Мы скоро уедем?
— Да.
— Когда?
— Не знаю, префект. Но догадываюсь.
— Расскажи!
Юний склонился к уху отца и заговорил громким шепотом. К своему удивлению я заметил, что раб, о котором вольноотпущенник отозвался так пренебрежительно, внимательно прислушивается.
— Лугдунум недалеко от Рима, Элий спешил, поэтому ты прибыл первым. Ревизоры, отправившиеся в Испанию и Африку, вернутся позже. Уверен, что результат их инспекции будет таким же: фальшивые денарии не изготавливали императорские монетные дворы.
— А кто?
— Ты и узнаешь.
— Я?
— Я перехвалил тебя консулу, префект! Извини. Но в тот момент речь шла о жизни — твоей и сына… Думаю, Сеян поручит тебе расследование. Не советую отказываться! — упредил Юний недовольство отца. — Суд был благоприятен тебе, но ты не обелен. Консул подозрителен и может передумать.
Отец задумался.
— Где обнаружены денарии? — спросил, чуть погодя.
— Вот видишь! — улыбнулся Юний. — Ты уже на верном пути. К счастью, ответ на твой вопрос есть. Денарии попали в Рим из Иудеи. Они были среди подати, собранной в этой провинции.
— Иудея?
— Да, префект!
— Забытая богами земля! Там зреет заговор?
— Заговор может вызреть где угодно. Вале, префект! Радуйся! Не советую терять время, пока ты в Риме! Тебе предстоит трудная миссия. Зайди ко мне завтра…
Юний ушел. Отец задумчиво перевел взгляд на дерзкого раба с выбеленными ногами, и тот вдруг поклонился ему.
— Могу быть полезен тебе, сенатор!
— Ты?
— Я слышал об Иудее. Меня привезли оттуда.
Отец подошел ближе и стал разглядывать раба. Я присоединился к нему. Невольник был высок и хорошо сложен. Его мускулистое, поджарое тело говорило о привычке тяжелому труду, а шрамы на лице и на руках — о том, что труд этот не был мирным. Шрамы не портили раба — он был красив — той особой мужской красотой, которая нравится не только женщинам.
— Ты сражался против римлян? — строго спросил отец.
— Нет.
— Тогда почему здесь?
— Меня обманом захватили легионеры, когда я мирно шел по дороге. Наверное, им хотелось выпить.
— Не слушай его сенатор! — Маленький толстый человечек (я сразу понял, что это продавец), подбежал к нам, кланяясь. — Это дерзкий раб! Он распугал всех покупателей, а сейчас будет чернить меня! — Продавец хлестнул раба плеткой. — Падаль!
Отец жестом остановил его.
— Ты не похож на мирного путника! — сказал он рабу с усмешкой. — Думаю, руки твои держали меч, а не мотыгу.
— Ты прав, сенатор!
— Значит, ты воин?
— Начальник.
— Большим войском командовал?
Раб на мгновение задумался.
— Вы называете это когортой.
Отец заинтересованно посмотрел на раба.
— Это были пехотинцы или всадники?
— Те и другие.
— Как бы ты напал с всадниками на строй римских воинов, когда они стоят, сомкнув щиты?
— Я вооружил бы своих тяжелыми копьями, а в передние ряды поставил тех, кто в панцирях. Ваши пилумы для такой атаки не годятся, слишком легкие. Удар копьеносцев разрушит строй, следующие за ними всадники станут действовать мечами. Пехотинцы довершат дело…
Раб говорил, запинаясь, было видно, что он с трудом подыскивает слова. Его латынь была сухой, мертвой, по всему было видно, что раб учил ее по книгам.
— А если на твоих пехотинцев летят всадники?
— Тогда им следует упереть копья древками в землю, направив их в грудь коням. Копья тоже должны быть тяжелыми, пилумы сломаются. Годятся заостренные колья — те, что вы используете для ограждения своего лагеря.
— Ты действительно воевал, — согласился отец. — Но мне трудно верить, что ты не сражался с римлянами. Ты иудей?
— Нет.
— Докажи!
— Знаешь, чем иудей отличается от другого мужчины?
— Я видел иудеев, — усмехнулся отец.
Раб задрал грязную тунику и распустил узел набедренной повязки. Отец кивнул.
— Ты не из них! Почему живешь в Иудее? Ты римский гражданин?
— Нет, сенатор! Я живу далеко — в тех землях, куда еще не добрались римляне. В Иудею приехал за другом — семья его попросила найти. Друг отправился искать истину и пропал.
— Искать истину в Иудее?
— Да, сенатор!
— Не перестаю удивляться! — развел руками отец. — Только что мне сказали, что в Иудее зреет заговор, теперь ты утверждаешь, что там можно отыскать истину. В нищей провинции?
— Случается. Тебе немало лет, сенатор. Разве слышишь впервые о подобном?
Отец снова задумался. А когда вновь посмотрел на раба, губы его улыбались.
— Ты утверждаешь, что тебя захватили вероломно?
— Трое легионеров.
— Ты не смог дать отпор?
— Я был не вооружен.
— А если б был?
— Тремя солдатами у Рима стало бы меньше… Мне неожиданно приставили меч к горлу, связали руки и отвели порт, где продали этой гниде, — раб кивнул на торговца. — За сто сестерциев.
— Не слушай его, господин! — торговец поднял плеть.
Отец вновь остановил его.
— Ты можешь поручиться, что купил раба по закону? — строго спросил он торговца.
— Да, — тихо ответил он, помявшись. — Это мятежник. Он сражался против римских солдат.
— То есть, его захватили в бою. После чего квестор или префект претория вывел его на торги, где и продал тому, кто заплатил больше?
Торговец молчал.
— У тебя должна быть купчая. Я хочу взглянуть на нее!
Торговец стоял, опустив глаза.
— Нет у него купчей! — усмехнулся раб. — Потому и купил дешево. Солдаты просили двести сестерциев, но он потребовал документ, и те согласились на сто.
— Как ты можешь верить рабу, сенатор! — завопил торговец. — Я, римский гражданин…
— Документ! — потребовал отец, протягивая руку.
— Я отдам его дешево, — зашептал торговец, — вижу, ты заинтересовался… Всего пятьсот сестерциев!
— Незаконное обращение в рабство свободного человека — преступление! — строго сказал отец. — Не желаю быть твоим соучастником! Освободи его!
— Я заплатил серебром! — заныл продавец. — Кормил и одевал его. Кто возместит мне расходы?
— Адвокат обойдется тебе дороже.
— Всего триста сестерциев! — не сдался продавец. — Ты не покупаешь раба, а платишь мне за заботу о пленнике. Это законно!
По всему было видно, что продавец не отстанет, и отец нехотя достал кошелек. Получив серебро, продавец позвал кузнеца и тот ловко сбил цепи с рук бывшего раба. Тот поклонился отцу, затем помял сильными пальцами натертые браслетами кисти.
— Благодарю тебя, сенатор! Теперь я свободен?
— Да!
— И волен делать, что хочу?
Отец кивнул. Раб вдруг схватил торговца за горло. Тот захрипел, Незнакомец вырвал плетку из рук толстяка и стал стегать его по жирной спине. Тот задушено вопил, вырываясь, и отец схватил бывшего раба за руку.
— Я всего лишь возвращаю долг! — оскалился тот.
— Не смей! — покачал головой отец. — Это римский гражданин.
Незнакомец плюнул и бросил плетку.
— Я пойду к претору! — завопил, освободившись, работорговец. — Тебя бросят на съедение львам, раб!
— Я тоже пойду к претору! — ответил отец. — Отпустив этого человека на волю при свидетелях, ты признал, что обратил его в рабство незаконно. Сам отправишься в клетку!
Торговец бросил взгляд на тогу с пурпурной полосой и умолк. Мы отправились прочь. Бывший раб следовал за нами.
— Как тебя зовут? — спросил отец, когда мы оставили рынок.
— Аким!
Так я познакомился с человеком, которому было суждено сыграть такую важную роль в моей жизни…
* * *
На пути к дому мы заглянули в лавку, где купили Акиму одежду вместо того рванья, что было на нем. Аким не был римским гражданином, поэтому отец отверг тогу. Мы выбрали тунику с длинными рукавами, теплый плащ, короткие штаны и сапоги. Узел получился внушительный, и мы решили перед тем, как зайти в харчевню, отнести его домой. Там нас ждал сюрприз. В доме вовсю распоряжались незнакомые рабы: на кухне горел очаг, в горшках и на сковородах готовилась еда, в комнатах были расставлены неизвестно откуда появившиеся селлы, шкафы и кушетки. Спрашивать, откуда все, было бессмысленно — предусмотрительный Юний начал обставлять свой дом.
— Господин! — один рабов подбежал к отцу и почтительно склонился. — Мы осмелились хозяйничать здесь без твоего повеления. Если ты против…
Отец поморщился, но промолчал.
— Юний сказал, чтоб ты не стеснялся. Мы выполним любое повеление. Что хочешь? Денег не нужно, Юний платит.
Отец нахмурился и ушел к себе, не ответив. Зато Аким заботливо взял раба за тунику.
— Все, что пожелаем? Платить не надо? Я правильно понял?
Раб подтвердил.
— Тогда запоминай!
Аким стал перечислять, загибая пальцы на руке — сначала на одной, затем второй. Раб невозмутимо слушал, будто перед ним по-прежнему стоял сенатор, а не оборванец в грязной тунике. Когда Аким закончил, раб вопросительно посмотрел на меня. Я наклонил голову в знак согласия.
Очаг в доме деда был устроен так, что горячий дым, прежде чем выйти наружу, нагревал небольшой мраморный бассейн в терме за кухней. Рабы успели натаскать в него воды, к нашему приходу она согрелась. Аким, как только нас провели в терму, немедленно стащил с себя грязные лохмотья и плюхнулся в бассейн. Я последовал его примеру. Мы блаженствовали, отогреваясь, но недолго. Появившиеся рабы вытащили нас из воды и стали споро натирать оливковым маслом, снимая его затем скребками вместе с грязью. После чего один из них взял бритву, смазал бороду Акима маслом и ловкими движениями стал срезать длинные волосы. Аким шипел от боли, но терпел — сам просил. Поначалу я думал, что он просто сориентировался — римляне не носили бород, но позже Аким сказал мне, что в их землях мужчины бреются. Не знаю, правда это или нет — страна его лежит в варварских пределах, а варвары, как известно, поголовно бородатые. Но в тот миг я смотрел на Акима с завистью — брить мне было нечего. Расправившись с бородой, раб предложил Акиму выщипать волосы на теле — по последней римской моде. Он даже начал выдергивать волоски, но тут Аким сказал что-то на непонятном языке. Среди резких слов мне запомнилось странное: «Мать»!.. Раб, как и я, не понял смысла сказанного, но уловил интонацию — торопливо собрал инструмент и ушел.
Из термы мы отправились в триклиний. Стол был уставлен блюдами. Рабы пытались тащить к нему ложа, но я запретил. В нашем доме не принято было возлежать за едой, даже на пирах — отец строго следовал заветам Августа. Рабы заменили ложа биселлиями. Один из них отправился за сенатором, и отец не заставил себя ждать — все мы здорово проголодались. Отец вознес благодарение богам, отплеснув из кубка немного вина на пол, мы последовали его примеру, а затем принялись за еду.
Юний прислал нам хорошего повара. Судя по всему, он осведомил его о вкусах сенатора: краснобородку в вине и прочих изысканных лакомств нам не подали, но мясо и рыба, приготовленные по-простому, были хороши — в меру посолены и приправлены травами. Вино тоже оказалось замечательным: красное, густое и без пряностей. Мы с отцом разбавляли его теплой водой, Аким от воды решительно отказался. Ел он много — было видно, что голоден, но аккуратно. Мы с отцом бросали на него любопытные взгляды. После термы, в новой одежде Аким преобразился: его красивое лицо с правильными и мужественными чертами лица приобрело благородный, даже несколько надменный вид, темные глаза смотрели строго. Было видно, что перед нами человек привыкший повелевать и не любящий возражений.
Аким по-своему истолковал эти взгляды. Когда раб в очередной раз наполнил его чашу, он встал.
— Достопочтенный сенатор! В нашей стране принято за столом произносить речи, стоя. Позволь мне сделать это!
Отец сделал приглашающий жест.
— Благодарю! Мы с тобой солдаты, сенатор, поэтому хорошо понимаем, как прихотлива военная фортуна. Плен — позор для воина, но только в том случае, если он сдался врагу добровольно, движимый страхом. Мне дважды довелось побывать в плену, но всякий раз меня захватывали безоружным, когда я не мог сопротивляться. В первый раз меня освободил друг — тот самый, на поиски которого я отправился в Иудею. Во второй раз это сделал ты — человек мне незнакомый, из другой страны. Ты мог равнодушно пройти мимо, но вступился и даровал мне свободу. Трудно найти слова, чтобы отблагодарить тебя, поэтому я скажу прямо, как надлежит воину. Я никогда не забуду твоего поступка, Луций Корнелий Назон Руф! (До сих пор не знаю, когда Аким успел узнать полное имя отца!) Я верну деньги, что ты заплатил торговцу и возмещу другие расходы! Я буду сопровождать тебя в Иудею и стану защищать в пути тебя и твоего сына, как если бы ты был моим отцом, а он — братом! Будь здоров, сенатор! Пусть даруют твои боги тебе удачу!
Аким махом осушил свою чашу и поклонился отцу. Тот кивнул в ответ и отпил из чаши. Аким шлепнулся в бисселий и улыбнулся. Я вдруг увидел, что он совсем не надменный, а простой и веселый.
— Хорошо говорил, — сказал отец, обращаясь к Акиму, — видно, что у тебя были добрые учителя. — Кто твои родители? Живы ли они?
— Живы, сенатор! Я происхожу из древнего и знатного рода, могу перечислить своих предков за три столетия. Все мужчины в нашей семье были воинами, многие водили большое войско — как ваш легион и даже больше.
— Ты много воевал?
— Нет, сенатор! Наша страна давно не воюет — соседи страшатся нас, а земель нам хватает.
— Как и Риму! — наклонил голову отец. — Но тебе, вижу, пришлось сражаться?
— Несколько стычек на границе с дикими племенами.
Отец снова кивнул.
— В прошлом году мне пришлось воевать в Иудее.
— С кем? — насторожился отец.
— Тоже с кочевниками. Мы попали к ним в плен, затем освободились и направлялись домой. Спокойно уйти нам не дали — пришлось пробиваться…
— Что вы делали в Иудее?
— Искали истину!
Отец захохотал. Он смеялся долго, вытирая глаза салфеткой. Аким терпеливо ждал.
— Ты слышал об иудейском боге, сенатор?
— Заезжий купец из евреев рассказывал. Кажется, он хотел обратить меня в свою веру. Напрасно. Как можно верить в бога, которого нет?
— Ты хочешь сказать, бог евреев не имеет земного облика?
— Купец говорил, что бог везде и во всем. Поэтому евреям запрещено делать статуи бога и даже сооружать ему жертвенники, кроме того, что есть в Иерусалиме. Разве это не странно?
— Ты слыхал от иудея о воплощении бога в человеке?
— Купец толковал о каком-то мессии…
— Разве это не удивительно — увидеть живого бога?
— Я видел.
— Какого?!
— Августа!
— Император, которого обожествил сенат?
— Да. Разве он не бог? Ему сооружены храмы, любой может придти туда и принести жертву. Даже ты!
— С твоего позволения, не стану.
— Почему?
— Вера запрещает нам приносить жертвы чужим богам.
— Как знаешь… — пожал плечами отец. — Я бы на твоем месте отблагодарил… Купец тоже отказался, когда я предложил ему. Римлянам не запрещено поклоняться чужим богам, лишь бы не забывали про своих. Как видишь, мы свободнее вас.
— Зато нам тепло на свете…
Я не стал более прислушиваться к спору отца с Акимом — скучно. Боги мало интересовали меня. По праздникам наша семья участвовала в религиозных церемониях, я послушно присутствовал — и только. С богами в Риме все просто: своевременно приноси им жертвы, не скупись на подношения понтификам — и все будет хорошо. Спорить о том, чей бог лучше, глупо. Поклонись каждому, почти его жертвой, чтоб никому не обидно — и все дела. Так поступали все вокруг…
Аким заметил мое скучающее лицо и улыбнулся.
— Давай прекратим этот спор! — предложил он отцу. — Все равно каждый останется при своем мнении. У меня сегодня радостный день, и я хочу, чтоб нам было весело. Ты позволишь, сенатор?
Отец кивнул, и Аким сделал знак рабам. В триклиний скользнули двое музыкантов — один с флейтой, другой с кифарой и три женщины в белых одеждах. Музыканты стали у стены и подняли инструменты. Музыка, томная, чувственная заполнила комнату, женщины взмахнули руками и поплыли вокруг стола, изгибаясь и покачивая бедрами.
У меня перехватило дыхание. Столы на танцовщицах были из невесомого, прозрачного виссона, сквозь ткань можно было разглядеть все: тугие груди с розовыми сосками, округлый живот под аккуратной впадинкой пупка и темный треугольник на лобке. Когда танцовщицы скользили мимо, меня обдавал приторно-пьянящий аромат мускуса и розового масла. Лица танцовщиц были набелены, брови и ресницы — подведены, отчего глаза их казались огромными, зовущими. Одна из них вдруг подмигнула мне, и я почувствовал, что краснею…
Не сразу, но я пришел в себя, и только тогда внимательно разглядел женщин. Они только вначале казались похожими. Одна из танцовщиц, маленькая, пухленькая, с круглыми ямочками на щеках, постоянно улыбалась, показывая хорошенькие беленькие зубки. Это она подмигнула мне, и я почти не отводил от нее взгляда. Две другие были повыше: одна худенькая, рыжеватая, вторая — крупнее, с сильными и стройными ногами. Я заметил, что Аким постоянно смотрит на рыженькую, и подивился его выбору — по росту и сложению ему больше подходила другая. У той было красивое лицо и большая грудь. Рыженькая больше напоминала начавшую созревать девочку-подростка.
Музыканты закончили играть, танцовщицы склонились в поклоне. Мы захлопали. Музыканты дали женщинам отдышаться, а затем вновь запели флейта и струны кифары. Весело и живо. Танцовщицы хлопнули в ладоши и пустились вокруг стола, подпрыгивая и ударяя о пол подошвами.
— Сенатор! — Аким перегнулся через стол. — Гостям позволено танцевать?
— Если пожелают! — улыбнулся отец.
Аким вскочил и вклинился между танцовщицами. Я засмеялся: среди изящных, гибких женских фигур чужеземец выглядел огромным и неуклюжим. Аким обнял за плечи тех танцовщиц, что были повыше (даже они не доставали ему до подбородка), маленькая и пухленькая присоединилась к ним; все четверо боком пошли вкруг стола, перебирая ногами и топая подошвами. Аким двигался легко и изящно, казалось, что он невесом, хотя было видно, что танцовщицы, которых он обнимал, буквально висят на госте. Музыка звучала все быстрее и быстрее, ноги танцующих едва успевали за ритмом, который флейтист и кафаред отбивали ножными трещотками. Четверка двигалась вкруг стола все быстрее и быстрее, казалось, вот-вот они не успеют, собьются с ритма и упадут, запутавшись в своих ногах, но танцоры все также проворно скользили по полу. Я бросил взгляд на отца. Он смотрел на танцующих, приоткрыв в удивлении рот. Флейта вдруг заголосила в надрыве и умолкла, следом — и кифара. Танцоры дружно топнули ногами и поклонились. Мы с отцом замолотили в ладоши.
— Где тебя учили танцевать? — спросил отец Акима.
— Родители хотели, чтобы я умел все! — ответил гость, улыбаясь. — Надеюсь, тебе понравилось?
— Да!
— Я станцую еще! Разреши женщинам сесть за стол!
— Они свободнорожденные? — насторожился отец.
— Конечно! Рабы так не танцуют!
Утверждение было спорным, но отец возражать не стал. По его знаку рабы принесли селлы, и танцовщицы, улыбаясь, порхнули к столу. Случайно или нет, но пухленькая оказалась рядом со мной; млея, я смотрел на ее покрытый бисеринками пота лобик, красивую грудь, вздымавшуюся под тонким виссоном, пухлые приоткрытые губы… Аким тем временем что-то объяснял музыкантам, напевая. Наконец кифаред согласно кивнул, и наш необычный гость вышел вперед.
Такой музыки я не слышал больше нигде и никогда. В ней было нечто дикое, варварское, и в то же время несокрушимо влекущее. Вначале зазвучала флейта — зазывно и мягко; Аким, заложив одну руку за голову, а вторую вытянув вперед, заскользил сначала в одну сторону, затем, сменив руки, в другую… К флейтисту присоединился кафаред, музыка зазвучала быстрее и быстрее; Аким стал отплясывать на месте. Он хлопал ладонями по груди, бедрам и коленкам, затем вдруг присел и ловко, выбрасывая ноги вперед, прошел вокруг стола. Затем вскочил и замолотил подошвами по полу, выкрикивая непонятные слова, среди которых чаще других слышалось какое-то непонятное «dusha». Трещотки музыкантов гремели все быстрее и быстрее, ноги гостя молотили в пол в такт им, а руки его скользили вдоль тела, хлопая по нему. Внезапно музыка оборвалась, Аким упал на колени и развел руки в стороны. Мы вскочили в едином порыве, что есть сил хлопая в ладоши. Аким встал, поклонился и пошел к столу. Лицо его было мокрым от пота.
— Что за слово ты выкрикивал? — спросил отец, подождав, пока гость осушит чашу. — Что означает «dusha»?
— Не знаю, как на латыни, но греки называют это «психея», — ответил Аким, показывая в улыбке белые зубы. — Моя «психея» радуется…
По знаку отца музыканты, сложив инструменты, присоединились к нам, и пир продолжился. Аким царствовал за столом: заставил меня провозгласить здравицу, затем потребовал того же от музыкантов, затем от каждой из танцовщиц. Отец мой смеялся и хлопал в ладоши; впервые после смерти матери я видел его таким радостным. Рабы сбивались ног, подавая кратеры с вином и новые кушанья. Аким их тоже не оставил в покое, заставив каждого осушить чашу за здоровье сенатора и его сына. Надо ли говорить, что рабы сделали это с удовольствием. Рядом сидела и улыбалась, показывая свои очаровательные ямочки, пухленькая сирийка Мариам, голова у меня кружилась, а радость распирала грудь. Я не заметил, как отец исчез, одновременно за столом не стало и танцовщицы со стройными ногами; когда я недоуменно перевел взгляд на Акима, тот заговорщицки подмигнул мне. Я склонился к Мариам и зашептал ей на ухо слова, которые не решился бы сказать ранее. Сирийка улыбнулась, и мы удалились ко мне в комнату. Последнее, что увидел, было: рыженькая танцовщица сидит на коленях Аким, тот целует ее в шею, и рыженькая хохочет, запустив пальцы в густые черные волосы гостя…
2
Проснулся я поздно. Правильнее сказать, меня растолкал Аким.
— Десять денариев! — потребовал он бесцеремонно. — Скорее!
— Денарии?
Спросонок я плохо соображал. Зачем ему деньги? И почему «скорее»?
— Не медли, центурион — уходят они!
Я торопливо отыскал среди валявшейся на селле одежды кошелек и вытряхнул его в ладонь. Среди кучки медяков сиротливо виднелись две серебряные монетки — накануне я платил, не скупясь.
— Здесь и пяти не будет. Возьми у отца.
— Нету его, ушел! Давай сколько есть! Верну!
Аким сгреб монеты и выскочил из комнаты. Я накинул тунику и, движимый любопытством, поспешил следом. Танцовщицы стояли у ворот перистиля. Женщины успели переодеться: вместо вчерашнего виссона на них были обычные столы. В руках они держали узелки.
Аким быстром шагом подошел к рыженькой и высыпал монеты в подставленную ладошку. Что-то сказал, разведя руками. Рыженькая вместо ответа встала на цыпочки и чмокнула его в губы. Подруги танцовщицы сделали тоже самое, причем у Мариам получилось достать лишь до подбородка Акима. В мою сторону она не взглянула.
Аким проводил гостей за ворота и вернулся.
— Хорошие девочки! — сказал, подходя. — Добрые… Приехали из бедной провинции в Рим, живут втроем в одной комнате, на еду тратят по два асса в день, наряды для танцев купили в долг. Когда еще отдадут долги… За выступление музыкантам платят по пять денариев, им — по одному.
— Солдат в легионе получает меньше!
— Солдат так не станцует! И не погладит ласково… — Аким подмигнул мне. — Разве не так, центурион?
Я почувствовал, что краснею.
— Они с нами не за деньги легли, — пояснил Аким, — из благодарности. За то, что за стол усадили рядом с собой, накормили вкусно. Я сам решил их отблагодарить… — он махнул рукой и отправился в терму. Я поспешил следом.
Вымывшись, мы позавтракали свежеиспеченными, еще горячими лепешками с медом. Аким осушил чашу неразбавленного вина, я, поколебавшись, последовал его примеру. Вино теплой волной пробежало по телу, унимая сухость во рту и легкую боль в виске. Голова слегка потяжелела, а руки и ноги стали мягкими. Неудержимо захотелось снова прилечь. Однако Аким отдыхать не собирался.
— Идем смотреть Рим! — объявил, отодвигая чашу. — Всю жизнь мечтал! А ты?
— Куда же мы пойдем без денег? — сделал я робкую попытку если не отговорить его, то хотя бы отсрочить неприятное. — Отца нет, взять не у кого.
— Да? — Аким задумался только на мгновение. — Ахилл! — позвал громко.
В триклиний вошел раб — тот самый, что вчера выслушивал распоряжения Акима.
— Мой господин?
— Я тебе не господин, говорил ведь! Сможешь одолжить нам денег? До вечера?
— Сколько?
— Десять денариев.
Ахилл достал кошелек и невозмутимо отсчитал серебряные монеты.
— Можешь не отдавать! — улыбнулся он Акиму. — Юний платит. Хотите что-то купить?
— Пойдем бродить по Риму. Без денег нельзя.
Ахилл склонил голову, одобряя.
— Хорошо знаешь город, Аким? — раб слегка запнулся, но все же назвал гостя по имени.
— Совсем не знаю!
— А центурион?
Я развел руками.
— Дам вам Афинодора в спутники. Он покажет все, что захотите, и домой проводит. Рим очень велик, заблудитесь.
— Чтоб мы без тебя делали! — улыбнулся Аким. — Благодарю, Ахилл!
Раб молча поклонился и вышел.
— Какой он… — я не нашелся.
— Толковый? Не то слово. Золото, а не человек. Мы с ним вчера до ночи проговорили…
Очевидно, мое лицо отразило недоумение, Аким улыбнулся.
— После того, как вы с отцом ушли, я пригласил за стол всех. Не пропадать же добру — столько наготовили! Это вам, сенаторам, нельзя с рабами за одним столом, а я сам вчерашний пленник. Хорошие они люди! Римский гражданин, которого твой отец защищал от меня, недостоин Ахиллу ноги мыть! Работорговец, падаль…
Слова гостя не понравились мне, но я промолчал. Не хотелось ссориться. К тому же рядом с Акимом я чувствовал себя как новобранец-легионер перед центурионом-ветераном. Робел. Аким ребром ладони разделил лежавшие перед ним монеты и подвинул мне пять денариев.
— Возвращаю долг!
Я с радостью забрал серебро. Неприятна была сама мысль бродить по Риму с пустым кошельком, а попросить у Ахилла денег по примеру Акима я не решился. Почему-то был уверен, что он откажет, и сделает это с удовольствием…
Мы вышли за ворота в сопровождении Афинодора, юркого грека с хитроватым прищуром глаз, и отправились в центр города. Аким первым делом пожелал увидеть храмы и общественные здания, я не возражал. Мы осмотрели Форум Юлия, круглый храм Весты в обрамлении молочно-белых колонн; Афинодор бойко давал пояснения. На форуме Цезаря Аким долго стоял перед изваянием символа Рима — волчицы. Она грозно скалила мраморные зубы, защищая младенцев Ромула и Рема. Взгляд зверя был полон ненависти, напряженные мускулы выказывали готовность немедленно броситься на врага.
— Не дай Бог оказаться на ее пути! — сказал Аким.
— Рим беспощаден к своим врагам! — подтвердил я.
— Если б только к врагам! — вздохнул Аким.
Я вспомнил о недавнем суде консула и промолчал. Оставив в покое волчицу, мы направились к курии. В курии заседали сенаторы, дверь была затворена, поэтому мы лишь обошли ее. Мне это странное здание с квадратными столбами по углам и гладкими, лишенными украшений стенами не понравилось. Если бы не портики вокруг, то курия походила бы на крепость. Я не преминул это сказать. Аким в ответ только хмыкнул:
— Курия простоит тысячелетия, центурион! А красивые колонны и статуи, которые мы видели раньше, станут прахом!
«Откуда знаешь?» — хотел спросить я, вложив в опрос всю язвительность, на которую был способен, но в последний момент передумал.
На площади перед курией и в портиках толпились торговцы и праздношатающиеся — первые ждали появления богатых покупателей в тогах с пурпурными полосами, вторые, скорее всего, были клиентами заседавших патрициев. Мы немного потолкались в шумной толпе: Аким приценивался то к одному, то к другому товару, спорил с продавцами о цене, но ничего не купил. Похоже, и не собирался. Мне показалось, что торг доставлял ему удовольствие — как вчерашние танцы вокруг стола. Я не удивился, если б Аким вдруг встал рядом с торговцами и принялся расхваливать какой-либо товар. К счастью, гость делать этого не стал, и Афинодор повел нас к храму Сатурна.
Я устал — сказывалось вчерашнее застолье и бурная ночь, поэтому почти не слушал объяснения Афинодора. Зато Аким прилежно внимал ему, то и дело уточняя и переспрашивая. Стоял полдень, когда мы, наконец, добрели к величественному храму. Я немедленно опустился на мраморную скамью, твердо решив любоваться храмом издалека, Аким с Афинодором пересекли площадь и поднялись по широким мраморном ступеням к величественной колоннаде. Осматривали они ее долго, и я заскучал. Поэтому, заметив пышную процессию, пересекавшую площадь, встал и последовал за ней.
К храму шествовали человек сорок: мужчины, женщины, дети. Впереди рабы в белоснежных одеждах вели козленка — белого, с вызолоченными рожками. Как я догадался, члены одной большой семьи пришли принести благодарственную жертву Сатурну.
Увидев процессию, Аким и Афинодор подошли ближе. Огромные двери храма распахнулись, наружу вышли жрецы в расшитых золотыми нитями одеждах. Один из них взял у служки кратер, макнул в него пушистую метелку из конского хвоста и стал щедро окроплять всех. Капельки упали и на нас.
— Что это? — поинтересовался Аким, слизывая капельку с запястья.
— Освященная вода! — благоговейно пояснил Афинор. — Перед тем, как зайти в храм, каждый должен очиститься.
— Понятно. А что будет в храме?
— Жрец прочитает благодарственную молитву, после чего принесет жертву.
— То есть зарежет козленка?
— Принесет жертву! — упрямо сказал Афинодор.
— Пусть так! — не стал спорить Аким. — А не принести ли жертву и нам? Пообедать? — пояснил он, увидев наши недоуменные лица.
Предложение понравилось, Афинодор отвел нас в уютную, чистую харчевню неподалеку от храма, где мы заняли отдельный стол в дальнем углу. Афинодор сел вместе с нами, и я промолчал. Во-первых, распоряжался Аким, именно он указал рабу место на скамье рядом с собой. Во-вторых, я подумал и решил, что ничего зазорного в совместном обеде с рабом нет. По древнему обычаю, в праздник Сатурналий, рабы сидят за хозяйским столом, а владельцы прислуживают им. Обычай этот, правда, плохо соблюдался в последнее время даже в нашем доме. Отец и мать символически приносили рабам по одному блюду, после чего удалялись. Умные рабы не задерживались за хозяйским столом; выпив по чаше вина, они вставали и отправлялись в харчевню, где уже праздновали всласть. Им для того специально выдавали деньги.
По рекомендации Афинодора мы заказали тушеные бычьи сердца с овощами и пряностями, жареные свиные колбаски и красное испанское вино. Все это было незамедлительно доставлено — Афинодор знал, куда отвести. Мы омыли руки в чаше с водой и принялись за еду. Ложки так и мелькали — все проголодались. К тому же мясо, овощи и колбаски были замечательные — свежие, горячие, жирные. Вопреки обыкновению, вино нам подали холодным. Я поначалу хотел отчитать хозяина, но потом понял, что это сделали специально — охлажденным красным было приятно запивать горячее мясо.
Покончив с трапезой, мы омыли руки, и Афинодор подозвал хозяина. Немолодой грек с плутоватым лицом и золотой серьгой в ухе запросил целых десять сестерциев — как ни хорош был обед, но цена показалась мне чрезмерной. Афинодор молча полез в кошелек, но Аким остановил его и сам расплатился. Афинодор расплылся в улыбке. Как я понял, взяв плату на себя, Аким подарил рабу десять сестерциев — слишком щедрая награда за сопровождение в незнакомом городе. Однако деньги были не мои, и я смолчал.
Мы вышли из харчевни, и Аким велел вести нас к Тибру. Вскоре мы оказались на красивой набережной, откуда полюбовались храмом Эскулапа, воздвигнутым на островке посреди реки. Сам Тибр в это время года выглядел неприятно: мутно-серые холодные волны ударяли в выложенный травертином берег, неся сырость и холод. Я вспомнил, что Тибр бросают казненных, что где-то неподалеку лежит на дне тело задушенной Корнелии — по римскому обычаю мужчинам-преступникам отрубали голову, а женщин душили. Мне стало зябко, и я передернул плечами.
— Отведи нас домой! — велел Афинодору Аким, заметив мое движение. — Но так, чтобы по пути увидеть что-нибудь интересное.
Раб постарался.
— Жаль, что это останется только в памяти! — вздохнул Аким у встретившейся нам изящной базилики. — Вернусь домой, не поверят, что видел!
— Можно заказать изображения, — услужливо заметил Афинодор. — На папирусе, пергаменте, бронзовых досках. Любого размера, красками или резцом. Я знаю одну греческую мастерскую, там и готовые картины есть, можно выбрать…
— Юний платит?! — сощурился Аким.
Афинодор кивнул.
— Наведаемся к ним завтра! А пока — домой! Надо отдохнуть — ноги гудят…
Несмотря на жалобу, Аким по пути часто останавливался у объявлений, написанных красками прямо на стенах домов, внимательно читал. Заметив вывеску оружейной лавки, предложил зайти. Внутри он указал на деревянные мечи для учебных упражнений, пояснив:
— Давно не держал оружие, подзабыл. Составишь мне пару?
Я согласил и выбрал меч из дуба — тяжелый, но с удобной рукоятью. Аким последовал моему примеру, кроме того, отобрал два легких щита, сплетенных из ивовых прутьев. Внезапно он заметил в дальнем углу большой лук и велел принести.
— Это очень хороший лук, парфянский! — залебезил хозяин, подавая оружие. Я понял, что он обрадовался возможности сбыть завалявшийся товар. — Он очень сильный — льва первой же стрелой повалит!
Лук и в самом деле был мощный — длиною в рост человека. Он был обклеен костяными пластинами и обмотан, судя по толщине, бычьими жилами. У хозяина нашлась тетива, Аким с натугой согнул лук и щелкнул тетивой. Та издала звонкий радостный звук.
— Вижу, что господин знает толк! — льстиво похвалил хозяин. — Только ему под силу послать стрелу из такого лука.
— Если б господин умел стрелять… — вздохнул Аким и посмотрел на меня. — Это и в самом деле хороший лук, я видел такие…
Я молча взял у него оружие. Хозяин принес мешок со стрелами. Они оказались необычно длинными, с острыми четырехгранными наконечниками.
— Броню бить! — пояснил Аким, рассматривая. — Со ста шагов любую лорику прошьет!
Я взял у него стрелу и наложил на тетиву. Она поддалась с трудом, но, сцепив зубы, я оттянул ее к уху и спустил. Тетива больно щелкнула меня по левому запястью — я даже вскрикнул. Но тут же забыл о боли.
Стрела вонзилась в балку потолка, едва не пробив ее насквозь — такой силы оказался удар. Нечего было и думать вытащить ее обратно.
— Десять денариев! — воскликнул обрадованный хозяин. — За такой лук это даром!
— Два! — возразил я.
— Девять, молодой господин! Это последняя цена!
— Три…
— Такой лук вы не найдете нигде!
— Он лежит здесь со времен войны Красса с парфянами! Ему сто лет!
— Зачем говоришь так, господин?! Привезли осенью! Это лук начальника парфянской конницы, я заплатил за него полновесный золотой аурей и теперь продаю себе в убыток…
Мы торговались долго и яростно. Я помнил, что в моем кошельке всего пять денариев, в то же время ничто в мире, как мне тогда казалось, не могло заставить меня расстаться с таким чудным оружием. Будь я опытнее, то вернул бы лук хозяину и сделал вид, что ухожу — торговец сразу бы сдался. Но я крепко сжимал лук, не желая даже выпускать его из рук, и торговец это прекрасно видел. Дойдя до цены в шесть денариев, он не уступал ни асса. Я растерянно оглянулся на Акима, и тот улыбнулся:
— Пусть будет шесть! Стрелы — в придачу!
Хозяин замялся, но Аким грозно нахмурил брови, и торговец поспешно кивнул.
— Доставишь все в дом, где с тобой и рассчитаются. Он расскажет, как нас найти, — Аким указал на Афинодора, — и кто тебе заплатит. Смотри, чтобы принесли именно те вещи, что мы выбрали!
Хозяин, воздев руки к небу, заверил, что он самый честный торговец, что в Риме это подтвердит любой, но Аким, тем не менее, вытряхнул стрелы из мешка, пересчитал (их оказалось всего одиннадцать) и осмотрел каждую. После чего, предоставив возможность Афинодору объясниться с торговцем, мы вышли из лавки.
— Плут! — весело сказал Аким, когда мы оказались на улице, и я понял, что это он о торговце. — Но лук у него действительно хорош. Трофей… Купил у какого-то легионера за сестерций. Можно было поторговаться, но Юний платит…
Только сейчас я сообразил, что горячо сражался за чужие деньги. Почувствовал досаду. Но радость тут же охватила меня: замечательный лук достался мне даром. Руки мои еще помнили удобную для хвата рукоять, страшную силу вощеной тетивы, и я весело зашагал рядом с Акимом.
* * *
Утром следующего дня Аким вновь разбудил меня. В этот раз я проснулся сразу: накануне вечером мы ужинали без танцовщиц и музыкантов, и я был осторожен с вином.
— У нас говорят, что завтрак нужно заработать! — весело сказал Аким, подавая мне щит и деревянный меч. — Согласен?
Я молча накинул тунику. Мы вышли в перистиль и изготовились. Аким держал меч странно — у головы, направив тупое острие деревянного клинка прямо мне в лицо. Я заслонился щитом и сделал выпад снизу. Аким легко отбил удар — и так сильно, что я едва не выронил меч.
С первых же мгновений я понял, что имею дело с умелым противником. Аким порхал вокруг меня как танцор, молниеносно нанося удары и легко уклоняясь от моих выпадов. Это было непривычно, в легионе учат по-другому. Римский воин носит большой щит-скутум, которым и заслоняется от ударов, поэтому бьет мечом из-за него — в лицо, ногу или живот врага. Тяжелая лорика, обитый металлом скутум, шлем, калиги, подкованные железными гвоздями — в таком вооружении не потанцуешь. Отбивать удары мечом и вовсе глупо — лезвие может сломаться, или же острие врага скользнет по твоим пальцам… Аким же словно играл мечом — то колол им, то рубил, то останавливал мои выпады. Будь на моем месте простой легионер, Аким победил бы сразу, но отец не зря учил меня. Я быстро освоился с манерой противника, и стал уверенно теснить его. Аким отчаянно закрывался щитом, я уже предчувствовал победу, как вдруг мой удар провалился в пустоту. Я невольно сделал шаг вперед и сразу почувствовал прикосновение тяжелого дерева — Аким держал лезвие у моей шеи.
— Нет больше в Риме центуриона Марка Корнелия! — сказал он, улыбаясь.
Я едва не заплакал от досады — Аким перехитрил меня, притворившись побежденным.
— Аве! — послышалось от дома. Я оглянулся: отец стоял на ступеньках, наблюдая за нами. Я насупился.
— Ты сражаешься, как гладиатор! — сказал отец, подойдя к Акиму. — Римские воины так не дерутся. Приходилось выступать на арене?
— Нет, сенатор!
— Попробуй со мной! — отец забрал у меня меч и щит.
Я поднялся по ступенькам дома — сверху было лучше видно. Я сразу понял, что отец достаточно долго наблюдал за нами и сделал выводы: он не ринулся на врага, чтобы подавить его мощью атаки, а осторожно, словно играя, закружил вокруг противника, прощупывая его оборону быстрыми легкими выпадами. Аким тоже прекратил свои танцы, да и мечом действовал редко, больше отбиваясь щитом. Скоро стало ясно, что префект превосходит в мастерстве гостя — щит Акима едва поспевал встретить меч отца, о том, чтобы напасть самому, Аким уже не думал. Я с замиранием сердца ждал решающего удара, как вдруг гость резко выбросил вперед руку со щитом. Он предугадал удар — лезвие отцовского меча пробило сплетение ивовых прутьев; в то же мгновение Аким дернул щит вверх, и рукоять выскочила из отцовских рук. Но нанести решающий удар Аким не успел. Отец присел и подъемом стопы зацепил его за лодыжку. Аким свалился навзничь, отец вскочил и вытащил меч из щита. Аким тоже вскочил; противники, как ни в чем ни бывало, вновь стояли напротив один одного.
— Ты неплохо сражаешься! — улыбнулся отец, опуская щит. — Не ожидал.
— У меня были хорошие учителя.
— В этом бою я тебя победил. С настоящим щитом у тебя бы не вышло.
— Я видел, как мечом пробивают железный щит.
— Где это было?
— В Иудее.
— Опять Иудея! Скоро я поверю, что там центр мироздания! Кто был этот силач?
— Он не казался силачом. Но у него был меч из лучшей в мире стали, и он мастерски владел им.
— Ты сражался против него?
— Вместе с ним! Иначе не стоял бы здесь.
— В нашем бою ты схитрил.
— Без хитрости на войне нельзя.
— Признай: я лучше!
— Ты замечательно сражаешься, префект, но я три месяца не держал в руках меч.
— А я вдвое старше.
— Воин, о котором я рассказал, был тоже не молод.
— Язык у тебя острее меча!
— Попробуем еще! — предложил Аким. — До первого укола.
— Лучше с Марком! Тебе есть чему его поучить. Ты правильно сделал, что купил оружие. Воин должен упражняться ежедневно.
Отец отдал мне меч и щит. Мы с Акимом еще немного покружили по двору, но уже без прежнего рвения. Аким показал мне несколько своих приемов, я ему — свои. В терме я с удовольствием увидел на бедре гостя продолговатый синяк, оставленный моим мечом, Аким в ответ улыбнулся и выразительно посмотрел на меня. Я опустил взор — от плеча до локтя мои руки украшала россыпь синяков разной величины.
— Завтра наденем доспехи! — предложил Аким. — Мечи хоть и деревянные, но бьют больно.
Я согласно кивнул. Мы опять позавтракали вдвоем. Отец ушел в канцелярию к Юнию — знакомиться с донесениями из Иудеи (префект Луций Корнелий не изменял своей привычки к любому делу относиться ответственно), мы в сопровождении Афинодора отправились бродить по Риму. В художественной мастерской Аким к моему удивлению отверг цветные и красивые картины с видами лучших зданий Рима и долго объяснял хозяину, что ему нужно. Тот, наконец, улыбнулся, и достал из глиняного сосуда толстый пергаментный свиток. На нем оказались подробные чертежи храмов и самых красивых римских зданий.
— Эти свитки обычно покупают архитекторы из провинций — для образца, — пояснил грек. — Не думал, что чертежи заинтересуют воина. Это ты ищешь?
— Именно! — радостно ответил Аким, разглядывая свиток…
Из художественной мастерской мы отправились в театр — Аким вчера внимательно читал объявления на стенах, и провели в нем почти день. Аким восхищенно наблюдал за представлением, я с интересом разглядывал зрителей, вернее зрительниц. К сожалению, многие из них пришли в театр закутанными с головы до ног — разглядеть что-либо под эти покрывалами было невозможно. Аким заметил мои усилия.
— Ищешь Мариам?
Я смутился.
— Зря — входная плата для девочек высока. Хочешь ее увидеть?
Я кивнул.
— Вели Афинодору, и он позовет. Пообещай, что вкусно накормишь и будешь щедр. Не забудь добавить, что с тех пор, как увидел ее, сердце твое не знает покоя. Что не спишь ночами, вновь и вновь повторяя имя, звук которого слаще меда и нежнее мелодии лиры…
Я потупился, не зная, что ответить.
— Ладно! — махнул рукой Аким. — Я сам. Напишем письмо, а Афинодор отнесет. Ты не против, если я приглашу Лейлу?
Я не возражал, и на обратном пути мы зашли в магазин, торговавший готовыми книгами и писчими принадлежностями. Старый скриба, сидевший в углу за столиком и зарабатывавший на жизнь такими делами, ловко настрочил на папирусе послание, которое Аким ему продиктовал. При этом скриба цокал языком и крутил головой, выражая одобрение. Послание было адресовано Мариам, только в самом конце одной строчкой Аким сообщал, что друг центуриона, воин из дальней страны, не может забыть прекрасную Лейлу и жаждет ее видеть. Скриба хотел уже свернуть папирус, как вдруг я вспомнил, что танцовщицы приехали из Сирии и могут не знать латыни. С Мариам я говорил по-гречески.
— Не беда, господин! — успокоил меня скриба. — Добавьте асс, и я мигом переведу письмо, будет на двух языках. А если позволите скопировать его, совсем не возьму платы.
— Будешь продавать текст заказчикам? — сощурился Аким.
— Ко мне приходят воины и торговцы, — степенно пояснил скриба. — Речь их груба и неграмотна, редко кто так медоречив, как ты господин. Это бедные люди, у них нет рабов, обученных сочинять письма. Что делать? Женщины Рима ждут сладких признаний.
— Не будем лишать их счастья! — махнул рукой Аким.
Я запечатал письмо перстнем с гордым профилем императора Августа (подарок отца), и Афинодор убежал исполнять поручение. По пути домой я мучительно размышлял, как объяснить отцу появление за нашим столом двух сирийских танцовщиц, но все разрешилось само собой. Мы вернулись поздно, встретивший нас Ахилл сообщил, что отец поужинал, и сейчас читает свитки у себя в комнате. Дверь ее выходила в триклиний, и Аким, дабы не беспокоить префекта, предложил накрыть стол для пиршества у него в комнате. Я с радостью согласился. Пока рабы носили обстановку и блюда, пришел Афинодор — с Мариам и рыженькой Лейлой…
Назавтра, увидев за завтраком сириек, отец поднял бровь, но промолчал. Затем отозвал в сторонку Акима, о чем-то коротко переговорил с ним и вручил кошелек. Аким в свою очередь поговорил с Лейлой и кликнул Афинодора. Тот убежал, но вскоре вернулся с третьей танцовщицей (ее звали Зухра). К вечеру рабы принесли вещи сириек, и наш дом наполнился женскими голосами. Все сразу повеселели — даже рабы.
Очень скоро мы узнали настоящую причину появления сириек в Риме. Они были в свите вождя племени, явившегося в столицу искать покровительства и защиты. Неизвестно, кто дал вождю такой совет, вполне возможно, что недруги. В Риме вождя немедленно обвинили в организации набегов на римские селения (такой грех водился за предводителями всех племен) и казнили по приговору сената. Двор разбежался, танцовщицы оказались одни в чужом городе. Для возвращения домой не было денег, да и возвращаться было некуда: сириек забрали из семей совсем маленькими, росли они и при дворе, и ничего кроме услаждения вождя делать не умели. Выслушав эту горькую историю, отец задумался и в один из вечеров привел с собой немолодого, толстого мужчину, который оказался управителем известного театра. Гость попросил сириек станцевать. После их кружения вокруг стола, он покачал головой:
— В Риме тысячи женщин танцуют лучше!
Управитель хотел встать, но Аким попросил его задержаться. Он о чем-то поговорил с Лейлой, та сначала энергично закрутила головой, но затем, подумав, кивнула. Сирийки ушли, но вскоре явились снова. Их встретил единодушный вздох восхищения. На танцовщицах были только набедренные повязки, их ноги и руки украшали большие браслеты с колокольчиками. Лейла к тому же держала тамбурин.
Мариам и Зухра встали рядом, Лейла ударила в туго натянутую кожу. По телам сириек словно пробежала волна, их бедра пришли в движение, руки взмыли над головой, от чего груди женщин задорно тряхнули сосками… Перезвон колокольчиков сопровождал каждое движение танцовщиц, казалось, это звенели, радуясь жизни, сами их тела. Бедра сириек вращались все быстрее и быстрее, их ноги и руки изображали вихрь, а их животы, мягкие, округлые, колыхались волнообразно, пробуждая непреодолимое желание. Тамбурин бил все отчаянней, побуждаемые ритмом женщины уже не танцевали, а плясали, высоко вскидывая ноги, и в пляске этой было нечто дикое и в то же время завораживающее. Я бросил взгляд на управителя — он смотрел, приоткрыв рот. Тамбурин уже не стучал — рокотал, Мариам и Зухра внезапно сорвали с себя влажные от пота набедренные повязки и накрыли им головы — мою и гостя. Я едва не задохнулся от овладевшего мной непреодолимого желания. У гостя, когда он сдернул повязку, глаза были по яблоку. К счастью для меня, сирийки убежали.
— Так они танцевали перед своим вождем, — пояснил Аким, хитровато поглядывая на нас. — У старого разбойника только так пробуждалась мужская сила. Лейла рассказала мне, ну и показала разок…
— Беру! — хрипло сказал гость, все еще комкая в руках набедренную повязку Зухры. — Мне нужны танцовщицы — заполнять перерыв между спектаклями, но такое, конечно, со сцены не покажешь. Будут плясать в домусах, по заказу. Четыре сестерция в день каждой, стол и квартира бесплатны!
— А одежда?
— Одежда тоже. Не волнуйтесь, скоро у них будет не только лучшая в Риме одежда, но полные руки золота!
— Откуда? — поинтересовался Аким.
— От поклонников, — пожал плечами гость. — Ты думаешь, они долго будут одиноки?
Внезапно старик осекся и виновато посмотрел на отца.
— Извини, сенатор! Я забылся…
— Мы скоро уезжаем, — спокойно ответил отец. — Я говорил тебе.
— Как только ты отошлешь их… — Управитель осторожно положил набедренную повязку Лейлы на стол. — Я видел, как это происходит, много раз. У женщин появятся поклонники, начнут задаривать их, старики будут соперничать с молодыми… Если боги будут милостивы, они протанцуют у меня полгода. Но, думаю, только до лета. Потом они переберутся в богатые дома и будут вертеть мужчинами, как женщины это умеют. О боги! Почему они не рабыни? Я заплатил бы пять тысяч сестерциев за каждую!
Старик еще раз вздохнул, попрощался и вышел. Мы продолжили ужин. Сирийки, когда Аким сообщил им о решении гостя, не утаив сладостных перспектив, пришли в восторг. Они принялись нас целовать прямо за столом, причем, так крепко, что ужин пришлось прервать…
Хотя управителя театра привел отец, сирийки были уверены, что их будущее устроил Аким. Они дружно расцветали при его появлении, норовили при каждом удобном случае обнять и поцеловать; в бессильной ревности я смотрел, как это делает Мариам. Отец относился к проявлением женских чувств спокойно, но на дружбу гостя с рабами смотрел хмуро.
— Почему ты так ласков с рабами? — спросил он однажды. — Ты высокого рода, воин, неужели считаешь их ровней?
Аким улыбнулся:
— В нашей земле нет рабов.
— Как? — изумился отец. — Кто же готовит вам пищу, шьет одежду, убирает дом?
— Бедные делают это сами, богатые нанимают работников.
— Вы никогда не знали рабства?
— Знали. Много веков.
— Почему отменили?
— Рабы восстали. Помнишь Спартака?
— Странно, что ты знаешь! — удивился отец. — В Риме не любят его вспоминать.
— Мы учим вашу историю. Наш Спартак победил.
— Легионы не смогли справиться?
— Большая часть войска перешла на сторону рабов. Солдаты устали от войны, им пообещали им мир и землю.
— Что было потом?
— Смута, кровь, много крови. Тысячи представителей богатых родов — те, кто не перешел на сторону новой власти, были казнены. Затем пришел голод — бывшие рабы не умели управлять. Страной правили поочередно диктаторы… Так длилось свыше семидесяти лет… — Аким говорил неохотно, чувствовалось, что ему это неприятно.
Отец кивнул, и больше гостя ни о чем не спрашивал.
3
Как я упоминал, в Риме жили мои родственники по бабушке — многочисленные потомки сенатора Пульхра. Пребывание под судом и последующая неопределенность нашего положения заставили отца не искать с ними встреч, но родственники сами нашлись. Как-то отец повел меня в родовую усыпальницу Пульхров — к месту упокоения бабушки. Мы возложили венок к статуе Пульхерии, украшавшей ее надгробие. Чувствуя вину перед безвременно умершей женой, Марк Корнелий Назон не поскупился и нанял хорошего скульптора. Тот изваял Пульхерию сидящей, одна рука ее лежала на коленях, а другая повисла — как будто жизнь только что оставила ее. Неуловимый переход из бытия к смерти был запечатлен на печальном лице бабушки; красота его пробуждала в сердце скорбь и жалость. По обычаю скульптуры умерших людей не раскрашивали; теплый, молочно-белый мрамор придавал облику бабушки чистоту.
Мы долго стояли у памятника, затем отец повел меня вдоль надгробий — знакомить с историей рода. И внезапно заметил свежее погребение: для мраморной урны с прахом еще не подготовили саркофаг, она стояла одиноко с горстью песка на крышке — символ предания останков земле. Надпись на урне сообщала, что пять дней назад умер и был сожжен на траурной церемонии Секст Пульхр — тот самый легат Пятого легиона, в котором начал военную службу юный Луций Назон. Эта весть взволновала отца — он считал себя обязанным легату. Узнав у Юния адрес сына Пульхра, отец написал ему письмо, в котором тепло отозвался о покойном и высказал глубокие соболезнования. Сын легата оценил письмо и сдержанность родственника — прислал краткий ответ со словами благодарности. А вскоре к нам в дом явился посыльный и от имени сенатора Гая Пульхра пригласил на гладиаторские игры, организованные в честь покойного легата и наступивших Паренталий — праздника поминовения усопших. Отца не было — он, как обычно, отправился в канцелярию к Юнию, поэтому раб обратился ко мне.
— Вас встретят у амфитеатра Августа на Марсовом поле и препроводят к почетному месту, где ваши места будут рядом с достопочтенным сенатором Пульхром! — возгласил раб после поклона. — Как почетным гостям вам покажут гладиаторов до выхода их на арену, вы сможете оценить силу бойцов, их вооружение и сделать ставки. Сенатор Пульхр готов оказать вам и другие знаки внимания!..
Появление вестника вызвало всеобщий интерес в доме: за моей спиной собрались не только Аким с женщинами, но и рабы. Я напустил на лицо строгость и велел передать сенатору, что мы принимаем приглашение и обязательно посетим представление. Посыльный поклонился и уже собирался удалиться, как его остановил Ахилл.
— Неужели сенатор Пульхр не подумал, что префекта могут сопровождать? — спросил он ехидно. — Что у тебя позвякивает в сумке?
— Тессеры! — смутился раб. — Прости меня! Я совсем забыл…
— Странно видеть такую короткую память у вестника! Ведь тессеры можно продать, не так ли?
Раб не ответил, виновато опустив голову. В ситуацию вмешался Аким: без долгих слов он запустил руку в сумку посыльного и отсчитал десяток бронзовых жетонов с номерами — тессер, служивших пропуском на игры. Велев посыльному удалиться, он раздал тессеры женщинам и рабам.
— Ты, наверное, не знаешь, что рабам запрещено посещать зрелища? — сказал Ахилл, неуверенно вертя тессеру в пальцах.
— Где на тебе на писано, что ты раб? — ответил Аким, с деланным вниманием осматривая Ахилла. — Не вижу!
Все рассмеялись и стали весело обсуждать предстоящее зрелище. Вездесущий Афинодор куда-то сбегал и принес весть: на играх будет выступать сам Прокул. Мне это имя ничего не говорило, но рабы, услыхав его, зацокали языками. Нам поведали, что Прокул — лучший гладиатор Рима, на счету его тридцать восемь побед. Прокул был свободнорожденным римским гражданином и выходил на арену только за деньги.
— Пять тысяч денариев за выступление! — утверждал Афинодор, но Ахилл покачал головой:
— Максимум три!
— Пять! — горячился Афинодор. — Три было в прошлом году! С каждым разом он поднимает цену — хочет накопить к старости. Ему ведь уже тридцать пять!
Ахилл не стал спорить, и рабы долго обсуждали богатство Прокула, у которого имелся собственный дом за городом, рабы и участок земли. По словам рабов, выходило, что дом гладиатору подарила любовница — почтенная римская матрона, тратившая на возлюбленного деньги мужа. Узнав об этом, муж развелся с неверной, и Прокул бросил обедневшую женщину. С той поры благосклонности гладиатора добиваются десятки римлянок, соперничающие, кто одарит его щедрее.
— Он красив? — спросил Аким, с любопытством прислушивавшийся к разговору.
— Что ты! — возразил Афинодор. — Обезьяна, привезенная из Африки, и та краше.
— Почему его любят женщины?
— Он лучший гладиатор Рима! Самый знаменитый. Не знаешь разве, женщины летят на запах славы, как бабочка к цветку?..
Аким улыбнулся, и мы пошли обедать. Вечером я рассказал отцу о приглашении Гая Пульхра, он встретил весть с радостью. В назначенный день мы отправились на Марсово поле: отец, я и Аким. Рабы и сирийки отправились ранее — чтобы не мозолить глаза префекту и занять места получше. У входа в амфитеатр нас встретил уже знакомый вестник и тут же перепоручил другому рабу.
— Сенатор Пульх еще не прибыл, — сказал тот, кланяясь. — Мне велено, если будет согласие префекта, показать вам гладиаторов, а также то, что сами захотите.
Отец пожелал взглянуть на бойцов, и нас отвели в эргастул, где за решеткой из толстых железных прутьев сидели, лежали или ходили из угла в угол гладиаторы. Лица их были отрешенны, на нас они не обратили внимания. Отец долго рассматривал гладиаторов. Он ничего не сказал, но по выражению лица стало ясно, что бойцы отцу не понравились. Аким чувств таить не стал.
— Почему они такие жирные? — спросил. — Им же тяжко в доспехах!
— Гладиаторов специально кормят ячменем, чтоб полнели, — пояснил отец. — Многим это спасает жизнь. Раны на теле заживут, если меч не достанет кишок или не пробьет грудь. Чем больше жира и мяса на теле, тем труднее добраться до внутренностей.
Присмотревшись, я различил на телах нескольких гладиаторов шрамы, подтверждавшие правоту отца.
— Толстому сражаться плохо! — не отставал Аким. — Он неповоротлив, и может пропустить такой удар, что и жир не спасет!
— Ты прав! — согласился отец. — Но в Риме судят иначе. Когда я обучал гладиаторов в Галлии, то не позволял им полнеть. Спасать бойца должно воинское искусство, а не жир.
Аким с любопытством взглянул на отца, но промолчал. Я облегченно вздохнул. Мне не хотелось расспросов о прошлом ланисты Луция Корнелия Назона. Из эргастула мы направились в кладовую оружия, где Аким долго рассматривал мечи, трезубцы и шлемы. Внезапно он подошел к стене и снял с крюка боевой цеп — железный шар на цепи, прикованной к рукояти.
— Гладиаторы сражаются этим? — удивился Аким.
— Нет, господин! — подскочил служитель. — Самниты, фракийцы, африканцы и галлы не используют цеп. Ранее им бились конные андабаты, но таких схваток давно не проводят. Но мы содержим оружие в исправности — вдруг зрители потребуют андабантов…
Аким раскрутил цеп над головой, удовлетворенно кивнул и повесил на крюк. Затем снял другой. К рукояти этого были прикреплены цепями три шара, унизанные острыми шипами. Аким осмотрел их, покачал головой и повесил обратно.
Сопровождаемые тем же рабом, мы поднялись к почетным местам, там отца поприветствовал Гай Пульхр, плотный мужчина лет сорока, очень похожий (как мне потом сказали) на покойного отца. Устроителя игр окружал сонм важных мужчин в тогах с широкой пурпурной полосой — по всему было видать, что сын покойного решил использовать игры для упрочения своего положения. Как я узнал позже, была еще причина присутствия такого большого числа сенаторов — при Тиберии гладиаторские игры в Риме проводились редко. Император не любил скопления большого числа людей, усматривая в них возможность возмущения против власти. Хотя сам Тиберий давно жил на Капри, римский эдил не рисковал восставать против мнения правителя. Разрешения на игры выдавались по уважительному поводу и только достойным людям.
Мы с отцом и Акимом заняли места с краю, рядом с обычными зрителями. Многие из них держали в руках глиняные таблички с именами бойцов; по проходам сновали люди, принимавшие ставки на гладиаторов. Мы ставить отказались и приготовились к зрелищу.
Сенатор Пульхр подал знак распорядителю игр, и на арену вышли гладиаторы. Их было восемнадцать — девять пар. Это было мало даже для Лугдунума. Либо легат Пульхр оставил небольшое наследство, либо его наследник оказался прижимист.
Встреченные криками и рукоплесканиями, гладиаторы обходили арену, давая зрителям возможность рассмотреть себя и определиться со ставками. Зрители выкрикивали имена своих любимцев, подбадривая их и призывая сражаться до конца. Чаще всех звучало: «Прокул! Прокул!..»
— Который из них Прокул? — спросил Аким, мучимый, как и я, любопытством.
— Вот он, впереди! — откликнулся сидевший впереди немолодой римлянин ветхом плаще. — Тот, что на обезьяну похож!
Присмотревшись, я увидел, что сосед прав: Прокул и в самом деле походил на обезьяну. Тяжелая, выдвинутая вперед, нижняя челюсть, огромные надбровные дуги, низкий лоб… Впечатление усиливали бочкообразные ноги и длинные — до колен, руки.
— Прокул! — заорал кто-то сверху. — Сними одежду! Покажи силу!
Гладиатор ухмыльнулся и на ходу стащил тунику. Амфитеатр взвыл. Тело Прокула состояло из сплошных бугров мышц. Они сходились крестом на груди гладиатора — там, где линия рук встречалось с буграми грудных мышц. Прокул раскинул руки и сжал кулаки — бугры волнами побежали от запястий к груди. Зрители рукоплескали.
— Говорят, что он может свернуть шею быку! — восхищенно сказал римлянин в ветхом плаще. — Силен! Остальные гладиаторы — дохлые!
— Не похоже! — возразил Аким. — Вон, какие!
— Увидишь! — хмыкнул римлянин. — Пожадничал Пульхр. Мало того, что самых худших нанял, так еще половину тессер вместо того, чтоб по трибам раздать, сбыл перекупщикам. Те продавали по два сестерция!
— Зачем покупал? — поинтересовался Аким.
— Из-за Прокула, — вздохнул римлянин. — Его бои — наслаждение! Я помню их все…
Гладиаторы обошли арену и остановились перед почетными местами. Вскинув правые руки, они поприветствовали Пульхра и удалились. На арене осталась первая пара: ретиарий с трезубцем и секутор с маленьким щитом и коротким мечом. Оба гладиатора были крупные и неповоротливые. Они медленно ходили кругами, присматриваясь к врагу, не делая ни малейшей попытки напасть. Терпение зрителей лопнуло скоро.
— Трусы! — закричали со всех сторон. — Жечь их! В бичи!
Ворота на арену отворились, и в сопровождении вооруженных стражников вышел огромный раб с бичом. Он взмахнул рукой — кровавый рубец пересек наискось широкую спину ретиария, секутор попытался увернуться, но кончик бича достал его, располосовав кожу плеча до мяса. Секутор вскрикнул и уронил щит. Воспользовавшись замешательством противника, ретиарий метнулся к нему и ударил трезубцем в бок. Секутор пошатнулся, но устоял, схватив левой рукой древко трезубца. Ретиарий попытался вытащить его, но стальные лезвия застряли в ребрах секутора. Вместо того, чтобы оставить оружие в ране, отбежать и ждать, пока противник истечет кровью, ретиарий стал дергать за древко. Секутор изловчился и махнул мечом. Кончик его достал шею противника и рассек жилу — кровь брызнула струей. Колени ретиария подогнулись, и он, не выпуская древко из рук, подался вперед, навалившись всей тяжестью на трезубец. Секутор упал на спину, и в наступившей тишине весь амфитеатр услышал треск разрываемой лезвиями плоти. Истратив остаток сил, ретиарий свалился на противника и, подергав ногами, застыл. Зрители взорвались овацией.
— Разве этой бой?! — повернулся к нам римлянин. — Где приемы, которых их учат в школах, где обманные удары и неожиданные выпады? Зарезали друг друга как пьяные волопасы — на радость оружейнику.
— В чем его радость? — вновь поинтересовался Аким.
— Ты, вижу, чужеземец и не знаешь наших обычаев, — усмехнулся римлянин. — Клинки гладиаторов, обоюдно убивших врага на арене, приносят удачу. Оружейник наделает из него ножиков и продаст по десять денариев. Богачи расхватают мигом, а бедный даже не увидит, хоть ему удача куда нужнее…
Вздохнув, наш добровольный помощник обернулся к арене. Мертвецов утащили, кровь присыпали песком, и на арену вышла следующая пара. В Лугдунуме мне приходилось бывать на играх, где отец выступал организатором, я неплохо разбирался в гладиаторах, поэтому мог сказать: наш сосед снизу излишне придирался. Если не считать первой пары (позже выяснилось, что это были новички), другие гладиаторы сражались умело: делали опасные выпады, ловко отбивали удары, храбро стояли, когда враг метил им в лицо. Амфитеатр рукоплескал и охотно даровал жизнь побежденным. Только один гладиатор в вооружении самнита погиб, еще одного, мурмиллона, унесли истекающего кровью; остальные участники игр отделались легкими ранами. Это вызвало очередной прилив желчи у римлянина в ветхом плаще.
— Притворяются! — горячился он. — Специально царапают друг друга, чтоб мы поверили, а сами сговариваются, кто победит, а кто подастся. Рабы! Вот выйдет Прокул — с ним не сговоришься! Убивает всех!
— А если зрители пощадят противника? — удивился Аким.
— Прокул не дает возможности просить пощады, — усмехнулся сосед снизу. — Что ему до рабов? Он свободно рожденный!
— Кто отважился биться с ним?
— В этот раз какой-то Фрак из Лигурии. Говорят, могуч как дуб и одержал восемь побед. Лигурия… — римлянин скривился. — Что там есть, кроме гор и моря?.. Август объявил их провинцией, но дикари остались дикарями. Говорят, лигурийца учили в Капуе, в лучшей школе, но дикарей обучить трудно…
— Фрак тоже свободно рожденный?
— Сын рабыни, фракийки, отсюда и имя — Фракиец слишком длинно… Говорят, она родила его от хозяина, патриция. Мальчик прислуживал на вилле, а к патрицию как-то заехал ланиста из Капуи. Увидел Фрака и сразу прельстился его ростом и силой. Предложил хозяину пять тысяч сестерциев, тот и продал.
— Падаль!
— Кто? — удивился римлянин.
— Хозяин! Продал собственного сына!
— Сын рабыни считается рабом, — пожал плечами наш собеседник. — Хозяин вправе делать с ним, что пожелает. Сколько таких мальчиков в римских домах, знаешь? Если всех признавать сыновьями… Настоящий римлянин должен родиться от свободных людей! Ланиста не прогадал — его пять тысяч возвратились к нему втройне. Восемь побед! Но все равно это не соперник Прокулу. Лигуриец будет биться отчаянно — за этот бой ему обещали свободу. Только он ее не получит…
Наконец объявили выход последней пары, амфитеатр встал, приветствуя любимца. Прокул был в вооружении фракийца: в шлеме с широкими полями, закрывавшими шею, поножах. В левой руке гладиатор держал маленький квадратный щит, в правой — изогнутый меч. Его противник, Фрак, был обряжен самнитом — его тяжелое защитное вооружение и широкий меч выглядели устрашающе. К тому же лигуриец был на голову выше противника.
— Задаст он Прокулу! — сказал Аким.
— Посмотрим! — хмыкнул сосед.
Видимо не только Акима впечатлил соперник Прокула: справа и слева раздались крики зрителей предлагавших ставки на Фрака. По рядам побежали сборщики. Я бросил взгляд на отца. Все представление он просидел спокойно, не хваля, но и не ругая бойцов. Мне очень хотелось узнать его мнение о гладиаторах, но я не решился спросить напрямую.
— Поставить на Фрака?
— Нет, — спокойно ответил отец. — Победит Прокул.
— Почему?
— Смотри!
Я обратил взор к арене. Противники уже закончили приветствие и сейчас стояли с оружием наготове. По сигналу распорядителя бой начался. Фрак молниеносно нанес удар — Прокул едва успел закрыться. Фрак ударил снова… Трибуны завопили: Фрак бил попеременно мечом и щитом, руки его мелькали так быстро, что движение их было невозможно уследить — казалось, что железный вихрь, неотвратимо несущий смерть, обрушился на Прокула. Это была уже помянутая мной «мельница» — страшный прием, изматывающий соперника, подавляющий его волю и разум. Фрак владел ею в совершенстве — никогда прежде мне не доводилось видеть такого отточенного мастерства. Не прав был наш добровольный советчик — лигурийца в Капуе обучили отменно. Звенели, сталкиваясь, мечи, бухали, встречаясь щиты, Прокул отступал под градом ударов, казалось, вот-вот — и он рухнет на арену. Так казалось не только мне; со всех сторон неслись крики — зрители спешили сделать ставку на победителя…
Внезапно амфитеатр вздохнул — Фрак лежал на песке. Прокул стоял над ним, спокойно поигрывая мечом. Лигуриец откатился в сторону и вскочил на ноги — Прокул и не думал его добивать. К моему удивлению Фрак был невредим — он просто упал, запнувшись о подставленную ногу.
— Видел? — улыбнулся мне отец. — Теперь ясно?
— Почему Прокул не убил? — удивился Аким.
— Потому что рано! — хмыкнул сосед снизу. — Прокул знает, чего мы хотим. Быстро убить неинтересно…
Фрак оказался опытным гладиатором и сделал вывод — «мельницы» больше не было. Теперь он наносил удары реже, но так же сильно и молниеносно. Прокул спокойно отбивал. Его меч свистел в опасной близости от тела соперника, и даже оставлял на нем царапины — не более. Сам Прокул был пока невредим, хотя на нем не было панциря и даже маники — железного рукава, защищающего руку гладиатора от запястья до плеча. Внезапно я понял: Прокул просто-напросто играет с соперником; он может убить его в любой момент. Прокулу нравится сам бой: он упоен своей силой, умением и восторженными криками зрителей. Я подумал, как страшно встретить на пути человека, который видит в тебе всего лишь игрушку для удовлетворения своих желаний, и почувствовал, как похолодело в груди. Невольно я глянул на отца: он смотрел на арену, не отрываясь. Почувствовав мой взгляд, он обернулся и ободряюще улыбнулся. Я успокоился…
Прокул еще раз поймал Фрака на выпаде — лигуриец упал на колени, но снова вскочил, только в этот раз медленнее, чем в первый раз. Тяжелые доспехи сделали свое дело — Фрак уставал.
— Выдыхается! — деловито заметил римлянин в ветхом плаще. — Недолго осталось.
— Почему он не просит пощады? — спросил Аким.
— Кто пощадит невредимого гладиатора?! — засмеялся римлянин. — Пощады просит тяжело раненый или потерявший оружие. Но Прокул не даст ему такой возможности: он убивает!
Теперь весь амфитеатр понимал: смерть лигурийца близка. Фрак все чаще промахивался, слишком медленно заслонялся щитом, и уже не прыгал к противнику, а шагал — так вол обреченно идет к мяснику с молотом. Зато Прокул, как ни в чем не бывало, стремительно порхал вокруг лигурийца, ловко нанося удары и отбивая ответные. В его движениях была грация, как у большой кошки — теперь я понял, почему Прокула любят зрители.
Но скоро и Прокул стал двигаться медленней — в скорости не было нужды. Бой переставал быть захватывающим: на песке арены топтались победитель и обреченный, и зрители стали свистеть.
— Кончай его! — выкрикнули сверху, и крик этот подхватили.
Прокул отпрыгнул в сторону и повернулся лицом к амфитеатру, словно спрашивая: верно ли он расслышал? Зрители еще более громкими криками подтвердили, что верно, а сенатор Пульхр махнул красным платком. Он заплатил за гладиаторов и мог позволить себе решать, когда им жить, а когда умереть. Прокул повернулся к противнику и выставил перед собой сложенные вместе щит и меч. Лигуриец ждал его, заслоняясь щитом и отведя назад правую руку с мечом. Когда Прокул приблизился, Фрак внезапно упал на колени и молниеносно ударил снизу — под щит противника. Амфитеатр ахнул — никто не ждал такого от уставшего гладиатора. Но меч лигурийца встретил пустоту: Прокул уклонился и сделал еле заметное движение правой рукой. Фрак свалился набок, из-под его шлема хлынула на песок черная струя крови.
Амфитеатр вскочил на ноги. Овации и крики сотрясали воздух. Прокул стащил с головы шлем и улыбался, показывая широкие, желтые зубы. Выскочившие на арену рабы унесли убитого, следом показался распорядитель игр. Перемолвившись с Прокулом, он поднял руки, требуя тишины. Не сразу, но зрители умолкли.
— Гладиатор Прокул, только что одержавший блистательную победу, тридцать девятую по счету, говорит, что он совсем не устал и готов сразиться снова…
Амфитеатр зааплодировал, но распорядитель вновь жестом успокоил зрителей.
— Прокул готов биться с любым, кто того пожелает! Противник может выбрать любое вооружение — какое ему захочется.
— Почему он убил Фрака? — пробормотал рядом со мной Аким. — Мог просто ранить. Лигурийца пощадили бы — он бился хорошо. Человек хотел воли…
Никто ему не ответил, все внимали распорядителю.
— Отважившийся сразиться с Прокулом получит от него две тысячи сестерциев. Это пятьсот полновесных серебряных денариев! Целых пятьсот! Кто хочет получить их?
Зрители в амфитеатре переглядывались и шарили глазами по рядам, желая увидеть смельчака. Но такового не находилось.
— Эй! Прокул! — вдруг выкрикнул римлянин в ветхом плаще. — Сам берешь за выступление пять тысяч, а сопернику предлагаешь пятьсот?
— Тебе дам тысячу! — немедленно отозвался Прокул. — Спускайся сюда! Бери меч и покажи свое умение!
Сосед наш стушевался, зрители стали смеяться.
— Мне тоже дашь тысячу?
Я вздрогнул: Аким, поднявшись во весь рост, смотрел на арену. Амфитеатр притих. Прокул внимательным взглядом окинул нашего гостя.
— Дам! — подтвердил он. — Спускайся!
Аким двинулся вниз по ступеням, зрители встали, чтобы лучше рассмотреть смельчака. Многие забирались с ногами на сиденья, особенно женщины. Я растерялся. Внезапно отец вскочил и поспешил вслед Акиму. Я устремился следом.
Мы нагнали его только во внутренних помещениях амфитеатра.
— Это безумие! — заговорил отец, хватая Акима за рукав туники. — Ты отлично владеешь мечом, не спорю, но Прокула не победить — я видел, как он сражается! Он бог! Откажись! Я прощаю тебе долг в триста сестерциев. Я никогда не требовал их возврата и не собирался требовать…
— Я привык возвращать долги, — улыбнулся Аким.
— Если тебя убьют, мне не заплатят. Ты погибнешь напрасно.
— Не погибну.
— Так уверен?
— Более чем! — Аким внезапно подмигнул мне. — Ваш Прокул действительно хорош, и в обычной схватке мне не выстоять. Но он совершил две ошибки.
— Какие?
— Первая: он, как и вы, думает, что непобедим. Поэтому бросил вызов амфитеатру, не подумав, что среди зрителей может оказаться человек, который был на настоящей войне. Вторая ошибка проистекает из первой: он позволил сопернику выбрать оружие…
К нам подбежал запыхавшийся распорядитель и повел Акима к оружейнику. К моему удивлению Аким облачился в легкий кожаный нагрудник, наголенники и простой шлем, оставлявший открытым лицо и шею. Щит он выбрал маленький, круглый, который использовали секуторы. Отец, видя это, только качал головой — похоже, он полностью уверился в безумии гостя. Выражение лица префекта изменилось, когда Аким снял с крюка боевой цеп — тот, к которому примерялся накануне.
— Возьми другой! — отец указал на цеп с шипами.
— Тем я убью Прокула! — возразил Аким. — Не стоит чужеземцу лишать жизни римского гражданина, к тому же любимца толпы…
Нас оттеснили: пришел нотариус со свидетелями. По существующему обычаю Аким, подняв правую руку, дал клятву, что согласен с тем, что его можно «жечь, вязать и убивать железом» в ходе предстоящей схватки. Нотариус составил документ, свидетели подписали. Формальности были закончены.
Перед выходом на арену отец вновь схватил Акима за рукав.
— Нападай сразу! — заговорил он громким шепотом. — Прокул — опытный боец, промахнешься дважды — приноровится!
— Не успеет! — улыбнулся Аким и пошел вверх по ступеням.
Мы с отцом поспешили к своим местам. Появление самозваного гладиатора трибуны встретили рукоплесканиями — римляне любят отвагу. Римляне также любят бесплатные зрелища, а предстоящий бой был приятным дополнением к закончившемуся представлению. К тому же сражались не рабы, а свободнорожденные — редкое и потому особо ценимое зрелище. По рядам побежали сборщики ставок, но их никто не подзывал — аплодируя отважному, зрители, тем не менее, были уверены в его смерти.
Аким подошел к почетным местам и вскинул руку, приветствуя организатора игр.
— Кто ты и как зовут тебя? — с любопытством спросил Пульхр.
— Я Аким, гость твоего родственника, сенатора Луция Корнелия Назона Руфа. Приехал из далекой страны, что лежит к северу от моря, называемого греками Понтом Эвксинским.
— Ты, в самом деле, надеешься победить Прокула в таком легком вооружении?
— С божьей помощью.
— Тогда пусть боги будут милостивы к тебе!
Пульхр дал сигнал распорядителю, тот взмахнул рукой, и музыканты поднесли к губам медные трубы. Пронзительная, торжественная музыка перекрыла шум амфитеатра. Свободных людей, добровольно идущих на смерть, встречали торжественно. Тем временем сенатор Пульх подозвал нас.
— Это действительно твой гость? — спросил отца.
Отец подтвердил.
— Он может победить Прокула?
— Да.
— Пусть сделает это! — засмеялся Пульхр. — Он сбережет мне пять тысяч денариев! Вернее, четыре, — поправился сенатор. — Его тысячу я конечно выплачу…
Музыка умолкла, и распорядитель дал знак к началу боя…
Позже я спрашивал Акима, как называется прием, который он применил на арене. Аким произнес четыре слова на родном языке и пытался объяснить мне их суть, но я так ничего и не понял. Привожу эти слова целиком, как запомнил: «protiv loma net priema». На арене это выглядело так: вращая цепом над головой, Аким стремительно побежал к Прокулу и ударил. Все ахнули: щит Прокула отлетел далеко в сторону, а его левая рука безжизненно повисла вдоль тела. Любимец публики в одно мгновение оказался без защиты. Без нее он не мог подойти к врагу: шар цепа неминуемо бил в незакрытое тело.
Прокул отпрянул и внезапно метнул меч в противника. Он метил в горло и, несомненно, попал. Однако меч почему-то отскочил и упал к ногам Акима. Тот наступил на него и остался стоять, все еще вращая шар над головой. Далее произошло невероятное: Прокул, поколебавшись, опустился на колени и поднял вверх здоровую правую руку. На трибунах установилась тишина. Зрители не могли поверить своим глазам: Прокул, непобедимый Прокул просил пощады! Спустя несколько мгновений после начала боя!
Тишина длилось нескончаемо долго. Внезапно мой ворчливый сосед снизу встал и протянул руку с оттопыренным вверх большим пальцем. Немедленно вскочили его соседи — словно волна побежала по амфитеатру: зрители вставали, требуя сохранить жизнь своему любимцу. Скоро стояли все или почти все, к жестам добавился ропот, а потом и общий крик.
Я оглянулся на Пульхра. Сенатор сидел, мрачно поглядывая по сторонам. Жизнь и смерть гладиатора были в его руках, и выбор Пульхра не совпадал желанием толпы. Зрители продолжали кричать, Пульх колебался. К нему наклонился один сидевших рядом сенаторов и что-то шепнул на ухо. Пульх кивнул и нехотя вытянул руку — большим пальцем вверх. Амфитеатр разразился радостными воплями, а мы с отцом заспешили вниз к Акиму…
* * *
События последовавшего вечера уцелели в моей памяти обрывками — слишком много волнующего случилось в тот день. При выходе из амфитеатра нас встретила толпа: одни хотели рассмотреть поближе победителя Прокула, другие (их было большинство) осыпали его проклятиями. Некоторые держали в руках камни. К счастью, распорядитель оказался опытным человеком и выделил нам в сопровождение стражу из солдат городской когорты; увидев их щиты и пилумы, даже самые отчаянные забияки притихли. Дома нас ждал роскошный пир; я долго не мог понять, как успел Ахилл с рабами быстро приготовить замечательные блюда — ведь они были в амфитеатре. Позже Афинодор признался, что Ахилл отправил его в харчевню, где за щедрую плату хозяин мгновенно опустошил горшки и сковородки и снарядил пахучей поклажей всех рабов. Пока мы проталкивались через толпу, рабы успели все доставить и накрыть на стол.
Героем этого вечера был, конечно, Аким. Сирийки прямо-таки висли на нем, требуя поцелуев, и он щедро дарил их. Я воочию убедился в правоте высказывания Афинодора о женщинах и славе. Удивительно, но Аким совсем не чувствовал себя героем: смущался, как будто совершил нечто предосудительное, не захотел делиться впечатлениями от боя, о чем его умоляли женщины.
— Как ты решился? — спросил отец, когда сирийки обиженно умолкли.
— Не знаю, — вздохнул Аким. — Это был порыв.
— Тебя соблазнили деньги?
— Нет. Долг я вернул бы и так. Мне не понравилось, что зарезали Фрака. Его можно было не убивать…
— Поэтому ты только ранил Прокула?
— Да.
— А если б Пульхр приговорил его к смерти?
— Ты задаешь трудный вопрос, сенатор! — снова вздохнул Аким. — Отвечу так: я не хотел бы этого…
Пир был в разгаре, когда появившийся в триклинии Ахилл сказал, что Акима просят спуститься в перистиль.
— Кто? — удивился отец.
— Какая-то важная особа. Богатые носилки, которые доставили восемь рабов.
— Женщина? — ревниво вскочила Лейла.
— Со мной говорила женщина, — подтвердил Ахилл.
— Вот она, слава! — улыбнулся отец.
— Да я ей!.. — Лейла схватила со стола кубок.
— Успокойся, девочка! — Аким обнял сирийку и нежно чмокнул в губы. — Я только выпровожу эту старуху и вернусь.
— Вдруг она не старуха… — обиженно протянула Лейла, но Аким уже шел к двери. Я не утерпел и побежал следом. Мой порыв заразил остальных — позади послышался шум отодвигаемых селл…
В тот вечер я выпил много вина и был бесцеремонен. Отец, женщины и рабы остались на ступеньках, я же оказался в двух шагах от Акима. Зато они только видели, а я и слышал.
Цветной полог носилок отдернулся и наружу вышел… Прокул! Левая рука его была в лубках и подвешена к шее на широком куске материи. В правой руке гладиатор держал тяжелый кожаный мешок. Наверное, Аким изумился не менее меня, потому что Прокул, глянув на него, усмехнулся.
— Принес тебе деньги, которые обещал, — сказал он, вручая мешок Акиму. — Ровно тысяча денариев.
— Мог передать с посыльным, — сказал Аким.
— Мог, — согласился Прокул, — но я решил сам. Хотел поблагодарить тебя.
— За что?
— Когда стоял на коленях в амфитеатре, то решил: напишу проклятие на табличке и положу ее в гроб самого плохого человека, которого будут хоронить в ближайшие дни. Покойник доставит проклятие в Гадес — и тебе не жить. Но оружейник сказал мне, что ты отказался брать цеп с шипами, чтоб не убить меня. Благодарю.
Аким молча кивнул.
— Прорицательница в Кумах сказала мне, что я одержу тридцать девять побед на арене, а сороковой противник одолеет меня, — продолжил Прокул. — Тогда я был совсем молод и цифра «тридцать девять» казалась мне невероятной — я мечтал о десяти, максимум двадцати победах. Когда же до тридцати девяти осталось немного, я не захотел останавливаться. Мне нравилось побеждать, и я решил обмануть судьбу. Поэтому вызвал соперника в амфитеатре. Трудно было ожидать, что среди зрителей найдется равный мне по силе…
— Вдруг не нашлось бы смелого?
— Кто-нибудь да не утерпел! — ухмыльнулся Прокул. — Люди жадны до денег. Не откликнулись бы на тысячу, предложил две… Но боги покарали меня за дерзость…
Аим промолчал.
— Хочу спросить тебя… — нерешительно сказал Прокул после паузы. — Мой меч… Я видел, он летел тебе прямо в шею…
— Подними камушек с дорожки!
Прокул удивленно двинул бровями, но повиновался.
— Теперь брось в меня! Ну же!
Я стоял не за самой спиной Акима, а чуть в стороне, поэтому хорошо разглядел, что случилось потом. Брошенный Прокулом камешек словно наткнулся на невидимую преграду перед лицом Акима и бессильно упал на дорожку.
— Я понял! — охрипшим голосом сказал Прокул, склоняясь. — Ты бог! Прости мне дерзость. Скажи свое имя, и я принесу тебе жертву! Самую богатую!
— Достаточно, если поклянешься не убивать!
— Никогда более! Я сам решил оставить ремесло гладиатора. Женюсь на вдове сенатора, — Прокул кивнул на носилки. — Она давно умоляла меня, даже сюда не пустила одного — думала: я иду к женщине… Ее родные не одобрят этот брак, поэтому уедем на Сицилию — там у Лукреции большое поместье. Теперь я спокоен: на арене не было равных мне соперников, и ты подтвердил это. Быть побежденным богом — не позор. Боги ревнивы и мстят людям, когда они возвышаются… Прощай! — Прокул еще раз поклонился и пошел к носилкам.
Аким пожал плечами, и все вернулись в триклиний. Здесь Аким сразу вытряхнул на стол половину тяжелого мешка.
— Возвращаю долг! — с этими словами он придвинул серебро к отцу.
Тот запустил руку в груду монет, зачерпнул горсть и стал рассматривать, быстро двигая денарии на ладони. Я вдруг понял, что ищет отец. И смутился.
— Я заплатил за тебя триста сестерциев, — сказал отец, ссыпая денарии обратно. — Это семьдесят пять денариев. Здесь втрое больше.
— Ты купил мне одежду, приютил в своем доме, кормил, поил…
— Все равно не больше ста, — возразил отец и ловкими движениями пальцев, как то умеют делать только монетарии, отсчитал деньги. — Остальные забери.
— Плохая примета! — не согласился Аким. — Эти поделим! Половина женщинам на приданое, другая — тем, кто так ревностно служил нам, — он оглянулся на Ахилла.
— Ты и без того сделал меня богатым, господин.
— Как? — удивился Аким.
— В амфитеатре, когда ты вышел на арену, против тебя были ставки двадцать к одному. Я поставил все, что у меня было — тысяча сто двадцать сестерциев.
— Пять тысяч шестьсот денариев выигрыша! — охнул отец. — Ты уверен, что их отдадут?
— Я предупредил, что ставлю от имени Юния. Мало кто в Риме рискнет связываться с ним. Половину мне уже отдали, вторую принесут завтра.
— Почему ты решил, что победителем буду я? — сощурился Аким. — Никто не верил! Даже сенатор…
— Ты любимец богов. А может и сам бог.
— Второй раз слышу это! — развел руками Аким. — Сначала Прокул… Вы сговорились?
— Ты несешь радость и счастье добрым людям и сурово наказываешь злых. Ты сломал руку Прокулу, убившего гладиатора из тщеславия, а он, вместо того, чтоб озлобиться и нанять убийц, сам принес тебе деньги и поклонился. Ты устроил судьбу бедных женщин и за несколько мгновений даровал свободу мне и брату.
— Кто твой брат?
— Афинодор… Родители продали нас маленькими, потому что в доме не было еды. Нас долго учили в школе, потому что ученый раб стоит много дороже. Юний приобрел нас для канцелярии императора, и с тех пор мы приберегали каждый сестерций для выкупа. Государственному рабу не нужно ждать милости хозяина, достаточно заплатить. Нам удалось скопить две тысячи сестерциев, а нужно четыре. Теперь мы свободны и богаты. Завтра я внесу деньги в казну и пойду присматривать себе дом. Через его порог я перенесу жену, и у меня будет семья.
— Невеста есть?
— Сидит напротив тебя. Это Мариам.
Я ошарашено посмотрел на свою подружку. Покраснев, она спрятала лицо в ладонях. Мне стало понятно, почему в последние дни Мариам отказывалась ночевать в моей комнате, ссылаясь на обычное женское недомогание. Пока мы бродили по Риму в сопровождении Афинодора, его брат не терял времени. Ревность больно сдавила мне грудь.
— Тогда все денарии женщинам! — заключил Аким и подвинул серебро на другой край стола.
К моему удивлению сирийки никак не откликнулись. Все смотрели на Акима и молчали.
— Не бог я! — сморщился он. — Смотрите, шрамы! Разве бога можно ранить?
— Бог может принять любой облик, — дрожащим голосом сказала Лейла.
— Тебе ли не знать мой облик! Кто расцарапал мне спину? Был бы я бог, превратил тебя в кошку — рыжую и дикую… (Лейла потупилась.) Ахилл! — повернулся Аким к рабу. — Налей вина! Или ты теперь такой важный, что мне тебе прислуживать?
Все рассмеялись, и пир продолжился. А назавтра мы покинули Рим…
4
Удивительно устроена память человека! Из огромного вороха воспоминаний, накопленного за долгие годы, она прихотливо избирает два-три и обращается к ним в минуты скорби и радости, в час покоя или тяжкого труда. Почему это происходит — ведомо только Господу, я так и не сумел понять. Смирился… Вот и сейчас, будто бы и не было этих тридцати шести лет, я воочию вижу отца, стоящего перед Сеяном. Уже рассвело, солнечный свет падает сквозь большое окно кабинета, отчетливо обрисовывая каждое движение мускулов на лице отца, каждую складку на его тоге. Отец спокоен и сосредоточен. Гладкая кожа туго обтягивает его череп — так что видна каждая косточка. Широкий лоб, глубоко посаженные, светло-серые, будто выгоревшие на солнце глаза, узкие губы, стройное, поджарое тело, сильные руки… Ладони… У моего отца они были огромные — руки солдата или землекопа. В детстве я желал иметь такие же. Но я унаследовал облик матери, и ладони у меня, несмотря на все труды, остались маленькими. В юности женщины часто говорили, что у меня красивые руки. Некоторые даже целовали их. Грех…
— Половина наших сенаторов мечтает о таком поручении, — говорит Сеян. — Но я избрал тебя, Луций Корнелий Назон Руф… Ты умен, опытен, находчив и честен. Ты отыщешь в злоумышленников, и это будет заговор, а не кучка жалких людишек, ни на что не способных, но у которых пытками вырвали ложное признание…
Сеян сидит в стороне от столба света, весь он — в тени, выражения лица не видно. Я понимаю, что сделано это умышленно, Слышен только голос — твердый и уверенный человека, привыкшего повелевать. Немного усталый… В кабинете, кроме меня с отцом и Сеяна, только Юний.
— Почему ты не поручишь розыск прокуратору? — спрашивает отец.
— Стоит ему намекнуть, как он вырежет пол Иудеи… — мне по-прежнему не видно лица консула, но я догадываюсь, что при этих словах он усмехается. — Понтий Пилат — храбрый солдат и исполнительный магистрат, но слишком любит силу. Он не заменим, когда нужно усмирить восставших, но если велеть ему открыть заговор, он истребит тысячи — и совсем не тех, кого нужно. Канцелярия и без того завалена жалобами на прокуратора Иудеи…
— Ему не понравится мой приезд.
— Мне бы тоже не нравился… Понтию придется терпеть. Я дам тебе свиток, обязывающий всех жителей империи, в том числе прокуратора, под страхом жестокого наказания не чинить тебе препятствия и оказывать всяческое содействие. Я потому избрал тебя, что уверен: ты не станешь злоупотреблять полномочиями. Это надутые индюки из сената, получив такой пергамент, стали бы потрясать им, вспоминая, от кого из богов-олимпийцев они ведут родословную, — я понимаю, что Сеян снова усмехается, и вспоминаю, что он происходит из незнатного всаднического рода. Я догадываюсь, что выбор, павший на отца, не случаен — консул не доверяет знати. — Начали они бы не с розыска, а с истребления личных врагов. Я прошу тебя помнить, что ты должен искать заговорщиков, а не воевать с прокуратором. У меня нет времени читать ваши доносы друг на друга. Постарайся действовать так, чтобы Понтий не стал врагом. В том, что вы подружитесь, я сомневаюсь, — слышно, как Сеян усмехается в третий раз, — я не знаю человека, который бы сумел встать близко к Пилату и долго на том месте удержался. В одном я уверен: сам Понтий в заговоре не замешан.
— Почему?
— Всем, что у него есть, он обязан мне. Никто в здравом умнее не станет бросать камень вверх — может упасть на голову… Видишь, я откровенен с тобой, префект!
Отец молчит.
— Что смущает тебя?
— Я не уверен в существовании заговора. Это могут быть просто фальшивомонетчики, возможна неумелая чеканка легиона, которому не хватило денег. В Римской империи многие бьют монету…
— Ты показывал ему денарии? — поворачивается Сеян к Юнию. — Все?
— Да, господин!
— Как оцениваешь работу? — теперь Сеян спрашивает отца.
— Очень хороша.
— Чем именно?
— Оттиск на всех денариях правильный и ровный. Когда молотобоец ударяет по чекану, даже у самого опытного заготовка немного смещается, к тому же удары бывают разной силы… Из сотни монет можно выбрать лишь двадцать-тридцать таких правильных.
— Полагаешь, фальшивомонетчики будут делать это?
— Не думаю. У тех, кто бил эти денарии, есть неизвестный нам инструмент.
— Простой фальшивомонетчик в состоянии изготовить такой?
— Сомневаюсь. Это очень дорого.
— Вот мы и дошли до сути! — хмыкает Сеян. — Тот, кто сделал эти денарии, богат. Если так, зачем чеканить фальшивки?
— Чтобы стать еще богаче!
— Слишком опасный путь. К тому же он не сулит прибыли. Если б денарии были из олова, слегка покрытого серебром, тогда понятно. Но фальшивки сделаны из чистого серебра! Куда проще обменять слитки на монеты…
Отец задумывается. Молчит и Сеян.
— Я хочу, чтоб мне дали сотню этих фальшивок, — первым нарушает молчание отец.
— Зачем?
— Буду показывать их на рынках. Попрошу у Пилата людей, чтоб они показывали… Пообещаю, что каждый, кто принесет мне такой денарий, получит десять взамен.
— Что это даст?
— Прежде, чем выдать награду, я потребую рассказать, как оказалась у пришедшего ко мне человека фальшивая монета.
— Он ответит, что получил ее у торговца.
— Спросим торговца… Сеть сплетают из многих нитей.
— Вижу, что я не прогадал! — Сеян встает. — Вале, префект! Ты получишь все, что требуется. Выполни это поручение, и награда последует. Преступно держать в префектах человека, который может водить легион или управлять провинцией…
В тот же день отец и Юний подписали купчую на дом, после чего Юний при свидетелях вручил отцу объемистый мешок с монетами — оговоренную плату. В мешке оказались медные сестерции, хотя в купчей шла речь о золотых ауреях. Мешок при свидетелях не открывали, так что Юний впоследствии мог смело утверждать, что рассчитался за дом сполна. Эти сестерции доставили нам много хлопот: везти их с собой было глупо, а поменять на серебро не хватало времени. Выручил все тот же Ахилл; пока рабы помогали нам в сборах, он отослал с мешком Афинодора; к нашему отъезду тот принес взамен небольшой кошель — двести тринадцать ауреев. Юний заплатил за дом в сто раз меньше его подлинной стоимости…
Императорский фиск выделил нам большую и удобную повозку, в ней хватило места не только для трех взрослых, но и наших вещей. Помимо одежды, мы запаслись оружием — я взял оба своих лука. Пока мы жили в Риме, мне только дважды удалось пострелять из нового, парфянского; к своему огорчению я понял, что понадобится немало времени, прежде чем я смогу точно попадать в цель тяжелыми, длинными стелами. Тем не менее, я взял лук — в надежде, что рано или поздно время найдется, и я научусь справляться с тугой тетивой.
Кроме повозки, консул дал нам в сопровождение десяток всадников во главе с декурионом — для охраны. Хотя Апииева дорога, которой мы двигались в Брундизий, считалась безопасной, отец отказываться не стал. Всадники расчищали путь: двое посменно скакали впереди, сгоняя на обочину встречные и попутные повозки. Поэтому мы не ехали, а мчались по ровной, мощеной каменными плитами дороге, останавливаясь лишь для смены лошадей, а также на ночлег, обед и ужин. Просто так сидеть в повозке было скучно, в первый же день я шутливо попросил Акима научить меня своему языку. К моему удивлению он охотно согласился — наверное, он тоже скучал. В наших вещах нашлась пара «цер» — покрытых воском досок для письма, весь путь до Брундизия мы царапали их стилусами. Аким пояснил, что у них для письма используют другие литеры, учить их было долго, поэтому мы использовали римские, хотя они не могли передать точное звучание новых слов. Приходилось заучивать. В те годы у меня была хорошая память, времени хватало, ко времени прибытия в порт я мог уже внятно объясняться с Акимом на его «скловенском», разумеется, без склонений и спряжений. Отец с улыбкой смотрел на нашу забаву, порою даже переспрашивал, что означает тот или иное слово. Интересовал его больше военный лексикон, к Брундизию отец знал, что означают слова «mech», «kopie», «strela», «szit», «soldat», «ataca»… Забегая вперед, скажу, что свои занятия мы продолжили на борту корабля, где было также скучно. К концу путешествия мы с Акимом говорили между собой только по-скловенски, пробуждая любопытство у окружавших нас «matrosov». Аким сказал тогда, что у меня абсолютный слух на языки и великолепная память, что я могу многого добиться, совершенствуя этот дар. Похвала была приятна, но я не собирался сидеть над свитками, подобно рабу или вольноотпущеннику, о чем и не замедлил сообщить. Настоящий римлянин считает почетной только военную службу! Аким в ответ вздохнул и взял со стола изящную серебряную чашу (мы как раз обедали).
— Видишь? — спросил он. — При желании ею можно забивать гвозди. Только зачем? Есть ведь молоток… Или Риму мало солдат?
Я принялся горячо возражать. Мы поспорили, но каждый так и остался при своем. Но это я забегаю вперед…
Вы спросите, почему мы отправились в Иудею морем, вместо того, чтобы хорошими дорогами путешествовать сушей? Во-первых, не все дороги, которые нас ждали, были хорошими. Во-вторых, хотя зима и кончилась, в горах нас ждали снежные заносы, мы могли потерять много времени понапрасну. Ранней весной плавать по морю тоже несладко, но все же вернее, чем двигаться сушей. Подозреваю, что в решении Сеяна отправить нас морем существенную роль сыграло суеверие: по пути в Рим мы едва не погибли от рук разбойников, консул не хотел терять своего посланника до завершения важной миссии. Как будто шторма милосерднее лихих людей! Темен разум, отягощенный суевериями, не там он видит беду…
Префект флота Брундизия, немолодой римский всадник с выдубленным ветром лицом, принял нас рано утром, немедленно по прибытию.
— Как хочешь путешествовать? — спросил он отца. — Быстро или с почетом?
Лицо отца изобразило недоумение, и префект пояснил:
— Могу дать тебе триеру или даже пентеру с центурией охраны на борту. Будешь плыть торжественно, но медленно: каждый вечер приставать к берегу и сходить на землю.
— Меня потому направили в Брундизий, — возразил отец, — что этот порт ближе к Иудее, чем Равенна, отсюда добраться быстрее. Мне нужно попасть в Кесарию как можно скорее!
— Тогда «Дельфин»! — решительно сказал префект флота. — Всего лишь либурна, но быстроходная. Вооружения нет, даже ростры. Пятьдесят гребцов и пятнадцать матросов. Триерах самый опытный в моем флоте. Предупреждаю, будет тесно. Судно посыльное, для перевозки важных лиц не годится.
— Нас это не пугает! — улыбнулся отец…
В тот же день мы погрузились на «Дельфин» и, распрощавшись с конной охраной, вышли в море. В Лугдунуме мне приходилось видеть речные либурны, они ходили по Роне в Массилию и обратно. «Дельфин» был длиннее и выше, но даже он казался крохотным в сравнении с пентерой, рядом с которой был ошвартован. Вздохнув при мысли, что мне не придется побывать на борту огромного военного корабля, я ступил на сходни. На борту «Дельфина» мне пришлось вздохнуть еще раз: каюты для гостей ни на палубе, ни под ней не оказалось — только небольшая перегородка в трюме, отделявшая уголок кормы от общего помещения со скамьями, на которых гребцы ворочали веслами, а также спали и ели. Уголок предназначался для триерарха и оказался крохотным: для одного еще терпимо, но двоим — только втиснуться. Аким, мгновенно оценив обстановку, бросил свой узел на свободную скамью у перегородки. Рядом расположился триерарх: отец был префектом, я — центурионом; хотя триерах судна по положению равнялся центуриону вспомогательной когорты, мы путешествовали по личному приказу консула и имели право на почетное место. Однако, поразмыслив, я перебрался к Акиму: в каморке за перегородкой было слишком тесно, а скамьи рядом с ней пустовали. Они предназначались для морской пехоты, которой на посыльном судне не имелось. Мы оказались на виду у всей команды, зато здесь было просторней и светлее: через открытый люк в палубе вливалось тусклое сияние зимнего солнца. Отец расположился в каморке один. Он, может, и хотел бы последовать нашему примеру, но положение обязывало.
Сложив вещи, мы выбрались на палубу и здесь, стоя под навесом, наблюдали, как «Дельфин» ловко снялся с якоря и, подгоняемый дружными взмахами пятидесяти весел, отправился в открытое море. За пределами гавани триерарх велел весла убрать. Моряки споро поставили мачту, подняли рею с парусом, который тут же выгнулся под напором ветра.
— Не пожалел ты жертвы для Нептуна, префект! — довольно сказал триерарх, глядя на тугой парус. — Попутный ветер в начале марта редкость. Если не переменится, к утру будем в Нашем море!
Триерарха звали Леонидом, он, как почти все моряки, был греком, в отличие от гребцов, состоявших из римских вольноотпущенников чрезвычайно пестрого племенного состава. Среди них были даже чернокожие. Леониду на вид было лет сорок, кряжистый и сильный, он уверено попирал палубу мускулистыми ногами в тяжелых военных сандалиях. Матросы и гребцы слушались его беспрекословно, выполняя приказы с охотой, из чего я сделал вывод, что триерарха на судне не столько боятся, сколь почитают.
Когда Брундизий исчез за горизонтом, к Леониду подошел помощник.
— Море спокойное, — сказал он, — разреши готовить пищу, господин!
Леонид внимательно посмотрел на небо. День стоял холодный, но солнечный, на небе почти не было облаков. Ветер гнал волны, но они были небольшими. Волны несли либурну, плавно покачивая с кормы на нос.
— Готовь! — согласился Леонид.
Меня разобрало любопытство: как собираются варить еду на судне, где, как я успел заметить, нет кухни и даже печи? Скоро я получил ответ. Несколько матросов, пыхтя, вытащил на палубу большую бронзовую жаровню на ножках, приклепанных к листу металла. В жаровню один из матросов высыпал мешок угля, второй плеснул из амфоры черной пахучей жидкости.
— Что это? — заинтересовался Аким.
— Земляное масло, — ответил помощник.
Аким ткнул пальцем в жидкость, растекшуюся по углям, понюхал и понимающе кивнул. Матрос высек огонь, и жидкость вспыхнула ярким, дымным пламенем.
— Так и судно сгореть может! — недовольно сказал отец, отступая.
— Не сгорит! — успокоил трерах, указывая на двух матросов в стороне. Один из них держал наготове большое ведро, полное морской воды, второй — мокрую шкуру. — Готовим на борту, когда море позволяет. В другое время — на берегу или едим всухую. Хватит еще сухомятки…
Большое пламя в жаровне быстро угасло, появилось малое и ровное — от углей. Тут же двое матросов ловко укрепили над жаровней большой котел, в который налили воды из амфоры. Когда вода закипела, помощник триерарха (как я понял, он выполнял и обязанности кашевара), всыпал в нее дробленую пшеницу и добавил мелко порубленной копченой свинины. Варево забулькало и скоро по судну поплыл приятный запах. Привлеченные им, на палубу стали выбираться гребцы и свободные матросы. Каждый из них держал в руках небольшой глиняный горшочек.
— Почему у них горшки, а не миски? — удивился Аким.
— Увидишь! — усмехнулся триерарх.
Скоро варево поспело, помощник зачерпнул из котла ложкой и поднес ее Леониду. Тот попробовал и кивнул. Команда стала выстраиваться в очередь. Помощник клал каждому в горшочек черпак варева, стоявший рядом матрос выдавал по куску хлеба, второй подносил кружку разбавленного водой вина. Матросы и гребцы доставали ложки и, усевшись на корточки вдоль борта, жадно ели, дуя на горячее варево. Вот первый из ужинавших выскреб свой горшочек ложкой, достал веревку, накинул петельку на горлышко посудины и бросил за борт. Достал, поболтал внутри рукой и вылил содержимое за борт.
— Понял? — улыбнулся Леонид Акиму. — Миску к веревке не прицепишь!
— А если горшок побьется? О борт?
— У нас их полтрюма! — махнул рукой Леонид.
Мы были гостями, и нам варево подали в мисках. Вместе с триерархом мы спустились вниз, где между скамьями помощник примостил длинный складной столик, на котором едва уместились миски, чаши для вина и блюдо с наломанным хлебом. Я только вздохнул, вспомнив наши римские пиршества. Оказалось, зря. Едва мы покончили с варевом, оказавшимся на диво вкусным, помощник принес глиняную сковороду со скворчащими колбасками — триерарх принимал гостей достойно.
Едва мы покончили с ужином, как стемнело. Тусклого света масляного фонаря было недостаточно для написания слов на воске, и мы с Акимом выбрались наверх. Закутавшись в плащи, мы сели у мачты, и Аким стал рассказывать мне о море, произнося скловенские слова, а затем переводя их на латынь. Мы так увлеклись, что чуть не замерзли на ветру. Кутаясь в плащи, мы, наконец, спустились вниз и повалились на скамьи — спать…
* * *
К концу второго дня плаванья я знал «Дельфин» до каждой дощечки. Погода стояла ясная, времени было много, и я облазил либурну с кормы до носа. Это было не трудно — наше суденышко имело тридцать шагов в длину и десять — в самой широкой части. На палубе имелось три люка, сквозь которые в ясные дни свет проникал внутрь. В хорошую погоду открывали для света и воздуха круглые окошки для весел, обитые по краям толстой буйволовой кожей, в остальное время они запирались прочными щитками. Весла лежали на помосте у скамей, прихваченные веревкой; по команде гребцы брали их, просовывали в отверстия и усаживались спиной к носу. Либурны относятся к разряду бирем, то есть здесь сидят двое гребцов в ряд — каждый у своего весла. У виденной мною пентеры одним веслом двигают трое, шесть гребцов сидят в одном ряду. Есть суда, у которых два ряда весел, и на каждом по несколько гребцов — это такие громадины! На палубе у них стоят башни, где в бою располагаются стрелки. На носу и корме, а также вдоль бортов этих кораблей установлены скорпионы, баллисты и другие метательные орудия — целые крепости на воде! У нас ничего этого не имелось.
Гребцы на военных судах одновременно являются и солдатами. В римскую армию не берут низкорослых, но гребцы на «Дельфине» удивили даже меня — все как один высокие, крепкие, с длинными могучими руками. Я понял, что их подбирали специально. На второй день представилось возможность убедиться в воинской выучке команды. Дул по-прежнему попутный ветер, и триерарх вывел на палубе гребцов. Сначала, разбившись на пары, они упражнялись с деревянными мечами, затем вооружились по-настоящему. Триерах подул в бронзовый свисток, и вооруженные гребцы с лязгом и звоном мгновенно выстроились у левого борта, прикрыв его щитами и пилумами. По двойному свистку они также быстро и ловко закрыли от вторжения правый борт. Двигались бойцы слаженно, не сталкиваясь и не мешая друг другу. Чувствовалось, что такие учения проводятся часто.
— Приходилось сражаться? — спросил у триерарха отец. Он с одобрением наблюдал за гребцами.
— Ни разу! — ответил Леонид. — Но надлежит быть в готовности!
Отец согласно кивнул. Вдохновленные примером гребцов, мы тоже достали оружие. Сначала упражнялись с деревянными мечами. Гребцы, обрадованные бесплатным зрелищем, сидели у бортов, встречая каждый удачный выпад одобрительными криками. В этот раз отец наголову разгромил Акима. Раздосадованный, тот сбегал вниз и вернулся с боевым цепом.
— Может, еще попробуем? — спросил, вращая над головой тяжелый шар на цепочке.
— Хватит с тебя Прокула! — улыбнулся отец, опуская щит. — С мечом против цепа не устоять. Откуда он у тебя?
— Тот самый. Ахилл подарил. Выкупил у оружейника амфитеатра…
Разохотившись, я принес оба лука. По велению Леонида, матросы притащили большой деревянный щит, к которому привязали чучело, набитое шерстью — гребцы упражнялись на нем пилумами. Щит закрепили на носу, я встал на корме. Сначала я взял свой старый лук и быстро всадил пять стрел прямо в грудь чучела. Команда либурны встречала каждое попадание одобрительным гулом. Волнуясь, я сменил лук. Я не стал оттягивать парфянскую тетиву к уху — на таком расстоянии в том не было нужды, и пять длинных стрел попали в чучело. Не так кучно, как из старого, но все же…
— Отсюда и я попаду, — загадочно улыбаясь, сказал Леонид. — Ты вот с марса попробуй!
Марсом, как выяснилось, называлась крохотная площадка наверху мачты. Уязвленный замечанием, я закинул за плечо лук и мешок со стрелами и полез по веревочной лестнице. Оказавшись на площадке, я понял, чему улыбался триерах. Хотя отсюда до мишени было вдвое ближе, прицелиться было трудно, если вообще возможно. Мачта качалась не только вместе с кораблем, но и в своем гнезде. Площадка описывала над палубой круг, здесь было трудно даже устоять, не говоря о том, чтобы выстрелить точно. Я глянул на корму, где стояли отец с Акимом и триерарх, и у меня закружилась голова. Я покрепче ухватился обеими руками за мачту.
— Слезай, Марк! — крикнул Аким, видимо поняв мои чувства. — Упадешь!
Если б он промолчал, я спустился бы сам. Пусть под насмешливые улыбки. Я увидел бы их внизу. Теперь же все матросы и гребцы смотрели на меня, ухмыляясь. Было отчего. Команду впечатлила наша выучка в рукопашном бою, они так не умели; теперь морякам представилась возможность сквитаться, показав, что важные гости из Рима в чем-то им уступают. Стиснув зубы, я широко расставил ноги и отпустил мачту. Крепко прижался к ней спиной. Затем снял с плеча лук и наложил стрелу на тетиву. Площадка марса описывала круги, спустя несколько мгновений, я уловил в этом движении закономерность. Мишень оказывалось прямо передо мной на выдохе. Каждый раз. Набрав в грудь воздуха, я натянул тетиву, моля богов, чтобы либурна не встретилась с большой волной — сейчас мое положение было крайне неустойчивым. Достаточно было небольшого толчка, чтобы я низринулся на палубу. Боги услышали меня — марс описал плавный круг. Когда чучело появилось в привычном месте, я выдохнул и отпустил тетиву. Но тут же ухватился за мачту — меня шатнуло вперед…
По веревочной лестнице я спускался долго и в тишине. Спрыгнув на палубу, подошел к щиту. Стрела угодила чучелу в голову — в лоб, если б у этой грубо сшитой куклы имелся таковой. Разумеется, это получилось случайно — целил-то я в грудь. Но по уважительному молчанию команды я понял, что моряки восприняли это иначе. И не только они. Подошедший отец потрепал меня по плечу, Аким без затей обнял за плечи и встряхнул. Но нашелся недовольный.
— Когда в следующий раз полезешь на марс, центурион, — сердито сказал Леонид, когда я вернулся на корму, — привязывайся к мачте! Я требую этого от матросов, ты не исключение. Мне не хочется стоять перед судом по обвинению в смерти посланника консула.
…Попутный ветер дул три дня, затем стих, и мы пошли на веслах. Передвигались то вдоль берега, то от одного острова к другому. Леонид хорошо знал морские пути Нашего моря, поэтому нам редко приходилось готовить пищу на корабле или же, если погода не позволяла, жевать черствый хлеб с солониной. Обычно вечером мы приставали к суше, разжигали костер, над которым ставили огромный бронзовый котел. Если поблизости оказывалось селение, отец посылал матросов купить овцу, свинью и пару амфор вина. Римские моряки не избалованы, на их содержание империя выделяет средств меньше, чем на легионеров, поэтому щедрость префекта команда воспринимала с воодушевлением.
Мы покинули Рим накануне мартовских календ, в ноны отправились в плаванье, а к мартовским идам преодолели половину пути до Кесарии, где размещалась резиденция прокуратора Пилата. Удача сопутствовала нам: море не штормило, несколько раз случался попутный ветер, и гребцы могли отдохнуть. Леонид и его моряки часто и громко славили Нептуна, тем самым, как видно, прогневив того, кто на самом деле управляет ветрами и волнами. И судьбами человеческими… Вечером, когда «Дельфин» держал курс к недалекой суше, внезапно налетел шквал и погнал нас в открытое море. Некоторое время либурна сопротивлялась — моряки гребли изо всех сил, но ветер все усиливался, и скоро черная полоска суши исчезла вдали. Стемнело. Леонид велел всем спуститься вниз, закрыть люки и молить богов. На палубе остались сам триерарх, его помощник и двое матросов — у руля. Все они привязались к бронзовым кольцам, намертво вделанным в палубу…
Кто из нас в младенчестве не забавлялся погремушкой? Овечий пузырь, надутый и высушенный, внутрь заправлена горсть сухого гороха, палочка… Не знаю, кто держал ту палочку в эту страшную ночь, но все мы в полной мере ощутили, что испытывает сухой горох внутри пузыря. Нас бросало от борта к борту, било о скамьи и настил — и все это в полной темноте. (Во избежание пожара фонари пришлось загасить.) Опытные гребцы и матросы догадались привязаться к скамьям, но нам этого никто не подсказал. Мы с Акимом набили себе россыпи синяков, когда к нам на ощупь пробрался отец. По его подсказке мы сели между скамьями, прижавшись спинами к борту. Сам отец лег на настил, упершись руками и ногами в опоры скамей, тем самым преградив нам возможность сползать к другому борту. Мы закутали головы плащами, дабы смягчить удары о борт и крепко держались за скамьи…
Наша либурна не погибла в ту ночь только Божьей милостью. Одной волны, из тех, что бросали нас в море, было достаточно, чтобы раздавить хрупкую скорлупку из дерева. Но она только прыгала с одной водяной горы на другую, как та погремушка, брошенная в ручей. Более того, никто из команды не утонул, а судно осталось в целости. К утру шторм утих, мы выбрались на палубу и нашли на ней четырех обессиленных моряков, которые спали прямо на мокрых досках. Уцелела даже мачта с парусом — ее хорошо привязали. Ветер снес только навес на корме, но его быстро восстановили. Господь оказался милостив к нам. Что до меня, то, как я понял много позже, он сохранил мне жизнь лишь затем, чтоб послать новые, более суровые испытания. Чаша моя была еще не испита, я только отхлебнул чуток…
Полдня команда приходила в себя; все это время «Дельфин» покачивался на мелких волнах. Легкий ветерок гнал нас к югу, и к полудню вдали показалась полоска земли. Моряки радостно закричали, и крик этот разбудил триерарха, которого матросы утром бережно перенесли вниз. Выбравшись на палубу, Леонид долго всматривался в приближавшийся берег, и вдруг лицо его потемнело.
— Крит, будь он проклят!
— Крит, ну и что? — удивился отец.
— Пиратское гнездо!
— Разве Август не уничтожил пиратов?
— Август давно умер, сейчас Римом правит Тиберий. Не знаешь этого, префект? — мрачно ответил Леонид и потребовал разбудить помощника.
Спустя короткое время весла вспенили море, и «Дельфин» двинулся прочь от негостеприимного берега. Но либурна двигалась медленно — мешал встречный ветер. Триерарх то и дело с опаской оглядывался, и внезапно разразился проклятиями. Мы, не сговариваясь, обернулись. Неподалеку от береговой полосы появилась точка, которая быстро росла.
— Заметили! — с горечью пояснил Леонид. — После штормов они особо зорко следят за морем. Скоро догонят!
— Мне говорили, что «Дельфин» — самое быстроходное судно! — удивился отец.
— На парусах и при попутном ветре нас не догонит сам Гермес! Но мы идем на веслах. У нас по одному гребцу на весло, а у них — двое! Настигнут еще до темноты!
Скоро мы убедились в правоте триерарха. Преследовавшее нас судно вырастало на глазах и скоро оказалось настолько близко, что можно было разглядеть фигуры людей на его палубе.
— Надо поставить мачту и вывесить вексиллум! — посоветовал отец. — Они не осмелятся напасть на римское военное судно!
— Какая им разница, кого грабить! — вздохнул Леонид.
— У нас нечего грабить! Это не торговое судно!
— Восемь десятков здоровых, крепких мужчин… Ты знаешь, почем сейчас рабы?
— Что будешь делать?
— Драться! В моей команде большинство — вольноотпущенники. Они уже однажды стояли в цепях на рынке… Это будет наш последний бой, префект! У пиратов людей втрое больше…
Леонид все же внял совету: поднял мачту и вывесил вексиллум с волчицей на красном поле. Как и предсказывал триерарх, это не остановило пиратов — их судно продолжало приближаться.
— Прикажу гребцам убрать весла, — вздохнул Леонид. — Надо вооружиться и немного отдохнуть перед боем.
— Скоро стемнеет! — остановил его отец.
— Нас догонят раньше!
— И все же погоди… — отец задумался на мгновение. — Как происходят морские сражения? Мне не доводилось…
— Они обойдут нас с левого борта — им, с правого, бросать кошки сподручнее. Если мы не перестанем грести, то носом своего корабля сломают нам весла, затем подтянут кошками ближе и станут прыгать на борт. Ну а здесь… Резня, как и на суше.
— Значит, нужно их задержать. Марк! — повернулся отец ко мне. — Неси свой лук!..
Спустя несколько дней я вновь оказался на марсе. В этот раз я тщательно привязался к мачте. Удивительно, но мне было не страшно. Я и думать забыл о высоте, во все глаза глядя на догоняющих нас пиратов. Я стоял лицом к ним, пряча лук за спиной. Но пираты, толпившиеся на палубе триеры, не смотрели на меня — кому интересен жалкий марсовый? Их глаза не отрывались от палубы «дельфина»: хищники оценивали добычу.
— Помни, Марк, — сказал мне отец, — не раньше, чем их нос приблизится к нашей корме…
Поставленная мачта дала дополнительную опору ветру или же наши гребцы устали — триера догоняла нас стремительно. Я уже отчетливо различал лица пиратов — они скалились в ухмылках. То, что на «Дельфине» гребли до последнего, похоже радовало преследователей. Сопротивления не будет! Или почти не будет… Некоторые пираты, стоявшие у правого борта (Леонид оказался прав), нетерпеливо крутили над головами веревки с кошками. Но эти разбойники не нужны мне. Я присмотрелся. Главарь пиратов в богатом медном панцире, наверняка принадлежавшем ранее какому-нибудь трибуну, стоял на мостике и что-то кричал своему воинству. Наверное, приободрял перед боем — пираты отвечали криками. Я отчетливо видел лицо врага: широкое, загорелое, с большой черной бородой, ниспадавшей на панцирь. Ветер трепал эту бороду, отбрасывая ее то на одно плечо, то на другое… Время!
Я наложил стрелу на тетиву и натянул ее. Я метил прямо в черную бороду — панцирь моя стрела не пробьет. Марс описал круг, я выдохнул и отпустил тетиву…
Я не видел, куда попала стрела; когда я вновь прицелился, чернобородый лежал на мостике, а вокруг растерянно метались люди. Дальнейшее я помню смутно. Я пускал одну стрелу за другой, целя в рулевых, и, видно, все же попал — триера прямо за нашей кормой рыскнула вправо, показав нам бок. Весла вдоль ее борта замерли, и мы стали медленно отдаляться от врага.
…Первая стрела пропела у моего виска, вторая вонзилась в мачту над головой. Лучники на палубе пирата опомнились. Я вдруг с ужасом понял, что представляю собой отличную цель: марс «Дельфина» находился на уровне палубы триеры к тому же я привязан к мачте. Пока спущусь… Бросив бесполезный лук (стрелы кончились!), я лихорадочно стал распутывать узел на веревке, которой сам же себя привязал. Узел поддавался медленно. Еще несколько стрел просвистели мимо, как вдруг черная тень закрыла от меня пиратский корабль.
— Стоим смирно! Не дергаемся!
Аким, прыгнув на марс, прикрыл нас большим щитом. Словно подтверждая его правоту, по щиту будто град застучал — пиратские лучники, наконец, приноровились. Аким обнимал меня правой рукой, держа в левой щит; так мы и простояли до тех пор, пока «Дельфин» не отдалился на безопасное расстояние. После чего Аким бросил весь утыканный стрелами щит на палубу и помог мне распустить узел. Только внизу я заметил, что не все стрелы пролетели мимо; одна торчала в левом бедре Аким, пробив его насквозь.
— Чепуха! — махнул он рукой в ответ на мой взгляд. — Чуть мясо проткнули!
В доказательство своей правоты, Аким сломал стрелу и выдернул ее из раны. Два ручейка крови тут же поползли по его ноге. Подбежавший матрос ловко забинтовал Акиму ногу. Помощь понадобилась не только моему спасителю: на палубе лежало трое матросов — лучники пиратов по целили и в рулевых. Но, как бы то ни было, мы победили: ночь опускалась на море, и пираты не пытались нас преследовать…
* * *
— Ветер не утихает, а гребцы изнемогли, — с горечью сказал Леонид, когда раненых унесли с палубы, и мы спустились вниз. — Нас опять несет к берегу, завтра все повторится. Пираты не спешат — знают, что нам не уйти. Завтра они будут осторожнее… Мы погибнем, а сына твоего, префект, если ему выпадет несчастье попасть к ним в руки живым, прибьют к кресту. Смерти главаря ему не простят…
— Тогда пойдем к острову! — велел отец. — Сами нападем! Терять нечего!
— Их втрое больше!
— Они сойдут на берег — поужинать, переночевать… Мы захватим судно!
— На триере наверняка есть стража! — не согласился триерарх. — Ночной бой… Если и захватим, то у меня не останется гребцов.
— Зачем нам судно? — вмешался Аким.
— Сжечь! — сжал кулаки отец.
— Чтобы сжечь, не обязательно захватывать.
— У нас нет метательных орудий! — возразил Леонид.
— А руки на что? — Аким взял со стола глиняный горшок с солониной и подбросил его в руке. — Ты говорил, триерарх, у тебя их полтрюма?..
Пиратскую стоянку мы отыскали без усилий — на берегу горели костры. Вражеская трирема стояла в небольшой бухточке, на борту ее тускло светились несколько фонарей. Леонид оказался прав — пираты выставили стражу. «Дельфин» беззвучно вошел в бухту и, невидимый на фоне темного берега, развернулся к пиратам кормой. Ветерок тихонько нес его триреме. На корме либурны стояло пятеро самых сильных гребцов, у ног каждого — корзина из-под хлеба. В каждой — десяток глинных горшков с земляным жиром. До полуночи матросы наполняли их, накрывали куском парусины и тщательно завязывали под горлышком. Еще одна корзина была у ног Акима — он сам вызвался «побросать». Рядом с гребцами двое матросов придерживали большие кувшины, из которых торчали древки пилумов. Железные наконечники пилумов, обмотанные паклей, густо пропитанной земляным жиром, прятались внутри — ни одна капля горючей жидкости не должна была упасть на палубу. Здесь же стояли отец, Леонид и я — всем остальным триерах прикачал сидеть на веслах и ждать команды. Я держал наготове свой парфянский лук — он да десять стрел в мешке составляли мое оружие.
…Руль «Дельфина» мягко стукнул в борт пиратской триеры.
— Кто там?! — раздалось сверху.
Я натянул тетиву и выстрелил на голос. Раздался крик, затем плеск от падения в воду чего-то тяжелого.
— Бросай! — вскричал Леонид.
Град горшков посыпался на палубу триремы, разбиваясь и заливая ее скользким черным маслом. Наверху кто-то бегал, кричал, я выстрелил еще несколько раз без всякой надежды попасть — просто оттого, что не мог стоять безучастным. Матросы с большими кувшинами извлекли из-под плащей приготовленные фонари, открыли их и бросили в сосуды. Пропитанная горючим жиром пакля на остриях пилумов сразу вспыхнула. Гребцы подбегали, хватали по два пилума сразу и бросали их на палубу триремы. Огненные стрелы летели в ночи, оставляя длинные шлейфы — как будто сам Юпитер метал свои молнии. Наконечники, вонзаясь в доски палубы, застревали в ней, не давая возможности вырвать огненное копье. Когда последний пилум был брошен, Леонид прокричал команду, пятьдесят весел вспенили воду, и «Дельфин» стремительно рванулся прочь.
Языки пламени мы заметили, едва отошли на двадцать шагов. Чем далее уходила либурна от пиратского берега, тем выше поднималось пламя над триремой. Когда мы вышли в море, атакованное судно пылало вовсю, выбрасывая высоко к небу столб пламени и дыма. Было видно, как по берегу мечутся люди, машут руками, но голосов мы не слышали — их заглушил гул пожара. Либурна, скользя по волнам, несла нас к берегам Иудеи — туда, где меня ждало самое тяжкое испытание в жизни…
Часть III Денарий кесаря
1
Я, Марк Корнелий Назон Руф, разворачиваю третий, самый скорбный свиток своего повествования. Слезы туманят мой взор, но я не стыжусь их. Римляне избегают проявлений чувств, они гордятся умением стоически переносить удары судьбы, но я давно римлянин только по имени…
Отразив нападение пиратов у острова Крит и уничтожив вражескую трирему, мы благополучно прибыли к берегам Иудеи. Наша либурна «Дельфин» скользнула в гавань Кесарии и отшвартовалась у каменного пирса. Никто не встречал посланников консула, потому что никто не знал о нашем прибытии. Мой отец, сенатор и префект Луций Корнелий Назон Руф, друг Аким и я сошли на грубый камень пирса и после короткого совещания решили идти прямо к прокуратору. Триерах либурны Леонид вызвался нас сопровождать…
В Египте, где я живу, мало говорят на латыни — в прибрежных городах в ходу диалект греческого «койне», а в глубинных районах — местное наречие. Здесь плохо знают римское устройство власти, слово «прокуратор» пробуждает у людей страх. Когда-то прокураторами в Риме звали (да и сейчас зовут) рабов, управлявшим домами. Став вольноотпущенниками, бывшие рабы стали управлять канцелярией и государственной казной. Император Август сделал должность прокураторов почетной, отдав под их начало малозначительные провинции, занять эту должность стремятся многие почтенные всадники. Сенаторы, отбывшие свой срок на посту консула или претора, уезжают управлять большими провинциями, их для проконсулов или пропреторов не хватает, многие не отказались бы от прокураторского звания. Империя платит прокураторам немалые деньги, к тому же человек, приставленный к сбору подати с провинции, одним жалованием довольствуется редко. В Римской империи должность префекта считается выше прокураторской, но ни один префект не в состоянии так быстро сколотить состояние, как прокуратор самой отдаленной римской провинции…
Я понял это, едва мы вступили в резиденцию Пилата в Кесарии — величественное здание с беломраморными колоннами, резным фризом и фронтоном, декорированным скульптурами. Полы резиденции украшали мозаики, стены были богато расписаны — трудно было поверить, что это не дворец римского богача, а всего лишь канцелярия римского чиновника. Сам прокуратор Иудеи оказался под стать своему обиталищу — высокий, широкоплечий, статный. Его лицо трудно было назвать красивым: крючковатый самнитский нос, глубоко посаженные темные глаза, тонкие губы. Курчавые жесткие волосы густо пересыпаны сединой. Это был облик солдата: заслуженного, много испытавшего ветерана, которого любят легионеры и боятся враги. С Пилатом так оно и было: солдаты его обожали, враги трепетали при одном звуке его имени. Следует добавить, что врагами у прокуратора были все, кто не римлян, а также некоторые римляне…
К моему удивлению Пилат принял нас ласково. Долго расспрашивал о путешествии, посетовал на дерзость пиратов, посмевших напасть на римское военное судно, пообещал щедро наградить храбрую команду «Дельфина». Держался прокуратор просто, без подобострастия, но и не надменно. А когда отец заговорил о поручении Сеяна, остановил:
— Дела подождут, префект! Позже… Отдохни с дороги! Тебе и твоим спутникам отведут комнаты в моей резиденции, вечером будет пир в честь вашего приезда. Не так часто посещают Иудею посланцы консула!
На угощение Пилат не поскупился. Зайдя в пиршественный зал (триклинием его назвать было трудно), я замер, пораженный богатством обстановки и еще более — обилием золотой и серебряной посуды, которой были уставлены накрытые тончайшими льняными скатертями огромные столы. Стоит ли добавлять, что никаких селл и бисселиев здесь не имелось, зато стояли роскошные ложа с ножками в виде лап льва; ложа были усыпаны мягкими подушками, обтянутыми цветной парчой. Отец, как я заметил, тоже не ожидал такой роскоши и остановился у порога. Однако постоять нам не дали. Подбежал раб-распорядитель в красивой тунике и с поклонами отвел нас к главному столу. Пилат предложил отцу почетное место рядом с собой, мне отвели ложе по левую руку от прокуратора, Акима повели к дальнему столу, где я заметил триерарха Леонида и нескольких моряков с «Дельфина». Прокуратор строго следовал правилам официального римского застолья, где места гостям отводятся соответственно их положению. Я, конечно, был всего лишь центурионом и по чину должен был сидеть (вернее, возлежать) рядом с Акимом и Леонидом (чему был бы только рад), но сын посланника консула в глазах Пилата стоял лишь на ступень ниже отца, поэтому я неловко примостился на назначенном мне ложе. Подбежавшие рабы омыли мне руки, вытерли их тончайшим полотенцем и возложили на голову венок из цветов. Я неохотно подчинился. Все это было непривычно и неловко.
— Salve! — раздалось рядом.
Я повернул голову и онемел. На соседнем ложе вольно раскинулась молодая римлянка. Ее молочно-белая, гладкая кожа светилась как полированный мрамор, большие зеленые глаза влажно блестели, а прическа из уложенных башней завитых волос была богато украшена цветами. Ее красота казалась совершенной — как у статуй лучших греческих мастеров. Я смутился так, что забыл ответить на приветствие. Соседка моя улыбнулась, показав ровные белые зубки.
— Знакомься, Марк, моя племянница Валерия! — пророкотал справа бас прокуратора. — Жена трибуна Секста Цезия Грата. Муж ее сейчас в Сирии, и я попросил Валерию скрасить тебе одиночество на пиру — я буду занят беседой с сенатором. Не возражаешь?
Я смущенно поблагодарил, и прокуратор повернулся к отцу. Тем временем рабы стали наполнять чаши вином, другие поставили на столы первую перемену блюд. Пилат, как хозяин пиршества, привстав, вознес благодарность богам и предложил выпить за здоровье римских консулов Тиберия Цезаря Августа и Луция Элия Сеяна. Послышался грохот отодвигаемых лож — все вставали, выказывая тем самым почтение правителям Ойкумены. Я вознамерился сделать тоже, но Валерия, движением руки остановила мой порыв.
— Ты же не солдат! — сказала она насмешливо.
— Я центурион! За здоровье императора и консулов в легионах пьют стоя!
— Здесь не легион, — усмехнулась Валерия, — так что оставь гарнизонные замашки. Мне они так надоели! В кои века приезжает умный человек из Рима, и тут же пытается прыгать, как пьяный ветеран в харчевне.
Я смутился и опустил глаза.
— Здесь много будут возглашать, — пояснила Валерия, — вставать и падать. Будут пить здоровье наместника провинции, сенатора, трибунов… Потом позовут полуголых сирийских танцовщиц. От танцев гости распалятся и станут ловить плясунь. Но танцовщицы здесь проворные, многим поймать не удастся. Гости вернутся за столы, от обиды станут пить еще больше. Рабы не будут поспевать носить тазики, поэтому заблюют столы. Многих гостей придется развозить на повозках — видел, сколько их ждет на площади? Назавтра все с удовольствием вспомнят, как славно повеселились у прокуратора. Всегда одно и то же! — она вздохнула. — Ты хочешь такого веселья?
Я покрутил головой.
— Тогда слушай меня! — сказала она покровительственно. — Гостю из Рима за нашим столом надо быть осторожным. Можно съесть чего-нибудь дурного или выпить. Это Иудея, местные повара хорошо готовят свои блюда, но не знают римских. Вместо вина могут поднести сикера, — она скривилась. — Это такая гадость! Непривычные к нему люди сразу пьянеют, а назавтра у них болит голова…
— Я буду слушаться! — с готовностью согласился я.
— Хороший мальчик! — Валерия ласково погладила меня по голове. — Правильно решил. Послушные дети получают лакомство.
Мне не понравилось упоминание о детях, но обещание лакомства заслонило обиду. Я пристально посмотрел на Валерию, желая получить ответ, о том ли лакомстве я подумал; ее взгляд подтвердил, что подумал я правильно. С этого мгновения происходящее в зале перестало меня интересовать. Я поднимал свою чашу при очередной здравице, демонстрируя тем самым свое внимание к пиршеству, и слегка отпивал из нее — тем мое участие в общем застолье и ограничивалось. Валерия сразу пресекла мое намерение осушать чашу до дна.
— Не люблю пьяных! — твердо заявила она, и я подчинился. Мы мало пили и ели, зато много говорили — о поэзии, греческой философии (к моему удивлению Валерия неплохо разбиралась в учениях греков — куда лучше меня), затем, когда за столами стало шумно, перешли к более интересным вещам. Мы разговаривали вполголоса, время от времени легко касаясь друг друга, и эти прикосновения пьянили меня крепче неразбавленного вина. Я узнал, что Валерия рано осиротела, и Пилат забрал ее к себе. Жена будущего прокуратора заменила ей мать, сам Пилат — отца. Прокуратор считал ее дочерью и относился соответственно. Валерия следовала за дядей по всем легионам, где будущему прокуратору довелось служить, великолепно знала гарнизонную жизнь и ненавидела ее. Валерия мечтала о Риме, но была вынуждена жить в Иудее. Шестнадцати лет Пилат выдал ее замуж за племянника своего предшественника, Секста Цезия Грата, который к моменту назначения нового прокуратора числился трибуном легиона, расквартированного в Антиохии, но возглавлял когорту в Кессарии. Секст был вдвое старше Валерии, для того, чтобы жениться на ней, ему пришлось развестись. Первая жена и двое детей остались в Дамаске, трибун часто навещал их. Тем более что по делам службы Грату несколько раз в год приходилось ездить в главный город Сирии. На время его отлучек Валерия переселялась к Пилату: Грат безумно ревновал жену, и надеялся, что дядя не позволит ей осквернить супружеское ложе. Все это Валерию несказанно злило. Как я понял, мужа она не только не любила, но и не почитала — ее выдали за трибуна против воли. У старшего Грата имелись обширные связи в Риме, что привлекло Пилата, что до Валерии… Разве римские отцы спрашивают у дочерей, кого они хотели бы видеть мужьями?..
Как ни мало я пил, но пришло время, когда жидкость попросилась наружу. Я хотел соскользнуть с ложа и удалиться в нужную комнату, но Валерия упредила меня. Взмахом руки она подозвала раба с урыльником. Мне ни разу не приходилось облегчаться рядом с женщиной (рабыни не в счет!), и я застеснялся. Но Валерия ободрила меня взглядом. К моему удивлению она не отвернулась, внимательно наблюдая за процессом.
— Я вижу, ты уже не мальчик! — улыбнулась она, когда раб с урыльником удалился. — А взрослым мужчинам лакомство не полагается!
Лицо мое вытянулось, и Валерия засмеялась:
— Взрослым мужчинам не дают сладостей, их кормят — много и сытно. Я заметила, что ты совсем мало ел, центурион! Видно кушанья, приготовленные нашим поваром, не понравились. Придется мне поддержать честь дома!
Я с таким вожделением приник губами к ее руке, что Валерии пришлось отдирать меня за волосы.
— На нас смотрят! — сердито прошептала она.
— Кто? — удивился я.
В это время в зал как раз зашли танцовщицы, взгляды гостей устремились на них.
— Я не о гостях, — пояснила Валерия, отодвигаясь. — Гости пьяны, им не до нас. Но откуда мне знать, кому из рабов муж отсыпает сестерции, дабы тот присматривал за мной? Я не хочу, центурион, чтобы меня зарезали, как козленка на жертвеннике, Грат на это способен. Нам нужно быть осторожными.
Я молчал, с горечью думая, что мои дерзновенные мечтания за этим столом были напрасными. Валерия поняла и тихонько прошептала мне на ухо:
— Скоро гости станут гоняться за танцовщицами, я встану и уйду — жене трибуна, почтенной римской матроне, не к лицу такие зрелища. Ты останешься. Когда гости бросятся ловить рабынь, сделай тоже самое. Есть танцовщицы, которые позволяют поймать себя молодым красивым центурионам, — Валерия засмеялась, но тут же голос ее посуровел: — Только не обольщайся — они делают это за деньги. Не вздумай уйти с кем-нибудь! — Валерия так крутанула мое ухо, что я вскрикнул. — Оставь танцовщицу и возвращайся за стол! Пусть все думают, что вы договорились с ней. Начнешь пить, будто бы с радости, в то время как все остальные, кто не поймал, будут пить с горя. Только не увлекайся — потеряешь аппетит, — я понял, что она улыбается. — Побудешь здесь, пока гости не перепьются, сделаешь вид, что сам едва стоишь на ногах и уйдешь.
— Как я найду тебя?
— Не беспокойся…
Скользнувшие вслед за танцовщицами музыканты задули в флейты, ударили в тамбурины — пляска началась. Это было действительно пляска, а не танец: в одних набедренных повязках и ножных браслетах сирийки с медовыми, блестящими от масла телами скакали по залу, вертя бедрами и высоко выбрасывая ноги. Их округлые груди задорно колыхались от прыжков, распаляя подвыпивших мужчин. Со всех сторон слышался грохот отодвигаемых лож — гости вставали, чтобы лучше разглядеть прелести плясуний. Музыка то ускорялась, то замедляла темп; в такие мгновения танцовщицы подходили ближе и скользили вдоль столов, зазывно улыбаясь и протягивая руки к гостям. Я почувствовал, как все естество мое возбудилось и стал сползать с ложа. Валерия больно ущипнула меня за бедро.
— Не забудь! — прошептала сердито.
Музыка умолкла, и в этот миг из-за дальнего стола раздался хриплый возглас:
— Римляне! Похищай сабинянок!
Гости, получив команду, бросились ловить танцовщиц. Музыканты тут же задули в флейты, сопровождаемые дикой мелодией мужчины метались по залу, пытаясь завладеть вожделенными телами, танцовщицы с визгом ускользали. Им это не составляло труда: обильно намащенные тела легко выскальзывали из потных ладоней похотливых самцов, сандалии мужчин скользили по гладкому мрамору пола, гости падали, путаясь в своих тогах. Некоторые после падения не в силах были подняться. Я очумело глянул на Пилата, ожидая, что он прекратит это непотребство, но прокуратор громко хохотал, указывая пальцем на самых неловких. Я понял, что это любимая его забава: прокуратор искренне радовался дикому зрелищу и хлопал отца по плечу, приглашая гостя веселиться вместе. Я глянул влево: ложе Валерии пустовало. Я не заметил, как жена трибуна исчезла. Вспомнив ее наказ, я вскочил с ложа и побежал в толпу. После двух безуспешных попыток схватить сколькие тела, я изменил тактику. Присмотрелся. Танцовщицы летали по залу не беспорядочно, а словно бегали по кругу — по всему было видать, что им такие догонялки привычны. Мужчины пытались бежать следом, но отягощенные вином и едой, в сандалиях они никак не могли успеть за легконогими, босыми плясуньями. Некоторые из гостей, похитрее, пытались рассечь стайку убегавших, хватали прелестниц, но тем на выручку приходило масло.
Я занял позицию у края стола и стал ждать. Навстречу, уворачиваясь от нагонявшего ее кряжистого центуриона, бежала полногрудая плясунья. Прыгнув вперед, я схватил ее поперек тела. Руки мои скользнули по масляной коже, но я предусмотрительно присел. Танцовщица рыбкой взлетела на мое на плечо, где и замерла, плотно схваченная за набедренную повязку. Я встал с добычей, гордо поглядывая по сторонам.
— Отдай! — закричал подбежавший центурион. — Она моя!
— Что ж не поймал ее? — усмехнулся я.
— Ты помешал мне! Отдай!
Горячий бок плясуньи грел мне щеку, я слышал, как она дышит, и заупрямился.
— Не отдам!
— Да я тебя! — центурион зашарил у пояса. — Узнаешь Луция Приска!
— Приск! — раздался позади бас Пилата. — Оставь гостя в покое! Бегать надо быстрее!
Центурион бросил на меня злобный взгляд и отошел. Я опустил добычу на пол.
— Меня зовут Медея! — горячо прошептала мне на ухо плясунья. — Любой раб за сестерций отведет тебя в мою комнату. Приготовь серебряный денарий, и ночью ты захлебнешься от счастья!
«Скажи это Приску!» — хотел вымолвить я, но, вспомнив наставления Валерии, промолчал. Кивнул.
Плясунья убежала, я вернулся к столу.
— Как тебе удалось? — полюбопытствовал Пилат, когда я подошел, и сам же ответил: — Умен! Первым из гостей догадался! Герой! Герою положена награда, и этой ночью ты ее получишь. На Медею еще никто не жаловался! — Пилат захохотал.
Я глянул в зал. Моя удача не осталась незамеченной, и те из гостей, кто был потрезвее, переняли прием. Римляне несли на плечах похищенных сабинянок, те довольно визжали и болтали в воздухе ногами. Аким сумел схватить сразу двоих, одну из танцовщиц он великодушно скинул на руки Леониду, и за дальним столом началось знакомое мне перешептывание. Поскольку на пиру у Пилата рабам возлежать не полагалась, переловленные танцовщицы скоро убежали, застолье продолжилось. Я с удовольствием покинул бы зал вместе с плясуньями, но Валерия велела ждать… От скуки я стал прислушиваться к разговору Пилата с отцом, и сразу понял, что обсуждают они отнюдь не прелести сириек.
— Ты не знаешь этой страны и этих людей! — сердито говорил Пилат. — Иудей станет чеканить монету с ликом императора? Они наши денарии брать в руки брезгуют! Их бог, видишь ли, запрещает изображать людей! И ведь не прикоснулись бы, не вели мы платить подать Риму таким серебром. Знаешь, кто у них самый презренный человек? Сборщик налогов, мытарь по-местному! У нас это почтенная должность, люди готовы на многое, чтоб ее занять, а у них мытарь — изгой. По двум причинам. Во-первых, собирает подать ненавистному императору, во-вторых, постоянно имеет дело с монетами, где этот император изображен. Проклятое племя!..
— В провинции живут не только иудеи, — возразил отец. — Есть греки, римляне.
— Греки сплошь заняты торговлей, а римлян — горстка!
— Не совсем горстка, да и горсть горсти рознь… Помнишь Марка Антония, прокуратор?
— Помню!
— Когда они с будущим Августом делили Рим, Антоний выбрал восточные провинции. Почему?
— Из-за Клеопатры.
— Нет, прокуратор, Клеопатра помогла Антонию эти провинции потерять — вместе с жизнью. Марк Антоний, чтоб о нем не писали, был отличным полководцем и знал, что легионы, расквартированные на востоке, лучшие. С ними он мог завоевать мир.
— Не завоевал…
— Легионы не захотели сражаться с братьями, которых вел Август. А если б захотели, неизвестно, кто правил Римом сейчас.
— Тиберий Цезарь Август! Кто ж еще?!.
— Ценю твою преданность императору и сам его почитаю, потому поручение консула исполню добросовестно.
— Исполнить можно по-разному, — раздражено сказал Пилат. — Что ты станешь делать, если выяснится, что никакого заговора нет, а эти монеты — всего лишь глупые фальшивки?
— Так и доложу Сеяну.
— Консул будет недоволен. Он ждет сообщения о заговоре.
— Консул велел мне докопаться до истины, а не придумывать, чего нет.
— Он так и сказал? — недоверчиво спросил Пилат.
— Так, прокуратор!
— Клянешься?
— Юпитером!
— Рад слышать это, — улыбнулся Пилат. — Признаться, когда мне доложили: приехал сенатор с поручением от консула, я подумал: «Беда!» Если б ты знал, Луций, сколько гадостей пишут про меня в Рим! Эти иудеи — первые кляузники в мире! Они нападают на моих солдат, солдаты, естественно, дают отпор наглецам, убитые и раненые с обеих сторон — что же? Будь это другая провинция, вождей племени обвинили бы в мятеже и распяли. Но это Иудея! Первосвященники, не отрицая самого факта нападения (попробуй отрицать, когда убитых возят повозками!), пишут в Рим, что Пилат спровоцировал бунт! Дескать, Иерусалим — священный город, в него нельзя вносить изображения животных и людей, а легионеры прокуратора вошли со своими орлами и изображениями императора на вексиллиях, чем оскорбили чувства верующих! Ты слышал такое! Мы, выходит, должны ходить по своей провинции без орлов и знамен!
Отец сочувственно покачал головой.
— Мы отняли у них право суда, потому что когда ловили разбойника, убившего римлянина, иудеи делали все, чтоб отпустить того на волю. Разбойники повисли на крестах, где им самое место, после чего ко мне стали водить несчастных бродяг, требуя, чтобы я их распял. «За что?» — спрашиваю. Отвечают: «Он плохо говорил о нашем боге!» Мне есть дело до их бога? К тому же, если он бог, пусть сам разбирается с теми, кто его хулит! Какой он бог, если его не боятся?
— Мы наказываем тех, кто не приносит жертвы Юпитеру! — возразил отец.
— Это разные вещи, префект! Римский гражданин обязан приносить жертвы богам, не делая это, он выступает против государства. Зато никто не требует от римлянина, чтобы не смел ругать богов, обсуждать с друзьями, от кого скорее можно получить помощь и кому принести жертву побогаче. Я, кстати, спрашивал у иудеев: «Этот бродяга отказался принести жертву вашему богу?» «Нет! — отвечают. — Жертвовал. И в храм ходил поклониться святыне». «Тогда в чем дело?» «Он говорит вопреки Писанию!» Ты видел их Писание, префект? Вот такой свиток! Есть греческий перевод, я читал. Там столько всего нагромождено, что у нормального человека ум за разум заходит! Неудивительно, что у них есть целое племя, которое только тем и занято, что толкует, чего хочет от иудеев их бог. Зовут их левитами. Левиты неплохо живут, и, понятное дело, им не нравится, когда кто-то отнимает у них кусок хлеба. Это их дела, причем здесь римский прокуратор? Я должен толковать Писание?..
— Как же ты поступаешь? — полюбопытствовал отец.
— Осуждаю к смерти этих бедолаг! В конце концов, это не римские граждане… Если я отпущу такого на волю, то первосвященники напишут в Рим, что я потворствую преступникам! После чего приедет сенатор, или кто-либо другой, и станет проверять доносы. Хорошо, если это будет честный человек, как ты, но люди разные. У первосвященников сундуки полны золота, они не поскупятся, дабы убрать неугодного им прокуратора. Если хочешь знать мое мнение, мы слишком долго возимся с этим сбродом! Давно пора легионам пройти по Иудее железными калигами и установить римский порядок! Провинция расцветет! Они жалуются на римлян, но стоит нам уйти, как тут же перережут друг друга! В их вере несколько течений, которые люто соперничают. Раньше они просто ругались. Теперь появились какие-то зелоты, которые взялись за ножи. Они охотно вырезали бы римлян, но сделать это непросто — римляне в состоянии себя защитить. Поэтому зелоты режут своих — тех, кто сотрудничает с нами. Если б время, которое здесь тратят на толкование Торы, использовать на благоустройство провинции, Иудея стала бы восьмым чудом света! Ты видел их города, префект? Это груда глиняных клоповников с земляными полами! Кесария не пример, это римский город, выстроенный греческими архитекторами по лучшим образцам. Даже дворцы иудеев настолько уродливы, что меня прошибает понос, когда приходится в них ночевать. А их единственный храм, эта груда камней, которой они так гордятся, что запрещают римлянам туда входить! Как будто мне доставляет удовольствие лицезреть эти стены! Но я ведь должен проверить, не прячутся ли в храме преступники?! Они пишут на меня доносы, а я строю акведук в Иерусалиме. Сам можешь увидеть: через декаду у иудеев большой праздник, называется Пейсах. В Иерусалиме соберутся толпы, по их верованию каждый иудей должен в этот день придти в храм и принести жертву — удобное время и место для возмущения. Мне придется ехать туда. Возьму с собой когорту, при виде солдат у них пропадает желание бунтовать. Приглашаю тебя, префект!
— Я начну розыск с Кесарии.
— Ты быстро его закончишь. Я дам тебе столько людей, сколько пожелаешь, окажу любую помощь. Сам убедишься, что я прав…
Дальше слушать я не стал и соскользнул с ложа.
— Куда ты? — остановил меня отец.
— Не мешай ему, префект! — засмеялся Пилат и подмигнул мне. — Центуриона ждут. Это интереснее, чем слушать беседу двух стариков…
В пиршественном зале все шло, как предсказала Валерия: рабы бегали с медными тазиками, часть гостей уже лежали бездыханными, те, кто покрепче, громко разговаривали, стараясь перекричать друг друга. Никому не было до меня дела, чему я только радовался. Оказалось, что и в коридоре, куда я вышел, до меня никому нет дела: рабы с блюдами, кувшинами, тазиками, урыльниками сновали взад-вперед, никто не подходил ко мне и не предлагал таинственным шепотом следовать за собой. Стоять в коридоре было неловко, рабы, пробегая мимо, косились; я сердито сорвал с головы венок, бросил его на пол и отправился в свою комнату. «Сейчас возьму деньги, и велю первому же рабу позвать Медею!» — решил я.
В комнате горел светильник, я уже направился к сумке, где хранил кошелек, как заметил тень в углу. Тень колыхнулась, я инстинктивно схватился за пояс. Рука встретила пустоту; я вспомнил, что отправился на пир, как и все, без оружия.
— Я такая страшная, центурион? — Валерия вышла из тени и насмешливо уставилась на меня. Я не нашелся, что ответить. — Чем искать меч, лучше закрой дверь — и покрепче!
Я молча подчинился.
— Что так долго? — спросила Валерия, подходя, и, не дожидаясь ответа, забросила мне руки на шею и впилась в губы. Я задохнулся от страсти. Валерия, присев, подцепила и ловко стащила с меня тунику, затем — набедренную повязку.
— Как ты красив, Марк! — шептала она, гладя мое тело горячими ладонями и целуя его. — Тебе, наверное, не раз говорили это? Эти руки, ноги, гладкая кожа… Ни единого шрама! Глаза, губы… Греческий бог! Как только увидела тебя — еще шел к столу, так и обезумела… Нет, я больше не могу!
Не дав мне расстегнуть сандалии, Валерия оттащила меня к ложу и толкнула на спину. Сама взобралась сверху. Ее стола полетела на пол, через мгновение она овладела мной. Волна блаженства пробежала по моему телу, я потянулся к двум молочным грудям, что колыхались надо мной. Валерия с размаху шлепнула меня по рукам.
— Не смей лапать! Пальцы у тебя железные — останутся синяки! Как потом объяснить мужу?..
Я не успел обидеться — она приникла к моим губам долгим поцелуем. Я обнял ее и изо всех прижал к себе. Она тихо вскрикнула, но не стала вырываться. Только еще быстрее задвигала бедрами, и я, ощутив, как судороги сотрясают мое тело, застонал от блаженства.
— На корабле не было женщин?! — засмеялась Валерия, сползая на бок и приникая щекой к моему плечу. — Скоро ты! Я не утолила даже первый голод.
— Это только начало! — сердито ответил я.
— Знаю! Медея обещала, что ночью ты захлебнешься от счастья?
— Откуда знаешь? — изумился я.
— Она всем так говорит. Моя рабыня видела, кого ты поймал… Завтра дашь Медее денарий и скажешь, что на пиру выпил слишком много… Она будет довольна.
— А я?
— Ты захлебнешься от счастья, как обещали. Только сделает это не сирийская шлюха, а римлянка! Ты ощутишь разницу, обещаю!
Говоря все это, Валерия не прекращала ласкать меня. И вскоре, довольная, вновь оседлала меня.
— То была легкая закуска, центурион! — сказала она, показывая в улыбке белые зубы. — Сейчас тебе подадут лучшие блюда! Я накормлю тебя досыта!
…Она угомонилась только под утро. Обессиленный, я не смог даже встать, чтоб проводить гостью — Валерии пора была уходить. На прощание она прижалась к моей щеке и спросила горячим шепотом:
— Ну, как?
Я промычал нечто нечленораздельное. Она засмеялась:
— Пиратов убивать легче?
Я вздохнул.
— Через три дня Пилат уезжает в Иерусалим и берет меня с собой, — прошептала она. — Уговори отца, чтоб последовал за прокуратором. Здесь я не смогу более приходить к тебе: пиры случаются нечасто. После пира рабы допивают вино и доедают угощение — все заняты, никому нет дела до хозяев. В обычные дни рабы трезвые и хорошо все замечают. Понятно?
Я кивнул.
— Хороший мальчик! — она погладила меня по голове и легонько коснулась губами моей щеки. — Ты даже не представляешь, как я счастлива сегодня. Тебя послали мне боги!..
Когда она шла к двери, походка ее была пружинистой и легкой — как будто и не было бессонной ночи. Это было последним, о чем я успел подумать, закрывая глаза…
2
Пилат оказался прав: розыск в Кесарии не затянулся. Прокуратор дал нам центурию солдат, они получили от отца по денарию с неправильным профилем императора и показали их владельцам гостиниц, лавок и торговых мест, посулив им за каждую такую монету десять из полновесного серебра. Вольноотпущенники Пилата, приставленные к казне, проверили денарии в собранной подати. Ходили по улицам Кесарии и мы с Акимом. После бессонной ночи я еле двигался, зато Аким к моему неудовольствию очень старался: забегал в каждую лавчонку, где сходу совал денарий под нос хозяину. Я с удовольствием оставил бы Акима и пошел спать, но мой друг плохо говорил по-гречески, а местные торговцы-иудеи не всегда понимали латынь.
Результат этой большой суеты оказался смехотворным. В казне фиска неправильных денариев не оказалось вовсе, торговцы, разглядев наши монеты, только качали головами. Зато по городу прошел слух, что приехавший из Рима сенатор скупает фальшивые монеты по десятикратной цене. На следующий день перед резиденцией прокуратора собралась пестрая толпа, в которой толкались как весьма почтенного вида граждане, так и оборванцы самого гнусного вида. Отец распорядился принять всех. За колоннадой резиденции поставили три стола — для отца, меня и Акима, солдаты стали подле нас и у входа. Армия пригодилась. На столы хлынул поток коряво битых подделок из меди, олова, бронзы и даже железа. До сих пор я понятия не имел, сколько фальшивок бродит по затерянным уголкам империи! Неловкость ситуации заключалось в том, что ненужные нам фальшивки подлежали немедленному изъятию без всякой компенсации. Отец представлял в Кесарии власть Рима, а Рим не мог допустить свободного общения подделок. Понятно, что это не нравилось тем, кто рассчитывал с выгодой обменять олово на серебро. Некоторые из просителей пытались протестовать, громко призывая гнев богов, но солдаты споро вразумили их древками пилумов. Бывших владельцев фальшивок отводили во внутренний двор. Нельзя было позволить им вернуться на площадь: ожидавшие своей очереди обитатели Кесарии немедленно разбежались бы. К обеду фальшивок набрался полный мешок, но нужного нам денария среди них не оказалось. Устали мы, устали солдаты, но отец твердо решил не прекращать розыск. Только когда поток посетителей совсем иссяк, из-за колоннады появился толстый и важный грек.
Грек был одет в пестрые одежды, подпоясанные широким атласным поясом. Посмотрев на нас хитрыми темными глазками, гость подошел к столу отца и огладил крашеную хной бороду.
— Меня зовут Плавт, — начал он. — Я содержу гостиницу близ Иерусалимских ворот неподалеку от амфитеатра. Светлые комнаты, мягкие постели, вкусная еда и лучшее в Кесарии вино. А какие у меня рабыни!..
— Что привело тебя? — прервал его отец.
— Мне сказали, ты ищешь это, — ответил Плавт, кладя на стол серебряный денарий. Отец схватил его, и по выражению лица префекта мы с Акимом поняли, что удача наконец-то улыбнулась. Грек это тоже понял.
— Я не сразу разглядел, что это за денарий, а когда увидел, решил оставить себе. Ошибка при чеканке — такая редкость! Я показывал монету друзьям, многие хотели купить ее, предлагая тройную и даже пятикратную цену, но я чту римские законы и не хочу, чтоб меня обвинили в фальшивомонетчестве.
Отец молча отсчитал десять денариев, положил их на стол и прикрыл ладонью.
— Откуда у тебя эта монета?
— Постоялец расплатился, — невозмутимо сказал грек, поглядывая на ладонь сенатора. — Месяца три тому. Получил два сестерция сдачи.
— Кто он?
— Откуда мне знать? — пожал плечами Плавт. — Мы не спрашиваем этого у гостей. Платят — и достаточно.
— Постоялец был римлянином?
— Нет. Я видел много римлян. Он говорил по латыни, но было видно, что не учил этот язык в детстве.
— Он грек?
— По гречески гость говорил еще хуже.
— Он купец?
— Нет. Скорее, лекарь.
— Почему так решил?
— В тот вечер в моей гостинице подрались легионеры: у меня доброе вино… Один достал нож и порезал второго. Постоялец, хотя я не просил его об этом, ловко зашил и забинтовал рану. Причем, сделал это так хорошо, что раненый назавтра опять сидел у меня. Мое вино влечет гостей, даже когда они при смерти…
Я заметил, что Аким встал и подошел к столу отца и последовал за ним.
— Как выглядел тот постоялец? — продолжил отец.
— Уже не молод, седина в бороде и на голове, роста среднего, крепкий и сильный. Мне показалось, что руки его знают оружие. После драки легионеров он брал в руки меч раненого, я видел, как он его держал… Лицо красивое… Да! Очень редкий цвет глаз — зеленый.
Аким издал задавленное восклицание, отец тоже обрадовался такой хорошей примете.
— Куда отправился твой постоялец? — спросил он, убирая ладонь от денариев. Грек ловко смахнул их в свой кошель.
— Он расспрашивал меня, как добраться до Иерусалима…
В тот вечер отец принял решение ехать вместе с Пилатом, я был рад, что мне не пришлось его уговаривать. После пиршественной ночи я страстно желал видеть Валерию. Не получалось. После пира Пилат звал к общему столу только отца; нам с Акимом приносили еду в комнаты. Мы вполне могли объединиться с другом для общей трапезы, но этого не желал Аким. Проходя мимо его двери, я слышал женский смех и завидовал другу. Мне тоже хотелось слышать голос, низкий, чуть с хрипотцой, так страстно произносящий «Марк…» Но как увидеть Валерию? Бродить по резиденции, надеясь на случайную встречу? Глупо, да и некогда. Подкупить раба и передать с ним весточку жене трибуна? Рискованно — раб мог оказаться как раз тем, который получает серебро от ее мужа. Валерии, если она того желала, устроить встречу было проще. Поскольку не зовет и не идет, то либо опасается огласки, либо не хочет встречаться. Надо оставить все как есть и ждать. Это были разумные доводы, диктуемые наследственной рассудочностью Назонов, но как же тяжело было с ними согласиться!..
Мы выехали на рассвете. Пилат вел с собой целое войско: когорту легионеров и алу сирийской конницы. Отец, я и Аким путешествовали верхом, Валерия ехала в закрытой повозке. Двигались мы медленно. От Кесарии до Иерусалима не более пятидесяти миль, но темп нашего движения задавала пехота. Нам пришлось заночевать в Лидде, которую мы покинули поздним утром: когорта долго сворачивала палатки и грузила колья ограды на повозки. Пилат строго исполнял древние правила воинского марша: когорта разбила лагерь у Лидды согласно наставлениям. Благо, что землю солдатам копать не пришлось: валы и рвы были вырыты ранее — Пилат путешествовал в Иерусалим и обратно несколько раз в году.
В дороге мне не довелось ни поговорить, ни переглянуться с Валерией, поэтому ехал я мрачный. Однако, когда мы перевалили через небольшую гору и увидели впереди Иерусалим, я забыл о своих терзаниях.
Главный город иудеев, раскинувшийся на вершине плоской горы, поражал своим величием. Стены, сложенные из аккуратно обтесанных камней, были выше римских. Когда мы спустились подножию, показалось, что они достают до небес. Я невольно подумал, что, случись осада Иерусалима, взять город будет совсем не просто. Пилат зря ругал иудеев — возвести такие стены по силам только великому племени. Я согласился с прокуратором, только миновав Яффские ворота. Узкие, кривые улочки, невзрачные дома — никакого сравнения с величественным Римом императора Августа! Даже дворец царя Ирода (он располагался справа от ворот) не показался мне красивым — странное, прихотливое сооружение, от вида которого становилось не по себе.
Еще на подъезде к Иерусалиму мы столкнулись с толпами паломников, бредущих на поклонение своему таинственному богу. Стены города были окружены палатками — богомольцы не помещались внутри. Нечего было думать найти свободные комнаты, да и Пилат не советовал нам искать их в гостиницах. Прокуратор предложил дворец Ирода, царь охотно дал бы приют гостям из Рима, но отец отказался. Мы остановились в претории, где было тесно, зато среди своих. Нам выделили комнату, а вот Акиму пришлось поселиться в казарме. Он ничуть не огорчился: закинул на плечи свой дорожный мешок и пошел устраиваться.
Валерия остановилась в доме, заранее снятом ее мужем в двух шагах от претория. Дом стоял на главной улице Иерусалима и имел маленький дворик. Окна выходили внутрь, стена, обращенная к улице, их не имела. Эта странная архитектура поначалу удивила меня, но потом я убедился, что большинство иудейских домов выстроены в таком же стиле.
Вечером служанка Валерии передала весть от хозяйки, и мне пришлось думать, как уйти, чтоб не насторожить отца: нас поселили в одной комнате. Счастливая мысль пришла мне в голову. Я сказал отцу, что мне, как центуриону, лучше жить в казарме, к тому же рядом с Акимом будет веселее. Отец усмехнулся, но возражать не стал. Аким мое появление встретил ухмылкой, что до солдат, то они, поглазев с любопытством на сынка сенатора, занялись своими делами. Когда на город упала ночь, я встал с дощатой койки и быстро собрался.
— Сладкой тебе ночи, Марк! — пожелал Аким все с той же ухмылкой.
— Прогуляюсь… — возразил я.
— Римлянину не безопасно гулять по ночному Иерусалиму, — возразил друг. — Не ходи далеко! Могут обидеть!
Он подмигнул, и я понял, что Аким догадался о предстоящем свидании. Сделав вид, что насмешки меня не касаются, я вышел из казармы. Стража у ворот молча расступилась, завидев мой центурионский плащ, я пошел в сторону, противоположную нужной, чувствуя, как солдаты провожают меня взглядами. Завернув за угол, я торопливо обежал преторию с другой стороны и перелез через высокий забор. Это не составило труда: в каменной кладке было несколько щербин, куда удобно было ставить ноги в сандалиях, к тому же через стену, стоило мне свистнуть, перебросили толстую веревку. Во дворике ждала закутанная в покрывало рабыня, которая и отвела меня в дом.
В этот раз Валерия не бросилась мне на шею, молча указала на ложе возле накрытого стола. Рабыня подала мне таз для умывания, после того, как я утерся мягким льняным полотенцем, сразу ушла. Валерия пресекла мою попытку заговорить: мы возлежали друг против друга и насыщались. Возлюбленная молча указывала мне на блюда, которые мне нужно съесть, я подчинялся, хотя есть мне совсем не хотелось. Несколько раз я порывался встать, но Валерия строгими жестами пресекала эти попытки. В глазах ее при этом прыгали огоньки, было видно, что она с трудом удерживается от смеха, но я не обижался. Даже если б она стала швырять в меня кубки и блюда или вылила на голову вино из кратера, я бы стерпел. Лишь бы снова ощутить на щеке ее горячее дыхание и услышать стон, исторгаемый ею в припадке страсти…
— Доволен ли муж приготовленным мною обедом? — церемонно спросила Валерия, когда я устал есть и поставил на стол чашу. — Вкусна ли пища, сладко ли вино?
— Доволен! — отозвался я, сообразив, что меня втягивают в какую-то игру.
— Желает ли муж чего-то еще?
— Желает! — подтвердил я.
— Чего? Терма, массаж, брадобрей?
— Ни то, ни другое, ни третье.
— Тогда что?
— Муж желает жену!
— Может, лучше рабыню? Молодую, гибкую сирийку с большой грудью? Обученную любви в восточном гареме?
— Сказал жену, значит, жену! — вскричал я, вскакивая с ложа. — Я тебе покажу сирийку!
Валерия взвизгнула и понеслась прочь. Я догнал ее у самых дверей. Она стала вырываться с силой, которая удивила меня. Но остановиться я не мог. Грубо задрал ей столу на голову и сходу овладел, удерживая за бедра. Валерия продолжала вырываться, но скоро ее порывы приобрели определенный ритм. Затем она тяжело задышала и стала вращать бедрами. Когда я застонал, она ответила протяжным криком. Я крепко прижал ее к себе, подержал немного в объятьях и отпустил
— Сатир! — сердито сказала она, оправляя столу. — Кто ж так поступает с женой?
— Жена не слушает мужа!
— Стоит ее наказать, — согласилась она. — Только не больно и чтоб без синяков. Какое наказание выбирает супруг?..
Удивительно: столько лет прошло, а я до сих пор вспоминаю каждый миг, проведенный с Валерией. Эти воспоминания сладки до боли. Ни одну женщину в мире я не любил так, как эту гордую римлянку. Она тоже любила меня. Ночами мы покрывали поцелуями тела друг друга, и было непонятно, кто испытывает при этом большее счастье — тот, кто дарит поцелуи, или тот, кто получает их. Мы были большими детьми. Умными, образованными, уже начавшими познавать этот жестокий мир, но все же наивными и глупыми. Валерии очень хотелось выглядеть взрослой матроной, но ей шел всего девятнадцатый год. Детское постоянно прорывалось в ней, и такую я любил ее еще сильнее. Валерии давно уже нет в живых… Я каждый день молю Господа, чтобы он даровал ей грехи, вольные и невольные, и принял в царствие свое некрещеную язычницу. Иоанн говорил мне, что это невозможно. Я не верю. Миллионы людей жили до пришествия Господа, были среди них люди добрые и праведные, неужели душам их суждено неприкаянно бродить во тьме? Неужели я не встречу ее там, за земным пределом? Сама эта мысль больно ранит меня. Но Господь милостив, он принял в царствие свое некрещеного разбойника, признавшего его на кресте, поэтому вознаградит меня встречей с теми, кого я любил здесь. Большего я не прошу…
3
Лицо начальника тайной стражи прокуратора покрывал плотный загар. Глубокие морщинки на лбу и у глаз, куда не попало солнце, выделялись на темной коже, как шрамы, отчего Ефраний выглядел, как легионер-ветеран, побывавший в десятке битв.
— Иудеи называют это «сика»! — Ефраний взял со стола длинный кинжал с костяной рукоятью. — Лезвие узкое, длинное. При сильном замахе пробивает нагрудник из буйволовой кожи. «Сику» прячут под одеждой, вот здесь! — Ефраний ткнул под левую руку. — Вешают на веревочной или ременной петле. Легко достать, в толпе — ударить… Человек тихо оседает на землю, через мгновение — мертв. Убийц как растворился… — Ефраний значительно взглянул на нас с Акимом. Мы не ответили. Я — весь в воспоминаниях о прошедшей ночи, Аким — погруженный в свои думы.
— Не передумали?
Мы, не сговариваясь, кивнули.
— Легионеров бы вам, но с ними хуже! — вздохнул Ефраний. — Солдат здесь не любят. Могут напасть скопом. Легионеры заколют пару-другую — вспыхнет бунт. Перед Пейсахом иудеи злые…
Спустя пол стражи я и Аким, ряженые под иудеев, вышли за стены Иерусалима. Доверить нам розыск на узких улочках города Ефраний не решился, сказав, что справится сам. Нам предстояло искать человека с зелеными глазами в лагерях паломников.
— Только не ходите у палаток! — наставлял нас Ефраний. — Обязательно спросят, кого ищете, а вы не знаете арамейского… Сядьте в сторонке и наблюдайте. Здесь не станут задевать человека, который погружен в размышления. Вдруг беседует с богом? Если все же заговорят, молча вставайте и уходите! Такое никого не удивит: их вера предписывает не церемониться с наглецами, мешающим благочестивым мыслям. Начнут хватать за одежду — бейте «сикой» и бегите к воротам. Я предупрежу стражу…
Ефраний выдал нам по «сике» и легкому панцирю из буйволовой кожи. Помог облачиться и пристроить кинжалы подмышками. Проверил, легко ли нам выхватить «сики» в случае нужды. Чувствовалось, что начальник тайной стражи человек сведущий и опытный. Ему явно не хотелось отпускать нас одних — Ефраний отвечал за наши жизни, но воспрепятствовать гостям из Рима было не в его власти. Мы с Акимом вышли через Яффские ворота и повернули в разные стороны. «Двое мужчин обязательно привлекут внимание, — учил Ефраний. — Одинокий интереса не вызывает…»
Я спустился в долину, где протекал ручей. По склонам были разбросаны многочисленные палатки, меж которыми ходили мужчины и женщины, бегали дети и животные. Я выбрал смокву чуть в стороне от лагеря паломников, сел, прислонившись к стволу спиной. В шагах пяти от меня лежала дорога, по ней то и дело проходили люди и ехали повозки — место для наблюдения самое удобное. Я сидел, опустив глаза, как будто погруженный в мысли, а сам исподтишка рассматривал прохожих. Как и говорил Ефраний, на меня не обращали внимания. К тому же, осмотревшись, я заметил, что не один пребываю здесь без видимой цели. Еще двое мужчин, по виду бродяги, находились неподалеку — один под деревом, другой — просто на зеленой траве. Первый спал, подложив под голову дорожную сумку, второй, худой, в поношенной одежде, смотрел на палатки паломников и похоже, кого-то ждал.
Время тянулось медленно. Я слышал, как на башне пробили одну стражу, потом вторую. Сидеть на одном месте было тяжко. Я с удовольствием размялся бы, но это означало привлечь внимание. Единственное, что я позволил себе — сходить к ручью и напиться. Утолив жажду, я почувствовал голод. Ефраний снабдил нас «сиками», но о еде не подумал. Или поступил так умышленно — в надежде, что голод вернет нас в преторию. Я решил, что назло ему досижу до темноты или — пока не увижу таинственного незнакомца.
Его не было. Дорога оказалась оживленной: много мужчин прошло мимо меня, некоторые подходили по приметам, кроме одной — цвета глаз. Путники были кареглазыми, пару раз мимо прошагали светлоглазые крепыши, у одного я даже разглядел голубые. Но этот был высок, рыж и совсем юн. От скуки я стал разглядывать и женщин, выделяя молоденьких. Иудейки шли в сопровождении мужчин, но встречались и без спутников. Красивые попадались часто, но даже самая хорошенькая не шла в сравнение с Валерией. Я с гордостью подумал о том, что во всей провинции не найдется женщины, которая могла бы соперничать с римлянкой. Возможно, и в Сирии не сыщешь. И такая женщина любит меня! Я не заметили, как погрузился в грезы и очнулся, когда на меня пала тень.
Передо мной стоял юноша: высокий, тонкий, еще безбородый. Незнакомец участливо посмотрел на меня и о чем-то спросил по-арамейски. Наставления Ефрания вылетели у меня из головы, и я отрицательно покрутил головой. Юноша улыбнулся.
— Голоден?
В этот раз он спросил по-гречески, и я кивнул. Юноша достал из сумки круглую лепешку, преломил ее (при этом он воровато оглянулся по сторонам) и протянул кусок мне. Я жадно схватил хлеб. Незнакомец кивнул и торопливо убежал. Я удивился, но потом вспомнил, что иудеям нельзя делить трапезу с иноверцами. Незнакомец нарушил какой-то свой закон, наверное, его отругали бы за это, тем не менее, он пожалел иноверца. Я подумал, что Пилат и Ефраний не совсем правы, ругая иудеев.
Хлеб был свежим и очень вкусным. Я набросился на еду, откусывая от лепешки большие куски и жуя полным ртом. Я упивался вкусом и ароматом нежданного угощения и не сразу заметил очередного путника. Он шел по направлению к городу, и было видно, что издалека. Сандалии, одежда и даже лицо его покрылись пылью. Шагал он устало, опираясь на посох и придерживая левой рукой суму на плече. Человек был уже близко и, когда он поднял взгляд от дороги, я увидел зеленые глаза, ярко выделявшиеся на грязном лице.
Я замер с непрожеванным куском во рту. Незнакомец прошел мимо, не обратив на меня внимая, и я смог убедиться, что приметы, которыми нас снабдили в Кесарии, совпадают. Я торопливо сглотнул, встал и двинулся следом. Зеленоглазый успел удалиться шагов на двадцать, но я едва не догнал его: засиделся, да и ноги мои оказались длиннее. Я заставил себя умерить пыл и пошел, стараясь держать расстояние, рекомендованное Ефранием. «В воротах нагоню и сразу же позову стражу!» — решил я и успел даже обрадоваться, как славно у меня получилось. В этот миг меня дернули за рукав.
Рядом стоял молодой иудей, худой, в заношенной одежде. Я не заметил, откуда он появился. Это был тот самый бродяга, что сидел неподалеку от меня. В глазах его горел странный огонь. Иудей что-то спросил по-арамейски, показывая на зеленоглазого. Вспомнив наставления Ефрания, я молча вырвал руку и хотел идти. Но иудей вцепился в мою одежду и заговорил быстро и гневно. Я толкнул его в грудь. Иудей свалился в пыль, но тут же вскочил.
— Римский пес! — вскричал он по-гречески и выхватил нож. — Я следил за тобой! Ты не знаешь арамейского: я обозвал тебя богохульником, ты ухом не повел. Ты не иудей, значит служишь римлянам… Зачем преследуешь правоверного? Хочешь убить? Сначала я убью тебя!.. — на губах иудея выступила пена.
Я легко отбил его удар и подножкой свалил бесноватого на землю. Он вскочил, будто его подбросили снизу, и вновь замахнулся. Я уклонялся, отступая, а он все наседал, размахивая ножом. Дрался он неумело, но злость придавала ему силу: он кидался вперед отчаянно, не думая о защите. Поняв, что просто так мне не отвязаться, я выхватил «сику». Иудей не испугался. Только завопил громче и рванулся вперед. Я хотел ранить его в руку, державшую нож, но в последний миг иудей передумал колоть в живот и дернул клинком вверх, целясь в горло. Лезвие моей «сики» прошло под его рукой и с хрустом пробило грудь нападавшего. Иудей уронил нож и осел на дорогу.
Я опустил «сику» и растерянно оглянулся. Зеленоглазого незнакомца нигде не было видно, а от палаток к нам бежали люди. Я устремился к Яффским воротам. Склон здесь был крутым, но я одолел его в считанные мгновения. Привлеченная криками, раздававшимися за моей спиной, стража выбежала из ворот. Не успел я опомниться, как легионеры скрутили меня.
— Попался! — закричал десятник. — Нож в руках, кровь на лезвии — не открутится. Висеть тебе на кресте, иудей!
— Я центурион Руф, — прохрипел я. — Ведите меня к Ефранию!
Лицо десятника стало серьезным.
— Задержите их! — велел он страже, указывая на бегущую к воротам толпу. — Я уведу центуриона. Они его разорвут!..
Десятник забрал у легионеров «сику», сунул себе за пояс и потащил меня в какой-то переулок. Мы несколько раз поворачивали, прошли какими-то дворами и, наконец, увидели преторий…
— Я нашел свидетелей, которые подтвердили, что иудей первым напал, — сказал мне вечером Ефраний. — Тем, кто пришел за тобой к воротам, объявили, что ты защищался, потому признан невиновным. Зеваки не знали, что убийца — переодетый римлянин. Иначе здесь стояла бы толпа, — Ефраний вздохнул. — Тебе, центурион, лучше не выходить в город. Не знаю, разглядели ли твое лицо, но осторожность не помешает. Перед возвращением в Кесарию оденем тебя легионером, выберем шлем с большими нащечниками — чтоб только нос торчал. Слава богам, что иудей попался неумелый, и ты оказался проворней. Ни один Пейсах без резни не обходится: не римлянина, так римского гражданина из иудеев зарежут…
Ефраний подробно расспросил меня о зеленоглазом.
— В городе найдем! — сказал уверенно. — Лишь бы оказался тот, кто нужен…
Аким, присутствовавший при разговоре, вызвался помогать. Ефраний поморщился, но согласился.
— Говори везде по-гречески! — велел он. — Сойдешь за купца, что ищет товарища. На греческих купцов не бросаются…
Следующую ночь я провел с Валерией, утром спал до поздна, а затем уныло слонялся по казарме. Дежурный центурион, который знал, что я зарезал иудея (это пробудило в нем симпатию), вызвался показать мне преторий. Мы обошли его весь — от покоев Пилата до подземных камер тюрьмы. Камеры оказались тесными, с низкими потолками. Свет в них проникал сквозь узкие горизонтальные окошки, выходившие во двор. Грубые каменные скамьи, единственный предмет обстановки узилищ, были сооружены под окнами, на них можно было встать и выглянуть во двор. Но рассмотреть удавалось только ноги проходящих — нижний край окошка располагался на уровне мощеного двора. Центурион показал мне и преступников — трех тощих оборванцев, заточенных в одной тесной камере.
— Участвовали в мятеже и убили легионеров, — пояснил, закрывая дверь. — Напали исподтишка… Через пять дней повесим!
— Почему через пять? — удивился я.
— По иудейскому обычаю в Пейсах одного из приговоренных к смерти отпускают на свободу. Поэтому ждем.
— Прокуратор отпустит убийцу?
— Не хочет ссориться с первосвященниками.
— Кого помилуют?
— Толпа выберет, — пожал плечами центурион. — Может не из этих. Перед праздником тюрьма наполняется…
На второй день вынужденного заточения в претории мне стало совсем одиноко. Отцу было не до меня: дни напролет он встречался с богатыми людьми Иерусалима, уговаривая их проверить свою казну. Аким с утра уходил на розыски; его, как и Ефрания, я видел только вечерами. Легионеры Пилата меня сторонились: для них я был сенаторским сынком по нелепой прихоти забредший в казарму. Оставалось валяться на койке, грубо сколоченной из толстых досок или слоняться по двору. С каким удовольствием я бы провел это время с Валерией (она тоже томилась одиночеством), но думать об этом было опасно: мои ночные отлучки и без того вызывали нескрываемое любопытство солдат. Скуки ради я попросил секретаря Пилата раздобыть греческий перевод Торы (свиток отыскался в архиве), и целыми днями читал, пытаясь постигнуть смысл запутанных высказываний иудейских мудрецов. Скучные места, описывающие порядок богослужения, я пропустил, но с интересом углубился в рассказы о царях и подвигах иудейских героев. Секретарь сказал, что книге этой более тысячи лет; и я с удивлением открыл, что в Иудее цари появились много раньше римских. Мы после царей стали выбирать сенат и консулов, иудеи — судей и первосвященников. Это племя, если следовало заветам бога, могло сокрушить любого врага, но оказывалось беспомощным, отходя от веры. Книга стремилась убедить в этом иудеев и призывала их следовать законам Моисея. Получалось, что иудеи заветам не следовали. Я, римлянин, находился сейчас в Иерусалиме, как завоеватель. Иудеи склонили свои выи пред Римом, Тора не помогла. Мне понравилась характеристика, данная иудеям одним из пророков — «жестоковыйные». Я повторял ее вслух и смеялся, вызывая удивление солдат.
Я дочитывал Тору, когда в казарму вбежал Аким. Случилось это среди дня, поэтому я с удивлением глянул на друга. Аким торопливо схватил свой дорожный мешок, вытряхнул его на койку и стал отсчитывать денарии из тех, что получил от Прокула. Считал он долго. Кучка серебра, из которой он брал денарии, совсем истаяла, когда Аким ссыпал отобранные монеты в кожаный кошель, а остальные вместе с другими вещами увязал обратно. Заметив мой любопытный взгляд, Аким подмигнул:
— Деньги правят миром, Марк!
Он выбежал из казармы. Мгновение я колебался, затем, отложив свиток, устремился следом. Меня разбирало любопытство: зачем Акиму понадобилось столько серебра? Не собрался ли он, в самом деле, купить дом в Иерусалиме?
Аким опередил меня, но я не стал его догонять. Другу могло не понравиться мое любопытство. В последние дни Аким сторонился меня; я считал, что из-за моих свиданий с Валерий. Я не печалился. Он же не звал меня, когда веселился с рабыней в Кесарии?
За преторием Аким свернул в извилистую улочку. Я притаился за углом в ожидании, куда он двинется, но тут к Акиму подошел человек. Судя по одежде, это был иудей, молодой и юркий. Он, скорее всего, ждал друга: выскочил из какого-то двора навстречу. Аким протянул ему кошель с денариями. Иудей сначала взвесил кошель в руке, затем развязал его и запустил ладонь внутрь. Извлек горсть монет, рассмотрел их, и ссыпал обратно. Затем вернул кошель Акиму и сделал приглашающий жест.
Мы так и шли втроем: иудей, следом за ним — Аким, я — отстав шагов на тридцать. Улочка скоро кончилась, мы пересекли площадь, затем миновали ворота и оказались за стенами города. Я забыл все наставления Ефрания: каждый встречный мог опознать во мне римлянина. В короткой тунике без рукавов (стояла жара) и солдатских сандалиях я заметно выделялся среди встречных иудеев. Некоторые бросали в мою сторону недобрые взгляды. У меня не было оружия, случись что, я не смог бы отбиться. Но любопытство затмило во мне осторожность.
Мы отошли от городских стен на несколько стадий. Здесь располагалось небольшое селение, иудей подвел Акима к крайнему домику. Аким заглянул через ограду, радостно воскликнул и отдал кошель проводнику. Иудей жадно схватил деньги и засеменил обратно. Прижимая к груди тяжелый кошель, он пробежал мимо, а я устремился к ограде.
Увиденное поразило меня. Следуя за Акимом, я строил разные догадки, но такого не ждал. Во дворе Аким радостно сжимал в объятьях уже знакомого мне зеленоглазого. Лицо незнакомца тоже светилось радостью. Они стояли так довольно долго, затем Аким оторвал от себя товарища и, удерживая его за плечи, стал рассматривать.
— Похудел! — сказал участливо. — Голодал?
— Ходил много, — пояснил зеленоглазый (голос у него был густой, приятный). — Давно меня ищешь?
— Пятый месяц!
— Так долго?!
— Ты знаешь мое счастье… Не успел появиться в Иудее — в рабство продали! Как в прошлый раз… Отвезли в Рим, на торгу стоял в цепях. Хорошо, сенатор добрый мимо проходил: дал денег — отпустили. Сюда с ним приехал…
— Дома все хорошо?
— Уходил — было нормально, — вздохнул Аким. — Как сейчас, не знаю. Ждут тебя.
— Недолго осталось. Страстная неделя.
— Видел? — ахнул Аким.
— Ходил следом.
— Какой он?
— Не такой, как пишут на иконах, хотя сходство есть. Высокий, сильный, красивый. Строгий и добрый одновременно. Говорит — каждое слово в душу. Я по-арамейски еле-еле, а тут все понимал — до каждого звука. Давай присядем!
Зеленоглазый опустился на ствол дерева, лежавший у стены, Аким сел рядом. Теперь я видел только их затылки. Зато слышал хорошо. Аким и его товарищ говорили по-скловенски, я понимал не все, но суть схватывал.
— Рассказывай! — торопил Аким. — Если б знал, как тебе завидую! Чудеса видел?
— Вкушал хлеб и рыбу.
— Те самые?
— Те… Мне досталась лепешка и рыбка, некоторые брали больше.
— Вкусные?
— Попробуй! — зеленоглазый достал из сумки кусочек засохшего хлеба. Аким жадно схватил его и бросил в рот. Захрустел.
— Обычный сухарь! — сказал разочарованно.
— Думал: манна небесная?! — засмеялся зеленоглазый. — Конечно, обычный. Люди есть хотели, а не причащаться.
— Зато я причастился, — не согласился Аким. — Получил прощение грехов.
— Так легко не получится! — снова засмеялся зеленоглазый. — Знаю теперь…
— Говорил с ним?
— К нему не подойти… Ученики ревнивые, близко не подпускают. Их можно понять: толпа, все лезут, больных несут. Кто я? Даже не иудей.
— Не гнали?
— Сказал, что прозелит.
— Поверили?
— Под одежду не заглядывали. Спросили о Торе, процитировал кое-что по-гречески — отстали. Косились, но терпели.
— Много его слушал?
— Трижды. Он проповедует, набежит толпа, потом — раз и ушел ночью. Куда — только ученики знают. Ходишь потом, ищешь…
— Вблизи не видел?
— Однажды в толпе подобрался. Хотел коснуться, но не успел. Он обернулся, увидел меня и подмигнул.
— Ну? — ахнул Аким.
— Он знает, кто я.
— Не может быть!
— Почему? Он же бог…
— Но еще не вознесся!
— Что это меняет? Он сын божий, которому ведомо все. Этот взгляд… Я не могу передать, что я почувствовал… Какой-то миг, а я увидел себя, жизнь свою… Он велел мне не бояться.
— Чего?
— Испытаний. Только я не знаю, каких.
— Я знаю! — вздохнул Аким. — Какие деньги сюда принес?
— Денарии.
— Такие? — Аким достал из небольшого кошелька монету.
— Вроде, — неуверенно сказал зеленоглазый, рассматривая.
— Кто делал?
— Нашелся один… Обещал, что в музее не отличат от подлинного.
— Убивать надо таких специалистов! Кто сейчас правит Римом?
— Тиберий. На монете написано.
— А портрет чей?
Зеленоглазый внимательно посмотрел на денарий:
— Не знаю. Не Тиберий?
— Гай Юлий Цезарь, по прозвищу Калигула. Сын Германика, приемный внук Тиберия, пребывающий в подростковом возрасте. Тиберию править еще шесть лет, никто пока не думает видеть на его месте юного садиста.
— Мало ли каких денариев ходит в Риме?
— Здесь действует закон об оскорблении императора. Наказание — смертная казнь.
— Я принес только триста денариев!
— Но каким-то образом ухитрился отдать сразу двести.
— Ученикам надо было уплатить подушную подать Риму, — понурился зеленоглазый. — Денег у них не было…
— Сам когда-то учил меня: народ в прошлом приметливый! — с досадой сказал Аким. — У них есть время рассматривать! Крупная партия странных денариев поступила в казну, налицо все признаки созревшего заговора. Сеян прислал в Иудею сенатора с заданием найти, изобличить…
— Откуда знаешь?
— Этот сенатор освободил меня. Я его сопровождаю. Твои приметы известны, сейчас по Иерусалиму шныряют ищейки Пилата. Пока они не догадались, как я, найти расторопного иудея, пообещать ему большие деньги… Уходить тебе надо, Кузьма! Немедленно…
— Я не могу! — воскликнул человек, которого Аким назвал Кузьмой. — Все случится в эти дни! Я девять месяцев ходил за Господом, чтоб увидеть все самому.
— Тебя повесят на кресте!
— Если рядом с ним, то пусть!
— Умерь гордыню! Кто будет рядом с Господом, давно известно. Тебя могут тихо задушить в тюрьме или утопить в море. Что я скажу Рите?
— Она поймет!
— Не думаю…
Аким с Кузьмой принялись горячо спорить. Их разговор стал непонятен, и я отошел от ограды. Открывшаяся тайна огорчила меня. Мне было обидно: Аким обманывал нас с отцом! Не приходилось сомневаться: он еще в Риме знал, кто привез в Иудею денарии с неправильным профилем. Я зря мечтал: отец раскроет заговор, Сеян сделает его легатом, а я стану трибуном. За бродягу, пришедшего в Иудею с тремястами фальшивыми денариями, награды не будет. Все зря!..
Погруженный в свои думы, я не заметил, как преодолел обратный путь до претория. Дежурный центурион сказал, что сенатор у себя. Я поднялся к отцу и все рассказал. Он выслушал меня, не перебивая.
— Отведешь меня к ним? — спросил отец, когда я закончил. — Дорогу помнишь?
Я кивнул. Во дворе претория отец сказал несколько слов дежурному центуриону, тот дал команду и десять солдат взяли нас в плотное кольцо. Отец, в отличие от меня, помнил, что мы живем среди враждебного народа. У домика в пригородном селении отец велел солдатам быть наготове и толкнул створку ворот. При виде сенатора лицо Акима стало изумленным. Затем он увидел меня и побагровел.
— Щенок! Выследил… Да я тебя!.. — он выхватил «сику».
Кузьма издал предостерегающий возглас, но Аким уже ринулся ко мне. Я был безоружен, к тому же странное оцепенение овладело мной. Аким замахнулся, но в тот же миг отец подцепил его лодыжку сводом стопы. Аким грохнулся навзничь. Отец точным ударом сандалии вышиб «сику» из его руки. Подбежавшие солдаты скрутили Акима и его друга.
— Клятвопреступник! — сердито сказал отец Акиму, когда солдаты поставили его на ноги. — Я освободил тебя! Я накормил тебя и одел! Все эти месяцы ты видел от нас только добро. Ты обещал защищать меня и сына, а сам хотел зарезать!
— Прости его, сенатор! — вмешался Кузьма. — Он защищал меня. Мой друг бывает горяч…
— У тебя будет возможность просить за себя! — холодно ответил отец…
4
Допрос вел Пилат. Он сам пожелал этого, отец не стал возражать. Прокуратор обладал полной властью в Иудее, даже сенатор, прибывший по поручению консула, не мог помешать ему отправлять правосудие. Зеленоглазого привели на допрос со связанными за спиной руками и поставили посреди зала. Прокуратор молча разглядывал преступника. К моему удивлению зеленоглазый не выглядел испуганным или подавленным. В свою очередь он с интересом смотрел на Пилата, и я не увидел в его глазах страха или хотя бы смущения — только любопытство. И, что самое удивительное, жалость. Прокуратор тоже уловил это и нахмурился.
— Твое имя? — спросил сердито.
— Козма, — сказал зеленоглазый звучным голосом.
— Грек?
— Нет. Моя страна лежит к северу за Понтом Эвксинским.
— Ты привез в Иудею фальшивые денарии?
— Я.
— Зачем?
— На еду и кров.
— Почему не взял настоящие?
— У нас они столь редки, что за один денарий требуют горсть золота. Я не беден, но платить столько не могу. Поэтому купил слиток серебра, отдал мастеру и тот отчеканил мне денарии. Я не знал, что он ошибся.
— Ошибку совершил ты — когда делал заказ! — усмехнулся Пилат. — За подделку монеты в Риме строго наказывают!
— Я знал это.
— Привез бы монеты своей страны, здесь обменял на денарии, — пожал плечами Пилат. — Все так делают.
— В нашей стране не чеканят монеты из серебра и золота, — пояснил Козма. — Медные слишком тяжелы.
— Варвары… — хмыкнул Пилат. — Продать бы тебя в рабство… Я наказал бы тебя сам, Козма, но ты нужен сенатору. Думаю, в Риме тебя распнут.
— Меня повезут в Рим?
— Консул Сеян поручил сенатору найти тех, кто чеканил фальшивые денарии.
— Если сенатор думает представить меня Сеяну, то это напрасные хлопоты.
— Почему?
— Пока будем плыть в Рим, Сеяна не станет.
— Умрет? — удивился Пилат.
— Казнят. По приговору императора Тиберия. Консул послал сенатора в Иудею раскрыть мнимый заговор, а сам составил настоящий.
Пилат с отцом переглянулись, лица их посуровели.
— Откуда знаешь? — отрывисто спросил прокуратор.
— Умею предсказывать будущее.
Лицо Пилата отмякло.
— Предскажи мое!
— Это не трудно. Ты будешь править Иудеей еще шесть лет — пока не умрет Тиберий. Затем тебя вызовут в Рим, и новый император отправит тебя в изгнание. Там ты и умрешь. Всеми забытый и без славы.
— Пугаешь, надеясь избежать наказания, — улыбнулся Пилат. — Думаю, ты обычный обманщик. Зачем пришел в Иудею?
— Увидеть бога.
— Ты выбрал удачно! — захохотал прокуратор. — Как можно увидеть то, чего нет? Иудейский бог не имеет облика!
— Сын имеет.
— У Иеговы появился сын? Давно?
— Тридцать лет назад.
— Значит, уже взрослый… — Пилат продолжал смеяться. — Хотел бы я посмотреть…
— Ты увидишь его! Обещаю!
— Угрожаешь мне? — нахмурился прокуратор.
— Мои руки связаны, а вокруг — солдаты, — улыбнулся Козма. — Разве ты боишься меня?
— Ты дерзок! — покачал головой прокуратор. — И смел. Я люблю храбрых! Если суждено умереть, лучше сделать это весело. Кессарийский трактирщик сказал сенатору: ты лекарь! Это так?
— Трактирщик сказал правду.
— Скажи тогда, чем я болен?
— Ты здоров, прокуратор. Сенатор и его сын, которые сидят рядом, тоже здоровы. В этом зале только один человек болен — солдат у дверей. Он пил много сикера и погубил свою печень. Его уже не спасти…
В наступившей тишине особенно громким показался звук металла, ударившего о камень. Солдат, стоявший у дверей, выронил пилум.
— Авл! — сердито окликнул Пилат. — Подойди!
Провинившийся легионер подошел, ступая негнущимися от страха ногами.
— Ближе!
Прокуратор внимательно осмотрел дрожащего солдата.
— Ноги отекли, глаза пожелтели, — заключил он. — Похоже, ты прав! Почему решил, что он пил сикер? Мои солдаты любят вино.
— От Авла пахнет сикером.
— Всегда считал, что сикер — яд! — заключил прокуратор. — Уведи Авла! — велел он центуриону. — И вели дать двадцать палок! Солдат не должен бояться смерти!
— А ты не боишься ее, прокуратор?
Вопрос Козмы был настолько дерзок, что я похолодел. Я увидел, как у Пилата дернулась бровь, но вспышки гнева почему-то не последовало.
— Все боятся смерти, — спокойно ответил Пилат. — Но храбрый солдат, видя ее, не бросает оружие.
— Солдату суждено пасть от руки врага или быть казненным за трусость, — продолжил Козма. — Выбор небогатый.
— У кого он лучше? — пожал плечами Пилат.
— У тех, кто действительно не боится.
— Такие есть?
— Появились.
— Кто они?
— Люди Божьи.
— Понимаю! — усмехнулся прокуратор. — Последователи сына Иеговы. Боюсь разочаровать тебя, лекарь, в Иудее чуть ли не каждый год появляется новый пророк, «машиах», как они их называют. Появляется много последователей, которые славят пророка. Они готовы растерзать любого, кто усомнится в новом учении. Проходит немного, и люди забывают своего «машиаха».
— Он не «машиах».
— А кто же?
— Бог и сын бога.
— Он представил тому убедительные доказательства?
— Представит через несколько дней.
— И что это будет?
— Воскресение из мертвых.
— Так он умер?
— Нет еще.
— Значит, умрет. Странно для бессмертного бога, не находишь?
— Его родила земная женщина и внешне он такой же человек, как и мы. Только мы не воскресаем после смерти. Вернее, не воскресали до сих пор.
— Ты лжешь! — возразил Пилат. — Я знаю историю. Земные женщины часто рожали детей от богов, после смерти отцы забирали их на небо. Вспомни Геракла!
— Я тоже знаю историю, прокуратор! Боги забирали своих детей, но остальных людей ждал Аид, Тартар или Гадес. Место невеселое.
— Твой бог предлагает лучшее?
— Мой бог дает воскресение из мертвых.
— Означает ли это, что я повешу тебя, а ты оживешь?
— Нет! Человеческое тело умрет и истлеет. Душа останется жива. В царстве божьем она получит новое тело.
— Что это за царство?
— Там правит бог. Там нет голода, болезней, войн и убийств. Там не покупают и не продают людей. Там равны все: те, кто был на земле правителем и последним рабом. Там высшая справедливость: если раб был благочестив в земной жизни, то он сядет ближе к Господу, чем порочный правитель.
— Это вредная вера! — сказал Пилат. — Рим будет бороться с ней.
— Рим проиграет эту войну.
— Рим может проиграть сражение, но не войну! — усмехнулся Пилат. — Немало царей и народов убедились в этом.
— В этой войне сражаются не мечом, а словом.
— Словом не победить легионы!
— Объятые страхом легионы не дорого стоят.
— Кого им бояться?
— В Риме боятся все. Провинившийся солдат едва не обмочился от страха, стоило тебе позвать его. А ведь знает, что жить ему осталось недолго! Ваши души объяты страхом. Легионер боится центуриона, центурион боится трибуна, трибун — легата. Легат дрожит перед консулом, а консул — перед императором. Всесильный император в свою очередь опасается убийц, ему мерещатся заговоры. Появление неправильной монеты расценивается, как покушение на власть императора, в дальнюю Иудею направлен сенатор с заданием ревностно расследовать этот пустяк. Сенатор понимает ничтожность поручения, но не решается возразить, поскольку боится за свою жизнь и жизнь сына. Какой смысл везти меня в Рим? Но сенатор повезет, поскольку опасается, что ему не поверят, а, не поверив, накажут. А ты, прокуратор? Кто может воспротивиться тебе в Иудее? Ты свободен поступать, как заблагорассудится, но ты бежишь от этой свободы, поскольку боишься. Первосвященники могут написать на тебя донос, и ты осуждаешь на казнь невинных, хотя не хочешь делать этого. И еще не одного осудишь… Что стоит величие Рима, если самый могущественный человек в империи дрожит от страха, как последний раб? Нищий, собирающий подаяние у городских ворот, счастливее императора, потому что жизнь его никому не нужна. Что значат легионы, золото, почести, когда ночью ты пробуждаешься от ужаса и, дрожа, высматриваешь, не крадутся ли к твоему ложу убийцы?!.
Я страхом смотрел на прокуратора: тяжелые желваки катались под загорелой кожей его лица, а лоб, казалось, собрался в одну сплошную морщину. Я боялся, что Козму зарежут прямо здесь, не дав закончить. Но этого не произошло. Когда арестованный умолк, прокуратор сделал знак центуриону, и его увели…
Суд над Акимом не затянулся. Отец произнес обвинение, прокуратор спросил подсудимого, что он может сказать в оправдание.
— Я не собирался убивать мальчишку! — буркнул Аким.
— Этот мальчишка — римский центурион! — возразил Пилат.
— Должность не делает его старше… Он не защищался, а я не убиваю безоружных.
— Ты хочешь сказать: если б центурион был в полном облачении и обнажил меч, ты убил бы его?
— Непременно! Не люблю предателей.
— Сенатор считает предателем тебя. Ты клялся защищать его и сына.
— Сенатор запамятовал: я обещал защищать его на пути в Иудею. На земле провинции обещание утратило силу.
Пилат посмотрел на отца. Тот, подумав, кивнул.
— Обвинение в клятвопреступлении снимается, — сказал прокуратор и сделал знак секретарю записывать. — Но это не имеет значения. Подсудимый в суде подтвердил, что собирался убить римского центуриона. Преступление карается смертью. Я приговариваю его!
Лицо Акима не выразило страха.
— Меня повесят с разбойниками, которые сидят в тюрьме? — спросил он.
— Они иудеи, их повесят в Иерусалиме, — пояснил Пилат. — Здесь этому придают значение: иудею важно быть похороненным в своей земле — чем ближе к храму, тем лучше. Тебя отведут в Кесарию. Там решим. Не думаю, что это будет крест. Сенатор сказал: в своей стране ты командовал когортой. Я солдат и считаю: ты заслужил быструю смерть.
Аким удовлетворенно кивнул и посмотрел на конвой.
— Погоди! — остановил его прокуратор. — Ответь, ты тоже поклоняешься сыну Иеговы?
— Да!
— Я был прав: опасная вера!
— У тебя, прокуратор, сложилось неправильное впечатление… — хотел возразить Аким, но Пилат прервал его:
— Не тебе судить о моих впечатлениях!..
Вечером я рассказал о суде Валерии. Она выслушала, не перебивая и вздыхая время от времени. Я думал, что она жалеет меня, но Валерия думала о другом.
— Твой отец не получит награду от консула? — спросила она, когда я умолк.
— Думаю, нет. Сеян велел раскрыть заговор, а его не было.
— Отец не останется в сенате и вернется в Лугдунум?
— Думаю, так.
— Лугдунум больше Кесарии?
— Меньше. Но гораздо красивее! Там такая река! А лес!..
— Я хотела жить с тобой в Риме, — перебила меня Валерия. — Но если не получится, пусть Лугдунум! Мы побываем в Риме?
— Консулу надо представить отчет о розыске.
— Со временем ты получишь наследство, станешь сенатором, и мы сможем приехать в Рим?
— Конечно!
— Я согласна! — повторила Валерия. — Когда вернется Грат, я скажу ему, что развожусь.
— Он не отпустит тебя.
— Я свободная римлянка! Рабыню могут не отпустить; римлянка разводится с мужем, если желает. Не забывай, кто мой дядя! Он недоволен Гратом: его родственники потеряли влияние в Риме, а отец твой — сенатор. Пилат будет рад породниться с Назонами.
— Осталось получить согласие отца, — вздохнул я.
— Я не нравлюсь ему?
— Ты не можешь не нравиться. Беда в том, что я слишком молод. Отец женился в тридцать, будучи префектом. Я всего лишь центурион…
— Пусть сделает тебя трибуном!
— Это не в его власти…
— Все можно, если захотеть! — решительно возразила Валерия. — Чем Грат лучше тебя? Если отец поговорит с… ты мне говорил о нем… Юнием, и дело решится. Или ты передумал жениться?
— Нет! — вскричал я.
— Только попробуй передумать! — нахмурилась Валерия и больно ущипнула меня. — Я без тебя не могу, Руф! Лежу здесь днями, смотрю на клепсидру и считаю часы до твоего прихода. Придумываю, как мы в этот раз станем ласкать друг друга, от этих мыслей становится сладко-сладко. Потом приходишь ты, и все выходит куда лучше, чем мечталось… Ночь пролетает так быстро! Я не хочу, чтоб ты уходил! Если б могла, то съела! — она шутливо куснула меня за ухо. — Всего-всего! Тогда бы остался со мной навсегда! — она засмеялась…
В тот вечер мы больше говорили, чем ласкали друг друга. Мы обсуждали, где станем жить по приезду в Лугдунум, оставаться ли нам в доме отца или купить свой? Валерия хотела жить отдельно, я убеждал, что родительский дом велик, нам в нем будет удобно. Валерия капризничала, говоря, что не уживется под одной крышей с женой префекта. Я целовал ее, уверяя, что отец никогда не женится и с радостью отдаст управление домом в руки невестки. Она такая хорошая, ее сразу полюбят все — даже рабы. Мы будем жить в любви, и у нас родится пятеро детей. Валерия, подумав, сказала, что пятеро много; трое будет в самый раз.
— Они все будут Руфы, — задумчиво сказала она. — Я хочу, чтоб они походили на тебя. Но вдруг кто унаследует внешность деда? Рыжий мальчик еще ничего, но девочка?
— Рыженькие бывают хорошенькие! — возразил я.
— Это кто, например! — ревниво взвилась Валерия. — Какую рыжую ты присмотрел? Говори! Иудейка? Да?
Я долго уверял ее, что никакой рыжей у меня нет, что я сказал, не подумав. Валерия делала вид, что не верит и надувала губки. Когда я пробовал поцелуем загладить обиду, она отталкивала меня. Не сильно… Нам нравилась эта игра: она изображала обиженную, я — виноватого. Я умолял, она не прощала. Мне не позволяли целовать любимые лицо и грудь, но к ногам доступ был открыт. Я стал целовать ноги. Валерия поначалу пыталась забрать их у меня, но потом утихла. Я начал от ступней, медленно поднимаясь от них к коленям, затем надолго задержался на бедрах. Кожа здесь была мягкой и шелковистой, особенно на внутренней стороне, я целовал ее и терся щекой, не в силах прервать эту сладкое занятие, как вдруг Валерия застонала:
— Марк! Не медли!..
Мы слились воедино с такой силой, что мне показалось: наши тела стали одним. И останутся так вечно, как вечно будет длиться та сладость, сотрясавшая это общее тело судорогами блаженства…
Рабыня вбежала, когда мы лежали, расслабленные, нежно гладя друг друга.
— Хозяйка! Грат!..
Нас словно сбросили с ложа. Спустя мгновение я был в тунике. Сандалии завязывать было некогда, я сцепил ремни и перебросил их через плечо. Как и плащ. Валерия распахнула окно, и я скользнул во двор. В суматохе я не успел ни попрощаться, ни даже поцеловать ее…
Оказавшись во дворе, я услыхал стук: со стороны улицы в ворота колотили так, что сотрясались створки. Я взлетел на стену. Веревку рабыня забрала, но я был бос, а стена — неровной. Оказавшись наверху, я хотел было спрыгнуть наружу и замер: неподалеку кто-то стоял! Инстинктивно я приник к стене и стал всматриваться. Стояла черная южная ночь, но мягкий свет молодой луны позволил мне различить фигуру, закутанную в плащ. Фигура двинулась, и я различил знакомый лязг: незнакомец одет в железный доспех, о который терлась рукоять меча. Солдат!
Я подождал еще немного и понял, что охранник, выставленный с тыльной стороны двора, меня не видит и не слышит. Слава богам, я был бос! Сандалии, подкованные гвоздями, выдали бы меня. Тем временем ворота, наконец, открыли, я услыхал гневные крики и тяжелые шаги. Шаги стихли в доме, я приподнялся и осторожно двинулся по гребню стены. За углом я заметил еще одного охранника, так же закутанного в плащ. Кто-то сообщил Грату о нас с Валерией! Крики, раздавшиеся в доме, подтвердили мою догадку. В порыве я едва не бросился на защиту любимой. Как он смеет! Валерия больше не принадлежит ему! Но тут я вспомнил, что не взял с собой «сику». Грат наверняка вооружен и зарежет меня, как ягненка. И не только меня. Римлянин, заставший жену с любовником, имеет законное право убить обоих. Если любовника в доме не оказалось, измену надо доказать. Врожденная рассудочность Назонов (будь она проклята!) одержала в моей душе победу…
Я прошел по стене к стороне, выходившей на улицу. Здесь у дома не было окон, наверное, поэтому Грат не выставил засаду. Только справа от меня, у ворот, маячил солдат, держа поводу двух коней — Грат на расправу прибыл верхом. Солдат посматривал по сторонам, но кони, видимо, желавшие пить, дергали за поводья и ржали, отвлекая стража. Оставалось улучить момент и спрыгнуть вниз. Но тут я подумал, что спрыгнуть незамеченным мне, может, и удастся, а вот удалиться — нет. Солдат непременно заметит меня, когда стану проходить мимо. Слева за углом тоже ждет охранник. Придется драться или убегать. Убежать проще: солдаты в лориках, с мечами, с таким вооружением не побегаешь. Я спасу свою жизнь, но дам свидетельство против Валерии. Грат убьет ее…
Внезапно я услыхал отдаленный шум. Он быстро приближался. Шли люди, много людей, и шли по этой улице! Я сел, торопливо обулся и приготовил плащ, чтоб укрыть им лицо. Толпа отвлечет стражей, возможно, мне удастся остаться незамеченным!..
Из-за поворота показались огни, много огней — это горели факелы, в свете их я увидел, что идут воины. Поначалу я с ужасом подумал, что Грат вызвал подмогу, но потом разглядел необычное вооружение. Шла храмовая стража первосвященников. Мне приходилось видеть в Иерусалиме этих бородатых гигантов, закованных в чешуйчатую медную броню. Они держались надменно, да и сейчас шествовали, как на параде. Свет многочисленных факелов отражался в полированных пластинках доспехов, на боках огромных шлемов, играл на наконечниках коротких копий. Было безумием прыгать на землю в момент прохода стражи: улица осветилась, и меня разглядел бы даже слепой. Но тут я заметил, что за воинами идут люди. У них не было факелов, они кричали и махали кольями. Упустить момент было нельзя. Когда шествие поравнялось со мной, я спрыгнул и мгновенно затесался в толпу.
На меня не обратили внимания: иудеи вопили и толкались, как безумные — им было не чужака. Проходя мимо ворот, я скосил взор и увидел, что солдат Грата стоит спокойно и подслеповато щурится — огонь факелов ослепил его. Не приходилось сомневаться: он меня не заметил. Дом Валерии остался позади. За поворотом я собрался выбраться из толпы и шагать к преторию, как вдруг сообразил, что меня там могут ждать. Мое появление станет доказательством вины Валерии. Если я вернусь, как обычно, на рассвете, то посею сомнения в душе ревнивца. Он не посмеет спросить, где я провел ночь, но будет знать наверняка, что не у Валерии.
Податься мне было некуда, и я решил оставаться в толпе. Свет факелов в руках стражей почти не доставал до хвоста процессии, никто из окружавших меня иудеев не разглядел, что я в короткой римской тунике. Свой центурионский плащ я благоразумно держал свернутым. Лицом я ничем не отличался от иудея. Разве что они носили бороды, но какая борода у шестнадцатилетнего юноши!
Процессия миновала стены города и теперь спускалась в долину. Моя тревога утихла, и стало одолевать любопытство: куда направляется эта процессия? Поначалу я решил, что ожидается жертвоприношение, но потом вспомнил, что иудеи приносят жертву только в храме. Тем временем дорога пошла вверх, мы вошли в какой-то сад и двинулись вдоль ручья. Светила луна, ее зыбкий свет отражался в воде, отчего сад был наполнен мягким полумраком. Деревья стояли темные и беззвучные — даже малейший ветерок не шевелил листву. Толпа притихла; никто больше не орал и не размахивал кольями. Слышался только шум десятков шагов. Потом он стал утихать. Процессия остановилась и стала растекаться по берегам ручья. Я протолкался поближе и увидел нескольких иудеев, видимо, только что спавших под деревьями и разбуженных нашим появлением. Они стояли, щурясь на огни факелов, лица их были испуганны. Стражники не двигались, сжимая в руках копья. Внезапно из толпы вышел молодой иудей, подошел к одному из разбуженных — высокому, сильному мужчине, и поцеловал его. Не успел я удивиться такому странному проявлению чувств, как сразу несколько людей из толпы набросились на отмеченного и стали крутить ему руки. Тот не сопротивлялся. Но его товарищ выхватил «сику», коротко взмахнул. Один из нападавших завизжал и схватился за ухо. Через пальцы его сочилась кровь.
Иудеи, пытавшиеся связать высокого, отхлынули. Стража зашевелилась, беря копья наизготовку. Внезапно высокий заговорил, обращаясь к толпе. Я не знал арамейского, но понял, что он в чем-то укоряет пришедших. Затем увидел, как его спутники исчезают в темноте. Высокий подошел ближе. У него было красивое, мужественное лицо, длинные волосы и борода. Стражники расступились, несколько человек уже беспрепятственно связали высокому руки за спиной. Арестованного окружили воины и повели к Иерусалиму.
Я сделал несколько шагов вслед возвращавшейся толпе, но потом остановился. Мне нельзя было в Иерусалим! В этот момент мимо быстрым шагом прошел юноша. Всю одежду его составляло покрывало, в которое он был завернут. Я с удивлением узнал того самого иудея, который накормил меня на дороге. Юноша догнал толпу, но внезапно один из пришедших обернулся и закричал, показывая на моего знакомого. Иудеи бросились к юноше и схватили его за одежду. Знакомый ловко вывернулся, оставив покрывало в руках нападавших, и совершенно нагой исчез в темноте.
«Задержали разбойника!» — подумал я. И тут же решил, что все выглядело очень странно. У задержанного не было оружия. Руки ему вязали не стражники, а люди из толпы. Высокий вполне мог убежать, но даже не сделал попытки. Никто не думал преследовать его спутников, хотя бы человека, отсекшего ухо одному из нападавших. В тоже время юношу в покрывале, который появился неизвестно откуда и всего лишь следовал за толпой, пытались схватить. Мысленно я согласился с Пилатом: иудеи странный народ!
Мне предстояло где-то провести ночь, и я не стал долго раздумывать. Ночь стояла теплая, а мне было не привыкать спать на голой земле. В другое время я побоялся бы разбойников, но теперь, после того как в этом саду побывала храмовая стража, можно было не сомневаться: разбойники вернутся не скоро. Я напился из ручья, завернулся в плащ и прилег под деревом. Удивительно, но сон сразу смежил мне веки. Я спал крепко и проснулся только поздним утром…
5
Как только я объявился в претории, меня препроводили к отцу.
— Ты где пропадал? — спросил он строго.
Я молчал, не представляя, как ответить.
— Где ты был всю ночь? — повторил отец раздраженно.
— У женщины, — робко сказал я, понимая, что молчать дальше нельзя.
— У женщины? — удивился отец. — Когда успел найти?
— Она сама меня нашла…
— Понимаю… — улыбнулся отец. — Увидела молодого, красивого центуриона, прислала рабыню с письмом…
— Письма не было…
— Так проще, — согласился отец. — Кто она? Иудейка?
— Римлянка…
— В Иерусалиме не много римлян, — задумчиво произнес отец. — Я, возможно, ее знаю. Нет, не говори! — предупреждающе поднял он руку. — Иногда лучше не знать. На рассвете у меня был трибун Грат. Кто-то оклеветал тебя, сказав Грату: ты тайно посещаешь его жену. Трибун был в ярости…
Я, наверное, изменился в лице, потому что отец усмехнулся, поняв это по-своему.
— Я сказал трибуну, что он ошибается. Грат продолжал настаивать, тогда я спросил его, застал ли он тебя с женой? Он ответил, что нет. Я спросил, видел ли кто-либо, как ты входил к ней дом или выходил из него? Он снова сказал «нет». Послали за тобой. Тебя в казарме не оказалось, а центурион поведал, что ты каждую ночь проводишь вне претории. Я сказал Грату, что раз жена его дома одна, а тебя нет в казарме, ты просто не мог у нее быть. Он успокоился, даже повеселел. Я дал ему совет не верить клеветникам…
Я радостно вздохнул.
— Странные люди эти ревнивцы, — продолжил отец. — Безумие лишает их разума. Зачем ходить к достойным людям, обвинять их в несуществующих преступлениях, когда легко можно узнать правду?
— Как?
— Сам говорил, что к тебе подослали рабыню. Достаточно подвергнуть пытке рабыню Валерии…
— Ты сказал ему это?!
Отец удивленно посмотрел на меня.
— Я знаю Диану… — пробормотал я. — Она хорошенькая.
— Не думаю, что Грат станет портить свое имущество, — пожал плечами отец. — Рабыне достаточно показать плеть. Только если станет упорствовать… Жаль Диану, но она всего лишь рабыня… Хуже другое: из-за тебя мы пробудем в Иерусалиме лишние три дня. Мы могли отправиться в Кесарию на рассвете, вместе с Гратом. Пилат дал ему центурию в охрану. Теперь придется ждать, пока прокуратор завершит дела.
— Грат уехал один? — спросил я, замирая сердцем.
— Забрал жену и Акима. Отведет его в Кесарию.
— А Козма?
— Он мой пленник и будет постоянно со мной! — сердито сказал отец. — Мы с тобой должны беречь его, как себя. Консул не поверит мне, если я скажу, что фальшивые денарии не связаны с заговором. Козма подтвердит.
— Вдруг не станет?
— В Риме знают, как заставить говорить… Но не думаю, что дойдет до пытки. Козма — смелый человек, что сказал Пилату, повторит и Сеяну.
— Его накажут?
— Решать консулу, но, скорее всего, повесят. Он не римский гражданин, чтоб казнить мечом.
— Тебе не жаль его?
— С какой стати я должен жалеть врага Рима? — удивился отец.
— Он смел и достоин уважения.
— Смелый враг опаснее трусливого! Юлий Цезарь уважал Верцингеторикса, умного и храброго вождя галлов, но казнил его. Верцингеторикс залил Галлию реками римской крови. Врагов щадить нельзя!
— Козма не проливал крови.
— Он хочет потрясти основы нашей веры, вселить в сердца римлян непочтение к власти. Чего стоит армия, солдаты которой не боятся начальников? Если жители провинции перестанут бояться прокуратора, как управлять ею? Рим не выживет без своих провинций! Достаточно Египту перестать возить нам зерно, как мы умрем с голоду. Провинции перестанут собирать подать — нечем станет платить легионам. Мы веками завоевывали эти земли, тысячи солдат сложили головы за лучшую жизнь своих сограждан, что ж нам теперь: вернуться в Рим, тесниться в пределах Палатина и Капитолия, как во времена Нумы Помпилия? Миром правит тот, кто держит его в страхе! Величие Рима — в покорности народов. Козма хочет разрушить наш мир, он опаснее Верцингеторикса. Пилат только сейчас увидел опасность этой религии, хотя он обязан знать все, что творится в Иудее, — лицо отца стало жестким. — Ему нельзя управлять провинцией! Если иудеи в припадке фанатизма готовы идти на смерть, их можно перебить. Но если они заразят своей верой остальные народы… Не говори Пилату об этом! — отец сурово глянул на меня. — Я доложу Сеяну, пусть он решает.
— Консул будет недоволен нами. Заговора не открыли.
— Ты ошибаешься! — усмехнулся отец. — Что значит сотня-другая монет с неправильным профилем в сравнении с опасностью, которую несут такие люди, как Козма? Сеян поймет. У Рима есть время остановить эту заразу.
— Ты получишь награду?
— Сначала ты. Рим обязан тебе больше, чем старому префекту, — отец положил мне руку на плечо. — Благодаря тебе мы победили разбойников и пиратов, ты разыскал этого Козьму… Ты молод и не понимаешь, насколько удачлив. Жрецы не ошиблись: боги любят тебя! Как только вернемся в Кесарию, принесем жертвы Юпитеру и Марсу. Я горжусь своим сыном! — голос отца дрогнул. — Но все же прошу тебя, Марк, осторожнее! Любовь богов не беспредельна. Ночами ты ходишь один по Иерусалиму, а ведь тебя дважды хотели зарезать! Не знаю, что тебе эта женщина, но приказываю впредь ночевать в претории!
Я не мог сказать отцу, что ходить мне больше не к кому, поэтому молча кивнул.
— Идем к Пилату! — повеселел отец. — У претория собралась толпа, требуя в честь Пейсаха отпустить на волю одного из разбойников. Прокуратор просил нас присутствовать. Пора показать этим варварам славу Рима!
Мы вышли на широкий балкон, нависавший над улицей. При виде римлян толпа, теснившаяся внизу, зашумела. Пилат величественно поднял руку, давая знак молчать, и заговорил по-арамейски. Я понял, что он предлагает иудеям выбрать, кого миловать.
— Вар! Вар!.. — завопили в толпе.
Я плохо соображал в ту минуту — слова отца оглушили меня, но удивился, что иудейского разбойника зовут как римского легата, погубившего легионы Августа. Иудей с таким именем мог быть вольноотпущенником или сыном вольноотпущенника, но те гордились римским гражданством и дорожили им. Легионеров резали другие. Я не успел разрешить для себя эту загадку. Пилат нахмурился: выбор ему не нравился. Прокуратор заговорил, сердито бросая в толпу слова, видимо, перечисляя преступления Вара, затем произнес имя «Иешуа». В ответ толпа закричала, вздымая кулаки — неведомый мне Иешуа нравился иудеям не больше, чем Пилату Вар. Прокуратор сказал еще несколько слов, после чего толпа стала и вовсе бесноваться. Некоторые иудеи раздирали на себе одежды. Пилат плюнул и махнул рукой.
— Отдай им Вара! — велел он стоявшему рядом центуриону. — Дикари!..
— В чем провинился это Иешуа? — спросил я прокуратора.
— Они считают его богохульником, — сердито ответил Пилат. — Для них это страшнее, чем зарезать человека. Особенно, если режут римлян…
Я спустился во двор претория. Легионеры уже вытащили Вара из тюрьмы и пинками гнали к воротам. Иудей подскакивал, испуганно озираясь. Ворота отворили, и центурион напоследок приложил Вару калигой так, что разбойник птицей полетел в толпу. Ему не дали упасть. Помилованного подхватили на руки и с радостными криками потащили прочь. Тем временем солдаты вывели из темницы трех приговоренных, содрали с них одежду и стали привязывать к столбам. Пилат соблюдал старый обычай. Перед тем, как повиснуть на кресте, каждый разбойник получал сотню плетей.
Во дворе стали собираться все свободные от службы легионеры. Они были из италиков, ненавидели иудеев и желали получить удовольствие от порки. Я видел, как несколько солдат спорили, вырывая друг у друга плеть — каждый хотел отхлестать преступника. Дежурный центурион прикрикнул и назначил экзекуторов своей властью. Он собрался дать команду, как другой центурион остановил его:
— Погоди, Теренций! Тут есть один, который называл себя царем иудейским. Надо воздать ему почести! Дай ребятам позабавиться…
Теренций ухмыльнулся и кивнул. Одного из иудеев отвязали и развернули лицом к нам. Я вдруг с удивлением узнал в нем высокого незнакомца, которого этой ночью схватили за городом. Нетрудно было догадаться, что он и есть тот самый богохульник. Теперь мне стали понятны безумство и рвение толпы, шедшей за стражей, и сегодняшнее возмущение иудеев попыткой освободить приговоренного. Было видно, что Иешуа били: на скуле его багровел синяк, из разбитого рта просочилась струйка крови. Двое легионеров держали его за связанные руки, но приговоренный стоял спокойно, не делая попыток вырваться. К Иешуа, кривляясь, подбежали два легионера. Один накинул на его плечи красный военный плащ, видимо, призванный изображать царскую багряницу, второй с размаху нахлобучил на голову Иешуа венок-корону из веток терна. Колючие иглы расцарапали лоб несчастного до крови. Ему, наверное, было очень больно, но Иешуа не вскрикнул.
— Помилуй нас, царь иудейский! — завыла парочка, низко кланяясь. — Не вели казнить!..
Легионеры, собравшиеся во дворе, захохотали и затопали, довольные выдумкой товарищей. Те продолжали кривляться, изображая испуг. «Они вымещают на иудее свой страх перед начальством, — внезапно подумал я. — На центуриона терновый венок не наденешь… Козма прав — мы все боимся!» Я пристально посмотрел на приговоренного, желая увидеть на его лице страх, но оно было спокойным. Внезапно Иешуа перехватил мой взгляд, и мгновение мы смотрели глаза в глаза. Я внезапно понял, что он жалеет меня. Почему? Я его враг! Мне стало не по себе, и я отвел взор.
Тем временем выдумщикам надоело кривляться. Один из них стащил с приговоренного плащ. Второй смачно плюнул Иешуа в лицо.
— Это тебе от Тита, царь иудейский! Вспомни меня, когда повиснешь на кресте!
— Вспомню, раз просишь! — внезапно ответил Иешуа. Голос его был твердым и сильным. Тита затрясло от злости.
— Ах ты, падаль! Грозить? Мне? Да я!.. — Тит пошарил глазами, увидел прислоненную к стене палку центуриона, схватил ее и с размаху ударил приговоренного по голове. Тот пошатнулся и упал бы, не поддержи его охранники.
— Прекратить! — закричал Теренций. — Повеселились — и хватит! Прокуратор велел распять иудея, а не забивать палками…
Тит и его товарищ, ворча, отошли в сторону. Иешуа отвели к столбу и снова привязали. Назначенные для экзекуции солдаты взмахнули плетями. Я повернулся и пошел в казарму. Я знал, что солдаты провожают меня презрительными взглядами, мысленно обзывая «папенькиным сынком», но чувствовал, что не могу на это смотреть. В казарме я повалился на койку, скрестил руки на груди и лежал так все время, пока со двора доносился свист плетей и крики наказываемых. Затем послышался топот десятков ног — процессия отправилась на гору за северной стеной Иерусалима, где обычно устанавливали кресты. Когда все стихло, я вышел во двор.
— Марк! — внезапно окликнули меня откуда-то снизу. — Марк!
Я оглянулся по сторонам, но никого не увидел.
— Марк! — повторился зов, и я сообразил, что он идет из узкого окошка тюрьмы, едва видимого над мощеным двором. Я присел и разглядел в темном прямоугольнике лицо Козмы.
— Я узнал тебя по сандалиям, — пояснил он. — Они не такие, как у других солдат. Я слышал шум и крики во дворе, но отсюда не разглядеть. Что тут было?
— Наказывали преступников.
— Сколько их?
— Трое.
— Кто они?
— Два разбойника и один богохульник. Того схватили сами иудеи.
— Его называли «царем иудейским»?
— Да.
— Как его настоящее имя?
— Иешуа.
— Это он! — застонал Козма. — Бог и сын бога. Марк! Я приехал издалека, чтобы увидеть его. Ты знаешь, чего это стоило мне. По пророчеству Торы сына божьего должны убить, после чего он воскреснет. Я хочу быть рядом с ним в этот час! Отведи меня на гору! Клянусь, не сбегу! Ты можешь связать меня…
— Ты просишь невозможного! — сказал я, вставая. Отец был прав — с Козмой следовало быть настороже.
— Не уходи! — остановил меня голос узника. — Прости: гордыня овладела мной. Я забылся… Но ты, Марк?! Разве тебе не интересна смерть бога? Сходи! Это редкое зрелище. Детям будешь рассказывать. Я буду благодарен, если расскажешь и мне…
Я пожал плечами. Мне приходилось видеть распятых преступников. Они умирают долго, и смотреть на это скучно. Я не верил, что Иешуя бог. В Торе, которую я прочел, в самом деле предсказывается явление пророка, который освободит иудеев от угнетателей. Ну и что? Освободил? Каждый год в Иудее объявляется новый избавитель, который впоследствии исчезает. Или же его убивают, как Иешуа…
Я отправился в казарму, где плюхнулся на койку. Здесь было тихо: свободные от службы солдаты отправились глазеть на казнь, а те, кто стоял в страже ночью, спали. Мне спать не хотелось, заняться было нечем. В голову лезли тяжкие думы, я гнал их, но они возвращались. Помучавшись какое-то время, я решительно встал. Отец велел мне ночевать в претории, но не запретил ходить по городу днем. Я облачился в посеребренную лорику, перепоясался мечом, заодно сунул за пояс «сику». Шлем надевать не стал — жарко, а я не службе. Теперь можно было не опасаться нападения фанатика-одиночки.
Никто и не напал. Я спокойно прошел улицами Иерусалима, вышел за ворота и направился к месту казни. На мрачной горе, где обычно вешали преступников, уже стояли кресты — они были видны издалека, врезаясь своими темными контурами в безоблачное небо. Преступники висели на них, скособочившись — спереди на крестах имелись выступы для опоры тела. Без нее тело быстро обвисает на суставах, они выворачиваются, и боль лишает казнимого чувств или же вовсе убивает. Пилат позаботился о том, чтоб преступники не обрели легкую смерть…
На вершине холма собралось много людей, но, когда я подошел ближе, толпа уже расходилась. Встречные иудеи оживленно разговаривали и размахивали руками. Многие были в богатых одеждах. Если Иешуа действительно оскорбил их веру, то они отвели душу: поплевали в приговоренного, обругали его, позлословили… Стража не мешает делать это — так интереснее. Запрещается только бить. Сильный удар может оборвать жизнь человека, растянутого на кресте, а тому назначено умирать долго и в муках…
Когда я, наконец, выбрался к крестам, большинство зевак уже ушло, оставалось десятка два, не более. Среди них половину составляли женщины. Они сидели и плакали. Некоторые, с подсохшими дорожками от слез на щеках, только вздыхали. Мужчины, окружавшие женщин, выглядели подавленными и мрачными. Внезапно я понял, что это не зеваки, а родственники или друзья казнимых. Присмотревшись, я узнал молодого иудея, убежавшего нагишом вчерашней ночью. Он перехватил мой взгляд, и я понял, что незнакомец тоже узнал меня. На мгновение во взоре иудея мелькнула ненависть, затем он опустил голову и уставился в землю.
Стражи у крестов мучились от жары, с завистью поглядывая на свободных от службы товарищей, устроившихся неподалеку. Там играли в кости, по рукам ходил кувшин с вином, слышались веселые возгласы и смех. Весельем управлял уже знакомый мне Тит. Увидев меня, он привстал и поклонился.
— Пришел глянуть на иудейскую падаль, господин?! Надо было раньше, когда они что-то говорили. Самое интересное пропустил!
Товарищи одобрительно засмеялись, но Теренций пригрозил Титу палкой:
— Как разговариваешь с центурионом, Тит?! Давно учил тебя?
— Я ничего, — поник Тит. — Я уважаю центурионов. Но он и в самом деле опоздал…
Солдаты снова засмеялись, в этот раз над провинившимся товарищем. Через мгновение они вернулись к игре и вину. Теренций подошел ко мне.
— Тит хороший солдат, но непочтительный, — сказал виноватым тоном. — Поставлю его в ночную стражу, чтоб знал!
Я жестом дал знать, что не обиделся и повернулся к крестам. Теренцию было скучно и хотелось поговорить, но у меня такого желания не было. Не знаю почему, но мне трудно было поднять глаза на Иешуа, висевшего посередине, и я стал разглядывать разбойников. Они много дней провели в тюрьме, их тела были грязны и казались еще более мерзкими от облепивших их мух. Мух было много, они густо покрывали лица разбойников, их руки и ноги в местах, где гвозди пробили их. Мухи сосали кровь. Время от времени разбойники мотали головами, прогоняя больно кусавших насекомых, мухи неохотно взлетали, чтобы тут же устроиться на прежнем месте. Похоже, что разбойники делали это бессознательно: глаза их были закрыты. Наконец я решился взглянуть на Иешуа. Его тело было белым и чистым. Удивительно, но мухи не докучали ему. Я отчетливо видел кровавые потеки в местах, где гвозди вонзились в кисти и ступни, но мухи почему-то не хотели пить эту кровь. Глаза Иешуа были закрыты, но я понял, что он в сознании — просто страдает молча. Над головой его была прибита доска с крупной надписью «Царь иудейский».
— Важные иудеи были очень недовольны, — сказал Теренций, заметив, что я разглядываю доску. — Кричали: «Как может царь иудейский висеть на кресте! Этот только называл себя царем!» — центурион засмеялся. — Какая нам разница? Велят — и царя повесим!
Я понял, что Пилат тонко отомстил иудеям, заставившим его казнить невинного. Поскольку я продолжал молчать, Теренций обиженно отошел. Я разглядывал Иешуа. Даже на кресте, избитый и оплеванный, он был красив. Такими, наверное, и видят люди детей бога. Какая мать его родила? Греческие боги заводили детей от жен или дочерей царей. Козма ничего не говорил о матери Иешуа, и я подумал, что она, скорее всего, обычная иудейка. Будь мать царского рода, с сыном так не обошлись бы. Интересно, есть ли у нее еще дети, или Иешуа — единственный? Отставил ли сам Иешуа потомство? На вид богохульнику было лет тридцать, иудеи женятся рано… Я забивал себе голову досужими вопросами, потому что боялся, что Иешуа посмотрит на меня, как во дворе претории. Но как ни пытался я избежать неприятного, это случилось. Иешуа внезапно открыл глаза, и мы встретились взглядами.
В этот раз в его взоре не было жалости. Только боль, страдание и повеление. Я хотел отвернуться, но не смог. Человек, висевший передо мной на кресте, и чей разум туманился от невыносимой боли, не просил жалости и участия. Он повелевал! Так, что ослушаться невозможно…
Я пришел к месту казни с непонятным чувством тревоги и движимый любопытством. Теперь их не было. Я стоял перед крестом, хотя Иешуа давно закрыл глаза, стоял, когда небо внезапно потемнело, и свободные от службы легионеры, боясь вымокнуть, засобирались в преторию, стоял, когда разразилась гроза и хлынул ливень… Я слышал, как пробили четвертую стражу, затем пятую… Теренций несколько раз подходил ко мне, осторожно заглядывая сбоку, и сразу отходил. Толпа родственников и друзей казнимых тоже поредела, но я продолжал стоять. В шестом часу Иешуа внезапно открыл глаза.
— Элои! Элои! Ламма савахвани! — возопил он и уронил голову на грудь.
— Кричит! — подбежал ко мне Теренций. — Узнаем, что хочет? Пусть попьет!
Не дожидаясь ответа, он насадил губку на свою центурионскую трость, макнул ее в ведро с водой и протянул Иешуа. Казненный не шевелился. Теренций несколько раз ткнул губкой ему в рот и разочарованно опустил трость.
— Похоже, умер, — сказал удивленно. — А ведь казался таким сильным… Зачем ты стоял перед ним, Руф?
— Потому, что он сын божий! — ответил я…
Оставив Теренция и его легионеров, я спустился к Иерусалиму и быстрым шагом двинулся к преторию. Везде горели огни, суетились люди — иудеи готовились встретить Пейсах, я не обращал них внимания. Никто не нападал на меня, и я знал, что не нападет. Войдя в ворота претория, я увидел в углу толпу солдат. Они рассматривали нечто, лежащее на камнях.
— Тит! — ответил на мой немой вопрос стражник. — Полез смотреть, подкован ли конь прокуратора. Пошутить хотел. Тот как лягнет! Подкован, как оказалось… Тита — насмерть!..
Я кивнул и пошел к тюрьме. Внизу никого не было, даже стража сбежала глянуть на убитого. Двери камер не имели замков, только засовы, я отодвинул единственный запертый и дал знак выходить. Козма молча повиновался. Вдвоем мы пересекли двор, где никто не обратил на нас внимания, затем миновали удивленного стражника у ворот (он не посмел нас окликнуть) и скоро углубились в ночные улицы Иерусалима. Мы оба хранили молчание, пока не вышли за ворота города. Здесь я вытащил из-за пояса «сику», отдал ее Козме, затем протянул кошелек с серебром.
— Благодарю! — сказал он, пряча подарки под одежду.
— Спеши! — посоветовал я. — Могут выслать погоню…
— Ты не рассказал мне, что видел! — возразил он.
— Сам знаешь! — сказал я. — Иначе не послал бы меня.
— Он что-нибудь сказал?
— Элои! Элои! Ламма савахвани!
Козма удовлетворенно кивнул.
— Знаешь, куда увели Акима?
— В Кесарию.
— Встретимся в Кесарии!
— Там тебя схватят!
— Не выйдет! — улыбнулся он. — Я знаю, что меня ищут.
— Все равно опасно.
— Долги надо возвращать, Марк! Аким столько раз спасал мне жизнь… Подозреваю, он и в этот раз выпутается.
— Не удастся! — покачал я головой.
— Ты не знаешь Акима! — усмехнулся Козма. — Прощай, Марк! — он положил мне руки на плечи. Я был выше Козмы, он смотрел на меня снизу вверх. — Благодарю за помощь. Ты очень хороший человек, но тебе будет трудно: трусливые ненавидят тех, кто освободился от страха. Тебя будут гнать, могут убить. Но свобода стоит того!
Мы пожали друг другу руки по римскому обычаю — за локти, и он скрылся в темноте. Я вернулся к преторию. Еще с улицы я увидел суету во дворе и понял, чем она вызвана.
— Это он! — метнулся ко мне стражник, едва я миновал ворота. — Он увел пленного!
— Где Козма? — гневно спросил подбежавший отец.
Я молчал.
— Где Козма? — повторил он, глядя на меня с ненавистью.
Я вновь не ответил. Отец подозвал дежурного центуриона.
— Снимите с него вооружение и бросьте в тюрьму! В ту камеру, где был пленный! Еды не давать, воды — тоже!
Я покорно позволил разоружить себя и отвести в подвал. Когда тяжелая дверь захлопнулась за моей спиной, я сел на холодную каменную лавку и заплакал…
6
В Иерусалим я приехал верхом, а возвращался пешком в окружении вооруженных легионеров. Мне не стали связывать руки за спиной — так неудобно шагать; скрутили их спереди, захлестнув концы ремней вокруг пояса. На привалах ремень за спиной распускали, чтоб я мог взять кубок с водой или кусок хлеба. Солдаты любят посмеяться над пленными, но меня не трогали. Я ловил на себе удивленные взгляды. Легионеры не понимали моего поступка, я сам не мог его объяснить. Чувство вины перед отцом, но еще более перед Валерией мучило меня. Она мечтала стать женой сенатора… Что я скажу ей при встрече? И будет ли встреча? Если даже Грат позволит нам увидеться, захочет ли Валерия? Я не подозревал тогда, что чаша моих страданий не испита даже наполовину, и, чем далее, тем горше будет это питье…
Мы подходили к Кесарии, когда прискакал вестник. Я видел, как он что-то торопливо сказал Пилату, прокуратор хлестнул коня и помчался в город. Следом устремились отец и сирийская ала. Остальные узнали о трагедии позже. Грат последовал совету отца и подверг пытке рабыню. Что Диана сказала ему, неизвестно — Грат бил ее без свидетелей. Но что-то рабыня все же сказала. Грат заколол Диану «пугио», широким армейским кинжалом, и пошел к жене. Никто не слышал, о чем они говорили. Очевидно, что Валерия не испугалась разъяренного мужа с кинжалом, не просила его о прощении — удар клинка пришелся ей прямо в сердце. Убив жену, Грат, наверное, спохватился и понял, что его ждет. Не думаю, что им руководило раскаяние, не хочу так думать. Грат не смог бы оправдаться в суде, а суд его ждал скорый и беспощадный. Ревнивец сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение — перерезал артерию на шее…
Эта трагедия потрясла Кесарию: о ней говорили все, в том числе и солдаты, охранявшие меня в тюрьме. Стражи не знали причин тройного убийства, но сходились во мнении, что трибуном овладело безумие. Я причину знал, но молчал. Мне не хотелось говорить. Я лежал на жесткой каменной скамье камеры и умирал, вернее, хотел умереть. У меня не было ножа, чтоб перерезать вены, в камере не было крючка, что зацепить ремень от сандалий и удушить себя, а разбить голову о стену я не догадался. В юности мы мечтаем о смерти, в старости — страшимся ее… Когда за мной пришли, чтоб вести на суд, я встал охотно: суд обещал исполнить мое желание. Оставалось надеяться, что быстро.
В зале, куда мне привели, были только Пилат с отцом и вольноотпущенник с пергаментом, на котором тот тиронскими скорописными знаками записывал сказанное. Пилат выглядел усталым, его траурная одежда — помятой, меня он встретил сердитым взглядом. Иного я и не ждал.
— Марк Корнелий Назон Руф, — без обиняков начал прокуратор, — обвиняется в самовольном освобождении преступника, уличенного в изготовлении фальшивых денариев. Признаешь обвинение?
— Да! — подтвердил я.
— Это твой сын, префект! — повернулся Пилат к отцу. — Тебе решать!
— Он не мой сын! — холодно произнес отец.
Пилат недоуменно смотрел на сенатора. Отец достал из складок тоги маленький свиток и протянул его прокуратору. Пилат развернул.
— Луций Корнелий Назон Руф, сенатор и префект, объявляет об «эманципацио» своему сыну Марку… — прочел прокуратор и бросил свиток на стол. — Документ оформлен по правилам и является действительным, — продиктовал он писцу. — Таким образом сенатор не имеет возможности судить виновного семейным судом и передает его в руки прокуратора… Зря! — сердито сказал Пилат, делая знак вольноотпущеннику не записывать. — Приговорил бы мальчишку к двадцати палкам, я бы согласился. Теперь придется его казнить. А может и не придется… — Пилат хмыкнул. — Каждый римский гражданин имеет право на суд консула. Если Марк потребует, повезем в Рим. Неизвестно, как решит консул. В Риме любят золото… Ты на это рассчитывал?
Сенатор не ответил. Я стоял потрясенный. Как не велика была моя вина перед отцом, я не ждал «эманципацио». Мне действительно незачем было жить.
— Марк Корнелий Назон Руф! — повернулся ко мне Пилат, делая знак писцу. — Как прокуратор провинции, на территории которой совершено преступление, приговариваю тебя к смерти. Напоминаю, ты имеешь право на суд консула. Требуешь его?
— Нет!
Пилат изумленно уставился на меня.
— Ты отказываешься?
— Да!
Пилат покачал головой и дал знак страже. Вечером меня отвели в амфитеатр. Я шел по главной улице Кесарии в сопровождении солдат, и встречные прохожие с любопытством глядели на меня. Меня это не задевало. В Риме любят казнить преступников в амфитеатрах, Пилат решил не отставать от столицы. Я только недоумевал, почему меня отвели к месту казни заранее. Похоже, не понимал этого и распорядитель амфитеатра, которому центурион вручил предписание.
— Зачем это? — удивился распорядитель, развернув папирус.
— Прокуратор велел! — грозно отчеканил центурион, и распорядитель молча поклонился.
Меня заперли в зверинце. За стеной грозно порыкивал лев, похоже, что до меня в камере, которую отделяла от коридора решетка из толстых прутьев, тоже держали зверя. На полу лежала мокрая от мочи солома, валялись экскременты. Как ни тяжелы были мои мысли о предстоящей смерти, эта мерзость огорчила меня. Подошвами сандалий я кое-как разгреб мокрую солому в углу и устроился на земляном полу. Я устал и хотел спать, но земля оказалась слишком холодной. Помучившись какое-то время, я не выдержал и в свете факела, горевшего за решеткой, собрал охапку соломы почище. Она все равно была влажной и мерзко пахла, но зато позволила мне согреться. Скоро я уснул.
Утром служитель принес мне завтрак. Он был на удивление роскошный: жареное мясо, хлеб, фрукты. Я проголодался, к тому же это был последний завтрак в моей жизни, поэтому я с удовольствием поел. Напоследок я бы выпил вина, но в кувшине плескалась вода… Служитель ушел, я стал ждать. Лев за стеной угомонился, был слышен только шум толпы, заполнявшей амфитеатр. Ее ждало необычное развлечение: казнь сына сенатора. Пилат решил совместить полезное с приятным: привести в исполнение приговор и порадовать публику. Оставалось гадать: какую смерть избрал мне? Мечом в амфитеатре не казнят — быстро и неинтересно. Распять тоже плохо: публика устанет ждать смерти приговоренного. Как не терзал я себя догадками, но так и не сумел ответить на этот вопрос.
Вы спросите: страшился ли я? Честно отвечу: нет! В шестнадцать не боятся смерти. Я желал, чтоб казнь не была слишком мучительной, и я сумел вынести муки достойно. Я был римлянином и хотел оставаться им до конца.
За мной пришли, когда я устал ждать. Двое солдат связали мне руки, взяли за концы ремней и повели по лестнице. После темных коридоров свет, заливавший арену, ослепил меня. Мое появление толпа встретила криками. Меня провели на середину арены — к вкопанному в песок столбу. Солдаты привязали меня к нему и ушли. Глаза мои привыкли к свету, и я стал осматриваться. Прямо напротив моего столба было почетное место прокуратора; он сидел, окруженный стражей, на бисселии с высокой спинкой. Я поискал взглядом, но не увидел отца. Он или сидел в другом месте или вовсе решил не смотреть. Это огорчило меня: мне по-детски хотелось, чтоб он все видел и ужаснулся. Скосив взгляд, я увидел неподалеку еще столб. К нему был привязан человек, я узнал Акима. В дни после моего ареста я совершенно забыл о нем. Аким смотрел в верхние ряды амфитеатра и улыбался. Это почему-то огорчило меня. Если б он глянул в мою сторону, я пожелал бы ему стойкости. Но он не сделал этого, хотя, несомненно, видел, как меня привели.
Пилат поднял руку, и шум стал стихать. В наступившей тишине был объявлен приговор и способ казни: отдать преступников на съедение льву. Толпа в амфитеатре закричала и захлопала в ладоши: предстояло хорошее развлечение. Я сразу вспомнил рык за стеной моей камеры. Пилату мало было приговорить меня к смерти, он велел испортить мне последнюю ночь, поместив рядом с убийцей. Я услышал визг сдвигаемой решетки, и на арену выскочил лев.
Это был могучий самец с пышной гривой. Амфитеатр завопил, увидав его. Лев трубно рыкнул (от восторга толпа завопила еще громче) и стал настороженно осматриваться.
— Возьми их! — закричали сверху. — Выпусти им кишки! Раздери на куски!..
Лев стоял в нерешительности.
— Не бойся, они вкусные! — крикнул кто-то сверху, и амфитеатр зашелся от хохота. Лев словно услышал это и затрусил к нам, выбрасывая лапы в стороны. Мой столб оказался первым на его пути. В шаге от меня лев остановился и принюхался.
— Сенаторский сынок, мясо нежное! — приободрил зверя тот же голос, и толпа вновь засмеялась. Лев сделал шаг, понюхал мои ноги, затем поднял голову и посмотрел мне в глаза. Странно, но я не сжался от страха. Лев словно почувствовал это. Он зевнул, показав огромную пасть с тупыми желтыми клыками, и вдруг лизнул мою руку. После чего лег, привалившись боком к моим ногам. Толпа в амфитеатре разочарованно загудела. Затем послышались возмущенные крики. Люди имели право негодовать. Они пришли посмотреть, как зверь раздирает на куски живого человека, а лев не желал это делать!
Шум нарастал, на арену полетели подушки, камни, обломки кирпича. Один из них попал во льва. Тот вскочил, грозно рыкнул и улегся обратно. Бок у зверя был теплым, он грел мои ноги, и я вдруг почувствовал себя спокойно. Тем временем негодование толпы нарастало. Пилат сделал знак, и на арене появилось трое служителей. Двое держали копья и прикрывались большими щитами, третий, могучий, с бритой головой, размахивал бичом. Бич свистнул и ударил льва по спине. Лев заревел и вскочил на ноги. Бритоголовый еще раз вытянул льва по спине. Лев сжался в комок, и вдруг выстрелил в сторону обидчика. Бритоголовый бросил бич и юркнул за спины щитоносцев, но лев разметал их. Бритоголовый в ужасе попятился, лев в прыжке свалил его на арену и сомкнул челюсти на шее. Опомнившиеся щитоносцы стали колоть зверя копьями, но тот не выпускал жертву. Бритоголовый сучил ногами, вздымая в воздух песок, но скоро затих. Лев оставил его и повернулся к нам. Он пошатывался, кровь из ран пятнала его светлую шкуру. Зверь заревел. Один из щитоносцев ловко ударил копьем прямо в распяленную пасть, лев упал на колени, а затем — на бок…
Все это произошло так быстро, что толпа в амфитеатре не успела издать крик. Было тихо, на арене лежало два бездыханных тела: человека и зверя, стояли растерянные щитоносцы. И тут встал Пилат.
— Все видели, как я предал преступников позорной казни! — громко сказал он. — Все видели, как лев отказался убивать Марка Корнелия Назона Руфа. Это знак богов: им не угодна эта смерть. Боги свидетели: я исполнил закон! Руфа следует помиловать…
— Обман! — завопили сверху. — Лев не настоящий!
— Как не настоящий?! — возмутился Пилат, указывая на мертвого бритоголового, но крик толпы заглушил его.
— Смерть им! Смерть! — кричали со всех сторон.
Пилат растеряно крутил головой, толпа вопила. Я смотрел на беснующихся жителей Кесарии, единодушно желавших моей смерти, и чувствовал, как в душе закипает гнев. Я не сделал ничего плохого этим людям. Лев отказался терзать меня, но разве в том моя вина? Трусливые скоты, жадные до зрелищ! Рабы, пресмыкающиеся перед своими хозяевами, будь то содержатель гостиницы или сам прокуратор…
— Эй, вы! — закричал я. — Эй, вы!..
Шум в амфитеатре стал стихать. То, что не удалось прокуратору, получилось у преступника: люди затихли.
— Если вы хотите видеть мою кровь, — ненавидяще крикнул я. — Спуститесь и пролейте ее! Только дайте мне меч! Я буду драться против всех сразу или самых смелых. Есть такие?!
Люди стали оглядываться друг на друга. Никто не решался принять вызов.
— Зачем нам драться с тобой? — вдруг крикнули сверху. — Что мы, преступники? Вас двое — вот и деритесь!
— Правильно! — завопила толпа. — Пусть дерутся! Насмерть!..
Я глянул на Пилата. Прокуратор сидел, мрачно глядя в пол. Толпа продолжала вопить. Пилат молчал, амфитеатр неистовствовал. Я видел, как начальник стражи что-то сказал одному из легионеров, тот исчез и вскоре вернулся с подкреплением. Солдаты плотным кольцом окружили прокуратора, видя это, толпа завопила еще громче. Возмущение нарастало, и внезапно я подумал, что Тиберий прав, запрещая зрелища. Если Рим зиждется на строгой подчиненности сверху до низу, то амфитеатр может навязать свою волю даже императору. Пилат встал. Толпа стала затихать.
— Я согласен! — важно сказал прокуратор. — Пусть дерутся!
Толпа радостно закричала, но Пилат поднял руку, призывая к вниманию.
— Одно условие: победитель получит прощение! Иначе они просто заколют друг друга.
Ответом ему был вопль одобрения. «Слава прокуратору! Слава прокуратору!» — неслось со всех сторон. Невольно я поразился находчивости Пилата. Одним словом он превратил разгневанных зрителей в своих обожателей.
Солдаты отвязали нас от столбов и отвели во внутренние помещения амфитеатра. Служитель отворил оружейный склад, гадая, какие мечи и доспехи нам выбрать. Неожиданно появившийся Пилат прервал его размышления.
— Подбери легионеров подходящего роста, — сказал он сопровождавшему его центуриону, — сними с них вооружение и отдай им! — указал он на нас.
— Гладиаторы не дерутся армейским оружием! — удивился распорядитель амфитеатра.
— Они не гладиаторы! — рассердился Пилат. — Руф — римский центурион, никто не лишал его этого звания. Он будет драться мечом, к которому привык. Второй преступник не римлянин, но имеет право на равнозначное вооружение. Кто бы из них не победил в бою, — усмехнулся Пилат. — Верх одержит римское оружие!
Прокуратор взял меня за локоть и отвел в сторону. Стража, повинуясь его знаку, осталась на месте.
— Ты идешь на смерть, Руф, потому должен знать, — сказал Пилат вполголоса. — Отец твой — дурак, начитавшийся свитков глупых историков. Все эти Нумы Помпилии, Квинты Курции, Муции Сцеволы и прочие наши герои никогда не существовали или не были такими, какими их изобразили. Сказки полезно рассказывать юнцам, чтоб охотней умирали за Рим, умным людям верить в них стыдно. Римом правил царь, потом — сенат, сейчас правит принцепс, завтра, может, опять будет царь… Умирать надо не за них, а за свою семью. Она — основа Рима! Как только распадутся семьи, империи не станет. Август это понимал… Я никогда не отказался бы от такого сына, как ты, Марк! Я гордился бы тобой! Я приказал бросить тебя в зверинец, где жила львица. Вчера она подохла, и я запретил прибирать камеру. Ты пропитался ее запахом, и лев не тронул тебя. Я думал, он растерзает второго, но он не захотел. Толпа возмутилась, тебе придется драться. Мне говорили: ты хорошо владеешь мечом!
— Аким не хуже! — сказал я.
— Он выше ростом и руки у него длиннее. Твой отец говорил: он командовал когортой, — задумчиво сказал Пилат. — Будь с ним осторожнее, не бросайся, очертя голову. Лови его на выпаде. Удачи тебе!
Пилат ушел. Легионеры принесли оружие, помогли нам облачиться в лорики и шлемы, дали овальные щиты. Мечи предусмотрительно оставили для арены. Аким вооружался в трех шагах от меня, и я увидел, как он оживленно разговаривает с одним из легионеров. Я прислушался: говорили по-скловенски. О чем, понять было нельзя, но, к моему удивлению, я увидел, что Аким что-то приказывает солдату. Тот молча кивнул и ушел. Другие последовали за ним — мы были готовы.
— Желаю вам заколоть друг друга! — сказал центурион. — Тогда я наделаю из мечей ножиков и выгодно продам.
— Не дождешься! — усмехнулся Аким.
— Пусть Руф заколет тебя!
— Я обрежу юнцу уши и заставлю их съесть. Могу и тебе оставить…
— Иди! — замахнулся на него центурион палкой.
Я в свою очередь гневно глянул на Акима. Он в ответ показал язык и жестом показал, как отрежет мне уши. Злость закипела во мне. Если раньше я размышлял, стоит мне драться или же позволить заколоть себя, то сейчас сомнений не осталось. Это Аким был виновен в моих несчастьях! Скажи он сразу, что Козма его друг, разве сидел бы я в темнице? Отец не отказался бы от меня, а Валерия уцелела…
Толпа встретила наше появление ревом. Мы по обычаю приветствовали прокуратора и стали друг против друга. Прокуратор дал знак…
Многое уже истерлось из моей памяти, только не этот день. Я помню все: каждое слово, каждое движение, каждый удар… Аким не шутил: бил сильно, точно и расчетливо. Щитом и мечом. Пилат поступил мудро, дав нам лорики из железных колец и тяжелые щиты. Из-за них Аким не мог танцевать вокруг, как делал в перистиле нашего римского дома, и вынужден был сражаться, как римский легионер: грубо и прямолинейно. Мечом над щитом, мечом — из-под щита. Щитом по щиту сбоку — сбить с ног или заставить раскрыться. Именно такому бою учили меня. Удары Акима, я отражал и, помня совет прокуратора, держался настороже. Я ждал, пока противник выдохнется и станет совершать ошибки…
Мы сходились и отскакивали друг от друга, рубили и кололи. На арене стоял грохот и лязг, мы хекали и тяжело дышали. Толпа, вначале встречавшие наши выпады рукоплесканиями, сначала умолкла, а потом стала раздраженно гудеть. Мы бились уже полстражи, но даже не поцарапали друг друга.
— Зачем преступникам защитное вооружение? — донесся сверху знакомый голос. — Они не солдаты. Пусть дерутся одними мечами!
Амфитеатр одобрительно загудел. Шум стал нарастать, послышались крики: сначала разрозненные, а затем все более дружные. Вскоре амфитеатр возмущенно вопил. Мы с Акимом прекратили сражаться, отступили в стороны и молча смотрели на беснующуюся толпу. Ей не интересны были наши приемы и выпады. Она жаждала крови.
Пилат подозвал центуриона, что-то сказал ему. Центурион убежал и скоро появился на арене в сопровождении десятка легионеров. Те взяли нас в кольцо, держа наготове пилумы. По знаку центуриона мы бросили мечи, солдаты подобрали их, затем отобрали у нас щиты и стащили лорики. Я опять увидел знакомого легионера, который снова подошел к Акиму. В этот раз мой противник ничего не сказал, только отрицательно покачал головой в ответ на вопросительный взгляд солдата.
Центурион оставил нам шлемы. Уходя, солдаты швырнули нам под ноги мечи. Я подобрал свой и крепко сжал рукоять «гладиуса». Жить мне оставалось считанные мгновения. Меч — страшное оружие. Он наносит тяжелую рану, едва коснувшись человека. Прямой удар им — смерть. Поэтому солдат на войне прячут в лорики и дают им щиты. Даже у гладиаторов есть доспех и щит. Гладиатор не должен умереть быстро, сначала публика порадуется красоте боя. Армии красота ни к чему. Римские «гладиусы» короткие, поразить ими можно, подойдя вплотную. Мы были обречены. Два-три выпада, и кто-то рухнет на песок. Возможно, оба сразу.
Аким поднял свой меч, целя мне в лицо, и я сразу вспомнил наши бои в Риме. Я отбил его выпад, но лезвие «гладиуса» чиркнуло меня по плечу, и я ощутил, как теплое заструилось по коже. Ответным ударом я зацепил бедро Акима: красный ручеек поплыл по его ноге. Амфитеатр радостно закричал. Каждый наш выпад оставлял на теле противника след. Мы рубили, кололи, уклонялись от ударов; это был стремительный бой: страшный и беспощадный. Клинки, сталкиваясь, высекали искры, меня обдавало горячими брызгами. Амфитеатр вопил от восторга. Но так продолжалось не долго. Скоро мы стояли друг перед другом, залитые кровью, и обессилено тыкали мечами, пытаясь достать противника концом клинка. Усталость и слабость от потери крови мешали нам. Я дважды промахнулся, подставив незащищенный бок, но Аким не успел вонзить в него меч. Один раз «гладиус» повернулся в руке Акима, и он ударил меня плашмя… Амфитеатр вскочил на ноги, толпа орала, как безумная, ожидая, кто первым рухнет на песок. Все плыло перед моими глазами, песок вокруг меня был залит кровью. Я понимал, что едва двигаю мечом, но и Аким не мог добить меня. Собрав все силы, я бросил вперед, выставив перед собой меч. Аким увернулся, я упал на песок и понял, что уже не встану. Из последних сил я перевернулся на спину — встретить смерть лицом. Она медлила. Приподняв голову, я увидел, что Аким стоит на коленях, опираясь на меч, и его шатает…
Амфитеатр вопил и кричал. Нестройные крики слились в один. «Ру-дис! Ру-дис!» — скандировала толпа. Она кричала долго. Я не видел Пилата, но он, видимо, отдал приказ: ворота распахнулись, и на арену вышел десяток легионеров. Держа пилумы на изготовку, они стали окружать нас.
«Добьют! — понял я. — Приколют пилумами…» У моей головы захрустел песок под калигами, но удара пилумом не последовало. Сильная рука вырвала «гладиус» из моей руки, и я вдруг ощутил в ладони другую рукоять. Скосив взгляд, я увидел деревянный меч. Это был «рудис» — знак освобождения гладиатора. Жители Кесарии насытились видом нашей крови и даровали преступнику прощение. Глаза мои закрыла тьма, все стихло…
* * *
Когда я пришел в себя, то лежал в постели в незнакомой комнате. Раны мои слегка ныли, но чувствовал я себя сносно. Я приподнялся и увидел, что руки и ноги мои забинтованы, а также ощутил повязку на теле.
— Очнулся! — послышался звучный голос, и передо мной возникло странное лицо. Кожа на подбородке и щеках была светлее, чем на лбу. Человек, смотревший на меня, недавно сбрил бороду… Вдруг я увидел зеленые глаза…
— Козма?..
— Признал! — засмеялся зеленоглазый.
— Тебя не схватили?
— Руки коротки! — хмыкнул Козма. — Я привел с собой друзей. Отличные солдаты! Они хотели разнести ваш амфитеатр.
— Почему ты не спас Акима?
— Если б лев подошел к нему, то пал бы мертвым. Он был на прицеле. Льва хотели убить, когда зверь подошел к тебе, но я понял, что он не тронет.
— Зачем позволил Акиму сражаться?
— Он так захотел.
— Почему?
— Пусть сам скажет!
Послышались шаги, и рядом с Козмой возникло лицо Акима. Он был бледен, но держался твердо.
— Привет, малыш! — сказал он и подмигнул. — Ты славно дрался! Мне стоило большого труда не убить тебя…
Я недоуменно смотрел на него, и вдруг понял.
— Ты сражался не всерьез?..
— Именно! — подтвердил Аким. — Прости, что обещал отрезать тебе уши. Хотел разозлить. Надо было, чтоб ты бился по-настоящему…
Странное дело, но мне стало обидно. Аким примиряющее похлопал меня по здоровому плечу.
— Ты замечательный парень, Марк! Умный, добрый, честный. Прости мне, если обидел — ты не заслужил этого. Мы могли просто вытащить тебя из амфитеатра, но тогда пришлось бы взять тебя с собой: здесь тебе оставаться было нельзя. Не думаю, что тебе понравилось бы в нашем мире… Поэтому я вспомнил о вашем обычае прощать преступника, если он хорошо дрался на арене… Был рад познакомиться с тобой, Марк! Теперь прощай! Нам пора… — он повернулся и пошел к двери. Там стояли двое в солдатских туниках, но я сразу понял, что это не легионеры. Незнакомцы были высокими, мускулистыми, на поясах у них висели странные сумки. Одного я узнал: это был солдат, разговаривавший с Акимом в амфитеатре.
— Я тоже хочу попрощаться, — сказал Козма. — Выздоравливай, Марк! Скоро кончится действие лекарства, тебе станет больно, но ты поправишься. Раны твои не опасны, но крови потеряно много… За тобой присмотрят — я заплатил хозяину гостиницы.
— Фальшивыми денариями?
— Теперь мы умные! — улыбнулся Козма. — Дал ему слиток серебра. Он так обрадовался, что не сумел это скрыть. Прощай, Марк! Более не увидимся. Желаю тебе радоваться! — Козма склонился и поцеловал меня сначала в одну щеку, затем — во вторую. Через мгновение его и остальных не было в комнате.
Я не успел еще толком осмыслить этот разговор, как в комнату вошел отец.
— Мне сказали, ты жив! — воскликнул он, подбегая к ложу. — Не зря я принес богатые жертвы. Когда все пошли в амфитеатр, я побежал в храм и молил богов спасти тебя! Они вняли…
— Меня спасли не боги, а люди! — прервал его я. — Козма и Аким. Те самые, которых Рим хотел казнить. Ты тоже хотел. Аким подставил тело под меч, чтоб я мог получить прощение…
— Марк, ты мой сын! — обиделся отец. — Ты не должен верить всяким проходимцам! Кто они тебе?
— У меня нет отца, господин! — холодно сказал я. — Он отказался от меня. Знаете, почему? Он струсил! Мой отец был храбрецом, он много раз смотрел смерти в лицо. Он не боялся германцев, рубивших его мечами и коловших копьями, но испугался волопаса, нацепившего тогу консула. Своего отца я любил и хотел походить на него. На человека, который предал меня, не хочу. Уезжайте, сенатор! Вас ждет долгая и трудная дорога, отчет перед консулом. Я остаюсь. Я сам построю свою жизнь, как некогда это сделал тот, кого я любил…
Отец мгновение постоял, странно глядя на меня, затем резко повернулся и вышел. Больше я его не видел…
Много бы я дал, чтоб вернуть тот момент и не говорить тех слов! Отец сделал все, чтоб спасти меня. «Эманципацио» избавляло меня от домашнего суда. Глава римской семьи вправе осудить на смерть любого из ее членов, этот приговор приводится в исполнение немедленно. Передавая меня в руки Пилата, отец лишал прокуратора возможности пожаловаться консулу на слишком мягкий приговор префекта (он не знал, что Пилат настроен миролюбиво). В Риме у отца был Юний… Это я спутал расчеты префекта, отказавшись от суда консула. А потом и вовсе капризничал, как мальчишка, лишенный сладкого… К несчастью, жизнь — это не клубок ниток, который можно размотать и скрутить с другого конца. Велик Господь, заповедавший нам прощать ближнему не семь раз, а семь раз по семь! Радостна была бы жизнь, следуй мы этому завету!
…Отец отплыл из Кесарии утром следующего дня. Пока он следовал в Рим, Сеяна арестовали и казнили по приказу Тиберия. Отчитываться стало некому. Отец сходил к Юнию. Тот посоветовал забыть об Иудее и возвращаться с Лугдунум. Что отец и сделал. Мне рассказал об этом сам Юний. Много лет спустя, при императоре Клавдии, он приехал в Кесарию со специальным поручением. Сильно постаревший, но еще бодрый, Юний, исполнил задние как всегда безупречно, после чего отыскал меня. За чашей вина и добрым столом мы проговорили полночи. Но я опять забегаю вперед…
7
Раны телесные затягиваются быстрее душевных. Через неделю я начал вставать, через две — уверенно ходил. Я жил в гостинице Плавта, куда меня принесли после сражения на арене, и где за мной трогательно ухаживали. Сам хозяин время от времени навещал меня, и не только он. Как-то в моей комнате появился Пилат.
Я ждал этой встречи, поэтому не удивился. Пилат по-хозяйски прошел к моему ложу и сел на бисселий, который поставил следовавший за ним Плавт. Хозяин гостиницы исчез, услужливо кланяясь, а Пилат долго с интересом разглядывал меня. Я молчал. При появлении прокуратора я приветствовал его, как подобает солдату, и сейчас ждал. Одежда Пилата все еще несла знаки траура. За свою вину перед Римом я заплатил кровью, но смерть Валерии оставалась неотомщенной. Я полагал, что прокуратору известно о нашей связи, и он пришел требовать искупления. Однако Пилат заговорил о другом.
— Раны зажили? — спросил он участливо.
— Да.
— Можешь носить оружие?
Я подтвердил.
— Чем думаешь заняться?
— Не знаю, — честно признался я.
— Зато я знаю! — вздохнул Пилат. — Я потерял не только дочь, но и трибуна. Когортой италиков командовать некому.
— Мне всего шестнадцать! — изумился я.
— Мы будем об этом молчать. На вид тебе все двадцать, сенаторские сынки, которых шлют нам из Рима, не выглядят старше, — возразил Пилат. — Станешь трибуном. Я не позволю прислать в Кесарию очередного прощелыгу! Хватит мне Грата, чтоб его заточили в самой мрачной пещере Гадиса! Будь вечно прокляты его потомки! В Иудее нужно резать разбойников, а не римских женщин! С женщинами как-нибудь справимся… Отец сделал из тебя хорошего солдата, Марк, я хочу, чтоб солдаты моей когорты походили на тебя…
— Италики станут слушать юнца?
— Ты сын сенатора и приехал из Рима, — спокойно сказал Пилат. — В когорте служат бывшие вольноотпущенники, овчары и волопасы, ты для них как бог, сошедший с Олимпа. Никто кроме нас с тобой не знает об «эманципацио», да и зачем кому-либо знать?! Солдатам известно другое. Команда «Дельфина» оставила свою награду в харчевнях Кесарии, но еще больше заплатили те, кто хотел слушать их рассказы. Ты храбро сражался с пиратами и застрелил их главаря. Воевал с разбойниками в Альпах и убил не меньше десятка. Твой бой на арене видели тысячи. Мальчишка победил опытного варвара!
— Я не победил…
— Ты жив, — снисходительно улыбнулся Пилат. — Это можно считать победой. Никто не надеялся на такой исход. Спорили о том, сколько ты продержишься… Сегодня в Кесарии нет более популярного человека, чем сын сенатора Марк Корнелий Назон Руф. Никто не удивится, поставь я тебя прокуратором вместо себя. Мои италики… Они будут плясать от радости!..
Так я стал трибуном италийской когорты Кесарии. Впоследствии меня не раз попрекали, что служил под началом Пилата, того самого, что велел распять Господа. Особенно усердствовали в этом братья из иерусалимской общины. Те самые, кто не принял Павла из Тарса: он ведь в юности участвовал в гонениях на христиан! Никто не сделал столько в проповедовании Слова Божьего, как Павел, после своего обращения посеявший живительные семена благой вести в огромных пределах Ойкумены! Братья в Иерусалиме не хотят этого признавать. Они подобны фарисеям, которым обряд давно заменил веру. Для них человек, прикоснувшийся к мертвецу, не чист, даже если человек тот окутывал погребальными пеленами тело Сына Божьего…
Я не осуждаю братьев. Их ревность к Господу столь велика… Для них Пилат — исчадие ада, жестокосердный судья, преступивший законы человечьи и божьи. Они не могут понять, как человек, который видел Господа, слушал его, дышал с ним одним воздухом, посмел осудить невиновного на позорную казнь. Мои братья не римляне. Что значил для римского прокуратора неведомый иудейский проповедник, которого свои же первосвященники требовали распять? Кого из римлян заботит судьба раба? Иисуса приговорил к распятию не Пилат, а Рим. Любой другой на месте Пилата вынес такой же приговор. Сила Рима в его законах, слабость — в пренебрежении ими со стороны властителей. Пилат проявил бы величие, решись отпустить невинного, но прокуратор струсил. Он не хотел казнить Господа, но не устоял перед угрозами первосвященников. Воздаяние за грехи Пилат получил при жизни, закончив ее в ссылке, всеми забытый и презираемый… Но еще большое наказание ждало его по смерти. Пилат мог получить жизнь вечную, сесть в божьем царстве рядом с Господом, но осужден скитаться по мрачным пределам Гадеса. Имя его проклято, как имя Иуды, предавшего Господа. Зачем мне вносить лепту в хор осуждающих голосов?
Пилат преувеличил: не все в когорте плясали от радости, встречая юного трибуна. Хмурился центурион Приск, тот самый, с которым мы едва не подрались на пиру из-за танцовщицы, кислыми выглядели некоторые другие лица. В первый же день я потребовал у квестора отчет об истраченных суммах. Отец научил меня разбираться в денежных записях, и мне не составило труда выявить воровство. Пользуясь тем, что покойный Грат этим не интересовался, Приск, а также центурион Помпоний и квестор Фульк бессовестно наживались на солдатах. За модий зерна в провинции, где жизнь была дешевой, платили, как в Риме, тощий баран у троицы лихоимцев стоил, как тучный телец, а солдатские туники, если верить отчетам, изготавливали из тончайшего египетского виссона. Италики ходили оборванные, ели пустую ячменную кашу, в то время по отчетам явствовало, что они сыты, отменно одеты и вооружены. Я вызвал троицу к себе и потребовал объяснений.
— Буду я оправдываться перед сосунком! — презрительно сплюнул в ответ Приск. — Если посмеешь еще раз назвать меня вором, я заткну твою глотку раз и навсегда! — он демонстративно взялся за рукоять меча.
— Принимаю твой вызов! — ответил я, в свою очередь берясь за меч. — Мы построим когорту, я объявлю тебя вором, а потом мы сразимся. Пусть боги рассудят нас!
Прииск глянул на свежие шрамы на моих руках, и убрал руку с меча. Я вызвал солдат и велел посадить всех троих под замок. После чего отправился к Пилату.
— Давно подозревал этого Приска! — стукнул тот кулаком по столу. — Но судить их нельзя. Будут лишние разговоры… Пусть они вернут украденное, после чего отправляются в Антиохию. Попрошу легата, чтоб послал их на парфянскую границу — там опять неспокойно…
Когда Пилата сместили, и стали известны обвинения, предъявленные ему, я понял, почему прокуратор не хотел лишних разговоров. Приск и его подручные были белыми агнцами в сравнении с Пилатом…
Под страхом суда воры вернули в казну претория несколько тысяч денариев. Солдат стали хорошо кормить, они получили новую одежду и обувь. Когорта ожила. Армейские части, расквартированные в провинциях, склонны к бунтам. Причиной тому почти всегда бывают тяготы службы, беспричинная жестокость командиров, их бессовестное воровство. Италийская когорта в Кесарии не бунтовала…
Получив под свое начало шесть сотен вооруженных людей, я почувствовал себя старше и стал держаться соответственно. В Кесарии не забыли бой на арене амфитеатра, меня боялись. Плавт предложил мне жить у него бесплатно и сам объяснил, чему я обязан такой щедрости:
— У меня каждый вечер сидят твои легионеры, господин. Пьют вино, ласкают рабынь… Когда мужчин много, а женщин мало, это приводит к ссорам, а солдаты приходят с оружием… От их драк сплошные убытки, к тому же ни я, ни моя семья не могут чувствовать себя в безопасности, когда мечи в руках подвыпивших мужчин. Станет жить в гостинице трибун Корнелий — легионеры не посмеют обнажить оружие…
Плавт предложил мне поселиться, где захочу, я выбрал небольшую, но уютную комнату с отдельным входом. Мне не хотелось ходить через триклиний гостиницы, где всегда было многолюдно. Скоро выяснилась еще одна сторона моей популярности. Как-то ко мне пожаловал Плавт и после церемонного поклона спросил неожиданно:
— Господин, ты три месяца живешь у меня, и ни разу не воспользовался услугами моих рабынь. Каждая из них будет рада разделить с тобой ложе и не потребует за это платы. Почему ты пренебрегаешь ими?
Я молчал, и Плавт, огладив бороду, сам ответил на мой вопрос:
— Ты поступаешь мудро. Рабыни, которые спят с твоими легионерами, могут оказаться болтливыми. Негоже, чтобы подчиненные обсуждали длину фаллоса начальника. Но есть достойные женщины, которые никому ничего не расскажут. Если б ты знал, сколько их!
— Достойная женщина возляжет со мной? — не поверил я.
— Целия, Лукреция, Юлия — это римлянки, — стал перечислять он. — Гречанки: Афина, Ниоба, Афродита… Это только те, кто уже обратились ко мне. Половина женщин Кесарии прибегут на твой зов, стоит тебе пожелать!
— Они замужем?
— Есть замужние, есть разведенные, есть вдовы. Девушки тоже желают встречи с тобой, но я не хочу им помогать. У них есть отцы…
— А у замужних — мужья, — нахмурился я. — Пригласи вдову или разведенную!
— Которую?
— Все равно! Лишь бы не уродливая…
В следующий вечер я застал в своей комнате богато накрытый стол, у которого в ожидании свидания томилась вдова начальника кесарийского порта Лукреция. Густой слой белил покрывал ее жирное лицо, а пышная грудь рвалась из тесной столы. Плавт выбрал женщину по своему вкусу. Я не стал выгонять гостью. Я был с ней груб — как с рабыней. К моему удивлению Лукреция не обиделась, наоборот. На прощание она долго обнимала меня и умоляла позволить увидеться снова. Очередь ее дошла не скоро. Я решил познакомиться со всем списком Плавта, он оказался длинным. Молодые и постарше, красивые и не очень, полные и стройные побывали на ложе трибуна италийской когорты, горячо одаряя его ласками и подарками. Плавт сиял: каждая из женщин заказывала к интимному ужину лучшие блюда и вина. Подозреваю, что так ему платили за сводничество. Плавт вдобавок бессовестно надувал влюбленных: кто станет проверять счет в таком деле? Сам того не желая, я оказался в роли Прокула из Рима. Только Прокул свою славу заслужил, выиграв тридцать девять боев. Зато он был стар и уродлив, а я молод и красив…
Так продолжалось более года. Весь день я проводил на службе, вечером меня ждал богато накрытый стол и женщина; все равно какая — Валерии не было в живых… Многие желали заменить ее, я услыхал немало горячих признаний и заманчивых предложений, но остался глух. Мне горестно вспоминать это сейчас, но разве я искал этих встреч? Разве давал какие-либо обещания? Женщины хотели ласк и получали их. Что до остального… Любовь человек находит сам, а спутника жизни ему подбирают на небесах.
Как-то вернувшись в гостиницу в неурочный час, я застал в своей комнате дочь Плавта. Она деловито застила мое ложе.
— Зачем ты здесь? — удивился я.
— Не видишь — прибираю, — не прекращая свое занятие, пояснила она.
— У вас нет рабынь?
— Рабыням хватает своих дел.
— Вот что, — велел я, усаживаясь на ложе. — Прекрати! Иди и пришли мне рабыню.
— Тебе мало своих шлюх?! — окрысилась она.
Я взял ее в охапку и вынес за порог. Она яростно отбивалась и даже цапнула меня за руку. Понятное дело, рабыни я так и не дождался, а вечером ко мне заглянул сам Плавт. Важный грек выглядел непривычно смущенным. Следовавший за ним слуга поставил на стол кувшин с вином, блюдо со сладостями, после чего немедленно удалился. Плавт разлил вино по чашам, я пригубил. Это было отменное кипрское, а не та кислятина, которую хозяин гостиницы подавал гостям.
— Прошу тебя, господин, простить мою дочь, — выдавил Плавт, бросив взгляд на мою покусанную руку. — Зоя раскаивается, плачет целый день.
— Неужели? — хмыкнул я.
Плавт крякнул.
— У меня единственная дочь, трибун, и ту Эрот наказал безумием. Она так хочет тебя, что приходит в бешенство, когда в этой комнате появляется другая женщина. Прости ее!
У меня, наверное, был изумленный вид, поэтому Плавт встал, пошарил в изголовье моего ложа и бросил на стол какой-то сморщенный корешок.
— Вот!
— Что это?
— Мандрагора, корень любви. Если мужчина и женщина съедят его вместе, то будут любить друг друга до скончания дней. Сегодня к своему стыду я узнал, что Зоя давно подкладывает в твою пищу мандрагору. Половину съест сама, остальное дает тебе. Еще мандрагору советуют класть в изголовье любимого, дабы возжечь в нем страсть. Глупые женские штучки! Прости! Больше такого не будет…
Я молчал, не зная, что ответить.
— Ты многого не знаешь, — тихо продолжил Плавт. — Она не только прибирает в твоей комнате, но и стирает твою одежду. Если рабыня забудется и сделает это вместо нее, она так бьет несчастную, что приходится оттаскивать. Боги послали мне одну дочь, господин. Недавно ей минуло пятнадцать. Я мечтал выдать ее замуж за достойного человека и нашел такого. Но дочь моя безумна. Она сказала, что убьет себя, если я хоть раз еще заведу речь о свадьбе. Она это сделает. Прошу тебя, помоги!
— Хочешь, чтоб я женился? — хмыкнул я.
— Я знаю свое место, господин, — с достоинством сказал Плавт. — Ты сын сенатора, а я простой содержатель гостиницы, к тому же не римский гражданин. Не надо жениться — просто возьми ее!
— Предлагаешь в наложницы единственную дочь?!
— Пусть получит, что хочет! Люди не постоянны. Часто они страстно желают обладать чем-то, а, завладев, остывают. Любовное безумие не может длиться вечно. Если она не охладеет к тебе сразу, это случится после рождения ребенка. Став матерью, женщина часто забывает о мужчине и начинает любить дитя.
— Твоя дочь родит без мужа?!.
— У меня будет внук! — улыбнулся Плавт. — Давно мечтаю взять его на руки. Не волнуйся, господин, у Зои будет муж, а у ребенка — отец. Я говорил с родителями жениха, они согласны ждать. Я не бедный человек, господин, мой зять унаследует гостиницу, лучшую в Кесарии! — гордо добавил Плавт. — К тому же, ты, наверное, не разглядел, но дочь у меня — красавица. Ее захотят взять в жены даже с пятью детьми!
— Я хочу поговорить с ней.
— Как скажешь, господин! — поклонился грек.
…Зоя пришла почти сразу. Она умылась, но все равно было видно, что плакала. Став у порога, она скромно сложила руки на животе и потупилась. Я молча разглядывал ее. Когда я поселился у Плавта, дочь его была угловатым подростком, я не заметил, как она расцвела. Плавт истово хвалил все свое, будь то гостиница, вино или дочь, но в отношении Зои он приукрасил немного. У нее было смуглое, милое лицо, карие глаза и тяжелые, черные волосы, уложенные на голове высокой башенкой. В отличие от других молоденьких гречанок она не была пухленькой — стройное, сильное тело с округлым там, где округлому положено быть. Она стояла молча, давая себя разглядеть.
— Ну? — сказал я.
— Прости меня, господин! — тихо сказала она. — Я больше никогда не сделаю тебе больно. Я буду исполнять любое твое желание. Клянусь!
— Съешь это! — указал я на сухой корешок.
Она послушно бросила корень в рот и стала жевать. Зубы у нее были острые и крепкие, в чем я имел возможность убедиться, с мандрагорой Зоя справилась быстро.
— Чувствуешь прилив страсти? — спросил я.
— Да! — с готовностью ответила она. — Расстелить постель?
— Сам справлюсь. Иди!
— А как же?.. — растерялась она. — Отец сказал…
— Ты съела мандрагору одна!
— Я принесу еще! — предложила Зоя.
— Не стоит. За последний месяц я съел ее модий. Чрево не вынесет больше.
— Ты смеешься надо мной! — насупилась Зоя. — Так не честно!
— Тайком подкладывать гадость в еду честно?
— Мадрагора не гадость!
— Но тебе не помогла.
— Поможет! Ты захочешь меня!
— Позову тебя, когда это случится. А сейчас иди!
— Я буду ласкать тебя всю ночь! — исступленно воскликнула она. — Ты не пожалеешь!
— Ты обещала исполнить любое желание. Сегодня оно такое.
— Ты все равно захочешь меня! — зловеще пообещала Зоя уже за дверью. — Очень скоро…
Проснулся я на рассвете и сразу услыхал рядом мерное дыхание. Вечером я допил кипрское Плавта, но был пьян не настолько, чтоб забыть, что лег один. Я откинул одеяло. Зоя, обнаженная, спала, прижавшись щекой к моему плечу. Ее одежда валялась на полу. Как Зоя попала в постель, можно было не спрашивать — в каждой гостинице есть запасные ключи от комнат.
В комнате было прохладно, и Зоя почувствовала это. Пошарив рукой в поисках одеяла, она открыла глаза. Взор ее был невинен, как у ребенка.
— Холодно! — сказала она, обнимая меня. — Ты уронил одеяло? Я согрею!
Тело ее было упругим и горячим. Накануне я много выпил, ночью хорошо отдохнул, стоит ли удивляться, что желание пробудилось во мне? Зоя увидела это. Не успел я опомниться, как она взобралась на меня… Она не вскрикнула, когда порвалась ее плоть, только закусила губу.
— Я ведь говорила, что ты захочешь! — прошептала, прижимаясь ко мне…
Плавт слукавил: Зоя не разлюбила меня ни через месяц, ни через шесть, ни после рождения первенца. Повитуха еще пеленала новорожденного, когда Зоя позвала меня и с гордостью показала на розовый комочек.
— Посмотри, какой он красивый! Весь в тебя! Ты дашь ему имя?
Повитуха положила спеленатого ребенка на пол. Плавт, его жена, стоявшие рядом, вопросительно смотрели на меня. Я понял, чего они ждут, шагнул и поднял сына.
— Мой внук будет римским гражданином! — радостно воскликнул грек.
Так в мир пришел Луций Корнелий Назон Руф, а следом — Марк и Плавт, а также их сестра Випсания… (По просьбе Плавта младшему внуку дали его имя, дочь получила имя бабушки.) Чтобы дети росли в приличной семье, мне пришлось жениться. Так ли задумал хитрый грек, когда уговаривал меня принять Зою, или же он был искренен в горе, но я ни разу не пожалел. Господь послал мне хорошую жену — любящую, преданную, заботливую. Зоя не смогла заменить мне Валерию (ее никто не мог заменить!), но дала мне то, без чего жизнь любого мужчины теряет смысл. У меня был Дом…
Когда семья выросла, я купил домус неподалеку от гостиницы. Он, конечно, не шел в сравнение с родительским домом в Лугдунуме, но был достаточно велик и удобен для большого семейства. В Кесарии мы считались зажиточными людьми, хотя весь мой доход составляло жалованье трибуна — недостаточное для большой покупки. Мне пришлось занять деньги у Плавта. Этот долг я вернул после смерти Тиберия, получив донативу нового императора, Гая Юлия Цезаря по прозвищу Калигула. Император щедро давал одной рукой, чтоб другой забрать тысячекратно…
Я не получал писем от отца и сам не писал ему — формально мы были чужими. Плавт, который не знал об «эманципацио», считал наше взаимное молчание чудачеством. В таких местах, как Иудея, римляне слыли людьми холодными и жестокими. Греки обожают детей, внуков — вдвойне; Плавт и его жена баловали моих детей, осыпая их ласками и подарками. Когда Випсании исполнился год, Плавт сказал мне:
— Негоже, что сенатор до сих пор не видел своих внуков. Если дела не позволяют ему приехать, а тебе — путешествовать с маленькими детьми, то можно послать в Лугдунум картину. У меня есть на примете хороший мастер…
Предложение мне понравилось. Мастер Плавта оказался умелым, хотя переусердствовал, добавляя нашим лицам благообразности. Меня изобразили в парадном облачении трибуна, Зою — в ее лучшем наряде, пририсовав ей на руках золотые браслеты, а на шее — золотую цепь. Таких украшений у жены не имелось, но Зоя шепнула мне, что так захотел Плавт, и я не стал спорить. Над головой каждого из детей и Зои мастер написал по латыни имя изображенного. Я приложил к картине короткое письмо. «Луцию Корнелию Назону Руфу от Марка Корнелия Назона Руфа — радоваться! Это твои внуки, сенатор!» Холст свернули в трубку, запечатали вместе с письмом в пропитанный смолой футляр и вручили преданному рабу. Спустя полгода он привез ответ. В маленьком пакете лежали четыре кожаных векселя на двадцать пять тысяч сестерциев каждый и письмо. Из двух слов: «Моим внукам…»
— Твой отец богат, как Крез! — радовался Плавт. — Как ты распорядишься деньгами, Марк?
— Это не мои деньги, — ответил я. — Отец прислал их внукам.
— Они слишком малы! — отмахнулся Плавт. — Хорошо б отдать серебро в рост. Через десять лет удвоится!
— Вдруг не вернут?
— Трибуну когорты италиков? — улыбнулся Плавт. — Хочу посмотреть на такого смельчака…
Я поручил тестю заниматься деньгами и больше не вспоминал о них. Ответ отца обидел меня. Глупая гордыня закрыла мне очи, я не сообразил: признавая моих детей внуками, отец возвращал мне звание сына. Я ждал слов, адресованных лично мне, но их не было. Отец остерегся написать. Я был скуп на слова в своем письме, и, наверное, он решил, что я помню обиду. Отец хотел примирения, но я не сумел сделать первый шаг…
Я не забыл о человеке, которого в тот страшный день назвал «сыном божьим», и каждый свой приезд в Иерусалим искал последователей распятого. Это было трудно. Иудеи настороженно относятся к людям другой веры, а римлян и вовсе ненавидят. Прошло несколько лет, прежде чем мне повстречался на иерусалимской улице юноша, которого я видел обнаженным в Гефсиманском саду, а затем — на Голгофе. Он тоже узнал меня. Оказалось, что зовут его Иоанн, и мы ровесники. Я попросил Иоанна рассказать мне о Господе. Он холодно посетовал прочесть Тору. Я ответил, что читал, и процитировал пророков, предсказавших пришествие Господа, на древнеиудейском языке. Иоанн смягчился, мы проговорили полдня. Я передал двести денариев на нужды иерусалимской общины, Иоанн пообещал рассказать мне о Господе. Он сдержал слово. Каждый мой последующий приезд в Иерусалим, мы уединялись в гостинице, где Иоанн рассказывал, а я записывал. Я хорошо владею скорописью, придуманной рабом Цицерона Тироном, поэтому не упускал малейшей подробности. Когда повествование закончилось, я объединил записи в книгу, но не сшил их, а пересказал события, как сам понимал. Это заняло более года. Иоанн рассказывал по-арамейски, я переводил его слова на греческий, а цитаты из Торы сверял с древним списком. Завершив работу, я отдал свиток Иоанну.
— Нашим не понравилось, — сказал он в следующий мой приезд. — Сказали, что напрасный труд. Иудеи знания хранят в памяти и передают из поколения в поколение. У нас и Тору многие знают наизусть. Вдобавок мне сказали, что свиток писал язычник, а не иудей.
— Так и есть! — подтвердил я.
— Я не говорил им о тебе, — смутился Иоанн. — Они подумали, что я…
— И это правда. Я просто изложил твои слова…
Свиток Иоанн все же оставил себе. Спустя много лет, когда апостолы стали крестить язычников, он пригодился. Я тоже хотел креститься и просил об этом Иоанна, но он ответил, что вначале нужно стать прозелитом. Я отказался. Зачем надевать оковы старой веры, когда Господь принес в мир новый завет? Все разрешилось просто. Как-то мне донесли, что в Яффе проповедует апостол Петр, глава иерусалимской общины, тот самый, кому Господь поручил пасти овец своих… Я послал людей в Яффу с просьбой к Петру, и он откликнулся. Мне и домочадцам очень понравился этот простой и добрый человек. Он сидел с нами за одним столом, ел ту же пищу, мы долго беседовали. В тот же день Петр окрестил меня и семью. Это случилось через десять лет после Вознесения Господа…
В дни правления императора Гая по прозвищу Калигула, погиб мой отец. Он не участвовал в заговоре, но был богат, а цезарю требовались деньги. В Риме Калигула обобрал всех, теперь грабил провинции. Старого префекта приговорили к смерти, имущество его конфисковали. Мне сообщила об этом сестра, год спустя после казни — Калигула к тому времени был уже мертв. По словам сестры, отец встретил смерть, прижимая к себе картину, где были изображены его сын и внуки. Старику это позволили — картина не представляла ценности для императорского фиска. Обезглавленное тело бросили в Рону вместе с картиной… Еще сестра с сообщала, что обнаружила в бумагах отца (ей позволили их забрать) «адопцио» на Марка Корнелия Назона Руфа. Сестра не знала об «эманципацио» и сочла, что отец оформил усыновление в помрачении ума. После казни человека, обвиненного в заговоре, «адопцио» могло повредить его сыну, поэтому сестра сожгла документ.
Я плакал, получив это письмо. Мой отец не прекращал любить меня, он просто хотел дать мне время примириться с ним. Наверное, он мечтал видеть меня в тоге с широкой пурпурной полосой. Получи я наследство в размере сенаторского ценза, так бы и случилось. Отец не знал, что я верю в Господа и не хочу быть сенатором. Он был истым римлянином и не желал иной судьбы сыну… Домашним я сухо сказал о смерти сенатора, утаив подробности. Их я сообщил только Плавту. Услыхав о казни, он побледнел.
— Никому не говори об этом, Марк! Даже о смерти отца молчи! Тебе это повредит. Пусть думают, что сенатор жив…
Я не мог отомстить за отца, Калигулу убили другие, тогда я решил отомстить Риму. Я дал слово, что никто из моих потомков не обнажит оружия во славу государства, управляемого такими чудовищами, как Калигула. Империя нуждается в хороших солдатах, я решил отобрать у нее хотя бы трех. Луцию минуло шестнадцать, когда я отправил его на остров Кос, где и поныне готовят лучших врачей в Ойкумене. Марк, проявивший способности к рисованию, освоил ремесло архитектора. Плавта у меня выпросил тесть, пообещав, что научит внука коммерции. В Кесарии меня считали безумцем: сыновьям трибуна лежала прямая дорога к военным чинам, вместо этого я учил их ремеслу, как рабов. Замужество дочери и вовсе сделало меня изгоем…
Випсании минуло четырнадцать, когда я стал замечать у своего дома юношу. Он бродил, бросая взгляды на окно дочери. Я велел позвать незнакомца. Он пришел и стал передо мной, хмуро поглядывая из-под насупленных бровей. Гней оказался сыном легионера и местной гречанки. Его родители не состояли в браке (простым легионерам это запрещалось), но жили вместе. Гней считался римским гражданином — как другие солдатские дети, признанные отцами. Сыновьям легионеров — прямая дорога в армию, но Гнея она не влекла. Отец дал ему хорошее образование, но сын желал большего.
— Лучшие в мире риторы живут на Родосе, — вздохнул Гней в ходе нашей беседы. — Вот у кого надо учиться! Родители мои бедны… Если б я мог поехать на Родос!
— А потом?
— Стал бы адвокатом! Мне нравится это ремесло. Оно почтенное, к тому же адвокат живет безбедно… Но начал бы я с того, — Гней дерзко глянул на меня, — что уговорил тебя отдать мне Випсанию!
— Уговори сначала ее! — хмыкнул я.
— Ее не нужно уговаривать! — воскликнул Гней и смутился.
Я велел позвать дочь. Увидев Гнея, она покраснела до ногтей. Я не стал ее ни о чем спрашивать…
Я оплатил учебу Гнея. Через год он вернулся и прямо с пристани побежал ко мне.
— Выиграешь дело в суде — приходи! — велел я.
Через месяц он высыпал на мой стол двести пятьдесят сестерциев — свой первый гонорар… Лучшие семейства Кесарии после свадьбы Випсании отвернулись от нас: трибун выбрал в зятья плебея! Меня это не взволновало…
Мне исполнилось сорок, когда умерла Зоя. Внезапно она начала кашлять, потом — худеть, и за полгода истаяла, как масло в светильнике. Я приглашал лучших врачей, они давали ей вино с травами и пускали кровь — не помогло. Позже Луций сказал, что мать следовало отпаивать кобыльим молоком и медвежьим жиром, но Луций в то время был на Косе…
В последний день Зоя позвала меня. Она лежала, бледная, высохшая, с красными пятнами на острых скулах, и смерть уже проглядывала в ее глазах.
— Я умираю! — тихо сказала жена и заплакала.
— Ты наследуешь жизнь вечную! — возразил я.
— Там не будет тебя! — сказала она жалобно.
— Буду! Когда Господь призовет…
— Ты молод и можешь жениться!
— Не стану! — пообещал я.
— Клянешься?
— Господь не велел клясться.
— Тогда пообещай!
— Обещаю!
— Я не против того, чтоб у тебя были женщины, — виновато пояснила Зоя, гладя мою руку. — Мужчинам без этого нельзя. Но я не хочу, чтоб ты женился. Как потом разобраться в Царстве Божьем, кому с тобой жить?
— Там не будет жен и мужей…
— Вдруг будут! — не согласилась она и попросила: — Ляг со мной! Я не гожусь для любви и не прошу ее, просто обними меня!
Я подчинился. Она прижалась щекой к моему плечу.
— Афродита наказала меня! — шепнула она. — Я обещала ей богатые жертвы, если даст тебя мне. Я честно жертвовала, но потом пришел Петр и запретил. Богиня обиделась…
— Не печалься! Тебя ждал Аид, взамен ты получишь бессмертие.
— Это хорошо, — согласилась она. — Надеюсь, там будет хорошо. Жизнь с тобой стоит ранней смерти. Сначала я мечтала, чтоб ты не выгнал меня после первой же ночи. Потом — чтоб остался со мной на месяц, затем — год… Мы прожили двадцать два… Десятки богатых и красивых женщин домогались тебя, но ты выбрал дочь простого трактирщика. Я утерла нос гордым римлянкам! — засмеялась она и вздохнула: — Знаю, ты не любил меня… Но я была счастлива! В счастье годы летят быстро. Я не заметила, как жизнь прошла…
Она умерла тихо, прижимаясь ко мне. После похорон я подал в отставку, хотя прокуратор Антоний уговаривал остаться. Мне выплатили несколько тысяч сестерциев, я продал вещи, которые принадлежали лично мне, включая оружие, подписал Випсании дарственную на дом и попрощался с детьми. Они стали взрослыми и могли обойтись без меня. В Кесарии оставался Плавт, который обещал заботиться о внуках. В Кесарии жил апостол Филипп, ставший духовным отцом всех обращенных. У моих сыновей было ремесло и деньги, за их будущее не следовало беспокоиться. Чтобы дать им свободу, я подписал всем троим «эманципацио», сыновья встретили это с пониманием. Я сложил в мешок запасную тунику, тяжелый кошель с золотом и отправился в Иерусалим.
Петр встретил меня радостно, братья — настороженно. Я поступил, как следовало — отдал все имение в общину, но многие не приняли меня. В их глазах я оставался римлянином. Крещение не сделало меня иудеем, я не мог входить в храм и синагоги, проповедовать в них… Если б не Иоанн… Мы стали неразлучны с моим побратимом, отчего его стали дразнить «Марк», а меня — «Иоанн». Новые имена прижились…
Когда в Иерусалим пришел Павел из Тарса, я попросился к нему в спутники. Сын римского вольноотпущенника и римский гражданин, он понял меня. В Иерусалиме Павла не любили, хотя он много помогал общине и даже спас братьев от голода, когда в Иудее случился неурожай. С Тарсянином мы обошли пол Ойкумены, навестили десятки городов, в некоторых задерживаясь месяцами, другие покидая через день. Время от времени к нам присоединялся Иоанн. Павел ценил его и любил, как сына. Тарсянин научил меня шить палатки, с той поры это ремесло кормит меня. Хорошие палатки нужны всем — армии, купцам, путешественникам… После казни Павла мы с Иоанном не разлучались. Иоанн проповедовал, я писал… Мое знание языков пригодилось, как и римское гражданство. Городским властям ничего не стоит обидеть иудея, но римлянина, к тому же сына сенатора, они боятся… Иоанн написал свое повествование о земной жизни Господа, но оно оказалось слишком сложным для непросвещенного язычника. Обходимся тем, что составил я. С тех пор, как Павел направил Иоанна в Александрию пасти овец божьих, мы живем здесь. Побратим возглавляет общину, я помогаю ему. Я счастлив. Благоговение, которое сопровождает Иоанна, бывшего рядом с Господом на его земных путях, малым отблеском падает на меня. Иоанн не раз говорил, что после его смерти именно мне следует пасти овец божьих в Египте. Но он еще бодр и крепок. Власть нас не любит, но казней, как Риме, нет.
Я живу оседло, что мне нравится — в пятьдесят три трудно ходить из города в город. Дети мои живы и живут дружно. В последний раз я видел их три года назад. Раз-два в год я получаю весточку. У меня девять внуков. Випсания пишет, что будут еще. Она и Плавт перебрались к старшим братьям в Антиохию. После прошлогодней резни в Кесарии, устроенной римлянами в ответ на восстание в иудеев, жизнь в городе стала невыносимой.
Повествование мое подходит к концу…
Ученики знают о моем прошлом и часто спрашивают: как сын римского сенатора отважился принять крещение? Я отвечаю им: «Придет время, и крещение примут императоры!» Они не верят. Они знают об избиении христиан Нероном, убийствах и притеснениях в провинциях, им кажется невероятным, что заносчивый император склонит главу пред Господом. «Как мы сможем победить? — думают они. — Что значит кучка безоружных рабов против легионов Рима?» Вера братьев слаба… Они не осознали, что Господь вложил в их руки самое могучее оружие. Людей, у которых нет страха смерти, победить нельзя. Рим правит, разделяя племена, вера в Господа объединяет их. Придет время, и наступит решающая битва. Вестись она будет не на полях сражений, а в сердцах людских. Когда они запылают, император склонит голову. Если захочет ее сохранить…
Время от времени я вижу странный сон. Большая площадь, заливаемая волнами, красивые здания вдали. Посреди площади стоит колонна, которую венчает скульптура льва. Я понимаю, что площадь эта, колонна и лев как-то связаны со мной, но не могу понять как. Просыпаюсь и начинаю молиться. Ночь — лучшее время для обращения к Господу. Ничто не мешает мне заглянуть в глубины памяти и вызвать образ избитого человека, повисшего на кресте. Я отчетливо вижу его истерзанное тело, бледное лицо, и ощущаю непреодолимую силу, исходящую от Распятого. Силу, что дает радость жить…




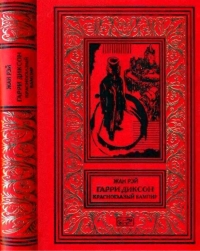



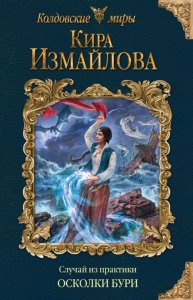

Комментарии к книге «Денарий кесаря», Анатолий Федорович Дроздов
Всего 0 комментариев