Ольга Михайлова Le château des tentation (Замок искушений)
Я в безднах душ людских,
как в дремлющих прудах,
нередко наблюдал
как лунный луч скользил
по их зеркальной глади.
Какая тишина…
Но стоит подойти, вспугнув полночный мрак, -
и тина черная извергнет бурых гадин…
Пролог. 1819 год
Откуда берется зло? Нелепый вопрос. Оно незримо таится в душе человеческой, и если силы души — воли — в ней оказывается недостаточно для устремления к Высшему, душа становится рабой порочных склонностей и чёрных прегрешений, кои приведут её в свой черёд к мрачной бездне ада.
Франсуа Виларсо де Торан никогда не имел сугубого повода ненавидеть своего брата. Тот родился на полтора десятилетия раньше, и всегда был для него любящим наставником и защитником. Анри первым посадил малыша Франсуа в седло, научил читать звериные следы и ставить капканы. Он же позже делился с ним своим пониманием жизни, учил основам веры в годы юности. И был доволен понятливостью младшего брата: Франсуа схватывал все с полуслова, был умён и одарён многими талантами. К тому времени, когда Франсуа исполнилось пятнадцать, старший брат женился, и через три года в домашней церкви был крещён его первенец — Этьенн Фабиан, племянник Франсуа, а ещё через пять лет родилась дочь, которую нарекли Сюзанн.
В год её рождения отец Анри и Франсуа, граф Фабиан, скончался, распорядившись в своем предсмертном акте наследования весьма разумным образом: его старший сын Анри получал фамильный замок Торанов в своё полное распоряжение, равно как и в распоряжение своего потомства, а младший — небольшую вотчину Виларсо, вполне достаточную для его нужд. И Франсуа не почёл себя обделённым. В то время этот раздел показался ему справедливым.
Однако вскоре произошло событие, странным образом изменившее его мысли. Его брат, уехав в Париж, не вернулся к назначенному дню, а вскоре пришло горестное известие о его гибели на дуэли. Молодая жена графа не перенесла удара — и вскоре двадцатичетырехлетний Франсуа Виларсо де Торан перебрался в замок отца и брата, став опекуном его малолетних детей.
Именно теперь, глядя с балкона, как резвятся на зеленой траве его племянник и племянница под присмотром гувернантки, Франсуа впервые задумался. Обстоятельства сложились для него более чем благоприятно и в ближайшие годы, до двадцатипятилетия Этьенна, он был полным хозяином всех владений Торанов. Но потом? Щенок подрастёт — и захочет распоряжаться сам. Между тем Франсуа уже успел вкусить все прелести обладания фамильным достоянием.
Исчезновение племянника дало бы ему право и на титул…
Если чёрный замысел, родившийся в душе, находит опору в уме, ум, помрачённый дурным помышлением, начинает плести паутину злодейских мыслей. Если этот ум слаб и некрепок — зло, порождаемое им, мелко и читаемо мудрыми, но если разум силён и глубок — горе тем, на кого направлены его злые помыслы. Франсуа Виларсо де Торан обладал умом недюжинным и изощрённым, и даже — извращённым, и потому понятные многим злодеяния претили ему. Возиться с окровавленными трупами, испортить реноме в глазах соседей? Прослыть Жилем де Рэ, Синей Бородой?
Помилуйте, мсье…
Выход подсказал ему друг — аббат Жирар Бертран, причём подсказал невольно, абсолютно не ведая о его желаниях. Отец Жирар только что вернулся тогда из Дижона от своей родни, где узнал о гибели прекрасного юноши из благородной семьи — его погубили раннее растление и пагубные склонности. «А все материнские потачки да отцовские слабости. Воистину, захочешь погубить человека — исполни все его прихоти…»
Франсуа внимательно посмотрел на своего духовника и ничего не сказал, но именно тогда он уже понял, что нужно делать. Он внимательно приглядывался к Этьенну, заметил в мальчишке делающее ему честь душевное тепло, доброту, умение сострадать… Щенок был доброжелателен и мягок, смел и искренен. Сюзанн росла живой и подвижной, брат и сестра ладили, были веселы и жизнерадостны.
Мсье Виларсо де Торан спокойно приступил к исполнению своего чёрного замысла.
…Едва племяннику исполнилось двенадцать и он вышел из отрочества, его дядя, и до того позволявший юнцу некоторые книги, коих осмотрительная мать или заботливый отец никогда не разрешили бы прочитать сыну, теперь стал ещё более внимателен в выборе книг. Не забыл он и о племяннице, наняв ей в гувернантки более чем сомнительную особу, чья репутация была такова, что никто, кому хоть на волос дорого благополучие воспитываемого, не доверил бы ребенка. Мадемуазель Катрин Фоше поначалу, получая прекрасное жалование, пыталась хотя бы внешне на новом месте вести себя пристойно. Однако вскоре ей довольно прозрачно было сказано, что детей следует подготовить к жизни, а не растить, как оранжерейные цветы. Ей показалось, что она ослышалась, но мсье Франсуа, назвав вещи своими именами, хотя и не открывая своих намерений, заметил, что его дорогой мальчик, малыш Тьенну, должен знать, что такое подлинная галантность, как заслужить любовь женщин, он не должен оказаться простофилей ни в чём. То же касалось и его племянницы. И если ей, Катрин, это удастся — она получит прекрасные рекомендации на будущее.
Мадемуазель Фоше была особой весьма понятливой. Через неделю малыш Тьенну потерял невинность, ещё через неделю его сестрица начала рассуждать о том, что в жизни очень важно насладиться всеми удовольствиями, которые дают богатство и молодость… Слишком рано посаженный на коня, слишком рано сжавший рукоять шпаги и пистолета, Этьенн рос сильным и не по годам развитым, и через два года он был, по сугубому настоянию мсье Франсуа, представлен известному тогда в столице очаровательному мсье Шаванелю и был обучен умению обходиться и без женщин. Но сделать из него мужеложца Франсуа не хотел, — общение с женщинами сулило его питомцу куда больше сложных ситуаций, чем тайные потехи содомитов. Но несколько лет совершенствования в разврате принесли свои плоды — мсье Этьенн и мадемуазель Сюзанн знали все тонкости и ухищрения, необходимые для того, чтобы в полной мере наслаждаться всеми удовольствиями жизни. Оба при этом были исполнены искренней любви к своему дорогому дядюшке, столь доброму и щедрому.
Им никогда ни в чём не отказывали.
Замысел мсье Франсуа Виларсо де Торана был близок к осуществлению. В двадцать пять лет Этьенн должен был стать хозяином своей вотчины. Срок опеки истекал. С теми склонностями, кои Француа удалось сформировать в юнце, с теми взглядами, что разделяла его сестра — далеко ли до беды?
Между тем, в это время в их приходе произошло достаточно мелкое, обыденное, чтобы не сказать — заурядное событие. Одна из вполне приличных девиц, дочка кровельщика папаши Русселя, оказалась беременной. Отец Бертран, огорчённый падением овцы своего стада, счёл возможным вставить этот эпизод в свою воскресную проповедь, на которой, как водится, присутствовал и его друг, господин Виларсо де Торан. О судьбе несчастной соблазнённой Розалин Руссель священник упомянул вскользь, особое внимание уделив необходимости девицам блюсти добродетель.
«Грех блудодеяния глубоко проник в падшую природу человека. Он начинается прежде падения телом — с блудного помысла, приводит к порочному самоуслаждению, и неотступно начинает преследовать несчастного, пленяя ход его мыслей и чувств, превращая его в раба низкого порока. Не разжигайте в себе бесовские страсти, возлюбленные мои, — звучал с амвона голос отца Бертрана. — Берегите себя… Но не меньший грех совершают и те, — продолжал священник, — кто лишает невинности молодые души, растлевая, толкая их на путь разврата и греха, соблазняя развратными зрелищами, насмехаясь над целомудренными, занимаясь сводничеством — всё это соучастие в убийстве ближнего…»
Отец Жирар был любим прихожанами за безупречное поведение и почти неземную кротость, его слушали в молчании, но вдруг случилось то, о чем история Церкви повествует в житии епископа Амвросия Медиоланского. Стоило отцу Бертрану замолчать, откуда-то из гущи его паствы раздался тоненький детский голосок: «А Анри Карно черти утащат в ад?» Сын местного булочника Карно и соблазнил юную Розалин. Прихожане молча ожидали ответа священника, и тот, улыбнувшись малышу, ответил, что если тот не восполнит нанесённого ущерба, он рано или поздно заплатит за свои деяния.
— Вспомним Писание, возлюбленные. «Горе миру от соблазнов, ибо надлежит придти соблазнам; но горе человеку, через которого соблазн приходит…» — Говоря это, добросердечный отец Бертран не заметил, как странно потемнело вдруг лицо господина Виларсо де Торана. Ногти мсье Франсуа впились в его ладони, и он в молчании дослушал слова Господни, коими его друг увещевал прихожан. — Господь говорит: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской…»
Господин Франсуа невольно вспомнил лицо малыша Тьенну, его небесно чистые глаза, шелковистые тёмные волосы. Это он соблазнил и растлил чистые души, это он превратил юную малютку Сюзанн в хладнокровную стерву, озабоченную только успехом у мужчин да роскошными тряпками, а Этьенна — в бессердечного повесу, чьи жертвы уже исчислялись десятками, отправившего ещё до достижения совершеннолетия на тот свет шестерых — оскорбленных братьев, женихов, отцов… Честно говоря, Франсуа рассчитывал, что одна из дуэлей прервёт жизнь самого Этьенна, и он, наконец, получит долгожданный титул и станет полноправным владельцем отцовских земель, но его расчёты пока не оправдывались. Как назло, мальчишка был неуязвим, точно заговорён, хотя за свои мерзости давно заслуживал или пули, или удара шпагой. Оставалось всего полгода. Срок оговоренной опеки заканчивался в августе.
Но теперь перед мсье Франсуа встал гадкий вопрос, о котором он до проповеди отца Бертрана как-то не думал.
А чего за сделанное с детьми брата заслуживает он сам? Жернов на шею?
Глава 1. В которой читатель знакомится с героями, прибывшими на лето из Парижа в старинный замок Тентасэ
— …Извините, мсье, но дальше я не проеду, — возница повернулся на козлах к трём молодым людям, которые, поняв его правоту, уже покидали экипаж. Дорога в горном ущелье была завалена несколькими огромными валунами. При падении каменные глыбы раскололись, и теперь весь уступ, по которому пролегал их путь, был непроходим.
— Далеко ли ещё? — спросил у кучера Огюстен Дювернуа, субтильный юноша с бледным, довольно невзрачным лицом и пушистыми тонкими, слегка вьющимися волосами, образовывавшими вокруг его лица странное подобие пепельного нимба. Сейчас, когда на волосы падали солнечные лучи, они отливали красновато-рыжими бликами.
— Нет. После завала идите прямо по дороге, вдоль реки, потом увидите старую мельницу, дальше дорога разветвляется, но вы не ошибётесь — замок искушений, ой, простите, замок Тентасэ, он виден издали. Его нельзя не заметить, до него отсюда меньше трети лье, — кучер торопливо развернул лошадей и двинулся в обратный путь.
Молодые люди, взяв вещи, стали осторожно пробираться по самой кромке обрыва, лавируя меж упавших на дорогу камней. Один из юношей — коротко остриженный брюнет с тонкими чертами подвижного лица и умными тёмными широко расставленными глазами, Рэнэ де Файоль, оживлённо поинтересовался:
— Этот глупец просто оговорился? Причем тут искушение? Или это какое-то предание? — Вопрос свой он обращал к Огюстену, ибо приглашение погостить в замке Тентасэ на время каникул в Сорбонне, они получили именно от него.
— Конечно, оговорился. Le château des tentation и Château de Tentaseu — вот дурачок и перепутал.
— Края красивые, но неужели нельзя было расчистить дорогу? — заметил, протискиваясь у каменной глыбы, третий из них — Арман Клермон, одетый как парижанин. На вид он был крепче и куда красивей остальных, но сейчас его несколько портило застывшее на лице выражение неудовольствия. Он не хотел ехать к незнакомым ему людям, всячески противился, и уступил настояниям приятелей в последнюю минуту. Он чувствовал себя неловко, ожидая встречи с незнакомыми ему людьми.
— Полно, Арман. Возница же сказал, что обвал произошёл только в пятницу. Расчистят, — Файоль был оживлён и жизнерадостен. Впрочем, его всегда отличали мягкая плавность речи и подчеркнутое внимание к собеседнику, создававшие ему репутацию весьма обаятельного человека. В нём обращала на себя внимание и та живость, что именуется diable au corps, и хотя многие его жесты могли бы показаться несколько аффектированными, он был очень артистичен.
Неожиданно все они остановились, вынужденные пропустить двух путников, шедших навстречу — разминуться на гряде камней было немыслимо. Клермон удивлённо оглядел встречных — они казались погорельцами, были в копоти, шли, шатаясь, как пьяные. Глаза их были по-монашески отрешённы, один заботливо поддерживал другого, казалось, совсем ослабевшего. Они прошли мимо, одарив их пугающе безрадостными взглядами. Клермон проводил их встревоженными и напряженными глазами. Кто это, Господи? Откуда они? Файоль и Дювернуа почти не обратили на встречных внимание, брезгливо посторонившись. Все молодые парижане проследовали дальше и, миновав мельницу, остановились.
— Вы только посмотрите… — Дювернуа замер, восторженно оглядывая открывшийся на повороте дороги огромный замок.
Да, что и говорить, было на что посмотреть. Излучина реки живописно окаймляла каменистый уступ, на котором, словно вырастая из него, возвышался замок Тентасэ — огромное строение с двускатной крышей и тремя небольшими островерхими башнями. Замок сохранял едва заметные следы многих переделок: некоторые окна были убраны и сровнены со стенами, сложенными из терракотового камня, сходного с тем, что составлял береговые уступы. История тысячелетий, вызывая почтение и восторг, витала над ним. Сзади высилась поросшая лесом горная гряда, и Клермон, внимательно оглядев замок, не мог не оценить его фортификацию. Сейчас, во время таяния снегов в горах, когда реки стали полноводнее, Château de Tentaseu был неприступен. С миром замок соединял только арочный мост, чьи прибрежные опоры были сильно подмыты.
Путешественники двинулись было к замку, но тут сзади раздались чьи-то оживлённые голоса и приезжие, обернувшись, увидели молодого человека и девушку, машущих им от мельничного поворота. Невдалеке стоял пожилой человек в синей ливрее. Все трое молодых мужчин, бросив осторожные взгляды на девицу, ощутили, что сердца их забились куда резче, чем минуту назад, однако, присутствие спутника сковывало их.
Через минуту состоялось знакомство. Юноша, высокий смуглый красавец, назвавшийся Этьенном Виларсо де Тораном, представил молодым людям свою сестру Сюзанн. Упоминание о родственных связях сразу оживило глаза Огюстена и Рэнэ, ибо Сюзанн была просто красавицей. С робкой улыбкой смотрел на неё и Клермон, отметив, что девице не более двадцати лет, брат же казался лет на пять старше. Клермон обратил внимание и на то, что, сколь ни хороша Сюзанн, Этьенн, величественный и обаятельный, выглядит ярче и заметней сестры. Сам Этьенн, дружески поздоровавшись с Огюстеном, оглядел и его друзей, которых видел впервые. Под его пристальным и умным взглядом Клермон смешался, и даже Рэнэ де Файоль, которого трудно было смутить, почувствовал себя неловко. Этьенн же, церемонно поклонившись Клермону, куда менее чопорно, почти фамильярно поприветствовал Рэнэ.
Мадемуазель Сюзанн тоже оглядела тех, с кем ей предстояло провести лето. Рэнэ де Файоль показался ей обаятельным и игривым, Клермон — сдержанным и застенчивым, а Дювернуа — несколько вульгарным, но если среди парижской толпы их можно было бы выделить, то сравнения с её братом они не выдерживали, на глазах становясь блеклее и словно уменьшаясь. Впрочем, Клермон, бывший одного роста с графом, не сильно терялся на его фоне, но костюм… Боже мой… Сюзанн бросила на Клермона взгляд, исполненный нескрываемой жалости.
Тот заметил его и покраснел.
Вся компания проследовала в замок, немного задержавшись на мосту, наблюдая за бурлящей на перекатах рекой. Вода имела странный буровато-зелёный цвет, что приезжие объяснили цветом местной почвы. После моста вымощенная коричневато-желтым камнем дорога, обогнув основную башню и боковую стену замка, привела их к необыкновенно живописному арочному входу, увитому плющом.
Все остановились, пораженные гордым величием широкого парадного подъезда, фасада с двадцатью окнами, всем внушительным видом здания, два крыла которого словно обнимали приезжих. Утро давно миновало, но за боковой уступ дома солнце перевалило только что, и сейчас роса, ещё не высохшая в тени, блестела драгоценными бриллиантами на изысканно вырезанных акантовидных листьях.
Рэнэ и Огюстен наперебой старались развлечь очаровательную мадемуазель Сюзанн, а Клермон, ещё не забывший пренебрежительного взгляда девицы на его костюм, обменивался вежливыми фразами с Этьенном, когда вдруг неожиданно замолчал на полуслове. Над арочным перекрытием он заметил некое подобие десюдепорта, в овальном углублении которого виднелась надпись. Удивительно, что она была не вырезана в камне, а скорее, камень был выбран вокруг нее, буквы казались выпуклыми и видны были только сейчас, когда солнце освещало замок со стороны входа. Этьенн заметил направление взгляда собеседника и тоже увидел слова.
— Это на латыни?
Остальные некоторое время разглядывали надпись, но через минуту Файоль и Дювернуа обернулись к Клермону.
— Вы у нас книжник, Арман. Что там написано? Дата постройки и какое-то изречение?
Клермон не ответил. Буквы были несколько нелепы, некоторые — казались словно перевернутыми, напоминали детские каракули. Арман достал из кармана жилета записную книжку и методично, закусив от напряжения губу, скопировал надпись. Но прочитать её не смог — некоторые быквы были нечитаемы, к тому же — его прервало появление хозяина.
Его светлость герцог Робер Персиваль де Тентасэ де Шатонуар оказался человеком неопределимых лет и равно необычной внешности. Его лицо, в первую минуту вызвавшее оторопь прибывших резкостью и жесткостью черт, затем, — стоило его светлости улыбнуться и радушно пригласить их в дом, — показалось мужественным и подлинно аристократичным. А через несколько минут все были убеждены, что никогда ещё не встречали столь очаровательного и милого человека. Удивительно было и то, что Дювернуа и де Файолю хозяин замка показался сорокалетним, мсье Виларсо де Торан подумал, что его родственнику давно идёт пятый десяток, Клермон же был убежден, что его светлости далеко перевалило за шестьдесят.
Герцог любезно осведомился у мадемуазель Сюзанн, которую назвал своей очаровательной родственницей, где же её подруги, о которых известил его в последнем письме Этьенн? Где телега, посланная им за их вещами? Та, любезно обняв его, сообщила, что Лора, Элоди и Габриэль подъедут чуть позже, у обвала стоит слуга, он встретит их и проводит в замок. Вполне удовлетворившись этим объяснением, его светлость кивнул, а Дювернуа и Файоль переглянулись. Черт возьми, дивное местечко, да ещё вдобавок четыре девицы… Просто рай.
Между тем хозяин — сама любезность — представил им своего егеря, мсье Камиля Бюффо, тощего подвижного человека с каким-то вытянутым, чуть перекошенным лицом, и домоправителя, мсье Гастона Бюрро, высокого худого мужчину с выразительными иссиня-чёрными глазами, который выказал полную готовность сделать все, чтобы гости его светлости чувствовали себя в высшей степени уютно. Он показал предназначенные им апартаменты. Арман Клермон, узнав, что центральные двери в длинном коридоре, куда их проводили, ведут в библиотеку, выбрал комнату рядом, а Файоль и Дювернуа устроились в других апартаментах в соседнем крыле, рассудив, что так можно будет оказаться поближе к мадемуазель Сюзанн и её, как они надеялись, очаровательным подругам.
Пока прибывшие осматривали свои новые жилища, восхищаясь их изысканной роскошью, в нескольких лье от замка по дороге ехала ещё одна карета. В экипаже сидели три девицы, связанные сестринским родством, что, однако, особенно заметным не было. Старшей — мадемуазель Лоре д'Эрсенвиль — было около двадцати трех лет. Нежный овал лица обрамляли пепельные волосы, и в чуть размытых, каких-то акварельных чертах, читались мягкость и утончённость. Средняя, Элоди, мало походила на сестру, в семье говорили, что она «пошла в монашеский род», её волосы были намного темнее, а черты, как говорили между собой сестры, «напоминали ночное привидение». Под высоким лбом светились сине-серо-зеленые зеркальные глаза, таившие неженский ум, бледные впалые щеки зрительно ещё больше удлиняли узкое лицо, остальные черты почти не читались, во всяком случае, глаз их не замечал. Было очевидно, что девятнадцатилетняя Элоди намного умнее и решительнее сестёр, но ей недоставало той чуть раскованной и пикантной женственности, что так чарует мужские сердца. Она была несколько резка в движениях и редко думала о том, какое впечатление производит. Младшая Габриэль была семнадцатилетней девицей, светлокудрой и белокожей, похожей на Лору, черты её были скорее приятны, чем красивы, зато в ней в избытке была та кокетливая игривость юной женственности, которой так не хватало Элоди. Она молча слушала разговор сестёр, не вмешиваясь в него.
В голосе же Элоди, в словах, обращённых к старшей сестре, сквозили надлом и отчаяние.
— Ты должна опомниться, Лоретт! Ты погубишь себя, это безумие! О нём говорят ужасные вещи и, если хоть половина правдива — он чудовище! — в глазах её застыло выражение ужаса, — Всё, что может сделать такой человек — осквернить тебя и погубить. Такой не может любить! — она истерично всхлипнула и умолкла.
Лоретт с улыбкой взглянула на Элоди и незаметно переглянулась с Габриэль. Тихо вздохнула. По отрешённому спокойствию её лица было понятно, что слова сестры ничуть не задели её сердца. Она уже неоднократно слышала Элоди, но что понимает эта пансионерка, чьё сердце ещё никогда не знало подлинного чувства? Да и способно ли познать? Она вздохнула, с чуть аффектированной нежностью поцеловала сестру, и кротко проговорила:
— Как ты можешь так говорить — и только на основании вздорных слухов? Ведь ты совершенно не знаешь его. Клевета, движимая завистью, всегда стремится очернить и красоту, и добродетель, и знатность, и обаяние, стараясь смешать их носителей с грязью. Не следует верить злобным наветам, моя девочка. Надо верить своему сердцу. — Мягкие и рассудительные слова Лоры подействовали на Элоди успокаивающе, но было заметно, что тревога в её сердце ничуть не улеглась. Она, опустив глаза, предалась всё тем же беспокоящим и горестным мыслям.
В конце весны Лора встретила в Париже благородного юношу необыкновенной красоты, одним лишь взглядом покорившим её сердце. Она страстно полюбила его и была просто счастлива получить от его сестры Сюзанн приглашение провести лето в замке Тентасэ, у дальних родственников Виларсо де Торанов, где, как она знала, будет и Этьенн. Элоди, видя увлечение сестры, неоднократно слыша от своих подруг по пансиону о весьма предосудительных наклонностях молодого человека, пыталась убедить её выкинуть пагубную страсть из сердца, но поняв безуспешность уговоров, напросилась поехать вместе с ней, рассчитывая своим благоразумием уберечь сестру от опрометчивых поступков. Габриэль, не захотев оставаться без Лоретт в городе, уговорила ту взять с собой и её.
— Я уверена, как только ты увидишь Этьенна, Диди, ты поймешь, насколько лживы все слухи о нём. Ты, я знаю, полюбишь его как брата.
Карета неожиданно остановилась. Около двери стоял пожилой человек в ливрее, вежливо осведомившийся, не сестры ли они д'Эрсенвиль? Девушки кивнули и услышали, что его оставили специально, чтобы встретить их и проводить в замок. Мсье и мадемуазель Виларсо де Торан уже там. Лора, Элоди и Габриэль переглянулись, кивнули и двинулись уже знакомым нам путем вслед за слугой, погрузившим на телегу их вещи — в дополнение к саквояжам графа и его сестры.
Их приветствовали столь же любезно, как и всех остальных. Мсье Бюрро устроил двух старших сестёр в отдельных комнатах — одну в центральном крыле, другую — в ближнем, Габриэль же достался уютный будуар на втором этаже в дальнем крыле замка. Из-за того, что они прибыли позже остальных и не слышали разговора у входа, они не заметили и надписи над ним.
Впрочем, солнце уже перевалило за конёк двускатной крыши, и никакой надписи на фронтоне видно не было.
Глава 2. Просто пояснительная. В ней коротко рассказывается том, почему трое друзей, студентов Сорбонны, прибывших в Тентасэ, вовсе не были друзьями
Арман Клермон называл себя парижанином, хотя родиной его предков была старая Шампань. Его дед, граф Шарль-Патрик Амеди де Гэрин де Клермон в страшный год царствования кровавого Робеспьера лишился всех земель и родового замка и попал на гильотину. Во времена, последовавшие после ста наполеоновских дней, его сын кое-что — в состоянии удручающем — сумел получить обратно, кое-как продал, чтобы обеспечить будущее сына, и вскоре семья де Клермон перебралась в Париж.
Юный Арман с детства понял, что их обстоятельства изменились, и ему придется пробиваться самому. При этом сразу сделал то, что удивило и насторожило отца — решительно избавился от зримых признаков былого аристократизма, одевался подчеркнуто просто, впрочем, ничего иного позволить себе и не мог, и стал подписываться просто Клермоном. Отец заметил ему, что пренебрежение к собственному происхождению смешно в выскочке, но постыдно в дворянине и аристократе, но Арман не внял ему.
Он был ребенком странного времени. Революция обрушила устои привычного порядка, но возникшая на его руинах кровавая вакханалия ужаснула, её исход вопиюще не совпадал с рассудительными предначертаниями мыслителей былого, и отдаленно не напоминая то царство свободы, равенства и братства, какое возвещали именем справедливого здравомыслия вчерашние властители дум, чьи наилогичнейшие ухищрения обернулись теперь полуночным бредом. Подлинный исторический поток выглядел куда своенравнее благих ожиданий и изощрённых выкладок философического Разума. Перед отрезвляющим уроком событий избыточная рассудочность и головное резонерство выглядели глупостью.
Арман появился на свет три года спустя после того благословенного дня, когда в грязную корзину под гильотиной рухнула голова того, кто погрузил страну в кровавое марево террора. Всё, случившееся в эти безумные годы Клермон знал по рассказам. Бабка хотела воспитать в нём мстителя за поругание, отец — человека, умеющего все простить. У них ничего не получилось. Арман не хотел прощать, но не мог и мстить призракам, ушедшим в долину смерти, и потому просто пытался забыть обо всем, жить впечатлениями, будь то безудержная фантазия, россыпь рифм на лету, зыбкие грезы или вспышки душевных озарений. Но не всегда получалось.
Он был умён и рассудителен, презирая и ум, и рассудительность.
Довольно внимательно, хотя и безучастно юный Арман наблюдал взлёт и падение Наполеона. Отроком он стал свидетелем омерзительно-забавной сцены в Люксембургском саду, где увидел брата императора Жерома, который, прогуливаясь с компанией молодых шутников, подошёл к старой даме в немодном платье и сказал:
— Мадам, я страстный любитель древностей и, глядя на ваше платье, я хотел бы запечатлеть на нём восхищенный и почтительный поцелуй. Вы мне разрешите?
Дама ответила ему очень ласково и любезно:
— Охотно, мсье. А если Вы не почтете за труд посетить меня нынешним вечером, то сможете поцеловать и мою задницу, которая является ещё большей древностью — она на сорок лет старше платья…
Эта была любезная и безжалостная оплеуха века минувшего, человеком которого от себя чувствовал — веку парвеню, времени тщеславных выскочек, крутящихся у новых тронов, и Арман понял, что всё, прочувствованное в годы становления, отразилось в нём сильнее, чем он признавался себе. При этом не понимал, что именно столь болезненно для него в его положении: поруганная ли честь семьи, сокрушенная ли гордыня, сполна ли прочувствованное унижение нищеты?
Арман замкнулся, пытаясь продумать свой дальнейший путь, в котором, по здравом размышлении, ничего успокоительного не видел. Вернуть величие роду? Жизнь, пожертвованная честолюбию? Но он не был честолюбив и не хотел заискивать перед новыми хозяевами жизни. Жизнь, отданная величию? Но он ощущал в себе то рыцарственное величие благородной крови, которой претит желание подняться над ничтожествами. Карабкаться вверх свойственно только плебеям. Арман по-прежнему был патрицием. Но что оставалось? Жизнь, посвященная накопительству? Он тихо вздыхал, морщась, словно от зубной боли. Любовь? Арман сжимал зубы.
Когда ему исполнилось восемнадцать, отец заверил его, что они сумеют оплатить его обучение в Парижском университете, закрытом Чудовищем, но вновь открытом Наполеоном. Он согласился и, поступив туда, неожиданно обнаружил блестящие способности. Огромное серое здание в самом сердце Латинского квартала, выпускники которого веками составляли цвет французской образованности, стало для него родиной духа. Книги, старинные фолианты университетской библиотеки, огромные инкунабулы с пергаментными страницами, пахнущие затхлой замшей и немного — мёдом и плесенью, зачаровывали его. Он не чувствовал голода и зова плоти, погружаясь в таинство чуждых букв, разбирая полустёртые знаки на ветхих страницах.
Здесь он обретал себя, расслаблялся, не чувствуя своей ущербности.
Вскоре Клермон обратил на себя внимание профессора Жофрейля де Фонтейна, кумира студентов, который отметил в Армане недюжинные дарования, невероятную усидчивость и почти монашескую серьёзность. Несколько сблизившись со своим питомцем, он обнаружил и роднящее их сходство судеб. Во время революции многих профессоров Сорбонны гильотинировали. По мнению Марата и Робеспьера, ученость вела к неравенству. Отец Фонтейна, профессор Сорбонны, погиб во время террора, семья была разорена.
В дальнейшем их отношения только упрочились, Фонтейн смог добиться для Армана персональной стипендии, что вызвало у Армана слезы благодарности. Профессор дорожил своим студентом. Он был одинок, и в ученике хотел найти если не сына, то наследника своей кафедры и, хотя до панибратских отношений никогда не снисходил, они порой болтали как приятели.
Однажды профессор неожиданно поинтересовался у Армана, как тот решает проблемы плотских тягот, насколько он чувствует над собой бремя плоти? Имеет ли подружку? Клермон некоторое время молчал. Потом заметил, что подружка ему не по карману. Он не лгал. Но вся правда была несколько сложнее. Почти непреодолимая робость перед женщиной всегда мешала ему. Однажды Файоль затащил его в известный парижский квартал, где мерзость порока шокировала, но услуги жриц любви стоили мизерно мало, но его первый опыт закончился ничем. Он чувствовал ненормальный, необъяснимый ужас. Клермон в двух словах рассказал это учителю. «Мне казалось, что я кощунствую, или, точнее сказать, просто пытаюсь сотворить мерзость».
— Это пограничное состояние для людей… — тихо заметил тогда де Фонтейн, — вы — не от мира сего, мой мальчик.
Клермон не знал, что на это ответить. Книги поглощали его время и его мысли, сердце словно окаменело. Он не мог опуститься до плебейского ничтожества помыслов и поступков, но куда ему подниматься — об этом старался не думать. Он обнаружил в душе ревностный стоицизм и христианское смирение, готовность перенести всё, но — зачем? Однако, пересилить похоть ему помог не стоицизм натуры и не омерзение от блудных притонов. Толстая шлюха, подружка Файоля, тогда, посмеиваясь, спросила его, не хочет ли он сам, — ведь внешне-то совсем недурен — стать «юным другом» одного финансового воротилы? Тут напрягаться не придётся, деловито заметила она, и он сможет сменить свои лохмотья на что-то поприличней. Проститутка испуганно замолчала, заметив, как страшно потемнел его взгляд. Больше Арман в упомянутый квартал не выбирался, так и не решив своих тягот.
Однако профессор как-то ненавязчиво натолкнул его на монашеские летописи, и подлинно заинтересовавшие Армана. На вопрос, почему Фонтейн хотел, чтобы Арман разобрал эти картулярии, профессор ответил странно, внезапно став серьезнее и строже.
— Мне показалось, что у вас ещё чистое сердце, мой мальчик. Чистое для приобщения к святости. К Любви Божьей. Знаете, когда голова отца упала перед моими глазами в корзину, я понял, что мир потерял что-то самое главное. Мне было тогда столько же, сколько вам сейчас. Четверть века… да, почти четверть века я думал над этим. Искал. Я понял, что потерял мир. Он утратил Бога и Любовь. Понял я и ужас этой потери. Двойной ужас. Первый ужас — в легкости, невесомой легкости её потери и невероятной тяготе её обретения для отдельного человека. А второй, самый страшный, в том, что потеряв её навсегда, мир потеряет смысл. Человек, не обретший святость, — проживает жизнь впустую, даже управляя Империей.
Арман внимательно слушал.
— Вы говорите о святости как о нравственности, профессор?
Фонтейн побледнел и резко поднялся. Голос его стал глух и размерен, совсем как на лекциях.
— Святость — это отражение в себе облика Единственного, мой мальчик. Нужно жить, облекшись в милосердие, смирение, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно… Более же всего надо любить — Господа и людей, любовь есть совокупность совершенства. Иначе остается лишь несостоявшееся существование человека, который стареет, как пустоцвет, и сгнивает в смраде.
Арман сумрачно выслушал учителя.
— Ваш отец и мой дед — погибли потому…
— …что люди перестали любить Бога, мой мальчик. Вы молоды — и мои слова вам непонятны. Пока — просто запомните их. Но я верю, что вы поймёте, — профессор подошёл к Клермону, — вы, мой мальчик, будете из тех, чьё существование придаёт миру смысл. Таких, как вы — единицы. Но мир живет немногими.
Он нагнулся к Арману, и его ледяные губы обожгли горячий лоб Клермона.
…На курсе Арману, студенту-богослову, симпатизировали молодые юристы Огюстен Дювернуа и Рэнэ де Файоль, жившие, кстати, по соседству, но сам Арман относился к ним настороженно. Утончённость и прекрасное воспитание Дювернуа казались ему деланными, а милое остроумие и живой ум Файоля не вызывали доверия. Узнав их ближе, он утвердился в своём мнении, за свободой поведения заметив скрытую порочность обоих, а сквозь поверхностность суждений сокурсников скоро проступило отсутствие принципов.
Тем не менее, в университете их считали друзьями.
Рэнэ был сыном обедневшего и нетитулованного дворянина, который 14 июля штурмовал Бастилию, потом вошёл в Национальную гвардию и был делегатом Учредительного собрания вместе с Мирабо и Лафайетом. Однако, в октябре он оказался среди кордельеров, а после вареннского кризиса, в июле 1791, стал членом Якобинского клуба. Когда год спустя было объявлено, что «отечество в опасности», он несколько отошёл от политики, наблюдая склоки между якобинцами-монтаньярами и жирондистами. Жирондисты — Бриссо, Верньо и Ролан — были ему симпатичны, а фанатичный Робеспьер, хилый Марат и тупой Дантон казались в некотором роде le bas-fonds — отребьем, но в день победы при Вальми, на первом публичном заседании Конвента он вместе с якобинцами настаивал на вынесении королю смертного приговора. Он праздновал поражение интервентов при Флёрюсе, но плебейские методы якобинской диктатуры шокировали его, и летом 1794 он примкнул к заговору против Робеспьера, и как участник переворота 9 термидора пожинал его плоды. Преуспевал он и после, при Наполеоне, везде обнаруживая все то же умение гениально чуять направление политического ветра, и потому сумел оставить детям весьма неплохое состояние. Он мог бы приобрести и графский титул, если бы не счёл, что в новое время он будет скорее помехой, чем подмогой.
Рэнэ был истинным сыном своего отца, и его характер содержал в себе множество противоречий, которые некоторые могли принять за сложность натуры, а безмозглые резонёры и корчащие из себя святош клерикалы обозначили бы как беспринципность. Неглупый и расчетливый, он был склонен к элитарному общению. При этом, с ним было легко и приятно общаться благодаря его такту и гибкости мышления. Ощущались чувственность и непостоянство — Рэнэ де Файоль, что и говорить, был интересной натурой.
Что до Огюстена, то он был сыном богатого человека, чьи плебейские замашки навсегда закрывали ему дорогу в приличное общество. Но можно быть плебеем, не будучи глупцом, и мсье Шарлю Дювернуа хватило ума купить дворянство и нанять для обучения и воспитания сына разорившегося графа из Анжу. Старику Анри де Сент-Верже не нравился его воспитанник — угнетала плебейская пошлость и низость суждений, трусость, лень и склонность к мелким пакостям. Но в начальных мелких распрях между учителем и учеником отец всегда брал сторону педагога, что являлось ещё одним свидетельством ума торговца. Огюстен, поняв, что бесполезно жаловаться отцу, ибо за любую жалобу он лишь получал дополнительную порцию розог, покорился, и эта слабость пошла щенку на пользу. Сент-Верже не сумел сделать из него благородного человека, ибо это было невозможно, но создал внешнее его подобие, и для тех, кто судит по первому впечатлению и внешнему виду, а таких большинство, Огюстен выглядел вполне пристойно. Это позволило ему войти в общество и завести там полезные знакомства. Если Огюстен становился собой, в нём снова проступали наглость взгляда, развязность речей и плотоядность улыбки, но собой он, по счастью, бывал теперь редко — лишь основательно напившись.
Когда Огюстен получил приглашение от одного из своих знатных друзей, графа Этьенна Виларсо де Торана, провести каникулы в замке своего весьма состоятельного родственника неподалеку от Гренобля, при этом захватить с собой двух друзей, его выбор сразу пал на Рэнэ и Армана. Файоль был приятен в общении, они полностью понимали друг друга, но случись что — Клермон будет незаменим. Дювернуа, хоть и посмеивался над тем, что звал «les singularités du puceau», чувствовал исходящую от Армана странную силу, ту мощь, в которой ему самому, изнеженному и слабому, было отказано. Кроме того, Дювернуа, что делало честь его учителю, теперь старался чаще общаться с людьми благородными, учиться и манерам, и жестам, и речи, а в Клермоне, как бы тот ни пытался играть буржуа, аристократизм был врождённым.
Файоль, услышав о возможности отдохнуть в горах, тоже не возражал против Клермона, хотя по совсем иным причинам — тот всегда был замкнутым и сдержанным, и на его фоне обаяние и живость Рэнэ казались особенно выигрышными.
Но Клермона пришлось долго уговаривать — несмотря на полный пансион и самые заманчивые обещания, он не хотел ехать, стыдился своего полунищенского гардероба, чье убожество становилось особенно заметным на фоне расфранченных приятелей, и лишь понимание, что отцу будет легче без него кое на чём сэкономить, да обронённое Фонтейном замечание о редкостных списках поэм Гильома де Машо, Эсташа Дешана и Алена Шартье, которые, как тот слышал, хранились в замке Тентасэ, заставили всё-таки решиться на вояж.
Замок Тентасэ не разочаровал ни Файоля, ни Дювернуа, а стоило Арману осмотреть полки старинной библиотеки замка — он тоже перестал сожалеть о приезде.
Глава 3. В которой гости замка Тентасэ имеют возможность приглядеться друг к другу, обозначить собственные предпочтения и даже обменяться мнениями по этому поводу
Впервые общее знакомство состоялось в столовой, огромной ортогональной комнате, расположенной в одной из башен замка. Мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль с тревогой ждала знакомства с человеком, от которого зависела судьба сестры, и когда у входа, чуть опередив её в коридоре, пред ней любезно распахнул дверь высокий и стройный синеглазый красавец, она замерла.
— Вы… вы мсье Виларсо де Торан?
Красивый юноша, однако, застенчиво улыбнувшись, представился Арманом Клермоном, заметив, что его сиятельство — уже в столовой. Сам он проводил недоумённо-восторженным взглядом стройную девицу с глазами лесной лани, и лишь усилием воли прогнал странное онемение, охватившее вдруг всё тело.
Через минуту в столовой состоялось представление. Его сиятельство граф Этьенн Виларсо де Торан с особой сердечностью поприветствовал сестёр д'Эрсенвиль, и Клермон заметил, как замерла, остановившись в немом изумлении перед ним та высокая тоненькая брюнетка, что приняла его самого за Этьенна, как испуганно отступила на шаг и в молчании выслушала его любезные слова, ничего не сказав в ответ. Собравшимся её представили как мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль. Её старшая сестра, милая бледная девушка с нежной улыбкой, обратилась к Этьенну со словами ласковыми и кроткими, а та, что была моложе всех, бросила на молодого графа испуганно-восторженный взгляд.
Рэнэ и Огюстен старались угодить всем дамам, при этом Клермон отметил странное впечатление на мужчин, которое произвела Элоди: Рэнэ удивленно замер, оглядывая её как диковинку, Дювернуа, казалось, несколько испугался и даже попятился, Этьенн же, заметив как она разглядывает его, сначала улыбнулся, но потом улыбка быстро сползла с его лица, не встретив ответной улыбки. Глаза девицы, казалось, пронизывали его насквозь, и взгляд этот был неприятен.
Граф отвёл глаза и поспешно обернулся к мадемуазель Лоре.
Все исподтишка продолжали разглядывать друг друга, не забывая вежливо отвечать на расспросы хозяина, интересовавшегося своими гостями. Теперь в его светлости в полной мере проступил некий высший такт вельможи — умение описать других так, как они видят себя сами. Клермон отметил, что герцог ни разу не задел ничье самолюбие, беседовал со всеми, и в то же время каждому из гостей казалось, что хозяин больше всего рад в собравшейся за столом компании именно ему. Он уронил несколько изысканных комплиментов мсье Дювернуа. Подумать только, с каким вкусом подобран шейный платок! Просто бесподобно! Какое понимание моды и стиля! Не в каждом сегодня встретишь столь безупречный вкус! Мсье де Файолю был задан лестный вопрос о том, не он ли сын господина Эдмона де Файоля, известного политика, сподвижника Льва Неаполя и автора блестящих статей в «Le Figaro»?
С Арманом Клермоном герцог заговорил о своей библиотеке, обратил ли мсье Арман внимание на редчайший из его manuscriptus — 386 года? Кстати, наклонился он к Этьенну, у него есть и один из первых списков Vita Stephani Grandimontensis, составленного в 1135 году. Герцог полагал, что это будет интересно его племяннику, ведь это его небесный покровитель. Этьенн с удивлением посмотрел на его светлость. Это вовсе не было ему интересно.
Герцог же снова заговорил с Арманом. Мсье де Клермон нашёл этот манускрипт? Ещё нет? Весьма рекомендую. Последняя, самая высокая полка на тринадцатом стеллаже. Это действительно редкость. А заметил ли он codex rescriptus, который ему удалось купить абсолютно случайно в одном итальянском монастыре — это собрание булл Иннокентия III, в миру — Лотарио ди Сеньи, умершего в Перудже в 1216 году? Великий был человек. Сам он, Робер Персиваль, в родстве с графами ди Сеньи… Что? Поэмы Гильома де Машо, Алена Шартье и Эсташа Дешана? О, ну конечно, четвертый стеллаж…
Сам мсье де Клермон, судя по выговору, из бывшей Шампани или все же из Оверни, Пюи-де-Дома? Верным оказалось первое предположение, и тогда его светлость галантно осведомился, здравствует ли его отец? Узнав, что да, заметил, что счастлив приветствовать у себя его милость виконта де Гэрина. Клермон смутился и поправил его. Вотчины де Гэрин в семье давно нет, пробормотал он чуть слышно, он — просто Арман Клермон.
— Вас зовут Арман Патрик де Гэрин де Клермон, юноша. Ваш дед был граф Шарль-Патрик Амеди де Гэрин де Клермон, ваш отец ныне — граф Эдмон Люсьен, и вы по его смерти унаследуете его титул. Разве вам не говорили, что пренебрежение к собственному роду смешно в парвеню, но низко в дворянине? Генеалогия дома Блуа-Шампань, графов Блуасских, Бульонских, Труа, Шатоден, Клермон, королей Наваррских, идущих от Тибо, виконта де Тур, почившего в 942 году — не та, которой надлежит пренебрегать. Наследник крови Вильгельма Завоевателя не должен становиться плебеем даже мысленно. Вашей далекой прабабке — Луизе, дочери Мадлен де Ромфорт и Жана де Конэ, сира дю Марто, вышедшей за Оливье де Гэрина, сира де ла Боссе, уверяю вас, было бы стыдно за праправнука.
Поймав на себе внимательный взгляд мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль, Клермон, хоть и смутился, не мог не почувствовать себя польщённым. Арман не хотел упоминания о былом величии своего рода — именно потому, что не мог ему соответствовать, но в то же время при этой девушке Арману совсем не хотелось казаться плебеем или парвеню.
Особое внимание герцог уделил сестрам д'Эрсенвиль, но почему-то обращался преимущественно к средней. У мадемуазель такое имя — это семейная традиция? Мадемуазель Элоди сдержанно ответила, что это имя она получила от матери в честь бабушки — та была кармелитской монахиней Компьеня, и стала мученицей.
Арман взглянул на неё с болезненной жалостью и пониманием: лицо её сразу странно зачаровало его, а теперь родство судеб заставило посмотреть на неё не глазами мужчины, но брата. Он при первом же взгляде на неё понял, что мадемуазель Элоди — иная, непохожая от остальных, отметил, что в отличие от своих спутниц, совершенно свободна от желания понравиться, несуетна и очень спокойна, а теперь понял и её затаённую скорбь — место родового перелома у него тоже болело.
— Ваша бабушка была монашкой? — В голосе Сюзанн прозвучало недоумение. Она с изумлением рассматривала Элоди, будучи не в силах понять, как это в одной семье среди столь хорошеньких девчушек могло появиться на свет этакое страшилище. — А что за мучение она приняла?
— Её гильотинировали в 1794. Монахинь Компьеня, чей монастырь был уже конфискован, отправили тогда в Париж, где бросили в камеру смертников. Революционный трибунал уже издал «Закон о подозрениях», и для суда не нужны были ни доказательства, ни защитники, достаточно было простого подозрения, чтобы приговорить обвиняемого к смертной казни. Кармелитки прибыли 13 июля, в воскресенье. 14 июля заседания были прерваны по случаю празднования годовщины взятия Бастилии. Был праздник Мадонны Песнопений, вечером того же дня их предупредили, что завтра они предстанут перед трибуналом. Обвинение утверждало, что они были «сборищем мятежниц и фанатичек, питающих в своих сердцах преступную жажду видеть французский народ в оковах тиранов, кровожадных и лицемерных священников: жажду видеть, как свобода будет потоплена в крови, которую они своими подлыми происками всегда проливали именем неба».
Это был обычный стиль революционных документов, предвещавших смертный приговор. — Элоди рассказывала тихо и бесстрастно, ни на кого не глядя, — одна из сестер, услышав от обвинителя слово «фанатички», спросила, что он подразумевает под этим словом? Разгневанный судья в ответ обрушил на нее поток ругательств. «Я понимаю под этим, — ответил Фуке Тэнвиль, — вашу преданность наивным верованиям, эти ваши глупые церковные обряды». Сестра поблагодарила его, а потом, обращаясь к сестрам, сказала: «Вы слышали заявление обвинителя о том, что все это происходит из-за любви, которую мы питаем ко Христу. Возблагодарим же Того, Кто шёл впереди нас по пути к Голгофе! Какое счастье иметь возможность умереть за нашего Бога!» Слова «фанатик» и «христианин» в то время были синонимами, и обвинение, выдвинутое судьями, было равносильно осуждению на смерть за веру. В шесть часов вечера того же самого дня, со связанными за спиной руками их повезли к Венсенской заставе, к эшафоту на старую площадь Трона. Обычно конвоиры расчищали дорогу между двумя шеренгами пьяной и орущей толпы. Но говорили, что эти повозки проехали среди молчания толпы. Затем настоятельница встала в стороне перед эшафотом, держа на ладони руки маленькую глиняную статуэтку Святой Девы, которую ей удавалось прятать до этих пор. Все монахини целовали её и шли на смерть. Среди них была и мать моей матери — после смерти мужа она приняла постриг.
Сюзанн прожевала спаржу и недоуменно вопросила:
— Разве они не могли сбежать?
— Смерть за Христа — высшая награда для христианина, зачем бегать от неё?
Сюзанн рассмеялась.
— И вправду, фанатички. Но казнить женщин — это ужасно. Все эти ужасы революции просто кошмарны, мне рассказывали об этом времени. Дядя говорил, что чувствовался недостаток в топливе и освещении, и соседи поочередно приносили друг к другу вязанку хвороста, чтобы поболтать при огне. Согласись, Фанфан, ужасные были времена, — обернулась она к брату.
Этьенн галантно согласился, хоть сам их, разумеется, не помнил. Но он имел на этот счет своё мнение.
— Революция уничтожила единым росчерком пера все монастыри, потому что разнузданностью своих нравов эти святоши надоели всем. Это было неотвратимостью возмездия. Я уверен, стоит перерыть архивы религиозных орденов — раскрылись бы чудовищные злоупотребления, извращения и кощунства клерикалов. Кто знает, не совпадают ли сатанинские безумства вандейского палача Карье или Марата с духовной смертью аббатств? Революция лишь разрушила развалины.
Герцог усмехнулся. Он обернулся к мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль, которая хрустальными, остановившимися глазами смотрела на Этьенна. Клермон никак не мог определить их цвет — в них мелькали то голубой, то серый, то зеленоватый оттенки, иногда глаза отдавали бирюзой, а иногда — лазуритом.
— Вы не согласны с утверждением моего племянника, мадемуазель?
Мадемуазель опустила ресницы и тихо произнесла, что она посоветовала бы мсье Виларсо де Торану перечитать Книгу Иова. Тон её голоса прозвучал на октаву ниже обычного, был глух и сумрачен. Клермон бросил на Элоди взгляд, в котором мелькнули слёзы, ему на миг показалось, что она заметила их, и Арман поспешно отвёл глаза.
Между тем Рэнэ де Файоль, незаметно рассматривая девиц, сразу выделил теперь мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль, удивившую его рафинированной и утончённой красотой. Черная жемчужина, серый опал и розовый перламутр! Он был покорён и взволнован. Девица была столь изысканно сложена и столь одухотворённо прелестна, что в первую минуту он даже обмер. Но нечего и думать заполучить такую куколку в постель — ничего не светит, это понятно. Фразы, уронённые красоткой, говорят о нраве ханжеском и суровом. Его самого — едва взглядом окинула… Нет, к черту — надо заниматься тем, что плывёт в руки. И всё же… Надо попробовать. Если же нет… Он оглядел Сюзанн, тоже весьма привлекательную. Правда, теперь, в сравнении с необычной внешностью мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль, её красота поблёкла и казалась несколько заурядной, но он все же улыбнулся и ей. Впрочем, недурна была и Лоретт. Да и младшая, Габи — лакомый кусочек…
Дювернуа показалась привлекательной мягкая женственность мадемуазель Лоретт, но и Сюзанн, бесспорно, была хороша. Впрочем, любая сойдет. Он посмотрел на Элоди д'Эрсенвиль, и подумал, что с такой лучше не связываться, и вправду фанатичка, хотя грудь — просто божественна. Но, воля ваша, глаза — Немезида, ей-богу. Так и ждёшь, что метнёт молнию. Нет. Такая ему и даром не нужна. Уж больно много апломба да гонору. На него и взгляда-то не кинула.
Каждый мужчина интуитивно понимает уровень своих притязаний. Если он честен, он обозначает его прямо, если склонен к самообману, то выдает этот уровень за предел возможного. Дювернуа мог рассчитывать только на то, от чего откажутся другие, но никогда себе в этом не признался бы. И потому, уподобляясь лафотеновской лисице, Огюстен склонен был называть гнилым или кислым недоступный для него виноград.
Клермон иногда робко поднимал глаза на Элоди, и чувствовал, что на душе становился тяжело и сумрачно.
Старшая мадемуазель д'Эрсенвиль казалась взволнованной, она, поминутно поднимая глаза, устремляла их на Этьенна Виларсо де Торана, Сюзанн же оживленно болтала с хозяином замка, причём из их разговора Клермон к своему немалому удивлению понял, что брат и сестра видели своего родственника впервые в жизни.
— Я представляла вас совсем иным, ваша светлость, думала, что вы гораздо старше, а Этьенн полагал, что вам где-то около семидесяти…
Герцог лучезарно улыбнулся.
— Увы, дорогая племянница, в этом я похож на женщин: совершенно забываю свой возраст. С тех самых пор, как мне стукнуло сорок, я начал отсчитывать годы в обратную сторону, потом понял свою ошибку, но подумал, что исправление её будет отдавать педантизмом, а я не люблю педантов… Потом всё же решил быть точным, ибо научная точность вошла в моду — да вот беда, за те годы, что я не хотел быть педантом, я утратил память об исходных числах… Можно было, конечно, поставить точку отсчёта там, где это удобно, ибо мир лишен сегодня абсолютых и безусловных парадигм, но я подумал, что несколько опережаю время, ведь ещё не сказано, что всё относительно…
Оставшуюся часть дня гости провели за осмотром замка. Мсье Гастон Бюрро взял на себя роль гида, и проводил их по пиршественным залам, картинным галереям и жилым покоям, потом по тяжёлым ступеням башенных лестниц привёл на смотровую площадку, откуда хорошо были видны живописные окрестности. Клермона несколько напугал этот странный человек с пасмурными глазами, который, чем больше улыбался и шутил, тем сумрачнее казался. Но зато шутки его светлости были искромётны и остроумны, и гости то и дело покатывались со смеху.
Несмотря на лето, стемнело рано, солнце скрылось за горным уступом, когда не было ещё и восьми. При этом в сгустившейся темноте Рэнэ де Файоль заметил светящиеся точки. Мадемуазель Сюзанн предположила, что это светляки и захотела поймать нескольких. Его светлость, однако, отсоветовал своей очаровательной родственнице покидать пределы замковой ограды после наступления темноты. То, что ей показалось невинными светляками, вполне может оказаться глазами волка — несколько их бродит тут неподалеку. Бюффо, тунеядец, трутень, дармоед и чёртов бездельник, обещал отстрелять, да так и не взялся…
Сюзанн испуганно, но кокетливо вскрикнула, и больше вопрос ночных прогулок не поднимался.
Все девицы собрались через час в гостиной Сюзанн. Кроме Лоретт мадемуазель Виларсо де Торан никого из них не знала, и сейчас с любопытством присматривалась к девушкам. Правда, Элоди ей не понравилась — и лицо узкое, и глаза какие-то дикие, и ведёт себя странно и говорит какой-то вздор о каком-то Христе. Кто сегодня об этом вспоминает? Монашка, одним словом. Но мадемуазель Габриэль показалась ей очаровательной, живой и милой, и вскоре они уже свободно болтали.
Самой мадемуазель Элоди Сюзанн тоже не понравилась. Да, красавица, под стать брату, но и за столом, и здесь, в гостиной, её суждения несли печать пустоты и духовной помрачённости. Впрочем, что удивляться — каков братец, такова и сестрица. Выпускница католического пансиона в Шарлевиле, причем, как ядовито отмечали сестры, «лучшая из лучших», Элоди с чистым сердцем восприняла слова своих духовников и воспитательниц, совпадавших с суждениями почитаемого ею отца и словами Писания. Но по возвращении из пансиона она не могла не заметить, насколько далека реальная жизнь от тех добродетелей, кои ей проповедовали. Это расхождение, однако, не вынудило её пересмотреть свои принципы, но заставило преисполниться презрением к царящим вокруг нравам. И сейчас Элоди подумала, что в лице сестры мсье Виларсо де Торана судьба столкнула её с особой безнравственной и пошлой.
Что до Лоретт, то она могла интересоваться только Этьенном, расспрашивала Сюзанн о его вкусах, пристрастиях, любимых книгах. Сюзанн охотно и любезно отвечала, и тут Элоди с удивлением подметила в её словах о брате искреннюю гордость и горячее чувство. Сестра, бесспорно, обожала брата, и это в глазах Элоди делало ей честь.
Габриэль же восторженно болтала, восхищаясь замком, его светлостью, галантными молодыми людьми и очаровательным котёнком господина Бюрро — Валетом. Всё было просто прелестно! Особый восторг Габриэль вызвало чудесное платье мадемуазель Виларсо де Торан. Сестры д'Эрсенвиль были далеко не бедны, но таких изысканных столичных туалетов в их провинциальном обществе — удивительно чопорном! — никто не носил! Боже, до чего красива ткань, какой изящный крой, как прелестны эти фижмы на рукавах! Мадам Дюваль рассказывала им, как они раньше носили высокие прически самых разных форм! Жаль, что эта мода навсегда ушла. Нынешний стиль, хоть и говорят, что близок к античности, но он слишком прост и безыскусен, да и надоел уж порядком.
Сюзанн неожиданно, слегка задумавшись, спросила её, кто это — мадам Дюваль? Она где-то слышала это имя. Лоретт и Габриэль с восторгом рассказали о своей гувернантке, она настоящая аристократка, просто семья разорилась, и несчастная Люси вместе с сестрой Катрин вынуждены были идти в услужение. Ей удалось выйти замуж, но, к несчастью, муж скоро умер. Последние десять лет она жила в Эрсенвиле. При этом рассказе Сюзанн отметила, что мадемуазель Элоди не только не присоединилась к восторгам сестёр, но, напротив, на лице её отразилось пренебрежительное презрение. Сюзанн спросила сестёр, не Фоше ли девичья фамилия мадам Дюваль, и к их огромному изумлению, оказалась права. Мадемуазель Виларсо де Торан вспомнила, что и впрямь слышала как-то от своей гувернантки Катрин Фоше, что у неё есть старшая сестра. Правда, та рекомендовала Люси как вздорную и наивную дуру, у которой и на пятом десятке в голове девичьи шалости да грубый вздор, и выражение на лице Катрин было такое же, как у этой Элоди. При этом, разумеется, передавать её мнение сёстрам д'Эрсенвиль Сюзанн не собиралась.
Но как, однако, тесен мир!
Когда на башне пробило четверть десятого, Сюзанн навестила Этьенна. В роскошном шёлковом халате, сшитом не для удобства хозяина, но для того, чтобы остальным было проще постичь, какие услады может принести богатство, он, развалившись в кресле, что-то читал, но увидев сестрицу, отложил книгу. Нежным жестом она взъерошила его густые шелковистые волосы.
— Ну, малыш, каковы твои планы на эти дни? Лоретт и вправду влюблена в тебя до смешного.
Этьенн забросил ноги на стоящий рядом столик и откинулся в кресле, закинув руки за голову. Сейчас, в свечном пламени от кенкета он был очень красив. Магии его непонятного обаяния многие завидовали, тем более, что не красота юноши, не располагающее поведение и мягкость жестов и слов, и не умение слушать создали ему славу покорителя сердец. Мало ли красивых юношей в Париже! Красота ничего не объясняла. Но раз взглянув на него, женщине было уже невозможно отвести глаза в сторону. Впрочем, мистика потому и мистична, что необъяснима.
Сестру он выслушал лениво и задумчиво.
— Ты это мне говорила.
Сюзанн разлеглась в соседнем кресле.
— А сам ты, хочешь сказать, Тьенну, ничего не заметил? Она же глаз с тебя не сводила!
— Я заметил. Ты ненавидишь её?
Вопрос вызвал странную оторопь у Сюзанн, она с недоумением посмотрела на Этьенна, потом весело расхохоталась. Она поняла братца. Десятки девиц обожглись об Этьенна, как бабочки о свечное пламя, и пали с опалёнными крыльями. Конечно, если Сюзанн имела бы зуб на подругу, проще простого было расправиться с ней, просто познакомив с братцем. Но это не соответствовало действительности.
— Нет. Я пригласила её с сестрами, заметив, что она влюблена в тебя. Мне показалось, что это тебя позабавит. Только и всего. Мне безразлично, жива она или мертва, совращена или невинна. Можешь за все время вообще ни единым словом с ней не перемолвиться. Это будет даже забавно, мой дорогой. Можешь ей назло развлечься с крошкой Габриэль. Она ведь тоже очень мила и тоже, как я погляжу, глаз с тебя не спускает. Малютка очень шустренькая, не правда ли?
— Правда.
— Или тебе приглянулась эта брюнеточка Элоди? Странное лицо, да? Она не чахоточная? В ней и вправду, что-то монашеское, не так ли?
— Так. — Глаза Этьенна были мечтательны и отрешенны, — Ну, а ты-то что будешь делать, моя дорогая? Кто станет жертвой роковых страстей? Бедный рыцарь Арман? Расфранченный циник Дювернуа? Остроумный кривляка Файоль?
Сюзанн развела руками и пожала плечами, давая понять, что ей неведомо, как стасуется колода и куда лягут карты.
— Интересно, каково это, быть женщиной? Чувствовать власть над мужчиной… — Он задумчиво глядел на пламя свечи, — Знать, что призыв плоти, исходящий от тебя, туманит голову, малейшее движение мраморного тела вызывает страсть, и достаточно взгляда, чтобы пробудить вожделение…
Сюзанн с улыбкой посмотрела на Этьенна.
— Ты сегодня романтичен, Фанфан. Так какая же из красоток навеяла тебе эти мысли?
Он пожал плечами. Потом неожиданно после недолгого молчания заговорил, серьёзно и как-то испуганно. Или ей показалось?
— Знаешь, Сюзи, мне уже трижды снился странный сон. Как будто я вижу женщину — холодную как мрамор, но облик её неявен — он словно тает. Темноволоса ли, блондинка? Не знаю. Она похожа на статую, её глаза — из камня. Не помню имени, но… В нём что-то болезненное… Я помнил его. Но забыл.
Внимательный взгляд Сюзанн тоже стал серьёзным. Если она в этой жизни кого-то любила — то только Этьенна. Она всегда радовалась, что у неё есть такой близкий друг и конфидент. Родство усиливало доверие, позволяло ничего не скрывать друг от друга, и эти отношения — равные и доверительные — она ценила. Ей нравилось, что брат советуется с ней по поводу вещей весьма скользких, всегда была готова помочь и с удовольствием видела, что и он дорожит её дружбой и всегдашним пониманием.
Но в последнее время она то и дело подмечала в нём вялую отрешённость от столь занимавших его прежде affaire de coeur, любовных интрижек, безразличие и непонятную холодность. Сюзанн была умна и видела, что не она тому причиной. Что-то угнетало Этьенна. Иногда он снова становился собой, был обаятелен и неотразим, но всё чаще казался чем-то подавленным. Она не хотела ничего выпытывать, полагая, если он всё же найдет нужным поделиться с кем-то — это будет она. Малышку Лоретт с сестрицами она пригласила, чтобы просто развлечь, встряхнуть брата. Сейчас слова Тьенну озадачили её. В них было что-то такое, чего она не то чтобы не понимала, но что-то, чего ей не хотелось понимать.
Но она ничем не выдала своего раздражения.
— Ты просто переутомился, малыш. Здесь, в Тентасэ, вся твоя хандра пройдет, поверь. Кстати, как тебе его светлость?
Этьенн пожал плечами. Герцог де Тентасэ не занимал его. Кем там он им приходится? Когда Этьенн получил от него письмо с приглашением, он думал было написать дяде Франсуа, спросить, в какой степени родства с ними его светлость Робер Персиваль де Тентасэ де Шатонуар, да как-то позабыл. Да и какая разница?
Сестра напрасно ждала от него откровенности. Что бы ни понимать под откровенностью — бесстыдство ли, чистосердечие ли, — он не мог ничего объяснить, ибо не мог понять себя. Полусонные галлюцинации и любовные похождения, извращения и ненасытность, непристойности и экстаз разврата, изматывающие тяготы, порабощающие каверзы, оплевывание священных истин и кощунства, свары и злые выходки, смертельные удары шпагой и роковые выстрелы, игра со смертью, надгробные речи, зависть и предательства, неврозы и путаница, доводящая рассудок до изнеможения, жабы и черви, все призрачное, лунатическое, чахоточное, похотливое, худосочное, ублюдочное, выцветшее, порочное, долгие часы опьянения полночной унылостью, растлевающие душу умствования, зловонные язвы, увитые венками камелий, зыбкие дали, тоска… — как это объяснить, как осмыслить? Прежде любовные интриги были увлекательно таинственны, потом постыдно скандальны, теперь стали откровенно скучны.
— Ты права, малышка, мне нужно отдохнуть. Я просто не в духе.
Когда сестра ушла, Этьенн почти сразу провалился в вязкий сон, липкий и призрачный. В нём снова маячила женщина и тягостное ощущение тяжелого ярма, огромного непосильного бремени и томительной безысходности сжимало сердце. У женщины не было глаз — только мраморные глазницы, спаянные сном веки. Но ему так нужно было заглянуть в эти глаза, так нужно было… пусть она откроет их, пусть только откроет — и все изменится… Мука кончится…
Прошло всё под утро, Этьенн проснулся на рассвете и впрямь почувствовал, что хандра прошла. В самом деле, лето в Тентасэ сулило много приятного. Стало быть, малютка Лоретт? Или Габриэль?
А впрочем, какая разница?
В тот же вечер состоялся ещё один разговор — когда Файоль, Дювернуа и Клермон расходились по спальням. Рэнэ поинтересовался у Армана, какая из девиц ему приглянулась? Клермон пожал плечами и ответил, что жениться сможет не раньше, чем получит кафедру. Сам он запретил себе даже думать о мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль. Файоль и Дювернуа молча переглянулись, и Огюстен подмигнул Рэнэ, приглашая зайти в его спальню. По дороге Дювернуа поделился с другом кстати вспомнившимся анекдотом, и хохот де Файоля был слышен даже на другом этаже.
Когда оба остались одни за закрытой дверью, их разговор коснулся перспектив пребывания в замке, которые оба оценивали одинаково блестяще. Безусловно, приоритет придется уступить Этьенну, соглашался Огюстен. Он родственник хозяина и ему нужно предоставить право первого выбора в отношении девиц д'Эрсенвиль, но ничто не помешает им пока попытаться занять внимание прелестной Сюзанн, а потом, подхватить то, что перепадет от трапезы его сиятельства Виларсо де Торана.
— Я, откровенно сказать, Тентен, слышал о нём пару мерзопакостных сплетен и десяток весьма гадких историй, и не знал, верить или нет, но сейчас, когда увидел его… — задумчиво проронил де Файоль.
— Перестал верить?
— Напротив. Уверен, что всё — правда. Ещё, надо полагать, и не договаривают. Будь у меня такое лицо…
Огюстен кивнул и понимающе улыбнулся. Да, многие изумлялись внешности брата даже больше, чем привлекательности Сюзанн. Облик Этьенна нёс печать такого благородства и красоты, что будь у него сестра, он и на минуту побоялся оставить её в комнате с подобным Адонисом.
— Ну, а что ты скажешь о сестричках? — Файоль задал этот вопрос небрежно, но взгляд его выдал некоторое напряжение.
— Не знаю. Приударю за каждой — может, какая и повёдется. Но не сейчас — его сиятельство ещё никого не выбрал. Не хотелось бы быть его соперником. — В этих словах приятеля Рэнэ не заметил свойственного Дювернуа плебейского тщеславия. В них проступили лишь осторожная осмотрительность и заурядное буржуазное здравомыслие. К чести Дювернуа, он понимал, что быть соперником графа Этьенна он просто не может. Кроме того, Огюстен прекрасно знал, что значит перейти дорогу его сиятельству Виларсо де Торану…
Следующий вопрос Рэнэ задал осторожно и ненавязчиво, расчесывая перед зеркалом волосы.
— Как тебе средняя, брюнетка?
Дювернуа поморщился и почесал пышную шевелюру, и бросил быстрый взгляд на приятеля.
— Хочешь приволокнуться? — Он пожал плечами, — по-моему, бесполезно. Но товар, конечно, штучный.
После полуночи в спальню Лоретт тихо постучали. Габриэль была рада поделиться с сестрой восторгом по поводу роскоши замка, чудесных качелей, уюта её спальни, но пуще всего — графа Этьенна, о чём не могла говорить при Сюзанн. Боже, как он прекрасен! Какие черты, какие белоснежные зубы! Какие бездонные глаза! Что за прелестная улыбка, а как роскошен его костюм! Просто сказочный принц! Мадам Дюваль была права, на свете нет ничего лучше мужчин! Какие они галантные, какие остроумные!
Лоретт с улыбкой приложила палец к губам.
— Тише, глупышка, а то Диди услышит и опять скажет тебе, что ты грешница…
Габи брезгливо поморщилась, словно раздавила жабу.
— Не поминай ты её, Бога ради, и без того надоела.
Обе засмеялись. Было очевидно, что сестра не пользуется у них ни любовью, ни доверием.
Элоди, или Диди, как они чаще её называли, была для Лоры и Габриэль не то, чтобы обузой, но, что скрывать, по возвращении из Шарлевильского пансиона она, и впрямь, надоела сёстрам до крайности нелепыми средневековыми поучениями и проповедями. Если бы она не занималась полдня с управляющим дурацкими хлопотами по имению — от неё и вовсе житья бы не было!
У сестер была и ещё одна причина недолюбливать Элоди. Почему-то отец в завещании распорядился до крайности несправедливо. Приданое у всех троих было одинаковым, но отец особо оговорил, что именно Элоди, всегда бывшая его любимицей, получала лучшие драгоценности матери и дом в предместье Парижа. Разве это честно? И это при том, что эта монашка никогда не носила никаких украшений, кроме бабкиного креста! Зачем ей бриллианты?
Но подобное отцовское предпочтение они Элоди все же простили бы, простили бы и несносный характер и нелепое стремление навязывать всем свои монашеские предрассудки. Но тут произошёл один странный случай, который и случаем-то не назовешь, скорее так, житейский эпизод, пустяк, но он заставил сестер уже ничего не прощать сестрице. Причем, надо заметить, спровоцирован он был совсем не Элоди.
Случилось это в мае. Лоретт и Габриэль, жалуясь на сестру мадам Дюваль, искренне недоумевали. «Она может иметь любые взгляды — но зачем же навязывать их нам?» Гувернантка искренне сочувствовала бедняжкам. Сама она принадлежала к тому нередко встречающемуся типу женщин, которые «не стареют душой», не чувствуют времени — ни вокруг себя, ни в себе. В сорок восемь лет она все ещё питала пристрастие к розовым девичьим платьям, упивалась романами о вечной любви, была удивительно мила с молодыми людьми, нежно обласкивая их.
А молодые люди в их имении появлялись в последние годы частенько. Это были кузены Онорэ и Мишель де Кюртоны. Они неизменно встречали самый доброжелательный приём у мадам Дюваль, да и кузины, как замечали юноши, становились год от года всё привлекательнее. Восторги мадам Дюваль и её романы о великих страстях приводили к тому, что Мишелю дозволялось не только нежно гладить ручки Лоретт, но и порой позволять себе и куда более рискованные шалости, а малютка Габи неоднократно чувствовала в штанах кузена, на колени которому то и дело влезала, заметное напряжение.
Многие чувства и склонности носят неопределенный характер, пока не осознают себя и свой объект. Классическим примером служит смутное желание, пробуждающееся в юноше или девушке, когда они достигают возможности любви. Их томят неясные желания, но они потаённы и сдержанны. Но пусть хоть одно слово откроет чувству глаза, определит его, и из смутного стремления оно перейдет в ясное осознание.
Однажды у запруды, уединившись с Габриэль в небольшой беседке, кузен показал ей то, что вызывало в ней такое любопытство, и нельзя сказать, чтобы сильно шокировал. Габриэль восторженно щупала напряженную мужскую плоть, потом он научил её, как можно позабавиться с ней, доставив притом ему немалое удовольствие. Опасаясь возможного скандала, он не перешёл последних границ, но пошёл так далеко, как только мог. Временами он повторял эти забавы, потом к этому же приохотил Лоретт Мишель, который тоже по-братски не хотел сестрёнке неприятностей, и потому довольствовался тем, что мог себе позволить безнаказанно. Сестры не знали, что возбуждение от их юных прелестей оба брата гасили в алькове их наставницы, к взаимному удовольствию сторон. Впрочем, обе сестры не были влюблены в кузенов, и даже узнай они правду — шокированы бы не были.
Но Элоди, по случайному стечению обстоятельств, правду узнала и — шокирована была. Сразу по возвращении из пансиона ей пришла в голову мысль о расширении библиотеки, о чём неоднократно думал и отец, она обсудила эту идею с приглашённым декоратором, но потом подумала, не целесообразнее ли пристроить к библиотеке не комнату мсье Оливье, но комнату мадам Дюваль — в этом случае пришлось бы переносить только одну стену. Полагая, что гувернантка с Лоретт и Габриэль на поляне, вошла в её спальню. Выскочила оттуда пулей и долго не могла унять яростную дрожь. По счастью, в любовных забавах ни Мишель, ни мадам Дюваль её не заметили. Желание вышвырнуть распутную тварь из дома душило Элоди — но она знала, что Габи и Лора никогда не согласятся на это.
Приходилось терпеть шлюху и делать вид, что ничего не произошло.
Но вернёмся к нашему рассказу. Для Лоры и Габриэль весьма странным казалось то, что оба кузена никогда не подтверждали их мнение, что сестрица Элоди — монастырская крыса, уродина и зануда. Мишель смотрел на среднюю сестру д'Эрсенвиль взглядом внимательным и сумрачным, переставал смеяться и умолкал, едва видел её, Онорэ же вообще старался на неё не смотреть — после того, как она в ярости огрела его кнутом, едва он попытался поухаживать за ней. Черты её страшно исказились, и Онорэ даже несколько испугался — и столь бурной реакции, и чего-то неуправляемого, промелькнувшего в ней. Но и после этого, когда заходила речь об Элоди, он молчал, ни словом, ни жестом не обнаруживая согласия с кузинами, неустанно твердившими, что она — просто невыносима. Масла в огонь подлила мадам Дюваль — причем, невольно, когда, хохоча, спросила однажды Мишеля, неужели он женился бы на подобной девице?
Молодой человек смущённо задумался и опустил глаза, сестры заулыбались и переглянулись, подмигнув мадам Дюваль, но тут Мишель неожиданно проронил, «если мадемуазель Элоди удостоит его согласием, — он почтёт за величайшее счастье быть её супругом…». Улыбка медленно сбежала с губ Лоретт, Габриэль побледнела, мадам Люси Дюваль выглядела так, словно ей в лицо выплеснули ведро помоев.
Этот случай отозвался в душах Лоретт и Габриэль гораздо болезненнее того предпочтения, которое выказал Элоди отец. Он положил конец всякой душевной близости между сёстрами и, чтобы Элоди теперь не говорила, Лоретт и Габриэль просто не слушали, хотя воспитание и не позволяло им показывать это. Их души были для неё закрыты, они внутренне отторгали любые попытки сближения, оставались глухи к её заботам. Презрение сменилось раздражённой неприязнью, подавляемой и прикрываемой приличиями, но временами прорывающейся — неконтролируемо и зло.
Глава 4. В которой Клермон, по просьбе Рэнэ де Файоля, читает последнему небольшую лекцию по богословию. Попутно в ней выясняется, что мадемуазель Элоди не нравится «необразованность, скрываемая под маской бравирующего всезнайства»
Почти сразу после приезда компании отец Гюстав Лефевр, ветхий старик-священник, пригласил гостей замка на следующее утро в домовую церковь замка на воскресную службу. В церкви, выложенной до самых сводов мраморными надписями, прославляющими счастье долетевших до небес молитв и обретённых милостей перед алтарем Пресвятой Девы, несколько тонких свечей пронизывали рассветный сумрак золотистыми остриями, словно наконечниками золотых копий. Священник перебирал на кафедре четки, откуда-то доносились литургические песнопения: лился гимн медлительный и жалобный, мелодия непорочная и нежная, её сменил антифон, умоляющий и скорбный и, наконец, донесся отрывок из литургии Фомы Аквинского, смиренный и задумчивый, медленный и благоговейный, который обожал Клермон.
В маленькой церкви никого, кроме него, не было: гости герцога не пожелали принять участие в утреннем богослужении.
Клермон молча слушал службу. Он погрузился в молитву, словно вошёл в прозрачные воды и потрясённо ощутил, что в этом древнем замке, в намоленных стенах, он словно зримо предстоит Всевышнему. У него никогда, несмотря на тяготы бытия, не было никаких просьб к Господу. Он искренне полагал, что его нужды — скромные и ограниченные — Господь знает, и просто благодарил Его за счастье бытия. Сейчас душа его неожиданно трепетно воспламенилась и застыла в неслыханном молчании, он причастился в тихом умилении и тут только заметил, что в церкви и Элоди. Она безмолвно сидела где-то за колонной и теперь тоже причастилась.
После службы они вышли из крохотного притвора поодиночке. Арман боялся подойти к ней, ибо её глаза, смиренные и целомудренные, легко увлажнявшиеся под длинными ресницами слезами умиления, овевали неземным благочестием одухотворенность этого лица, и он не хотел нарушать мирной растроганности и её, и своей души, хотелось сохранить в себе то чувство приобщённости к Нему, что так тронуло. Словно издалека до него донёсся слабый голос старика-священника, сетующего на безбожные времена. Господи, что же это? Только двое…
Клермон долго стоял в тёмном притворе. Странно, но у него возникло нелепое чувство, что за дубовой тяжелой дверью — кончается мир, там — что-то тревожное, тягостное, страшное. Хотелось остаться здесь, никуда не уходить, но священник, извинившись, поторопил его — он сегодня уезжает в Гренобль, надо спешить.
Арман вздохнул и покинул притвор — и сразу увидел Элоди, укутанную в тёмную шаль, стоявшую в несколько вымученной позе перед его сиятельством Этьенном Виларсо де Тораном и Рэнэ де Файолем, вышедшими на раннюю прогулку. Клермон посочувствовал Элоди — он знал, сколь неприятно бывает умилённому службой слышать вульгарные пошлости светских людей — циничные и вздорные. Тихо подошёл, и понял, что не ошибся.
Этьенн рассказывал, сколь уродливых кармелитских монашек доводилось ему видеть в церквях.
— От их лиц меня охватило полное разочарование. Я представлял их бледными и строгими, но почти у всех были одутловатые лица в веснушках, руки с грубыми, корявыми пальцами. Более пошлой наружности и представить нельзя! Понятно, что такие жабы посвятили себя Богу! Кому они ещё нужны?
Элоди тяжело вздохнула, подняла глаза и тут перехватила сочувственный взгляд Клермона. Затем перевела взгляд на графа и тихо проговорила, причем Арману показалось, что она едва подавляет неприязнь.
— Среди кармелиток нередки красивые женщины, покинувшие свет, разочаровавшись в его тщете, но те простые девушки из бедных кварталов, которых вы видели, душой постигли истину, к которой другие доходят годами опыта. Подумайте, что сталось бы с ними, если бы не принял их Христос? Вышли бы замуж за нищих пьянчуг и распутников, изнемогали бы под бременем обид и побоев. Или поступили бы в услужение в гостиницы и рестораны, и там их насиловали бы хозяева и совращали постояльцы, над ними издевалась бы челядь, их ожидали бы растление, тайные роды, или просто панель, обрекающая их презрению улиц и опасностям дурных болезней. Но, ничего не ведая, они остались вдали от грязи…
Этьенн, выслушав её, промолчал. Промолчал и де Файоль.
…Священник ещё до полудня покинул замок.
Мсье де Файоль по уходе Элоди и после того, как их покинул Клермон, любезно осведомился у его сиятельства, как он находит эту девицу? Странна, не правда ли? Граф спокойно подтвердил его мнение. Необычна. Видимо, воспитанница католического пансиона. Внешность девицы странно напоминала ему старинную икону Пречистой Девы в церкви Виларсо. Но, откровенно сказать, Этьенн, отметив неотмирную внешность и необычное поведение сестры Лоретт, не имел ни времени, ни возможности присмотреться к ней: так досаждала ему своим вниманием старшая мадемуазель д'Эрсенвиль.
Граф встречал её всюду, куда бы ни направился, её ищущий взгляд неимоверно досаждал, постоянные встречи утомляли. Воспитание не позволяло быть грубым, но то, что придется провести в обществе навязчивой девицы целое лето совсем не радовало. Удружила сестрица, ничего не скажешь. В этом отношении Элоди, неизменно его избегавшая, казалась прекрасно воспитанной, воплощавшей ту черту, которую он редко встречал в свете — истинную, непоказную скромность. Этьенн дорого бы дал, чтобы столь же ненавязчивой была бы Лоретт, но об этом и мечтать не приходилось.
Сам же Рэнэ решил теперь во что бы то ни стало попытать счастья с красоткой. Вдруг выгорит? Он видел её недобрый взгляд, устремлённый на Этьенна, когда тот без излишнего почтения высказался о монастырях, видел, что и сегодня она с трудом удержала гнев при новых пассажах графа в адрес кармелиток. При девице, стало быть, надо держаться почтительно по отношению ко всей этой клерикальной дребедени. Чёрт, зря он не пришёл сегодня утром на службу — это подняло бы его в её глазах.
Осечка, ну да ладно.
Надо произвести нужное впечатление. Заговорить, словно случайно о вере и возвышенных материях…Что он читал по этому поводу? Чёрт, а ведь абсолютно ничего. Надо пойти полистать чего-нибудь. О! Ещё умнее сесть с книгой какого-нибудь богослова, скажем… Хм, а что скажем-то? Надо спросить Клермона, какие у нас есть богословы. Хорошо бы при случае высказаться о храмовых росписях Нотр-Дам, тоном знатока ввернуть пару тонких замечаний. Рэнэ смутно помнил, что неподалеку от его дома на площади Пантеона, слева от громады лицея Генриха IV, чуть в глубине стояла какая-то церковь. Кажется, Сент-Этьенн-дю-Мон. Жаль, он никогда не заходил внутрь. Но можно заговорить и о ней.
Девице это понравится.
Расставшись с его сиятельством возле Рокайльного зала, Файоль поспешно направился в библиотеку, и поинтересовался у Армана, чем немало изумил последнего, именами видных богословов. Подивившись подобному интересу в Рэнэ, Клермон, тем не менее, назвал Августина, Иеронима, Амвросия Медиоланского, Григория Великого. Это что за века, поинтересовался Рэнэ. С четвертого по начало седьмого. Файоль почесал в затылке. А поближе ничего нет? Ну почему же? Средневековое вероучение оформлялось сочинениями Ансельма Кентерберийского. Он родился в Пьемонте, и стал главой английской христианской церкви, разработал онтологическое доказательство бытия Бога. В своих сочинениях «Pros logium», то есть «Прибавление к рассуждению» и «Monologium» дал догматическое обоснование учения об искуплении. В 1720 году папа Климент XI причислил Ансельма к католическим вероучителям.
Файоль поморщился, глядя на тяжелый том Ансельма, как на раздавленного паука.
Ни один из них — ни Клермон, ни де Файоль — не заметили, как в полуоткрытую дверь тихо вошла мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль. Толстые ковры в библиотеке скрадывали и поглощали звуки шагов. Мадемуазель растерялась, но поняв, что её не заметили, решила было уйти и придти попозже, но тут Клермон, заметив, с каким отвращением смотрит Рэнэ на огромный том Ансельма, продолжил расхваливать библиотечное собрание богословов его светлости. Может быть, Рэнэ заинтересует Пьер Абеляр? Он был профессором Парижского университета и одним из его основателей. Он считал, что только Священное Писание и церковные таинства не нуждаются в проверке разумом. В сочинении «Да и нет» Абеляр сопоставлял цитаты из сочинений отцов Церкви, выявляя их противоречивость. Но система учения Абеляра не была принята официальными теологами. Особенно яростными его оппонентами выступили Бернар Клервоский и папа Иннокентий III. Учение Абеляра было осуждено на соборах в Суассоне и Сансе. Не лучше ли Рэнэ ознакомиться с трудами Бернара Клервоского? Это монах-цистерцианец, настоятель монастыря в Клерво. Как теолог, он отстаивал незыблемость церковного предания и догматики, порицая схоластику за рационалистические тенденции. Бернар проповедовал смирение, приводящее к любви к Богу, открывающей путь к высшему совершенству, достичь которого можно лишь в экстатическом состоянии слияния души с Богом. Теология Бернара Клервоского — это самоуглубленное, мистическое восприятие мира. Он был канонизирован в 1174 году.
Увы, том Бернара понравился Рэнэ ничуть не больше, чем фолиант Ансельма.
«Если ему не интересны отечественные богословы, продолжил Арман, может заняться немецкими мистиками? В библиотеке его светлости он видел труды Иоганна Таулера и Фомы Кемпийского. Есть и Альберт Великий, немецкий теолог, естествоиспытатель, комментатор Аристотеля, монах-доминиканец. В сочинениях «Сумма теологии», «О причинах и возникновении всеобщего» он пытался создать единую систему католического богословия. Альберт обладал энциклопедическими познаниями, за которые его противники часто обвиняли теолога в колдовстве. Католическая церковь присвоила ему титул «doctor universalis»… А вот ещё один великий монах-доминиканец, ученик Альберта — итальянец Фома Аквинский, богослов-гений средневековья», восторженно произнес Клермон. Основными сочинениями Фомы Аквинского являются «Сумма теологии» и «Сумма философии, об истинности католической веры против язычников». Фома Аквинский учил, что воля человека свободна, совершенное познание и совершенное блаженство заключаются в созерцании Бога, что возможно лишь в раю или в состоянии религиозного экстаза. Фома имел титул «всеобщего наставника» и «князя схоластов». Он был канонизирован в 1323 году, а в 1567 назван «пятым учителем церкви» после Августина, Иеронима, Амвросия Медиоланского и Григория I.
Элоди, спрятавшись за огромный стеллаж, забитый медицинскими инкунабулами, с восторгом слушала Клермона. Подумать только, с какой любовью он говорит об Аквинате! Его любили и её духовники… Файоль же никак не мог определиться. Он отверг предложенного ему Роджера Бэкона, не прельстился и Оккамом, поморщился при виде толстенных трудов по церковной истории Евсевия Памфила, «Истории готов» Кассиодора, «Истории Франков» Григория Турского, «Этимологии» Исидора Севильского, «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного. А нет ли какого-нибудь труда, где все это излагалось бы попроще и в общем?
Клермон вздохнул. Может, Роберто Беллармино? Вот его благочестивые наставления «De ascensione mentis ad Deum», сиречь, «Лествица умственного восхождения к Богу». А вот «De aeterna felicitate sanctorum» — «О вечном блаженстве святых» и «De arte bene moriendi» «Искусство благополучно умирать», а вот его исторический труд «De scriptoribus ecclesiasticis» о церковных писателях, изданный в 1613 году. Он прост и излагает всё весьма доступно. Файоль обрадовался, но, взяв Беллармино, с полдороги вернулся, вспомнив своё намерение почитать какой-нибудь известный богословский труд на глазах у Элоди.
Он прихватил коричневый том Роджера Бэкона — тот подходил по цвету к его выходному фраку.
Когда Рэнэ ушёл, Клермон со вздохом стал возвращать книги на стеллажи, пожимая плечами и недоумевая про себя, зачем ему это нужно? Неужели заинтересовался богословием? Он вздрогнул, когда из-за дубовых полок появилась мадемуазель д'Эрсенвиль, и несколько смущённо улыбнулся, заметив на её лице легкую усмешку. Она попросила найти ей роман мадемуазель Мари-Мадлен де Лафайет и спросила, зачем, по его мнению, мсье де Файолю были нужны богословские тома? Он непохож на серьёзного человека. Клермон запротестовал. По его мнению, когда бы в человеке не пробудился интерес к вопросам Духа, это можно лишь приветствовать…
Элоди задумалась, потом согласно кивнула, взяла найденную им книгу, поблагодарила и тихо вышла. Клермон долго смотрел ей вслед, чувствуя слабое головокружение и истому, точнее, странную томящую слабость, обессиливающую тело и волнующую душу.
Элоди устроилась с романом на скамейке недалеко от качелей, и тут, неожиданно подняв голову, заметила, как на соседнюю скамью опустился Рэнэ де Файоль в роскошном коричневом фраке и новом шейном платке — с толстым фолиантом Бэкона. Элоди чуть заметно пожала плечами, покачала головой и углубилась в роман. Между тем, через несколько минут Рэнэ переменил место и подсел к ней, тихо заговорив. «Что она читает? «Принцессу Клевскую»? А он предпочитает более серьёзные книги… Вот, Роджер Бэкон. Его любимый автор…» «Быстро же он тебе полюбился…», усмехнулась про себя мадемуазель д'Эрсенвиль. Вслух же она поинтересовалась, о чём пишет этот ученый муж, кажется, о четырех величайших препятствия к постижению истины? А именно примере жалкого и недостойного авторитета, постоянстве привычки, мнении несведущей толпы и прикрытии собственного невежества показной мудростью?
Это им неоднократно рассказывал в пансионе отец Легран.
Файоль слегка растерялся, он и предположить не мог, что девица знает Бэкона, но подхватил её слова. «Да, ими опутан всякий человек и во всяком занятии для вывода пользуются тремя наихудшими доводами: это передано нам от предков; это привычно; это общепринято, следовательно, этого должно придерживаться…»
Это он, надо полагать, поняла она, вычитал из предисловия. На большее у него и времени-то не хватило бы, — ведь ему нужно было ещё и переодеться. Элоди отдала должное артистизму Рэнэ — тон его был искренним и задушевным, сказанное казалось продуманным и глубоким, и не будь она случайной свидетельницей библиотечной сцены — ей пришлось бы поверить ему. Некоторое время она с блестящими глазами даже любовалась лицемерием де Файоля: он никогда не казался ей опасным, скорее, фигляром и жуиром, и потому на губах её играла живая улыбка. Экий комедиант! Но вскоре ей это надоело. Люди смешны не столько теми качествами, которыми обладают, сколько теми, кои тщатся выказать, не имея их.
— Мне говорили, что и у другого Бэкона, Френсиса, есть сходный аргумент. Это правда?
Арман Клермон в это время тоже вышел на прогулку — устали глаза, хотелось отдохнуть. Он сразу заметил Элоди и Рэнэ, и почувствовал, что в груди тоскливо сжалось сердце. Он поспешил к мосту — но был окликнут, причём, не мадемуазель д'Эрсенвиль, а самим де Файолем, рассчитывавшим с его помощью выпутаться из сложного положения.
— Напомни, Арман, что общего в аргументах у обоих Бэконов — о причинах заблуждений.
Клермон, по-прежнему недоумевая о причине интереса Рэнэ де Файоля к столь далёкой от него теме, ведь тот никогда не склонен был обременять себя лишними знаниями, тем не менее, искренне попытался растолковать её. Все просто, заторопился он, обращаясь лишь к Рэнэ, и стараясь не смотреть на Элоди. Четыре, по мнению Роджера Бэкона, причины у невежества людского: доверие сомнительному авторитету, привычка, вульгарные глупости толпы и невежество, скрываемое под маской бравирующего всезнайства. Френсис же Бэкон причиной заблуждения разума считал ложные идеи — «призраки», или «идолы», четырёх видов: «призраки рода», коренящиеся в самой природе человеческого рода и связанные со стремлением человека рассматривать природу по аналогии с самим собой; «призраки пещеры», возникающие благодаря личным особенностям каждого человека; «призраки рынка», порождённые некритичным отношением к распространённым мнениям и неправильным словоупотреблением и, наконец, «призраки театра», это ложное восприятие действительности, основанное на слепой вере в авторитеты и традиционные догматические системы, сходные с обманчивым правдоподобием театральных представлений.
Файоль опустил голову, не зная, что сказать. Клермон подумал, что он лишний, неловко поклонился и направился к мосту. Себя он уверял, что хотел узнать, разобран ли завал на дороге. На самом же деле ничего он не хотел. Это были всё те же бэконовские «призраки пещеры». Просто ему тяжело было видеть мадемуазель д'Эрсенвиль вместе с Рэнэ. К тому же, хоть раскованность летнего отдыха чуть скрадывала его нищету, но находиться рядом с роскошно разодетым Файолем было неприятно. Арман и раньше замечал порой гнетущую тяготу своей скудости, но не чувствовал её столь остро, и был почти безразличен к тому, во что одет. Презрительный взгляд Сюзан задел, но не сильно унизил его.
Теперь же понимание, что эта девушка сравнивает его с Файолем, больно ранило его самолюбие.
Сказать по совести, самолюбие его не было ни раздутым, ни больным. Арман редко думал о себе и не интересовал себя. Но эта неожиданная встреча с красавицей с глазами лесной лани заставила его перемениться. Он просто не мог не думать, как выглядит в её глазах и что она думает о нём. Арман сразу ощутил эту зависимость от её мнения и, понимая, сколь ничтожным, нищим и убогим кажется этой утончённой аристократке, Клермон мрачнел, ощущая, как портится настроение и на душу наползают миазмы серого душного мрака. Арман поторопился исчезнуть с её глаз, и быстро перейдя мост, направился к мельнице, надеясь, что прогулка успокоит его взбаламученную душу и прогонит глупые мысли.
Мадемуазель Элоди, наблюдавшая эту сцену в молчании, теперь не замедлила зло отыграться на мсье де Файоле.
— Прикрытие собственного невежества показной мудростью и необразованность, скрываемая под маской бравирующего всезнайства. Терминология Роджера и Френсиса одинаково ясна, притом, что подобных попыток меньше не стало. Тому, у кого нет знаний, только и остаётся, что подбирать себе переплеты книг под цвет фрака, да пользоваться чужим умом, не правда ли, мсье де Файоль?
Файоль резко поднялся, захлопнул толстый том, и поклявшись про себя, что непременно сведёт счёты с этой наглой девицей, почти бегом устремился к арочному входу. Его проводила глазами не только Элоди, но и малышка Габриэль, устроившаяся на качелях за стволом толстого вяза. Она была весьма юна, но не очень наивна, о чём, впрочем, мы уже говорили. Она поняла, что мсье де Файоль, как и их кузен Мишель, считает их сестрицу вполне заслуживающей внимания, Диди же только что отвергла его домогательства. Самой Габриэль нравился его сиятельство граф Этьенн, также привлекательным казался Арман Клермон, но ни блеклый Дювернуа, ни этот субтильный де Файоль интереса не вызывали — они были просто незаметны на фоне Клермона и Виларсо де Торана.
Тем не менее, ухаживания мсье де Файоля за Элоди разозлили Габриэль.
Она поспешила в замок рассказать об этом Лоретт, но та гуляла у пруда с графом Этьенном. Сюзанн, заметив нервный и напряженный взгляд девицы, задушевно спросила, что так расстроило её очаровательную малютку? Габриэль не видела причин скрывать своё раздражение. Она вполне искренне рассказала своей новой старшей подруге, что только что видела, как её сестрица Диди отвергла ухаживания Рэнэ де Файоля, высокомерно заявив, что он прикрывает собственное невежество показной мудростью.
Элоди и вправду разозлилась на Файоля — но отнюдь не из-за его жалкого тщеславия и фиглярского трюкачества. Ей показалось, что, если бы этот пустой дурачок Рэнэ не болтался под ногами, мсье де Клермон, этот красивый, знатный, благочестивый и прекрасно образованный юноша, мог бы пригласить её на прогулку… Она — что делать, и тут маячили «призраки пещеры» — искренне полагала, что ей полезно было бы прогуляться. Ведь она полдня провела взаперти!
На самом деле взаперти она провела не больше часа, но кому нужна точность в подобных вопросах? Ей так казалось, только и всего. Правда, пригласи её прогуляться мсье де Файоль, она сразу подумала бы, что никакой надобности в этом нет — можно прекрасно подышать свежим горным воздухом и на террасе. Если бы ей сказали, что причина её раздражения — в симпатии, возникшей в её душе к молодому синеглазому юноше, — она отвергла бы это предположение. Она была, по её собственному мнению, не из влюбчивых дурочек. Но прогулка с мсье де Клермоном была бы приятна.
А что вместо этого? Сидеть и слушать фата? Но все эти мысли, в общем-то пустые, вылетели из её головы, едва она заметила Лору и Этьенна, возвращавшихся с прогулки.
На сердце её снова потяжелело.
Глава 5. В которой Арман Клермон ещё не понимая, что влюблён, начинает ревновать, и в которой ему неожиданно удается прочесть таинственную надпись, замеченную в день приезда у входа в замок
Полночи Арман листал старый манускрипт одного из цистерцианских монастырей, заснул только под утро, и был разбужен горничной, принесшей завтрак. Ел, не чувствуя голода, и решил ещё немного поспать. Окончательно Клермон покинул пределы спальни незадолго до полудня и спускаясь вниз, неожиданно увидел мадемуазель Элоди, стоявшую у одного из окон. Она, стараясь не быть замеченной снизу, наблюдала за площадкой, расположенной перед входом в замок.
Элоди услышала его шаги и обернулась, и Арман, стараясь сгладить возникшую неловкость, подошёл, приветствуя её. Она сдержанно ответила, смущённая тем, что он застал её за наблюдениями. Клермон выглянул в окно, желая понять, что привлекло её внимание и увидел двух сестер Элоди, двух своих приятелей, а также брата и сестру Виларсо де Торан. Молодые люди и девицы играли в серсо, и в этой идиллической картинке не было, на его взгляд, ничего, что могло бы встревожить. Рэнэ, смеясь, бросал кольца мадемуазель Сюзанн, она ловила их на конец тонкой деревянной рапиры, Этьенн галантно подавал шаль мадемуазель Лоретт, юная Габриэль что-то пресерьёзно доказывала мсье Огюстену Дювернуа, но тот шутливо покачивал головой, делая вид, что не верит словам собеседницы. Его пепельно-рыжеватая шевелюра колыхалась на утреннем ветру как большой серый одуванчик.
Клермон перевёл взгляд на Элоди и тут в свете, льющемся из окна, увидел её лицо. Оно несло на себе печать такой тревоги, что он невольно потянулся к ней, желая успокоить. Но тут же остановил себя. Он не знал, что было причиной скорби Элоди, и едва ли мог претендовать на её откровенность. К тому же, почему-то со странной досадой подумал он, её, скорее всего, снедает ревность, и ещё раз взглянув в окно, сразу выделил того, кто заставлял ее страдать. Огюстен едва ли мог привлечь внимание такой девушки, да и Рэнэ, решил он по здравом размышлении, не мог понравиться ей. В библиотеке она чуть посмеивалась над ним…
Это, конечно же, Этьенн. Ошеломляющий красавец.
Что ж, с горечью подумал Арман, любовь, как говорил де Фонтейн, это поветрие, переболеть нужно каждому, и мадемуазель Элоди едва ли в состоянии избежать того, что составляет смысл бытия каждой женщины. Арман смирил ставшее вдруг чуть более прерывистым дыхание, поклонился ей, и в непонятном раздражении торопливо направился к лестнице. Выходя из зала, невольно чуть обернулся и заметил, что она не смотрит ему вслед, но снова поглощена наблюдениями за происходящим за окном. Клермон ощутил странную, словно тянущую боль в сердце. Что с ним?
Внизу игра продолжалась. Арман, чтобы не выдать мадемуазель Элоди, присел на скамью под старыми тисами, которая была не видна из окна, и сам стал от скуки разглядывать играющих. Красота Этьенна, заметил он, кружила голову мадемуазель Лоретт, она смотрела на него как на божество, и Клермон видел, что взгляды, исполненные нескрываемого восхищения, исподлобья бросает на графа и маленькая Габриэль. Рэнэ де Файоль обхаживал теперь мадемуазель Сюзанн, но, как заметил Арман, брат и сестра просто развлекались, признаков же сердечного увлечения он в них не подметил.
Потом ему надоело сидеть, и Арман решил пройтись вокруг замка. Прошёл до моста, но перейдя его, направился не к завалу, вчера его ещё не разобрали, а дальше вверх, против течения реки. Арман удивился, что ущелье необитаемо, пройдя около лье, он не нашел ни единого жилища. Правда, встретил старуху с небольшой вязанкой хвороста. Она испугалась его, наверное, приняв за егеря, но потом, внимательно рассмотрев, приметно успокоилась, даже разговорилась, рассказывая о видах на урожай и о приметах холодной зимы, что заметны уже сейчас. Клермон вежливо спросил, что это за приметы?
— И ягоды бересклета мелки, и радуга была на Петра и Павла, и воронья кругом немеренно. Все над этим старым замком ночных вакханалий нечистой силы кружат…
Арман с удивлением покосился на старуху. Она сказала «Un vieux château des bacchanales de nuit de l'esprit malin»? Ему не послышалось? Он спросил, имеет ли она в виду старый замок Тентасэ у речной излучины? «Чертово гнездо, ночлег нетопырей, логово сатаны, замок искушений — вот что она имеет в виду», со странной злостью ответила старуха, — Сколько раз и прошлой весной, и третьего дня дьяволово строение в руинах лежало, бревна да каменья — нет же, к вечеру сатана воздвигал чертов чертог заново, аки из пепла… Дьявольщина, дьявольщина все это… — Старуха побрела вдаль.
Оставшись на дороге в одиночестве, Арман понял, что старушонка просто помешана.
Обеденный гонг застал его у реки и Клермон поспешил в замок, но, как ни спешил — у входа замер. В овальной выемке над массивными входными воротами не было той надписи, что они видели по приезде. Там не было вообще ничего, и акантовидные листья плюща обрамляли пустую терракотовую стену. Он решил обдумать эту странность после, и поспешил в столовую.
Во время обеда у всей компании возник план прогулки по окрестностям, но его светлость категорически воспротивился. В воздухе — знаки неизбежной грозы, и попади они под проливной дождь, которого не миновать — быть беде. Ливень сделает горные склоны непроходимыми, поскользнуться на глинистом берегу — проще простого. Гости переглянулись. В окно падали лучи солнца, на проглядывающем за тяжелыми занавесами лазурном небе не было ни облачка. Рэнэ, который после афронта у Элоди начал пылко ухаживать за Сюзанн, шепнул своей очаровательной соседке, что если хозяин не пускает их на прогулку, ничто помешает им уединиться в гостиной у камина, и там он непременно прочтет ей те стихи Парни и Марино, о которых она спрашивала.
Сюзанн улыбнулась и кивнула.
Затем Файоль, развлекая девиц, затеял рассказ о недавнем скандале в одном из католических пансионов, где учитель совратил ученика. Необходимо закрыть эти рассадники суеверий! Элоди д'Эрсенвиль окинула Файоля взглядом пристальным и презрительным. Она, хоть и понимала, что Рэнэ просто мстит ей за вчерашнее пренебрежение, почувствовала, как в сердце закипает злость. Каждый год среди медиков обнаруживались убийцы и отравители, среди педагогов — совратители и садисты, среди политиков — продажные негодяи, среди учёных — профаны. Но никто не нападал на медицину, не требовал закрыть клиники, запретить школы, отказаться от политики и науки. Файоль позволил себе ещё несколько вульгарных и пошловатых шуток о клириках, хотя сам, как она поняла, едва ли сталкивался хотя бы с одним. «Богослов — это слепой человек, который в тёмной комнате поймал чёрную кошку, которой там не было».
Габриэль, Лоретт и Сюзанн смеялись, а Элоди морщилась — Файоль казался ей ничтожеством. Услышав последнюю фразу Рэнэ, Арман Клермон посмотрел на него с грустным недоумением. Богословы-то, Господи, чем ему не угодили? Он ведь только вчера узнал, кто это… Арман не понял подоплёки столь уничижительного выпада, потом задумался, не в его ли адрес это сказано, но де Файоль и не глянул в его сторону.
— Идея Бога хрупка: её может разбить любой довод науки или доза здравого смысла, — продолжал, смеясь, философствовать Файоль. — В мире недостаточно любви, чтобы её можно было расточать воображаемым созданиям, право слово.
На самом деле мсье де Файоля совершенно не интересовала ни теистическая философия, ни атеистическая. Бессильная злоба просто утешала себя злословием. Он хотел позлить Элоди, а кроме того, видел, что Сюзанн не по душе средняя из сестер д'Эрсенвиль, а так как он твердо намеревался теперь добиться её взаимности, то говорил и делал лишь то, что она одобряла улыбкой.
Сюзанн же и вправду пустила первую шпильку в адрес Элоди, — чтобы убедиться в правоте слов Габриэль. Поведение Рэнэ подтверждало сказанное. Ну а после… Он шутил — сестрёнки д'Эрсенвиль весело смеялись — и Рэнэ сделал всё, чтобы они смеялись и дальше. Элоди решила уйти и, выходя из гостиной, услышала недоумённый вопрос любителя Бэкона: «Почему у всех тех, кто хочет церковными догмами закрыть научные истины и религиозной верой укротить человеческий разум, всегда такие постные физиономии?»
Что до Лоретт, то она радовалась унижению Элоди, хотя и не понимала причин затеянного Рэнэ разговора, ибо Габриэль не успела ничего ей рассказать. Это не означало, впрочем, что она была зловредна или злопамятна, вовсе нет, до тех, кто сновали рядом, ей по-настоящему не было никакого дела, в том числе и до Элоди.
Лора всегда ценила удовольствия и удобства, её нравились хорошие вина, изысканные безделушки и дорогие ткани, она часами могла предаваться лени. Вообще, полагала она, жизнь должна быть приятной, красивой, надежной. И, конечно, её любимый мужчина тоже должен быть самым красивым, самым утончённым и вызывать всеобщую зависть. Она в известной мере была здравомыслящей, спокойной и основательной особой, в детстве вывести из себя флегматичную Лору было трудно. Но не только Элоди, но и Габриэль знала, что, несмотря на внешнюю неторопливость и спокойствие, Лоретт порой была подвержена почти неконтролируемым вспышкам гнева, и в ярости становилась неуправляемой. Душевная переменчивость, неуравновешенность, свойственные ей, после двадцати лет усилились, и проступали теперь без видимых причин, и самый ничтожный повод мог испортить ей настроение.
Страсть к Этьенну Виларсо де Торану началась в ту минуту, когда Лора на вечеринке у подруги увидела его отражение в зеркале. В резной раме морёного дуба вдруг прорисовалось отражение мужчины. Тёмно-пепельные, шелковистые волосы обрамляли лицо с выразительными серо-карими глазами, над которыми разлетались соболиные брови, губы раздвигались нежной улыбкой, на подбородке темнела небольшая впадина, только подчеркивающая его мягкую округлость. Несколько резкий, прямой и длинный нос придавал лицу выражение победительного величия, а мощный разворот плеч довершал сходство с римским воином — молодым богом красоты и силы.
Лора почувствовала, что этот мужчина — её судьба.
Сейчас, оказавшись рядом с ним, она ни на минуту не могла успокоиться, её снедало внутреннее волнение. Он должен принадлежать ей, должен, должен… Она чуть прикрывая глаза, видела, как Этьенн нежно обнимает её, ласкает и целует. Она добьётся его любви, обязательно добьётся!
Поэтому, хоть ей и приятно было бешенство Элоди, но не это её сейчас занимало. Она попросила мсье Рэнэ прочитать те итальянские стихи, которые, как сказала Сюзанн, нравились Этьенну. Рэнэ не слишком хорошо знал итальянский, но полагал, что никто из девиц этого не заметит и весьма артистично начал:
— …О del Silenzio figlio e de la Notte, рadre di vaghe imaginate forme, Sonno gentil, per le cui tacit'orme, son l'alme al del d'Amor spesso conotte… Or che'n grembo a le lievi orme interrotte…— завывал он, но тут почувствовал, что забыл продолжение, не заметив, что Элоди, взяв шаль, вернулась в гостиную.
Она и нарушила затянувшееся молчание.
— Итальянское наречие, как утверждал господин Кребийон-младший, трудно понимать, и не исключено, что в тосканском диалекте многие слова будут ставить вас в тупик, особенно если вы учили итальянский два месяца под руководством своего друга-француза, когда-то прожившего в Риме шесть недель… Марино говорит о spesso condotte и ombre interrotte, «часто влекущем души» и «разорванных, неверных тенях», — насмешливо обронила Элоди.
Рэнэ своими высоким, несколько резковатым голосом надоел ей до крайности, не говоря уже об изрекаемых им до этого пошлых глупостях. Он заслужил оплеуху и получил по заслугам, сочла Элоди.
Надо заметить, что принцип «коемуждо поделом его» эта юная особа понимала несколько своеобразно. Она не любила глупцов и пошляков, и предпочитала, подчас игнорируя правила хорошего тона, сразу оттолкнуть от себя подобных людей, не церемонясь и позволяя себе высказывания, которые иначе, чем оскорбительными, назвать было нельзя.
Клермон опустил глаза и ничего не сказал, заметив, что Рэнэ покраснел, как рак, замечание Элоди показалось Арману забавным, хотя и несколько резким, Этьенн усмехнулся, подумав, что сестрице Лоретт пальцы в рот класть опасно, а Сюзанн, чтоб скрыть возникшую неловкость, предложила всё же прогуляться. В итоге, несмотря на предупреждение герцога, компания почти в полном составе решила выйти на прилегающую лужайку, только Клермон остался в холле у камина да мадемуазель Элоди, прислонившись к колонне, пропустила мимо себя всех остальных, но сама за гостями замка не последовала.
С лужайки донесся горестный возглас де Файоля:
— Чёрт возьми, я забыл записную книжку!
— Это не страшно. Ничего путного в такую голову всё равно не придёт. — Эти слова, тихо, даже как-то успокоительно проговорённые вслух мадемуазель д'Эрсенвиль были услышаны Клермоном, и против воли заставили его рассмеяться. Элоди вздрогнула, услышав его смех за спиной, ибо не видела его за колонной, обернулась, но, встретившись с ним взглядом, с улыбкой опустила глаза. Клермон, бросая восторженные взгляды на густые и длинные ресницы мадемуазель, с удовольствием поболтал бы с ней, если бы не сковавшее его вдруг смущение, но тут внезапно потемнело, солнце исчезло, невесть откуда над замком нависла непроницаемая плотная туча, сверкнула молния, рассёкшая небо пополам, и замок потряс раскат грома.
Все, тут же забежав в арочный проход и пройдя в столовую, с уважением покосились на его светлость, мирно дремавшего после обеда в кресле. Подумать только! Между тем с неба низвергались яростные потоки воды, они тут же заурчали, булькая водопроводных желобах, и все приникли к окнам, глядя на разбушевавшуюся стихию.
Арман, вспомнив о надписи, что исчезла вдруг со стены, о которой ему напомнили слова Рэнэ и насмешливый комментарий Элоди, незаметно ушёл к себе. В кармане дорожного жилета нашёл свою записную книжку, и раскрыв, отыскал на последней странице то, что скопировал тогда со стены. Он рассматривал странные буквы, казавшиеся школьными каракулями, потом — внезапным озарением поднял листок к свету свечи в шандале, перевернул и вздрогнул. Теперь они легко читались. «His deficit orbis, his deficit pax. His incipit via, quos jam tangit vicinia fati». Это была латынь, и он с облегчением вздохнул, подумав, что надпись могла быть и на арабском… «Здесь кончается мир, здесь кончается покой. Здесь начинается путь тех, кто уже близок к смерти», гласила надпись. Арман медленно пришёл в себя. Милое посвящение, ничего не скажешь, прямо, Дантовы круги ада… И сумасшедшая старуха… Он вспомнил её отчетливо, будто она стояла перед ним. И возница сказал у дороги…
Впрочем, Арман не был труслив, а высокомерие аристократа заставляло его достаточно пренебрежительно относиться к словам простолюдинов. Вздор всё, бред и суеверия. Но на душе, как и перед дверью храмового притвора, стало сумрачно и тревожно.
В эту минуту где-то за окном раздался странный грохот и послышался шум воды. Распахнув окно и высунувшись наружу, Арман невольно ахнул, увидев, как по разбушевавшейся грязной реке волны, медленно переворачивая, влекут по течению вниз опоры подмытого и рухнувшего моста.
Глава 6. В которой рассказывается о злости Сюзанн и скуке её братца Этьенна. В ней же содержится небольшой эпизод, которому его непосредственные участники большого значения не предают, но которому будет суждено иметь некоторые последствия в дальнейшем
Непогода, сгустившая тучи и затемнившая небо, привела к тому, что, воспользовавшись преждевременной темнотой, некоторые гости его светлости предпочли под разными предлогами уединиться в укромных уголках замка, коих, к слову сказать, было сколько угодно. И жарче всего это желание проявлялось у мсье Рэнэ де Файоля. Сейчас он, откинувшись на оттоманке у камина, с подлинно актерским мастерством jeune premier играл неподдельное внимание, искреннюю заинтересованность и нежную влюбленность. Девица была хороша собой, но каковы её намерения? Рэнэ давно не был наивным, и видел под деланной безыскусностью и аристократической простотой мадемуазель Сюзанн гораздо больше того, что знает наивная девочка. Многоопытность её глаз слишком контрастировала с чистотой её слов.
Это не смущало Рэнэ, но он не хотел бы оказаться в глупом положении.
А bon chat — bon rat. Мадемуазель Сюзанн, разглядывая мсье де Файоля и кокетничая с ним, видела, что он ничуть не влюблён, вспомнила рассказ Габриэль и неожиданно почувствовала странную горечь в сердце, родившуюся Бог весть с чего. Что ей за дело до этого щенка? Разве она увлечена им? Ничуть. Но он осмелился — пусть на минуту — предпочесть ей другую! Да ещё эту странную девицу с лицом призрака из могилы! Он ответит за это.
Из бездн её души, жестоко осквернённой и испорченной, поднялось яростное желание влюбить в себя этого изнеженного и самовлюблённого Нарцисса. Пусть он сходит по ней с ума и глядит на неё так же, как дурочка Лоретт на Этьенна. Сюзанн продолжала мило болтать о Парни и Казоте, Луве де Кувре и Шодерло де Лакло, но сама внимательно приглядывалась к своему поклоннику, порой спрашивала о жизни, учебе, делах… Спросила она его и об Элоди.
Как она поняла, ему нравилась эта девушка, не правда ли? Рэнэ де Файоль был изумлён подобным предположением. Как она могла так подумать? Неужели он похож на человека со столь плебейскими вкусами? Эта странная особа некоторое время, как он заметил, добивалась его внимания, но ему и в голову бы не пришло ответить взаимностью, тем более, что сердце его с первой же минуты встречи принадлежало ей. Сюзанн знала, что он лжёт, но наградила его улыбкой искреннего расположения и понимания. Разумеется, она нисколько не сомневалась, что у него прекрасный вкус, как же можно-то предпочесть такое? Рэнэ заверил её, что никогда о подобном и не помышлял. Сюзанн внимательно вглядывалась в его черты, вслушивалась в слова — и быстро сделала выводы. Чувственен, лжив, пуст, склонен к актерству, готов во всём соглашаться с собеседником и подстраиваться под него. Проститутка. Но тем лучше.
Ей помогло неожиданное обстоятельство — то самое, что неприятно изумило и даже напугало мсье Клермона. С той стороны замка, где они находились, грохот падения обрушившегося в толщу речных вод моста был куда слышнее, чем из комнаты Армана. Они вскочили и почти безотчетно кинулись к окну и, распахнув раму, выглянули в темноту. Файоль, едва глаза свыклись с темнотой, помертвел, заметив дорогу, останавливающуюся теперь перед вывороченной ямой, тёмной бездной, в которой уже, вращаясь, бушевала вода. Сюзанн была испугана куда меньше, не придав, в общем-то, значения увиденному, но испуг изобразила с подлинным искусством, усевшись на подоконник и допустив, чтобы глаза Рэнэ, едва оторвавшись от рокового зрелища, натолкнулись бы на нечто куда более приятное. Сама же она, чтобы не мешать де Файолю прочувствовать все немалые достоинства её роскошной груди, продолжала смотреть в темноту окна и высказывать предположения о сроках его восстановления.
Тело Сюзанн было того прекрасного оттенка, которое являет смешение белого и розового, и не было бы преувеличением сказать, что её сложение было бесподобным. Призыв плоти, исходивший от неё, одурманил и вскружил его голову, это произошло почти неосознанно. Теплое, блуждающее дыхание её губ пробудило в нём вожделение, под наплывом которого его душа и расслабленное тело напряглись, вздрогнув как скрипичные струны от прикосновения невидимого смычка, и мгновение спустя уже млели, алкали наслаждения. Ещё не прошёл его испуг, вызванный пониманием того, что теперь они оказались отрезанными от мира, как Рэнэ уже радовался этому обстоятельству. Он был как в дурмане, похожем на головокружение, возбужденная плоть томилась теми яростными вожделениями, к которым в полночь манит альков…
Сюзанн отвела глаза от реки, с грацией кошки соскочила с подоконника, и вернувшись в кресло, снова взглянула на де Файоля. Из глаз поклонника исчезла теперь та лукавая игривость, которой были отмечены его былые комплименты. Он был очень бледен, губы плотно сжаты. Он стоял, словно заворожённый, с непривычно серьёзным лицом.
Сюзанн поняла, что побеждает. Её улыбка стала мягче и женственнее. Букеты гиацинтов и роз, стоявшие на каминной полке, разливали дурманящий аромат, а во влажном от ливня воздухе, среди приторных испарений, подымавшихся от цветов, проносился ещё более резкий запах, но какой — Файоль не понимал. Сюзанн предложила ему выпить, Рэнэ, завороженный и ничего почти не видящий, наполнил бокалы вином. Сделав глоток, она внимательно взглянула в его глаза, попросила подать ей шаль, оставленную в холле на диване. Пока он ходил за ней, она неторопливо поменяла их бокалы, успев приправить свой содержимым перстня, хранящего смесь некоторых субстанций, о которых знают те, кто прибегал к подобным экспериментам. Теперь Сюзанн, глядя, как он до дна осушает бокал, не сомневалась в победе. Её опытные руки были нежны и ласковы, Рэнэ с трудом понимал, что происходит.
Они оставили гостиную, Рэнэ проводил мадемуазель Сюзанн в её покои, мечтая остаться там вместе с ней, что разумеется, позволено ему не было, между тем в зале появилась мадемуазель Элоди. Она обрадовалась топящемуся камину, но постояв несколько минут около него, пытаясь согреть озябшие руки, тоже ощутила странный дух, шедший, как ей показалось, из открытого окна. Странно. Она нигде вблизи замка не заметила болота, но запах гнилостных испарений, все усиливавшийся, заставил её вскоре покинуть гостиную.
…Что до Этьенна, то он провёл этот дождливый день в уютной зале, что сразу приглянась ему по приезде в Тентасэ. Днём здесь стоял зеленоватый полумрак, а вечером, при свете ламп, гостиная казалась ещё более красивой благодаря легкой и изящной мебели красного дерева в стиле рококо, шелковым обоям и вычурным креслам, обитым дорогим генуэзским бархатом. Здесь царил дух игривости, атмосфера старинных нравов безвозвратно минувшего золотого века. Свечи обдавали живым теплом бархатные драпировки, позолоту и живопись, пронизывали, точно лучи, завитки на рамах зеркал, а сами они со своими тонкими иголками пламени, бесчисленно отражаясь в зеркалах, казались призрачными. Воистину прав был тот, кто проронил однажды: «Кто не жил до 1789 года, то вообще не жил…» Этьенну нравились эти, увы, навеки ушедшие времена куртуазной галантности, глядя на дорогие шпалеры, он размышлял, что толстый слой кремовой пудры и белоснежные парики делали всех женщин двадцатилетними, мужчинам же всегда было двадцать пять… Если верить мемуарам этого галантного времени, женщины были готовы любить всех мужчин, а мужчины боготворили женщин… А что сегодня? Тупая, жадная эпоха, чьи представления о счастье столь ничтожны и приземлены… Впрочем, возможно, ему было бы скучно и в галантную эпоху…
Этьенн ждал Лоретт.
Воистину, в недобрый час судьба свела мадемуазель д'Эрсенвиль и мсье Виларсо де Торана. И не только по причине весьма порочных склонностей последнего, о которых ей твердила Элоди. Этьенна привлекало только неизведанное и противоестественное, причем везде — в беспорядочных постельных играх и в мистической обрядности, в злоупотреблении недозволенным и на страницах пыльных инкунабул. Он хотел найти откровение тайной мудрости и ответы на вопросы запредельного смысла. А вопросы у него были и, чем более он возрастал, тем тяжелее они становились, ибо зло, осознаваемое в себе, менее ужасно, чем зло, не ведающее себя… Зло в Этьенне, увы, ощущалось им самим лишь как чувственный порыв или волевой импульс — и всегда осуществлялось. Он стал бы фанатиком аморализма, если бы постельные потребности реализовывались сложно. Препятствия возбуждали его.
Но препятствий не было.
Девица д'Эрсенвиль его не занимала. Он был порочен и знал женщин. Одного взгляда на Лоретт ему хватило, чтобы понять о ней всё. Ласковая и нежная глупышка, сейчас искренне считающая любовь смыслом жизни, а после, едва увидит его мужское достоинство — поймёт, что это и есть любовь. Подмена понятий произойдет незаметно и через некоторое время его мускул любви станет смыслом её жизни. Такое его и на час не позабавит.
Слова сестры, сказанные пару дней назад, когда та предложила ему вообще не обращать внимание на влюбленную Лору, вдруг вспомнились и странно развеселили. А что, недурная идея. Совратить Лоретт представлялось Этьенну не просто сущей безделицей, но — скучной безделицей. А вот в течение всего лета не обольстить таящую от любви и изнывающую от страсти девицу — в этом было нечто и новое, и свежее. Этьенн усмехнулся. Решено. Он будет предупредителен и любезен, но даже если Лоретт заберется к нему в постель, она и тогда останется невинной. Этьенн снова улыбнулся, обдумывая тактику задуманной авантюры, и чем больше думал, тем больше она ему нравилась. Он был утомлён и пресыщен победами, но теперь намеченная интрига сулила совсем новые ощущения. Этого лакомства он ещё не пробовал, а ведь ему казалось, что перепробовано всё.
Сейчас, когда за окнами сверкала молния и её всполохи непрестанно озаряли залу, Этьенн спокойно ожидал прихода мадемуазель Лоретт, будучи абсолютно уверен, что она обязательно найдёт его в замке, а пока заполнял время написанием письма дяде, рассказывая об их родственнике, о роскоши его замка и о том, как они с сестрой проводят время. Едва он закончил и запечатал эпистолу, как в коридоре послышались легкие шаги, и на пороге появилась Лоретт д'Эрсенвиль. Этьенн вежливо улыбнулся и осведомился, не малютку ли Габриэль она ищет? Может, она в столовой? Почему бы им не поискать её? Он ощущал на себе её завороженный взгляд, чувствовал слабое дыхание — и это теперь забавляло его. Они спускались вниз по винтовой лестнице одной из башен, когда раздался всплеск воды, и в окно ударила волна, выдавив несколько стекол. Этьенн попятился, не давая пройти испуганно вскрикнувшей Лоре. И тут в лишённом стекла оконном проёме он увидел, как разбушевавшаяся стихия влачит по руслу обломки арочного моста. Чёрт возьми! И как же теперь выбраться отсюда? Это дурачье в местных селениях за три дня не смогли расчистить завал на дороге — сколько же времени им потребуется для восстановления моста?
Да, у его светлости спокойного лета не будет…
Но, в общем-то, происшествие его не обеспокоило. Увлечённый своей новой идеей, граф сопровождал Лоретт по этажам, раскованно болтая и смеясь. Он взял себе ту непринужденную и живую манеру общения, что привлекает сердца, но в которой совсем не читалось желания покорить одно единственное сердце. Несчастная Лоретт была рада его любезности, его взгляд туманил её глаза, улыбка слепила. Этьенн почувствовал, что наслаждается этой властью над чужим сердцем, его тщеславие в который раз было польщено, но все это быстро миновало, лицо девушки стало утомлять, он с трудом скрыл за вежливой улыбкой пресыщенное отвращение. Как же они надоели, эти чёртовы влюблённые дурочки с их вечным овечьим блеянием и глупым лепетом!
Арочный пролёт вывел их в коридор, где Этьенн неожиданно встретил мадемуазель Элоди д'Эрсенвиль. Она бросила исподлобья встревоженный взгляд на Лору и перевела его на мсье Виларсо де Торана. Он заметил сумрачный взгляд сестры Лоретт и это ещё больше позабавило его. Крошка Элоди, похоже, ревновала. В отличие от Сюзанн, он не счёл её некрасивой — скорее необычной и чуть-чуть дикаркой, и теперь весьма учтиво пригласил мадемуазель Элоди в гостиную, которую та только что покинула, и осведомился, не видела ли она Габриэль — они с мадемуазель Лоретт ищут её. Элоди, не сводя глаз с сестры, ответила, что Габриэль, очевидно, у себя, но приглашение мсье Этьенна, казалось, не услышала. Она собиралась уйти, но её остановил новый вопрос Этьенна, знает ли она, что буря снесла арочный мост, соединяющий замок с внешним миром? Она остановилась, обернувшись, и Лоретт подтвердила его слова. Да, десять минут назад, когда они проходили по башенной лестнице, мост пронесло мимо них.
Элоди вздохнула. За время пребывания в замке у неё поубавилось самонадеянности, и теперь она сильно сомневалась в том, что ей удастся уговорить сестру образумиться. Слишком красив был дьявол, очаровавший Лору. Накануне ей приснился пугающий сон, в котором опадали горы, летали тучи саранчи, в руках у неё тлели горящие угли, она шла по воде, под толщей которой плавали омерзительные чудовища. Сообщенное казалось прелюдией к осуществлению жуткого сна, и она взглянула на сестру и мсье Этьенна с ещё большей тревогой. Однако граф уже увлёк мадемуазель Лоретт в гостиную, и взгляд Элоди упал на неожиданно появившегося в коридоре мсье Дювернуа.
Огюстену показалось, что это вполне удобный случай попытаться приволокнуться за девицей. Всерьёз он на успех не надеялся, — но вдруг повезёт? Дювернуа не заметил, как из гостиной за его спиной высунулась Лоретт — она хотела попросить у сестры шаль. Огюстен пожаловался на непогоду, совсем не таким он видел в Париже свое пребывание на юге, учтиво спросил, не согласится ли она составить ему компанию в этот ненастный вечер? Он почтёт для себя честью услужить такой красавице. Едва он увидел её — почувствовал просто головокружение…
Элоди едва не ответила ему резкостью, но сумела взять себя в руки. Огюстен Дювернуа чем-то напоминал одного из её кузенов — Онорэ де Кюртона — хамоватого щенка, ещё год назад пытавшегося опрокинуть её на диван. Сходство довершали глаза, в которых она заметила голод мужчины и готовность прельститься любой добычей. Накопившиеся за этот тревожный и тяжёлый для неё день усталость и смятение чувств готовы были прорваться отповедью, но она лишь поспешно удалилась, пожаловавшись на головную боль.
Лицо Лоретт исказилось и исчезло в арке прохода в Бархатную гостиную.
Элоди, пройдя по ступеням башенной лестницы, увидела выбитое непогодой стекло окна. Странно, но и здесь царил тот же смрадный запах болота. Она недоуменно пожала плечами и поспешила к себе. Наложив засов на дверь, измученная и обессиленная, опустилась в кресло перед камином, горестно глядя на пылающие дрова. Мысли были горьки. Бесспорная красота Этьенна Виларсо де Торана при первой же встрече и поразила, и испугала Элоди. Правда, ей самой он совсем не понравился — слишком самоуверен и самодоволен, говорит кощунственные мерзости, пользуется какими-то странными одеколонами — запах, точно мышь под полом сдохла, взгляд нагл и словно раздевает тебя. Но, конечно, красив, ничего не скажешь.
Элоди поняла, что Лоретт обречена.
Глава 7. В которой герцог де Тентасэ де Шатонуар резко выступает против свободы, равенства и братства с Жаком Рондиндану, а Дювернуа удается затянуть в постель малышку Габриэль
Однако, дни потекли мирно и спокойно — в невинных играх, в общих чтениях, в неспешных прогулках. Все завтракали у себя, днем легко перекусывали, и только общий обед в столовой собирал всех гостей его светлости вместе.
Именно поэтому происшествие с мостом лишь на следующий день за обедом подверглось общему обсуждению.
Герцог был несколько озабочен — народец-то за минувшие время обнаглел да поразнуздался, делать никто ничего не хочет, а, хуже всего, что и не может. За годы смуты старые мастера перемерли, а щенки, вместо того, чтобы ремеслу учиться, все о свободе, равенстве да каком-то дурацком братстве орали. Это Жак-то Рондиндану вообразил себя равным мне, герцогу де Шатонуару? Да ещё и братом? Грустно всё. Безысходная неодолимая глупость заполонила мир, и растёт, и ширится и несть ей предела. Где хорошего строителя взять-то? Вода через неделю спадет и самое время к осени мост построить.
— А мы-то как уедем? — вопрос Дювернуа, казалось, застал его светлость врасплох.
Его брови удивленно поднялись, в глазах мелькнула секундное непонимание, но он тут же улыбнулся. «О, что-нибудь придумаем. Жаль только, что и лодки снесло течением. Но выход найдётся». Всем осталось только положиться на слова его светлости. Впрочем, было заметно, что за столом этим вопросом никто, кроме Дювернуа, не озабочен. Рэнэ казался больным и измученным, Элоди была бледна и выглядела угнетенной и потерянной, Лоретт не сводила глаз с Этьенна, задумчив и насторожен был Клермон. Юная Габриэль молча смотрела в свою тарелку, и только Сюзанн и Этьенн были веселы и охотно поддерживали разговор. Подали горячее жаркое — филе куропатки с трюфелями, и холодное заливное из цесарок.
Его светлость был в ударе, и весьма рассмешил младшую из сестер д'Эрсенвиль рассказом о тех временах, когда он был молод и красив, и пользовался большим успехом у дам. Малютка Габриэль прыснула. Его светлость, однако, уверил её правдивости своего рассказа, ведь и le diable était beau, quand il était jeune…
Арман спросил, коснулись ли его светлость события 1789 года и последующих?
— Я был скорее наблюдателем, нежели участником событий, — усмехнулся герцог. — Я не стал депутатом — счёл это излишним, но на заседаниях Собрания бывал. Видел и штурм Бастилии, и смерть господина Мирабо. Экзальтированные дамы, помню, часами простаивали под его окнами, предаваясь сожалениям и неутолимой скорби об этом «могучем члене, который мог навсегда исчезнуть»… Члене Учредительного Собрания, я хочу сказать. Он и исчез… Впрочем, если верить некрологам, ничтожные и ни на что не пригодные люди вообще не умирают, мы лишаемся только выдающихся и гениальных членов общества, посредственности же, видимо, бессмертны…
Клермон чуть заметно покраснел от двусмысленности герцога, и спросил о Робеспьере. Какой он был? Говорят так много разного… Он заметил, что и Элоди внимательно слушает герцога.
— О! Это был феномен… Время было странное и клянусь, никогда ещё мужчин не охватывала такая любовная лихорадка, как в дни мятежа. После каждой расправы, каждого побоища орды самцов с руками, обагрёнными кровью, возбужденные только что совершенными убийствами, бежали во Дворец равноправия, чтобы удовлетворить с публичными девками любовное бешенство. Создавалось впечатление, что запах крови удесятерял мужскую силу и толкал людей на распутство. Но Робеспьер был похож на ледяную мраморную статую или мертвеца в могиле, был тихо и безвкусно похотлив и совершенно бесстрастен. В его характере не было ни ослабляющих волю сомнений, ни мучительных колебаний, ни чувственных порывов. Он проходил мимо могил друзей и врагов, не оборачиваясь, но жесток и кровожаден был по-женски.
Клермон не понял, почему его светлость склонен столь странно объяснять события, которые он привык видеть под совсем другим углом зрения, но последнее суждение герцога просто шокировало его. Да и не только его. Все взгляды были направлены на его светлость. Он же, словно не замечая всеобщего внимания, продолжал, обращаясь исключительно к Клермону:
— Да-да, женщины жадны до кровавых зрелищ, они, не дрожа, смотрят, как падает нож гильотины, одно описание которой исторгло вопль ужаса у членов Учредительного собрания, не захотевших даже дослушать его до конца. 20 июня Собрание узнало, что армия Дюморье потерпела поражение в Нидерландах. Депутаты потеряли голову, и объявили, что Родина в опасности. Парижане, возбужденные слухами о том, что король, тайно сносившийся с врагами, виновен в этой неудаче, вооружились пиками и отправились маршем на Тюильри. Во главе колонны шли члены женского клуба Анн-Жозефы Теруань с воплями: «Да здравствует нация!», потрясали ножами, безумно вращая глазами. Гвардейцы, охранявшие Тюильри, были мгновенно убиты, и толпа ворвалась во дворец. Попутно женщины, во все времена и при любых режимах обожавшие безделушки, отрезали уши у убитых ими солдат и прикалывали вместо кокарды на свои чепчики…
Разломав мебель, вспоров кресла, изодрав ковры, харкая на картины, чернь ворвалась в салон, где находился Людовик XVI. Подталкиваемый и оскорбляемый разъяренными мегерами, король влез на стол, и на него натянули красный колпак, придуманный якобинцами. Вечером Теруань отпраздновала победу на своей широкой кровати с несколькими доблестными гражданами. На рассвете они уснули вповалку на ковре, утомлённые любовными упражнениями, а Теруань, впавшая в эротическое безумие, позвала к себе семерых денщиков, работавших у нее под окном. Любезные рабочие оказали ей услугу, о которой она просила и, насвистывая, вернулись на свои лестницы. Только после этого Теруань наконец заснула, ей снились сны о единой, неделимой и процветающей республике.
Элоди, закусив губу, внимательно слушала герцога. Взгляд её сверкал.
— Приходя в Собрание, я обязательно встречал какую-нибудь женщину с перекошенным от патриотического пыла лицом, наводившим ужас на окружающих. — продолжал его светлость. — Одна фурия назвала, помню, меня по имени, и прошипела, что скоро она увидит, как моя голова покатится с плеч, а она напьется моей аристократической крови. Прелестное было создание!..
— Не клевещите ли вы, ваша светлость, на добрый парижский люд? — Этьенн был несколько шокирован.
Арман заметил, какой неожиданной злостью блеснули глаза Элоди, до этого слушавшей разговор мужчин с неослабным вниманием и затаённой улыбкой. Она наградила мсье Виларсо де Торана взглядом, каким аристократка может посмотреть только на плебея.
— «Добрый парижский люд?» В основном, это были, мой мальчик, отбросы общества, обитатели рынков, мясники в фартуках и с ножами за поясом, черные от копоти угольщики, пьяные санкюлоты в красных колпаках, торговки рыбой, распространявшие вокруг резкий запах тухлятины, грязные шлюхи, которые разгуливали по трибунам и коридорам с засученными рукавами и подоткнутым подолом. Ну и, наконец, несколько сот профессиональных негодяев, живших грабежом и убийством в городе, огромные размеры которого и происходящие в нём волнения открывали простор для любых преступлений.
— Но я слышал, что упомянутая вами Теруань была истиной патриоткой, — снова вмешался Этьенн.
Его светлость выглядел растерянным.
— Патриоткой? Об этом я ничего не знаю, мой дорогой мальчик. Проституткой и психопаткой она точно была, ну, может быть, ее истеричность в эти годы стала патриотичной, не знаю. Иные болезни, прогрессируя, принимают самые разные формы. — Его светлость был твёрд. — В 1786 году Теруань, сменив множество содержателей, стала любовницей банкира Тендуччи, от которого скоро осталась одна тень… Бедняга был счастлив избавиться от этой «огненной самки», сбежав в Геную, где начал постепенно набирать вес. Теруань же снова начала переходить из одних рук в другие, и однажды вечером, ужасно уставшая, оказалась в объятиях незнакомого обожателя, который «испортил ей кровь». Она не могла больше заниматься проституцией и очертя голову кинулась в революцию, правда, предварительно заказав себе хлыст, в рукоятку которого была вделана курительница с ароматическими солями, нейтрализовывавшими, по её словам, «запах третьего сословия». Тут я её понимаю, тухлятиной и немытыми телами смердело, и вправду, ужасно. В октябрьские дни она начала посещать клубы, а в 1790 году открыла свой собственный, назвав его «Друзья закона». Там она могла рассуждать на любые темы, входить в транс, возбуждая себя несчастьями народа…
Клермон, вопреки тому, что не любил скабрезности, невольно улыбнулся. Суждения его светлости, несмотря на поверхностный цинизм, были глубоки и серьёзны, и Арман подумал, что с ним стоит поговорить о временах былых поподробнее. Улыбалась и Элоди. Его светлость между тем присовокупил:
— Три года спустя, когда безумие схлынуло с голов патриотов, стало очевидно, что руководившая революцией несчастная Теруань просто сумасшедшая, и её свезли в соответствующее учреждение…
— А раньше, когда она рвала зубами окровавленные трупы и отрезала уши, этого не замечали? — Клермон задал этот вопрос вполголоса, чувствуя в руках, держащих вилку, нервный трепет.
Его светлость с улыбкой развёл руками.
— Что ж удивляться, если в безумные времена правят безумцы? Мир разделился тогда на безголовых и обезглавленных. Интересно другое. Мне немало лет, мсье де Клермон, я кое-чему научился и кое-что постиг, мне даже довелось беседовать с умнейшими людьми, но я так и не смог понять, почему спасать мир, как правило, берутся именно те, от кого впору от самих, как от чумы, спасать мир? И почему именно зачумлённые и прокажённые непоколебимо уверены, что только они несут миру здоровье? Вот загадка.
— Вы полагаете, ваша светлость, всё может повториться?
Герцог печально улыбнулся.
— Увы, да, мой юный гость. Ведь Слово не только созидает. Лишь когда по предместьям загораются дома, понимаешь, насколько пламенными были слова якобинских вождей. Впрочем, не отчаивайтесь, бесчисленные робеспьеры всё равно обречены, ибо горе тем, через кого приходят соблазны. Разбрасывание горящих головешек по чужим крышам, равно как и пламенных слов по мозгам, набитым трухой и паклей, — никого и никогда не доводило до добра. Все подобные склоки от сотворения мира — одинаковы. И кончаются одинаково. — Герцог грустно, как показалось Арману, улыбнулся, но, поймав на себе взгляд Клермона, игриво подцепил на вилку кусочек косули и изящно отправил его в рот.
Габриэль всё это время слов его светлости не слушала, полагая его речи старческой болтовней. Рэнэ тоже не принимал участие в разговоре, был серьезен и сумрачен. Между тем мало прислушивающийся к разговору Дювернуа, которого перипетии дней минувших ничуть не интересовали, внимательно разглядывал крошку Габриэль, и нашел её весьма миленькой, тем более, что к этому времени он имел уже все основания полагать, что упомянутая особа ничуть не интересует его сиятельство Виларсо де Торана.
Этьенн не замечал Габриэль.
…«Моя юная богиня», начал набрасывать у себя в комнате послание к Габриэль Дювернуа, «с той минуты, когда я увидел Вас, душа моя…» Дювернуа зевнул. Минувшей ночью он не выспался. «… потеряла покой. Я и подумать не мог, мадемуазель, что лишь один ваш взгляд способен привести все мои чувства в полное смятение…» «Я ложусь спать, и ваш прелестный образ царит в моем сердце, удручённом неразделенной любовью…». «Боже мой, как был бы я счастлив, если бы ваши прелестные глаз были устремлены на меня с тем же страстным чувством, какое испытываю я! Неужели мои мечты о вас должны оставаться лишь волшебной игрой моей фантазии? Обласкайте меня надеждой, что я смогу увидеться с вами наедине, описать вам свои чувства…»
Дописав ещё несколько столь же прочувствованных строк, добрым словом поминая де Сент-Верже, немало рассказывавшего об истинной куртуазности, Дювернуа подписал и запечатал послание и, прогулявшись по коридору, засунул его под дверь Габриэль. Огюстен ничем не рисковал. Изысканность речи не могла оскорбить молодую особу, на первый раз он не позволил себе никаких дерзких просьб и намеков и подумал, что, если рыбка клюнет, его пребывание в замке будет просто сказочным. На обратном пути он заглянул в комнату Файоля. Огюстен ещё во время обеда заметил, что тот выглядел несколько странно, и сейчас просто вздрогнул, разглядев вблизи лицо приятеля. Рэнэ был бледен, как мертвец. Доверие между ними было полным, но ответить на вопрос, что с ним, тот не мог. Рэнэ бормотал что-то безумное о какой-то любви, исступлённо твердил имя Сюзанн, выглядел помешанным.
Помешанным мсье де Файоль не был — он просто потерял голову. Сведущие люди знают, что это не одно и то же. Сюзанн действовала изощренно и зло и, разыграв свой спектакль в гостиной, тут же начала разыгрывать из себя недотрогу. Казалось, были минуты, когда Рэнэ приходил в себя, пытался опомниться и справиться с собой. Но первый заронённый в душу и не отторгнутый движением воли блудный помысел действовал, разворачивался в нём, словно чёрный смерч. Жгучее желание, распаленное искусной тактикой, произвело своё разрушительное действие, ночью он кусал подушку и рыдал от отчаяния, вызывая в памяти все тот же чувственный образ, что увидел в туманном мареве вечернего ливня.
Огюстен был не настолько чёрств, чтобы остаться глухим к словам приятеля. Он не видел ничего недопустимого в том, чтобы приволокнуться за понравившейся красоткой, но сходить с ума? Увольте. Он пытался вразумить его.
— Ты не понимаешь, Тентен, — Рэнэ почти бредил.
С этим Дювернуа не спорил. Он попытался развлечь друга анекдотом. Но де Файоль утратил чувство юмора и даже не улыбнулся. Воцарившиеся в его душе бурное постельное помешательство истомляло и изнуряло его. Оттого, что раньше с ним никогда не происходило ничего подобного, Рэнэ почему-то решил, что испытываемое им — любовь. Действие зловещих афродизиаков Сюзанн, возбждающее и невротизирующее, изводило его непроходящим, исступленным желанием, от которого он не мог избавиться и лишь терял силы. Всё это было неведомо Дювернуа, и потому состояние приятеля казалось надуманным и непонятным.
Да и, к тому же, собственные дела интересовали гораздо больше.
Мадемуазель Габриэль не имела душевной мягкости старшей сестры. Не имела она и здравомыслия средней. Письмо мсье Дювернуа польстило ей, хотя она, разумеется, предпочла бы получить подобное послание от мсье Этьенна. Габи не задумываясь, перешла бы дорогу Лоретт, ведь в любви каждый старается для себя. Она воспринимала любой, даже случайно обращённый к ней знак внимания мсье Виларсо де Торана как знак влюблённости, но вскоре не могла не заметить, что граф вовсе не тот страстный влюблённый, какого она рисовала себе по романам. Даже кузен Онорэ, и тот был больше влюблён в неё! Этьенн же не падал к ногам, не расточал трепетных слов о безмерной любви ни ей, ни Лоретт. Равно она, рано просвещенная, не замечала в нём никаких признаков желания, хотя весьма часто бросала взгляды туда, где заканчивались полы его охотничьей куртки. Равно спокойный, равно галантный и равно безмятежный, Этьенн был просто равнодушен, и это наивная Габриэль поняла гораздо быстрее Лоретт.
Габи не имела возможности добиться его расположения, ибо граф редко был один — вокруг него вечно сновала Лоретт, едва он отделывался от неё — приходила Сюзанн, порой он был в библиотеке с мсье де Клермоном. Уединялся Этьенн только в своих апартаментах, и тогда к нему было не достучаться. И как ни вертелась Габриэль перед его сиятельством, как ни улыбалась ему — он был глух и слеп, и делал вид, что считает её просто ребёнком.
Полученное от мсье Дювернуа письмо содержало именно те слова, которых Габриэль тщетно ждала от мсье Виларсо де Торана, и сердце её забилось восторженно и почти влюблённо. Разумеется, мсье Дювернуа не шёл ни в какое сравнение с красавцем Этьенном, но романтичная особа решила, что «лучше внушить подлинное чувство живому мужчине, чем ждать признаний от мраморной статуи». Не следует удивляться подобному суждению: мадемуазель Габриэль любила любовные романы и романтические выражения казались ей единственно подлинными.
Из-за склонности к романам у Габриэль были постоянные перепалки с Элоди, которая никогда не восхищалась мужчинами, не теряла головы от любви, недаром же их гувернантка мадам Дюваль, покачивала головой, глядя вслед мадемуазель Элоди, неизменно повторяя, что подобной особе суждено остаться старой девой. Сама Габриэль была бы в ужасе от подобной перспективы, но, по счастью, та же мадам Дюваль полагала, что ей такая участь не грозит — столько в малютке Габриэль обаяния и живости.
Габи пришла в голову мысль посоветоваться с той особой, которая являла для неё воплощение элегантности и подлинного шарма. Она надеялась, что Сюзанн даст ей дельный совет. И её надежды были вполне вознаграждены. Слова Сюзанн, понявшей девичье томление, были исполнены мудрости и доброты. Она знала, что у молодых девушек, которых никто не домогается, всегда наблюдается легкое недомогание.
— Истинное предназначение женщины — любить, моя дорогая девочка, противиться любви — противиться жизни. Смело отдайтесь потоку страсти — он осчастливит вас… Девственность — это не преимущество и не дар, а барьер, мешающий познать истину. Реальность пугает, а неизведанность — тем более, и поэтому многие упорно сохраняют целомудрие неизвестно для чего. Но мужчина открывает девушке новую сторону жизни, после чего она начинает думать и чувствовать по-иному… Право первой ночи должно принадлежать любви или случайности…
Честно говоря, Сюзанн полагала, что её слова, произведя нужное действие, рано или поздно порадуют братца. Она замечала восторженные взгляды Габриэль на Этьенна и ожидала, что именно он станет объектом страсти юной девочки. Правда, у Этьенна были сотни таких габриэль, но может, это всё же развлечёт его?
Полночи Габриэль сочиняла ответное письмо своему галантному поклоннику, стремясь и обнадежить его, и в то же время дать ему понять, что он имеет дело с девицей утончённой и весьма требовательной. «Любовь для меня, мсье, превыше всего, но я поверю лишь рыцарской любви благородного человека, который сумеет доказать силу своего чувства…»
Это было много лучше того, на что рассчитывал Дювернуа.
Надо заметить, что больше всего Огюстен опасался, что Габриэль покажет его письмо своей сестре Элоди. Он не то, чтобы был знатоком женщин, но чутьем рано созревшего и весьма порочного человека понимал, что девицу с таким глазами одурачить трудно. Просто ведьма. Расхожие комплименты таким никогда не кружат голову, глухи они остаются и к тем тонким и изысканным пустякам, что так украшают флирт. Такие и флиртовать-то не умеют и презирают интрижки. К его ухаживаниям, точнее, к попыткам приволокнуться за ней, отнеслась просто безразлично. И естественно, её совет мог бы оказаться для начинающегося романа губительным.
По счастью, этого не произошло, и переписка становилась всё оживленней, Огюстен не ленился писать и трижды в день, и уже через три дня на бумагу легли прочувствованные строки: «…Ах, Габриэль, я готов верить, что вы любите меня всеми силами души, но душа ваша не пылает, подобно моей! Почему не от меня зависит преодолевать препятствия? Я сумел бы доказать вам, что для моей любви нет ничего невозможного. Ваш восхитительный взор оживил мою угнетённую душу, его трогательное выражение пленило мое сердце. Я так хочу верить в вашу любовь, я стал бы несчастным, если бы не верил вам, но сомнения, как страшные призраки, то и дело являются предо мной. Как бы я мечтал увидеться с вами наедине — и убедиться, что ваши чувства ко мне столь же искренни и чисты, как и мои!»
«Неужели вы думаете, милый мой друг, читал он спустя час в ответном письме, что я весела, когда вы тоскуете? И неужели вы сомневаетесь, что я сострадаю вам? Я разделяю даже те ваши терзания, которые сама вынуждена вам причинять… Но вы же знаете, сколь дурно позволить вам придти! Это было свидетельством испорченности…»
Дювернуа потребовался целый час напряженного труда, чтобы сочинить ответ, в который ему удалось вложить весь трепет подлинного чувства, галантную почтительность и нежную настойчивость. Встречаясь с Габриэль в минувшие дни в столовой, он по скромным девичьим взглядам понимал, что пора переходить в наступление, и в конце письма сообщил, что сегодня после полуночи навестит её, чтобы выслушать решение своей судьбы.
Вся эта трехдневная волокита уже начала утомлять его.
Любой француз знает, что девственность — это женский недостаток, который легко устраняется мужским достоинством. Ближе к полуночи Дювернуа тихо прокрался по коридору в комнату Габриэль. Дверь оказалась незапертой, и он осторожно протиснулся внутрь. Бог весть, чего ждала утончённая и нежная девица, но Огюстен, если и не был рыцарственно почтительным и не сумел убедить свою очаровательную возлюбленную в чистоте своих чувств, то во всем остальном вполне преуспел.
Глава 8. В которой описывается весьма двусмысленный эпизод, свидетелем которому пришлось стать Клермону, а также повествуется о странном интересе, возникшем у его сиятельства Виларсо де Торана к замкнутому книжнику и библиофилу
…В то утро Клермон проснулся на рассвете и решил прогуляться к пруду. Пруд его светлости был рукотворным, но за годы обросший по берегам камышом, он выглядел живописно и вполне естественно. Вода была холодна, Арман не решился купаться, но направился обследовать ближайший горный кряж и неглубокое ущелье, по дну которого струился ручей, впадавший в пруд. Около часа он бродил по расселинам, любовался живописными нагромождениями каменных уступов, вслушивался в мелодию звенящего по камням ручейка. Вышел он из ущелья, когда солнце давно взошло и золотило воды пруда игривыми бликами. Он издалека заметил на озере Этьенна. Тот, как знал Арман, купался в любую погоду, и сейчас, переплыв пруд, вернулся к берегу.
Он вышел из воды обнаженным, подобный молодому богу, отряхивая намокшие на концах волосы, неспешно вытирая плечи и спину полотенцем, потом разлёгся на берегу, точно был один во Вселенной. Клермон не знал, стоит ли ему подойти поприветствовать графа, но тут ситуация осложнилась появлением мадемуазель Лоретт.
Клермон почувствовал тройную неловкость. Он не мог выйти к замку иначе, чем миновав пруд, но ему казалось бестактностью подходить к его сиятельству, пока тот не одет, но в ещё худшем положении, по его мнению, оказалась мадемуазель д'Эрсенвиль — каково ей застать графа нагим? Его же собственное положение свидетеля подобной сцены — тоже было до крайности неловким. Но он ещё больше смутился, когда понял, что неловкость в этой ситуации испытывает только он один.
Этьенн стыда не ведал. Он разлёгся на прибрежном песке, закинув руки за голову, и, хотя не мог не увидеть идущую к нему девицу, не шевельнул и мускулом, при этом не сводя ленивого и жесткого взгляда с мадемуазель Лоретт. Клермон почувствовал, как загорается румянец на его щеках и прижал ладонь к лицу. Он не знал, что делать. Вскоре он понял, что навязчивость мадемуазель, которую он подмечал в эти дни неоднократно, изуверски наказывается графом. Смутись он хоть на мгновение — он проиграл бы, но Этьенн спокойно поджидал излишне настойчивую девицу, и на лице его играла насмешливая, почти саркастическая улыбка. Он намеренно ставил Лоретт в смешное и унизительное положение, и получал от этого немалое удовольствие, понял Клермон.
Самому Арману казалось, что поведение мадемуазель д'Эрсенвиль выходит за границы приличий. Он был консервативен и не склонен к нарушению моральных норм, и полагал, что столь явно домогаться мужчины предосудительно и даже непристойно. В этом смысле он понимал его сиятельство, дававшего навязчивой девице понять, что он имеет право побыть в одиночестве. Однако понимал Клермон и неловкость положения Лоретт. Ей следовало поспешно уйти, но она не сделала этого. С несколько опрометчивым и неумным упрямством она подошла к его сиятельству и, присев рядом, стала разглядывать водную гладь пруда, давая ему возможность прикрыться.
Он не сделал этого.
Клермон, который уже устал от этой борьбы самолюбий и бесстыдства, решился было обнаружить своё присутствие, но тут у замковой стены раздался живой и радостный смех, и вскоре показались Сюзанн и Габриэль. За ними шёл Рэнэ де Файоль. Теперь положение Лоретт стало просто неприличным — она не могла допустить, чтобы её застали рядом с голым мужчиной. Она торопливо поднялась, и пошла навстречу сестре и Сюзанн. Воспользовавшись их приходом, вышел из-за скального уступа и Клермон. Приветствия заняли несколько минут, а когда компания появилась на берегу, сестру искренней улыбкой и нежным поцелуем встретил его сиятельство — в охотничьих штанах и белой шелковой рубашке.
Клермон, обдумав на досуге увиденное, счёл равно предосудительными и поведение графа — оно граничило с неуважением к женщине и откровенной аморальностью, и поступок Лоретт, который был неумным и нелепым. Но при этом заметил, что сам не очень-то осуждает Этьенна.
Сказывалось мужское братство и общая психология.
Но чем дальше он наблюдал за отношениями этих двоих, тем больше недоумевал. Если его сиятельство Виларсо де Торан ничуть не влюблён, а именно так ему казалось, то почему не объяснится с мадемуазель Лоретт? Но может ли сама Лора не понимать, что мужчина, ведущий себя, подобно его сиятельству, недостоин любви, и любая уважающая себя женщина должна просто в гневе отвернуться от него! Но ничего подобного не происходило. Лоретт, как тень, бродила по замку за Этьенном, а тот норовил поставить её в смешное положение и этим немало развлекался.
Впрочем, Этьенн не всегда был столь бестактен и демонстративно безжалостен, как при наблюдаемой Клермоном сцене у пруда. Чаще он держался вполне пристойно, не позволял себе ни грубостей, ни резких слов, был вежлив и сердечен, и бедная Лоретт всё время надеялась, что рано или поздно его сиятельство полюбит её.
Поведение Лоретт было замечено всеми, и как легко можно было догадаться, вызвало тихие и язвительные перешептывания. Особенно усердствовал Дювернуа. Он, как и Клермон, прекрасно понимал, что ставящая себя в столь двусмысленное положение девица отнюдь не пользуется симпатиями его сиятельства, и неоднократно позволял себе ядовитые насмешки над Лоретт. Их с улыбкой выслушивала Сюзанн, которой не было до Лоретт никакого дела, но кому же неприятно перемыть косточки ближнему? Их слушал и де Файоль, всегда предпочитавший сплетни. Габриэль при замечаниях в адрес сестры молчала, не протестуя и не возражая. Только Элоди, когда до неё порой доходили подобные перешептывания, как заметил Арман, злилась и нервничала.
Но увы, попытки Элоди поговорить с сестрой о недопустимости подобного поведения вызывали у Лоретт лишь неприязненное отторжение и вспышки раздражения. Тем более, что на досуге Габриэль рассказала ей, что за их сестрицей, этой глазастой лягушкой, пытался ухаживать мсье де Файоль, а та резко отшила его. Каково? При мысли, что ей не удаётся привлечь внимание Этьенна, а за их сестрицей ухаживают мужчины, Лоретт побледнела. Она зло рассказала Габриэль о сцене, которую наблюдала в коридоре у Бархатной гостиной. Представь, за ней волочился и Дювернуа, говорил, что едва увидел, покоя-де лишился! Что они все находят в ней, не понимаю!
Лоретт вовсе на хотела ранить Габриэль, понятия не имея об ухаживаниях Дювернуа: её любовь к молодому графу затмевала ей глаза на всё остальное, да и, справедливости ради надо сказать, что, будучи весьма эгоистичной, Лоретт никогда не интересовалась никем, кроме самой себя.
Она не заметила, как побледнела Габриэль.
Та, хоть и пережила утрату невинности со слезами, успокоилась быстро, столь же быстро — даже с пугающей Дювернуа быстротой — Огюстену удалось выучить её тонкостям любви, и их ночи протекали весьма приятно. Публично они старались соблюдать видимость поверхностного знакомства, Габриэль страшно забавляло обретение нового статуса, став женщиной, она ни о чём другом думать не могла. Сестры казались ей теперь — совсем глупенькими малышками, не познавшими тайны жизни, а своего любовника она считала просто красавцем. И даже влюбилась в него. Огюстен же упивался обладанием юным и полным сил телом, стараясь извлечь максимум удовольствия. До этого ему неоднократно приходилось довольствоваться кое-чем и похуже. Кроме того, наивность девицы позволяла ему уверить её, что всё предлагаемое им — не мерзости разврата, но самые обычные шалости влюбленных, и Габриэль по неведению следовала за ним туда, куда только могла завести развращённого повесу его нездоровая фантазия.
Но теперь она почувствовала сначала невероятное раздражение, а потом и откровенную злость. Так значит, он всё врал? У Габриэль не было ни большого ума, ни жизненного опыта, но их вполне заменял проявившееся ныне чутье самки, позволявшее ей делать те же выводы, что сделал бы куда более разумный человек. Стало быть, этот повеса просто волочился за всеми подряд, а вовсе не был смертельно влюблён в неё, как утверждал! Теперь она куда явственнее, чем раньше, сопоставила слова и дела мсье Дювернуа и не могла не понять, что он просто обманул, одурачил её. Она не получала от Огюстена того, что желало её тело, но сама мысль, что она, как взрослая, занимается любовными забавами с тем, кто боготворит и обожает её, возвышала её в собственных глазах. Теперь случайно брошенные в раздражении слова Лоретт предельно обозлили Габриэль и открыли ей глаза на любовника.
Но Лоретт не заметила произведённого её рассказом на сестру впечатления, и несколько минут продолжала недоумевать по поводу впечатления, которое Элоди производит на мужчин, высказывая догадку, не знает ли эта бестия какого-то колдовского секрета покорения мужчин?
Наверняка, знает, иначе как можно с таким лицом привлекать всех подряд?
Тем временем Этьенн, хорошо зная Дювернуа и рассмотрев его друзей, был удивлён, встретив среди них Армана Клермона. Но, быстро разобравшись в отношениях приятелей, понял, что связывает их весьма мало. Файоль и Дювернуа посмеивались над тем, что Рэнэ звал «причудами невинности», втихомолку потешаясь над приятелем, но Этьенну Клермон понравился. Причем, понравилось именно то, что вызывало насмешки Дювернуа и де Файоля.
Он постарался сойтись с Арманом поближе, и тут был приятно удивлен оригинальностью и удивительным благородством его суждений. Сам же Клермон с некоторым удивлением заметил в мсье Виларсо де Торане глубокие знания истории и литературы, Этьенн был начитан в вопросах юридических, легко мог поддержать любой разговор, высказывал суждения глубокие и продуманные, обличающие умение извлекать следствия из причин и мощь ума. Правда, суждения Этьенна местами были искажены, но глубина их поначалу искупала искаженность. До того Арману казалось, что этого красавца не интересует ничего, кроме любовных похождений, но теперь он вынужден был отдать должное не только обаянию графа, но и его образованию, и живому уму. Темы их разговоров вначале редко выходили за исторические и литературные рамки. Говорили об искусстве, совсем немного о политике, ибо Клермон находил политику делом суетным, Виларсо де Торан — занятием плебеев.
Граф охотно слушал Клермона, и из его рассказов, оценок и мнений делал заключения о личности собеседника. При этом сам Этьенн был достаточно умён, чтобы высказывать именно те суждения, которые, как он интуитивно понимал, не могли бы шокировать Армана. Первые дни он подстраивался к взглядам Клермона, не желая спорить, а в последующем стал находить удовольствие в этих разговорах. Как-то его сиятельство поинтересовался:
— Чем вы намерены заниматься в будущем, Арман?
— Вы о профессии или о бытии, ваше сиятельство? — Клермон посмотрел на Этьенна, — со временем хотел бы преподавать. Но время может быть самым отдалённым.
— А «в бытии», как вы выразились?
— Бытийно я должен выполнить обязанность каждого человека. Приобщиться святости.
Этьенн оторопел и, несмотря на воспитание, не мог скрыть растерянности.
— Вы хотите… стать святым?
Клермон посмотрел на него спокойно и внимательно. За время, что прошло с того памятного разговора с де Фонтейном, он пусть не до конца осмыслил, но уловил мысль профессора. Если бы люди любили друг друга… прощали, смирялись и служили бы друг другу — не нужны были бы ни свобода, ни равенство, ни братство — жалкие суррогаты Любви Божьей. Быть святым — это любить Бога и любить людей. Это он понял. Но он понял и другое — его душа, омертвевшая на потерях и унижении — не может пока подлинно любить — ни Бога, ни людей. Понял он и последние слова профессора, и его обжигающий льдом поцелуй. Он должен научиться любить. Он будет святым Божьим, будет жить в любви к людям и Господу, он постарается жить так, чтобы придать смысл бытию мира. Его понимание простиралось и ещё дальше. Его цель была недостижима. Но он пойдет к этой недостижимости.
Стоицизм натуры, пессимизм ума и благородство крови подлинно нашли себя на этом поприще.
Он рассказал Этьенну о своём учителе и о его словах. Объяснил и те выводы, что сделал из них. Он уже не боялся профанации или непонимания, просто не думал об этом, скорее, проговаривая осмысленное, пытался ещё раз продумать всё для себя. Этьенн выслушал молча и долго после сидел, глядя на каминное пламя.
В тот вечер он рано ушёл из библиотеки. Клермон подумал было, что его слова чем-то обидели или задели Этьенна, но на следующий день тот снова пришёл, и всё было по-прежнему. Правда, гость Армана стал чуть сумрачнее и задумчивее.
Им часто мешали. В библиотеку то и дело наведывалась мадемуазель Лоретт, прерывая беседы и интересуясь, не собирается ли его сиятельство Виларсо де Торан прогуляться? Клермон видел, что Этьенну совершенно безразлична эта влюблённая в него милая девушка, сам он неизменно краснел при воспоминании сцены около пруда, но заметил, что граф не был обременён никакими воспоминаниями, но порой соглашался сопровождать её, замечая на прощание Клермону, что через полчаса вернётся, давая тем самым понять мадемуазель д'Эрсенвиль, что время, которое он намерен уделить ей, ограничено. Он возвращался и беседы продолжались, причём Клермон минутами задавался вопросом, не спасаясь ли от навязчивости Лоретт, проводит тот столько времени в библиотеке? Однако, спросить об этом не решался, и оставался в неведении.
На самом деле мсье Виларсо де Торан просто откровенно скучал с Лоретт, томился и почему-то странно тосковал, местами — до того, что сводило скулы. Он поймал себя на странной мысли. Если раньше он полагал просто позабавиться, то теперь, общаясь с Клермоном, неожиданно подумал, что его отказ соблазнить Лоретт — поступок… благородный и высокоморальный. Он не собирался жениться, и не хотел обесчестить девицу. Подумал — и тут же расхохотался, представив, что бы сказала по этому поводу Сюзанн…
Этьенн долго не мог решиться поинтересоваться тем, о чём со смехом говорили де Файоль с Дювернуа. Но когда осторожно спросил о «les complexités pour hommes», и даже предложил помощь в их разрешении, снова был шокирован.
— Де Фонтейн вразумил меня, граф. Если Бог спас меня от растления — не следует предавать спасшего тебя. Ведь душа ощущала неладное, точно я переступал через запретную черту, совершал над своей душой и телом какое-то кощунство. Фонтейн сказал как-то, что если человек продолжает подобный образ жизни, голос совести стихает, он погружается в некое упоение, от которого трудно отказаться, — так как барьер совести преодолен, а страсть услаждает глубины естества наслаждением, перед которыми блекнут остальные утехи. Но проходит время, чувства приедаются, и плотская услада уже не насыщает, внутри обнаруживается пустота. Потеря чистоты в конечном итоге разочаровывает. Он советовал не дробить на осколки драгоценный сосуд.
Взгляд Этьенна потемнел, но он промолчал.
В этот вечер он, избавившись от Лоретт, собирался было вернуться к Арману, но столкнулся в коридоре с Огюстеном. Тот был весьма озабочен своим заказом портному, который надлежало отправить сегодня, ведь появилась возможность послать почту — по тросу, переброшенному мсье Бюффо на соседний берег, откуда письма обещали забрать егеря герцога.
— Умоляю вас, Этьенн, посоветуйте! — было заметно, что возможность называть его сиятельство просто по имени страшно льстит Дювернуа.
Мсье Виларсо де Торан, мысленно посылая надоедливого глупца к черту, выразил полную готовность помочь приятелю. Дело в том, что мужская мода уже перешла от модной эксцентричности к простоте и единообразию, окончательно освободившись от влияния придворного церемониала. Исчезли парики и пудра, треугольные шляпы, кружевное жабо и манжеты. Универсальной одеждой стал фрак, который носили во всех случаях. К нему надевали длинные панталоны. Исчезли броские и роскошные материалы, бархат и узорчатые шелка. Мужская одежда шилась из простых шерстяных материалов, основное внимание уделялось совершенству покроя и обработке костюма. Окончательно взял верх идеал неброской элегантности. Одновременно с упрощением костюма возросла роль галстука, ставшего единственным ярким дополнением одежды. Но мало кто по-настоящему владел искусством завязывания галстука и, может быть, только сам основатель дендизма, лорд Браммел, умел это делать неподражаемым образом. Единственным украшением оставалась игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создан был тип скромно, но идеально одетого мужчины.
Но одежда денди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой должен быть совершенным. Поэтому стало модным шить у «своего» портного. Теперь Дювернуа пребывал в затруднении — послать ли заказ Жаку Ригу, у которого шил до сих пор — или сделать заказ у портного Этьенна, чьи костюмы были просто великолепны? Он хотел выглядеть столь же мужественно, как и его сиятельство.
Мсье Виларсо де Торан похвалил мсье Луи Гореля, у которого шил сам. У него превосходный вкус, и Этьенн вполне доверял ему в выборе расцветки жилета, покроя и сочетания частей его гардероба. Он предоставил в распоряжение приятеля всё своё понимание, но, так как был прекрасно воспитан и безупречно учтив, то и словом не обмолвился о том, что субтильный Дювернуа может претендовать разве что на изящество — но никак не на мужество, ибо узкие плечи и худоба Огюстена потребовали бы от портного — будь он даже Господь Бог — невозможного.
— Мы не в силах научить буржуа носить сапоги и панталоны так же безупречно, как это делаем мы, денди, и тратить свое состояние со вкусом, — разглагольствовал между тем Огюстен, — и я решительно против того, чтобы двери в храм элегантности были открыты для толпы. Нет существа, менее похожего на человека, чем человек с улицы, не правда ли? Чтобы быть элегантным, надо, по меньшей мере, иметь вкус. Мелким торговцам, деловым людям и преподавателям гуманитарных наук элегантность обрести не дано… Вы согласны, граф?
Граф не хотел спорить и согласился, про себя отметив, что выпады Дювернуа против Клермона становятся все более частыми. Ну, причём тут гуманитарные науки, скажите, ради Бога? Сам же Дювернуа смешил и раздражал его. В Париже он как-то не обращал внимания, насколько тот пошл…Более близкое общение открыло, увы, лишь убожество интересов и пустоту. И этот глупец толкует об элегантности? Горе-модник, который ни на минуту не прекращает погони за совершенством и приходит в ужас от малейшей морщинки на рубашке, трудится до седьмого пота, чтобы добиться никому не нужной безукоризненности, забывая, что вымученная элегантность — все равно что вчерашний обед…
— Умение одеваться — это плод привычки и чувства меры, Тентен, — заметил граф, несмотря на раздражение, спокойно и обходительно. — Ведь простота роскоши сменилась роскошью простоты. А это значит, что человек со вкусом должен быть скромен в своих запросах, всякая вещь должна быть тем, чем она является. Следует помнить, что слишком дорогие украшения не производят должного впечатления, а пестрота неизменно ведёт к безвкусице. Вот и всё.
Они все ещё обсуждали цвет заказываемого фрака, решая, выбрать ли модный зеленовато-болотный цвет «спинки полуобморочной лягушки» или не менее модный красновато-коричневый цвет «замышляющего убийство паука», когда к ним присоединился де Файоль. Этьенн внимательно рассматривал лицо Рэнэ. Да, что и говорить, сестричка постаралась… Больные и надломленные жесты де Файоля, его изможденное бессонницей лицо вызвали сочувствие Этьенна — развращенный и душевно, и телесно, он вопреки всему, сохранил некую врожденную незлобивость, умение понимать людей, и даже благородство, постоянно искажаемое миазмами душевной помрачённости и пошлостью, ставшей второй натурой. Он и сейчас мысленно улыбался, представляя, что творится в штанах несчастного Рэнэ, но и вполне искренне сострадал ему, дав себе слово уговорить сестрицу сожрать поклонника.
Нельзя же так, в самом-то деле!
Файоль не проявил ни малейшего интереса к разговору, не до фраков и галстуков ему было. Он надеялся увидеть Сюзанн, уже готов был на всё, — настолько непереносимым становилось его состояние. Она околдовала его, просто околдовала. Однако, сама она, встречаясь с ним на прогулках, в залах и коридорах — с подлинным мастерством, скопированным с его прежнего артистизма, талантливо играла неподдельное внимание, искреннюю заинтересованность и даже нежную влюбленность, — но немножко весьма искусно переигрывала. Ровно настолько, чтобы убедить его, что ею движет лишь вежливость. Он настаивал на встрече наедине — она делала непонимающие глаза. Рэнэ делал предложение, кладя к её ногам душу, сердце, руку, состояние — Сюзанн настаивала на том, что он сошёл с ума.
Сейчас Рэнэ голосом глухим и словно простуженным спросил Этьенна, не знает ли тот, где его сестра? Мсье Виларсо де Торан высказал предположение, что она либо с девицами д'Эрсенвиль, либо прогуливается с его светлостью по парку. И Файоль, кивнув и слегка пошатнувшись, направился в парк.
Он нашёл в парке двух сестер д'Эрсенвиль — Элоди и Лоретт, но Сюзанн с ними не было. Он поспешно устремился к пруду, рассчитывая найти её на берегу, но её не было и там, он обошёл замок, и снова прошел мимо сестер. Лоретт просто не заметила его, а Элоди проводила внимательным взглядом, чуть насмешливым и высокомерным.
Этьенн же, отделавшись от двух дураков, поспешил в библиотеку. Нет, не от Лоретт он скрывался. Он стал отдавать себе отчёт, что его странно влечёт к скованному и задумчивому Клермону. Скромность, строгий, логический, трезвый ум, интеллектуальная честность и вдумчивость Армана пленили Этьенна, их роднила любовь к трудноразрешимым задачам. Стремление Армана к моральному совершенству, абсолютно непостижимое, удивляло, но не отталкивало. Не смешила и половая абстиненция. Этьенн видел, что чувства Клермона трезво взвешены, рассудочны и обдуманны, действительной или кажущейся была его холодность — он не знал, но владение чувствами и эмоциями в нём поражало. Внутреннюю способность отказывать себе и умение противостоять соблазнам Виларсо да Торан тоже заметил. Этот человек, ведомый благоразумием, мог принимать разумные решения, даже если они были неприемлемы для него самого или неприятны, и никогда не шёл на поводу у своих чувств или желаний. И это вдруг заворожило Этьенна. Его — изгибало и перекашивало, а этот мальчик не гнётся?
Он счёл себя обязанным понять причину.
Глава 9. В начале которой его сиятельство граф Этьенн рассказывает о своей самой прекрасной женщине, и которая заканчивается беседой о Дьяволе
Прошло совсем немного времени по приезде, как Дювернуа и де Файоль заметили странное предпочтение, которое оказывал граф Этьенн Арману. Первое время они недоумевали, потом сочли, что мсье Виларсо де Торан просто забавляется странностями Клермона. Однако, несколько раз посетив библиотеку, они не могли не заметить, что никаких насмешек по отношению к их приятелю высокомерный аристократ себе не позволяет, напротив — даже странно заискивает в Армане.
Файоль воспринял это достаточно равнодушно — изнурявшая его страсть делала все остальное незначимым. Но для Дювернуа происходящее было оплеухой. Сам он дорожил отношениями с Этьенном, всячески лебезил и даже чуть лакействовал перед ним, весьма рассчитывал на то, что тот будет ему поддержкой в продвижении. Столь неожиданная симпатия графа Виларсо де Торана к Клермону могла не оставить от его планов камня на камне.
Огюстен стал хладнокровно изыскивать способы охладить возникающую на его глазах дружбу. Но вот незадача — все, что он знал смешного или нелепого о Клермоне, он давно рассказал Этьенну, а придумать что-то новое не мог. Что, чёрт возьми, можно рассказать дурного об аскете и книжнике? Однако Дювернуа постарался максимально часто встречаться с Этьенном, приглашая его на устраиваемые им по вечерам «мальчишники», когда девицы порой уединялись для собственных забав в Бархатной гостиной.
На этих вечерах Дювернуа, неизменно вызывая омерзение Клермона, рассказывал о своих победах над женскими сердцами, и Армана мутило от похабных подробностей и разнузданных пошлостей приятеля. Огюстен по странной прихоти думал, что подобные рассказы поднимут его во мнении Виларсо де Торана, однако, на вопрос самого Дювернуа, часто ли у него были романы с женщинами из высшего общества, Этьенн ответил весьма лениво:
— Большинство женщин, ведущих светский образ жизни, устраивающих приемы и имеющих многих поклонников, холодны и неумелы в постели, Огюстен, эти светские львицы — чахоточные жрицы любви, просто рыбы. С ними скучно. Самые развратные — это тихие женщины, не любящие блистать и ломаться, предпочитающие самые изощренные любовные утехи. Их отличает скромное поведение, но они далеко не скромницы. Это похотливые самки, и желание мужчины для таких — закон. Но и они надоедают своей ненасытной чувственностью.
Клермон, отчасти из любопытства, отчасти просто потому, что ему было невмоготу слушать разговоры Дювернуа, спросил графа, а как разнятся мужчины?
Мсье Виларсо де Торан ненадолго задумался.
— Самый распространенный тип — тип галантного кавалера, такие способны на всё, чтобы получить женщину. Они согласны быть подлецами по отношению к конкурентам и готовы пресмыкаться перед своей пассией. Другой тип — герои-любовники с примитивными инстинктами, лишенные вкуса. Они могут переспать с любой, самодовольны, ведут счёт победам и не очень умны. К третьему типу соискателей я бы отнес циничных интеллектуалов, весьма бедных эмоциями: любовные порывы чужды им, они не влюбляются в женщин, но воспринимают любовь как физиологическое явление, поэтому для них вся трескотня любви — пустяки. Они бездушны и склонны к тайным похождениям. Потом надо упомянуть тип Дон Жуана, красноречивого обольстителя, список его побед солиден, он может овладеть женщиной через час после знакомства. Женщина ведь ценит мужской ум и за него простит даже уродство. Тип злодея снедаем разрушительными страстями и волей к завоеванию женщин. Он не любит просто барахтаться в постели, нет, он желает безраздельно властвовать над женщиной. Этот мужчина полагает, что трудно представить себе что-либо более бессмысленное, чем общение с женщиной, когда ум и сердце не получают ничего, кроме усталости и примитивного удовлетворения. Но и понимая это, он не в силах себя обуздать и всецело заняться наукой, искусством, карьерой — его сластолюбие вынуждает его тратить себя на женщин. Эти мужчины не верят в женское достоинство и втайне ненавидят женщин.
— А можете ли вы, граф, рассказать о вашей самой страстной и волнующей ночи? — этот вопрос задал до сих пор молчавший Рэнэ.
К удивлению Армана, мсье Виларсо де Торан с готовностью согласился.
— О, да. Однажды, после хмельного вечера в дружеской компании, я вернулся домой. Я перепробовал у друга множество аперитивов, настоек и вин, и не могу сказать, какое из них навеяло мне мысль о женщине. Чувственность непредсказуема. И вот, едва я откинулся на подушки, у арочного входа в спальню показалась она… Глаза её были как ночь, кожа как кремовый шелк, волосы как бархат, прекрасное тело обнажено. Я страстно возжелал её.
Дювернуа восторженно и завистливо уставился на Этьенна.
— И кто она была? Это дама из высшего общества? И сколько раз вы доказали ей свою страсть?
Этьенн насмешливо улыбнулся.
— Я же вам сказал, Огюстен, что был пьян и женщина мне — показалась. Просто примерещилась. Но она была самой прекрасной из всех, что мне доводилось встречать… Я рассказал об этом своему другу Филиппу-Луи Гаэтану, он из Нарбоннов, литератор и историк, так он сказал, что это, возможно, был суккуб, демон, совращающий мужчин. Но Гаэтан — романтик и мистик, читающий каббалистов и знающийся с колдунами… Сам я думаю, что просто много выпил…
— Но вы когда-нибудь… любили, граф? — Арман смотрел на Этьенна робко и несколько испуганно.
Этьенн пожал плечами.
— Я всегда хотел, чтобы мое удовольствие принадлежало только мне и не зависело от того, с какой я женщиной. Я дорожил своей свободой больше, чем любовью. И наверно потому, — никогда не терял головы. Стоимость альковной свободы — отсутствие чувств. Я видел влюбленных — в них мне мерещилось что-то жалкое. А может, мне просто не дано чувствовать…
Раздался гонг к обеду и прервал рассказ Этьенна. По дороге в столовую, обдумав сказанное и воспользовавшись тем, что они остались в коридоре одни, Клермон удивлённо спросил его сиятельство, к какому типу мужчин он отнесёт их общего друга — Дювернуа?
Этьенн расхохотался.
— К неукротимым… рассказчикам. Это фантазёр, послушать которого, то «от одного его взгляда у женщин падают чулки» и за ночь он «дюжину раз ублажает свою красавицу, а то и двоих». Если такой рассказчик достаточно образован и умён, то его истории смело можно отнести в разряд литературы, правда, не очень высокого пошиба, он может даже зарабатывать на этом и неплохо, глупец же просто будет потешать вас скудоумием.
— Вы хотите сказать, что всё, что он говорит — ложь?
Этьенн снова рассмеялся.
— Я не хочу сказать, что он совсем не способен покорить женщину — все зависит от уровня и запросов приглянувшейся ему пассии, но женщины, которых якобы имеют подобные мужчины на каждом диване, суть фантомы. Подобные мужчины любят выставлять себя гурманами и тонкими ценителями дел постельных, но всё это только на словах, на деле же они пользуются прачками, кухарками да белошвейками, и ходят в самые дешевые бордели. Не доверяйте этим рассказам! Верьте им так же, как и удачливым рыболовам и неустрашимым охотникам. Если некто рассказывает, как обладал женщинами на столах, под столами, на заборах и в собачьих будках, на катафалках и могилах мужей — это всё анекдоты. Не следует хвастаться вымышленными победами. — Виларсо де Торан перестал улыбаться и уже серьезнее добавил, — но хвалиться вообще не стоит никогда, запомните на будущее, Клермон. И особенно нельзя хвалиться победами подлинными. Щадите самолюбие друзей — не рассказывайте о своих успехах, славы вы не добудете: либо из ревности вам не поверят, либо, если поймут, что вы правдивы — возненавидят из зависти.
Девицы проводили вместе достаточно много времени, чтобы любой холод отчуждения растаял. Однако Элоди и Сюзанн сблизиться так и не сумели, причем, и не старались. Взаимное отторжение не проходило, обе при этом держались вежливо, улыбаясь при встречах, и с улыбкой торопясь поскорее расстаться. Но с Лоретт и Габриэль Сюзанн была мила и дружелюбна. Всем им особо полюбились полночные посиделки в Бархатной гостиной, которую они облюбовали. Комната была уютна и превосходно обставлена, а когда через неделю после их приезда начала нарастать луна, гостиная под вечер обретала вид загадочный и необычайно романтичный, привлекавший не только девиц, но и молодых людей, которые в один из вечеров собрались там все вместе. На огонёк зашёл и герцог. Тон разговора почти с порога задал Этьенн, настроенный в этот вечер весьма игриво, впрочем, как заметила его сестра, «Тьенну под полнолуние — всегда бывает поэтом». Сам граф при этом просто посмеивался над Лоретт.
— Там, откуда я родом, — фривольно и обаятельно улыбаясь, сказал он, — считают, что девушка, жаждущая любви, никогда не должна поворачиваться в сторону Луны, когда светило рогато, то есть в первой четверти или, наоборот, на ущербе, а то она окажется loaret или, иначе говоря, зачнет от лунной силы. Рожденные ею «дети луны» называются loarer — лунатиками. В Морлэ вообще полагают, что женщина, прямо поворачивающая лицо в сторону Луны, рискует дать жизнь какому-нибудь чудовищному существу, а в Нижней Бретани говорят о Луне как о существе, изливающем яд на воды — вот почему над колодцами должна быть крыша… Происходя от Дьявола, Луна лжива… — Этьенн был упоительно красив в игривых всполохах свечных язычков пламени, и Лоретт смотрела на него с восторженным обожанием.
Клермон не поддержал его сиятельство.
— Луна прекрасна, — Арман всегда любил луну и, казалось, зависел он ночного светила, всегда в полнолуние ощущая прилив сил, — она интригует мир, хитро путает расстояния, строит против нас козни, делает вечно всё по-своему, правит океанскими водами, даёт жизнь зеркалам и безжалостно предсказывает будущее…
— Ну почему же безжалостно? — любезно вопросил герцог, — Просто честно. Впрочем, пожалуй, это одно и тоже, вы правы, мсье де Клермон. Моя покойная бабушка всегда в преддверии полной луны гадала на зеркалах…
Компания оживилась. По просьбе герцога, мсье Гастон принёс зеркало, на поверхность которого его светлость осторожно вылил бокал белого вина, большой прозрачной медузой растекшегося по амальгамированному стеклу. Лунный луч падал из окна и играл на зеркально-винной поверхности нежными бликами. Погасили свечи. Габриэль почему-то испугалась.
— Мадам Дюваль говорила, что водное зеркало отражает знаки жизни и смерти. Тот кто хочет постичь тайны своей жизни должен посмотреть в него в ночь на Иоанна Крестителя. Ровно в полночь это хранилище всех и всяческих тайн покажет ему его тайну, его судьбу!
— И что вы здесь видите, очаровательная? Ведь сегодня как раз ночь на Иоанна…
Габриэль испуганно, но храбрясь, заглянула в зеркало. Долго рассматривала своё лицо, но была видимо разочарована. Ничего особенного. Следом со смехом заглянул Дювернуа, — и тоже не увидел ничего, кроме своего отражения, мутного и неявного. Сюзанн и Файоль тоже видели свои лица. «Помилуйте, вздор это всё, что же тут можно увидеть, кроме себя?»
Однако Клермон, с улыбкой заглянувший в поток лунного света, вздрогнул. Он не видел там себя. На него смотрел седовласый человек со спокойными и глубокими светлыми глазами, гораздо старше его деда, но похожий на него. Приметно вздрогнула и Элоди, увидев на поверхности стекла свою бабушку, улыбнувшуюся ей. «Там наша бабушка Элоди», пробормотала она растерянно, но взглянувшая туда следом за ней Лоретт заметила, что ей вечно что-то мерещится. Она не видела никого, кроме себя. Чуть встряхнув густыми пепельными волосами, последним в зеркало заглянул его сиятельство.
И чуть приметно побледнел. Впрочем, может быть, просто лунный луч, в ореоле которого он находился, создавал такое впечатление.
— И что вы видите, дорогой племянник?
— Себя… — его сиятельство уже овладел собой.
Мало ли что померещится…
Зажгли свечи. Гадание не оправдало общих ожиданий, но создало в гостиной ту обстановку, которая неизменно наводит на традиционные разговоры о чертях, домовых и ведьмах, в погожие летние дни при лунном свете возникающие сами собой — даже среди тех, кто считает себя людьми самых передовых и современных взглядов. Спровоцировал же разговор очаровательный котёнок мсье Гастона, Валет, чёрный пушистый комок шерсти с самыми яркими зелеными глазёнками, какие только можно себе представить. Он, чем-то испуганный в коридоре, влетел в гостиную и чернильным пятном резко брызнул вверх по портьерам, однако, не удержался на карнизе и, жалобно мяукая, закачался на нём, подобно крохотному маятнику, зацепившись за полог коготками передних лапок.
Герцог с улыбкой снял с карниза пугливого шалуна и отдал подошедшему мсье Гастону. Но маленький нахал непостижимо выскользнул из рук мажордома, и быстрее молнии ринулся к его сиятельству графу Этьенну, забрался на его плечо и бросил на всех в гостиной взгляд зеленых, как майская трава, глаз. Все засмеялись.
— Что это за кошачий шабаш, Валет? Он не испугал вас, граф? — герцог с улыбкой поманил к себе котёнка.
Этьенн покачал головой. Он все ещё не мог придти в себя от туманного облика человека, что померещился ему в зеркале, чье лицо терялось под тёмным капюшоном.
Странно. Он не был ни суеверен, ни мистичен.
Валет, игнорируя приглашение герцога, перебрался по плечу его сиятельства на колени Клермона, где успокоился, свернулся клубочком и закрыл глаза. Арман любил кошек, они казались ему на редкость уютными и нежными, в библиотеке Сорбонны он прикормил одного толстого полосатого кота, который часто обосновывался у него на коленях во время работы. Огюстен же, который терпеть не мог ни кошек, ни собак, тем временем рассказывал о сборищах кошек, происходящих на перекрестках дорог и пустынных местах, возле больших камней. Председательствует на таких сборищах огромный черный кот. Это, конечно же, Дьявол.
— А у нас все хромцы, горбуны, заики, косоглазые и кривые — находятся под подозрением в колдовстве. Запрещенных в служении священников и выпускников семинарий, не принявших сана, также подозревают в нём, поскольку в народе говорят, всякий, кто перестал служить Богу, непременно служит Дьяволу, — с легкой иронией проговорила Сюзанн, иронично поглядывая на Элоди.
К её удивлению, та нисколько не обиделась и не оспорила это суждение, но, напротив, кивнула головой, полностью соглашаясь.
— Есть одна вещь, гораздо более опасная, чем зло, причиняемое недоучившимися семинаристами, — просветил собрание герцог. — Это месса Святого Секария. Её можно служить только в церкви, что наполовину разрушена, в этих церквях рай для филинов и летучих мышей, и там устраивают стоянки цыгане. Под алтарями полно квакающих жаб. Нечестивый священник приводит с собой свою любовницу. В одиннадцать, с первым ударом часов, месса начинается и идет задом наперед ровно до полуночи. Крестное знамение делается всегда по земле ногой. Но время мессы Святого Секария происходит много других вещей, о которых никто не знает и на которые христианин не сможет смотреть без того, чтоб тут же не ослепнуть. Человек, по которому ее отслужили, обречён.
— Сколько же стоит заказать такую мессу? — с любопытством спросил Дювернуа.
Герцог этого не знал, но свидетельствовал, что в старину слыхал, как подобная месса, заказанная графом *** всего за неделю извела некого Жана Полиньяка, двадцатипятилетнего крепыша, стоявшего между графом и огромным наследством. Дьявол, надо признать, прекрасно поработал.
Его сиятельство смотрел на подобные вещи скептически.
— Ничто так не удобно, как сваливать всё на Дьявола. В «Historia Scotomm» Боэций описал случай с юной шотландкой, попавшей в досадное, но интересное положение. К счастью, она сумела весьма толково убедить всех, что является любовницей Дьявола, тайно являющегося к ней по ночам… Аналогичный случай был в позапрошлом, 1816 году, в Тельи, недалеко от Амьена, там некая девица вдруг обнаружила себя беременной; дабы объяснить это окружающим, она заявила, что ею овладели сразу три демона, отзывавшиеся на изящные имена Миленький — Mimi, Крошка — Zozo и Негодяй — Crapoulet, причем последний действительно существовал и был, по словам Колена де Планси, «беглым солдатом из окрестного гарнизона». Разве я не прав, Арман?
Все весело расхохотались, и маленький Валет, пригревшийся и уснувший на коленях Армана, недовольно приоткрыл зеленый глаз.
Клермон согласился.
— Да, подобных примеров бесчисленное множество. Мне вспоминается история об угольщике из Вальтелина, застигнутого врасплох в графских погребах. Бедняга, пойманный в минуты уже хорошего знакомства с винными запасами знатного соседа, рассказал, что давным-давно подозревал, что жена его летает на шабаш. Так оно и оказалось — он подглядел, как она натирается какой-то мазью и тут же исчезает, сделал то же самое, и вот, сам не ведая как, оказался в этих погребах. Воистину, нет более удобного оправдания, и современные воры, видимо, весьма жалеют, что не могут к нему прибегать…
— Вся эта вера состоит из подделок, — высокомерно проговорила Сюзанн, и Клермон, искоса бросив взгляд на Элоди, поморщился.
Однако Элоди была сегодня настроена на редкость благодушно, и совсем не замечала шпилек в свой адрес.
— Вера — чувство неподдельное, — с улыбкой проронила она. — Одна женщина из окрестностей Вантрона была околдована и уже отчаялась в возможности выздороветь, но священник посоветовал ей вооружиться куском истинного Креста, на котором был распят Спаситель. Если бы она могла приложить к груди эту святую реликвию, сказал он, наверняка пришло бы избавление. Но у кого же в их деревне могла быть хотя бы малейшая частичка священного креста? Один из её родственников, тронутый горем больной, сказал, что найдёт крест, и отправился в путь, полный веры. Шел он долго, но напрасно стучался во все двери… Однажды вечером, когда, упавший духом, он сидел на телеге, им внезапно овладел сон. Говорят, утро вечера мудренее… Когда на следующий день он проснулся, решение было принято. Он раскрыл свой нож, сделал насечку на одном из бортов телеги, отрезал от него кусок. «Дерево за дерево, — сказал он себе, — это ничуть не хуже того». И отправился обратно в деревню. Порченая, нимало не подозревая обман, истово поцеловала кусочек дерева и приложила его к своей груди. Чудо! Дьявол, задыхаясь, с пеной на губах от бешенства, вышел из тела несчастной, бросив ей напоследок: «Если бы у тебя не было веры, и тысяча телег не заставила бы меня убраться».
— Да, как подумаешь, сколько выдумок распространялось веками о Дьяволе — смех берёт, — проронил Рэнэ де Файоль, — и если сложить все, что о нём насочиняли, я уверен, окажется, что ему со столькими проделками в жизни не справиться.
— Так ведь он и не один. Согласно знаменитому Жану Вьеру, медику герцога Клевского, — просветил его Клермон, — всего демонов семь миллионов четыреста девять тысяч сто двадцать девять, а князей их — семьдесят девять. «Кабинет Короля Франции», анонимная книга 1581 года, приписываемая Фроменто, называет несколько иную цифру: семьдесят два князя и семь миллионов четыреста пять тысяч девятьсот двадцать демонов. Некоторые авторы, также весьма компетентные, дают другие цифры.
— Теперь понятно, почему у него столько имён, — засмеялся его сиятельство, — его называют Старым Полем, Красивым мальчиком, Торговцем углем, Мальчиком с лошадиными ногами, Лукатаном, Стариком Лукой, Царем-змеёй, Рогатым, Злодеем или Дурным…
Элоди с мягкой улыбкой выслушала это и тихо заметила:
— Надо же, а мне в Шарлевиле духовник говорил, что наш Дьявол, в каком бы виде и под каким бы именем ни являлся, всегда один и тот же…
Клермон, искоса взглянув на неё и радуясь тому пониманию и вниманию, что видел в её глазах, покраснел и чуть улыбнулся. И в неверном свете свечей ему показалось, что она тоже улыбнулась ему.
Тем временем Дювернуа снял со стола зеркало, на котором до этого гадали, освобождая стол для карточной игры. Вино уже почти высохло на зеркальной поверхности, но образовало на нём тонкий паутинный узор. Клермон смотрел в него, пока Огюстен переносил его и отдавал в руки мсье Гастона. Ему померещилось что-то странное в зеркальном отражении, но, что удивило его, он понять не смог. Он пытался увидеть в зеркале мадемуазель Элоди. И увидел её грациозную фигурку у камина. Мельком он заметил и всех остальных.
Но что тогда показалось странным?
Глава 10. В которой герои ведут разговор о морали, но, начав с Бога, заканчивают беседу снова Дьяволом. При этом один собеседник неизменно пребывает в состоянии раздражения и тоски, а второй — все больше оживляется
Несколько раз Этьенн, заходя к Клермону, заставал того на молитве. Ему бы и в голову не пришло, что молодой человек его лет может во что-то верить. Сам он заходил иногда в храмы Парижа — полюбоваться фресками, послушать органные оратории. Но молиться? Как можно мыслить в канонах средневековья?
Клермон же, когда Этьенн задавал ему подобные вопросы, зримо мрачнел, становился неразговорчив и сумрачен. Бог был для него внутренним стержнем, и ощущение Бога в нём было столь же осязаемым, как биение сердца, Бог был и его внешней опорой — Богом отцов и дедов, отречение от которых было бы для него — подлостью запредельной. Его деда убили безбожники — присоединиться к ним даже мысленно — было бы предательством.
Но объяснить это Этьенну он не мог — почему-то стыдился.
— Высший, идеальный уровень морального поведения, — между тем настойчиво вразумлял его Этьенн, — когда человек поступает морально по убеждению, а не потому, что какой-то Бог или накажет его или наградит.
Арман тосковал и тихо замечал, что в идеале — конечно, да, но он никогда не встречал такого идеала. Человека, поступающего в соответствии со своими убеждениями, можно назвать принципиальным, но он едва ли будет образцом добродетели. Особенно, если по своим принципам он — убеждённый подлец.
Виларсо де Торан покачивал головой, и продолжал. По его мнению, «средний уровень морали основан на страхе наказания, и показателем этого уровня служит Уголовный кодекс. В рамках этой усредненной морали и болтается в буднях человечество». С этим Клермон не спорил. Самым же низким уровнем морали граф считал мораль, основанную на личной вере в Бога, ведь вера не есть знание, и кто уверил Армана в её истинности? Ну, а на ошибочных верованиях может быть построена только ошибочная мораль. Церковные догматы имеют лишь то преимущество, что избавляют от необходимости думать. Нет иной морали, кроме той, что основана на принципах разума. Разве я не прав? — вопрошал Этьенн.
Клермон, помня слова Писания о том, что лишь чистые сердцем могут узреть Бога, не знал, что ответить графу и тихо пояснил, что это было бы правдой, если бы не обилие людей, которые могут быть счастливыми, только совершая поступки, приводящие их на эшафот. Нравственные вопросы весьма сложно решать с помощью «просвещённого разума». Ведь он может быть «просвещён» как добродетелью, так и пороком. Нельзя решать их и по голосу совести, если в человеке нет веры. Безбожную совесть «просвещённый разум» перекосит да неузнаваемости. Вот здесь и спасут Церковные догматы, которые потому и догматичны, что не дают себя перекосить.
Неожиданно в библиотеку вошёл его светлость. Герцог тихо прошёл по мягким коврам и был замечен не сразу. Сейчас он был одет подчеркнуто по-домашнему. На голове его белел ночной колпак.
— Основа морального поведения — личные интересы, честь и целесообразность. Разве я ошибаюсь? — спросил Этьенн.
Клермон, заметив хозяина замка, вежливо поднялся, приветствуя его, но мсье де Тентасэ сделал ему знак не волноваться — и стал внимательно прислушиваться к беседе, присев на оттоманке у камина и изящно закинув ногу на ногу.
— Я не понимаю, ваше сиятельство, — грустно заметил Арман, сожалея о приходе его светлости. Ему тяжело было развивать такие аргументы с одним собеседником, а уж с двумя… — Мы не определились в изначальных дефинициях. Что есть честь, как ни свойство души, не могущее смириться с ложью, мошенничеством, подлостью? Но что если этого требуют личные интересы? Если окажется, что целесообразнее украсть или обмануть? Ведь «честь мундира» заставляла многих идти на откровенное бесчестье, а «честь мужчины» многие видят в том, чтобы лишить чести женщину… Как вы совместите честь с личными интересами? Вы ведь поставили их на первое место. Вам придется убрать из вашего списка второй пункт. Он противоречит двум остальным. Останется странное утверждение, что основа морального поведения — личные интересы и целесообразность. Но слово «моральное» не будет оправдано дефиницией. В итоге получаем: «основа поведения иных людей — личные интересы и целесообразность» Это истинное высказывание. Но причём тут мораль-то?
Его сиятельство рассмеялся. Зачем все же так усложнять?
— Простите меня, мои юные друзья, — с очаровательной улыбкой вмешался герцог, — но вы, если я вас правильно понял, дебатируете вопросы… морали?
— О, нет, — усмехнулся Этьенн, — просто мсье Клермон удивил меня претензией на святость и целомудрие, я же пытаюсь вразумить его. Но, похоже, безуспешно.
Герцог блеснул глазами и весело расхохотался.
— Святость и целомудрие? Стало быть, вы, мсье де Клермон, всё ещё верите в Бога? Быть святым ведь без этого невозможно.
— Я хочу быть в числе тех, для кого нравственные требования составляют мотивы поступков. Идеал же нравственности для меня — Христос. И всё. Это не претензии, и не притязания. Это желание души. Я хочу верить в Господа.
— Чтобы быть нравственным, недостаточно верить, мой друг. Дьявол уж точно не атеист.
— Вы уверены, ваша светлость? — лениво поинтересовался Этьенн. — Я убежден, что он слишком умён, чтобы разделять глупые предрассудки. Дьявол в моем понимании должен быть философом.
— Можно подумать, что каждый, кто не имеет веры, так уж сразу и философ, — тихо пробормотал себе под нос Арман, некстати вспомнив Файоля.
Герцог расхохотался.
— Вы оба — очаровательные молодые люди. Но милый Этьенн, не кажется ли вам, что сомнение в существовании Бога делает несколько спорным и существование дьявола? Я, кстати, тоже иногда думаю, не является ли он просто персонифицированной идеей мирового зла? Я, например, абсолютно уверен, что дьявола просто не существует.
— Дьявол умер. Да здравствует Дьявол, — грустно улыбнулся Арман.
Герцог снова улыбнулся, дружелюбно обняв Клермона.
— Стало быть, вы, Этьенн, скептик, а у вас, дорогой Арман, как я понял, нет сомнений — ни в существовании Бога, ни существовании Дьявола? Но вопрос — разумно ли это?
Этьенн согласился.
— Мы сегодня говорим на великом языке сознания и разума, перед которым бессилен язык религии. Человек страшится только того, чего не знает, знанием же побеждается всякий страх. Во все века естественная философия встречала докучливого и тягостного противника — неумеренное религиозное рвение. Пора жить без догм.
От подобных мнений Клермон сразу утомлялся. А сейчас просто почувствовал раздражение.
— Вот уж, воистину, страшнее кошки зверя нет… религиозное рвение… Кажется, ещё Бэкон удивлялся, почему это некоторые господа во все века убеждены в том, что честность и порядочность существуют только из-за какой-то неопытности и наивности людей и лишь потому, что те верят разным проповедникам и учителям.
— Этого я не утверждаю. Я лишь уверен, что после смерти ничего нет. И меня это не пугает, а успокаивает. А вас страшит?
— Скорее заставляет задуматься. Как ни иллюзорна идея бессмертия — зачем отказываться от неё? Не потому ли, что она неразрывна связана с идеей суда и человек, утверждающий свою смертность, так боится кары за свои мерзости в вечности, что готов отказаться от самой вечности? «Там ничего не будет… там ничего не будет… мне там ничего не будет» — вот что мне слышится за этими заклинаниями. Стоит клирикам сказать, что на сто лет Господом объявлен мораторий — и убийцы, содомиты, блудники и воры не будут наказаны — атеизм сдохнет. Неужели всех этих энциклопедистов, новоявленных критиков христианства, атеистов, деистов и пантеистов, и прочая, их же несть числа — действительно интересуют ошибки в переводах Писания или какие-то несуразности в церковной обрядности? Я невысокого мнения о них, но не считаю их идиотами. Никого это на самом деле не волнует. Все их усилия — и явные, и скрытые — направлены на то, чтобы доказать несуществование Воздаяния за дела земные, неразрывно связанного с идеей Божьего Суда. Вот чтобы не было Суда — и надо доказать несуществование Бога. И уж тут — любые аргументы хороши.
Герцог снова внимательно взглянул на Клермона.
— Вы, стало быть, виконт, не хотите сомневаться? Но ведь все сомневаются — даже умнейшие люди! Сегодня умение мыслить — значит, сомневаться во всем…
Клермон досадливо пожал плечами, раздраженный и обращением герцога и самой темой разговора.
— Сомнение — это аннигиляция мысли и их же хваленного разума. Кто сказал им, что они способны сомневаться и больше того — думать? Почему они не сомневаются, а не сомнительно ли их сомнение? Откуда они знают, не является ли каждая их мысль — производной их глупости? Разум, вечно сомневающийся — просто болен. Размывающий критерии — тоже. Все можно простить, но не извращение данных свыше истин. Нельзя сомневаться в Истине. Назовите добро добром, а зло злом, иначе развалится жизнь.
— Да как вы их вообще различите? — недоуменно воскликнул граф.
Клермон вздрогнул и, скрывая ужас, опустил глаза в пол. О, он вдруг понял, — по одной этой фразе — с кем говорит. «Совершенные навыком приучены к различению добра и зла». Человек, не понимающий, что основа добра — страдание и сострадание, не знающий, что злодеяние порождается злым умыслом, и цель его — заурядные дьявольские приманки — чувственные удовольствия, роскошь, власть и слава, — нравственно невменяем. Клермон уже не впервые думал — кто перед ним? Но сегодня понимание стало слишком отчетливым. Чем подлее человек, тем чаще от него услышишь, что мораль — сумма предрассудков общества, и тем чаще он недоумевает, чем это пороки отличаются от добродетелей? Хорошо если он, все понимая, просто лицемерит. Но ведь есть и запредельный уровень аморальности, когда человек перестает лицедействовать, и искренне недоумевает, чем ложь отличается от истины, воистину перестав их различать. Но Этьенн, как ему казалось, фарисеем не был. Клермон помрачнел. Граф нравился ему, мучительно не хотелось терять в кои-то веки появившегося собеседника, и в душу Армана словно влили помои.
— Но мой дорогой племянник что-то сказал и о целомудрии, ваша милость? — Его светлость внимательно посмотрел на Армана, и Этьенн заметил, что в глубине черных глаз герцога промелькнуло загадочное свечение. — Он не пошутил, мсье де Клермон?
На эту тему Клермон говорить отказался. Со стороны графа рассказывать подобное герцогу было, по его мнению, не порядочно, но критерии порядочности у его сиятельства, как он окончательно понял теперь, были весьма размытыми.
— Я-то полагаю, что целомудрие — самое извращенное из всех постельных извращений, — заметил Этьенн, но его светлость не услышал, все ещё внимательно глядя на Армана.
— В одном из гримуаров моего библиотечного собрания сказано, что те, кто хранит чистоту, находятся под покровом Божиим. Когда человек лишает себя чистоты, он утрачивает и Божественную помощь. Кстати, сказано это было Дьяволом. Возьмите на тринадцатом стеллаже, мсье де Клермон, седьмая полка снизу.
Герцог говорил медленно и неторопливо, при этом в его взгляде странно чередовались почти непередаваемые чувства. Казалось, он будучи серьёзен, смеётся, желая посмеяться, выказывает уважение, но уважая, презирает. Клермон растерялся, пытаясь понять его светлость, и отвёл глаза. В присутствии герцога, Клермон заметил это, он всегда испытывал странное чувство неловкости, тревоги и неподдельного интереса.
— Судя по тому, что вашего Дьявола зовут отцом лжи, в этом немного правды, — рассмеялся Этьенн, несколько удивлённый вниманием герцога к Клермону.
— Вы думаете, Дьявол всегда лжёт? — всё ещё не отводя глаз от молчаливого Армана, спросил его светлость. — О, нет, не следует всегда беззастенчиво лгать. Иногда необходима просто мягкая уклончивость. А если хочешь окончательно одурачить мир, — надо говорить правду. А по временам — так неплохо уронить и несколько высоких Истин…
До этого за окном сгущались тучи, и в этот момент вдруг сверкнула страшная молния, озарившая библиотеку. Стало светло, как днем, и загадочный, словно ртутный свет не гас несколько мгновений, пока замок не потряс раскат грома. Собеседники несколько минут молчали, но потом, под шум начавшегося дождя Граф Этьенн вернулся к разговору.
— Неужели вы думаете, ваша светлость, что мир так легко одурачить? — обратился Виларсо де Торан к герцогу.
— Одурачить мир? О, в общем-то, вы правы. При извечной и неистребимой склонности мира шататься, заблуждаться и самоодурачиваться, точнее, блудить по топям и болотам духа, болтаться в распутстве, потеряв все пути к Небу, стремление одурачить мир ещё больше противоречит принципу экономии сил и здравомыслия. На месте дьявола я был бы просто ленивым зрителем распутной драмы человеческого бытия.
— Но мне кажется, ваша светлость, — тихо проговорил Клермон, — что вы несколько лукавите…
На губах герцога заиграла веселая улыбка.
— Вот как? Что ж, со мной это случается. Но в чём вы видите лукавство, мой юный гость?
— Мне кажется, что, вопреки вашим утверждениям о небытии дьявола, сами вы убеждены в его существовании. Вы верите в Дьявола.
Его светлость улыбнулся Клермону с истинным дружелюбием и сердечностью.
— Не могу сказать, что вы сильно заблуждаетесь, милый Арман, но всё же вы не правы. Подлинной веры в дьявола я не имею, хотя в существовании его, и вправду, почему-то не сомневаюсь.
Этьенн рассмеялся, покачивая головой, но Клермон понял герцога.
— Стало быть, вы не сомневаетесь и в бытии Божьем?
— Вы умный мальчик, мсье де Клермон. Быть существующим имманентно как миру, так и Богу, но лишь в Боге бытие совпадает с сущностью, потому и говорится, что Он — подлинное бытие. В отличие от Бога, все прочее лишь наделено бытийной потенцией. То есть бытие некоторых вещей не необходимо, они могут быть, а могут и превратиться в прах. А поскольку полного совпадения бытия с сущностью у отдельных компонентов мира нет, то и весь мир может быть, а может и не быть, ибо он не необходим, а лишь возможен и случаен. Наконец, очевидно, что и существуя, мир существует не сам по себе, а благодаря чему-то иному, чье бытие тождественно сущности, и это — Бог.
— Да, — согласился Арман, — это и есть метафизическое ядро всех доказательств бытия Бога Аквината.
— Верно. Но есть и проблема зла. Если бы не было Бога, нельзя объяснить природу добра. Но если есть Бог, то откуда зло? По Аквинату, исток зла — это свобода рациональных существ, не признающих своего родства с Богом. Зло в неподчинении Богу, утрате связи и памяти о фундаментальной зависимости от Него. Корень зла — в порче духа и в свободе, как автономии от Бога.
— Да, это верно, — твердо заметил Клермон. — Августин утверждал: «Не тем человек сделался похожим на дьявола, что имеет плоть, которую дьявол не имеет, а тем, что живет сам по себе, то есть по человеку. Ибо и дьявол захотел жить сам по себе, когда не устоял во истине… Когда человек живет по человеку, а не по Богу, он подобен дьяволу».
— Но и без святого Фомы и блаженного Августина здравый смысл подсказывает нам: если была изначальная цель — создание мира, — она пребывала в ком-то, чему присущи признаки личности. Нет стремления без стремящегося, как нет слова — без говорящего. Если есть порча духа — кто-то должен был воплотить её первым. Поэтому-то дьявол и должен существовать. Новоявленные мыслители с презрением отвергают мудрость тысячелетий, сами не умея объяснить ничего. Тем же, кто действительно умеет думать, очень трудно размышлять о мире, где нечто возникает из ничего по своей прихоти, причем, непонятно, откуда оная прихоть взялась, вода все обильней льется из пустого бочонка, не имеющего дна, мироздание все расширяется, и совершенно непонятно, кому нужна вся эта неизвестно кем затеянная канитель… Потому-то сегодня в разговорах о Высшем так много презрения и высокомерной гордыни, и так мало ума и весомых аргументов. Лет через двести, помяните моё слово, эти глупцы по здравом размышлении поймут, что в устройстве мира они не понимают и пяти процентов…
Этьенн слушал внимательно и вдумчиво, по-настоящему вникая в каждое слово. Он перестал вставлять реплики в разговор и молчал. Зато Арман казался изумлённым.
— Стало быть, бытие дьявола доказывается только через бытие Бога, а значит, дьявол не заинтересован в росте числа атеистов?
Герцог улыбнулся.
— Вы удивитесь, мсье де Клермон, но это не так.
— Я понял, — неожиданно взорвался Этьенн.
— Вот как, дорогой племянничек? И что же именно? — герцог мягко раскачивался на оттоманке.
— Если зло в утрате связи с Богом, в порче духа и в попытке освободиться от Бога, то уж в чём-в чём, а в атеизме дьявол кровно заинтересован! Что есть атеизм как не свобода от Бога? Тем более, что собственное бытие дьявола зависит совсем не от людских доказательств его бытия. Ему, должно быть, плевать — верю я в него или нет.
Герцог поднял брови и внимательно посмотрел на Этьенна, потом перевёл взгляд на Клермона.
— Что вы скажете, Арман, об этом аргументе?
Тот не спорил.
— Его сиятельство, кажется, прав. Человек, не верящий в Бога, лишает себя вечности, спасения и смысла жизни, и это по бесконечной любви к нам Господа, тягостно Ему, но едва ли это огорчает Дьявола. А какой-то богослов сказал когда-то, что величайшую победу одержит Дьявол тогда, когда уверит мир с собственном небытии. Я это понимаю… В веках по-разному относились к дьяволу, но все решала любовь к Богу… Да, дьяволу, действительно, удобнее… не существовать.
— Да, юноши, я не разочарован. — Герцог улыбнулся. — Ну а теперь, если не возражаете, обсудим меню на завтра? Я полагаю, подойдёт фуа-гра, паштет из павлина и шо-фруа из ржанок, пюре из спаржи, консоме а-ля Делиньяк, сосиски из кроликов с трюфелями, ньоки из пармезана, рейнские карпы а-ля Шамбор, седло косули по-английски, куры по-маршальски, вина — Мерсо, Шато д'Икем, Шамбертен, Леовиль. Есть возражения?
Возражений не было, но Этьенн, которого неожиданно увлекла их беседа, поинтересовался у герцога, как менялись взгляды на дьявола в веках? Известно ли это его светлости? Герцог бросил на графа задумчивый взгляд, и тепло улыбнулся. Демонология — это предмет его давнего и глубокого интереса, заверил он мсье Виларсо де Торана.
— Изначально ортодоксальная демонология придерживалась неверных взглядов на тварный мир, — начал он, — не оставляя дьяволу никакого простора для творчества, в трудной проблеме происхождения зла ссылаясь на книгу Исаии: «Я Господь, и нет иного. Я делаю мир и произвожу бедствия». Церковные соборы осудили тех, кто говорил, что дьявол «dicit eum ex tenebris emersisse», сиречь, поднялся из тьмы и не имеет себе творца, но сам есть начало и субстанция зла. Но, отказываясь видеть в дьяволе самостоятельный принцип, параллельный с божественным, ортодоксальная демонология тем не менее сохранила параллелизм в организации инфернального мира, и дьявол воспринимался единым со своими адептами. «Единое тело — дьявол и все неправедные», говорит Григорий Великий в «Моралиях», вы, разумеется, читали. — Арман кивнул, а его сиятельство сделал умное лицо. — Тем не менее, дьявола тогда не особо боялись, он фигурировал на подмостках в качестве шута, ужасного господина или дурака.
Дьявол следующих времён — в богословии Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквината и Петра Ломбардского, из живой фигуры искусителя стал отвлеченной аллегорией зла. В трактате «О падении дьявола» Ансельм говорит, что причина зла — свободная воля дьявола, ищущая собственного счастья вне божественного порядка, — причем волеизъявление дьявола не имело никакой причины — nulla causa praecessit hanc voluntatem — было абсолютно свободно. С этим я готов согласиться.
В более поздние времена вдруг укореняется вера в несомненную физическую реальность чёрта, из аллегории он превращается в кровавого тирана, Палача Бога, преступления которого необъяснимо жестоки. Ульрих Молиторис в «Диалоге о ламиях и женщинах-прорицательницах», обожаю эту книгу, Жан Боден, Дельрио, Николо Реми нисколько не сомневались в способности дьявола вмешиваться в реальность, что проявлялось в полетах ведьм, обольщениях инкубов и суккубов и прочая, протестантские же теологи занимали в этом вопросе умеренную позицию: Лютер отрицал полеты ведьм, но в инкубов и суккубов верил. Ну, ещё бы ему не верить… — Герцог почесал кончик носа.
Двести лет назад, — продолжил он, — веру в дьявола как материальную силу вновь стало вытеснять представление о дьяволе как о творце иллюзий. В трактате Эразма Франциска «Адский Протей» дьявол именуется «обезьяной Бога» и «адским фигляром». Подобное воззрение на этот раз, в эпоху становления этого, как его, а, — герцог щелкнул пальцами, — «научно-рационального мышления», принимает медико-психологический характер: дьявол снова рассматривался как творец опасных галлюцинаций.
Потом люди решили, что стали умнее. Говорили о стремительном развитии естествознания… Я так и не понял, что они имели в виду, но вера в дьявола стала иссякать, хотя вернее было бы говорить о трансформации образа, адаптировавшегося к новому «рациональному» мышлению. Принцип этого мышления приводит меня в восторг — «не следует объяснять кознями дьявола те явления, которые можно объяснить естественными причинами», — дивная формулировка медика Мареско, жаль, умер, бедняга, так ужасно. Надо думать, что всё же от естественных причин… Впрочем, тут и Оккам постарался, конечно… Одновременно происходило и своеобразное очеловечивание дьявола, важным стало то, что сближало его с человеком: сходные помыслы, действия, желания… Это было уже совсем мило. При этом представление о дьяволе неуклонно тускнело, уступая место отвлеченной умозрительности; Христиан Томазиус в трактате «О преступлении магии» утверждает, что дьявол — существо невидимое, неспособное принимать плотское обличие, а договор с дьяволом — сказки ведьм… Дальнейшая участь дьявола, боюсь, драматична — он станет литературным персонажем, превратившись в существо плотное, бессильное и едва ли существующее…
Ударил гонг к обеду. Этьенн подняв глаза на герцога, удивился. Теперь и ему тот показался куда старше. «А ведь ему далеко за шестьдесят», — с удивлением подумал он. Клермон же осторожно поинтересовался у его светлости, ему показалось, или герцог действительно довольно пренебрежительно относится к рациональности новой науки и к учёным?
Они шли по мягким коврам коридора в обеденный зал.
Герцог изумился. Почему? Никто так не забавен, как учёные. Вы не слышали этой очаровательной истории? Она широко разошлась в Париже. Когда под Аустерлицем пал генерал Морленд, император решил, что его тело должно покоиться в фундаменте памятника Дома Инвалидов. Но врачи не имели на поле сражения ни времени, ни необходимых мазей для бальзамирования тела, и оно было помещено в большую бочку с ромом, которую перевезли в Париж. Однако сооружение памятника задерживалось, и тело генерала ещё находилось в одном из залов Медицинской школы Парижа, когда в 1814 году Наполеон потерял империю. Через некоторое время бочка была вскрыта; ко всеобщему удивлению, ром способствовал росту усов генерала Морленда, которые теперь спускались ниже пояса; в остальном тело прекрасно сохранилось без каких-либо изменений! Но семья получила его для захоронения в семейном склепе только после судебного процесса, — родственникам пришлось вести тяжбу с учёным-медикусом, который хотел сохранить труп как редкий научный экспонат! К счастью, ему не удалось настоять на своём. А если бы удалось?… Что за судьба — гнаться за славой, умереть героем — и всё для того, чтобы какой-то одержимый натуралист поместил тебя потом в своём пыльном музее между чучелами крокодила и дикобраза!.. Но каков энтузиаст? Как же не любить таких забавников-то? — недоумённо вопросил его светлость. — Кстати, если теперь, как я понимаю, научно доказаны столь целебные и животворящие свойства рома, не заказать ли его на ужин?
Молодые люди улыбнулись и не возразили.
Глава 11. В которой мсье Клермон случайно слышит весьма неприятный для себя разговор, а потом видит на стене новую надпись, расшифровывая которую, несколько лукавит…
…В тот вечер Клермон, совершив короткую прогулку по окрестностям замка, имея в своем распоряжении лишь милю парка, решил, как обычно, провести вечер в библиотеке. Он влюбился в собрание его светлости. Это было сказочное богатство — времена, казавшиеся призрачными, оживали на ветхих свитках ломких папирусов, потрясающей сохранности пергаментах, проступали на полустёртых текстах старинных палимпсестов. Арман помнил о совете, данном его светлостью — найти жития святого Этьенна. Последняя, самая высокая полка на тринадцатом стеллаже. Советовал герцог найти что-то и на седьмой полке стеллажа. Но его постоянно что-то отвлекало — то редчайшая рукопись Парацельса, то свиток песен трубадуров двенадцатого века…
Лишь почти две недели спустя он, наконец, добрался до тринадцатого стеллажа, находящегося у самого камина. Стремянка стояла неподалеку, но была столь массивна и тяжела, что он с трудом смог придвинуть её к полкам. Арман замер, тяжело дыша, и неожиданно услышал слова — отчетливые и ясные. Он обернулся — но у входа никого не было. Тогда подошёл ближе к камину, и голоса зазвучали ещё громче. Он понял, что разговаривали за соседней стеной, около камина, а общий с библиотекой дымоход доносил до него беседу. Он усмехнулся, поняв, что слышит Сюзанн и Этьенна, хотел было отойти за свитком к стеллажу, но тут вдруг прозвучало его имя, и он прислушался.
«Все дни — в библиотеке, все вечера с книгой, все ночи — в собственной постели. Ты, право, уподобляешься этому анахорету Клермону, Тьенну. Странный мальчик, кстати, ты не находишь? Он француз?» «Склонен думать, что да, дорогая, и, судя по словам его светлости, ты же слышала, — очень хорошей крови» «Он либо болен, либо неполноценен. Рэнэ сказал, что он вообще не знал женщин? Это правда? Что за ущербное существо…» «Эта ущербность легко преодолима, Сюзон…»- слегка пьяный голос Этьенна был ленив и расслаблен. «Ладно, это пустяки. А что Лоретт? Затянувшееся девство болезненно влияет на рассудок, и другой бы, видя, как ей не по себе, повёл бы себя, как настоящий дворянин: сразу же изнасиловал бы её. Но ты, как я понимаю, хочешь, чтобы малютка исчахла от неразделённой любви?» «Ты будешь смеяться дорогая, но именно так и будет. Я прекрасно знаю, что найду между её ног, и это меня не занимает. Мне плевать, какой я дворянин. Пугать её «прелестного ежика» мощью своего скипетра, как выразились бы поэты галантного века, я не намерен. Не хочу. Это ведь ты меня искусила, негодница, посоветовав вообще ни единым словом с ней не перемолвиться и я, трезво всё обдумав, с тобой согласился. Впрочем, может и потешусь напоследок, не знаю. Ну, а что твой дорогой Файоль? Судя по всему, тебе все удалось, не так ли? Что дальше?» «Не знаю, дорогой, но полагаю, что тот, чья нога попала в капкан, будет, по меньшей мере, всю жизнь хромать, ты же понимаешь… Кончай пить, Тьенну, ты просто набираешься!» «Я не пьян, просто хороший коньяк. Но к Файолю ты жестока, дорогая…» «Ты скажи ещё, что сострадаешь идиоту, Фанфан» «Почему нет? Не мучь его, на него же смотреть жалко…» «Что за вздор ты несёшь, дорогой?»
Разговор прервался, где-то вдалеке глухо хлопнула дверь.
Клермон почувствовал себя дурно. Брат и сестра не сказали ничего, чего он не понимал. Сюзанн была ему безразлична. Он давно уразумел, что запросы подобной девицы намного превосходят его возможности, а теперь понял, что ее возможности намного превышают пределы того, что он считал допустимым. Но Этьенн…
Это была боль окончательного разочарования.
Клермон поймал себя на болезненном чувстве горестной утраты. В этом человеке была привлекавшая его… глубина. Он не был поверхностным циником или пустым болтуном, в нём чувствовалась серьёзность и напряженность исканий, но человеку с такой душой, что до конца открылась Клермону в этом коротком разговоре, никогда не найти Истины. Дух Святый освящает любую воду — и морскую, и речную, и даже болотную. Но моча не освящается никогда. Этьенн был хладнокровным негодяем. Умным, глубоким негодяем.
Человеком бездны.
Распахнув окно и несколько минут вдыхая прохладный воздух, Арман чуть пришёл в себя. На минуту у него возникла мысль предупредить Файоля, но о чём? Рэнэ распутен, и едва ли его можно развратить ещё больше. Лоретт не угрожает иная опасность, кроме как исчахнуть от вздорной страсти. Он махнул рукой. Что за дело ему, в самом-то деле, до всех этих людей, с которыми его случайно свела судьба, и каждый из которых пойдёт по жизни своим путём, совершенно отличным от его собственного? Кто поставил его судить их, вмешиваться в их жизнь, вообще, — задумываться о них? Он подумал об Элоди и погрустнел. Мысль о том, что её жизненный путь будет лежать в стороне от его путей, не успокоила, но надавила на душу свинцовой тяжестью. Он сжал зубы и вздохнул. У него свой путь…
Не думать о ней, не думать…
Но как совместить слова де Фонтейна и его мысли? Любить Господа — значит, любить совершенство. Он понимал это. Он считал, что все, что случилось с его семьей, хоть и горестно, но переносимо, и никогда не ставил свои невзгоды в упрёк Господу. Это испытание. Он вынесет, он сможет. Эта внутренняя уверенность, как заметил он в последнее время, подкреплялась и свыше. Он незримо усиливался, обретал способность — ту, о которой говорил Учитель, — любить Бога. Но как можно любить этих людей — пустых, суетных и откровенно порочных?
Это понимание не укладывалось в нём.
За то время, что они провели в замке, луна с новолуния сильно выросла, и сейчас сияла в небе, как золотой луидор. Услышанный разговор испортил ему настроение, Клермон понял, что совсем не хочет знакомиться с древними житиями. Интересно, полнолуние сегодня? Он поспешно покинул библиотеку и, стараясь никого не встретить, вышел в свежий ночной сумрак. У входа багровый свет венецианских фонарей обливал отблеском отдалённого и размытого сияния черные тени сумрачных скал, возвышающихся за замком, и тёмные прогалины между деревьями. Клермон поспешил к скамье, окружавшей массивный дуб, и тихо присел на неё. Река, и вправду, стала тише, уровень воды чуть упал. Над сонными горными уступами висела багряно-желтая луна, напоминавшая теперь не монету, но бокал, наполненный белым вином. Где-то в запруде, в ряске, кричала лягушка и по тени тростника пробегала едва заметная дрожь. Заросли искрились росой и светляками, за деревьями то и дело ухали совы, волнуя тёмный воздух глухими крыльями.
Тихий возглас вспугнул тишину. Клермон увидел чёрную тень, отшатнувшуюся было от него, но тут же и замершую. Перед ним была мадемуазель Элоди. Она быстро пришла в себя и извинилась, что напугала его. «Это он должен просить прощения», поднявшись, заметил он. Элоди, должно быть, ходила купаться в маленькой запруде за Дальней Башней — волосы ее были распущены. Арман не ожидал, что они столь длинны и густы. Это были не черные волосы, не волосы цвета красного дерева, которыми наделены женщины Рафаэля и Карло Дольчи, по окраске они напоминали ягоды созревшей ежевики, и он заметил, что не может отвести от них глаз.
В свете отдалённого фонаря лицо девицы показалось Клермону сказочно красивым, рассеянное сияние облило впалые щеки и тонкий профиль золотисто-пурпурным нимбом. Никогда Элоди ещё не казалась ему такой прекрасной. Но восторг только усилил его всегдашнюю робость, он застенчиво, досадуя на себя, предложил её присесть, и Элоди, промедлив мгновение, опустилась на скамью. Арман сел рядом с ней. Никогда ещё она не была так близко, и — хоть он ещё не понимал этого, но тайна мира, тайна любви была рядом…
Несколько минут оба молчали, это молчание и тихое, безмолвное присутствие Элоди волновало Армана до дрожи, стоило ему посмотреть на неё, он чувствовал нервный трепет, пробегавший по жилам, она же не отводила глаз от замка, и была, казалось, поглощена своими раздумьями. Он чуть расслабился. Темнота скрадывала убожество его наряда, он почувствовал себя равным себе, одновременно внезапно осознав то жалкое состояние, в котором находился. Смирение — это раздавленное самолюбие, говорила его бабка. Смирение — это понимание своего подлинного места в мире, когда это понимание не омрачено дурью гордыни, говорил отец. Смирение — это высота духа, говорил де Фонтейн. Арман не понимал, что с ним происходит, но сейчас почему-то ощутил ущербность своего смирения. Оно не было ни высотой духа, ни отречением от тщеславия, ни пониманием своего места в мире. Клермон чувствовал себя смешным и ничтожным, особенно вспомнив, как она всегда опускала глаза при встрече, стыдясь смотреть на его с трудом скрываемую нищету. Он потому и просиживал, понял он вдруг, целыми днями в книгохранилище, чтобы не попадаться ей на глаза, не ощущать унижения рядом с другими мужчинами. Всё это время её образ то и дело всплывал в его памяти, но он усилием воли подавлял его. Стоило ему вспомнить, как выглядел он рядом с разодетым в пух и прах Рэнэ, как на душе темнело, и воспоминание уходило.
Но сейчас, когда Элоди столь неожиданно возникла рядом, Арман почувствовал себя одновременно беззащитным и взволнованным. Неясные, давно подавляемые желания проступили и растревожили душу. Все его мысли сосредоточились на ней. Отчего она так грустна? Клермон поначалу думал, что её снедает ревность к сестре, и часто замечал, как она следила за Лоретт встревоженными и больными глазами, но как-то случайно заметил её взгляд, устремлённый на Этьенна, и ему показалось, что в глазах её было смешение боли, недоумения и раздражения. Точнее он этот взгляд истолковать не мог. Что с ней? Он ощутил новый приступ робости. Она медленно повернула к нему голову, то ли прочтя его мысли, то ли почувствовав прилив его теплого внимания. Он, заметив взгляд, устремлённый на него, сконфужено улыбнулся, и нерешительно заговорил:
— Вас что-то тревожит, мадемуазель?
Элоди, серьёзно и сумрачно взглянув на него, недолго молчала, потом неожиданно спросила:
— Вы когда-нибудь любили, мсье де Клермон?
— Любил? Вы имеете в виду… женщину? — он был смущён откровенностью вопроса, но взглянув на неё, не заметил в её лице ни любопытства, ни пытливости, и тогда ответил, — я беден, мадемуазель, и не могу позволить себе…
Она закусила губу и судорожно сжала руки.
— Я не об этом. Так трудно понять… Я ещё не знала любви, но если то, что происходит с Лоретт — любовь, то будь она проклята! Это дьявольское наваждение. Она совершенно потеряла себя, ей нет дела ни до чести рода, ни до своей добродетели, ни до репутации в глазах света. Если бы он сегодня поманил её — она бы пошла, и ничего не остановило её! — в голосе мадемуазель Элоди вдруг зазвенели осколки разбитого хрустального бокала. — Что это за сила, заставляющая забыть и честь, и совесть, и женское достоинство? Ведь она лишь раз увидела его!! Спору нет, он красив, но вы ведь тоже красивы. Почему же Лора потеряла рассудок?
Клермон почувствовал, что его заливает новая горячая волна смущения и трепета, опустил голову. Но её слова не только смутили, но и польстили ему, тем более, что вырвались у неё совершенно случайно. Сам Арман не считал возможным даже сравнивать себя с графом Этьенном. Неожиданно он вспомнил разговор братца с сестрой, и поморщился.
— Я не думаю всё же, мадемуазель, что вашей сестре угрожает опасность. Мсье Виларсо де Торан….- он умолк.
— Настоящий дворянин, вы хотите сказать?
— Нет, — это резкое слово вырвалось у него раньше, чем он подумал.
Элоди впилась в него огромными, расширившимися глазами, прошептав что-то или просто пошевелив губами — он не понял. Клермон сожалел о вырвавшихся словах, и понимая, что она ждёт объяснений, почувствовал себя неловко. Передавать подслушанный разговор? Её остановившийся, тревожный взгляд жёг его, и неожиданно Арман ощутил странную решимость. Какого чёрта? Он пытается быть порядочным по отношению к хладнокровному совратителю Этьенну и потаскухе Сюзанн — и не хочет быть таковым для их жертв? Что есть благородство? Впрочем, если бы Арман отдавал себе отчёт в своих чувствах, понял бы, что причины неожиданной откровенности — вовсе не соображения благородства. Она назвала его красивым…
— Сегодня в библиотеке я, стоя у камина, случайно услышал разговор брата и сестры, — Клермон лаконично, в скупых и сдержанных словах, передал ей содержание услышанного, по странной прихоти передав то, что Сюзанн говорила о нём, но то, что было сказано о Лоретт, просто скупо обозначил, не вдаваясь в пошлые детали.
Элоди сидела молча, не шевелясь, лишь чуть приметно сжав руки. Она удивилась, что Арман, передавая слова Сюзанн о его девственности, болезненно поморщился, но ничего не сказала. Долго молчала. Наконец тяжело вздохнула.
— Вы, видимо, смягчили то, что услышали? — она вопросительно взглянула на него, и в его новом смущении увидела подтверждение своей догадки, — растленная беззастенчивость их речей ничто перед мерзостью их деяний. Мне говорили, что этот человек — чудовище, но, глядя на его поведение в эти дни, я не находила ничего предосудительного, кроме низких суждений, что он ронял поминутно. Но теперь все становится понятным.
— По крайней мере, он не погубит её…
— Погубит.
Без надрыва, с ледяным спокойствием, сказанное Элоди испугало Армана.
— Но почему, мадемуазель?
— Потому что она теряет рассудок. Что бы он ни сделал — он погубит ее. Погубит любовью или равнодушием — это всё равно. Впрочем, я не настолько пристрастна… Он не виноват. Лора просто сходит с ума. Это помешательство. Помните, в «Принцессе Клевской»? Героиня тоже поддается недолжной любви, но она ведь находит в себе силы отказаться от неё. Долг должен быть выше страсти. Впрочем, Лоретт читает другие книги… А вы читали Лафайет?
Арман читал этот роман. Сюжет его был прост. Очаровательная девушка, воспитанная добродетельной матерью, появляется при дворе и вскоре она выходит замуж за принца Клевского, — своей преданной любовью он вызывает в ней симпатию и уважение, но не любовь. Вскоре она встречает герцога Немурского, который страстно влюбляется в неё. Вначале принцесса не сознает своих чувств, но, в конце концов, понимает, что влюблена. Мать её умерла; она сама должна справиться со своей бедой. Тогда героиня решается на шаг, который она сама признает «необычным» для женщины в ее положении — не называя имени герцога, признается мужу в любви к другому. Хотя ее муж, человек высокого благородства, по достоинству оценивает душевный порыв героини, в результате все трое несчастны: и героиня, и муж, и герцог, начавший понимать безнадежность своей страсти. Однако близится развязка: донос слуги о том, что герцог тайно проник в сад пригородного дома героини и провёл там ночь, потрясает мужа; он тяжело заболевает, и хотя за несколько дней до смерти уверяется в том, что жена его невинна, он не в силах сопротивляться болезни и умирает. Принцесса не может не винить себя в его смерти. После того, как несколько утихает острота ее горя, герцогу удается встретиться с нею; пылая любовью, он просит принцессу стать его женой. Но хотя теперь она свободна и прямо признается герцогу, что любит его, она ему отказывает. Размышления героини убедили ее в неустойчивости счастья, основанного на страсти, она не уверена в постоянстве чувства возлюбленного и не может забыть, что и он является причиной смерти ее мужа, памяти которого, в искупление своей собственной вины, она хочет остаться верной. Она оказывается правой — страсть герцога гаснет — он, и вправду, влюбляется в другую.
Сам Арман считал, что при жизненности изложенной фабулы в произошедшем виноваты все трое — и муж, женившийся на нелюбящей его девице, и принцесса, будучи замужней женщиной, поддавшаяся любви к герцогу, и герцог, будучи другом принца, и почувствовавший склонность к его жене, но продолжавший искушаться. Изначально заложенное дисгармоничное соединение людей не могло не обернуться трагедией. Нельзя становиться перед алтарем без любви — это кощунство, и за него пришлось заплатить героине. Но героиня выстояла — не потеряла ни достоинства, ни чести, — сказались сила духа и здравомыслие.
Элоди с интересом выслушала суждение Армана, но расстроилась ещё больше. У Лоретт не было ни силы духа, ни здравомыслия, — и слова мсье де Клермона завуалировано подтверждали её опасения.
Арман почувствовал, что его пробрало холодом, и она тоже странно поежилась. Не сговариваясь, они поднялись и пошли к замку. Клермон то и дело бросал на неё осторожные взгляды. Рассеянный свет фонарей скрадывал её всегдашнюю бледность, розовил щеки и наделял огромные глаза загадочным, мерцающим блеском. Арман не хотел заходить в замок и чуть помедлил у входа, пытался занять её разговором, но слова вдруг замерли на его губах.
Над входом снова появилась надпись, отливавшая кроваво-бурой тенью в потоке тусклого фонарного света. Элоди проследила направление его остановившегося взгляда и ничего не сказала, когда он, вытащив записную книжку, скопировал надпись. Она содержала всего несколько слов. Он привычно перевернул страничку на свет и прочёл: «Vae aetati tuae, juvenca fornicaria, desperata Stygios manes adire…»
— Что это значит?
— Это… несколько неоднозначно, — Клермон смутился. — Это о смерти… Кто-то погибнет.
Элоди молчала долго, потом спросила, почему он перевернул страницу на свет? Он неохотно объяснил, что в день их приезда он заметил у входа другую надпись, которая потом пропала, и рассказал, как удалось разобрать ее. Было заметно, что его слова обеспокоили Элоди, она не могла понять как подобные надписи могли вдруг исчезать и появляться, но гораздо больше она опасалась смысла второй надписи.
— Такая длинная надпись… вы перевели все?
Он заверил её, что да… это устойчивое выражение… Stygios manes adire, значит, умереть…
Элоди снова окинула его внимательным взглядом, улыбнувшись, заметила, что его знания показались ей весьма значительными ещё в время его лекции этому невежде Файолю, и спросила, зачем мсье Файоль пошутил на его счёт? Арман не сразу её понял, опять растерявшись от её лестных слов в свой адрес, но сообразив, что она спрашивает о том, что сказала Сюзанн, пожав плечами, заметил, правда, не поднимая на неё глаз, что Рэнэ не пошутил, а просто смеялся. Он всегда смеется. Ему смешна не только невинность, но и многое другое. Элоди кивнула. Да, мсье де Файоль действительно был смешлив — он смеялся над честью и совестью, над церковью и Господом. Они вошли в холодный сумрачный холл. Элоди повернула к лестнице и тихо ушла, и Арман Клермону показалось, что где-то зазвенели тихие струны, будто из маленькой часовни донеслись сдержанные, постепенно замирающие хоралы…
Глава 12. Повествующая о пьяных откровениях графа Этьенна, о любовных искушениях мсье Клермона и о некоторых весьма опасных экспериментах сестрицы его сиятельства
Арман солгал Элоди, но не согрешил, ибо солгал… по причине скромности. Он просто постыдился перевести вслух появившуюся надпись. «Горе тебе, молодая блудница, обреченная умереть…» Надпись изумила его, и произнести подобное при Элоди Клермон просто не решился.
Сам Арман подумал, что эти странные надписи просто бессмысленны.
При этом, ночной разговор с Элоди странно растревожил Клермона, и в то же время вызвал состояние неясного, гнетущего томления. Мадемуазель затронула в нём какие-то давно заглушённые струны. Он то и дело вспоминал её лицо, слова и жесты. Она назвала его красивым и образованным… Но перебирая в памяти подробности этой встречи, он неожиданно вспомнил сцену в столовой, где мадемуазель Элоди впервые увидела его сиятельство. Клермон помнил её изумлённый взгляд. Что, если она всё-таки просто влюблена в Этьенна и ревнует его к сестре? Ведь именно это ему и показалось, когда он увидел её, наблюдающей за игроками в серсо. Не этим ли объясняются её резкие слова на его счёт?
Ему стало тоскливо.
Клермон снова вспомнил графа. Вздохнул. На сердце стало ещё тяжелее. Мир действительно разваливается, Фонтейн прав. В нём иссякла любовь. Он потерял смысл. Арман замёрз, был подавлен, время приближалось к полуночи, но спать ему не хотелось. Привычной уже дорогой Арман направился в библиотеку. Дверь бесшумно отворилась, он прошёл по ковровой дорожке мимо стеллажей и, повернув к камину, остановился в изумлении.
На оттоманке в брюках и белой шелковой рубашке, расстегнутой до пояса, сидел Этьенн. На столике перед ним стояли свеча, бутылка коньяка Delamain и бокал. Если бутылка была непочатой и он сам открыл её, то, судя по уровню спиртного, его сиятельство должен быть пьян до положения риз, подумал Клермон.
На лице Этьенна отсутствовала всегдашняя умиротворенная улыбка, глаза налились кровью, черты обострились. Он уставился в камин, где дотлевали обугленные головешки, временами запрокидывал голову назад и словно засыпал. Клермон молча смотрел на него, и решил, что утром, на свежую голову, обдумает, как лучше свести на нет отношения с этим человеком. Арман не остановился бы перед тем, чтобы просто рассказать Этьенну обо всём и попросить впредь не затруднять себя общением и не числить его среди своих знакомых, но сейчас, в том состоянии, в котором находился его сиятельство, любые объяснения были бессмысленны. Тем временем Этьенн неожиданно заметил его присутствие. Несколько мгновений глаза его фокусировались на фигуре Клермона, потом лицо Виларсо де Торана исказила гримаса, принять которую за улыбку было трудно.
— Почему вы не спите, Клермон? Ночь… — Он снова отвернулся к огню, — надо спать. — Его сиятельство с трудом выговаривал слова.
Арман собирался и вправду уйти, но неожиданно услышал слова, заставившие его остановиться.
— Знаете, я думал о том, что вы сказали. Приобщение к святости… Девственность… — Он снова поднял на Клермона тяжелый взгляд пьяных глаз. — Сядьте. Я расскажу вам. Я расскажу вам… почему я вспомнил об этом? — он, опустив голову, уставился в пол, и его волосы на мгновение закрыли лицо. — В конюшне моего дяди был жеребец — Фараон. Вороной красавец, безумный и бешеный. Мне было двенадцать с небольшим, но дядя разрешал мне садиться в седло, а к тому же пообещал, что через год подарит мне Фараона. Я помню тот день… Я гонял по склонам, то и дело подымая коня на дыбы — просто от восторга, переполнявшего меня… Деревья проносились мимо, в небе скакало солнце. Я был разгорячён, вспотел и, передав Фараона конюху, пошёл к себе. Меня ждала ванна, и некоторое время после я просто лежал, отдавшись усталой истоме…
Клермон против воли внимательно слушал, несмотря на отвращение, которое испытывал к этому человеку после подслушанного разговора с его сестрой. Что-то мешало ему уйти.
— …Мне хотелось спать. Просто спать. — Граф умолк и напрягшись, снова наполнил бокал. — Она появилась из-за прикроватного полога… — Этьенн надолго замолчал.
— Ещё один суккуб?
— Ха-ха, — Этьенн невесело рассмеялся, — если бы… Гувернантка моей сестры. Я… я смутился. Да. Я смутился, ощутил неловкость, попытался прикрыться. Она присела рядом… Я онемел и сжался. Я, кажется, был тогда… как это? Застенчив? Признаки проступавшей во мне мужественности тревожили и пугали меня, но то, что сделала она… Как вы сказали? «Душа ощущает неладное, точно переступаешь через запретную черту…» Да, казалось, она колдует. После я был на черной мессе. Похоже. Она творила непотребное, я понимал, но… Я до глубины прочувствовал упоительную мерзость наслаждения. Катрин была, как я понимаю теперь, воплощением распутства… Через неделю я знал женщину как свои ладони. Тайн больше не было.
Клермону стало неловко. Граф был пьян — и завтра он пожалеет о своей пьяной откровенности, но Арман не мог прервать его, — губы не слушались, язык прилип к гортани. Этьенн не лгал — это было бесспорным, как темнота за окном.
— Но, знаете, я утратил… нет, не то. Я больше ничего не стыдился и не мог радоваться. Дядя Франсуа подарил мне Фараона. Но он был мне не нужен. Я не обрадовался. Да, я перестал радоваться.
Этьенн почти опрокинул в себя бокал.
— Потом… моё образование довершил в Париже мсье Жером Шаванель… Теперь женщиной делали меня, и я входил в мужчин как в женщин. Потом путти, тутти-фрутти… Изыски и утончённости.
Теперь Клермон и не помышлял о том, чтобы оставить графа.
— Как ваш отец допустил подобное? Почему вас окружали такие люди?
— О, отец погиб, когда мне и шести не было. Нас воспитывал дядя.
— Он или глупец, или хладнокровный негодяй.
Этьенн изумился.
— Почему? Франсуа? Он не глуп. Он добр и щедр… Почему негодяй?
— Потому, что если бы вам доверили детей, чье благополучие вам было бы небезразлично, вы уж наверняка внимательнее отнеслись к рекомендациям тех, кто будет воспитывать их. Кто отослал вас в Париж к этому педерасту? Тоже дядя? И, видимо, ваша сестра побывала в тех же руках?
— …Да. Но это… Бог с ним…
— Вас до инцеста не довели? — Клермон не удивился бы утвердительному ответу.
Этьенн на мгновение задумался, но потом пьяно помотал головой.
— Да как-то… Нет. А, впрочем, приди это в голову Шаванелю… Почему вы назвали его педерастом? Он зажигал свечу с обоих концов… К чему это я всё? А, да. Я как раз подумал — этим вечером… Это пошло от вас. Я думал, что меня приобщили к любви. Но невесть откуда всплыло дурацкое слово… отдающее кадильным дымом и сумраком церковных крипт, погостами да колумбариями. Тлен. Растление. Меня, что, растлили?
Клермон облизнул языком сухие губы, с трудом сглотнул. Голос его прозвучал глухо.
— Да.
Этьенн откинулся на оттоманке. Глаза его слипались. Арман, понимая, что он не контролирует себя и плохо соображает, не хотел задавать интересовавший его вопрос, это было невеликодушно, но он был сбит с толку ужаснувшими его пьяными откровениями Этьенна, и чувствовал, что должен это понять. Ради Элоди.
— Стало быть, с Лоретт вы просто забавляетесь и тешите самолюбие? Или не хотите растлить её — как растлили вас?
Этьенн поморщился. Он, казалось, не до конца понял Армана.
— Я растлил стольких, что и счёт им потерял, Клермон. А эта… — он пренебрежительно махнул рукой, пожал плечами и с усилием заговорил отчетливее, — эта… Ничего не нужно. Нет радости — одна скука… Скука… головоломные вымыслы, разнузданные страсти, упоение мерзостью… выкидыши опытности, загадочные и противные, как внутренности насекомого… — монотонно бормотал он, — пошлятина, скучные повторы, безвкусица…Что со мной?… Жив ли Фараон? — его голова медленно опустилась на подголовник, рука бессильно повисла, почти касаясь пальцами пола.
Свеча погасла, и Арман почти ощупью выбрался из библиотеки. Также ощупью нашёл свою спальню, дополз до постели. Со странным остервенением сорвал с себя одежду и нырнул под одеяло. Он мечтал о сне, о забвении, как о высшей милости. Но глаза смотрели в ночь и не смыкались. Прохладные простыни холодили тело, но лоб горел, словно в тяжелой простуде. Где истоки зла? Он вспоминал лицо его сиятельства и стискивал зубы.
Да, тот правильно употребил это забытое слово. Но кто те, кто обратили в тлен, прах и пепел, душу мальчика, едва вышедшего из отрочества? Мир уже не распадался, он гнил, словно неизлечимый сифилитик… Ответят ли они за мерзости свои? Ведь живут и здравствуют, исказив и исковеркав душу и тело этого — изначально столь сильного, умного и благородного человека, превратив его в пошлого распутника, подлеца и просто — в животное. Клермон вдруг понял, что плачет, точнее, страшно першило в горле и резало глаза. Он ощупью, в темноте, нашёл на полке образ Спасителя. Прижал к груди, и снова заплакал. Теперь слёзы катились по щекам и грудь напряженно вздрагивала. Он не помнил, как провалился в сон, прикрывший его, как могильная плита.
Под утро Клермон увидел сон. Он лежал на правом боку, а рядом, на его предплечье, покоилась головка женщины с волосами цвета ежевики. Они были наги, и чресла их сливались. Её рука лежала там, где билось его сердце. Между ними, вздрагивая, как напряженные виноградные гроздья, колыхалась её грудь, маня его сжать губами сосцы. Стыда не было, но его затопляла пьянящая радость, сладкая истома, светлое ликование. Проснулся он от истечения семени, испуганно-радостный и потрясённый. Арман по-прежнему сжимал в руках образ Господа, и сон сразу показался ему кощунственным. Клермон устыдился произошедшего. Выскользнул из-под одеяла, поспешно набросил халат и, схватив полотенце, почти бегом устремился к пруду.
Холодная вода взбодрила и охладила его. Арман вылез, набросив халат на мокрое тело, и поспешил к себе. Часы на Дальней Башне пробили шесть утра. Замок ещё спал. Мысли его путались. Клермон пытался усилием воли убедить себя, что всё это — лишь фантом воображения, просто красота Элоди, столь победительно проступившая в эту ночь, её доброта и теплые слова — и ужаснувший душу рассказ Этьенна соединились в его ночном сновидении. «Procul recédant somnia et noctium phantasmata, hostemque nostrum comprine ne polluantur corpora…», бормотал он, но ловил себя на неискренности молитвы. Предутренний сон, несмотря на его скверну, манил к себе, вспоминался и нежил душу.
Клермон почувствовал появившуюся после этого сна необъяснимую связь между собой и Элоди, испуганно подумал, как он сможет встретиться с ней, — и не выдать глазами тайны этой связавшей их теперь близости? Ему казалось, что она тоже все поймёт — сразу и безоговорочно, и отторгнет его, возмущенная его мысленным посягательством.
Около восьми Арман Клермон вошёл в библиотеку. Отоманка была пуста, камин погас, но на маленьком столике около него по-прежнему стояла почти порожняя бутылка золотисто-янтарного коньяка Delamain и пустой бокал.
Эта ночь, — пьяное марево для Этьенна, сладострастное и мучительное искушение для Армана, тревожная и тягостная для Элоди, для Рэнэ де Файоля оказалась последней в череде томительных и бессонных бдений.
Беспринципность означает всего-навсего отсутствие принципов, но она ещё не предполагает наличия в душе гибельного и разрушительного зла. Однако зло, впущенное в душу, лишенную принципов, опоры на Бога, становится властителем её. Обостренная, почти медиумическая чувствительность и развитое воображение, перекипев в котле демонического искушения, начали убивать Рэнэ. Чрезмерная чувственность всегда чревата для души, а он был слишком слаб для сильных чувств. Файоль, в некотором роде был тайной для самого себя, двигался по жизни, словно в тумане, полагаясь на обманчивые советы интуиции.
И это теперь тоже убивало его.
Сюзанн околдовала его. Рэнэ познал немало женщин, но все они прошли через его душу, словно морские волны через прибрежный песок. Он начинал волочиться, испытывая похотливое желание, часто умом и красноречием покорял, иногда обольщал, иногда — уговаривал, чаще — просто довольствовался тем, что само шло в руки. Но теперь налетевший шторм просто смыл прибрежный песок, устлав песчинками морское дно. Рэнэ не понимал, что с ним, но ум, сердце, душа и плоть были вовлечены в безумный вихрь желания. Его восприимчивость и раньше охватывала все дурное и все доброе. Теперь и вовсе все перемешалось. Все утрачивало очертания.
Сюзанн весьма прозорливо понимая, что происходит, вначале хладнокровно упивалась своей победой, но потом — она просто наскучила ей, стала досаждать, вид трепещущего и изнурённого поклонника стал противен. Она не хотела его даже как забаву, даже на ночь. Разговор с братом, его совет сжалиться над несчастным она восприняла как шутку, — жалости она не знала.
Развращенная и утончённая, Сюзанн, в отличие от брата, не имела тревожащих того рефлексий, её душу не отравляли сомнения. Она прошла школу жизни бессовестной бестии Катрин Фоше и мерзавца Шаванеля, но вступив в жизнь, не имела поводов для недоумений и колебаний. Мир был именно таким, как говорила Фоше. Шаванель, научивший её не только изыскам в любви, но и некоторым секретам мадам Тоффаны и рода Медичи, нашёл в ней талантливую ученицу. Сюзанн внимательно слушала учителя, многое понимала с его слов, многое поняла и без слов. Её ум, изначально — ум поэта, испорченный и извращенный, становился теперь умом отравителя. Она научилась от мсье Жерома не столько знаниям, сколько умению мыслить, причём — совсем не по-женски. В последний год обучения Шаванель стал побаиваться Сюзанн и словно захлебываться в ней. Порой он просто пугался, слыша ее вопросы о приготовлении иных ядов, поняв, что переусердствовал. Он и раньше, как ни терял голову от наслаждения, вторгаясь своим мужским жезлом в ее лоно, всё же и в упоении сохранял осторожность, и никогда не был откровенен до конца. Сюзанн знала многое о приготовлении десятков эликсиров, но способ применения не проговаривался.
Вскоре, как ни пленяла его Сюзанн своим божественным телом, Шаванель предпочёл, чтобы она вернулась к мадемуазель Фоше, и под первым же предлогом избавился от неё. Удовольствия алькова, постельные шалости, инстинкт любви — всё это могучее основание жизни, но самосохранение — важнее.
Катрин Фоше, современная Ла Вуазен, помимо прочего, научила её использовать многочисленные афродизиаки — и ничего от своей питомицы не скрывала. Она была в восторге от Сюзанн, и ей, не отличавшейся прозорливостью и глубокомыслием Шаванеля, не приходило и в голову, что таланты девочки рано или поздно могут обернуться и против неё самой. У Фоше Сюзанн забавлялась, изготавливая забавные смеси из палочек корицы и зеленого кардамона, присовокупив к ним растертый свежий корень имбиря и щепотку шафрана, тщательно прокипячивая всю эту смесь в течение девяти минут на слабом огне, добавляя в неё после растертый корень женьшеня и тщательно растертых… А впрочем, какая разница, чем она забавлялась?
Но накал эмоций и неуравновешенность де Файоля, его стенания и жалобы, признания и мольбы неожиданно перестали досаждать Сюзанн, которой пришла в голову забавная идея. Ей захотелось испытать на ком-либо некоторые эликсиры, приготовление коих ей было известно — но действие довольно загадочно. Рэнэ вполне подходил для этой цели, и мадемуазель Виларсо де Торан, встретив де Файоля на лестнице одной из башен замка, куда бедняга забрёл в поисках своей пассии, неожиданно обнадежила своего преданного поклонника. Его чувство пробудило в её душе ответный жар любви, она, наконец, поверила в его любовь, и сегодня вознаградит его пыл…
Рэнэ побледнел — и упал к её ногам. Весь вечер он маялся и считал часы до полуночи. Неужели она не пошутила, и он, наконец, сможет насытить ставшую уже нестерпимой жажду плоти? Она будет принадлежать ему? Дверь была открыта. Он обомлел, увидев Сюзанн в полупрозрачных кружевах, колдующую над накрытым столиком и расслабился. Руки его тряслись от безумного желания, голова шла кругом и бокал чудесного вина чуть успокоил его. Его уже не хватало на слова любви и на признания, он был одержим и, словно в многодневной жажде, припал к ручью…
…Но он пил соленую воду, пил — и не мог напиться, и чем больше пил — тем больше жаждал. Рэнэ был пассивен — и предпочёл бы изнуряющей страсти — неспешные ласки, но вихрь чего-то яростного и разрушительно бушевал в нём, как пламя. Сюзанн была внимательна к любовнику, не отводила от него глаз, тщательно фиксируя время действия приготовленных снадобий, нежной рукой отводила порой объятия Рэнэ, незаметно прощупывая его пульс. Эффект эликсира Фоше превзошел её ожидания. Но сколько он выдержит?
Сюзанн каждый новый вечер удваивала дозу.
Глава 13. В которой Арман Клермон вновь обретает собеседника, а жалкое похмельное состояние его сиятельства заканчивается для него весьма неожиданно
Обнаружив в библиотеке доказательства того, что предшествующая ночная встреча не померещилась ему, Клермон хотел теперь продолжить разговор с графом. Но мсье Виларсо де Торан пил странно — и знал за собой эту странность. Вначале он просто наслаждался восхитительным вкусом коньяка, упиваясь смолистыми нотками экзотических цветов, потом — любовался светло-золотистым цветом напитка, приобретавшего в ладонях оттенок темного янтаря и старого золота, потом чувствовал слабость и истому, его сильно шатало — до того, что он почти терял координацию, но никогда спиртное не могло заставить забыть себя. Потому-то он и не пытался утопить тоску в вине. In vino — veritas? Скорее, profunditas. Коньяк расслаблял его, опускал в глубины самого себя, но не мог погрузить в забвение.
Забытье никогда не приходило.
Проснувшись на рассвете, он, как сквозь сон, помнил все же достаточно, чтобы горько пожалеть о встрече с Клермоном. Граф действительно был бесстыден — но только в отношении дел телесных. Обнажать душу? Весь день он избегал Армана, отводил глаза при случайных встречах, слишком явно искал уединения. Клермон понимал его, и не пытался нарушить поставленные графом преграды, по-прежнему испытывая к нему жалость и сострадание. Этьенн почувствовал и это — и ещё более отдалился.
При этом произошло ещё одно событие, замеченное Арманом. Мсье Виларсо де Торан около пруда, где его нагнала Лоретт, долго и серьёзно беседовал с ней, после чего мадемуазель д'Эрсенвиль ещё около часу оставалась на скамье возле пруда, остановившимися глазами озирая пространство над колышущимся рогозом и зарослями осоки, но явно не видя ничего. Клермон заметил, как к Лоретт подошла Элоди и взволновался. Ему снова показалось, что Элоди не может не понять его волнение из-за утреннего сна, посмотрел на неё испуганно и робко, но взгляд мадемуазель Элоди был внимателен и печален. Она сдержанно кивнула и чуть улыбнулась ему, Клермон ненадолго успокоился, но потом, отрешившись от ночной иллюзии, почувствовал странную пустоту в душе, словно потерял что-то бесконечно дорогое.
Сестры тихо беседовали, на прогулку вышла мадемуазель Габриэль, тут же показался и Дювернуа, вызвавшийся сопровождать её. Мадемуазель Виларсо де Торан, устроившись на качелях, о чем-то размышляла, уйдя в себя и явно не нуждаясь в собеседниках, Этьенн исчез, и Клермон решил вернуться в библиотеку.
Он потерял собеседника, был странно опустошён и взвинчен, при мысли об Элоди сердце наливалось тоской. Что с ним? Он… влюблен? Нет. Наверное, нет. Предутренний сон — следствие напряжения и тоски, одиночества и пустых мыслей. Она просто назвала его красивым, была внимательна, ничем не оскорбила и не задела его больного самолюбия. До этого Клермон, хоть и был потрясён изысканной красотой девушки, полагал, что никак не может претендовать на её внимание. Кто он, чтобы мечтать о предпочтении? Арман видел, что при встречах с ним она опускает глаза, точно ей стыдно видеть его поношенный сюртук и вообще неприятно смотреть на него, но эта последняя встреча показала, что он ошибался, и мадемуазель вовсе не питает к нему никакого презрения, но придерживается о нём мнения высокого и лестного. Это и породило — против его воли — предосудительные сны и мечты.
Арман Клермон резко взбежал по лестнице наверх, почти бегом добрался до книгохранилища, закрыл дверь и несколько минут стоял, прислонившись спиной к двери. Постепенно его дыхание выровнялось, боль смягчилась. Он торопливо влез на стремянку к верхней полке тринадцатого стеллажа. Книги — вот что даст ему подлинное забвение, покой, умиротворение. Он нашёл в библиотечном собрании на полках, содержащих гримуары, странный манускрипт, о котором сказал когда-то герцог — без названия и даты.
Вообще, коллекция книг по некромантии и колдовству была в Тентасэ не просто полной — она содержала ряд изданий, о которых Арман вообще никогда не слышал, а также ряд манускриптов, как похвастался ему герцог, просто уникальных. Здесь были «Великая книга» «Le grand grimoire», содержащая Ключи Соломона и Черную Магию всех адских сил Великого Агриппы, способных обнаружить все тайные сокровища и заставить повиноваться всех духов; в ней все магические искусства…, — огромная инкунабула в полный человеческий рост. Его светлость с улыбкой сказал, что листы книги алы, а буквы черные.
— Крепость ей придает личная подпись Дьявола. Пока книгу не читают, она должна быть закрыта на висячие замки. Книга эта крайне опасна. Нельзя, чтобы к ней прикасались чужие руки. Её следует хранить в отдельной комнате на цепи, припаянную к самой крепкой балке, причем эта балка должна быть кривой. — Арману показалось, что герцог смеётся, но глаза последнего были странно сумрачны.
Были здесь и «L» en-cheiridion du pape Leon, «Превосходнейшая книга папы Льва», «Великий Альберт» — «тайны мужские и женские», «Малый Альберт» — «Чудесные секреты натуральной и кабалистической магии… или Нерушимое сокровище секретов…» «Красный дракон или Искусство повелевать Духами…», и «Черный дракон, или Адские силы, подчинённые Человеку»… Его светлость шутя сказал, что некоторые из этих книг нельзя читать, если сам ты не колдун, или, по крайней мере, не желаешь им стать. На некоторых страницах — мелькает кровавая надпись: «Переверни, если храбр…» Но в некоторых случаях храбрость граничит с глупостью, заметил тогда же герцог. Арман заверил его светлость, что не будет открывать эти зловещие инкунабулы, которые и вправду чем-то пугали его, и прочтёт только то, что он рекомендовал.
…Найденный Клермоном порыжевший по краям пергамент тома формата in-quarto был настолько ветхим, что местами потрескался. Текст был на латыни, но с многочисленными итальянизмами, характерными для центральной Италии. Несколько отверстий сбоку говорили о том, что текст когда-то был частью книги, но потом лист был довольно грубо извлечен из неё: дыры, проколотые на пергаменте, были разорваны в направлении переплета. Тип письма назвался littera bastarda или готическим книжным письмом с влиянием канцелярского курсива, распространенным в конце ХIV века. Весь текст был переписан одной рукой. Строки шли по всей длине листа, не было ни миниатюр, ни виньеток, ни инициалов.
Это было колдовство. В разметке слов на пергаменте были пропуски, образовывавшие женское лицо. Лицо Элоди. Арман Клермон в ужасе встряхнул головой. Да что же это? Лицо пропало. Он погрузился в чтение.
«…Опрометчиво, весьма опрометчиво поступил Джанпаоло Спарлуччи, уроженец Равенны, — начал разбирать строки Клермон, — когда после причастия у своего друга, священника Арчибальдо, задумав добраться в окрестностей Перуджи и выехав в полдень из Ареццо, хотя все разумные люди советовали ему заночевать в деревеньке Тирамо, в десяти верстах от города. Он и сам не заметил, как сгустились тучи и хлынул дождь. Его лошадь остановилась как раз посреди оставшейся ему перуджийской дороги, около руин старого замка, который сам Джанпаоло и не разглядел толком, торопясь укрыться от ледяных дождевых струй. Старая кобыла Регина уперлась, как осёл, не желая двигаться дальше крытых яслей в глубине двора, и Джанпаоло, махнув на неё рукой, быстро прошёл в арочный пролет главного замкового входа, где ещё оставались остатки ворот, болтающиеся на двух основательно проржавевших петлях. Всё, что ему хотелось — найти пару охапок соломы и, переночевав здесь, засветло выехать в Перуджу.
Слов нет, ему нужно было торопиться. Получить заказ на роспись Сант-Эрколано и Палаццо Комунале хочет, естественно, не он один и, если он опоздает, городские власти могут пригласить какого-нибудь умбрийца — что и говорить, художники там превосходные.
Он не нашёл в замке ни соломы, ни сена, основательно замёрз, как вдруг натолкнулся в одной из сравнительно небольших комнат на дрова, аккуратно сложенные около полуразрушенного камина. Они были сыроваты и он долго провозился, пытаясь разжечь пламя. Постепенно он согрелся и начал помышлять о ночлеге, когда неожиданно неслышно, словно кот на мягких лапках, в комнату вполз странный, гнилостный запах. Джанпаоло устал, очень хотел спать и подумал, что ему просто мерещится. Он лёг на свой плащ и им же и укрылся, и в его угасающем сознании уже клубились первые сновидения, как вдруг его разбудил яростный писк и шум крыльев больших черных нетопырей, как он в ужасе заметил, принявшихся порхать под сводами потолка. Крылья летучих мышей двигались в такт, взмахи их чередовались с какими-то наглыми и малопристойными движениями, и завороженный этой картиной, Джанпаоло не сразу заметил, что дождь давно кончился, небо очистилось и теперь в окно светила полная луна.
Вдруг он услышал нарастающие шипящие звуки, перед его глазами заклубился хоровод полупрозрачных и ужасающих сущностей с нелепейшими конечностями, странными кривыми рожками, выглядящими иногда игриво, а иногда — пугающе, хвостатых и голозадых, распевающих к тому же какую-то непристойную песню, в рефрене которой он с ужасом различил вполне понятный и издевательский вопрос: «Perché diàvolo fare qui?»
«Господи Иисусе, спаси меня…» Однако тут произошло что-то непонятное, отчего кошмарный хоровод мгновенно растаял в воздухе как жалкий клочок утреннего тумана. Все дикие звуки смолкли, и где-то в ночи трижды послышалось карканье ворона. В комнате появились существа, напомнившие Джанпаоло людей, если бы ни мелкое, но потрясшее его до дрожи понимание, что от пришельцев на плиты пола не падает тени, и лунный диск, когда один из них закрыл его своим силуэтом, тут же медленно проступил сквозь него. Призраки. Оборотни, пронеслось у него в голове. Он ошибся. Никакие это были не оборотни.
Первый был красив, но опытный глаз художника отметил, что это красота распада, казалось, прекрасное существо больно смертельной, ужасающей болезнью, тем более страшной, что она уничтожала такую неизъяснимую, утонченную и трепетную красоту. Второй тоже, пожалуй, мог быть назван красивым, но лишь до тех пор, пока его черные ресницы закрывали глаза. Стоило им распахнуться и злобный взгляд пылающих, словно адская бездна глаз, заставлял забыть не только о приятных чертах, но и парализовывал всякую мысль. Описать третьего у Джанпаоло просто не получилось бы, внешность его менялась поминутно, черты искажались и перекашивались, словно отражаясь на зыбкой водной глади. Он был в черной хламиде, строен и очень худ, длиннонос и темноволос.
— Это ещё что, Пифон? — Этот вопрос был задан существом с глазами бездны, задан высокомерно и холодно.
— Это? Нищий художник из Равенны, Джанпаоло Спарлуччи, он идет в Перуджу, Самаэль, — мягко ответил последний, странно покачиваясь в такт неслышной мелодии на тонком гамаке лунного света.
— И надеется дойти? — от этого вопроса у несчастного Джанпаоло дыбом поднялись волосы.
— Он дойдёт, Самаэль. — Резко вмешался в разговор первый, за кем, судя по голосу и тону, все признавали старшинство. — Он проснётся утром, ни о чём не вспомнит, и к началу заутрени будет у Арки Августа. — После этого глаза человека смежились, но тут крест, который он зажал в руках, впился в его ладонь. Он и спал, и не спал, словно грезил наяву.
Между тем разговор продолжался. Из тёмного угла тот, чьи глаза пылали сатанинской злобой, обратился к старшему из них.
— Сатана, господин наш, как ты и приказал, я вложил в душу французской королевы черный умысел убить пасынка, и сделала она то, что задумала, не отторгнув от себя соблазн дьявольский. Мальчишка мертв. Страну ждет война. Могу ли я забрать королеву?
— Может ли дьявол устоять перед соблазном соблазнить ничтожного человека? Твоё дело было обольстить её. Её дело было устоять. Она не устояла… Она твоя, Самаэль, — лениво обронил тот, к кому он обращался. В полусне художник услышал шум огромных крыльев, внезапный женский крик, исполненный запредельного ужаса — и всё смолкло…
— Помните исток силы нашей, соблазн, — заговорил снова тот, кого звали Сатаной, — Для многих все сроки давно кончились. Значит, начинается время возрождения нашей силы. Люди слабеют и дешевеют. — Его слушали в молчании. Красавец с полыхающими злобой глазами длинной пилочкой полировал ногти, тип с меняющимся лицом сладко потягивался, и с улыбкой, которая, однако, совсем его не красила, кивал головой.
— Искушайте маловеров, сейте кощунственный ропот на Бога за страдания, которые кажутся глупцам чрезмерными и незаслуженными, доводите их до хулы на Бога и таинства! Истовым в вере внушайте ложное ощущение избытка личных духовных дарований, да мнит себя каждый из них достойным особых плодов духовного совершенства, подтверждением чему да послужат им навеянные вами «знамения», голоса и видения. Внушайте всем мысль о сладости разврата, ибо те, кто хранит чистоту, находятся под покровом Божиим. Когда человек лишает себя чистоты, он утрачивает и Божественную помощь. Умным да ученым всевайте в душу гордыню, мать всех страстей, ибо ничто так не удаляет человека от Бога, как самолюбие, самомнение, эгоизм, лицемерие. В кротких и заботливых бросайте зерна человекоугодия, исказите в них заповеданную Господом любовь к ближнему, да сменит её любовь человеческая, что всегда страсть: приятность плотская, симпатия, или почтение к высокородному. Натуры сильные раздражайте гневливостью да оправдают они её страданиями и невзгодами, растите в них раздражительность, вспыльчивость и ожесточение сердца. У кого сердце осквернено страстями, тот никого не почитает чистым, думая, что все ему подобны, научите же этих сквернавцев осуждать без мысли и меры. Уставшие пусть станут унылыми от чрезмерной занятости собой, своими переживаниями, неудачами, да угаснет в них любовь к ближнему, и родится зависть. Учите всех беззастенчиво лгать, да будет ложь второй природой человека, маской, приросшей к его лицу…
Проснувшись на рассвете, Джанпаоло пошёл в Перуджу и добрался к воротам, когда колокола возвещали начало воскресной службы. Он получил заказ, работал с усердием, но с тех пор в каждое полнолуние несчастный катался по земле от мучительных приступов головной боли, а незадолго до смерти, став монахом, рассказал братьям о своём давнем приключении…»
Арман удивился. Господи, как незаметно, мало-помалу дьяволу действительно удалось растлить мир! Сегодня даже искушения тех далеких веков говорят о невероятном душевном совершенстве. Доводить до хулы на таинства! Сегодня они даже не знают, что есть таинства… Дювернуа сказал как-то, что и на первом причастии-то не был. Истовым в вере… Где они? Самолюбивые и сластолюбивые, высокоумные и эгоистичные, лицемерные и раздражительные, вспыльчивые и ожесточенные, утратившие Любовь Божью, они мечутся в вязком мареве разврата, взаимной ненависти, зависти, в пароксизмах высокомерной гордыни…
Но этими горькими размышлениями поделится было не с кем. Тем более теперь…
…Этьенн всю вторую половину дня провёл около замка, на небольшом уступе горного склона, устроившись на поваленном дереве, озирая окрестности. Впрочем, едва ли он что-то видел, — просто его остановившийся взгляд был устремлён к Тентасэ. Он не мог простить себе совершённой накануне глупости. Какого чёрта! Его почти мутило от отвращения к себе. Какого чёрта он разоткровенничался? И что в итоге? Он скорее бы вынес ненависть и презрение, чем ту жалость и сострадание, что прочёл во взгляде Клермона.
Этот нищий книгочей ещё смеет ему сострадать!
Но высокомерный гнев, и Этьенн сам понял это, был лишь маской. Он вздохнул и поморщился. Клермон нравился ему и Виларсо де Торан сожалел о случившемся. Ему было больно упасть в его глазах.
Утром, в безотчётном раздражении и тяжком похмелье Этьенн сделал то, чего не сделал бы трезвым никогда. Столкнувшись с Лоретт, сказал, что не хочет причинять ей зла, но никаких чувств к ней не испытывает. Его искушало желание хладнокровно поведать ей о некоторых из своих приключений, наиболее отвратительных, но он не сделал этого. Это не было продолжением ночной пьяной исповеди. Душу саднило от боли, все вызывало гадливое омерзение. Прежде всего, он сам, — и восхищенно-глупые взгляды Лоретт особенно досаждали. Пойми он себя, назвал бы разговор с Лоретт попыткой избавления и очищения. Этьенн не знал, удалось ли ему убедить девицу, но предостерег её — да не возникнет у неё искушения «исцелить его своей любовью».
Те, кто пытались это сделать — теперь парии.
Спустившись с уступа, когда начало темнеть, Этьенн медленно обошёл замок. Заходить не хотелось, он опасался опять встретить Клермона, не хотел никого видеть. Добрёл до пруда, устроился на дальней скамье под каштанами, рассчитывая, что здесь его никто не обеспокоит. Несколько часов, и вправду, было тихо. Стемнело. Потом он был выведен из летаргической задумчивости всплеском воды. Подняв голову, заметил в искрах лунной дороги на чёрной глади пруда тонкий силуэт. Он поморщился. Лоретт? Девушка вошла в воду, плавала, временами отдаваясь нежным волнам, иногда перекатываясь на спину, порой поднимая рядом с собой маленькие волны и всплески белых барашков. Наконец, поддерживая растрепавшиеся волосы, вышла из воды на прибрежные камни. Облепленная лунным светом, она, легко перегибаясь в талии, вытирала мокрые волосы, иногда выпрямлялась тонкой струной, порой замирала, глядя на заросли осоки, где ей мерещился какой-то звук.
Этьенн рассмотрел в лунном свете тоненькую фигурку. Густые пряди волос, струящиеся около лица, подчеркнули темные впадины щек, а ночные тени, падавшие возле глаз, делали их огромными. Изысканные линии этого тела не походили ни на что, прежде виденное, а видел он немало. Точёные бедра и прелестная свежая грудь казались изваянными гениальным скульптором. Локоны цвета ночи змеились вокруг тонкого стана. Этьенн почувствовал странную дрожь. Попавшаяся на глаза несчастному Актеону купающаяся Артемида-охотница, Аталанта ли, царица амазонок, или Геката, богиня ночи, вышла на своё ночное бдение? В красоте купающейся было что-то демоническое, и вскочи она сейчас на его глазах на помело и поднимись в воздух — Этьенн бы не удивился.
Он понял, что это мадемуазель Элоди, сестра Лоретт. Она не заметила его в темноте и, набросив на себя что-то тёмное, тихо ушла. Этьенн, не очень-то понимая, что делает, начал раздеваться, и через несколько минут торопливо ринулся в воду. Его сотрясло — вода была прохладней, чем ему казалось, но вскоре он согрелся. Теперь вода ласкала его тело, Этьенн нежился в ней, словно в женских объятьях. Остатки похмелья, мутно тяготившие его, исчезли, Этьенн почувствовал себя совсем юным, руки и мышцы налились силой, казалось, он сейчас взлетит, — прямо из воды. Он весело чертыхнулся, оказавшись на берегу и вспомнив, что ему нечем вытереться. Впрочем, он тут же и забыл об этом, заслушавшись трелями цикад и шорохом рогоза. Даже одеваться не хотелось, но Этьенн, смеясь, подумал, что явившись обнажённым в замок, пожалуй, не сумеет выдать себя за Эндимиона.
Ликование распирало его. Он, улыбаясь, бормотал строки Бернардо Морандо, полузабытые, но ныне всплывшие в памяти…
Кристалл воды, звездами осиян, Светлел, когда купальщица ночная Над отражением небес, нагая Склонялась, в море погружая стан. Когда она, струям неуловимым Отдавшись, в холод погружала грудь, Он вспыхивал огнем неукротимым. Кому дано огонь любви задуть? Нет, из него не выйти невредимым, В воде, и то его не обмануть…Пробравшись, наконец, к своей спальне, Этьенн растянулся на кровати в блаженной истоме, отметив, что дышит глубже, чем всегда. Он был оживлён и странно взволнован, а сейчас, прикрыв глаза и чуть успокоившись, снова увидел перед мысленным взором точёную женскую фигурку, облепленную лунным сиянием. Он понял, почему ринулся в воду, — ему тогда показалось, что вода сохранила загадочный слепок этого тела, и Этьенн жаждал слиться с ним, не понимая, что это иллюзия.
А может, он и жаждал иллюзии?
Этьенн не помнил, как уснул, но проснулся с улыбкой. Вчерашний день с его похмельным раскаянием в содеянном накануне, с запоздалым осмыслением тягостных воспоминаний, погребённых под пеплом забвения, кончился. Почему-то теперь Этьенн думал о возможной встрече с Клермоном без того гнетущего чувства неловкости, что так сковывало вчера, он вспомнил о Лоретт, и решил ещё раз поговорить с ней, смягчив свои вчерашние слова. Но главное — хотел при свете солнца увидеть малютку Элоди. Только ли лунные лучи делают её столь прелестной?
Граф, и вправду, вошёл после завтрака в библиотеку и с улыбкой, какой Арман никогда не видел на этом красивом пресыщенном лице, поздоровался с Клермоном, извинившись за свое давешнее поведение.
— Не сердитесь, Бога ради, Клермон, просто похмелье. Умоляю, не смотрите на меня с такой жалостью, — весело рассмеялся Этьенн, и опустив глаза, тихо прибавил, — я не хочу потерять вас, Арман. Вы нравитесь мне, и мне хотелось, чтобы наши отношения не изменились.
Клермон смутился, понимая, что стоило его сиятельству графу Этьенну Виларсо де Торану произнести подобные слова. Он молча кивнул головой. И просто для того чтобы перевести разговор — показал найденный накануне пергамент Этьенну — спросил, какой это, по его мнению век. Тринадцатый? Известно ли, когда были расписаны Сант-Эрколано и Палаццо Комунале в Перудже? Шрифт-то шестнадцатого века, но… Этьенн быстро прочёл недлинный текст. Однако, вместо того, чтобы высказать мнение о дате написания, долго сидел молча.
Клермон же — не мог понять себя. Или, вернее, понял нечто неосмысляемое ранее. Он вспомнил, что в самом начале знакомства многие скользкие фразы графа старался пропускать мимо ушей, полагая, что тот просто эпатирует его, или несерьёзен. Проступившее в ночь полнолуния понимание, что в лице его сиятельства Этьенна Виларсо де Торана судьба свела его с откровенным подлецом, расстроило и огорчило его. Собираясь порвать с ним — он сожалел о необходимости сделать это. Услышав его страшную исповедь — сострадал ему, жалел, хотел помочь. Господи, да как же это? Фонтейн говорил… Он, Клермон, любит этого подлеца, неожиданно понял он. Но тут же поправил себя.
Он любит этого человека…
…На очередном «мальчишнике», затеянном Дювернуа в этот день после обеда, его сиятельство снова удивил Клермона. Когда Арман пришёл в гостиную Огюстена, тот с Рэнэ де Файолем обсуждал «Изложение системы мира» Пьера Лапласа.
— Он объясняет весь мир с точки зрения причинности и наконец избавляет мир от сказок о Боге. И это здравое научное суждение позволяет человечеству больше не утруждать себя вздором, но думать о насущном, — вяло провозгласил де Файоль. Он по-прежнему выглядел больным.
Клермон лениво почесал запястье. Он презирал Лапласа. Не за труды. Просто брезгливо считал шлюхой мужчину, при всяком повороте политического флюгера переходившего на сторону победивших: республиканец в 1789, после прихода к власти Наполеона он стал министром внутренних дел; затем вице-председателем сената, при Наполеоне был графом империи, а в 1814 подлец подал свой голос за низложение Бонапарта. Недавно, после реставрации Бурбонов, получил пэрство и титул маркиза. «Он не нуждается в гипотезе о Боге»! Да он и в чести не очень-то нуждается.
Но высказать подобный аргумент не мог, прекрасно зная, что отец де Файоля сделал сходную карьеру, и, поморщившись, промолчал. При этом про себя неожиданно задумался — а сознает ли сам де Файоль свою низость или считает себя воплощением порядочности? Арман исподлобья взглянул на Рэнэ, и неожиданно удивился его больному и жалкому виду. Что с ним? Тем временем граф, задумчиво глядя в камин, поинтересовался у Рэнэ, что, по его мнению, для человечества насущно? В чём смысл бытия людей?
— Люди стремятся к счастью, они хотят постоянно чувствовать наслаждение, — де Файоль был уверен в ответе. — И что по большому счету для человека важнее: знать, почему звезды светят, или — наслаждаться? Последнее, очевидно, более насущно. Да Бог с нею, со Вселенной и ее устройством, нам бы разобраться с земными делами и успеть упиться сладостью земных плодов. Не понимаю, почему людям мало просто блаженствовать, им непременно нужно, чтобы их существование имело какой-то смысл. «Смысл» предполагает достижение определенной цели. Жизнь же никакой цели не имеет, она дана ради жизни и вопрос о смысле её принадлежит к числу неразрешимых в силу своей внутренней нелепости.
— Вас я не спрашиваю, Арман, — улыбнулся его сиятельство. — Знаю, что вы скажете. А вы, Огюстен, зачем живёте?
Тот пожал плечами.
— Жизнь, может, не стоит того, чтобы жить, но что с ней ещё можно делать? Эти, как обычно говорится, «проклятые» вопросы — просто предмет праздной умственной игры, занимающий тех, кому нечем заняться. Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен, а если обнаруживает, что нашёл его, самое время проконсультироваться у хорошего врача.
Клермон про себя поинтересовался, чем это столь заняты Рэнэ и Огюстен, что им некогда и подумать на досуге, но вслух ничего не сказал. Граф же лениво спросил:
— Стало быть, вы, Огюстен, не согласны с де Файолем?
Дювернуа снова пожал плечами.
— Почему? Жить — значит наслаждаться: все здоровые инстинкты выскажутся за это. Я просто против того, чтобы в этом видеть смысл. Смысла просто нет.
— Вы, должно быть, счастливцы, господа, — пробормотал его сиятельство, — по-моему, человек рождается, чтобы жить в судорогах беспокойства и летаргии скуки, в конвульсиях сладострастия и пароксизмах злобы. Но это не такое уж большое удовольствие. А если в жизни нет удовольствия, то должен же быть хоть какой-нибудь смысл… Как восполнение бессмысленности. Один мой приятель, Фернан де Мерикур, сказал, что смысл жизни в служении людям, раз уж нельзя служить упразднённому наукой Богу… Он открыл несколько ночлежек для бездомных и приютов для сирот. Сегодня они — рассадники заразы и места паломничества всех сводней Парижа, отлавливающих среди сироток себе поживу. Я видел это и сказал Фернану, что лучше бы он открыл несколько борделей. Все было бы как-то честнее. Это «служение людям» как-то незаметно всегда превращается в их умерщвление. Почему так, Клермон? Или я заблуждаюсь?
— Потому что безбожно понятые божественные истины превращаются в свою противоположность — в демонические водевили. Если ваш друг верит доводам науки — пусть и живет по науке, и не лезет в сферу Духа, или — плюёт на научные доводы — и тогда Господь подскажет ему, что нужно делать, чтобы обрести подлинный смысл жизни и истинно служить людям.
Клермон высказался резче обычного, поймав себя на том, хочет уйти к себе в библиотеку и зарыться в книги. Ему было скучно. Он ничего не ждал от разговора и был несколько утомлён пошлыми сентенциями приятелей.
— Возможно, вы правы. — Тон его сиятельства был размерен и мягок, но его резко перебил Рэнэ.
— Ваши клерикалы уверяют нас в реальности призраков и запугивают интеллект, — возразил Клермону де Файоль, зло вспомнив свой афронт у Элоди. — Да, путем отказа от разума им удается спасти людей от истерик и беснований, но цена — подчинение интеллекта сказкам о Боге — претит каждому человеку, сохранившему достоинство. Наш век отказался от незнания и заблуждений — и это составит его славу.
— Что-то все время отвлекает моё внимание, — пожаловался его сиятельство, — и я даже не успеваю заметить, что — и от чего именно. Не буду больше пить… Отказ от разума — нестрашен, Рэнэ. На черта он нужен? Незнание не может заблуждаться, люди заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Незнание — молчаливо и смиренно, и только суетное знание роняет нелепые гипотезы. Заблуждение — дитя знания…Чем больше знаний — тем больше и заблуждений…
Арман внимательно взглянул на графа.
— Но если вам, Этьенн, так нужен смысл и вас не удовлетворяют ни удовольствия, ни «служение людям» вашего друга, — заметил Огюстен, — придумайте себе сами подходящий смысл жизни.
— Придумать можно только химеры или бессмыслицу, Огюстен.
Клермон в немом удивлении слушал его сиятельство. Нужно было много продумать, чтобы понять то, о чём он сейчас говорил. Да, заблуждаются только знающие, а Истину нельзя придумать… Перед ним был очень умный человек. И, Господи, что с ним сделали… Клермон задумался и не сразу услышал, как к нему самому обратился Рэнэ.
— А вы, Арман, сумели придумать себе смысл, не правда ли? — в тоне де Файоля проступили насмешка и пренебрежение.
Клермон не смог понять, чем он досадил Файолю. Но он тщетно искал бы причины — просто Рэнэ был раздражен и измотан любовными излишествами и по-прежнему злился на Армана, невольно унизившего его в глазах Элоди.
— Жизнь осмысляется, когда она — разумный путь к разумной высшей цели, иначе она — бессмысленное блуждание среди череды слепых случаев, плавание в мутном хаотическом потоке времени, тьма неведения. Истинно же разумный путь есть путь к Истине. Но «Аз есмь Путь, Истина и Жизнь» сказал о себе только Предвечный. Человек, чуждый Богу, не может обрести своего пути, не находит Истины и теряет вечную жизнь.
— Его светлость говорил что-то похожее, — задумчиво и несколько сонно пробормотал его сиятельство. — Да, алчущие знания, как и алчущие благ земных, никогда не насыщаются… это я проверил. Но чтобы взалкать Бога… нужно Бога…
Его перебили. Заговорил Огюстен.
— То есть личное спасение души? Но оно приведёт только к развитию безудержного эгоизма. У человека останется лишь одна забота — его личное спасение. Пусть другие страдают, и бесчисленные несчастья окружают нас, ничего, дескать, не поделаешь… — Дювернуа высказал то, что думал, и потому был непривычно логичен и целен.
Его сиятельство, однако, не дожидаясь ответа Клермона, который про себя подумал, что о безудержном эгоизме на месте Дювернуа он бы не говорил, живо и заинтересованно спросил Огюстена:
— Но, простите, Дювернуа, когда «другие страдают, и бесчисленные несчастья окружают нас», я всегда ловил себя на том, что даже с моими возможностями — ничего поделать не могу… А вы что скажете, Арман?
— Христос обещал спасение не человечеству, а человеку, добровольно за ним идущему. В силу греха человечество раскололось на тысячи индивидов с неистово противоборствующими устремлениями. И теперь, сидя порой в одной гостиной, люди удалены друг от друга на тысячи лье в своих внутренних помыслах. Сегодня никто не занят спасением своей души, но на деле-то всё равно никому ни до кого нет дела.
— Но если все воспримут идею спасения, то людям останется только бежать в пустыни, запираться в монастырях, дабы, избежав ада, заслужить небо. Все это есть отрицание человечества, жизни в обществе…
Клермон внимательно посмотрел на сказавшего это де Файоля, и заметил, как его сиятельство тоже чуть насмешливо улыбнулся и опустил глаза.
— Если бы все стали парикмахерами или звездочётами — мир вымер бы гораздо с большей вероятностью. Все никогда не запрутся в монастырях. Ведь даже в их имени заключено это понимание. «Инок», «инаковый», «иной», то есть, «не такой, как все»… При чем же здесь «все»? Христос изначально сказал о «малом стаде». К тому же мысль о главенстве самоспасения уже была господствующей, а человечество уцелело и общество не погибло…
— То есть вы предлагаете, Арман, — задумчиво вопросил его сиятельство, — оставить заботы о мире и заняться самоспасением? Но мне кажется, вы способны на большее…
— На большее никто не способен, если правильно понимать спасение. Спасение своей души требует титанических усилий, и дай Бог оказаться способным на это. Ну а человек, наделённый пережитым опытом спасения своей души, умеющий преодолевать распад в себе, не отрекаться от себя и выживать — принесёт больше пользы обществу, чем легион пустых и ни на что не годных людей, без малейшей борьбы подчиняющихся всем мелким случайностям своего бессмысленного существования. Любовь к Богу, а значит, и любовь к людям, должна проявляться не в открытии приютов, становящихся притонами, но в стремлении быть совершенным, как Он. Совершенный же человек может проявить себя в любом созидании, уподобляясь Творцу.
— Подождите, Клермон, но ведь дела милосердия… — изумился граф. — Сколько святых были милосердны…
— Верно, но не ставьте кабриолет впереди кобылы. Станьте сначала святым, очистите душу от тщеславия и жажды людских похвал вашей благотворительности, а потом Господь подскажет вам, где и как разумнее проявить милость сердца. Не творите дел Святого Духа, пока Святый Дух не будет обитать в вас. Не то вы такого натворите…
— Но мне казалось… — граф поднял глаза на Армана, — что человек должен пытаться помочь ближнему. Это ведь заповедь. — Сам он однажды расчувствовался, выкупив с панели у сутенера тринадцатилетнюю девчонку с жалкими глазами. Снял ей жильё, иногда навещал, давал денег. Но дурочка, решив, что он влюблён, и поняв, что заблуждалась, сначала пустилась во все тяжкие, а после наглоталась какой-то отравы…
— Человек, искренне пытаясь спасти другого, спасает себя. Но спасти можно только любовью, а любовь — дар Господа лишь чистым душам. Куда бы ни пришёл грешник — он всюду сотворит ад, куда бы ни пришёл праведник — там будут небеса.
Его сиятельство был молчалив и задумчив.
За прошедшее время между приехавшими мужчинами — за исключением Клермона и Виларсо де Торана — не возникло никаких дружеских чувств. Файоль и Дювернуа, занятые каждый своей пассией, практически перестали общаться между собой. При этом, если их что-то сводило вместе — прогулка или обед, то оба обязательно обменивались неприязненным и раздраженными замечаниями в адрес Клермона. Оба не могли простить ему явного предпочтения графа, кроме того, Рэнэ полагал, что именно из-за его умствований он не смог добиться расположения Элоди. Странно, но, несмотря на изнурявшее его плотское желание, он, обладавший Сюзанн, почти никогда не думал о ней самой, но навязчиво вспоминал о резкой фразе Элоди и о своём провале. Рэнэ хотел отомстить и унизить её, осторожно выискивал возможности, но не находил их. Он лишь мог повредить ей в глазах тех, до кого ей не было никакого дела, и уронить её во мнении тех, чьим мнением она пренебрегала. Временами Рэнэ почему-то ненавидел мадемуазель Элоди. Рэнэ знал, ибо Дювернуа не замедлил похвалиться победой, что тот совратил сестрицу Элоди, но не знал, как лучше употребить эти сведения, и потому не проболтался даже Сюзанн. Но Файоль, как и до этого Огюстен, сталкивался с нелепым свойством святош — о них было трудно сплетничать.
Дювернуа трижды пожалел о приглашении Клермона в замок, он и предположить не мог, что его нищий приятель привлечет внимание графа, на которое он претендовал единолично. Он видел, что именно Виларсо де Торан интересуется Клермоном, но упорно винил во всем Армана. Это ничтожество пытается перейти ему дорогу!
Его сиятельство, наблюдая отношения приятелей, вскоре по как бы случайно роняемым едким замечаниям де Файоля понял, что тот отнюдь не презирает Клермона, как утверждал сам, но преисполнен зависти к нему. Но было и ещё что-то, помимо красоты, аристократизма и образованности Армана, что вызывало отторжение и Огюстена, и Рэнэ, и даже ревнивая неприязнь к тому предпочтению, что обнаруживал он, не объясняла всё более проявляющейся антипатии. Как известно, в царстве горбатых стройный — урод, и оба приятеля искренне полагали Клермона глупцом. Непрактичным и нелепым человеком, неспособным понять жизнь и не умевшим удобно в ней устроиться.
Его сиятельство как-то мимоходом поинтересовался — понимает ли сам Арман отношение к себе приятелей?
— Ваши друзья не очень-то расположены восхищаться вами, — проронил он, — хотя, возможно причина в том, что вы никого не пускаете в душу и не даете до конца понять себя…
Клермон усмехнулся.
— Кто понимает людей — редко ищет у них понимания. Понимание каждого ограничено — но не границами его ума, а границами его души. Малодушный не поймет великодушного, скупец не поймёт щедрого, омертвевший не поймёт любящего, даже если будет обладать умом запредельным.
Его сиятельство снова выслушал его задумчиво и сумрачно.
Глава 14. В которой мсье Виларсо де Торан начинает приглядываться к мадемуазель Элоди, а герцог де Шатонуар развлекает гостей беседой о национальных особенностях французов
Услышав жестокие слова Этьенна, Лоретт почувствовала, что жизнь её пресекается. Первые минуты её отчаяние было беспредельным, потом она, с трудом собрав последние силы, рассказала всё Элоди. Ей хотелось получить здравый совет, а его могла дать только средняя, но никак не младшая сестра. Элоди всю ночь провела с сестрой, нежно ухаживая за ней, утешала, поила успокаивающей настойкой. Она отослала Габриэль, тоже пытавшуюся чем-то помочь сестре, но больше мешавшую, и долго пыталась объяснить ей, что этот человек знал слишком многих женщин, а значит, наверняка давно перестал их ценить. Душа его пресыщена и утомлена, если не сказать — развращена. Чего можно ждать от него? «Даже если бы он стал твоим мужем — разве тебе удалось бы надолго приковать к себе мужчину, который привык менять женщин, как галстуки?» Это не убеждало Лоретт, ей казалось, если бы Этьенн полюбил её — ему не пришлось бы искать других — она ощущала в своей душе океан любви, способный насытить любого мужчину, но жестокие слова самого Виларсо де Торана просто убивали её. Он не понимает, просто не понимает…
Элоди всё же надеялась, что Лоретт скоро образумится.
Она размышляла об этом на парковой скамье, занявшись рукодельем, и не заметила, что Этьенн, сев неподалеку, внимательно разглядывает её. Веки её были опущены над вышиванием, она была погружена свои мысли, и ему ничего не стоило внимательно рассмотреть её лицо. Он понял, что перед ним — не смазливая хохотушка, и не милая и добродушная красавица, внешность её отталкивала и манила одновременно. Впалые щеки делали лицо узким, но в этом было что-то завораживающее. Он понял, почему она показалась сестре «монашкой» — в ней было отрешённое спокойствие и холодная красота статуи. Он долго рассматривал красивый небольшой рот и классически ровную линию носа, слишком крупные для этого лица выпуклые веки. Да, понял он, Элоди была редкой красоткой, но чтобы увидеть эту необычную и утончённую красоту, нужно было обладать достаточно нетривиальным вкусом.
Пока Этьенн смотрел на неё, в нём не шевелилось никакой чувственности, но вспомнив её ночное купание, он почувствовал, что возбуждается. Как получить эту девицу? Этьенн давно уже не хотел женщин, наслаждение притупилось, он был пресыщен и утомлён легкими победами, ночными оргиями и безудержными излишествами, но вчерашняя ночь что-то изменила. Он чувствовал не похотливое желание самца, но влечение мужчины, стремление покорить сердце, насладиться её любовью, нежным взглядом, восторженным обожанием. Он получит её. Влюбленная Лоретт не имела в его глазах никакой цены, но эта ледяная Галатея оживёт в его руках.
Мысли привычно заскользили по избитой тропе, опыт распутства готов был услужливо подсказать возможности. Внезапно Этьенн вспомнил её взгляды, которые он иногда ловил на себе в прошедшие дни. Ему казалось, что она ревнует и сердится. Что ж, тем лучше. Не сказать ли ей, что он не мог ответить на любовь её сестры, потому что сразу влюбился в неё? Но, поразмыслив, решил не торопиться. Надо внимательно присмотреться к её поведению, прислушаться к словам, так он сможет действовать безошибочно. Этьенн почувствовал прилив сил и одновременно что-то неопределимое, но гнетущее навалилось на него. Он не сразу понял, что это, но когда пришёл в обеденную залу и увидел Клермона, помрачнел. Он замыслил непотребное, подумал он. Стоит ли? Этьенн ещё раз бросил взгляд на Элоди.
Стоит. Он возжелал эту девицу, как Давид Вирсавию, и он получит её.
…Однако наблюдения в течение всего вечера дали ему столь мало пиши для размышлений, что он изумился. Она первая не заговаривала ни с кем, кроме Лоретт и Габриэль. Большей частью молчала, когда что-то говорили Дювернуа или де Файоль — даже не поднимала глаз, но когда изредка заговаривал Арман, она бросала на него внимательные взгляды, которые нисколько не таила. Иногда он ловил её задумчивые взгляды на самом себе и на Сюзанн, но Этьенн не мог понять, что она чувствует к нему и что выражают эти взгляды. Теперь ему не показалось, что она увлечена им, по её размеренным словам и скупым жестам нельзя было прочесть ничего. Лишь когда в комнату забежал крохотный котенок Валет, принадлежавший мсье Бюрро, её лицо на мгновение озарилось улыбкой, и Этьенн вдруг поймал себя на неосознанном, но чувственном порыве — он потянулся, всем телом устремился навстречу этой улыбке.
Тут же осадив себя, изумился. Что с ним?
Пока Этьенн ничего не понимал. В ней не было ни кокетства, ни жеманства, он не замечал ни самодовольства, ни стремления обратить на себя внимание. Она не проявляла чувств. Незадолго до обеда вся компания собралась в гостиной и мсье де Файоль, известный как хороший чтец, читал вслух забавные галантные повести времен Регентства — несколько скабрёзные, но в рамках приличий. Граф заметил, что она морщится. «Едва почил великий король, регентом был назначен сорокадвухлетний принц Филипп. Началась эпоха самых веселых оргий, какие только знало королевство. В Пале-Ройяль беспрестанно доставляли самые изысканные яства и самых прелестных молодых девиц для забав регента и его друзей» Шалости регента описывались игриво и весело, и все, кроме мадемуазель Элоди да Клермона, хохотали.
Заметив это, Этьенн поинтересовался:
— Вам не нравятся эти рассказы, мадемуазель?
Элоди посмотрела на него, оторвав глаза от вышивания, и он увидел, что в них застыла брезгливость.
— Они забавны. Жаль, что всё так плохо кончилось.
— Плохо? — последняя история содержала рассказ о шутке, которую сыграли люди принца с одной из молодых фрейлин, украв её парик.
Элоди казалась утомлённой, и ответ её был монотонен и тих.
— Через семь лет этой веселой жизни и ужинов в Пале-Ройяле, принц-регент почувствовал тяжкое непреходящее похмелье и слабость, ему стали не под силу продолжительные занятия. Прогрессирующая немочь привела к тому, что он в сорок восемь лет превратился в полную развалину, изношенного, помятого, прогнившего насквозь старика, с трудом ковылявшего от кресла до кресла. Иногда он оживлялся, когда ему рассказывали, что королевскому хирургу Ла Пейрони приходится заниматься в основном дурными болезнями его бывших любовниц. Регент, как рассказывает Барбье, претерпел поношение и после смерти. После кончины его тело вскрыли, чтобы, как обычно, набальзамировать, а сердце захоронить в Валь-де-Грас. В это время в комнате находилась датская собака принца, которая внезапно, так что никто не успел вмешаться, схватила его сердце и проглотила почти целиком. Судя по всему, это свершилось во исполнение какого-то проклятия, ибо пёс всегда ел досыта и никогда ничего не брал без позволения. Об этом происшествии старались никому не рассказывать и долго скрывали его, но…
Этьенн молча, опустив глаза, слушал Элоди. Все молчали. Сюзанн поморщилась. У этой монашки просто дар какой-то портить застолья и вечеринки! Герцог же вежливо согласился с Элоди. Да, ничто так не ускоряет старости, как неумеренные попойки и не знающая меры похотливость, менторским тоном добавил он, подняв кверху указательный палец.
Зато обед в этот день был весел и порадовал всех утончённой застольной беседой, начало которой положили герцог и Клермон. Арман поинтересовался, в какой степени родства его светлость состоял с итальянским родом ди Сеньи? Ведь он говорил, что они в родстве? Совершенно верно, его мать итальянка, пояснил его светлость, хотя сам Робер Персиваль недоумевал и поныне, что могло свести вместе его родителей. Его отец — типичный француз, так сказать, вековой тип в чистом виде и что могло привлечь в нём графиню ди Сеньи — абсолютно непонятно. Она была весьма умная женщина.
— Что вы понимаете под «французом в чистом виде», ваша светлость? — Этьенн был заинтригован.
— Распутника и пьяницу, разумеется, — засмеялся его светлость, — Да и чему удивляться? Ещё Полибий и Цезарь говорили про чувственность галлов, доводившую их до всяких излишеств, про «легкие и распущенные нравы, заставлявшие их погружаться в разврат». Но Вольтер был глуп, когда утверждал, что если галлы и были развратны, то им, по крайней мере, было чуждо пьянство германцев. Это вздор, ибо Аммьен Марцелин сообщает нам, что «жадные до вина галлы изыскивали все напитки, напоминающие его; они оскотинивались от постоянного пьянства и шатались по дорогам, описывая зигзаги». Даже и в настоящее время наши бретонские кельты не отличаются трезвостью.
— Да, с точки зрения чувственности, мы по-прежнему остаемся легко возбуждаемой нацией, — согласился Этьенн. — Физиологическое объяснение этого надо, по-видимому, искать в крайней наследственной напряженности нервов и чувств.
— Объяснить это можно и отсутствием воли, и нежеланием владеть собой, — тихо добавил Клермон, и герцог тихо рассмеялся в ответ.
— Полно, Арман, воля — свойство сильных, но далеко не всегда умных натур. Мы галлы, просто слишком умны для того, чтобы излишне перенапрягаться. Все древние, в частности Страбон, признают галлов очень умными. Способности нашего народа были так удивительны, что даже возбуждали беспокойство. Лишь только мы вошли в соприкосновение с македонскими греками, как уже переняли греческий алфавит, обучились оливковой и виноградной культуре, заменили воду вином, молоком и пивом, и вот уже — чеканим монеты по образцу греческих, искусно копируем греческие статуи, в особенности Гермеса. Быстрота, с какой галлы ознакомились с римской цивилизацией, поразительна. Цезарь, вспомните, тоже восхищается галльским талантом подражания и изобретательностью. Согласитесь, что в умственном отношении галлы всегда отличались понятливостью.
Клермон не спорил. Да, нет ничего недоступного уму француза, лишь бы он дал себе труд подумать, но он, уверенный в гибкости своего ума, произносит слишком поспешные суждения. А так как сторона, наиболее доступная первому взгляду — внешняя, то нельзя удивляться, что средние умы во Франции часто оказываются поверхностными.
— Но нас спасает верность первого взгляда, позволяющая в одно мгновение разглядеть то, для чего более тяжеловесному уму потребовался бы час, — снова смеясь, уверил его герцог. — Ни один народ не обладает в таком изобилии умом, как французы. Одна звучная фраза, одно остроумное слово, переходя из уст в уста, всегда доставляло утешение французам в самых великих несчастьях.
Разговор заинтересовал и Дювернуа.
— Да, француз любит смеяться. Одно желание блеснуть перед толпой может заставить его пренебречь истиной, но это не расчёт, а избыток веселья. Любой из нас всегда немного гасконец, даже когда по происхождению кельт или франк.
— К тому же, заметьте, Арман, — поддержал Дювернуа Этьенн, — только в нашей, кельтской мифологии существовал бог красноречия, изо рта которого, как известно, выходили золотые цепи. Эта подробность — свидетельство врожденной любви французов к риторике, о которой упоминает Цезарь, и способности поддаваться обаянию, «цепям» красивых речей.
С этим Клермон тоже не спорил.
— Да, наш ум часто довольствуется красноречием вместо фактов и аргументов. В то время как итальянец играет словами, говорил аббат Галиани, француз одурачивается ими, и риторика, простое украшение для итальянца, составляет для француза аргумент.
— Это, увы, верно, мой юный гость, — проронил его светлость. — Согласно пословице, повторяемой по ту сторону Альп «итальянец часто говорит глупости, но никогда не делает их», у француза, напротив, мысль нераздельна со словом, а слово — с делом. Лишь только ему пришла в голову глупость, он торопится привести в её исполнение. Мы принимаем за доказанную истину доведенную до совершенства логическую стройность рассуждения, и до такой степени удовлетворяемся ясностью, с какой заключения вытекают из основных посылок, что не останавливаемся на сопоставлении этих заключений с реальными фактами…
— Если исходить из этих положений, то наш друг Клермон — вообще не француз, — несколько язвительно проронил де Файоль.
— Вы не правы, мсье де Файоль, — вступился за Армана герцог, — просто мсье де Клермон воплощает иную сторону галльского характера — мужество: non paventi funera Galliae. Ведь всякий, дерзающий во Франции думать и действовать иначе, чем все остальные, должен обладать большим мужеством.
— Да, — любезно подтвердил Этьенн, — он мыслит своеобразно. Французский рационализм основан на убеждении, что в мире все доступно пониманию, если не для настоящей науки, то, по крайней мере, для будущей. Но ум Армана, как я заметил, напротив, всюду усматривает нечто недоступное пониманию, он допускает в мире нечто, стоящее выше логики. Французскому же уму чужд мистицизм, не удовлетворяясь грубым и темным фактом, он не удовлетворяется и туманной верой, более всего любя разум и аргументы.
Арману не нравилось такое внимание к его персоне, смущался он и молчаливым взглядом Элоди, и потому спросил герцога, какого мнения о французах иностранцы?
— Итальянцы утверждает, что французы совершенно лишены двух качеств, которые необходимы, чтобы «господствовать над миром», и которыми, разумеется, обладает Италия: у них нет «творческой силы и глубины мысли — в сфере идей, и настойчивости, терпения и воли в сфере действия», — охотно объяснил герцог. — В то время как итальянцы составляют, по их мнению, «аристократическую нацию», французы — плебеи по натуре, отличающиеся легковесностью и подвижностью ума. Немцы считают, что нам свойственны «проницательный ум и живость характера, не руководимая обдуманными принципами», а так же «любовь к переменам, вследствие которой некоторые вещи не могут долго существовать единственно потому, что они стары». Англичане же говорят, что «французу, необходимо болтать, даже когда ему нечего сказать. Мы слишком много рассуждаем, полагают они, а француз желает всего касаться слегка; глубокомысленный разговор для него мука. Горе нам, если мы будем говорить с ним несколько минут, не вставив какой-нибудь шутки!»
Все рассмеялись. Это было верно.
Его светлость рассказал анекдот. «В один из дней творения Бог создал Францию. Любуясь своим детищем, он рассуждает: «Да-а, тут я превзошёл сам себя. Такой красоты, такого разнообразия нет нигде… Пожалуй, даже слишком хорошо получилось. Надо это как-то уравновесить». И тогда Бог создал французов…»
Посмешил публику и Дювернуа. «Мне все надоело!» — жалуется пожилая служанка молодой. Весь день вынуждена повторять: «Да, мадам!», «Да, мадам!», «Да, мадам!». «Мне тоже все надоело!» — ответила ей молодая. Я весь день только и твержу: «Нет, мсье», «Нет, мсье», «Нет, мсье».
Мужчины, кроме Клермона, рассмеялись, Сюзанн усмехнулась.
— Мсье Клермон так слушает подобные вещи, словно видит в подобном угрозу нации….
Клермон растерялся. Он впервые услышал голос Сюзанн, обращённый к себе. Он поднял глаза и внимательно вгляделся в неё, представляя — по ночному откровению Этьенна — что довелось уже испытать этой несчастной совсем ещё юной женщине, и его взгляд выразил жалость.
Сюзанн удивилась, а его светлость ответил за Клермона.
— К несчастью, дорогая, он прав. Всякая эмоция сопровождается пертурбацией в кровообращении и нервной циркуляции. Всякое перевозбуждение неизбежно заканчивается угнетённым состоянием. Отсюда — нарушение физического и психического равновесия. Страсти оказывают огромное влияние на национальный характер, наследственно изменяют его. Результатом этого являются всё более и более нервные поколения, лишённые воли, колеблемые внутренними бурями…
Файоль ещё на чтении галантных повестей эпохи Регентства заметил внимание графа к Элоди. Рэнэ чувствовал себя странно немощным, совсем больным, но сейчас злость взыграла в нём, он ощутил прилив сил. Нет ли возможности свести счёты с этой высокомерной святошей? Но как? Каков тут наилучший ход? Оговорить Элоди перед графом, словно случайно уронить несколько замечаний, из которых граф поймёт, что эта девица сходила по нему с ума? Это уронит её в глазах его сиятельства, но к чему приведёт? Мсье Этьенн может просто потерять к ней всякий интерес. Но что в этом хорошего — прежде всего для него? Ничего.
Граф Этьенн — законченный распутник, и любая девица, на которую он не обращает внимание, пребывает в мире и покое. Если, конечно, не ведет себя, как дурочка Лоретт. Но Рэнэ не хотел мадемуазель Элоди ни мира, ни покоя, — и потому мысль о клевете на девицу им была отвергнута. Худшей неприятности, чем интерес его сиятельства, даже и не придумаешь. Всё, что можно измыслить в такой ситуации — напротив, максимально усилить интерес графа к этой ведьме с хрустальными глазами. Во-первых, ей вцепится в волосы сестрица Лоретт, во-вторых, граф совратит её и вышвырнет, а, в-третьих, они с Сюзанн тоже смогут приложить после руку, чтобы ославить её.
Значит, все, что нужно, это ронять об этой горделивой красотке тонкие комплименты, восхищаться её красотой и утончённостью, говорить о её достоинствах и добродетели, что раззадорит аппетиты и тщеславие графа. Тут Рэнэ вспомнил Дювернуа. Тот выразил как-то опасение стать соперником его сиятельства, причем — не ерничая. Не подумает ли в таком случае мсье Виларсо да Торан, что он тоже, пренебрегая его сестрой, интересуется Элоди?
Все эти мысли утомили и изнурили Рэнэ де Файоля.
Он махнул рукой и решил предоставить всё естественному ходу событий.
Глава 15. В которой повествуется о проснувшейся чувственности мадемуазель Габриэль, и снова, уже в несколько ином контексте, всплывает тема дьявольских искушений
Счастье Дювернуа как-то неприметно кончилось. Он и сам-то не сразу заметил это. Габриэль, которую ему вначале вполне удалось убедить в том, что никакого разврата не существует в принципе, всё это лишь разговоры старых ханжей и выписки из ветхих проповедей, превратилась в юную Мессалину. Искренне уверенная, что никаких нравственных запретов не существует и те, кто верят в это — наивные глупцы и ханжи, Габриэль начала требовать от своего любовника таких излишеств, какие Огюстен, в силу слабой выносливости, предоставить ей просто не мог.
Услышав потрясшие её слова Лоретт и основательно обозлившись, Габриэль поняла, что больше не любит Дювернуа. Она не стала упрекать его во лжи и обмане, понимая, что ничего этим уже не поправишь. К тому же она не намерена была отказываться от того мизера, что Дювернуа мог дать. И начала требовать максимума, ибо больше не дорожила им.
Между влюбленными начались ссоры. Габриэль твердила, что он разлюбил ее, раз не может ублажать её хотя бы трижды, а ведь иные мужчины способны на куда большее, а Огюстен, чувствуя себя выжатым лимоном, хоть и возражал, но, видимо, не достаточно убедительно — в силу усталости. Ей было с чем сравнить — хотя бы визуально. К ней пришло понимание, что даже кузен Онорэ — и тот превосходил Огюстена. Но что толку в воспоминаниях? Приходилось, скрепя сердце, довольствоваться тем, что есть.
Однако, Габриэль не отказала себе в удовольствии рассмотреть и другие кандидатуры. Файоля она отвергла сразу, прекрасно теперь понимая, что то, что побывало в постели такой особы, как Сюзанн, а её она за минувшее время стала понимать куда лучше, чем по приезде, тот уже ни на что годиться не будет, — как и Дювернуа.
Теперь новым безошибочным чутьем самки Габриэль пригляделась и к мсье Виларсо де Торану, — и отпрянула. Она как-то утробой поняла, что этот красавец — вовсе не любовник. Жизненного опыта для определения сущности этого мужчины у неё не хватало, опыт же постельный ничего не объяснял. Но хватало и животного понимания. Ночной демон каменистых пустошей, сумеречный палач перед окровавленной плахой, ледяное дыхание погребальных склепов — вот что виделось ей теперь при взгляде на красавца. Куда безопаснее и милее был мсье Клермон. Габриэль похотливым и чувственным взглядом осмотрела его широкие плечи, сильные запястья, бросив взгляд из-за плеча, оглядела ягодицы.
Это не жалкий Дювернуа, такой куда выносливее.
Пока Огюстен отлеживался у себя и отсыпался, Габриэль несколько раз продефилировала мимо Клермона, правда, безуспешно, ибо, галантно поклонившись ей, он, почти не взглянув на неё, направился в библиотеку. Он последовала туда за ним, но, как ни вертелась у полок и как ни пыталась затеять разговор, Арман отделывался односложными ответами и короткими репликами, работая над какой-то рукописью. Выглядело это так, словно Габриэль казалась ему совсем девочкой, и её болтовня не задевала ни его слуха, ни души. Она подумала было откровенно продемонстрировать ему свои желания — но не решилась, опасаясь скандала, который мог затеять Клермон. Положение усугубилось тем, что однажды во время её домогательств к Клермону, неожиданно вошёл Дювернуа. Он ничего не сказал, словно не заметил происшедшего, но Арман после поймал на себе несколько крайне недоброжелательных взглядов Огюстена.
За это время у Габриэль странно испортились отношения с Лоретт. Она вначале исполнилась странного презрения к сестре — та не могла заполучить мужчину, потом прониклась к ней жалостью — не может стать полноценной женщиной, потом была оскорблена и унижена её невольным разоблачением лжи Дювернуа. А в последнее время, поняв, что представляет собой Этьенн, она уже боялась говорить с сестрой, — чтобы не выдать свою возросшую осведомлённость и понимание тех вещей, знание которых, как Габриэль понимала, надо скрывать.
К Элоди же она была полна странной, неконтролируемой, животной ненависти, тем более странной, что причины её были столь противоречивы, что пугали её самоё. Она ненавидела Элоди за то, что той нечего скрывать, и за то, что та сохранила чистоту, и за то, она произносила слово «разврат», презрительно морща нос. Но ведь никакого разврата не существует, есть лишь мерзкие ханжи, именующие развратом то, о чём втайне мечтают сами и на что не могут решиться! Так говорил Огюстен, и эти его слова она сомнению не подвергала, хотя о его лживости была ныне осведомлена лучше кого бы то ни было.
Сестра стала для Габриэль воплощением трусости, ханжества и лицемерия.
Между тем неудача с Клермоном, неудовлетворенность Дювернуа, страх перед Этьенном и понимаемая постельная никчемность Файоля заставляли Габриэль метаться в сладострастной истоме, устраивать истерики Огюстену, и лихорадочно шарить глазами по сторонам. Мужчин она теперь оценивала не по лицу или костюму, но исключительно по тем достоинствам, что не афишировались. Ей бы сошёл и конюх… Жар в чреслах вызывал безумные ночные видения, где она покоилась в объятиях странного существа с такими мужскими достоинствами, что таяла от наслаждения. Она просыпалась ещё более обозлённой своим жалким любовником, его пустыми домогательствами и ничтожными мужскими способностями.
Нельзя сказать, что Арман совсем не заметил крутящейся перед ним Габриэль. Заметил, но уверил себя, что неправильно понял её. Он уже встречал подобные взгляды и позы, что принимала малышка, ощущал их развратную похотливость и откровенное предложение в движениях и жестах. Но нет. Этого же просто не может быть. Клермон почти насильно убедил себя в ложности своих наблюдений. Это удалось ему. Тем более, что мысли Армана Клермона занимало совсем другое. Как ни уходил он помыслами в книжные развалы, как ни запрещал себе любые мысли об Элоди, как ни пытался молиться о душевном покое — ничего не помогало.
В то утро Клермон, опять плохо спавший ночь и истомлённый греховными помыслами, ушёл к горному перевалу с ружьем. Он просто хотел уединения и покоя — не для размышлений, но скорее — для отдохновения от них. Он осмелился думать о женщине, и не просто думать, но мечтать, он, нищий оборванец — о королеве. Элоди, чья красота с первой минуты встречи столь опьянила его и отпечаталась в душе, теперь изнуряла и мучила. «Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь…» Зачем он в недобрый час согласился приехать сюда? Зачем допустил, чтобы в душу его проникло это горестное искушение? Арман привык к одиночеству и смирился с ним, но теперь — как он вернётся домой? Раньше он умел погружаться в книги, как в тишину и отдохновение, но теперь, когда с каждой страницы на него смотрели глаза Элоди, где найти покой?
Арман трепетал, просто замечая её тень в коридорах замка, но иногда причуды больного воображения рисовали её лицо в каминном пламени, в трепещущих на ветру древесных листьях, в игре теней венецианских фонарей. Иногда он встречал её, и она, опуская глаза, говорила с ним, и в словах её чудились ласковая нежность и какое-то доверительное внимание. Клермон, вопреки здравому смыслу, не избегал, но старался продлить мгновения их встреч, и иногда решался даже предложить ей прогуляться в парке или сходить на пруд, и она снисходила к его приглашениям! Правда, присаживаясь с ней на парковую скамью, он совсем терялся, робел и едва отваживался посмотреть на неё, но и это было счастьем.
Клермон понимал, что совершил глупость — но что толку было в его понимании?
Сейчас он безучастно смотрел вдаль, где снова трепетали на ветру длинные ивовые ветви, точно девичьи волосы…
Неожиданно до Клермона донесся грохот обвала и вскрик. Он не видел, чтобы кто-то проходил мимо в горы, но бросился на голос, не сразу различил человека на скальном уступе, зависшего над горным провалом, но успевшего зацепиться за древесное корневище. Арман взлетел вверх по склону — ибо только оттуда можно было помочь несчастному. Он почему-то решил, что видел Огюстена, но наклонившись над пропастью, понял, что это Этьенн. Тяжесть тела казалась невыносимой, у Этьенна не хватало сил не только, чтобы подтянуться, но и, судя по его остановившемуся взгляду, казалось, что он уже готов разжать руки. Клермон поспешно расстегнул ремень и, обвязав себя вместе с ближайшим стволом, сумел схватить упавшего за запястье, на котором заметил золотой браслет с брелоком в виде звезды — перевернутой пентаграммы. Промелькнуло изображение козлиной головы и перевернулось.
Этьенн, почувствовав опору, смог чуть успокоиться и придти в себя, и Арману удалось, едва не соскользнув в пропасть по осыпи, вытащить его. Несколько минут оба ничего не говорили, просто пытаясь отдышаться. Потом Этьенн, поднявшись и отряхивая костюм, объяснил, что камень просел под ним и съехал с насыпи, увлекая и его. Клермон, слышавший, как глыба свалилась вниз, кивнул. Он потянул плечо, и чувствовал себя испуганным. «Это всегда рядом», пронеслось у него в голове. В замок они вернулись вдвоём, в молчании, но, расставаясь у своей гостиной, мсье Виларсо де Торан, опустив глаза, тепло поблагодарил Армана за своё спасение, пронзил странным взглядом, напряжённым и слегка больным.
Клермон молча поклонился.
Переодевшись и придя в библиотеку, Арман задумался. Он однажды слышал от Жофрейля де Фонтейна, что в Париже есть несколько тайных обществ, чьё существование проходит порой даже через века и чья деятельность — служба сатане. Он не мог не поверить учителю, и ещё тогда внутренне ужаснулся, а вспомнив пьяные слова Этьенна о чёрной мессе, никак не мог решиться навести на неё разговор. Странный брелок на запястье графа снова испугал его. Он знал этой символ — ужасающую козлиную морду. В древних мистериях она обозначала дьявола.
Слова, сказанные в опьянении Виларсо да Тораном, наталкивали его на страшные подозрения, но разговор герцога с Этьенном в библиотеке, когда граф смеялся над дьяволом, заставлял Армана либо предполагать в Этьенне какое-то запредельное лицемерие, либо вынуждал думать, что он сам чего-то не понял. Этьенн слишком силён. Двоедушие — удел слабых натур. Виларсо де Торан просто не удостаивал лгать и притворяться, и если говорит, что равнодушен к вере, то что он мог искать в дьяволовых мессах?
На следующий вечер после эпизода в ущелье, Этьенн, как обычно, пришёл вечером в библиотеку, куда только что зашёл и Арман. Граф похвалился, что они с егерем подстрелили нескольких куропаток, рассказал об удивительной меткости и мсье Камиля, и самого герцога. Как стреляет старый чёрт! Не целясь! Колдовство, ей-богу. Воспользовавшись этой фразой, Клермон спросил о чёрных мессах, ведь Этьенн говорил, что был там… Там тоже было колдовство?
Виларсо де Торан не сразу понял вопрос, но когда понял, точнее, вспомнил — насмешливо поморщился. О, мой Бог…
Они устроились у камина, куда Этьенн подбросил несколько поленьев. В его изложении эта история выглядела просто анекдотично. Это было в квартале Марэ, за улицей Бобур. В старину там было болото, откуда и пошло название, в XII веке рыцари-тамплиеры начали осушать трясину, потом там располагалась еврейская община. После того как при Генрихе IV ближняя к Сене часть болота была окончательно осушена, юг Марэ стал первым в Париже аристократическим районом. Знатные семьи с удовольствием строились на незанятой ещё земле, за полстолетия до того вообще находившейся за чертой города. Потом в квартал, прослывший элегантным, начали втираться нувориши-буржуа. Старые семьи съехали на запад, за ними потянулось и среднее сословие — и вот дворцы превратились в совершеннейшие лачуги, на улицах Вьей-дю-Тампль и Сент-Круа-де-ля-Бретонри прописались парижские содомиты и всякое отребье, и тут же неподалеку, на Рамбюто, открылись несколько довольно известных борделей и дешёвых богемных пристанищ. Они с приятелем, Филиппом-Луи Гаэтаном, после вояжей по этим довольно злачным местам, направились по приглашению Филиппа-Луи на Фран-Буржуа. Улица меняет название у старинной башни, уцелевшей части крепостной стены.
Арман обмер. Ему показалось, что он ослышался.
— Вы ходили в кварталы Рамбюто? — Сам он слышал, что большей мерзости просто не существует…
— Это странно, — усмехнулся Этьенн. — Я считаю себя утончённой натурой, но, как ни странно, меня часто очаровывало как раз то, что, что другие вполне определили бы как безобразное и грязное. Если тебя мучит жажда, какое тебе дело до формы кувшина? Так вот, там-то, из юго-западной части площади Вож можно пройти в небольшой сад, а из него — через особняк Сюлли на улицу Сен-Антуан.
Туда-то Филипп-Луи и привёл его, уверяя, что подобного он, Тьенну, ещё не видел. Это оказалось правдой.
— Особняк принадлежал, — продолжал его сиятельство, — одной светской даме, особе перезрелой и истеричной, Магдалене де Туаниль. Зимой она устраивает приемы каждую неделю. В тот вечер у неё собралась совсем уж, честно говоря, разношерстная публика — какие-то отставники, избыточно накрашенные артистки, поэты со странными наклонностями, популярные в дешевых кофейнях, лысые коммивояжеры и несколько светских красавиц, бывших розанчиками во времена юности Марии-Антуанетты. Филипп-Луи, будь он проклят, оказался её внучатым племянником. Вы не знаете его?
Клермон отрицательно покачал головой.
— С незнакомцами Филипп-Луи холоден и высокомерен, черты его неброски, при первом знакомстве он отталкивает, но его эрудиция поистине поразительна. Филипп-Луи изучил самые диковинные книги, старинные обычаи, чаще всего его можно было встретить в обществе астрологов, знатоков каббалы, демонологов, алхимиков и богословов. Ему было бы интересно, я думаю, пообщаться с его светлостью, — лениво прокомментировал Этьенн.
Сам Этьенн не знал, что предстояло этой ночью, но, чертову Гаэтану кое-что рассказали — потому тот и притащил его. В подвале дома был ход, приводивший к какой-то часовне. Туда все в полночь и направились. Сначала всё было пристойно, вроде сеансов, что проводил Бальзамо. Задавались вопросы, горели ароматические лампы, слышались странные шипящие ответы, словно воздух выходил из наполненного шара, струились какие-то зловонные испарения, постепенно отодвинули занавес, разделявший крипту, и началось такое, отчего Этьенна чуть не стошнило. Он не собирался передавать подробности, все можно представить лишь по тому, что обезумевшие от смрадных фимиамов бабы, обнажив дряблые телеса, вдруг накинулись на него. Потом оказалось, что эта фурия, тетка Гаэтана, мадам де Туаниль, специально для возбуждения этих престарелых ведьм, попросила племянника пригласить своего красавца-друга.
— Клянусь, Арман, я порвал бы отношения с Гаэтаном, если бы не понял, что Филипп-Луи понятия не имел, чего на самом деле хотела его нимфоманка-родственница.
— Вы уверены?
— О, да. Твёрдо уверен. Я ведь не закончил. Два жутких педераста — невероятно жирный маркёр Бональди и старый театральный антрепренёр Мэрвель, пока я отбивался от старых жаб, набросились на него, содрали штаны, опрокинули и одному из них удалось получить своё. Вопли бедного Филиппа-Луи, наверное, были слышны даже в Еврейском квартале. Гаэтан не инверти, он помешан на женщинах, и мне пришлось, оглушив Мэрвеля, вторгшегося своим немалым жезлом в Гаэтана, вытаскивать беднягу с окровавленным задом из этого дьявольского борделя. Едва ли Филипп-Луи мог, согласитесь, ожидать такого. Я не говорю уже о том, что мне удалось спасти только его самого, но его штаны, как трофей, остались в лапах педерастов. Сражаться за них я не пожелал, — просто боялся, что на мне самом одержимые бабы порвут бельё. Если же я поведаю вам, как мы полночи по морозу добирались домой к Гаэтану в Латинский квартал к площади Сен-Мишель на улицу Юшетт, а уже светало, как Филипп-Луи Гаэтан, его светлость герцог де Нарбонн, стонал, словно роженица, прикрывая разодранный, кровоточащий зад растерзанным и порванным фраком, как он хромал, ибо один его ботинок тоже остался в логове бесов, при этом глядя по сторонам дико подбитым глазом, — местью Мэрвеля, — вы, я думаю, поверите, подобно мне, что едва ли он знал правду о подлинном сатанинском размахе дьявольских прихотей своей тетушки…
Арман всегда отличался живым воображением и, представив нарисованную Этьенном картинку, против воли расхохотался. Его сиятельство меж тем продолжал рассказ:
— Сам Гаэтан умолял меня о прощении, клялся всем святым, что у него есть, что старая потаскуха его обманула. Ну, — задумчиво проронил он, — тут он мог бы и не расточать таких высоких словес, тем более, только чёрт знает, что для Филиппа-Луи свято, — лучше бы поклялся своей оскверненной задницей. Я не очень-то доверчив, — но тут поверил бы сразу. Бедняга два дня садиться не мог. Мне пришлось вызывать ему аптекаря с квасцами, да ещё сочинять Бог весть какую историю для объяснения подобной травмы. Но главное, Филипп-Луи чуть не на коленях умолял о неразглашении в наших кругах ужасающих подробностей чертова шабаша — касающихся его, разумеется. Такие вещи, если ты склонен к этому сам, чести не делают, но терпятся, но когда стало бы известно, что его, наследника герцогского дома, как последнюю бабу, взял старый антрепренёр, Филипп-Луи стал бы посмешищем всего Парижа. Поэтому я Филиппа-Луи простил, просто сочтя, что он за глупость своё уже получил. Это почище пули будет.
Арман во время этого рассказа не сводил с Этьенна внимательных глаз.
— Но откуда у вас этот браслет?
— Этот? — его сиятельство равнодушно пожал плечами. — Это… Это знак допуска в одно парижское общество, — он поморщился и опустил глаза, но потом продолжил, — ничего дьявольского, уверяю вас. Обычные блудные забавы. Ну, может, и не совсем обычные, и даже — совсем необычные, но это, — он указал на запястье, — просто плебейская претенциозность и дурновкусие тех, кто затеял это. Я заплатил за членство и получил эту безделушку. По ней нас опознают. Это просто пропуск.
— Вокруг вас слишком много знаков и клейм дьявола, а вы или не видите их, или игнорируете…
— Да полно вам, Арман, ведь всё это вздор, пентаграммы, апокалипсическое число зверя, дьяволовы хвосты и копыта… Похотливые старые потаскухи и жаждущие свежего мясца педерасты! Поверьте, всё это, хоть и было мерзостно, не имело никакого отношения к дьяволу, Клермон. Мне это и вправду что-то там напомнило Фоше, но так, мельком. Просто кощунство и мерзость. Я полагаю, что подлинные дьявольские богослужения проходят как-то поблагороднее.
— Должен возразить вам, дорогой племянник.
Голос герцога донесся откуда-то сверху. Этьенн и Арман вздрогнули, переглянулись и, резко вскочив, стали изумленно озирать стрельчатые своды. Долго искать не пришлось. Его светлость с толстым фолиантом восседал на вершине стремянки, вне круга света, и потому, когда молодые люди появились в библиотеке, он не был замечен. Теперь он неторопливо спустился и, водрузив инкунабулу на полку, присоединился к своим гостям.
— В двух шагах от сквера Вивиани, где толстые жандармы гоняют греющихся на солнышке клошаров, стоит старейшая церковь Сен-Жюльен-ле-Повр XI века, прихожанином которой был когда-то ещё изгнанник Данте. В XV–XVI веках она повидала не один дебош студентов Сорбонны, во время революции в ней был устроен соляной склад… Так вот, её-то и облюбовали сатанисты. Мне довелось присутствовать на подобных службах — и смею вас уверить, там в точности повторялось всё, дорогой Этьенн, вами описанное. Как говорится, «замени только имя…»
— Боже мой… Я-то был уверен, что это просто сборище нимфоманок и педерастов…
— Так вы и не ошиблись. Люди приходят к дьяволу не в поисках высоких духовных взлетов, а ради права на свинство. Цена постельной да и любой другой свободы — вечная грязь и риск порвать задний проход. И платить приходится каждому, уверяю вас. Но ведь число готовых платить эту вонючую цену год от года все больше, заметьте. Низость — вот что составляет ныне жажду мира. Поблагороднее! Да вы смеётесь! Благородство — в божьих храмах, но туда никто не ходит. Кому нужно сегодня благородство? Право совершить любую низость, при этом считать себя избранником судьбы, свысока озирая себе неподобных. — вот дивный дьявольский дар, дар свободы от морали. Кто же откажется? Все и спешат принять начертание, в очередь становятся, локтями друг друга отпихивают. От желающих продать душу Дьяволу скоро придется прятаться.
— Низость самоубийственна. Это знак презрения к самому себе, — досадливо обронил Клермон. Он понимал страшную правоту герцога, вспомнил Жофрейля де Фонтейна и поежился, точно от холода.
Странно, но Этьенн тоже поморщился. Герцог говорил вещи, которые своей слишком уж откровенной прямотой шокировали его. Он действительно полагал, что пришли новые времена, и сегодня деятельные люди полезнее нравственных. Да, Этьенн не видел для себя моральных запретов. Право на низость и подлость, право на бесчестье и бесстыдство? Он не обозначал их так — но имел, не проговаривая. За любую попытку осудить его деяния — в лицо летела перчатка, а в след ей — пуля. Этьенн ни за кем не числил права судить себя. Дивный дар свободы от морали? Да. У него он был.
Но зачем же называть его «дьявольским»?
…Черт возьми, неожиданно подумал Этьенн, а ведь действительно что-то демоническое в том шабаше, которому он был свидетелем, было. Он вспомнил, что в странных, до того ничем не привлекших его внимание глазах педерастов вдруг промелькнуло странное инфернальное свечение. Их лица почти зримо изменились, глаза стали зеркальными и пугающими. Он видел возбуждение Гаэтана в грязных переулках, но этого свечения в глазах Филиппа-Луи не было. В мужчинах, возбуждённых женщинами, он его не замечал… Но глаза этих людей, отвернувшихся от света, блестели, как светляки во тьме…
— Знак презрения к самому себе? — Герцог в изумлении поднял тёмные, точно переломанные посередине брови, — да вы, юноша, идеалист, как я погляжу. Возможность считать себя избранником судьбы и свысока смотреть на глупцов влагает в души высокомерие дьявольское. Избранники не могут быть в своих глазах подлецами, они — по ту сторону глупой морали, поймите же, это разные измерения. Ну а то, что по их поводу думаете вы — их тоже не беспокоит, поверьте. Вас провозгласят глупцом — и ваше мнение проигнорируют. А то и подлинно сочтут глупцом…
Клермон, в общем-то, и понял, и поверил. Снова вспомнил Жофрейля де Фонтейна. Этьенн задумался.
Герцог же лениво продолжил:
— О дьяволе болтают разное, но никто не отрицает высочайшего уровня его ума. Мозги дьявола доселе ещё никто из живущих под сомнение не ставил. Но он был бы глупцом, если бы полагал, что люди алчут высот. Благородство для них — скучно. Низость — усладительна. Только поэтому Дьявол победит. Существующий или несуществующий, но победит.
— Победит кого? — Клермон вздохнул, — ничтожеств, жаждущих низости? Наверное. Но всегда останутся те семь праведников, без которых не стоит мир, и благодаря им мир выстоит.
— Да-да, как устояли Содом и Гоморра, Тир и Сидон… Семь праведников… Вон один из них, ваш, дорогой Этьенн, духовный покровитель. Да, Благородство. Да, высота помыслов и аскетизм. Да, духовный подвиг. Не спорю. Но ведь скукотища же постная, — герцог небрежно ткнул пальцами в списки житий, которые Клермон снял с тринадцатого стеллажа. Герцог же легко взял огромную инкунабулу, которую оставил на полке, и направился к выходу.
Клермон посмотрел ему вслед и ощутил какую-то неясную тревогу, словно внутри его души, как в клетке, билась испуганная птица. Сказанное герцогом — злые, верные и запредельно удручающие суждения, убивающие и разлагающие душу, столь очевидно противоречащие столь близким ему самому мыслям Жофрейля де Фонтейна — навеяли на него тоску, и Клермон поморщился.
Молодой же граф, проводив его светлость странным, задумчивым взглядом, подтянул к себе жития.
«…Reconte l'istoire que il fut estrait d'Auvergne un tresnoble homme et seigneur, né d'un chastel lequel estoit nommé Tihert, autrement Ternes, et lequel estoit seigneur et viconte dudit lieu de Tihert, et avoit une femme, moult noble dame, appellee et nommée dame Blanche…»
«…Предание гласит, что жил в Оверни благородный человек, уроженец замка Тьер или Терн, который был сеньором и господином этого края. Его жена была благородной дамой, звали ее Бланш, и божественным вдохновением было им обещано, что, если будет тверда их вера, у них родится чадо, которое добродетелью своего целомудрия, заслугами своей длинной и суровой жизни и скорбями плоти снищет божественный венец, и дыхание его будет благоуханным, как лилии, розы и другие благовония; и обещание это, волей божественного Провидения, было исполнено, ибо от них родился сын, который всю свою жизнь провёл в целомудрии и был отмечен венцом непорочности. Отца звали Этьенн, и сына нарекли его именем. В отроческом возрасте родители, как было принято в благородных семьях, обучили его грамоте и чтению Священного Писания, и достиг он, отмеченный способностями, больших высот созерцательной жизни. С годами росло в нём желание постигать все больше и больше знание, с помощью которого он смог бы истинно познать Священное Писание и спасти свою душу…»
Житие повествовало, как виконт Этьенн де Терн со своим сыном направился в Бари, куда привезли раку Николая чудотворца Мир Ликийских, как двенадцатилетний мальчик заболел в Беневенто, был оставлен отцом на попечение епископа, после поправился и был наставлен в вере. Некоторое время он был при папском дворце в Риме. Потом посетил родителей, а затем, выбрав бесплодное местечко Мюре, вдали от людского жилья произнес обет пред Богом: «Je, Estienne, renoncie a tout enfer et aux diables, a toutes leurs propres orgueilz et a toutes leurs euvres et voulentez, et me offre corps et аme et me rens a Dieu le Père celestial, a son benoit et glorieux Filz Sauveur et Rеdempteur du monde et au Saint Esperit, trois en personnes et une en deité, vif et vrai Dieu». «Я, Этьенн, отрекаюсь от ада и диаволов, от их гордыни и всех их дел и помыслов, и вверяю тело и душу и предаюсь Господу Отцу Небесному, его блаженному и славному Сыну, Спасителю и Искупителю мира, и Святому Духу, триединому и единосущному в божественности, живому и истинному Богу».
И сказав это, навсегда покинул он мирскую жизнь и прожил весь свой век на службе Господа в том месте, где он произнёс обет. И сотворил он там хижину из маленьких прутьев и поселился в ней в году тысяча семьдесят шестом от Воплощения Господа нашего. Было святому исповеднику тридцать лет, когда он вступил в пустынь, и провёл он там в постах, бдениях и молитвах непрестанных, служа Господу денно и нощно, пятьдесят лет.
Он благочестиво молился о благоденствии святой церкви, о процветании владык, о мире, о плодоношении земли, и была его молитва столь непрестанной, что по два или три дня не пил он и не вкушал еды, следуя правилу учеников Христовых, и пробыл целый год в одиночестве в своей пустыни. А на второй год пришел к нему мирской человек и попросил его принять в свое общество и позволить ему вести такую же жизнь, как он сам. Святой Этьенн принял его, и ученик достойно и благочестиво стал жить подле него, соблюдая правило и следуя жизни святого, и продолжал этот ученик в ревностном благочестии соблюдать все строгости правила святого Этьенна до самой своей кончины. Долгое время провели они вдвоём, и разнеслась слава и молва о святости и суровой жизни святого Этьенна, и многие люди и праведники, воодушевленные и исполненные благодати Святого Духа, пришли в пустынь и умоляли святого допустить их в свое общество. Ибо одна душа, святая и чистая, может собрать вокруг себя и очистить десятки душ. И, чтобы спасти душу, они желали окончить свои дни в отшельничестве и следовать правилу, по которому жил святой Этьенн…
«Одна душа, святая и чистая, может собрать вокруг себя и очистить десятки душ…»
Дальше шли описания чудес Этьенна, его исцелений слепых, увечных и бесноватых…
Этьенн почувствовал вялое раздражение. Его небесный покровитель был запредельно странным человеком. Нет, ему это не показалось скучным, но просто немыслимым. Добровольно отказаться от богатства, титула, наследственной вотчины — ради скудости пустыни? Тот понимал, надо полагать, что-то глубоко недоступное ему, Этьенну Виларсо де Торану. Но что? Этьенн задумался.
А что потерял, оставив мир, Этьенн де Терн? Нет, сначала, что он приобрёл? Бога. Вечность. Святость. Но эти парадигмы не были для графа наполнены смыслом. Он не понимал их. Хорошо, но что потерял? Этьенн вспомнил, что прелестная монастырка Элоди говорила о кармелитках… Что они потеряли? Он тогда не смог возразить ей, хорошо зная судьбы тех, кто оказывался на парижских улицах. Этьенн откинулся на оттоманке. Арман заметил его задумчивость и постарался не мешать, углубившись в Аквината.
Чёрт возьми, а действительно ли так уж значимы приманки этого мира? Ведь не бродят же по злачным местам нищих кварталов и не забредают на сатанинские шабаши те, кто счастлив, чья жизнь полна. У него есть всё — деньги, положение, титул. Он — предмет женских восторгов и мужской зависти. Но откуда же это год от года растущее в душе напряжение, чреватое, как он сам понимал, взрывом невероятной силы? При этом неважно, подожжёт он в ярости половину Парижа, или эта ярость спрессуется в маленький свинцовый шарик и разнесёт половину его головы.
Этьенн не знал, зачем живёт, и бессмыслица бытия разлагала его жизнь.
Та же проблема, хоть они об этом никогда не говорили, убивала и Гаэтана. Ведь неслучайно Филипп-Луи искал встреч то с каббалистами, то богословами, то с откровенными шарлатанами-колдунами. Он говорил, что для понимания бессмыслицы жизни надо запастись либо умом, либо веревкой, но большого и бесспорного ума Гаэтану явно не хватало, иначе не листал бы в исступлении еврейскую премудрость и оккультные трактаты. В Средние века Филипп-Луи искал бы Философский камень или Эликсир бессмертия, хотя едва ли знал бы, что с ними делать. Сейчас — выискивал изыски наслаждений и изощренности распутства, но Этьенн видел, что Филипп-Луи был так же пуст и мёртв, как и он сам.
Та крохотная пентаграмма, что болталась на запястье, действительно, была пропуском в общество мерзости запредельной, куда раз в месяц собирались такие же, как он, и куда поставщики доставляли скупленных по бедным кварталам детей обоих полов — от трех до двенадцати. Услады Жиля де Рэ… Узость входа и испуг тешили его…
Но ведь тоже недолго…
Почему титаническая сила духа провоцировала его лишь на то, что другие называли подлостями, мощный ум не давал плодов, почему всё, что он смог за двадцать пять лет — это реализоваться в чужих разбитых жизнях и изломанных судьбах? Право на низость… У Этьенна возникло странное чувство, что его на эту низость уже обязывали… И что остаётся? Ещё несколько лет лакомства деликатесами, вкус которых давно притупился до мякины, ещё несколько десятков или сотен глупых лоретт, обесчещенных и выброшенных за ненадобностью, ещё несколько волнующих кровь и нервы дуэлей… Впрочем, брызги крови его тоже давно не возбуждали. Неужели он родился для этого?
Воистину — остаётся мерзостный сатанинский шабаш, сношения со старухами и любовь инверти…
И так до конца? Он молод, но уже сегодня не может найти ни интереса в бытии, ни занятия для себя, ни смысла своей жизни, не устраняемого смертью. Драматизм индивидуальной конечности ничем и никогда не преодолевается. И обессмысливает всё. Тот, кто так или иначе стремится продлить себя в потомстве или в творчестве, тешит себя жалкими иллюзиями, вызывающими сомнение в его способности мыслить здраво. Разве мой отец живёт во мне? Он погребён на Парижском кладбище. Если стихи Шенье пережили поэта, то значит ли, что голова его не упала в корзину под гильотиной? Бессмертие человеческого рода — смешной паллиатив вечной индивидуальной жизни.
Но разве он хочет вечного бытия? Ему не нужен Эликсир бессмертия. Разве он боится смерти? Этьенн не знал, на что убить завтрашний день — разве что на новые мерзости? Беда была не в конечности, но в бессмыслице.
Смысл. Где его взять?
Гаэтан искал его в сумрачных каббалистических текстах, в тёмной мистике, в загадочных оккультных символах, в ночных обрядах сатанистов, — остался с порванной задницей, фингалом под глазом, без штанов и в одном ботинке. Сам он, Этьенн, перерывал философские трактаты и вчитывался в книги самых просвещённых людей своего времени, в мудрость мудрейших, вслушивался в слова профессоров и листал страницы с описаниями новейших открытий, — остался с мутной тоской у виска, просящего холода револьверного дула.
Вчерашний день, когда под ним вдруг поехала земля на насыпи, напугал его. Не смертью, вдруг оскалившейся прямо у ног, а именно внезапным осознанием заглянувшей прямо в глаза пустоты. И это всё? Его жизнь, суетная и пустая, пронеслась перед ним во мгновение. Страшно было то, что там ничего не было — ничего осмысленного, ничего, достойного памяти. Пустота. Пустота — это просто ничто, но в ней так легко потерять себя…
Если бы не Клермон… Этьенн перевёл тяжелый взгляд на Армана. Клермон оторвался от фолианта, и с нежной улыбкой грезил. Лицо его было восторженно и красиво какой-то отрешённой, неземной красотой. Странно, этот нищий книгочей явно счастлив. Если бы он мог так улыбаться… Но почему? Это он, Клермон, сказал о растлении, натолкнул его на эту мысль… Но неужели растление его тела, которого Этьенн не отрицал, растлило и его… нет не душу. К чёрту эти абстракции! Но могло ли телесное растление затронуть его мозги, его потенции? Почему, обладая такими способностями, — ведь никто не мог отрицать их, — он не может ничего сотворить хотя бы в искусстве, как ни смешны сказки о его вечности? Но ведь и здесь он бесплоден! Он безошибочно воспроизводит чужие мелодии, — но не может создать свою, быстро и точно копирует чужие гравюры, но его работы — Этьенн видел это — слабы и никчемны, он легко запоминал талантливые строки чужих стихов, но под его пером проступали лишь пошлые и пустые строфы. Но это было не сущностно. Этьенн не вкладывал туда ни души, ни усилий, хотя понимал, что даже за этот жалкий суррогат бессмертия надо платить собой бездне. Он — не хотел. Этьенн не считал искусство значимой величиной и не хотел в нём утверждаться. Если бы ему удалось обрести в нём смысл…
Но он не видел смысла и в жизни.
— Арман, — окликнул Этьенн Клермона. Тот перестал грезить, чуть вздрогнул и, щурясь на свет, посмотрел на его сиятельство. — Вам никогда не хотелось покончить с собой? Я имею ввиду не от внезапного бедствия, а просто от безукоризненно выстроенной мысли о том, что жизнь бессмысленна?
Клермон внимательно посмотрел на Виларсо де Торана. Он понимал его беду. Глубина. Вот что мешало жить его сиятельству. Будь он Огюстеном — упивался бы своим богатством, и не задавался бы черными вопросами, был бы Рэнэ, видел бы в наслаждении смысл жизни. Но бездна внутри его, в которой тонули смешные приманки жизни, не наполняя и не насыщая его бесконечность — при отсутствии чистоты души и раннем растлении — начала теперь засасывать его самого…
— Жизнь не бессмысленна. Как-то я в одной их здешних книг натолкнулся на притчу о монахе, встретившем рабочего с нагруженной тяжелыми камнями тачкой. «Что ты делаешь?» — спросил он его. Тот ответил: «Разве не видишь? Везу камни». Другой рабочий, который вёз такую же тачку, на его вопрос ответил: «Я зарабатываю себе на хлеб». Потом монах повстречал ещё одного рабочего с тачкой и снова поинтересовался, что тот делает. «Строю кафедральный собор», — был ответ. Жизнь для каждого — одинаковая тачка с одинаковыми камнями, но важно понимать, что ты делаешь. Вы не верите в Бога, вам не нужен храм, вам не приходится зарабатывать себе на хлеб. Вот вы и тягаете неизвестно куда и неизвестно зачем тяжелое бремя никому не нужной жизни. Я понимаю вас. Такой бессмысленный груз страшно тяжел… но…
— Но…? — резко вскинулся Этьенн.
Клермона испугало пламя, взвихрившееся вдруг в глубине глаз его сиятельства. На минуту Арман осёкся, он всё же договорил:
— Всё пройдет, Этьенн, все дела, мысли наши опадут и пожухнут как прошлогодние листья, истлеют последние страницы, написанные нашей рукой, никто спустя полвека после нашей смерти не вспомнит, как выглядели наши лица, — но Вечность останется. Так почему же вы не хотите обратить свой взгляд на неё?
Этьенн странно расслабился, глаза его погасли, он улыбнулся, поймав себя на мысли, что ему чертовски нравится этот милый человек, одним своим присутствием и мягкой речью утишавший его душевные бури.
— Вечность не вмещается в тление, Арман. Вы предлагаете невозможное.
— Перестаньте быть тлением.
— Черепки не собираются в кувшин, пеплу не стать бумагой, руинам не подняться в замки, мумии не оживают, распад не остановишь.
— Христос останавливал тление и оживлял мертвых, ваше сиятельство.
Этьенн молча смотрел на него. Последние недели, столь сблизившие их, открывшие Клермону сокровеннейшие тайны Этьенна, были для его сиятельства необычны. Никогда ещё скорбная тягота бессмысленности бытия не ощущалась им столь остро, никогда ещё не хотелось до такой степени надеяться — хоть на что-то, никогда еще он так не чувствовал необходимость обретения хоть какой-то опоры, хоть какого-то смысла. Утешительные и мягкие слова Армана были приятны. Этьенн странно смягчался около этого человека и даже начинал мыслить чуть иначе, чем обычно.
Но он был согласен с герцогом.
— Праведником мне не стать. Мне кажется, наш хозяин прав. За этот «дивный дьявольский дар» человечество, и вправду, отдаст душу. Право на паскудство. Право на гнусность… Право на низость… Не знаю, останутся ли в Содоме и Гоморре ваши семь праведников.
— А это не сущностно. — Клермон был спокоен и благодушен. — Грех господствует в мире, но когда грехолюбие доходит до неописуемых пределов и начинает угрожать смыслу существования этого мира, — воля Божия, совершенная и благая, явно входит в человеческую историю, карая и направляя на путь вечной жизни. Бог поругаем не бывает. Содом и Гоморра — тому подтверждение, ваше сиятельство.
Глава 16. В которой Клермон делает неожиданное открытие о том, что его дьявольское искушение — промыслительно и божественно, а Элоди открывает дверь в спальню своей сестры, в результате чего оказывается близка к обмороку
Элоди, тщательно обдумав поведение графа Этьенна с её сестрой, сделала вывод, что этот человек обладает помрачённой душой и испорченным нравом. Он безжалостен и пресыщен, упоён собой, жестокосерден и распущен — и подруги в пансионе, чьи старшие сестры немало рассказывали о высшем свете, были правы, называя его чудовищем. Но при этом она не была оскорблена его поступком с Лоретт.
Этьенн пренебрёг сестрой, но мог бы, и Элоди понимала это, поступить стократ хуже.
Теперь, когда беспокойство о Лоретт, снедавшее её, чуть утихло, Элоди могла подумать о другом, — о том, что уже давно странно томило. Она заметила, что её охватывает смутное беспокойство и даже волнение, когда она встречает одного из гостей замка. Сердце её билось рывками, едва он изредка обращался к ней, а ловя на себе его взгляды, она с трудом могла заставить себя сохранять видимость спокойствия. С первых дней Элоди отметила красоту, благородство и прекрасное образование мсье Армана де Клермона. Более близкое знакомство доказало ей, что перед ней человек большой порядочности и веры. Вырвавшиеся у неё слова о его красоте, столь польстившие ему, были не признанием, но мнением. Элоди была лишена страстности Габриэль и доверчивой мягкости Лоретт, но длительные наблюдения убедили её в верности первоначальных наблюдений. Это не пустой болтун де Файоль и не развратный Дювернуа, тем более не ужасный Этьенн.
Такого человека не стыдно называть супругом и подчиняться ему.
Элоди поняла, что Арман де Клермон не лгал, когда говорил о своей чистоте, и это удивительно возвысило его в её глазах. Ей претила мысль, что муж, её мужчина, будет сравнивать её с кем-то, что она будет для него не первой и единственной женщиной, но стоять в череде предшествующих. «Единственный подлинный путь любви — чистота. И путь этот должен пройти через Божье благословение. Любви и церкви нужны драгоценные и чистые покровы для их алтарей» — говорил её духовник, и эта мысль отзывалась в её душе. Когда Элоди однажды высказала это сёстрам — те расхохотались, но это ничего в ней не изменило.
Но расположен ли мсье де Клермон к ней самой — хоть немного? Арман всегда был безупречно обходителен, нерешителен и робок. Никогда не проявлял и дерзости. Но это могло говорить и о простом равнодушии. Элоди поняла, что влюблена, но по складу характера не могла ни играть в любовь, ни просить любви, лишь молча ждать и страдать. Любовь, завладев сердцем жестким и душой чистой, не допускающей непотребного, дала ей только мучение. Арман де Клермон был по-прежнему молчалив и сдержан. Элоди ненавидела себя.
Чем она лучше Лоретт, о которой ещё так недавно говорила с таким сожалением?
Но как не полюбить человека, в котором столь удивительно сочетаются все те качества, которые нравятся ей? Мсье де Клермон был серьёзен и умён, суждения его выдавали глубину и благородство души, скромность и честь. К тому же он был так красив…Элоди, правда, не потеряла головы и никогда не допустит, чтобы он понял её тайну, но молчание иссушало её. Через маленькую дверцу на хорах она приходила в домовую церковь, и часами пыталась молиться. «Если эта любовь не угодна Господу, Пречистая, пусть она растает, путь душа моя освободится от неё…» Элоди просыпалась наутро — и первой мыслью была мысль об Армане…
Через неделю после того, когда она столь бестактно, по мнению Сюзанн, испортила вечер у камина какими-то мерзкими россказнями о каких-то собаках, Элоди после обеда пошла отнести книгу мадам де Лафайет в библиотеку. Клермон сидел у стола, и, увидев Элоди, нервно поднялся. Она подошла и спросила о новой книге, они с Лоретт хотели бы что-нибудь для чтения вслух. Арман и слышал и не слышал её. Сны его становились все откровеннее, сумбур в мыслях все отчетливее. Его сердце стучало в такт с её шагами, её присутствие делало его счастливым, без неё из мира уходило солнце.
Арман полюбил и понял это.
Сейчас в глазах его потемнело, он с трудом дышал. Перед глазами плыло то трижды проклятое, но незабываемое видение, в котором они были слиты в извечном единстве любви. Вчера он набрасывал письмо к ней, но лишь изорвал и сжёг десяток листов бумаги. Клермон понял, что никогда не решится сказать её о своём чувстве — и совсем изнемог. Вечерами пытался молиться, но как просить невозможного? Элоди казалась неземным существом, а он с его все более проступавшими плотскими желаниями, глупыми мечтами, нищетою и непонятным будущим — на что он мог претендовать? За неделю этого изнуряющего состояния Арман зримо исхудал и побледнел, временами погружаясь в странное отчаяние, как в омут, и только сны — короткие и предутренние — были его единственной отрадой. Там Элоди улыбалась ему, говорила «ты», обещала родить сына…
Но вот — она стояла перед ним, и все сны таяли…
Произошло это неожиданно. Она была так близко, и он, как пьяный, сделав стремительный шаг навстречу, обнял её, нервно дернувшись, не дерзко, но скорее отчаянно прижался к её губам. Но ощутив её близость, мгновенно словно отрезвел. Безумец. Что он делает? Клермон боялся разжать объятья и боялся сдвинуться с места, просто не понимал, как дерзнул прикоснуться к ней. Элоди замерла на мгновение, но тут же и вздохнула, и вот — она уже вдыхала его запах, так понравившийся ей ещё тогда, когда этот юноша впервые открыл перед ней дверь в столовую, запах весеннего ветра и первой зелени, запах мёда и лимона, и таяла от тихого ликования. Слава небесам! Господь благословил её любовь. Её избранник неравнодушен к ней, она нравится ему!
Теперь это было очевидным.
Когда Клермон разжал объятья, он с закрытыми глазами ожидал пощечины и вздрогнул всем телом, когда ощутил прикосновение её руки к своему лицу. Пальцы Элоди скользили по его щеке, гладили волосы. Он приподнял веки, и увидел, что она улыбается ему. Невозможный сон сбывался…
Есть запредельная степень счастья, почти неощущаемая, выходящая за пределы способности чувствовать, заставляющая терять себя, убивающая ощущение реальности, — и чем ниже был уровень притязаний, свойственный смирению, — тем запредельнее переживаемое. Элоди, забыв про книгу, тихо ушла, оставив Армана, ошеломлённого и счастливого, в одиночестве. Может ли это быть? Его чувство взаимно? К нему благосклонны? Его любят?
…Элоди, придя к себе, была странно смущена и взволнована. Поступок Клермона… Она вспомнила своего духовника из пансиона, аббата Парментье. Суровый старик не раз говорил о страшной опасности, подстерегающей души, — когда они, исповедуя истины Христа, живут по законам мира, в котором зло — это то, что тебе не нравится, а добро — это то, что тебе выгодно. Элоди была безжалостна в суждениях, и до сих пор себя судила все-таки, как ей казалось, по Христовым законам.
Но теперь она ничего не понимала. Если бы к ней дерзнул прикоснуться мсье Онорэ де Кюртон — это была омерзительная аморальность. Если бы подобное позволил себе мсье Мишель де Кюртон — это был бы нестерпимый разврат. Отважься на подобное мсье Дювернуа — она назвала бы его порочным распутником. Решись обнять её мсье де Файоль — сочла бы его растленным ловеласом. При мысли, что её домогался бы Этьенн Виларсо де Торан — Элоди почувствовала спазмы в горле. Этому даже имени не было. Но вот…
Этот юноша, с глазами цвета неба, чье присутствие заставляло её забывать себя… Арман де Клермон дерзнул прикоснуться к ней, сжал в объятиях, приник губами, у которых был вкус мёда, к её губам — а она считает его милым, скромным, любимым, самым лучшим из людей, и была просто счастлива. Как же это?
…Для Клермона ночь была ликованием, душа его возносилась ввысь и парила. Но под утро пришло отрезвление. Он понял, что его поводы для радости — ничтожны. Он был безумцем, просто безумцем. Ибо только безумец, разделяя господствующие среди людей духа христианские ценности, чьё представление о должном было намного строже, чем у остальных, мог позволить себе то, что сделал он. Он допустил, чтобы в его душу проник черный дьявольский искус, чтобы плоть и её причуды управляли им. Но нет, это не плоть… не только плоть. Да, он хотел её, хотел быть её любовником.
Но на всю жизнь!
Однако до этого вечера всё было мороком и фантазией, и могло оказаться просто причудой. Ведь он даже и не задумывался о возможности взаимности, просто не веря в неё. Но теперь… что теперь прикажете делать? Что он может ей предложить? Ничего. Проявленная жалкая и глупая слабость заставляла выбирать между честью и любовью. Арман не допускал и мысли о бесчестной любви, значит, приходилось выбирать честь без любви.
Но при мысли об отказе от Элоди в нём подымалась волна безумия.
Теперь вечерами они встречались на церковных хорах или в тихом холле картинной галереи, куда никогда никто не заглядывал. Клермон радовался каждому её слову или жесту, говорящему о благосклонности и уважении, таял от её присутствия, волновался от случайных прикосновений. Элоди рассказывала о сёстрах, о себе, о пансионе, об отце. Клермон слушал, порой скупо говорил о Сорбонне, своем учителе, чаще делился мнением о прочитанном. Арман старался не дать себе окончательно потерять голову, и упорно готовил себя к предстоящему расставанию, но всякий раз что-то мешало ему.
Наконец, после долгих ночных размышлений, Клермон окончательно решился на объяснение, точнее, на разрыв. Он объяснит финансовое положение своей семьи, расскажет, что едва ли в ближайшие годы ему удастся получить кафедру, а вместе с ней — хотя бы минимальную финансовую независимость. Располагая тем, чем сегодня располагает он, и мечтать о браке — безумие. После того, как их отношения будут прекращены, он…
Чёрный морок наплывал на него. Нет-нет. Он единственный сын отца. Жофрейль де Фонтейн тоже надеется на него. Нет, он не застрелится. Просто напьётся. Главное — пережить следующий день. Потом боль будет убывать. Он сможет. За глупость и безволие надо платить.
Эта боль и будет расплатой.
Неожиданно Арман ощутил никогда ранее не испытываемый прилив жалости к себе. За что? За что? Если всё в мире — возмездие, как говорили старинные фолианты, то надо хотя бы понять свою вину — это поможет смириться с карой. Он знал, что грехи отцов падают на детей, но это — грехи плоти. Сын развратного отца родится с врожденными пороками. Сын пьяницы здоров не будет. За что же? Арман де Клермон не знал погибшего деда, но в тот единственный раз, когда он побывал на родовом пепелище, даже чернь говорила о нём с любовью. Дед был добрым католиком и добрым семьянином — это говорила бабка. Может, это кара за тайные грехи? Но Арман не хотел выискивать греха — ни в деде, ни в отце. Хамство это. Но разорение семьи обрекало его род на вымирание. Или — на смешение с той недостойной кровью, что опошлит и унизит его. Впрочем, вздор всё это, опомнился Клермон. Жениться можно и на белошвейке, — просто Арман не мог жениться на той, что волновала его душу и плоть, на той, в ком воплотилась его любовь. Это и угнетало, заставляло ныть и жаловаться на судьбу.
Но довольно. Понимать причины Промысла Божьего дано лишь избранным. Да и что за беда — окончание рода? Бог создаст другие роды, и в роды и роды продолжится жизнь. Арман поднялся. Пора. Он должен. Если оттягивать и дальше, это станет невыносимым. Клермон спустился по ступеням парадной лестницы, усилием воли заставляя себя двигаться быстро, — пока не иссякла решимость. Дверь комнаты Элоди была закрыта. Арман осторожно постучал, но никто не ответил. Он сбежал на первый этаж, вышел через арочный пролёт на прилегающую лужайку — но и там её не было. Может, у запруды? Но там были только мадемуазель Сюзанн с Лоретт и Рэнэ де Файоль.
Арман вернулся в замок. Может, она в картинной галерее наверху? Но и там никого не было. На винтовой лестнице ему встретились Дювернуа с Этьенном, они шли из Рокайльного Зала. Клермон не хотел спрашивать у них об Элоди, и просто решил пройтись по гостиным и залам второго этажа. Он уже прошёл в арку входа, пропустив вперед Этьенна и Огюстена, когда в глубине коридора раздался горестный женский вскрик.
Все трое мужчин переглянулись, и поспешили вперед.
Здесь была лишь комната Габриэль, и Дювернуа испугался. Накануне, ближе к полуночи, он, как обычно, пробрался к своей малютке, правда, они снова несколько повздорили, но всё-таки закончили ссору под одеялом. Огюстен оставил её на рассвете, утомлённую любовными шалостями. Что могло случиться?
На пороге комнаты, пошатываясь, стояла Элоди, лицо её напоминало маску античной трагедии. Обруч, поддерживающий волосы, сбился, тёмные локоны растрепались по плечам, рукав платья упал с плеча, но она не заметила этого. Было видно, что она пытается овладеть собой, но в глазах застыло безумие. Арман кинулся к ней, Дювернуа протиснулся в глубину спальни, а Этьенн убедившись, что Клермон не даст мадемуазель Элоди упасть, решил узнать, что вызвало в ней такое волнение.
Огюстен в ужасе застыл посреди комнаты, и Этьенн не мог бы обвинить его в излишней чувствительности.
На постели, взбитой и словно переворошённой, лежало тело. Но об этом говорили только очертания. Оно было словно опалено дыханием бездны, кожные покровы кое-где были просто обуглены, в оскале черепа, потемневшего и обожжённого, застыло выражение ужаса. Странно живыми и потому особенно страшными были глаза, вылезшие из орбит.
В комнате появился Арман Клермон, неся полубесчувственную Элоди. Он, опустив её в кресло, повернулся к постели и тоже онемел от увиденного.
Быстрее всех в себя пришёл Этьенн, который, кстати, ни на мгновение не потерял присутствия духа. Случившееся скорее изумило его, чем потрясло. Граф был далеко не робкого десятка, перед непонимаемым останавливался, но оно редко пугало его. Он внимательно оглядел комнату, ночные столики, кресла, раму окна, прикроватный полог. Его глаза скользили по постели, на миг остановились на пальцах трупа, намертво вцепившихся в покрывало. Смутное подозрение появилось тут же. Такое действие могла оказать одна из дьявольских смесей, которыми забавлялась порой его сестрица Сюзанн, рецепты которых он знал и сам, но понять, зачем той потребовалось убивать малышку Габриэль — не мог. Сестрица была особой весьма умной, хотя ум служил, как правило, только её капризам, но это было слишком для самой прихотливой фантазии. Таких причуд Сюзанн себе раньше не позволяла.
Мсье Виларсо де Торан положил выяснить это при первой же возможности, а пока спокойно и властно распоряжался. Граф послал полуобморочного Дювернуа за мсье Гастоном, а потом посоветовал ему подышать свежим воздухом, Армана попросил отнести мадемуазель Элоди к ней в спальню, позвать горничную, затем известить о происшествии остальных, и ждать его после в библиотеке. И Дювернуа, и Клермон подчинились безропотно.
Сам Этьенн Виларсо де Торан, оставшись один, ещё раз внимательно осмотрел кровать, почти вплотную подойдя к телу, чего не хотел делать, пока в спальне были посторонние. Убрал простыню. Наклонился ниже, внимательно рассматривая тело. Перевернул труп, потом положил его обратно. Принюхался. Нет, не померещилось.
Над кроватью стоял запах болотной гнили и серы.
Глава 17. В которой гости его светлости, каждый на свой лад, высказывают свои предположения об убийстве малютки Габриэль
Этьенн решил вначале выяснить первый из возникших вопросов, подумав, что второе его подозрение не настолько и значимо при подтверждении первого. Он встретил на пороге мсье Гастона Бюрро, рассказал о страшной находке, попросил известить его светлость. После тихо проследовал вниз, где встретил Лоретт, де Файоля, Клермона, Дювернуа и Сюзанн. Здесь же была и Элоди, из чего Этьенн понял, что она уже пришла в себя и не пожелала остаться в спальне, и сейчас, сидя рядом с потрясённой Лоретт, слабым голосом рассказывала ей о случившемся. Арман то и дело бросал на неё обеспокоенные взгляды. Дювернуа сидел в стороне от всех и казался больным, его въявь лихорадило. На Рэнэ де Файоля сообщение впечатления не произвело. Было заметно, что он либо не осознал того, что произошло, либо не понял, что ему сказали. Впрочем, он не видел трупа. Этьенн впился глазами в сестру. На лице Сюзанн было некоторое недоумение, — и не больше, но Этьенну был известен артистизм сестрицы.
Тем временем о случившемся был извещён герцог, который, ужаснувшись, предложил, чтобы молодые люди помогли перенести тело в склеп под донжоном Главной Башни. Когда починят мост — гроб отнесут на дальний погост, ведь едва ли несчастные сестры бедной Габриэль пожелают похоронить её в Эрсенвиле? Это так сложно…
Сестры беспомощно переглянулись и кивнули.
Мужчины проследовали на второй этаж и тут, в спальне, до Рэнэ де Файоля через туман любовного помрачения дошёл весь ужас происшествия. Он несколько минут молча смотрел на тело, потом протянул руку к столбцу полога, но не сумел ухватиться за него, и просто упал в изножье кровати. Мсье Гастон ругнулся, помянув чёрта.
Подошёл егерь, мсье Бюрро взялся показать дорогу в склеп, но никто не хотел переложить тело на покрывало. Этьенн, оглядев обморочного Рэнэ, смертельно бледного и трясущегося Дювернуа и с отвращением разглядывавшего труп Клермона, не раздумывая, выбрал последнего.
— Помогите, Арман.
Хотя Клермон предпочёл бы помочь его сиятельству в каком-нибудь другом, менее противном деле, он понимал, что кто-то всё равно должен сделать это. Покрывало подняли и разложили на полу, Арман увидел, что у девицы обожжены только голова и грудь, а сзади тело почти нетронуто.
У двери раздался легкий вскрик, и Лоретт, пришедшая посмотреть на сестру, медленно сползла по дверной раме. Бывшая с ней Сюзанн оглядела покойницу взглядом напряжённым и мрачным, и у Этьенна снова зашевелились подозрения на её счёт. Клермон был благодарен Этьенну, взявшему на себя самое ужасное. Тот поднял труп и переложил его на покрывало, потом перекатил его на середину, при этом продолжая внимательно рассматривать. Тело накрыли простынёй. Наконец Рэнэ де Файоль и Лоретт были приведены в чувство, егерь и мажордом подняли покрывало с одного конца, Клермон и Виларсо де Торан — с другого, и печальная процессия двинулась в склеп.
Склеп под донжоном Главной Башни не был, к удивлению Этьенна, сырым, здесь царил приятный полумрак, в свете факелов ощущались странные провалы пространства, казалось, стен нет, а гробовые ниши напоминали античные колумбарии, выемки были неглубокими, но длинными, тело легко помещалось вдоль стены. Клермон заметил, что ниши в стене расположены по принципу пирамиды — три в самом низу, над ними — ещё две, и одна в самом верху. Они оставили тело в крайней из трёх нижних ниш.
Выйдя на свет и зажмурившись, все долго молчали, стараясь придти в себя. Мсье Гастон сообщил, что в связи с печальным происшествием, герцог решил не собирать их в столовой, они ведь согласятся пообедать у себя? Оба кивнули, Этьенн предложил искупаться в пруду, Клермон торопливо сбегал за полотенцами и оба поспешили к Дальней Башне. Каждый, хоть и не делился впечатлением с другим, чувствовал исходящий от рук омерзительный болотный запах, он же, казалось, витал вокруг.
Оба ринулись в воду и плавали, сколько было сил. Клермон наконец сказал, что как будто больше не чувствует мерзкой вони. Этьенн кивнул и оба выбрались из воды. Никому из них не хотелось разговаривать о происшествии, которое никто пока не назвал убийством, и Арман безучастно выслушал похвалу Этьенна его прекрасному, как у античного бога, сложению. В другое время такая похвала смутила бы его, но не теперь. Клермон лишь деловито поставил его сиятельство в известность, что не является inverti.
Виларсо де Торан почти истерично расхохотался.
— Боже мой! Попробовать — не значит приохотиться, Арман. Это были детские шалости. Они давно забыты. Не порчу я изгороди! Я говорю, как эстет. И Бога ради, не называйте меня «ваше сиятельство». Меня зовут Этьенн.
Клермон взглянул на Этьенна и подозрительно спросил, о каких изгородях он говорит?
Граф весело рассмеялся и рассказал, как во времена Регентства герцог де Буфле, маркиз д'Аленкур, маркиз де Рамбюр и г-н де Мем прогуливались в парке. Было жарко, и «кусты роз источали сладострастный аромат». Нежное сердце г-на де Буфле не выдержало, он попытался изнасиловать Рамбюра, который не понял его порыва. Тогда, рассказывает Матье Маре, «г-н д'Аленкур постоял за честь семьи и сделал то, что не удалось его шурину». Естественно, уже на следующий день об этом стало известно всему двору. Возмущенный Вильруа, воспитатель юного дофина, получил от регента летр де каше для наказания виновных. Д'Аленкуру было предписано отправиться в Жуаньи, Буфле — в Пикардию, г-ну де Мему — в Лотарингию, а Рамбюра препроводили в Бастилию. Стремительный отъезд всех этих молодых господ очень удивил юного короля, и он потребовал от воспитателя объяснений. Крайне смущенный Вильруа ответил, что герцог де Буфле с друзьями «забавлялся порчей изгороди в саду». Король счёл объяснение удовлетворительным, а при дворе ещё долго называли «вредителями изгородей» молодых людей с порочными наклонностями…
Клермон покачал головой, но ничего не сказал. Этьенн же неожиданно посерьёзнел и о чем-то задумался. Потом оба оделись, собрали вещи и направились в замок.
По пути каждый думал о чём-то своём.
О своём думал и каждый из гостей замка. Обрывки подозрений, мозаика полузабытых воспоминаний, сумбур в мыслях, инспирированный страхом — роились в голове у каждого. Огюстен Дювернуа был в ужасе. Едва он увидел труп Габриэль, перед ним расступилась земля. Он не боялся, что кто-то узнает об их связи, — откуда? — но вид обугленной головы его юной любовницы преследовал неотвязно. Господи, что же это? Как? День ему удалось провести, толкаясь среди людей, переходя от одной группы к другой, отвлекаясь посторонними разговорами, но неумолимо приближавшаяся ночь страшно пугала. Огюстен мучительно боялся остаться один. Казалось, из тёмных углов на него глядел призрак совращённой им Габриэль, тянул к нему руки, улыбался жутким черепным оскалом. Огюстен чувствовал тихий, но запредельный ужас. Шуршащая шелковая простыня, казалось, издавала едва различимое змеиное шипение, летний дождь стучал в окно, словно призрак, гонг к обеду заставил его в ужасе вздрогнуть. Мысли его наполнились кошмарами.
Первые несколько часов его воспалённый рассудок просто не мог даже сформулировать ни одной здравой мысли, но потом ему удалось чуть придти в себя. Но кто это сделал, чем, как, когда? Умственный уровень человека всегда определяет широту или узость его мышления, нравственный уровень — его высоту или низость. Нельзя сказать, чтобы Огюстен был глуп, но он думал только о собственной безопасности. Проблема была в том, что едва он увидел труп Габриэль, как тут же, после первого парализующего пароксизма ужаса, ему вдруг на миг показалось, что он что-то отчетливо понял, — настолько отчетливо, что его даже обдало жутким погребным холодом. Но странно — именно это ледяное веяние вдруг прогнало понимание!
Сейчас он тщетно пытался понять, что же произошло.
Огюстен не хотел признаваться себе в понимании, что оказался не в силах ублажить свою милашку, что в последнее время всё чаще ловил в её взгляде недовольство и презрение. Не остались незамеченными для Огюстена и домогательства Габриэль к Клермону. Видел он и то, что Арман не заметил — или сделал вид, что не заметил — попыток Габриэль влезть в его постель. Но подобное поведение отнюдь не порождало в Дювернуа благодарности или признательности — это всегда признак высоты мышления. Огюстен чувствовал себя униженным и оплёванным, — тем более, что ему предпочли того, кого он никак не считал равным себе. Впрочем, как говорил кто-то весьма неглупый, «уважение, которое испытывают к себе самые ничтожные люди, достойно научного изучения». Огюстен Дювернуа искренне не считал Клермона равным себе. Сам он не отличался ни красотой, ни родовитостью, ни образованием — но был несокрушимо уверен в своём превосходстве над Арманом. По его мнению, он был богаче и умом, и опытом, и пониманием жизни, и умением жить. Разве мог сравниться с ним этот нелепый книжник? Бесило Огюстена и предпочтение, выказываемое Клермону Виларсо де Тораном. При этом, к самому Этьенну Огюстен Дювернуа относился без всякого пренебрежения, скорее с боязливой осторожностью, которая подавляла и зависть, и ненависть, и о его сиятельстве Дювернуа отзывался с неизменным уважением. Его, и только его — он не мог поставить ниже себя.
Но подозревал ли Огюстен Клермона в убийстве Габриэль? Вовсе нет. Он не подозревал и Этьенна — и именно потому, что что-то понял тогда, стоя перед альковом своих распутных утех. Но что?
Мысль ускользала.
Однако, перебирая мысленно всех, кто мог быть причастен к гибели Габриэль, он морщился. Файоль? Смешно — он и мухи прихлопнуть не в состоянии с тех пор, как его самого заглотила эта юная графиня. Сюзанн? Он побаивался этой особы, когда заметил тот необъяснимый ущерб, что нанесла Рэнэ связь с ней. Способна ли она плеснуть какой-то кислотой в лицо Габриэль? Ещё как способна. Нет ничего, на что эта знатная ведьма и потаскуха не была бы способна. Но сделать это она могла только в том случае, если Габриэль перешла ей дорогу. Огюстен не исключал, что Габриэль могла попытаться найти и другого любовника, кроме Клермона. Но даже если она попыталась бы отбить Файоля у Сюзанн, той было наплевать на Рэнэ — это Огюстен видел. Предположим, Габриэль замахнулась на Этьенна. Это более вероятно. Но что теряла от того Сюзанн, чтобы убить Габриэль? Её братец, если и взял бы Габриэль, то разве что на ночь. Если бы малютка стала навязчивой — безжалостно выставил бы её либо на посмешище, либо сотворил любую из своих бесчисленных мерзостей, на которые он, ох, как горазд. Мало, что ли, рассказывали по Парижу о его мерзостях с женщинами? Для бабы лучше полюбить чёрта. На горе бабам живёт. Но убить? Здесь, в замке? Не вяжется. Нет, это не мужское убийство — мужики кислотой не убивают.
Это бабы.
Однако Огюстен и на минуту не заподозрил эту нелепую пуританку — сестрицу Габриэль Элоди. Эта девица себе на уме, но близки они с Габриэль не были, и сама Габриэль говорила о ней со злостью и пренебрежением. Лоретт? Влюблённая в Этьенна дура? Огюстен почесал в затылке. Если интересы сестричек где-нибудь пересеклись, он не сомневался, что одна могла бы, не задумываясь, плеснуть какой-нибудь дьявольский состав в лицо другой. И если у Габриэль на самом деле хватило глупости влезть в штаны Виларсо де Торану, то Лоретт, пожалуй, будет первой кандидатурой на роль убийцы. А что до её обморока — так девице упасть в обморок, как ему — помочиться.
Да, возможно, это Лоретт.
Рэнэ де Файоль через день после убийства просто слёг. Все предшествующие дни он чувствовал себя обессиленным и с трудом скрывал слабость, но ужасное зрелище, тем паче, что он был совсем не готов к подобному, просто подкосил. Его смогли привести в чувство, Рэнэ сам сумел дойти до постели, но после силы совершенно покинули его.
Несколько дней он плавал в забытьи.
Сюзанн, надо сказать, не сильно обременяла себя заботами о Рэнэ, но у него нашлась сиделка, и притом, на удивление заботливая. Ею стал Огюстен Дювернуа. Болезнь приятеля, подлинной причины которой Огюстен не понимал, позволяла ему целые дни сидеть у Рэнэ, отвлекаясь от собственных мыслей, читать ему, оказывать мелкие услуги. Он фактически проводил у де Файоля и ночи, устраиваясь на кушетке возле камина. Но, несмотря все его заботы, легче Рэнэ де Файолю не становилось, тем более, что сидящий рядом Дювернуа странно нервировал его. Рэнэ знал, что тот совратил младшую из сестричек, и почти не сомневался — что рядом с ним — убийца. Впрочем, по временам задумываясь, Рэнэ не мог объяснить причины, толкнувшие того на подобное. Обессиленный и истомлённый бесплодной, изнуряющей похотью, он был почти не способен уже связно думать, испытывая лишь гнетущую усталость души и плотское изнеможение.
Все утрачивало смысл, теряло значение, растворялось в бесконечном, сумбурном и калейдоскопическом сне.
После обеда Этьенн нашёл Сюзанн в её спальне и предложил прогуляться. Он привёл сестру на берег реки, где уже начались кое-какие приготовления к восстановлению моста.
— Что случилось с этой юной шлюшкой? — спросил он, когда они достаточно удалились от замка.
Сюзанн внимательно посмотрела на брата. К её чести, она не сделала вид, что вопрос Этьенна шокировал или изумил её. Тем более, что тон брата был спокоен и размерен, лицо бестрепетно, он просто хотел понять загадку ужасной смерти Габриэль, и прояснял неясное для себя.
— Ты полагаешь, это моя работа?
— Её лицо и грудь обожжены, а на простыни, помимо прочего, — маслянистые пятна без цвета и запаха. Зато в воздухе — запах серы. Не твои ли это les remédes des bonnes femmes — «рецепты старушек»?
Сюзанн Виларсо де Торан в задумчивости нахмурилась. Она не была обижена подозрениями брата, скорее — просто недоумевала. Она точно знала, что не убивала Габриэль. Но вопрос, кто это сделал, был тревожным. Ей нравилось владение ядами. Она упивалась пониманием, что может шутя распоряжаться чьей-то жизнью и смертью. Но мысль, что кто-то другой, неведомый, здесь, совсем рядом, в замкнутом пространстве замка, владеет подобным искусством и нужными для этого средствами — совсем не радовала. У Сюзанн, кроме возбуждающих средств, испробованных на Рэнэ да Файоле, ничего с собой не было. Ей не показалось, что они могут понадобиться.
— Я не трогала её, Тьенну, поверь. Зачем? Что мне в этой девчонке?
Этьенн исподлобья посмотрел на сестру. Сюзанн ничего не стоило солгать, но ему она никогда не лгала. Сказанное ею совпадало с его мыслями. Ей действительно не было никакого дела до Габриэль. Неожиданно он услышал слова Сюзанн:
— Когда об этом стало известно, я подумала, что это твои забавы, хотя и не понимала, что тебе до неё за дело? Но теперь кое-что, похоже, проясняется. Почему ты назвал её шлюхой? Ты втихомолку позабавился с ней, а потом обнаружил, что она развлекается с кем-то ещё? Не так ли? Ведь она спрашивала меня кое о чём…
Трудно объяснить почему, но эти слова сестры окончательно убедили Этьенна в том, что сестрёнка не причём. Он растянул губы в улыбке.
— Твои способности к анализу превосходны, дорогая. Но, поверь, что до сегодняшнего дня я, хоть и не обращал внимания на девицу, всё же полагал, что она девица. Однако обследование её спальни разубедило меня в этом, а осмотр тела, носящего следы самых пылких ночных увеселений, позволил заключить, что девица ночи проводила в мужских, весьма поднаторевших в блудных делах объятиях. И я даже знаю, в чьих. Поэтому, называя её шлюхой, я, вопреки твоим предположениям, просто назвал вещи своими именами.
Сюзанн подняла на него глаза.
— Да, она и мне показалась… шустрой. Значит, это не ты… И её любовником был, ты полагаешь….
— Полагаю, что Дювернуа, дорогая. Обидеть тебя предположением, что у Файоля хватило бы сил на кого-то, кроме тебя, я не могу. — По губам Сюзанн пробежала самодовольная и дерзкая усмешка. — Его светлость едва ли способен на такие подвиги. Возраст не тот. Я не трогал девицу. Из Клермона такой же развратник, как из меня девственник. Кто же остаётся?
— Полагаю, так и есть. Но зачем Огюстен убил её?
— В том-то и фокус, что он не убивал.
Сюзанн, подняв брови, озирала брата.
— Не убивал?
— Нет. Или я ничего не понимаю. Я вошёл в спальню через мгновение после него. Огюстен, рассмотрев тело на постели, побледнел как простыня. Такого и Тальма не сыграет, а Дювернуа далеко до Франсуа Жозефа. Твой Файоль — артистичен, но Дювернуа — плебей и серость. Он мог бы попытаться что-то изобразить — истерику или обморок, но бледность не сыграешь. Огюстен смертельно перепугался и был просто потрясён. Он её не убивал.
— Чёрт возьми, Файоль был со мной всю ночь, и утром не отходил, разве что на считанные минуты, остаётся предположить, что Габриэль укокошила одна из её сестричек или Клермон.
— Суждение экстравагантное, но допустимое. И даже логичное. Но я почему-то в это верю слабо.
Сюзанн усмехнулась.
— Честно говоря, я тоже. Но, вообще-то Лоретт… То ли от несчастной любви, то ли от природы, но, я заметила, особа она весьма нервозная…
— И где Лора взяла кислоту?
Сюзанн пожала плечами.
— Да и полно, Фанфан, она ли это? Зачем ей убивать сестру? Ты же не проявлял к младшей внимания — чего же ей злиться?
— Да, но тогда получается, что она сама себя убила. Но и это чепуха. Её что-то напугало перед смертью: оскал у черепа — жуткий, ты же видела…
Разговор с сестрой успокоил Этьенна, и утвердил в невиновности Сюзанн, но ничего не прояснил.
Гибель Габриэль напугала Клермона, но, главное, она поколебала его намерение объясниться с Элоди. Сейчас всё отступило на второй план. Он не может оставить её теперь, когда она потеряла сестру. Понял Арман и ещё одно. Хотя он всё ещё не мог до конца поверить, что его любят, точнее — страшился упиться этим сладчайшим помыслом, боясь, что от этого окончательно потеряет и голову, и волю, но неожиданно осмыслил, что выхода у него уже не было.
Он уже был связан — и честью, и любовью. Она верит ему.
Днём Клермон почти не отходил от сестёр. Лоретт, и до того подавленная словами Этьенна, теперь, как и Рэнэ де Файоль, слегла. То ли потрясение от ужасного вида трупа сестры, то ли предшествующее равнодушие Этьенна, то ли естественная слабость способствовали тому — сказать трудно. Элоди ухаживала за ней, Арман старался поддержать свою любимую, однако, череда мелких дел и забот не могла вытеснить из души потрясение от пережитого. Но, хоть ему и казалось, что душа перенапряжена до предела и не выдержит даже малейшего бремени, новая тягота, подобная мраморной плите, обрушилась на него почти тотчас.
На третий день после гибели Габриэль, он принёс Элоди поднос с успокоительной настойкой для сестры, бесцельно прогулялся по этажам, потом пошёл было переодеться, но неожиданно столкнулся с Этьенном. Тот волок из библиотеки к себе в спальню какую-то инкунабулу, пыльную и местами покрытую паутиной. Граф отказался от помощи Армана, но проронил, что хотел бы поговорить с ним. Клермон пошёл за ним. Книгу Виларсо де Торан опустил на скамейку названием вниз, что не преминул заметить Арман, но слова его сиятельства заставили его вскоре позабыть о принесённом фолианте.
— Простите меня, Клермон, но мне хотелось бы понять некоторые вещи. Спальня убитой, — Арман вздрогнул от этого жесткого слова, — на втором этаже. Библиотека тоже на втором этаже. Вы, как я замечал, часто засиживаетесь там вечерами. — Этьенн говорил неторопливо и задумчиво.
— Если вы хотите спросить меня, не я ли убил мадемуазель Габриэль…
— Вздор, — высокомерно прервал его Виларсо де Торан. — Разумеется, вы не убивали. Равно и не вы, я уверен, совратили малютку и столь осязаемо расширили её анальное отверстие. Я знаю, с кем говорю. Единственное, что мне хотелось узнать… — Этьенн замолчал, потому что заметил, как Клермон побелел и нервным жестом распустил шейный платок. Этьенн вскочил, не закончив фразы: Клермон медленно опускался на колени. — Арман! Чёрт возьми, что с вами? — Граф ринулся к трюмо, и торопливо наполнил бокал вином.
Клермон и слышал, и не слышал его. Несколькими глотками осушил поданный ему бокал, но это не помогло. Его колотило. Этьенн, искренне изумлённый странным эффектом своих слов, подняв его и усадив на диван, сел с ним рядом. Он уже понял, что Арман, хоть и видел тело Габриэль, не заметил тех следов, что наложил на него разврат, тех, что безошибочно прочитал он сам благодаря многолетнему опыту порочности. Он-то полагал, сравнив их интеллекты, что их понимание равно, а оказалось… Чёрт возьми, неловко получилось.
Через несколько минут Клермон немного пришёл в себя.
— Вы… — нервно уронил он, — Вы… вы не пошутили, Этьенн? — Арман впервые почти бездумно выполнил просьбу графа называть его по имени. Но не потому, что стремился к подобному панибратству. Он вообще не любил фамильярности. Сказывалось потрясение — не до титулов ему было. Впрочем, если бы его сиятельство и уверил, что это шутка, он бы уже не поверил. Понял это и Этьенн, и мягко извинился.
— Простите, Бога ради, Арман. Я был уверен, что вы тоже догадались, когда увидели тело.
Клермон отрицательно покачал головой и тяжело вздохнул. Ему, правда, что-то показалось однажды…
— И кто это сделал?
Этьенн поморщился.
— Я думаю, что это мы обсуждать не будем. У вас… слишком бурная реакция на некоторые новости. Вернемся к теме. Довелось вам вечером, накануне её смерти, видеть или слышать на этаже что-либо подозрительное?
Арман устало задумался.
— Насколько я помню, нет. — Он помолчал, потом тихо спросил, — это Дювернуа?
Этьенн пожал плечами. В сфере логики и здравого смысла они с Клермоном были равны. Тем более задача была из простейших. Глупо было думать, что Арман не вычтет три из четырех.
— Я думаю, что да.
— Это он убил её?
Этьенн почесал кончик носа и вздохнул.
— Я не знаю. — Он поймал на себе серьёзный и посуровевший взгляд Армана. — Есть два довода против. Первый — его поведение после обнаружения тела, — и Этьенн сжато перечислил Клермону те же аргументы, что изложил и сестрице. — Есть и ещё один. Если вы похотливы и нашли объект приложения своих похотей, зачем же избавляться от него? Я говорил вам, что Дювернуа вполне мог бы совратить нетребовательную девицу, но глупо отказываться от такой добычи, тем более — здесь. Другое дело в Париже… Но здесь-то выбирать ему было не из чего. К тому же — молоденькая, свеженькая… лакомый кусочек. Что ему за резон?
Арман смутился, но всё же задал интересовавший его вопрос.
— Он… он, по-вашему… Он взял её силой?
Этьенн уставился на Клермона как энтомолог — на редкую бабочку, — с человеческими ушами вместо крыльев.
— Вы что, сумасшедший? — Он, впрочем, не оскорблял. Но въявь иронизировал. — В иных вещах, вы, Арман, просто ребёнок, ей-богу. Вам пора обрести себя и стать мужчиной. Эта девица была из тех, кто ещё в отрочестве начинает ласкать себе ручкой промежность, а годам к пятнадцати умудряется перецеловаться со всеми кузенами, а к шестнадцати уже имеет достаточно полное представление о том, что у мужчины в штанах и как оно действует. В любом случае, она была готова, мило поотнекивавшись, уступить мне, вторым она предпочла бы вас, вы куда красивей этого парвеню Дювернуа. Но это мог бы быть и Файоль — если бы обстоятельства так сложились. Взял силой! Подумать только! Разве дверь её спальни была взломана?
— Вы не можете этого знать!
— Как гласит старая медицинская шутка, in dubitantibus et ignorantibus suspice luem, в случае сомнения или незнания подозревай сифилис, дорогой мой.
— Но… разве это не мог быть… кто-то из слуг, разве нет?
— В замке старуха-кухарка, несколько лакеев, мажордом и егерь далеко не юного возраста. Если бы это и сумел сделать кто-нибудь из них, — почему же она не подняла шум? Нет-нет, не выдумывайте, Клермон. Да и фантазии этих простолюдинов на подобное не хватило бы. Перестаньте бояться посмотреть истине в глаза. Никогда не поверю, чтобы вы не замечали её голодных похотливых взглядов.
Клермон опустил голову, покраснел и промолчал.
— Что, вспомнили?
— Господи, ведь совсем ребенок…
— О, нет, не совсем ребенок и даже — совсем не ребенок. Обе они — и Габриэль, и Лоретт — кем-то весьма основательно развращены. Я не хочу сказать — телесно. Но их души — души обычных потаскушек.
— Умоляю вас, ваше сиятельство…
— Напоминаю, Арман, меня зовут Этьенн, Тьенну, Фанфан. Что до характеристик упомянутых особ — Бога ради, не буду…
— И… и что теперь делать?
— Да ничего, кроме того, чтобы попытаться понять, кто это сделал? Мне не нравятся убийцы, расхаживающие мимо моей спальни. Я хочу понять, кто это, и поостеречься. Единственная зацепка — обугленный труп и то, что я прошу вас, Арман, не разглашать. Я чувствовал около трупа запах серы. Он быстро улетучился, остался лишь дух гнили. — С этими словами Этьенн поднял со скамьи пыльную инкунабулу и перевернул её. Это был Albertus von Bollstadt Magnus, Альберт Великий, один из томов его «Opera omnia» — «О растениях, минералах и ядах». — Поняв, что было использовано для убийства — есть шанс понять, чьи это шалости. Пока я этого не уразумел.
Клермон убито согласился и направился к себе. На душе у него было столь мерзко, что и жить не хотелось. Он зашёл к себе, переоделся, ощущая тупую боль и некое неосознанное желание. Когда он понял, что с ним — удивился. Ему хотелось напиться — вдрызг. Но Арман отказался от подобного намерения. От большого количества вина его мутило, а малое не брало. Он решил было снова пойти к Элоди, но отверг и это решение. Впереди его ждало одиночество, и нелепо было приучать себя к счастью. Едва ли он там сейчас и нужен. Арман, обессиленный и странно взвинченный, поплёлся в библиотеку — в своё последнее пристанище.
Она была там. Бледная, с потемневшим лицом, похожая на маску горя, Элоди, выпрямившись в струну, сидела на второй ступени стремянки, отчего казалась древней скорбной королевой, получившей известие о нашествии варваров. Он подошёл, молча приник к её белой руке. Неожиданно она коснулась пальцами его жилета.
— Она у вас с собой?
Арман не понял. Что?
— Ваша записная книжка, куда вы списали ту надпись. Дайте её мне.
Он недоуменно пошарил в жилетном кармане, протянул ей книжку. И тут же вспомнил, что не должен был этого делать. Но было поздно.
— «Vae aetati tuae, juvenca fornicaria, desperata Stygios manes adire…» — тихо прочитала она, — «juvenca fornicaria…» Мне и казалось, что я где-то слышала это, а давеча вспомнила. Это было в проповеди… «Юная блудница».
Клермон хотел было уверить её, что текст можно истолковать иначе, но…
— Мсье Виларсо де Торан человек, безусловно, порочный, но в уме ему не откажешь, — зло проговорила Элоди, — «Эта девица была из тех, кто ещё в отрочестве начинает ласкать себе ручкой промежность, а годам к пятнадцати умудряется перецеловаться со всеми кузенами, а к шестнадцати имеет полное представление о том, что у мужчины в штанах и как оно действует…». Он прав, этот Этьенн. Я старалась не замечать в ней…
Клермон онемел. Он всё понял. Они с Этьенном разговаривали в его спальне, примыкавшей с дальнего коридора к библиотеке, и как до него донеслись когда-то циничные слова Сюзанн и её брата, так сегодня Элоди услышала его разговор с Этьенном. Арман с ужасом посмотрел на неё. Ему бы и в голову не пришло пересказать ей догадки Этьенна о сестре. Он и слов не нашёл бы, чтобы передать такое. Сейчас Арман молчал, не зная, как смягчить её новое горе, лишь чувствовал, что эта последняя тайна ещё больше и теснее связала их. Почему-то Этьенна он во внимание не брал.
Она тоже молчала, кусала губы и раскачивалась в такт каким-то своим, запредельно-скорбным мыслям.
Глава 18. В которой граф Этьенн, как до этого Элоди, слышит разговор, в общем-то, не предназначенный для его ушей, и решает во что бы то ни стало добиться той, что отвергала его
Клермон хотел проводить Элоди к Лоретт, но она отрицательно покачала головой. Оба проскользнули вниз по ступеням центрального входа, вышли из замка в серые сумерки и, не сговариваясь, побрели к той самой скамье, где впервые разговорились. Сегодня оба молчали, были странно отстранены друг от друга, неосознанно сели по разные стороны скамьи.
Клермон заметил краем глаза, что в спальне Этьенна растворено окно и сам он смотрит на них, но ему совсем не хотелось обращать внимание Элоди на человека, чьи жестокие слова только что столь сильно ранили её. Он и сам тут же забыл об Этьенне. Элоди же после долгого молчания наконец заговорила, спросив, что, по его мнению, все-таки произошло с сестрой?
— Пусть мсье Дювернуа и совратил Габриэль, но мсье де Торан полагает, что он не убивал её, и его аргументы мне показались весомыми. Мне казалось, можно заподозрить троих. Мсье Дювернуа — способен на любую низость, мсье де Файоль неспособен ни на что высокое, а вот мсье Виларсо де Торан — способен на все. Он-то и ужасает меня больше всех. Но зачем графу убивать сестру? — Элоди пожала плечами, — но это и не Огюстен, и дело не в словах его сиятельства, для меня весомей всего остального глаза мсье Дювернуа… Да, он способен на любую низость. Но именно — на низость. Такое же убийство требует страшной, дьявольской силы духа, а мсье… такое ничтожество.
Клермон поежился. Суждения Элоди не то, чтобы шокировали его — в них не было ничего, чего не думал бы он сам, и Арман с самого начала знакомства понял, что она умна, но все же безапелляционное высказывание подобных суждений несколько противоречило в его глазах понятию о женственности. Впрочем, Клермон давно заметил, что женственная нежность Элоди, скупая и несколько скованная, проступает редко. Это не огорчало его — пустые кокетки не нравились ему, но всё же он хотел, чтобы в ней было больше мягкости — хотя бы в словах. Сам Арман по существу был согласен с Элоди в её суждении о Дювернуа, но предположений об убийстве у него не было. Кожа Габриэль была обожжена, даже обуглена. Что это могло быть?
Он недоумевал.
Где-то в кустах у воды что-то затрещало, и в воду плашмя прыгнули несколько лягушек. Никто из них не заметил, как за стволом толстого вяза появился Этьенн.
Элоди снова заговорила.
— Когда умер отец, я вернулась из пансиона. Он оставил опекуном своего друга Леона де Жюссе. Тот был далеко не молод, и очень радовался, когда видел, что я стремилась понять… я хотела разобраться в азах управления хозяйством, и мне было лестно слушать его похвалы. Лоретт не способна была ничего понять в делах, Габриэль была совсем девчонкой. — Она тяжело перевела дыхание. — Я занималась подсчётом доходов, расчётами с арендаторами, закупкой конской упряжи и фуража для лошадей, подсчитывала, сколько нужно мяса для семьи и как дешевле привести его — из Бове или из Лана. Я так гордилась собой… И думала, что и отец… Он любил меня больше всех дочерей, и я думала, что он гордился бы мной. Вот когда мне довелось разобраться. Я занималась тем, что казалось мне важным, но я проглядела душу сестры… Нет, — поморщившись, проговорила она, — я ведь видела… эта дурочка — её гувернантка, мадам Дюваль, могла говорить только о тряпках и ухаживаниях мужчин, но мне казалось, что… Я не могла уволить её, но я не думала, что её слова что-то значили для Габриэль. А выходит, я думала о приумножении семейного благополучия, но возле меня выросли просто две juvenci fornicarii, две юные шлюшки…
Клермон почувствовал, что во рту у него снова пересохло, и заговорить смог далеко не сразу. Он и сам-то был склонен к самоанализу, но подобная мертвящая аналитичность снова показалась излишне жесткой.
— Зачем вы так, Элоди… Причём тут… Они вам — не дочери, а сестры. Вы не ответственны за них. Габриэль совсем юна… а Лоретт… как можно?
— Я не права? — Элоди посмотрела на него больными, утомлёнными глазами, казавшимися странно огромными. — В чём? Вы прекрасно понимаете, Арман, что они одинаковы. Одна отдалась, потому что её возжелали и совратили, а другая — не отдалась. Потому что её не пожелали совратить. А захотели бы — она пошла бы куда дальше Габриэль. Настолько дальше, насколько мсье Виларсо де Торан грязнее и омерзительнее мсье Дювернуа… Кстати, я могу спросить вас? — он бросил на неё испуганный взгляд, — что связывает вас с этим человеком? Вы с ним разговариваете так, словно вы… понимаете друг друга. Впрочем, нет, — опомнилась она, — он считает вас, судя по тому, что я слышала, наивным простаком…
Клермон задумался. Он не имел права делиться тем, что услышал от Этьенна — это касалось только самого Этьенна, и в отличие от его разговора с сестрой, тот разговор неблагородно было оглашать. Арман не мог говорить об этом, но мог выразить свою мысль, не раскрывая тайн графа Этьенна.
— За время моего пребывания здесь мое мнение о мсье Этьенне несколько раз менялось, от уважения до отвращения и от неприятия до сочувствия. Чтобы судить о человеке, надо проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Я не имею права рассказать вам всё, просто поверьте мне, Элоди, в его жизни есть обстоятельства, сделавшие его тем, что он есть, обстоятельства, в которых он неповинен. Его таким сделали.
— А мсье Виларсо де Торан понимает, — что он есть?
— Что?
— Мсье Этьенн понимает, кем его сделали?
— Думаю, что да.
— И что сделал он сам, чтобы перестать быть тем, кем его сделали?
Клермон недоумённо посмотрел на неё.
— А он мог… разве он мог что-то сделать?
— Если из тебя сделали мерзавца и ты понимаешь, что ты мерзавец — перестань им быть. Те, кто сделали его тем, что он есть, ответят за это, ибо живёт Бог, но если он, осознав свою мерзость, не пытается излечиться — пусть никого не винит.
— …Возможно, вы правы, но мне стало жаль его…
— Лучше бы вы пожалели тех, кого он погубил. Сестра моей подруги по пансиону отравилась из-за этого мерзавца. Он мог остановить распад в себе и разорвать цепь порока — на себе. Но если он не хочет сделать это — мсье Виларсо де Торан тщетно будет ждать от меня жалости.
Неожиданно в древесной кроне раздалось если не карканье, то нечто весьма похожее. Арман изумился — воронье обычно громко переговаривалось по утрам, но вечерами их никогда слышно не было. Элоди тоже вздрогнула и поднялась, сказав, что ей пора к Лоретт. Арман кивнул, и они побрели обратно в замок, она — первая, он — за ней. Но у входа Элоди замерла и стремительно повернулась к Клермону, вцепившись в его жилет. Её приметно трясло, и рука, которой она указала на фронтон, ходила ходуном.
Арман смутно помнил, когда они возвращались с запруды вместе с Этьенном, никакой надписи над входом не было. Теперь буквы на стене снова читалась. Клермон, сжимая локтем трясущуюся руку Элоди, привычно скопировал каракули, и перевернул их на свет недавно зажегшегося венецианского фонаря. «… mors te cito abstulit, сaecus et immodicus, crudeli funere exstinctus».
— Бога ради, Арман, не выдумывайте ничего. Читайте, как есть.
Арман вдумался в текст.
— Это о мужчине. «…Смерть быстро унесла тебя, слепого и безрассудного, погибшего в муках» — Он тяжело перевёл дыхание.
— Точно ли о мужчине?
— Да, здесь окончания мужского рода.
— До гибели Габриэль это могло быть чьей-то нелепой шуткой, но теперь это не кажется таковой. Что здесь творится? Куда мы попали? Что происходит, Господи? — Элоди медленно вошла в темный холл. Клермон неожиданно вспомнил и, несколько путаясь, рассказал ей, что сказала ему старуха, случайно встретившаяся в горном ущелье. Элоди молча выслушала.
— И это вас не встревожило?
— Я подумал, что просто глупая старуха болтает вздор.
— Словосочетание «глупая старуха» не очень-то умно, Арман…
Клермон улыбнулся и почувствовал, его сердце заливает волна теплой нежности. Он кивнул и незаметно ласково сжал её пальцы. Он уже не любил. Он обожал её.
Этьенн, едва Элоди и Арман ушли в замок, вышел из своего укрытия. Он увидел их случайно, пытаясь закрыть раму и намереваясь погрузиться в фолиант Альберта Великого, но увидев, не мог не подумать, что Арман рассказал Элоди о его подозрениях. Он и сам не знал, хотелось ему или нет, чтобы мадемуазель д'Эрсенвиль узнала, кем была её сестричка. Подслушать разговор его побудило простое любопытство.
Услышанное ошеломило и покоробило его. Подслушивающий никогда не услышит о себе ничего хорошего, и эта жесткая максима сбылась на Этьенне. Он понял, что Элоди знает обо всём, и едва ли мог упрекать в чём-то Клермона, который, как думал Этьенн, рассказал всё Элоди. Его просили не разглашать только одно обстоятельство — о запахе в спальне покойницы. Но об этом речи и не было. Однако резкое и суровое самообвинение Элоди удивило Этьенна куда больше, чем Клермона. Суждение же о сестре, точнее, о сёстрах, несло печать приговора. Сам он рад был бы посмаковать эту тему — но именно посмаковать, а услышанное от Элоди не было смакованием. Сравнение же его самого с Дювернуа, благородная попытка заступиться за него Армана и не оставляющие никакой надежды слова Элоди о нём самом — заставили передернуться.
До Этьенна не сразу дошёл полный смысл сказанного. Вначале он просто чувствовал боль и раздражение — она совершенно равнодушна к нему и даже относится к нему с брезгливой неприязнью, подумать только — сравнить его с Дювернуа! Теперь он уже не мог тешить себя сказочкой, что она питает к нему склонность, но скрывает её. Это было даже не равнодушием, но отторжением. Отторгающая его женщина? Не любящая его и не влюблённая в него? Такого Этьенн просто не встречал.
Но и подумать, что Элоди просто играет равнодушие — не получалось.
Этьенна задело, что она удостаивала говорить с Арманом и, судя по всему, была с ним откровенной. Ему, правда, не показалось, что между Элоди и Арманом есть хотя бы подобие чувства. Влюблённые не сидят на лавке в туазе друг от друга и не обращаются друг к другу на «вы». Но постепенно, по мере обдумывания услышанного, Этьенн почувствовал странную томящую горечь.
Её слова медленно и во всей полноте доходили до него. Этьенн долго пытался постичь мысли и склонности Элоди, — чтобы понять ту слабину, на которой можно сыграть, чтобы заполучить красотку в постель. Но теперь, когда эти мысли стали ясны для него — оторопел. Он полагал, что нет женщины, которой он не сумеет завоевать, и сотни побед, не стоившие ни душевных усилий, ни финансовых затрат, казалось, подтверждали его правоту. Но эта девица обладала таким мышлением, которое делало все его усилия напрасными. Проступивший характер был нравом настоятельницы монастыря. Этьенн не видел пути получить её — иначе, чем взять силой, но даже Шаванель, не брезговавший никакими мерзостями, к подобному относился гадливо. Этьенну же, привыкшему к обожанию и поклонению женщин, это и вовсе претило. Его возбуждало тщеславное осознание женского обоготворения, и проявить себя в агрессии значило невозможное — признать зависимость от женщины, а это он считал унизительным и невыносимым для себя.
Но даже не это было сейчас важным. Эта чертова красотка считает его мерзавцем? «Если из тебя сделали мерзавца и ты понимаешь, что ты мерзавец — перестань им быть…Если он, осознав свою мерзость, не пытается излечиться — пусть никого не винит. Если он не хочет сделать этого — он тщетно будет ждать от меня жалости…»
«Тщетно будет ждать от меня жалости…» Эти слова не оставляли надежды. Он хотел любви, а ему отказывают даже в жалости? Но это лишь болезненно задело, царапнуло пусть и до крови, но царапина есть царапина. «Он мог остановить распад в себе и разорвать цепь порока — на себе…» О чём она? Она как будто требовала от него чего-то. Остановить распад в себе? Что за бред? Она считает его мерзавцем из-за его интрижек с женщинами? Этьенн вернулся к себе и снова не взялся за том Альберта Великого. У него почему-то пропал интерес к причинам гибели Габриэль.
Гнетущая тоска, что поселилась в душе Этьенна, влекла его к этой черноволосой колдунье, что вышла из ночных вод в лунном свете и заворожила. Он хотел её любви. Теперь осознание, что он не просто нелюбим, но презираем, бродило в нём, словно кровавое винное сусло на мезге, вспениваясь и распространяя вокруг пьянящие миазмы. Он должен добиться её. Этьенн не привык отказывать себе ни в чём. Но как? Обычно он притворялся влюблённым, и нескольких взглядов и затаённых вздохов хватало, чтобы сердце девицы начинало таять. Этьенн постарался внушить себе, что дело просто в том, что он никогда не заигрывал с ней — и она, обидевшись на его равнодушие, теперь тоже изображает безразличие и злится. Это было проще, яснее, понятнее.
И вскоре ему удалось убедить себя в этой лестной для него гипотезе.
Никакой ум и здравый смысл неспособны избежать заблуждений там, где помрачена душа. Что ж, решил Этьенн, завтра же все переменится. Она будет смотреть на него, как и Лоретт, он насладится торжеством — и вышвырнет её, как и всех, кто был до неё. Этьенн ощутил в себе взыгравшую мощь, силу мужчины. Он победит. Неожиданно замер. Как действовать? Элоди предубеждена против него. Считает его мерзавцем — отчасти из-за Лоретт, отчасти — из-за того, что слышала о нём. Почему бы не сыграть ва-банк? Она считает, что ему нужно… как она сказала? — «остановить распад в себе…»? Ага. Вот и пусть для начала наставит его в добродетели.
Однако, планы его были отсрочены. Следующие два дня Элоди почти не показывалась. Всё это время она делила между сестрой и церковными хорами, где её, всегда в слезах, заставал Клермон. Горе не только сблизило их, но погасило чувственность Армана. Приникая губами к её нежным рукам, лаская их, обнимая её — он ощущал только гнетущую боль сердца. Раньше, когда взгляд его падал на крест на её груди, уходя ниже, к затенённой ложбинке, он ощущал трепет, душу обжигало желанием, кровь воспламенялась. Но теперь всё в нём омертвело. Он понимал её боль, бывшую не только болью потери, но и болью бесчестья, не становившегося меньше от того, что он оставался тайным. Клермону почему-то казалось, что это и его позор.
Но, как ни саднила сердце Элоди скорбь, она всё же не могла заслонить причин происшедшего. Она даже на какой-то миг была готова поговорить с Дювернуа, но поняла, что это бессмысленно. Элоди доверяла словам и наблюдениям его сиятельства, и не подозревала Огюстена в убийстве сестры. Но ей казалось, что он должен знать больше остальных. Попросить Клермона поговорить с Дювернуа? Они не близки, и едва ли такой человек будет откровенен. Единственный, с кем Дювернуа мог разговаривать — и не лгать, был его сиятельство Этьенн Виларсо де Торан. Но при одной мысли просить о чём-то этого человека — Элоди становилось дурно. По размышлении она отказалась от этой мысли. Такого рода разговоры только выявят новые мерзости, которые станут известны Виларсо де Торану, но едва ли откроют причины гибели Габриэль. Элоди не хотелось, чтобы этот человек знал хоть что-то об их семье.
Приходилось удовольствоваться молчанием и постараться успокоиться. Нужно было вести себя сдержанно, заботиться о Лоретт. Сестра вела себя в последние дни странно, часами сидела на постели, уставившись в одну точку. Она не понимала, что произошло с Габриэль, и кто мог убить сестру, чувствовала дрожь в кончиках пальцев и тяжкую изматывающую истому. Но причина была вовсе не в гибели Габриэль. Этьенн не любил её. И сказал, что не полюбит никогда. Это было самым главным, самым страшным, самым необратимым горем, в котором судьба несчастной Габриэль просто терялась, как жалкая щепка, уносимая речным водоворотом. Почему он не любит её? Почему? Разбитое сердце кровоточило, и не ощущало, — просто не могло ощутить — никакой другой боли.
Лора была темпераментна и страстна, и теперь, когда её лишили надежды на взаимность, душа её погрузилась в отчаяние. Если не было надежды на любовь Этьенна — не было смысла и в жизни. Однако смерть Габриэль своей неожиданностью и жестокостью все же потрясла Лоретт, показав ей смерть в самом неприглядном виде. Её просто парализовало страхом.
Теперь Лора не хотела жить и боялась умереть.
Этьенн же хладнокровно приступил к исполнению своего намерения и, дождавшись, когда Элоди вышла на третий день в полдень к качелям и принялась за рукоделие, тихо подошёл и сел рядом с книгой. Она заметила его, кивнула на его приветствие и углубилась в работу. Мысли её, несмотря на пережитое потрясение после гибели сестры, сегодня были все же светлей, чем в первые дни. Элоди всё больше привязывалась к Арману и дорожила его чувством. Ей нравилось в нём всё — заметная робость, строгость и основательность суждений, благородство натуры. Какое счастье, что ей довелось встретить такого мужчину! Арман де Клермон был совершенством. Элоди позволила себе предаться мечтам о будущем. Вот они с Арманом гуляют по Парижу, заходят в храм, лавки и, возвращаясь, сидят у камина. Дети… Их дети внимательно слушают отца, читающего по вечерам Библию…
В эту минуту внимание Элоди привлек Этьенн.
— Мадемуазель, — он недоумённо смотрел в книгу, коей оказалось Писание, — что может означать «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх»? Я слышал, что «начало премудрости — страх Господень».
Элоди удивлённо взглянула на него и несколько секунд разглядывала его красивое, холёное лицо, выразительные черты, умные глаза. Чего он хочет от неё? Прикидывается дураком? Она прекрасно помнила, какую безупречную цепь рассуждений развернул этот повеса перед Арманом. Мозгов ему не занимать. Элоди предпочла бы и вовсе не разговаривать с ним, особенно вспоминая услышанные в библиотеке слова о своей сестре. Но предпочла ответить, надеясь, что так быстрее развяжется с этим неприятным человеком.
— «Страх Господень» — это первоначальный страх потери, который всегда есть в любви. Страх потерять то, что любишь, страх оскорбить его Святость. Жизнь в страхе Божьем учит любви к Нему, а потом накопленная в душе любовь изгоняет страх.
— А вы, мадемуазель, знали такую любовь?
Элоди продолжала шить и ответила словами катехизиса.
— «Бог есть любовь…»
— Но я не замечал в вас, дорогая Элоди, никакой любви ко мне.
Элоди внимательно посмотрела на него. Он, пошлый и суетный, начал утомлять. Она уже догадалась, куда он ведёт.
— Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Надо полагать, вы привыкли к какой-то другой любви. И может быть, под любовью вы понимаете что-то весьма далекое от апостольского определения? Что, по-вашему, есть любовь?
— Я полагал, что любовь между мужчиной и женщиной…
Она рассмеялась
— … Не ищет своего? А чего ж такая любовь ищет?
Этьенн изумился.
— Помилуйте, мадемуазель, мир стоит любовью!
Она пожала плечами.
— Да, брачное состояние лишено скверны, и заповедь «плодиться и размножаться» не отменена.
— Помилуйте, Элоди, — Этьенн расхохотался. Он был и впрямь изумлён — подобные взгляды казались ему замшелыми и устаревшими. — Вы признаете только брачную любовь? И никакую другую?
— Ни в какую другую я не поверю. Если мужчина не готов назвать меня женой, я поищу другого, получше, ведь если он отказывается от ответственности за меня и моих детей, от верности и преданности — какой он ко всем чертям мужчина? Это животное.
Этьенн рассмеялся.
— Теперь я понимаю, дорогая Элоди, что вы ещё никогда не любили. «Поищу другого!» — разве для любящего это возможно?
Она внимательно посмотрела на него.
— Это возможно. Когда мне было шестнадцать — я впервые влюбилась. Вы будете смеяться — в нашего священника в пансионе. Он был молод, очень красив и добродетелен. Это было и глупо, и безнадежно, и грешно. Я поняла это и попросила Пречистую помочь мне забыть это чувство…
Этьенн с непонятным трепетом посмотрел на неё, опустил глаза и с улыбкой, что кривила губы, но оставляла серьезными глаза, спросил:
— И оно прошло?
— На следующий день неожиданно заболела моя подруга. Скарлатина. Я проводила ночи в молитвах, днём бегала за лекарствами, вечерами сидела у постели Мари. Ей угрожала смерть, мне было так страшно… Но Мари поправилась и я ликовала. Когда через неделю к ней пригласили отца Леграна — я удивилась. За эти дни я совершенно забыла не только о любви к этому человеку, но и о том, что он вообще существует. Я смотрела на него в немом изумлении — что мне вообще нравилось в нём? — он казался совсем чужим. Так Пречистая спасла меня от недолжного чувства.
Этьенн смотрел на неё с изумлением.
— Но… может, вы просто не любили его?
— Так ведь это можно сказать о любой возникающей симпатии. Если дать ей власть над собой — она перевернёт тебя. Но управляй ею — и она подчинится тебе. Не можешь подчинить — проси помощи Божьей. Бог не слышит молитв нечестивых, но если твоя просьба чиста и праведна — она будет исполнена. Силу чувства провоцирует слабость воли и греховность помыслов.
— Мне не доводилось слышать подобного. Я думал, что сила чувства говорит о силе души.
Элоди насмешливо посмотрела на него. Боже мой! И этот человек говорит о душе!
— А сами-то вы любили, мсье Виларсо де Торан?
Он как-то жалко улыбнулся и кивнул.
— Наверное, да. Надеюсь, я не лгу, — нервно пробормотал он, заметив насмешливый взгляд Элоди, — это было, когда к моей преподавательнице итальянского приехала дочь. Девушку звали Джиневра. Мы виделись только два часа. Мне было шестнадцать. Я уже не был невинен, но… почувствовал себя им. Я помню. Беседа о Данте в сумерках. Звуки рояля. Сотворённый Любовью Космос был безмерен. На рояле стоял фарфоровый ангел и улыбался, словно о Рае знал больше, нежели Алигьери. Первые звезды были бледны. Голоса звучали в тишине столь многозначительно, что пустая фраза казалась мольбой к небесам или любовным признанием. В том повинен был, должно быть, лунный диск, подобный нимбу старца-отшельника. Сотворённый Любовью мир был нереален, и розовый ангел — будто припудрен рашелью… Она уехала, а я проплакал ночь, мне казалось аромат амброзии испарился из мира навсегда, стал призрачней самого хрупкого и неземного — итальянских терцин о Райской Розе…
Этьенн ничего не понимал, его слова, призванные привлечь внимание Элоди, неожиданно развернулись в нём, и словно сорвали тайный замок с души. Он не был пьян, но говорил, как пьяный, не останавливаясь и не контролируя себя. Казалось, он вышел за свои пределы, но не мог вернуться в себя. Что он говорит? Зачем? Подобным воспоминанием — воистину самым чистым и сокровенным в нём — Этьенн делиться ни с кем не собирался. Слова проносились сквозь него. Элоди молча слушала его и ей стало понятно, почему Клермон сказал о жалости к Этьенну. Он и в самом деле был одарённым человеком. Жаль, что такая душа так запакощена.
— Это была любовь? Как вы думаете?
Элоди долго смотрела на него.
— Не мне судить об этом. Но мне непонятно, как столь романтичная любовь привела вас к пониманию таких не романтичных вещей, которые вы изложили после гибели моей сестры мсье Клермону. Мне случайно довелось слышать ваш разговор — в библиотеке у камина, и должна сказать, что ваше мнение о моей сестре говорит о совершенно ином опыте.
Этьенн закусил губу и взглянул на неё исподлобья. Так значит, не Клермон, но она сама слышала всё… Он покачал головой. Эта девица оказалась более опасным соперником, чем он думал. Теперь уже она определяла направление разговора и его тональность. Этьенн начал проигрывать. На том поле, куда она насмешливо звала его, он выиграть не мог — и знал это. Чёрт бы побрал эту святошу! Разумнее всего было прервать разговор, но Этьенн не хотел признавать поражения, а кроме того — и это бесило до дрожи — он не мог оторваться от этих мерцающих бездонных глаз, этого узкого лица, этих впалых щёк и эбеновых волос. Он был болен ею, а она смеялась…
Тихий шорох шагов вспугнул затянувшееся молчание. К забаве Элоди и к досаде Этьенна на тропинке показалась Лоретт, которая, заметив Этьенна, слегка побледнела. Он поспешил ретироваться, любезно объяснив Лоретт, что должно быть, успел утомить её сестрицу.
Элоди насмешливо кивнула, соглашаясь, чем окончательно взбесила его.
Глава 19. В которой Арман Клермон окончательно убеждается, что святость и грех несовместимы
Нельзя сказать, чтобы мадемуазель Элоди после этой несколько сумбурной беседы сделала вывод о том, что мсье Этьенн неравнодушен к ней. Скорее, она была склонна предполагать, что граф устал от безделья и не знает, куда себя девать. Это вполне соответствовало тому представлению, что у неё уже сложилось. Праздный бонвиван и повеса, человек без твердых нравственных устоев, пустой и суетный. Правда, ему удалось немного смягчить её душу, чему способствовали слова Клермона, но он по-прежнему не нравился ей.
Однако, дни проходили, и Элоди не могла не заметить его частых и совершенно беспричинных посещений, приглашений на прогулки, которые она неизменно отвергала, нелепых попыток привлечь её внимание.
Сам Этьенн по ночам в ярости сжимал подушку, разрывая наволочки, от безумного желания сводило зубы, он в яростном исступлении метался по постели, а утром — больной и истомлённый, — неотступно, как тень, бродил за ней. Он ничего не понимал, но покорился этому необъяснимому и магическому обаянию. Он не понимал, что с ним, но уже не мог без неё. Он должен был видеть её ежеминутно, она была… нужна ему. Теперь Этьенн и мысли не допускал о том, чтобы получив Элоди, как намеревался вначале, унизить и отвергнуть её. Слишком дорого она ему доставалась. Впрочем, временами Этьенн чувствовал, что ненавидит Элоди. Сны его проступили новой гранью — женщина-статуя его прежних сновидений теперь открыла свои полусонные глаза — хрустальные глаза Элоди. Он узнал её… теперь узнал. Но взгляд был убийственно-холоден и безжалостен, так он сам смотрел когда-то на… на кого? Он забыл и имя…Elodie… ma maladie…
Встречаясь с ней, он с трудом улыбался и жалобно просил:
— Ну, скажите же хоть что-нибудь, мадемуазель Элоди.
— Сказать правду или солгать?
— О, только не правду…
— Я так рада вас видеть… — с вымученной улыбкой проговаривала она.
Однажды Этьенн заметил, что Элоди, поспешно уйдя в замок — её звала Лоретт, оставила на скамье крохотный бархатный мешочек, видимо, с каким-то рукоделием. Поспешно подобрал, радуясь поводу встретиться с ней и вернуть его. Но заглянув в него, был ошеломлен ещё больше — там была маленькая икона Спасителя, в тёмном деревянном окладе, недорогая и старая. Этьенн положил её в карман и едва отошёл к Дальней Башне, заметил, что она вернулась к скамье и ищет иконку, заглядывая под скамью и внимательно глядя по сторонам на землю. Он не вернул образок, иногда по ночам доставал его, прижимая к губам вещь, которую она держала в руках, которая была дорога ей.
Теперь Элоди заметила происходящее с ним — и была неприятно поражена. Ей претили и его пугающая страстность, и проступившее безумие, острое неприятие вызывал даже запах его тела, казавшийся ей мускусным и душно-приторным.
Он сумел досадить ей и ещё одним способом — причём, без намерения, когда вечером, на закате, нашёл её на балконе, среди роскошных пальм и тропических растений, бывших гордостью мсье Гастона. Элоди уединилась с книгой и вспоминала последнюю встречу с Арманом. В этой мягкой любви-понимании не было той греховной отчуждённости и жуткой притягательности, что напугала её когда-то в любви к отцу Леграну. В ней были небесная свобода, свет и Божье благословение.
Неожиданно появившийся Этьенн был самым неприятным из возможных визитёров. Он не то чтобы искал её в замке — просто теперь всегда оказывался там, где была она. Элоди молча подняла глаза, разглядывая его с вялой тоской. Боже мой, неужели это опять он? Она не могла понять сестру: как можно было сходить с ума из-за этого неприятного человека? Если когда-то, при первом знакомстве, Этьенн и показался красивым — это впечатление давно рассеялось. Она видела только признаки порочности — хищный оскал усмешки, высокомерие в глазах и жестах, похотливость и страстность движений. И этот человек говорит ей о любви?
Её передергивало от брезгливости.
Этьенн был в отчаянии. На эту женщину не действовал ни один из стократно испытанных и безотказных приёмов. Он поначалу привычно играл влюблённого, но она откровенно скучала, он перестал играть, потеряв покой и сон — но она все так же откровенно скучала и ждала, когда он уйдёт. Этьенн не понимал причин, но осознать до конца, что его просто не любят — был не в состоянии. Её душа принадлежала другому — но этого он не знал, но узнал бы — не поверил. У него нет и не может быть соперников. Но едва Этьенн заговаривал о любви, Элоди только морщилась.
Этьенн ослабел и внутренне сломался. Ему было свойственно пренебрегать тем, что ему предлагали и гнаться за тем, в чем отказывали. Он уже был готов дать этой женщине своё имя, титул, состояние. Она тяжело вздыхала, качала головой, уверяя, что не может ответить ему взаимностью, и его чувства не вызывают отклика в её сердце. Он пренебрёг её сестрой, пусть и в приватной беседе, но презрительно отозвался об их семье — а теперь предлагает ей себя и ещё смеет говорить о какой-то любви? Скольким до неё он говорил это? Правда ли, что он публично ославил мадемуазель***, опозорил мадам***, замешал в скандал графиню***? Последний скандал обессмертил имена его участников почти на полгода. Им он тоже говорил о страстной любви? Не расскажет ли он ей подробности этих скандальных историй?
— Элоди, я, возможно, жил неправедно, но вы можете исправить меня…
Про себя она подумала, сообразуясь с известной поговоркой, что горбатого исправит только могила, но вслух заметила, что не может представить себе чуда, которое исправило бы его.
— Пусть это будет чудо вашей любви…
— Таких чудес не бывает, — уверенно и жестко предрекла Элоди, стараясь не дышать: тяжелый мускусный запах, исходивший от него, был сегодня просто непереносим.
Этьенн бесновался. Любовь оказалась сильнее даже его самолюбия: он любил ту, что откровенно презирала его. Каждый Казанова рано или поздно обречён наткнуться на девицу Шарантон, как расплата за суетность распутника настигает худшая из кар — любовь. Этьенн невольно понял те погасающие, меркнущие от непереносимой боли взгляды женщин, когда он безжалостно покидал их, но сам переносить такую боль не мог.
— Элоди, перестаньте же шутить. Я люблю вас, я очарован, я прошу вас снизойти…
Лицо Элоди, до этого скучающее, вдруг напряглось, она вздрогнула и чуть отодвинулась. Этьенн резко повернулся. На пороге у входа стояла Лоретт. Коленопреклонённая поза Этьенна, его слова не позволяли истолковать ситуацию двояко. Элоди испугалась, взглянув на лицо сестры, искаженные черты которой выдавали неконтролируемую злобу и ненависть.
Лоретт круто развернулась и исчезла, Элоди же наградила Этьенна взглядом укоризненным и раздражённым. Ну вот. Теперь этот надоедливый, навязчивый и неприятный человек ещё и поломал с таким трудом созданное взаимопонимание с единственной оставшейся ей сестрой! Зная характер Лоретт, Элоди не могла надеяться, что им удастся быстро примириться.
Элоди была близка к тому, чтобы причислить его сиятельство графа Этьенна Виларсо де Торана к самым омерзительным явлениям мира — войне, моровому поветрию, сифилису, безбожью, чуме…
Внимание Этьенна к Элоди заметил и Клермон. Заметил — и почувствовал, что под ногами расступается пол. Арман был смиренен, нищета и скудость не только приучили его к самоограничению, но и научили пониманию того, как мало значит он в этом мире. Он куда как не считал себя равным Виларсо де Торану. Его прежние сомнения и страхи утроились. Ему казалось, что теперь, когда у Элоди появился выбор, она может отвергнуть его. При мысли об этом в глазах его темнело, но Арман понимал, что обязан будет подчиниться её решению. Правда, было одно обстоятельство, как казалось Клермону, было против Этьенна, и Арман пытался утешиться им в самые безотрадные часы.
Элоди — святая. Именно это в ней бесконечно привлекало, а порой пугало Клермона. Страшная, неженская жесткость суждений, безжалостное понимание того, на что слабые духом привыкли закрывать глаза, предельно четкое понимание добра и зла, ни разу ей не изменившее, — «совершенные духом приучены…» Да, Элоди — совершенна. Он именно этим восхищался в ней, и это же заставляло его трепетать — окажется ли он сам достаточно совершенным для такой женщины? Раньше ему иногда казалось, что она согласится разделить его нищету, но в другую минуту полагал, что не имеет права требовать подобного, и сомневался в силе её чувства к нему. Сам Арман знал, что уже привязан к этой девушке на всю жизнь, и даже отвергнутый, не сумеет вычеркнуть из жизни её имя, и её образ — из памяти.
Но ухаживания Этьенна, столь зримое, явное предпочтение, что граф поминутно выказывал ей… Арман был готов молить Этьенна о жалости, пусть только оставит ему Элоди… Он понимал, что никакое его унижение не способно смягчить такого, как его сиятельство, потом же робко помышлял, что Этьенн не может подлинно любить Элоди, и Элоди наверняка поймёт это, а порою думал, что она не примет любовь того, кто пренебрёг одной её сестрой и столь пренебрежительно высказался о другой. Но боялся её решения и каждый день с ужасом ждал, что она, извинившись, скажет, что полюбила другого. Несомненной красоте и богатству графа — что мог противопоставить он, нищее ничтожество? Но будет ли Элоди подлинно счастлива с Этьенном, человеком развращённым и далеким от понимания истинной морали? Разве может Этьенн составить счастье женщины? Может ли Элоди не понимать этого? Ведь раньше она высказывалась о нём достаточно резко…
Сомнения и душевная боль заставляли его искать уединения.
С той памятной и столь дорогой для него встречи в библиотеке, когда судорожное объятие открыло им их взаимные чувства, они по какому-то непроговариваемому соглашению не касались темы их будущего. Клермону было нечего сказать, а Элоди, видимо, ждала этих слов от него. Не говорили они и о своих чувствах друг к другу. Клермон боялся тогда сказать слишком много и не удержать себя в рамках сдержанности, а Элоди казалось, что нежность и забота Армана говорят о любви лучше всяких слов. Слова стираются и теряют смысл, когда проговариваются впустую.
…В этот вечер разыгралась непогода, прогулки были невозможны, и Клермон снова затворился в библиотеке. Элоди, заметившая его отстранённость, зашла под вечер к нему. В этот раз Арман, вконец измученный предположениями, опасениями и страхами, решил прояснить всё неясное для себя спонтанно, и потому некоторое время не мог от волнения найти слов. Но потом всё же сумел выговорить, что, заметив внимание к ней его сиятельства графа Виларсо де Торана, он не хотел бы… Клермон осёкся, заметив, что Элоди подняла голову и смотрит на него пристально и прямо. Снова нервно вздохнув, Арман, наконец, объяснил ей, что положение семьи и его самого не позволяет ему… Он беден и не может обречь её на нищету…Мсье Виларсо де Торан человек богатейший…
Взгляд Элоди потемнел, она выпрямилась, как струна, и голос её зазвучал ниже обычного.
— Мне казалось, что мы определились в наших отношениях…
— Я…я нищий, Элоди.
— Кто нищ, когда он любим? К тому же я принесу тебе приданое в сто тысяч франков, если ты не мот, при скромной жизни хватит, — губы Элоди странно кривились, — а впрочем, — неожиданно спохватилась она, и ещё больше помрачнела, — Бог мой… доля Габриэль… Стало быть, у нас с Лоретт по сто пятьдесят тысяч. Нищета тебе не грозит.
Арман почувствовал головокружение. Мысли путались. Элоди впервые сказала так открыто о том, что любит его. К тому же в первый раз обратилась к нему так интимно, на «ты»… Одновременно Арман оторопел. Почему-то, когда она рассказывала о своей бабушке, он понял, что и её семью постигла та же участь, что и его род. Сто пятьдесят тысяч? Сумма была запредельна. Клермон смутился и покраснел. Элоди видела его изумление и растерянность, и взгляд её чуть смягчился.
— Ты и теперь намерен уступить меня мсье Виларсо де Торану?
— Если только вы… ты… — он чуть задохнулся, — скажешь, что твой избранник — я, и ты предпочитаешь меня мсье Этьенну…
— Предпочитаю. Этого достаточно?
Арман несколько секунд просто пытался унять дрожь в коленях. Постепенно успокоился и почувствовал, что его заливает волна тихой радости и ликования. Элоди, заметив, как улыбка озарила его лицо, тоже улыбнулась ему. Они несколько минут стояли в безмолвии, только пальцы их тихо соприкоснулись. Однако он все ещё до конца не понял её.
— Но почему ты отвергаешь его?
Брови её недоуменно поднялись. Элоди полагала это очевидным. Ей не нравились его порочность, пугала его страстность, она считала его негодяем, но хуже всего был непереносимый запах — чего-то неопределимого, но ужасно смрадного. Иногда ей казалось, что граф чем-то болен и словно заживо разлагается. Элоди не могла произнести вслух того, что составляло для неё главную причину отторжения, — о подобных вещах вслух не говорят, однако, ей удалось обобщить неприемлемое в обтекаемой, но вполне искренней фразе.
— Мужчинам не нравятся истасканные женщины. Почему же женщине должны нравиться истасканные мужчины?
Арман закусил губу, чтобы не рассмеяться. Его сиятельство граф Этьенн Виларсо де Торан сколько раз объяснял ему всё убожество и ограниченность его мышления, проистекающие от отсутствия постельного опыта, и исходящую отсюда наивность в суждениях и глупость его аскетизма, — но теперь это стало его преимуществом.
Воистину, неисповедимы пути Господни.
Однако, вся полнота этой неисповедимости проступила в последующие дни. Назавтра, после ужина, они уединились, а точнее, собрались вместе с Лоретт в музыкальном зале. Клермон не без тревоги наблюдал за сестрой Элоди. Лоретт все больше бледнела и угасала, казалось непонятным, в чём держалась её душа? Арман заметил и новое охлаждение в отношениях между сестрами, по крайней мере, Лоретт держалась отстранённо и не заговаривала с Элоди. Когда она, забыв где-то веер, отправилась поискать его, Арман шёпотом спросил у Элоди — что с сестрой? Та поморщилась и вздохнула. Оказалось, причина была в Этьенне. Лоретт обратила внимание на его постоянное внимание к ней, случайно видела его навязчивые ухаживания и, хотя ничего не говорила, но снова заметно охладела к ней. Элоди была рассержена — на Этьенна. В последние дни смерть Габриэль сблизила их, Лоретт льнула к ней, Элоди чувствовала себя нужной, рассчитывала найти в сестре подругу, близкого человека. И вот — всё опять вдрызг.
— Несносный человек, где ни появится — везде вражда да злоба.
— Лора понимает, что он влюблён в тебя?
Элоди снова поморщилась.
— Да полно, а влюблён ли он? Вот уж воистину, «влюбленный дьявол» …Он, совращающий женщин десятками — влюбился? Он просто хочет позлить Лоретт. Скорее всего… Или это просто безделье. Или притворство. Хотя я и не понимаю — зачем? Что ему во мне?
Клермон усмехнулся. Внешность Элоди обладала, он давно понял это, магическим свойством. Не удовлетворявшая канону обычной, расхожей красоты, она изначально даже отпугивала своей странностью, казалась вычурной и чрезмерно рафинированной, но едва глаз вычленял в этих чертах утончённую прелесть и изысканную гармонию — все остальные лица меркли, казались пустыми и кукольными. Он разглядел это сразу — и нелепо думать, что этого не заметил, освободившись от Лоретт, граф Этьенн.
Сам Арман с трудом мог скрывать своё немного недоумённое счастье — подумать только, он любим, избран той, чья душа дороже жемчугов, той, из-за которой сходит с ума Этьенн, он предпочтён всем другим — за что? Элоди открыто сказала, что любит его и видит его и только его своим мужем. Может ли это быть? Ему искренне казалось, что Элоди переоценивает его, и в будущем разочаруется в нём.
Они всё ещё сидели, ожидая Лоретт, когда в музыкальный зал вошёл Этьенн. Он бросил внимательный и многозначительный взгляд на Элоди и прошёл в холл. Элоди проводила его глазами и покачала головой. Вошедшая следом Лоретт теперь было странно приветлива и нежна с Элоди, дружески болтая с ней о пустяках.
Клермон видел, как она наклонилась и что-то прошептала на ухо Элоди и, чувствуя себя лишним, сказал, что сходит на прогулку, но Элоди, мягко кивнув сестре и сказав: «Конечно, дорогая», направилась с Арманом к пруду. Дождь, начавшийся час назад, кончился, но было сыро и сумрачно, вода мутна и желтовата. Они тихо переговаривались, наслаждаясь обществом друг друга. Ей казалось, что от него исходит странный аромат — мёда и лимонной мяты, талого снега и первой зелени, ей хотелось замереть на его груди и забыть обо всех неурядицах, скорбных потерях и бедах последнего времени. Они сидели допоздна, потом Клермон пошёл проводить её.
— Нет, пойдем в другое крыло, Лоретт попросила меня переночевать в её спальне.
— В её спальне? — Клермона неприятно царапнуло это сообщение, — зачем?
Элоди пожала плечами.
— Говорит, что со дня смерти Габриэль не может уснуть у себя, — ей снятся кошмары.
Арману это не понравилось. Он попросил Элоди запереться на засов и закрыть окно. Та улыбнулась и пообещала. Клермон ушёл не раньше, чем услышал, как за дверью зашуршал в пазах засов.
Томительное предчувствие чего-то неотвратимого неожиданно нависло над душой Клермона, словно затаившийся убийца. Ещё около часа он просидел в библиотеке, но ничего не читал, тихо молясь.
В замке было тихо.
Глава 20. В которой его сиятельство граф Этьенн, овладев девицей, неожиданно понимает, что такое целомудрие
…«Недоступные женщины — это фантом». Так говорил Шаванель, и Этьенн лишний раз убедился в этом, обнаружив под дверью письмо от Элоди. С трепетом пробежав строчки, с улыбкой откинулся на оттоманке. Боже мой… Она ждёт его сегодня у себя в спальне… Он был так ошеломлён и взволнован, что просто не поверил. Значит, она все-таки влюблена? Но почему она была столь строга с ним и отчуждённа, да ещё постоянно держа при себе, как пажа, Клермона? Но все эти мысли пролетали, не достигая сознания. Сегодня он прильнёт к этому лунному телу, впитает в себя золотисто-палевый цвет её кожи, упьется дыханием. Ни одну женщину он так не хотел. А потом? Что, если его помешательству придёт конец? Он освободится от этой угнетающей душу тягости, этого невозможного, непереносимого ярма? О, если да…
Злобная улыбка искривила его губы.
Само приглашение странно уронило Элоди в его глазах. Он… несколько уважал её и не ожидал такого. Женщина всегда роняет себя в наших глазах, когда отдаётся — и нам, и другим. Он, сотни раз добиваясь женщин, глубоко прочувствовал эту странную истину. Он не знал отказов, и не мог уважать женщин, рассматривая их как средство наслаждения, и лишь эта неотмирная монашка, которую угораздило попасть ему на глаза звёздной ночью, что-то сдвинула в нём. Теперь она уподоблялась всем предшествующим.
Но это всё подождёт, главное — сегодня он будет обладать ею. Все остальное — потом. Оставшееся до полуночи время Этьенн решил провести в библиотеке с Клермоном. То, что Элоди пригласила его к себе, сразу убило порой мелькавшие у него подозрения, что она влюблена в Клермона. В чувство Армана к Элоди Этьенн не верил, страстный и горячий не постигает, что чувство холодного, будучи не менее сильным, не склонно демонстрировать себя. Но напряженное и нервное состояние души и плоти не могло не спровоцировать его на разговор о том, что занимало все мысли. Надежда на блаженство почти так же приятна, как и само блаженство, и ожидание наслаждения часто стоит больше его самого.
— Нет, Арман, вы всё же не правы, сохраняя чистоту. Её потеря дарит такое наслаждение, что, право, стоит её потерять…
Клермон с удивлением взглянул на графа. Он не обозначал свой путь как монашеский, и при мысли, что ему суждено потерять чистоту в объятьях Элоди, Арман чувствовал блаженное щемящее томление. Он не согласился променять её на минутное удовольствие, но любовь Элоди была ему теперь дороже чистоты. Он мечтал о том мгновении, когда осуществится его сон, но эти мысли для него походили на любимые им ландыши, причинявшие головокружение, когда слишком долго дышишь их ароматом. Клермон старался не думать об этом, но мечты преследовали его — в ночных сновидениях и дневных грезах. Он улыбнулся.
— Возможно, это скоро случится.
— Поторопитесь. Все-таки, из всех наслаждений, даруемых этим миром, упоение женщиной — самое яркое, — Этьенн закинул руки за голову и мечтательно улыбнулся.
Клермон не понимал его благодушного и расслабленного состояния. Он впервые видел Этьенна столь спокойным и умиротворённым.
Этьенн же мысленно раздевал ту, о которой грезил, и чувствовал трепет в ладонях и нервную истому. Господи, как ещё далеко до полуночи! Сколько же времени должен потратить мужчина, чтобы воспользоваться минутной слабостью женщины! Но неожиданно Этьенну, напротив, захотелось, чтобы полночь никогда не наступила. Люди ищут наслаждения, бросаясь из стороны в сторону, только потому, что чувствуют пустоту своей жизни, но не чувствуют ещё пустоты той новой забавы, которая их притягивает. Себя наслаждением — но не мог. Желание оставалось ненаполняемым, как бездонная бочка Данаид, источники удовольствия пересыхали раньше всех прочих. Он был рабом своего вожделеющего тела, но не сумел утолить своих вожделений, пережитые мгновения счастья, исчезая, оставляли его пустым — втрое против прежнего… Сладострастие юности, утопающее в грязи, обретаемое на тропах блудниц и извращенных распутников, научило его пониманию — чем низменней инстинкт, тем ярче наслаждение… Но сколь всё было мимолетно… Этьенн часто пытался наполнить себя наслаждением, но не получалось. Естественная похоть сменилась извращенной, и бесстыдные поиски искусственности, отягощающей порочность греха, привели его в закрытые и элитарные дома порока. Но испивая чашу самых запретных наслаждений, он снова обнаруживал на дне не жемчужины, но россыпь прибрежного гравия, а порой и просто мусор.
Но неужели и эта ночь пройдёт? Предполагаемый вкус соития, возможно, опять окажется слаще обретённого. Гаэтан как-то рассказал ему, что в детстве утащил у кухарки большой горшок с мёдом и, забравшись в укромный уголок их замка, ел его методично и с наслаждением, не останавливаясь, пока не опустошил. К вечеру — заболел, метался в жару, всё тело покраснело. Мёд выступил даже на коже. С тех пор Филипп-Луи не только никогда не брал в рот мёда, но странно бледнел, когда о нём случайно заговаривали. Да, пресыщение чревато отвращением, и сам Этьенн, пресыщенный альковными удовольствиями, казалось, потерял к ним интерес. Но он не знал себя. Проступившее вдруг чувство пробудило и пресыщенную чувственность. Господи, как медленно тянется время!
Неожиданно Этьенн повернулся к Клермону, вспомнив одно странное обстоятельство. Он так и не нашёл в «Малом Альберте», который полистал на досуге, ничего, что объясняло бы смерть Габриэль, но на случайно открытой странице неожиданно прочёл: «И счастлив он будет, если в тихой лунной воде увидит лицо спокойного, исполненного дней старца… Но ужасна судьба того, кто увидит колеблющий и искажающий свет, покрывающий тенями лицо любопытного — это значит, что смерть близка…»
— Арман, а что вы увидели тогда в зеркале?
Клермон в недоумении уставился на графа, давно позабыв о гадании на Иоанна, но поняв, о чём спрашивает его Этьенн, сказал, что увидел своего казнённого деда. Виларсо де Торан метнул на Клермона загадочный взгляд и промолчал. Арман же, вспомнив, как побледнел тогда сам граф, задал ему тот же вопрос. Его сиятельство поморщился. Виларсо де Торана удивило примерещившееся тогда видение. Из темной зеркальной глади на него взглянуло нечитаемое лицо в чёрном саване. Он никому не хотел говорить об этом, но на вопрос Клермона все же проронил, что видел человека в чёрной хламиде, закрывающей лицо. Арман испуганно посмотрел на него и вздохнул.
В полночь Этьенн неслышно прошёл по лестнице через Главную Башню и оказался перед дверью в спальню Элоди. Чуть нажал на ручку — дверь была открыта.
…Что-то неясное обеспокоило его сразу, Этьенн хотел зажечь свет, но Элоди, обвив его горячими руками, воспротивилась. Некоторое время он почти не контролировал себя, жадно упиваясь своей добычей, но пресыщение пришло быстро — она страстно льнула к нему, в ней не было той отстранённой холодности, что так завораживала и манила его, он не чувствовал в ней те колдовские чары медовой луны, что услаждали в мечтах, но тело… Этьенн ничего не понимал. Это была совсем не та грудь юной Артемиды, что явилась ему в лунных лучах, это было не то тело, все было не то…
Но осмыслил он это позже, сначала же возликовал — теперь он снова был свободен! В темноте улыбка, исказившая его губы, была улыбкой дьявола. Его страсть угасла. Его рабство кончилось. Но глупо думать, что кто-то мог безнаказанно владеть им — теперь он расплатится с ней сполна.
…Хриплый, гортанный, надломлённый крик, тут же сорвавшийся в визг, разрезал тишину в коридоре, совсем рядом. Элоди вздрогнула и прижалась к нему. Этьенн вскочил и, схватив головню из едва тлеющего камина, зажёг свечу. Шум в коридоре становился всё отчетливей, слышались какие-то голоса и новый пронзительный визг. Настоящий ловелас должен уметь одеваться не столько модно, сколько быстро, и Этьенн был одет в считанные минуты и, натянув фрак, он бросив Элоди: «Оставайся здесь, я сейчас», вдруг замер, как поражённый громом.
На постели сидела Лоретт.
Он побледнел и прислонился к двери. Несколько минут молчал, приходя в себя. Что это? С ним сыграли шутку? Элоди? Где Элоди? Впрочем… Глупости, Этьенн понял все и сразу. Эта настырная идиотка давно хотела влезть к нему в постель, вот и влезла. Но что она делает в спальне Элоди? Какого чёрта, они сёстры… Стало быть, это она написала ему письмо от имени сестры? Но знает ли Элоди обо всём? Внезапно Этьенн вздрогнул всем телом — голос Элоди донёсся из коридора. Он приник к двери, прислушался, но услышал лишь отдалённый шум шагов. Виларсо де Торан тихо приоткрыл дверь и высунулся в коридор, там было тихо, но в соседнем крыле слышались странные взвизги. Этьенн понял, что в них было странного — визжал мужчина.
Он, тяжело дыша, пошёл на звуки, и быстро вышел к комнате Рэнэ де Файоля. Дювернуа, усаженный на стул, вцепился зубами в костяшки пальцев, и тихо визжал, словно пёс, задние лапы которого переехала телега. Сюзанн была растеряна и мрачна. Клермон стоял поодаль, обнимая тоненькую фигурку Элоди, нервно дрожащую в его объятьях. Хоть Клермона и Элоди разделяло некое расстояние, которое Арман вовсе не старался уменьшить, в глазах Этьенна потемнело. Все возвращалось — тупая, необъяснимая зависимость, тягостное рабство, удручающая душу неволя. Он ощутил и мощную тоску плоти — словно его похоть не была удовлетворена всего несколько минут назад. Но тут взгляд Этьенна упал на руки Элоди, и он почувствовал закипающее в душе бешенство. Её руки покоились на сюртуке Клермона, там, где билось сердце. Этот жест не мог быть случайным. Арман… нравится ей?
Между тем Сюзанн, непохожая на себя, потянула его в комнату Рэнэ де Файоля. Войдя за ней, все ещё плохо соображая, Этьенн несколько минут ничего не видел перед глазами, хотя не спускал глаз с тела де Файоля. Впрочем, он понял, на что смотрит, далеко не сразу: тело Рэнэ напоминало обгоревшую головню, вроде той, которую он пять минут назад извлёк из тлеющего камина. Запах тухлятины вокруг был просто непереносим. Мысли Этьенна путались. Объятие Клермона и Элоди, чёртова Лоретт, новый обгоревший труп, омерзительный запах — всё это было слишком. Он поспешил выйти из смрадной спальни.
— Как всё произошло?
Сюзанн сбивчиво рассказала, что Дювернуа весь день был с Рэнэ. А когда тот уснул, вышел выкурить трубку. Полчаса постоял у входа в замок, ничего подозрительного не было, пришёл — и вот… Дювернуа покачивался на стуле и тихо скулил. Этьенн бросил короткий взгляд на сестру, перевёл его на Огюстена Дювернуа и поморщился. Господи, какое ничтожество… Он и на минуту не заподозрил его. Сам же Дювернуа проскулил, что, когда он ушёл на улицу — он запер дверь своим ключом, чтобы потом не будить больного, и этим же ключом потом открыл дверь… А ведь на окнах — чугунные решетки! Он снова истерично, по-женски всхлипнул.
Неожиданно в коридоре появилась Лоретт. Сюзанн, обернувшись к ней, в испуге отшатнулась — Лоретт напоминала мумию, глаза её ввалились, губы кривились жестоко и нервно. Лора была бледнее полотна, и Элоди стремительно бросилась к ней. Но Лоретт яростно оттолкнула её. Взгляд её, устремлённый на сестру, был безумен.
— Ненавижу тебя, ненавижу… ведьма… — прошипела она, глядя на Элоди остановившимися глазами, и та отшатнулась.
— Господи, Лоретт, что с тобой? — голос Элоди сел и звучал хрипло.
Но та не ответив, попыталась снова броситься на сестру. Её оттолкнул Клермон, который, уже начав кое-что понимать, искал глазами Этьенна. Тот стоял в стороне и наблюдал за происходящим, был нервен и обеспокоен, но не истерикой Лоретт, а просто событиями этой безумной ночи tout ensemble. Он поймал взгляд Клермона, на миг опустил глаза, затем неспешно приблизился к ним и резко проронил, обращаясь к Лоретт:
— Иди к себе.
Элоди дернулась и перевела взгляд на Этьенна. Теперь она всё поняла — резко, внезапным озарением. Обращение на «ты», резкий тон Этьенна, безумная вспышка ненависти к ней Лоретт, просьба переночевать в её спальне — все совпадало. Лоретт стала любовницей Этьенна, причём воспользовалась её именем, чтобы заманить его. Дыхание Элоди сбивалось, она почувствовала, что может упасть. Она была унижена поведением сестры настолько, что не сразу ощутила её предательство, но осмыслив его, затосковала до стона. Что же ты так, Лоретт? Как же можно? Странная слабость, почти беспомощность охватили её.
Элоди знала, что и несчастная Габриэль, и Лоретт не испытывали к ней любви, их интересы, направляемые глупой и пустой мадам Дюваль, сводились к мечтам об ухаживаниях, мужчинах и обилии любовных утех, но относила это за счёт их дурного воспитания и молодости. Ей казалось, что со временем сестры поймут её правоту, станут вдумчивее, серьёзнее. Но вот — Габриэль уже никогда не станет ни умнее, ни порядочнее, а поступок Лоретт обнажал в её душе такую бездну бессердечия и порочности, что Элоди ужаснулась.
Сюзанн отвела Лоретт к себе, Дювернуа напоили успокоительным, и только тогда занялись Рэнэ де Файолем. Удивительно, но к ужасному происшествию все, кроме Огюстена Дювернуа, отнеслись с тупым равнодушием, никто, собственно, просто не осознал до конца случившееся. Сюзанн был ошеломлена и испугана, Дювернуа парализовал страх, но остальных куда больше волновали перипетии их запутавшихся отношений, чем смерть истощённого любовника Сюзанн.
Суета и возня длилась несколько часов. Герцог был в полном недоумении. Что происходит, чёрт возьми? Тело было транспортировано в склеп и оставлено рядом с телом малютки Габриэль, в соседней нише. Клермон и Виларсо де Торан, неся труп, не разговаривали друг с другом: Арман полагал, что говорить не о чем, Этьенн чувствовал себя неловко, будучи унижен ночным происшествием. Эта чертова страсть помутила его мозги. Подумай он спокойно — усомнился бы в письме сразу. Впрочем, он и усомнился, просто безумная, исступлённая любовь исказила его изначально правильные представления… Что? Что он произнес? Любовь? Любовь…
Нет, это помрачение какое-то, только и всего. Да, но Клермон… До этого Этьенн не видел в Армане соперника — тот казался просто кавалером, чичероне Элоди, галантным и покорным пажом Прекрасной Дамы, но последняя сцена изменила его представления об их отношениях. Чёртов смиренник и скромник, похоже, добился внимания и даже благосклонности. Но говорить об этом с Клермоном было бессмысленно. Этьенн сам учил его никогда не хвастаться победами. Этьенн решил внимательно понаблюдать за Элоди и Арманом.
Когда они вышли из склепа, уже светало, и Этьенн вздрогнул — Элоди стояла на горном уступе против выхода. Арман кинул на неё сочувственный взгляд, понимая, что тяжелейшее объяснение, а может, и полный разрыв с сестрой, что предстоял бедняжке, сулит ей новую, ножевую боль. Как им теперь встретиться, как говорить друг с другом? Клермон понял теперь и вчерашние слова Виларсо де Торана, когда тот предвкушал встречу с Элоди в её спальне. Арман сжал зубы и отвернулся, не столько гневаясь на Этьенна, сколько великодушно не желая унизить его воспоминанием в вчерашних словах, не дав понять, что понял, в сколь глупое и смешное положение попал его сиятельство.
Элоди, как оказалось, ждала обоих. Она попросила Этьенна вернуть ей письмо Лоретт, что та написала от её имени. Тот, униженный и раздраженный, ответил, что сжёг его. Это было ложью, Элоди знала это, но не настаивала, ибо понимала, сколь жалко он выглядит в этой истории. Она была убита падением Лоретт, её предательством и ужасающей ревнивой вспышкой, и в этой тягостной ситуации хоть и злилась, что компрометирующее Лоретт письмо останется в его руках, но полагала, что это — в общем-то, пустяк. Но злость на его ложь и презрение к нему проступили в тихой язвительной фразе, которую Элоди считала себя вправе произнести, дав ему оплеуху за всё, что вынесла этой ночью — в том числе, и по его милости.
— Если вы когда-нибудь, мсье Виларсо де Торан, получите письмо, подписанное моим именем и приглашающее вас в мою спальню, не сочтите за труд — не поверить…
Этьенн с перекошенным лицом быстро пошёл к замку.
Клермон бросил на Элоди долгий, чуть мерцающий взгляд. Он не мог избавиться от ласкающей самолюбие мысли о том, что предпочтён Этьенну, эта мысль наполняла его счастьем и уверенностью в себе, хотя и была греховной. Впрочем, его мысли быстро двинулись в ином направлении, когда Элоди обессилено и жалко спросила, что ей теперь делать? Они медленно побрели к парковой скамье. Когда они бывали наедине, она переходила на «ты», и он упивался этим обращением, как самым изысканным вином.
— Попробуй ещё раз поговорить с Лоретт. Может быть, не сегодня. Дай ей время опомниться и придти в себя, не торопись. Мне кажется, она поймёт…
Элоди пожала плечами.
— Поймёт — что? Что абсолютно не нужна ему? Это понимание окончательно обозлит её, но не примирит со мной. Дьявол… Дьявол послал этого человека на мои пути. Если бы не он… — Она умолкла, но затем продолжила, — впрочем, нет. Я клевещу на этого повесу. Габриэль не нуждалась ни в каком Виларсо де Торане, чтобы забыть и честь, и стыд. Я потеряла сестёр.
— Ты не права. Она просто помешалась от любви.
— Никто не оправдывает человека, помешавшегося от вина или опиума, сходящего с ума от желания отомстить или от зависти. Чем это-то лучше? Это просто любовное пьянство.
Клермон смущённо улыбнулся. Сам он алкал Элоди, как изжаждавшийся — прохлады родника, и склонен теперь был оправдывать Лоретт, — хотя бы в её склонности к Этьенну. Правда, Лоретт страшно упала в его глазах, едва он понял, что она заманила Этьенна в спальню Элоди, обманув его и воспользовавшись именем сестры. Но был склонен полагать, что эта непорядочность, и даже низость — следствие всё того же любовного помрачения. Поступок самого Этьенна Клермон не осуждал, понимая, как мало способен управлять собой человек, которым всегда правили его прихоти и похоти.
Арман как-то подсознательно, не отдавая себе в том отчета, начал считать Этьенна слабым человеком.
Элоди попросила проводить её к себе, и Арман понял, что она трепещет от мысли встретить там Лоретт, хотя сам надеялся, что та давно ушла в свои апартаменты. По пути Элоди вдруг остановилась — как раз у входа в замок. Странно, но никто ничего не говорил о погибшем Рэнэ де Файоле — про него будто забыли. Но сейчас Элоди вспомнила.
— Что там тогда было написано?
Клермон понял её и кивнул, достав книжку.
— «…mors te cito abstulit, сaecus et immodicus, crudeli funere exstinctus» «…Смерть быстро унесла тебя, слепого и безрассудного, погибшего в муках».
Элоди поежилась.
— А он был слеп и безрассуден? Мне он казался невеждой… Я заметила, вы не были друзьями?
Клермон покачал головой. Файоль был до приезда в замок живым, остроумным и обаятельным, хотя суждения его были претенциозны, пусты и поверхностны. Но заслужил ли Рэнэ такую смерть? И что опять произошло? Что могло произойти в комнате, закрытой на ключ и забранной по окнам чугунными решетками? Вяло размышляя, Клермон с удивлением заметил, что смерть де Файоля не удивила, не потрясла, и даже не оцарапала его. Он заставил себя задуматься об этом, хотя мысли ползли в голове лениво и путано.
Голос Элоди прозвучал издалека.
— А кто следующий?
— Что?
— Там новая надпись, — она утомлённым жестом показала на стену.
Клермон почувствовал, что под ним шатается земля. Новые каракули были видны плохо, он с трудом дышал, понимая, что новый приговор — а он уже понимал, что это приговор, — не сулит оставшимся шестерым ничего хорошего. Но привычно скопировал надпись и, перевернув, прочитал: «Vae aetati tuae, animal amens! opus est sponte mortem sumpsisse…»
Элоди молча ждала.
— «Горе тебе, безумное животное, тебе предстоит прервать свою жизнь…»
— Что происходит, Боже мой?…
…В апартаментах Элоди было пусто, в спальне были заменены простыни и покрывало, заметив это, Элоди остановилась и покачнулась. Она не хотела тут оставаться, и пошла за Клермоном в библиотеку. Здесь, на оттоманке у камина, прижавшись к нему, расплакалась. Арман не успокаивал её, лишь обняв, тихо гладил по плечу.
Этьенн, не привыкший чувствовать себя одураченным, да ещё притом, что это было понятно — пусть не всем, но именно тем, в чьих глазах ему не хотелось падать, был унижен и озлоблен до нервного трепета. Виновато во всем, полагал он, его нелепое помешательство на этой черноволосой ведьме, но рассчитаться с нею не мог. Elodie… ma maladie.. Тут он был бессилен. Однако свести счёты с той, что поставила его в такое положение — было вполне возможно.
Этьенн хладнокровно ждал.
Вошла Сюзанн, взвинченная и издерганная. Она уже давно ничего не подливала Файолю и просто забыла о нём. Кому был нужен этот тощий доходяга? Что случилось? От пугающей неизвестности её трясло, и безучастная отрешённость брата злила ещё больше.
— Тебе совсем безразлично, что происходит? Сошёл с ума от этой чёртовой сивиллы — и дела тебе ни до чего нет?
Этьенн неприятно изумился. Он-то полагал, что, несмотря на его умопомрачение от Элоди, — никто ничего не замечает. Впрочем, сестрица всегда была смышленой.
— Заметно? — обронил он.
Сюзанн расхохоталась.
— Если мужчина при виде девицы на ногах-то устоять не может и начинает искать руками опору — тут уж и слепой всё заметит. Ты же всегда пытаешься опереться на что-то, когда говоришь с ней или просто видишь её. Что ты нашёл в ней?
Этьенн молчал. Он пытался спокойно — как мог — осознать свое болезненное чувство, осмыслить его и, если получится, отстранить от себя. Оно тяготило и изнуряло. Он не хотел любить её. Просто хотел? Этьенн качал головой. Нет, гнетущее чувство очарованности, рабской зависимости и слабости, никогда не испытываемое раньше, не было желанием. Мало ли он раньше хотел женщин! Вчерашняя ночь вразумила его: ведь он сразу почувствовал отторжение, раньше, чем овладел Лоретт. Он хотел не женщину. Он хотел Эту Женщину. Только Эту. В какой нездоровой и искажённой форме пришло к нему понимание целомудрия…
Да, влюбленный — всегда целомудренен.
Лоретт весь день провела в своей спальне. Минувшая ночь довела её почти до сумасшествия. Виденная ещё раньше на балконе сцена и наблюдения за Этьенном дали ей полное представление о том, что граф решил заполучить Элоди, но Лора не верила, не хотела верить, что та для него хоть что-то значит. Он просто делал так ей, Лоретт, на зло, чтобы уязвить и заставить сходить с ума. Но готовность, с которой Этьенн появился в спальне ненавистной Элоди, пламенные слова, что он, полуослепший от страсти, бормотал в истоме, имя сестры, повторяемое им ежеминутно, его злость и лицо, когда он понял, что его обманули — заставили Лоретт постичь и силу его страсти, и её подлинность.
Этьенн не играл — он был влюблён в сестру!
В душе Лоретт поднялась ревнивая ненависть. Уж кого-кого, но Элоди она никогда не считала равной себе. Ни слова, сказанные когда-то кузеном Мишелем, ни молчание Онорэ никогда не удостоверяли Лору, что сестра может кому-то понравиться. Ни рассказ Габриэль об ухаживаниях Файоля, ни то, что ей самой довелось видеть в арке Бархатной гостиной — ни чём её не убеждали. Но теперь — свет мерк в её глазах.
Этьенн…
Лора видела, что сама Элоди совершенно безразлична к Этьенну, сестра не давала никакого повода для ревности, но именно это почему-то бесило ещё больше — стократно. Сама она не могла жить без Этьенна, он же потерял голову от этой чернавки, а Элоди при этом даже не удостаивает его вниманием, высокомерно измываясь не только над Этьенном, но и над её любовью! Этой ведьме совершенно не нужен тот, за любовь которого сама Лоретт готова была отдать всё на свете.
Элоди даже не удостаивала быть её соперницей!
На обман Лоретт пошла от отчаяния, ненависти и зависти к сестре, при этом, не думая о последствиях — не по глупости, но от захлестнувшего душу порыва злости и безумной страсти. Но Лора до последнего надеялась, что близость с ней откроет Этьенну глаза, он поймет, как она любит его и он останется с ней. Когда же Этьенн обнаружил, что его обманули, его взгляд просто испугал её. Теперь Лоретт начала понимать, что потеряла и честь, и сестру — но не приобрела и Этьенна. Она ждала, что он все-таки придёт, сжалится, позволит быть с ним рядом, но спускалась новая ночь, мрак окутывал тёмные закоулки замка, но Этьенн не приходил. Её взволновала мысль о том, что, может быть, он всё же приходил, но в спальню к Элоди, искал её там, она поспешила туда, но дверь была заперта — Элоди была в библиотеке. На дрожащих ногах Лоретт спустилась к спальне Этьенна и робко постучала.
Этьенн был у себя. Он понимал, что лживая, одурачившая его девица рано или поздно явится и спокойно обдумывал планы мести. Он ничего не собирался прощать. Едва он вспоминал, как был одурачен, свои мечты по получении письма, мысли, которых теперь стыдился, — взгляд Этьенна наливался свинцом. Такое ему ещё испытывать не доводилось. Насмешливая фраза Элоди причинила ему боль невообразимую. Она свидетельствовала не только о полном понимании произошедшего, не только о том, сколь смешным выглядит он в её глазах, но и удостоверяла безнадежность всех его надежд. Вдобавок, Этьенн был унижен при Клермоне, как будто мало было ему его пьяной исповеди!
Расплатиться за это унижение предстояло Лоретт.
Когда Лора появилась на пороге, он долго оглядывал её, ждал первых слов. Она в конце концов залепетала что-то о том, что он должен простить её, должен понять… Услышав слово «должен», Этьенн почувствовал, что его заливает волна бешенства. Эта потаскушка ещё будет предписывать ему нормы поведения? Уж ей-то он точно ничего не должен, чёрт возьми! А впрочем… — Этьенн улыбнулся.
— Но что, по-вашему, я должен делать теперь, моя дорогая?
— Я думала, вы полюбите меня…
В спальне Этьенна горела только одна свеча, и половина его лица была в тени. Лоретт не видела его злобно содрогающейся щеки, дергающегося уголка рта. Он резко поднялся.
— Хорошо, моя дорогая, на этот вечер я оставлю вас и постараюсь… полюбить. Но помните, любой отказ удовлетворить мою прихоть приведёт к вечной разлуке. Я не привык, чтобы мне отказывали.
Лоретт была на седьмом небе от счастья.
Мсье Виларсо де Торан, как мы уже говорили, не был законченным негодяем. Не был по сути, но умел им становиться без всякого труда. Переменчивая, изломанная и искажённая натура обретала себя в мерзости легко и свободно, трудны и мучительны для него были как раз периоды отрезвления и нравственного похмелья. Когда им руководила похоть — Этьенн был просто развратен, но сейчас им двигали злость и месть — и он стал исчадием ада. Она хотела его любви — она получит её, и Тьенну сделает всё, чтобы она насытилась этой любовью. Злость, как и похоть, в приступе своём не знает стыда. Этьенн не просто бесчестил, но осквернял её, испробовав не только все мерзости Шаванеля, но и все, что подсказывала ему накопившаяся злоба. Последний портовый матрос не вытворил бы такого с распоследней портовой проституткой. Он мстил, понимая, что срывает на ней злость и за насмешливый взгляд Элоди, и за её саркастические слова, и за то, что он, пусть на минуту, мог принять эту надоедливую муху за Элоди, за своё унижение перед Клермоном, за истерзавшую его любовь…
Лоретт, вначале безропотно покорная ему, исполнявшая, несмотря на боль и испуг, всё, что он прикажет, наконец, поняла, что он просто измывается. Но Этьенн, несмотря на её слёзы, лишь входил в раж, творя непотребное, и заставляя её подчиняться. Его плоть успокаивалась лишь на считанные минуты, ибо злоба и мщение вновь заставляли её восставать. Этьенн понял, что пресыщен местью и утомлён, лишь около трех часов пополуночи, после чего выставил её за дверь и зло сплюнул, с сожалением подумав, что подобной дуре и этот урок впрок не пойдёт…
Глава 21. В которой, несмотря на все необъяснимые происходящие события, оказывается, что весьма многие в замке Тентасэ озабочены исключительно личными делами
Элоди заснула только под утро. И, как подумала, проснувшись, лучше бы не делала этого. Приснившийся кошмар оправдывал это мнение. Она снова шла по воде и вдруг тонкая белая рука, высунувшись со дна, схватила её за лодыжку. Она испуганно всколыхнулась, и тут увидела, как из-под воды вылезает Лоретт — с распухшим лицом и остановившимися, мертвыми глазами, с огромным ножом в руке. Утром Элоди решилась заглянуть к Лоретт, но не нашла её в спальне, причем, та явно не ночевала в ней. Боясь повредить и без того дурной репутации Лоретт, Элоди осторожно обошла коридоры и залы замка, но тщетно — сестры нигде не было. Слуги не видели её. Разбуженный Элоди Клермон тоже приступил к поискам — но Лоретт исчезла.
Встревоженная Элоди пошла даже на то, чтобы осведомиться у Этьенна, не видел ли он Лоретт, но тот, интуитивно найдя наиболее правильный тон — серьезный и чуть удивленный, ответил немного нервно и чуть раздраженно, что с прошлого утра, когда им довелось найти несчастного мсье де Файоля, не имел счастья видеть её сестрицу. Никто не выглядит более невинно, как виновный, уверенный в своей безнаказанности.
Элоди поверила его сиятельству.
Элоди и Арман и до обеда, и после него обошли все закоулки замка, Этьенн вызвался помочь им, и обеспокоенная Элоди даже поблагодарила его. К поискам подключили и мсье Бюрро, и слуг, и Дювернуа, но толку не было. Никто не хотел предполагать самого худшего, что девица, допустим, упала в реку или утонула в пруду, но настал момент, когда, после осмотра последнего закоулка и даже склепа, куда не поленился сходить мсье Бюрро, эта версия стала господствующей.
Аbîme appelle l'abîme, бездна призывает бездну…
Элоди плакала, и Этьенн смутно почувствовал, что слова этой девушки о любви как-то проясняются для него. Её сестрица, куда бы она не подевалась, была готова на всё — вплоть до того, чтоб облизывать его гениталии — чтобы удовлетворить свою вздорную страсть, и была готова хладнокровно опозорить собственную сестру. Случись что с Элоди — Лоретт разве что надела бы черную вуалетку, озаботясь, чтобы та была ей к лицу. Неспособная на любовь к сестре, она умирала от любви к выдуманной ею же иллюзии. Но Элоди любила сестру и была до слёз обеспокоена…
Не сделала ли дурочка в самом-то деле что-нибудь собой после того, как узнала его — подлинного?
Этьенн задумался.
Впрочем, вчера он не был собой, просто обозлился. Мысли Этьенна текли вязко и медленно, вспоминая, что вытворил ночью, он тяжело вздыхал. Теперь он уже сожалел об этом. Это обида от презрения Элоди, боль унижения, понимание того, что нелюбим — впервые в жизни, тяжкий морок болезненной, мучительной, безумной и сумасбродной любви довели его — вот он и сорвался на Лоретт. Сейчас он бы этого не сделал. Куда подевалась дурочка, в самом-то деле? Его мысли прояснились. Он был жесток и обозлён, но срываться на жалкой девчонке было низко. Клермон бы сказал, что это недостойно мужчины…
Мысли Этьенна приняли, однако, совсем другое направление, когда Клермон, успокаивая Элоди, сжал её руку и прижал к губам. Взгляд её просветлел, стал нежнее, тон голоса мягче, на дрожащих губах появилась улыбка. Если бы она так посмотрела бы на него, Этьенна, — сердце истекло бы негой в его груди. Значит, ему не мерещится? Этьенн не видел в Армане признаков сильного увлечения — тот был сдержан, держался с Элоди, как заботливый брат. Но Элоди въявь благоволит к нему, это он видел. Этьенн снова почувствовал, что втягивается в тяжкий морок любви, в глазах темнело, он не мог, просто не мог без неё… Что же это? Но влюблён ли Клермон? Решение пришло быстро и, так как поиски завершились ничем, а уже темнело, ему ничего не помешало тут же приступить к его осуществлению.
Сюзанн уже пришла в себя после легкого потрясения от смерти де Файоля, что произошло, впрочем, довольно быстро, и новое известие о пропаже Лоретт восприняла удивлённо. Куда это она могла подеваться? «Стоило тебе позабавиться с ней, как она поняла, что лучше ей будет только в раю…» Но братец не стал делиться с сестрой своими размышлениями по этому поводу — просто потому, что его самого это сейчас не занимало. Однако то, что его занимало, требовало вдумчивого и осторожного подхода, ибо Сюзанн была особой неординарной и весьма способной. Причем, способной абсолютно на все.
Между тем, всего не требовалось. Ревность к Клермону не заставила Этьенна забыть доброжелательную мягкость, доброту и благородство Армана. Тот спас ему жизнь. Этьенн не хотел ему зла. Он просто хотел Элоди, и все, что ему было нужно — чтобы Клермон не путался под ногами. Повторять историю с Лоретт он не будет, твердо решил Этьенн.
— Мне нужна твоя помощь, дорогая. Причем, особая. Скажи, на что ты способна без своих старушечьих рецептов?
Сюзанн не поняла его.
— Мне нужно, чтобы ты очаровала Клермона, но не так, как Рэнэ. Он должен просто влюбиться в тебя, причём, мне интересно, сможешь ли ты это сделать, — он улыбнулся, — только своими женскими достоинствами…
Сюзанн расхохоталась.
— Я что-то не пойму тебя, малыш. Ты возжелал эту монашку, и хочешь, чтобы я отвлекла её паладина. Это разумно. Но зачем же предписывать мне, как действовать?
Этого-то Этьенн и опасался. Хватит с него Лоретт.
— С головы Клермона не должен упасть ни один волосок, он не должен пить ничего, кроме чистого вина. Ты поняла меня? — тон Этьенна стал жесток и сух, в нём послышался скрежет металла, и это понудило Сюзанн внимательно вглядеться в лицо брата. — Если ты ни на что не способна без своих дьявольских уловок — так и скажи. — Он помедлил, потом тихо добавил, — Клермон мне дорог.
Сюзанн несколько минут внимательно рассматривала братца.
— Тебе нужно, чтобы он…
— Увлёкся тобой, дорогая… Легкий флирт, слабое головокружение…не больше. Кстати, я видел его о naturel, сложен он бесподобно. Затяни его в постель — поучи азбуке любви. Он не сведущ в ней. Удовольствия ты, скорее всего, не получишь, но зато — доставишь большое удовольствие мне. И я буду тебе весьма благодарен… — Этьенн улыбнулся, и Сюзанн оттаяла. Она нежно взлохматила его волосы.
— Чёрт бы подрал тебя с твоими причудами…
Этьенн вернулся к себе. Теперь можно будет позабавиться. Сюзанн никогда не отступается от намеченного, будь то покупка ненужного браслета, или ещё одной шубы, или совращение мужчины, даже совершенно ей ненужного. Клермон ещё до конца недели окажется в её постели, а лишившись невинности столь поздно — неминуемо привяжется к той, что сделала его мужчиной. Да и пора бы уже, усмехнулся Этьенн. Опытность не помешает Арману, скорее откроет глаза на некоторые стороны жизни, пока закрытые для него. В нём смутно пронеслось какое-то воспоминание, что-то о помощи Божьей, ах да, об этом говорил герцог… Но он, усмехаясь, покачал головой. Вздор всё. Девственность для мужчины — в конце концов, просто обуза. Он вспомнил Фоше и поморщился. К черту! Клермону не двенадцать.
…Почти всю ночь Элоди то плакала, то молилась. Но черная безнадежность, поселившаяся в её душе, как только она увидела пустую спальню Лоретт вкупе с ужасным сном и прочитанной накануне Арманом надписью на стене, только усугублялась. Она чувствовала, что с Лоретт случилась беда, и боялась завтрашних поисков тела в пруду, которые обещал организовать мсье Гастон.
Этьенн раззадорил Сюзанн, и его требование не пользоваться ни афродизиаками, ни иными приворотами, вначале показавшееся ей странным, по размышлении понравилось. Утром она внимательно оглядела Клермона — приятные мягкие губы, яркие синие глаза, красивый профиль, темные волосы и светлая кожа. Если верить братцу, то, что под одеждой — столь же хорошо. Чёрт возьми, это не тщедушный Файоль, глянуть не на что было.
Клермон держался скромно и сдержанно, но его спокойное, благородное достоинство понравилось Сюзанн. Интересно, в самом деле, каков он в постели? Файоль, мир праху его, говорил ей, что он девственен, и братец подтвердил это. Ну, и что, это тоже лакомое блюдо, смотря чем приправить… Тем более Сюзанн было бы приятно наставить нос этой монашке — вполне достаточно и того, что её — это с таким-то лицом! — вдруг возжелал Этьенн!
Сюзанн не помнила, чтобы брат когда-нибудь увлекался. Иногда его взгляд, победительный и вожделеющий, падал на какую-нибудь из девиц или светских красавиц, и она опять-таки не помнила, чтобы Этьенн не получил желаемого. Он не был жесток, хранил каменное молчание о своих связях, но становился безжалостен и подл только когда замечал, что женщина покушалась на его свободу и душу. Но он никогда не дорожил ни одной, ни у одной не вымаливал любви, ни с одной не искал встреч. Он, как она в шутку как-то сказала ему, напоминал неподвижного паука, раскинувшего свои сети повсюду, и просто пользующегося тем, что попадало на липкую паутину.
Что же случилось? Этьенн, мечущийся и нервный, ищущий глазами свою пассию, робеющий и трепещущий от женского взгляда — казался ей жалким. Но мало того, что он потерял голову и униженно вымаливает любовь. Сама Сюзанн всегда считалась красавицей, и не терпела даже возможности сравнения себя с кем-то. Лоретт д'Эрсенвиль казалась ей привлекательной, но, по правде говоря, она и помыслить не могла, что Этьенн всерьёз ею увлечется. Он бросал девиц и покрасивей. Но она пригласила Лоретт с сёстрами именно для развлечения брата, понимая, что он сделает из одной, а может быть, и из всех сестричек д'Эрсенвиль заурядных шлюшек, обыкновенные подстилки.
Но Сюзанн даже представить не могла того, что происходило на её глазах. Этьенн сходил с ума от женщины, смиренно склонялся перед той, кого она не только не считала равной себе, но и вообще не готова была признать даже хорошенькой! Она искренне не понимала брата, видя его увлечение этой дурнушкой. Ну, может быть, не совсем дурнушкой… Но, воля ваша, разве это женщина? Рта почти нет, глаза — как блюдца, а тоща-то…
Сюзанн снова и снова внимательно разглядывала девицу, покорившую брата. Может, она что-то не понимает? Стройна, фигура необычна, но, пожалуй, недурна. Но шея слишком длинна, и лоб излишне высок, профиль — да, красив, но губы незаметны и заурядны. Глаза же просто ужасны — ночное привидение. Сюзанн бы и в голову не пришло, что Этьенна может пленить подобная девица. Не опоила ли его чем-нибудь эта бестия? Но нет, ведь всё было ещё хуже.
Этьенном пренебрегали.
Сюзанн не составило труда заметить, что девица шарахалась от брата, но — не как испуганная нимфа от Аполлона, а скорее, как добропорядочный буржуа сторонится лепрозория Сен-Лазар! Это была уже наглость запредельная — пренебрегать тем, по ком сходили с ума все красотки в свете, тем, кто никогда не знал поражения, тем, кто был предметом её гордости и любви. Нанесённое оскорбление требовало сатисфакции.
Что ж, посмотрим, чья возьмёт.
Сюзанн все пристальнее вглядывалась в лицо, осанку, мощные запястья Армана. Некоторые выводы она сделала сразу — силён и вынослив, но к изыскам отнесется без восторга — не искушён и не склонен к грязи. Такие мужчины слишком благородны для настоящего свинства в постели, а без свинства — какое же удовольствие? Но спокойной мужской силой от него веет не менее, чем от Этьенна. В общем, она осталась довольна наблюдениями. Интересно будет свести его с ума.
После обеда она попросила брата и Клермона помочь ей передвинуть сундук в её спальне, но когда Арман пришёл, Этьенна ещё не было. Сюзанн была в кремово-персиковом пеньюаре, облегавшем её, как вторая кожа, волосы её скрепляла только шелковая лента, и взгляд Клермона не мог не упасть в декольте Сюзанн, содержавшее, как не без основания полагала она, достоинства, прелесть которых мужчина мог не оценить только в том случае, если был слеп. Клермон, безусловно, слепым не был, и дыхание его чуть участилось.
Сюзанн он полагал особой развращенной, но считал, что она, как и брат, — жертва несчастных обстоятельств, и был склонен жалеть её. Но жизнь в замке редко сводила их вместе, Арман мало приглядывался к ней, хотя и замечал, даже против воли, мощную женскую красоту мадемуазель Виларсо де Торан, но, помня её изначальное пренебрежение, сторонился девицы. Сейчас он просто ждал Этьенна, с тоской думая о результатах поисков Лоретт, прогноз которых был мрачен. Будь она жива — уже бы нашлась бы, полагал он. Тревога и опасения, внутренняя скорбь, хоть Арман едва ли понимал это, были для него благим оберегом от женских чар.
Сюзанн с улыбкой заговорила, и Клермон заметил, что она — живая и остроумная собеседница, умеющая расположить к себе. При этом она села на подлокотник кресла так, что его взгляд против воли все время останавливался на её груди. Она же по-прежнему весело болтала, а заметив, что в него сбился шейный галстук, предложила перевязать его, и не дожидаясь от несколько ошеломленного Армана ответа, развязала шелковый платок. Клермон счёл подобное фамильярностью, но подумал, что в тех кругах, где вращаются Этьенн и Сюзанн, возможно, такое поведение принято.
Нежные руки Сюзанн перевязывали его галстук, и от прикосновения её мягких прохладных пальцев по телу его прошёл легкий трепет. Но ему тут же вспомнился её презрительный взгляд, каким она окинула его по приезде. Трепет сменило отторжение. Сюзанн не заметив этого, улыбнулась ещё ослепительней и сказала, что ей не удалось завязать галстук как у лорда Брамелла, но, по её мнению, столь изящно, как у него, ни у кого и не получится.
В эту минуту вошёл Этьенн, по договоренности с сестрой задержавшийся на пятнадцать минут, вежливо извинился за опоздание, и мужчины занялись сундуком. Это заняло считанные минуты, потом Сюзанн предложила им выпить и, не успел Арман отказаться, как Этьенн уже усадил его в кресло, протянул бокал с коньяком и заговорил о встрече с мсье Бюффо. Тот сильно сомневается, что им удастся найти тело, если, разумеется, оно в пруду — если легкие полны воды, тело может всплыть и через месяц. Но герцог приказал сбить несколько бревен и пройтись по дну с баграми — пруд неглубок, может быть, зацепят. Арман слушал и мрачнел. Господи, когда же восстановят мост? Обещанная летняя идиллия оборачивалась кошмаром, и Клермон дорого бы дал, чтобы завтра же вместе с Элоди покинуть Тентасэ. Впрочем, грехом было думать, что это лето было для него тяжким — ведь он встретил свою судьбу… Но Клермону казалось, что над замком почти зримо сгущался мрак.
Сюзанн заметила, что лицо Клермона стало холодней и отрешенней, и заговорила о намеченном на послезавтра небольшом пикнике. Это пойдет им на пользу, поможет развеяться после этих непонятных кошмаров. Этьенн, сказав, что принесёт фрукты, вышел, а Сюзанн начала въявь кокетничать с ним — игриво и чуть насмешливо, смеясь над его заторможенностью. Она тормошила его и смеялась, и Клермон снова почувствовал, как медленно окутывает его марево запаха её тела. Он не мог отвести глаз от её груди, невольно рисуя в воображении то, что было скрыто, чувствовал гнетущее возбуждение и странное сонное головокружение. На несколько мгновений словно окунулся в её тело, потерял себя… Возникло томящее желание погрузиться в мягкую нежность шелковых простыней, ласковую негу алькова, теплые объятия Элоди… Элоди? Клермон вздрогнул. Что он здесь делает? Вернувшийся Этьенн удивился, увидев, что он прощается. Арман что-то пробормотал о мсье Бюрро, с которым хотел бы поговорить…
Этьенн вызвался проводить его.
Дорогой они молчали, Виларсо де Торан искоса поглядывал на Армана и лишь однажды спросил, как, по его мнению, надеется ли мадемуазель Элоди, что сестра её… жива? Арман кинул на него мимолетный взгляд. Он видел, что там, где речь заходит об Элоди, Этьенн теряет самообладание. «Да, она надеется». Этьенна это удивило. Ему казалось, заметил Этьенн, что мадемуазель Лоретт не была привязана к сестре.
Арман ничего не ответил.
По их уходе Сюзанн откинулась в кресле и задумалась. Это был афронт. Глаза Клермона затуманились на считанные мгновения — и тут же прояснились. Дыхание участилось, но вернулось в свой размеренный ритм. Пальцы чуть заметно напряглись на подлокотниках кресла — и расслабились. Вернувшийся Этьенн успокоил её. Клермон, видимо, холоден по натуре, он сам никогда не видел его возбуждённым, такие нелегко теряют голову, но это не значит, что не теряют её вообще никогда. Капля долбит камень не силой, но частым падением.
Клермон, расспросив мсье Бюрро, поспешил к Элоди. Та была измучена и грустна и, не зная, как успокоить её, Арман просто тихо сидел рядом, сначала обдумывая то, что сообщил мсье Бюрро, а оно не многим дополняло сообщённое Этьенном, потом думая о том, что могло случиться с Лоретт. Слово «самоубийство» то и дело всплывало в мозгу, но он усилием воли старался не думать о подобном исходе.
— Я слышала, как герцог говорил кому-то, что ночь в горах, если поранена нога или человек не может двигаться — смертельна. Становится очень холодно, даже летом, — Элоди подняла на него остановившиеся, полные ужаса глаза.
Клермон взял её ледяные ладони, пытался согреть их своим дыханием. Неожиданно вспомнил слова Этьенна. Зачем он вообще сказал их? Арман был умным человеком, но ум его не был картезианским. Клермон редко задавался вопросом, солгали ему или сказали правду — но пытался понять, зачем некто говорит ему то, что говорит — и тогда без труда понимал, что стояло за словами собеседника. Этьенн хотел натолкнуть его на мысль о том, что Лоретт не любила Элоди. Зачем? Вспышка ненависти Лоретт к сестре была вызвана ревностью. Или он хотел сказать, что причина в ином?
— Вы с Лорой в детстве дружили? — спросил Арман Элоди, лаская её пальцы и чувствуя странное напряжение.
— С Лоретт? Нет. Её и Габриэль отдали мадам Дюваль, а я… она не нравилась мне, и подруга Эмилия сказала, что ей предстоит четыре года пробыть в Шарлевильском пансионе. Я уговорила родных отпустить и меня. Я вернулась только два года назад, после смерти отца. Но и тогда — мы не подружились. Лора… Я чувствовала, что… раздражаю её, да и Габриэль тоже. Они… я слышала, считали меня синим чулком, монастырской послушницей, фанатичкой… Это все мадам Дюваль. Одна ничтожная и помраченная душонка способна отравить ядовитыми миазмами десятки душ.
— А ты… любила их?
Она посмотрела на него жалобно, как ребёнок.
— Я хотела… исправить их, объяснить им… Но сейчас… я понимаю, что просто не умела любить. Отец Легран говорил, «что бы вы ни делали, делайте это с любовью. Вы поймете, что причина ваших бед в недостатке любви, ибо такова причина всех бед мира. Надо любить всякого человека, видя в нём образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей…» — Клермон посмотрел на неё долгим взглядом, вспомнив о Жофрейле де Фонтейне. Воистину только люди Духа ещё могут говорить сегодня о Божьей любви — для всех остальных она давно ничего не значила. Элоди горестно продолжала. — Умела ли я так любить? Разве я была к ней милосердна? Разве не превозносилась я над ней в гордыне моей, считая глупой и доступной? Разве меня не раздражала её страсть? Вразумить можно, только любя, я же злилась… — Она разрыдалась. Чуть успокоившись, через несколько минут продолжила, — мать говорила, что любовь есть вершина всех совершенств, но стяжать любовь может только тот, кто стал бесстрастен, освободился от склонности к блуду, гневу, лжи и гордости… Я не умею так любить. — Элоди печально посмотрела на него.
— Но ненависти к тебе Лоретт не испытывала?
— До приезда сюда… кажется… нет… Да и потом… Это всё этот человек. — Элоди неожиданно и зло рассмеялась, хотя в смехе вновь, как когда-то, зазвенел бьющийся хрусталь. — Но Господь покарал его за дела его. Или Дьявол.
— Ты полагаешь…
— Только возмездием я назову его дурную любовь. Может ли человек, для которого бог — похоть, стяжать любовь? Любовь — это акт веры, и если в человеке нет веры, то в нём нет и подлинной любви. Неужели он надеется, что я могу полюбить его? Безумец. Это его кара и за Лоретт, и за сотни таких лоретт. Это наказание и вразумление ему, как гибель сестёр дана во вразумление мне. Нас всегда вразумляют, каждый день учит нас — и не надо винить Господа, если мы не учимся — и на бедах наших, и на бедах ближних. — Она умолкла, потом неожиданно спросила, — но ты по-прежнему близок с ним… Почему?
— Ты же сама говоришь, любить всякого человека, видя в нём образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей… Он чем-то… он нравится мне, и мне все время кажется, что если бы ему изначально внушили верные принципы — он был бы очень светлым человеком.
Элоди странно улыбнулась, но ничего не ответила. От неё Этьенн хотел той любви, которой она дать ему не могла. Неожиданно Арман спросил:
— Ты сказала — «гибель сестёр»? Значит, ты уже не надеешься, что Лоретт жива?
Элоди снова заплакала и покачала головой, и Арман, видя, что она утомлена и угнетена, сказал, что ей нужно постараться уснуть. Она кивнула, и он направился к себе. Оставшись одна, Элоди вновь начала перебирать в памяти детали поведения Лоретт и возможные причины её исчезновения. Был странный провал во времени… Если она покончила с собой, чего опасалась Элоди, то почему она не сделала это после первой же ночи с Этьенном? Весь день она ещё после была у себя, и пропала только ночью следующего дня… Или утром. Её размышления прервал стук в дверь. Элоди, подумав, что это мсье Бюрро, поспешно открыла.
На пороге стоял Этьенн. Он видел, что Арман ушёл и постучался к Элоди просто потому, что… потому что не мог без неё. Ему нужно было видеть её ежеминутно, ежечасно, ибо дышать он мог только там, где была она. Она удивилась, но неожиданно глаза её блеснули. Она была — вопреки мнению мадам Дюваль, сестёр и Сюзанн — женщиной, — просто отличной от расхожих и примитивных представлений о женственности. И сейчас прекрасно понимала ту власть, что дана ей неведомо кем над этим неприятным человеком, один запах тела которого заставлял её останавливать дыхание от брезгливости. Этьенн был её рабом — ненужным, как некстати подаренная вещь, которую готов передарить кому угодно или выбросить, но Элоди осознавала его рабство.
Этьенн потерял себя, потерял голову, потерял достоинство и потерял всё свое высокомерие. Случай с Лоретт заставил его только острее понять свою ужасающую зависимость от этой женщины, в которой он нуждался как в воздухе. Заворожённый и околдованный, Этьенн жил от одного её взгляда до другого. Разврат роковым образом ведет к быстрой потере душевного равновесия, и Элоди не понимала до конца состояние опустошенной развратом, но сильной и страстной души, все запредельные пространства которой ныне заливали потоки страсти, поверхность которой стала зеркалом, отражавшим её облик. Но Элоди не очень любила зеркала, тем паче — подобные. Она понимала не всё — но и понимаемого было достаточно.
Сейчас Этьенн повторил то, что говорил уже десятки раз — и чем немало наскучил. Он предлагал ей себя — руку, сердце, состояние, — всё то, что было ей нужно не более летошнего снега. Как-то под вечер она, уже в постели, предалась грезам о Клермоне. Это был грех, и она понимала это, но воображение был сильнее воли, и она мысленно гладила его мощные плечи, странно волновавшие её, его сильные руки обнимали её и она таяла в его объятиях. Но при одной мысли, что к ней прикоснётся этот человек, вызывала гадливое отвращение. Человек, обесчестивший её сестру, человек, лишённый чести и порядочности, человек, творящий зло, где бы он не появлялся, творящий даже не волей, но одним своим смрадным присутствием!
К тому же Элоди вдруг поняла, что ревнует к нему Армана.
Сегодня Этьенн был особенно жалок, но открывшееся, точнее, приоткрывшееся ей понимание, что он знает больше, чем говорит, заставили задать ему безжалостный вопрос, бывший не предвидением, но предощущением истины.
— Лоретт провела с вами и последнюю ночь перед исчезновением, так ведь? Что вы с ней сделали?
Этьенн вздрогнул. Замешательство отразилось на его лице. Он не ожидал такого вопроса и не мог ответить на него.
— Ваша сестра ненавидела вас, Элоди. — Он надеялся, что эти слова заставят её перестать думать о сестре, по крайней мере, отвлекут от той проклятой ночи. — Лоретт ненавидела вас.
То, что он говорил о Лоретт в прошедшем времени, царапнуло её душу до крови.
— И за это вы надругались над нею и довели до самоубийства? — её взгляд был изуверским и сумрачным.
Этьенн растерялся. Он уже потерял время, когда можно было отрицать это, сама попытка перевести разговор была не в его пользу. Для Элоди его растерянное молчание было равносильно признанию. Негодяй, il fait tache sur la boue. Она стремительно выпрямилась.
— Я прошу вас уйти, Этьенн. — Её скулы обозначились резче. Элоди боялась, что ещё мгновение — и она не справится с собой. Она не знала — как, но она уничтожит этого человека. Это он убил сестру. И после того, что он вытворил — он ещё дерзает предлагать ей себя? Ей просто качнуло от омерзения. Этьенн был раздавлен, залепетал что-то о том, что не виноват, просто… Он не хотел, он не делал ничего… он осёкся.
— Убирайтесь.
Этьенн, не чувствуя ног, пошёл к двери. Неожиданно остановился. В нем взвихрилось яростное желание овладеть ею — пусть насильно. Ему уже было не до самолюбия. Но резко обернувшись, снова замер. Она сидела на краю дивана, уже забывшая о нём, недвижная, поникшая и словно погасшая. Возбуждение его тоже погасло. Он и вправду подлец.
Что он натворил, Боже?
…Клермон, раздевшись, долго сидел на постели, думая о событиях дня. Дневная встреча с Сюзанн оставила в нём странное, немного унижающее его ощущение беспомощности и слабости. Арман не возжелал её — скорее, был испуган, и понимание этого унижало его. Он нервно сжимал руки, вспоминая красивый и чувственный изгиб губ Сюзанн, темные яхонтовые глаза с поволокой, тень в ложбинке налитой груди. Странно тяготил и тяжелый запах лилий, исходящий от неё. Элоди своей хрупкостью и утонченностью давала ему ощущение его мужественности, Клермон всё чаще позволял себе предаваться сладостным мечтам о том часе, когда с них падут одежды, они сольются в единстве любви, он оплодотворит её лоно, и через них продолжится бесконечная цепь рода человеческого. Но Сюзанн не давала ему чувствовать себя мужчиной, Клермону казалось, что он теряет возле этой женщины и волю, и достоинство, и самого себя.
Все в нём воссоединилось в отторжении. И склонность к Элоди, и смутное понимание судьбы Рэнэ де Файоля, и тяжёлый, приторный лилейный запах. Но какая-то странная взвинченность и нервная истома остались в нём. В ту ночь Арман долго не мог уснуть, пережитое преследовало его, и только усилием воли Клермон заставил себя успокоиться. Волны сна стали медленно накатывать на него, летняя ночь убаюкала пением цикад, веки отяжелели.
…Сюзанн появилась из-за полога почти неслышно, в какой-то отрешенно-спокойной наготе. Клермон вздрогнул и сжался в ужасе. Его парализовало, она же, медленно, по-кошачьи, скользнула под одеяло, и он ощутил на шее её жаркое дыхание. По нервам снова ударил острый и неприятный ему запах лилий, горячие руки Сюзанн обжигали его ледяное тело, лаская его столь бесстыдно, что не возбуждали, но сковывали. Арман стыдился своего тела и стыдился её взгляда, в нём нарастала томящая и острая боль, Элоди, он помнил, его дыхание спирало, задыхаясь, Клермон хватал воздух ртом, в глазах меркло, Господи Иисусе, спаси и избавь меня…
Арман очнулся и замер. В окно струился свет, часы показывали шесть утра, на его постели никого не было. Несколько секунд он молча сидел, потом, запутавшись в одеяле, трепеща, вскочив, ринулся к двери.
Засов был по-прежнему задвинут, ключ торчал в замочной скважине. Дрожащей рукой Клермон нажал на ручку двери. Она не шелохнулась. Утомлённый и истерзанный, но счастливо облегчённый пониманием, что ночная мерзость была сном и кошмар кончился, Клермон, возблагодарив Господа, юркнул под одеяло и, свернувшись калачиком, снова задремал.
Предутренний сон подарил ему Элоди, покоящуюся в его объятиях, её нежные поцелуи, тихую мелодию плещущейся воды и напев флейты. Elodie… ma melodie.. Во сне Элоди была нежна и ласкова, что-то лепетала ему на ухо, он вновь обретал ощущение своей силы, и только сильнее сжимал её в объятьях. Потом начался обвал в горах, он видел, как камни с грохотом обрушиваются на скальные уступы…
…В дверь колотили и Клермон слышал, как Этьенн громко повторяет его имя. На часах был полдень. Клермон вскочил, набросил на себя халат, повернул ключ в замке и отодвинул засов. Мсье Виларсо де Торан оглядел его с ног до головы, Арман же по одному виду Этьенна понял, что случилось нечто ужасное. Тот несколько мгновений помедлил, потом тихо и устало сообщил, что труп несчастной Лоретт обнаружен.
Глава 22. В которой двое из героев приходят к пониманию своих заблуждений
Сам Этьенн узнал об этом от мсье Бюрро, но не хотел идти туда один, боясь увидеть и труп, и Элоди.
Арман изумился ему — выразительное лицо Этьенна потемнело, глаза были окружены коричневой тенью. Он походил на ангела, наклонившегося над бездной, отсвет пламени которой опалил несмываемой гарью его глаза и кожу.
Сам Этьенн чуть отрезвел и словно очнулся. Боже мой, что же он наделал и зачем? Пелена помрачения медленно сползала с глаз. Когда он хладнокровно измывался над Лоретт, то искренне полагал, что вправе сделать это, но сейчас не мог понять, что заставило его довести несчастную дурочку до смерти. Что она сделала ему, Господи? Что она вообще могла ему сделать? Но нет, он не виноват. Он не убивал её. Хотел ли он её смерти? Нет. Ему было абсолютно безразлично, жива она или мертва, но он не думал… не верил в такой исход. Чёрт возьми! Если дуре что и взбрело в голову — при чём тут он? Он не убивал её!!
…Тело удалось подцепить багром одному из слуг. Оно ещё не успело распухнуть, но почернело. Элоди, закутанная в черную шаль, казалась выше и тоньше, чем обычно. Вокруг её глаз тоже залегли тени, и глаза царили на исхудавшем и осунувшемся лице. Она достаточно спокойно смотрела на тело сестры, но Арман видел, что держится она неимоверным усилием воли. Клермон поспешил к ней, оставив Этьенна.
Этьенн, лишившись опоры, покачнулся, но устоял на ногах. Он молча смотрел на тело той, что осквернил, но не узнавал его. Если она утопилась — то почему лицо столь черно? Ил? Но лежащий рядом багор был тоже измазан илом, но цвет его был не черным, но зеленовато-бурым. Он почувствовал, что сил в нём прибыло. Он попросил слуг попытаться отмыть лицо — и даже ринулся помогать — настолько вдруг ударила его внезапная мысль. Элоди молча смотрела, как он суетится над трупом, и не шевелилась, но Арман, поняв что-то, помог Этьенну.
Вода стекала с лица покойницы, не делая его светлее. Этьенн схватил руку утопленницы и с силой потёр её прибрежным песком. Ил отслоился, и под ним проступила черная, обугленная кожа. Клермон встретился глазами с Этьенном и несколько минут они заворожённо смотрели друг на друга. Этьенн вдохнул полной грудью. Она не покончила с собой. Она погибла, как Габриэль и Рэнэ де Файоль. Он не виноват. Эта мысль была для Этьенна невероятным облегчением. Он надеялся, что Клермон объяснит все Элоди, и она поймет, что он не виноват… Элоди и вправду поняла, что тело не могло обуглиться в воде, но это понимание ничего не проясняло.
Что произошло с Лоретт?
Дювернуа так и не решился подойти ближе, в ужасе оглядывая берег с пирса. Эта новая смерть, столь страшно сузившая круг оставшихся, для него была страшным знамением. Нужно бежать отсюда, нужно любой ценой выбраться из этого проклятого замка, где бродит жуткий убийца, день ото дня множащий свои жертвы. Сегодня же он попытается… но как? Наспех сбитый плот на реку ему не перетащить. Вещей много — как забрать их? Река вынесет из ущелья, но он никогда не плавал — как не врезаться в берег на излучине? Ждать же окончания постройки моста — безумие, за это время сумасшедший маньяк уничтожит их всех… Что делать, что же делать? Его трясло.
Сюзанн, опершись на ствол прибрежной ивы, наблюдала за всеми взглядом сумрачным и затуманенным. Она видела, что из её попытки очаровать Клермона ничего не получалось — Арман по-прежнему ошивался вокруг этой бестии Элоди. Только что он прошел мимо, даже не заметив её! Между тем — и в этом она не призналась бы даже себе, не то, что брату — в неё странной занозой вошло и неимоверно саднило болью странное ощущение, поселившееся где-то в ладонях, в кончиках пальцев, но потом разлившееся ядом по телу. Её — непонятно, почему — до дрожи взволновало прикосновение к этому юноше, к его плечам и белоснежной шее, а его отрешённые синие глаза, в которых она даже не отразилась, заворожили. Когда тот ушёл, и брат тоже покинул её, Сюзанн снова и снова вспоминала белые пальцы Клермона, его запястья, чистую, как у женщины, кожу… Брат пошутил, что он совсем неискушен. Но именно эта неискушенность и привлекала.
Но повторялась вечная история жены Потифара и прекрасного Иосифа…
Впрочем, Сюзанн не то, чтобы хотела его. Нет, она хотела, чтобы он смотрел на неё так, как на эту чертову чернавку, так же бережно прикасался — но к её плечам, и нежно сжимал — но её руки… А впрочем, нет. Чего там? Она хотела его. Хотела. Первую партию она проиграла. Брат запретил ей пользоваться привораживающими средствами — но ей и не хотелось прибегать к ним. Ведь эта ведьма Элоди заворожила его собой, и не только его — она свела с ума и Этьенна, и покойника Файоля, что даже в сонном бреду бормотал со злостью её имя, а что она?
Но пока эта дрянь так смотрит на Клермона этими жуткими глазами-блюдцами, его не оттянуть. Да и чертов братец — с ума сошел, ей-богу, смотрит на неё как слепой на солнце, совсем голову потерял. Не угостить ли мерзавку тем дивным снадобьем, о котором говорил Шаванель? Братец отойдет от бредовой страсти — ей же спасибо скажет. Да и какого черта ей считаться с вечными прихотями Тьенну — у неё свои прихоти, и они должны быть на первом месте! Плевать ей и на Этьенна! Решено. Она сегодня же разделается с этой девицей — и к её услугам будет Клермон.
Сюзанн направилась к себе, а мсье Бюрро, Этьенн и Арман отнесли тело несчастной Лоретт в склеп.
Все нижние ниши колумбария были теперь заполнены и неожиданно оба они переглянулись. Две верхние ниши были пусты. Пустела и самая верхняя. Они словно приковывали к себе взгляды, томили странными, тягостными мыслями.
— Мсье Гастон, а почему здесь шесть ниш?
Мажордом мягко пояснил, их всегда было шесть и здесь нашли упокоение шесть основателей рода де Шатонуаров. Но лет двенадцать назад, во время ужасного наводнения, склеп и все замковые подвалы затопило. Он горестно махнул рукой. Восстановить усыпальницу не удалось.
Этьенн чувствовал себя ужасно. Несмотря на то, что смерть Лоретт, кажется, не была самоубийством — легче ему не стало. Воображение навязчивое, как душный кошмар, рисовало его измывательство над покойной. Что он наделал, Господи? Не подходя к Элоди, Этьенн сел на поваленную корягу, беспомощно опустив руки, глядя на пруд. Лицо его было измученным и больным, и Элоди поймала себя на мысли, что ей жаль его. Надломленная и щемящая красота этого лица, искажаемая порочностью, сейчас проступила в какой-то подлинной чистоте и горести. Она подошла к нему, пробормотала что-то сочувственное, несколько мягких фраз — на что хватило сил. Он поднял на неё глаза, тяжело вздохнул и кивнул. В склепе, стоя у заполненных трех ниш и озирая три, остающиеся пока пустыми, Этьенн подумал о том, что всё как-то нелепо и страшно. Но мысль эта его не ударила и не напугала. Страха Этьенн не знал, но что-то томило до желания расцарапать ногтями грудь. Неожиданное сочувствие Элоди было приятно ему, но оно мало что меняло в его мрачных предчувствиях. Он поймал себя на гнетущем ощущении грозящей неминуемой беды, чего-то неотвратимого и мучительного.
Клермон читал на лице Элоди только утомлённое безразличие и усталость. Смерть Лоретт оставила её в одиночестве. Она осталась последней из рода, у неё теперь не было близких. Как ни эфемерны были их родственные связи, как ни мала была привязанность к ней сестёр — она была лучше той пустоты, что воцарилась в душе. Мысль о причинах смерти Лоретт не сильно затронула её. Что за разница — что случилось с ней, если её нет и не будет никогда? Смерть без покаяния, без последнего причастия — ужасна, и гибель самой Лоретт усугублялась пониманием, что та погубила свою душу. Сбылись её самые дурные предчувствия, но и они не рисовали ей того, что случилось в Тентасэ.
Габриэль… Лоретт…
Клермон, после того, как проводил измученную Элоди к себе и уговорил лечь, направился в библиотеку, где оказался не в одиночестве, а в обществе его светлости. Тот появился на пороге неожиданно, странно оживлённый, точно взвинченный, жесты его были как-то особо резки и порывисты. Клермон снова ощутил что-то неясное и смутное. Этот человек, чем-то нравящийся ему, почему-то настораживал и порой даже чуть пугал. Робер Персиваль улыбался, — но Армана слегка лихорадило от его улыбки, он вперял в него взгляд внимательных и доброжелательных тёмных глаз, — но юноша ощущал странную дрожь во всём теле, герцог шутил, — но становилось неуютно. Арман что-то будто понимал, но понимание не оформлялось в нём, не облекалось в слова.
Тот же, опершись о полку камина, горестно жаловался.
— Буду откровенен с вами, мой дорогой мсье де Клермон, происходящее в моём доме нервирует меня. Это просто чёрт знает что такое. Скажу искренне, я наблюдал за своими гостями. Мне, старику, всегда приятны молодые люди. Среди их юношеских забот, пыла, игр и свежести, невольно оживаешь, молодеешь душой и телом. Ради этого я и пригласил сюда молодого графа с друзьями. Я не пожалел, особенно приятны были беседы с вами, юноша, и с его сиятельством. Но смерть этой несчастной милой девочки, столь изысканного и обаятельного господина, как мсье де Файоль и очаровательной мадемуазель Лоретт, просто потрясли меня. Вы представляетесь мне весьма разумным молодым человеком. Мне хотелось бы выслушать ваше мнение об этом. Что происходит, виконт?
Клермон заверил его светлость, что пребывает в полнейшем недоумении — равно, как и все остальные.
Когда герцог ушел, Арман странно напрягся. Во время беседы с ним его светлость стоял возле камина, почти также как тогда, в Бархатной гостиной. И также опирался на каминную полку… Клермона вдруг пробрало морозом. Он понял, почему удивился тогда, в Бархатной гостиной, когда Огюстен пронес мимо него зеркало. Да, он видел там фигурку Элоди…
…Но ведь он не увидел в нём стоящего рядом с ней герцога де Шатонуара. Его там не было. Чертовщина какая-то.
Арман почувствовал, что сходит с ума и тут же уверил себя, что просто ошибся. Зеркало пронесли мимо за считанные мгновения, вот ему Бог…, а точнее сказать, чёрт знает что и померещилось.
Мсье Бюрро сказал Этьенну, что сегодня в ущелье доставлена почта, кажется, есть письмо и для него. Этьенн отстранённо кивнул, даже не поняв. Письмо? Зачем? От кого? Он с трудом поднялся, опираясь на перила, двигаясь медленно и с трудом добрёл до спальни. Он не спал ночь и сейчас чувствовал неимоверную усталость. Глаза его были воспалены, веки запеклись и просто слипались. Этьенн присел на кровать, потом откинулся на подушку. Мгновение — и он уже провалился в сон, точно в стог сена, последнее, что он помнил, это что-то забытое, что он непременно…
…Проснулся он далеко к вечеру, и долго не мог вспомнить, как оказался в постели. Обожжённый труп Лоретт, склеп, ласковые слова Элоди — это был сон? Постепенно события дня восстановились в чуть отдохнувшем мозгу. Этьенн всё вспомнил. На столике у дивана на крохотном серебряном подносе белело письмо. Ну, да, мсье Бюрро что-то говорил о почте. Почерк был смутно знаком ему, печатка же была семейной. Он лениво вскрыл письмо, надавив на сургуч.
Свиток содержал два письма. Почерк на одном Этьенн узнал сразу — оно было от дяди Франсуа. Второе было подписано его управляющим.
«Мой мальчик, начал он читать письмо от Франсуа Виларсо де Торана, получив твое письмо из Гренобля, я полагал, что смогу дождаться тебя, хотя ничего так не боялся, как встречи с тобой. Но теперь я понял, что её не будет. Я просто не доживу до осени, так говорит наш врач, и я не имею оснований не верить ему — угнездившийся во мне недуг убивает меня столь быстро, что сил моих недостает даже на то, чтобы удержать в руках перо.
Тьенну, дитя моё, прости меня. Я не знаю, когда в душу мою проник чёрный умысел погубить тебя, чтобы унаследовать титул и вотчину, но горе мне, что я не отверг его. Я побоялся убить тебя, но Дьявол всеял в меня черное побуждение растлить твою душу, я счёл, что растленные помыслы погубят тебя сами, а я, по окончании срока опеки над тобой, получу всё. Но вот срок опеки кончился, я изувечил тебя — но что я получил, кроме невыносимых болей в груди, которые сведут меня через несколько дней в могилу? «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит…» Почему Бертран не сказал мне этого раньше? Прости же меня, мальчик мой, пусть и Сюзанн простит меня, — если сумеет. Стоя у мрачной бездны ада, тяжело думать, что ты принёс столько зла. Я все время вспоминаю твое лицо тогда, в детстве, твои глаза преследуют меня. Прости меня, прости меня, прости меня… Молись обо мне.
Рука моя слабеет. Ты говоришь о герцоге де Шатонуаре… Я не знаю такого, у нас нет такой родни, и точно, что никто из наших родственников не живет в окрестностях Гренобля. Ты не ошибся? Впрочем, это не…»
Письмо было не окончено. Второе содержало сообщение управляющего, что вчера, в пятницу 17 августа, мсье Франсуа Виларсо де Торан скончался.
Несколько минут Этьенн сидел, не шевелясь и почти ни о чем не думая. Потом медленно перечитал письмо дяди. Ему смутно вспомнился Шаванель, но воспоминание не задержалось в душе, вытесненное другим. Арман ведь говорил… но сам он полагал, что тот не прав. Франсуа хотел его смерти? Дядя Франсуа? Этьенн чувствовал себя болезненно задетым и точно оплеванным. Почему? Он почувствовал странную горечь. Что с ним? Редко кто был так добр к нему, позволяя поступать по собственной воле, как дядя… Ведь он, Этьенн… он всегда… любил его. Любил безоглядно и чисто, — как самого близкого человека, всегда способного понять и выслушать, доброго наставника и снисходительного друга.
Франсуа хотел убить его? Желал его смерти?
Глаза Этьенна наполнились слезами, что удивило его не меньше письма. Он… не хотел, не хотел терять этого уже ушедшего человека — он не хотел думать о нём, как о своём убийце. Он просит простить его?
Этьенн лихорадочно схватил письмо и перечитал его в третий раз.
На ватных ногах поднялся, взял оба письма и, споткнувшись на пороге, и едва не упав, вышел в коридор. Он хотел пойти к Сюзанн, но спертый воздух коридора затруднял его дыхание, и он побрёл к выходу. На скамье сидели Клермон и Элоди, и Этьенн с неожиданной властностью поманил к себе Армана. Клермон под испуганным взглядом Элоди поднялся и подошёл к Виларсо де Торану. Тот молча протянул ему письмо и не отрывая глаз смотрел, как тот скользил глазами по строчкам.
Пробежав глазами текст, Клермон пожал плечами и вернул бумагу Виларсо де Торану. Что же тут непонятного?
— Простите, Этьенн, но ничего нового вы мне не открыли. Только негодяй мог сделать с вами то, что сделал он, это было понятно. Его осмысление свершенного и покаяние… Вы простили ему? Впрочем… — Клермон ненадолго умолк, — едва ли вы понимаете, что потеряли, ибо никогда в здравом возрасте не думали об этом. Вас обокрали, вам не дали обрести и осмыслить в себе ни чистоты, ни чести, ни долга, ни веры, но необретённость не осмысляется как потеря — и будет лучше, если вы просто простите ему всё.
Этьенн поморщился, и болезненная гримаса перекосила его лицо. Ему показалось, что Арман ничего не понял.
— Мне же ничего от него не надо было, — неожиданно прорвало его. — Я любил его, любил, — Этьенн почти кричал, — а он хотел убить меня….
— Простите его. Обман любви и доверия — это предательство, но он попал под действие той неумолимой машины возмездия, что не останавливается никогда… Вы не можете покарать его больше, чем он уже наказан свыше. Богом.
Этьенн как-то криво и болезненно усмехнулся, точнее — его лицо исказилось нервной гримасой.
— Я же… — Он резко отвернулся и вошёл в замок. Пробежал по ступеням и резко постучал в комнату Сюзанн. Этьенн никогда не слышал от сестры ничего дурного о дяде, она рассудительная особа. Ему был нужен её вдумчивый и спокойный совет. На его повторный стук никто не отозвался. Пользуясь правом родства, слегка толкнул дверь. Она распахнулась. Он прошёл в гостиную, окликая Сюзанн. Её там не было. Этьенн подумал было, что она в Рокайльном зале, и решил сходить туда, но на всякий случай заглянул в спальню.
Из зарешетчатого окна лился мягкий вечерний свет, разбивавшийся на полу на фигурные ромбы, по комнате плыли странные дымовые разводы, словно здесь только что затушили несколько канделябров. Запах заставил его замереть на пороге. В мягком полумраке на постели лежала Сюзанн, и Этьенн почувствовал, что фигурные ромбы пола кружатся пред его глазами. Потом темнота мягко накрыла его.
…Очнулся сам — в кромешной тьме. Шатаясь, как пьяный, поднялся на четвереньки, потом, цепляясь за дверную раму, встал. Его сильно шатало, но Этьенн смог выбраться в коридор, где пытался позвать Клермона, но поначалу изо рта вылетали звуки, напоминавшие птичий клекот. Армана Этьенн нашёл в библиотеке, и Клермон ужаснулся — Этьенн походил на мертвеца.
— Там… Сюзанн. Она мертва. — Этьенн рухнул на оттоманку, дрожащей рукой указывая на поднос со спиртным.
Клермон наполнил бокал коньяком и протянул Виларсо де Торану. Жизнь медленно возвращалась на лицо Этьенна, кровь прилила к щекам и глаза чуть ожили.
— Что с вашей сестрой?
— Она… обуглена. Вся. Одна… — он судорожно сглотнул, — одна рука лежит отдельно, если мне не померещилось. Я… я, кажется, ненадолго потерял сознание. Может, не рассмотрел. Я не хочу туда. Она вся… обуглена… — Этьенн замолчал, уставившись в огонь камина.
В это время в библиотеку неслышно зашла Элоди. Последние слова Этьенна она услышала и поморщилась, подумав, что они обсуждают смерть её сестры, но, едва взглянув на Этьенна, поняла, что произошло что-то ещё — и ужасное. Клермон, заметив её, подошёл и тихо, почти шепотом сказал, что Этьенн только что нашёл Сюзанн. Её тело тоже обуглено. Ей лучше уйти к себе — они сегодня уже не лягут спать.
Сам Этьенн ничего не слышал, его сотрясала дрожь, он чувствовал, что его лихорадит. Он совсем болен, совсем болен… Нужно было напрячь силы, взять себя в руки — но он не мог, не мог, ничего не мог. Он так устал… Откинувшись на оттоманке, грезил. Сюзанн, совсем крошка, раскачивается на качелях, ласково смеется, машет ему рукой… Рассказывает о поездке на ярмарку, дядя купил ей такие красивые платья, целую дюжину… Вот они прячутся в лесу, играют в разбойников… Сюзанн, как же это? Этьенн завыл, не разжимая зубов, мерно раскачиваясь. Рухнуло все, что он, не замечая, считал своей опорой — любящий человек, заменивший отца, преданная сестра, всегда понимавшая его… Мир разваливался. Кто убил сестру — Этьенн не мог даже осмыслить, но Франсуа… Перед его глазами проносились картины, столь памятные ему…
Дядя со смехом подсаживает его на Фараона, разрешая скакать во весь опор… Книги, в новеньких обложках, что так волновали его плоть и душу, полные скабрезных описаний и пошлейших картинок, оружие, столь рано вложенное дядей в его руки. И все это — чтобы извести его? Усилия Франсуа не увенчались успехом — он вырос неуязвимым и умным, мужественным и неодолимым. Все, что он потерял, если верить Клермону — это невинность, честь, совесть, вера… Что это? Он ведь и вправду не мог дать дефиниций своим потерям — так давно и безжалостно его заставили с ними расстаться.
Значит, Клермон был прав, его окружали негодяи, сделавшие негодяем и его. Сюзанн? Да, и из неё тоже сделали хладнокровную стерву — умную, понимающую, но стерву, это Этьенн понимал, — ведь, что скрывать, порой и он сам опасался её безжалостного ума и жутковатых прихотей. Негодяи… Но разве он негодяй? Перед его глазами мерно прошли глупые влюбленные девицы, обесчещенные женщины, невинные дети на разгульных сборищах, незадачливые мстители за семейное поругание… Лоретт… Этьенн потряс головой, прогоняя неприятное видение. Он просто жил, был свободен, делал, что находил нужным. А что находил нужным? В общем-то, мерзости — разухабистые, развратные, похотливые, злые и жестокие. Вот и все. Личные интересы и целесообразность… Клермон сказал, что надо убрать честь… Лоретт снова появилась перед его воспалёнными глазами. Глупо утверждать, что он не ведал, что творил. Не ведал бы — не сожалел бы о содеянном. Значит, что-то он все же понимал?
Где была эта грань его понимания? Почему она то выплывала и становилась отчетливей, то таяла, терялась? Почему он стыдился только уже содеянного, но творил его всегда без малейшего содрогания? Он словно находился в разных измерениях. Но что заставляло его менять оценки? Почему, ну почему, решив рассчитаться с Лоретт, он зло и бездумно сделал это — и почему на следующий день уже не мог понять, что заставило его так поступить? Будь всё проклято. «Если ты понимаешь, что ты мерзавец — перестань им быть. Те, кто сделали его тем, что он есть, ответят за это, ибо живёт Бог, но если он не пытается излечиться — пусть никого не винит…»
Голос Элоди странно отзывался в его ушах.
Что значит — перестать быть мерзавцем? Это значит, сразу стыдиться. Не содеянного, а того, что только мог бы совершить. Сразу понимать, что срываться и осквернять несчастную глупую девчонку — недостойно мужчины, что подло совращать дурочек, которых наутро намерен оставить, что поднимать оружие против старика-отца, вступившегося за поруганную честь дочери, низко… Почему он не мог этого? Франсуа? Этьенн почувствовал спазм в горле.
Да, вот что такое честь. Понимание и отторжение от себя мерзости до её совершения. Восприятие помышления как свершения. Стыд мерзкого помышления. Вот что у него отняли.
Но она говорит, что можно перестать быть негодяем? Может ли он сразу понимать, что хочет совершить мерзость?
Этьенн ощутил прикосновение к лицу чего-то прохладного и, с трудом разомкнув глаза, увидел Армана, вытирающего пот с его лба. Ему стало чуть легче. Он бросил больной взгляд на Клермона. Рядом с ним был человек, которого выбрала какая-то странная, незнакомая ему часть его души и влекла к нему, бездумно бросившемуся спасать его, временами удивлявшего наивностью, а иногда — и это он теперь понял — поразительной прозорливостью суждений.
Этьенн благодарно сжал запястье Армана.
Господи, но ведь даже его он был готов хладнокровно растлить. Бездумно и бесчувственно. И уже тогда, когда сам понял, что принесло растление ему самому. Он готов был невозмутимо предать того, кто спас ему жизнь — когда этого потребовали его интересы. Да, честь надо убрать… Этьенн гневался на предавшего его дядю — но разве он не предал… точнее, не был готов спокойно предать Клермона? Он несколько озаботился безопасностью его жизни, но разве Франсуа не сделал то же самое? Растлить — значит, убить. Где было его понимание?
— Простите меня, Арман, — губы почти не слушались Этьенна, — я виноват перед вами, это я просил Сюзанн совратить вас…
Клермон пожал плечами. Это искушение было пустым и кроме паскудного сновидения, ничем не запомнилось.
— Это пустяки, Этьенн. «Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?» А вы… вы простили дядю?
Граф вяло и утомлённо махнул рукой. Простил ли он? Да. Он так хотел сохранить о нём теплые воспоминания, что подлинно не хотел вспоминать то зло, что ему причинили. Теперь он осознал это зло, но Господь с ним… Этьенн не хотел держать зла на Франсуа. Ему, видимо, тоже пришлось пожать свой скорбный урожай понимания, и если ему сейчас столь больно, то каково было Франсуа? Сколько муки в его письме… Да. Он прощает.
Но что произошло с Сюзанн? Почему? Перед глазами Этьенна снова поплыло вязкое марево. Сюзанн. Сестра. Не было случая, чтобы она отказалась выслушать и понять, и он понимал, что она… она любила его. Мой Бог, ещё вчера у него были два человека, которых он любил, любил — «ничего не ища своего»… Это была та любовь, о которой говорила Элоди… подлинная… Сюзанн, малышка, где ты? У него не было сил, Этьенн чувствовал, что должен что-то сделать, но совсем обессилел, он сейчас справится с собой, просто чуть отдохнет и встанет… Сюзанн…
Теперь к Элоди пришло окончательное понимание непонятной ей склонности Клермона к этому человеку. Она не воспринимала и не могла воспринять его любовь, — просто убедила себя в том, что в такой душе не может быть ничего подлинного, но сейчас была изумлена — и рассказом Клермона о письме дяди Этьенна, и скорбью несчастного о гибели сестры, совсем сломившей его. Он… способен любить и чувствовать. Это открытие повлекло за собой ряд сумрачных мыслей, самой светлой из которых была мысль о правоте Армана. Прав был и отец Легран… «Причина ваших бед в недостатке любви, ибо такова причина всех бед мира. Надо любить всякого человека, видя в нём образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей… Исцелить человека можно только любовью. Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы Вселенной…»
Этьенн показался ей теперь несчастным и больным существом, нуждающемся в любви, заботе, опеке.
Глава 23. В которой его светлость делится с присутствующими некоторыми размышлениями, в которых ложь почти неотделима от истины, однако, кое-кому удается сделать из них выводы, более близкие к истине, чем ко лжи
Сам Клермон, прочитав письмо дяди Этьенна, был гораздо больше удивлён последними строками письма, нежели всем остальным. Дядя извещал племянника, что никакого родственника в Гренобле у них нет. Сам Этьенн, и он видел это, почти не обратил внимание на это обстоятельство — слишком больно ударило его предсмертное признание дяди. Но как же так? Неужели его смутные подозрения верны?
Этьенн был не в том состоянии духа, чтобы ответить на эти вопросы.
Арман сразу по приезде по словам Сюзанн понял, что брат и сестра Виларсо де Торан видели его светлость впервые, а дядя в письме вовсе отрицает какое-то знакомство и родство с этим человеком. Кто он? Но герцог де Шатонуар — личность, известная в Париже. Ведь о нём говорил и де Фонтейн… Зачем же он пригласил людей, с которыми не состоял в родстве, к себе в гости? Человек, который знает его род на память от короля Франциска, не может заблуждаться в отношении собственного родства… Было и ещё нечто странное, что всегда томило его в присутствии этого человека. Что? Та непонятная тоска, тоска смутного постижения чего-то, что не доходит до сознания, тоска гнетущая и саднящая душу, заглушаемая рассудком, но то и дело интуитивно проступающая…
Но эти мысли могли разве что отвлечь Клермона от ещё более горестных помышлений. Этьенн был обессилен и почти парализован, и транспортировку трупа Сюзанн пришлось взять на себя Арману и Дювернуа. Мажордом и егерь помогали. Огюстена трясло, как в лихорадке, он едва мог удержать конец покрывала, в которое завернули обугленный труп. Этьенну не померещилось — обугленные руки, и вправду, отделились от тела. Клермон неожиданно заметил, что мсье Гастон и мсье Камиль держат покрывало едва сжимая руки, между тем им с Дювернуа приходилось напрягаться едва ли не из последних сил, тело было до странности тяжелым.
Теперь была занята и одна из ниш второго ряда, и пустыми оставались всего две. Дювернуа тихо скулил, а Арман морщился от жуткого запаха тления, воцарившегося в склепе. Тела разлагались и смердели непереносимо, и все торопились.
У выхода, едва отдышавшись, Клермон заметил на берегу реки герцога Робера Персиваля, который взглядом элегичным и мягким озирал водную гладь, слушая мелодию плещущейся воды, и улыбался. Арман подошёл к герцогу и вздрогнул. Солнечные утренние лучи золотили терракотовые стены замка и отбрасывали длинную тень Клермона на стену. Но тени стоящего рядом герцога на стене не было. Арман тихо поднял глаза на его светлость, и снова вздрогнул от его пронзительного, умного и насмешливого взгляда. Мсье Гастон и мсье Камиль приблизились к господину и, несколько шутовски поклонившись ему, замерли по обе стороны от него.
Теней на стене не прибавилось.
Казалось, лицо его светлости герцога де Шатонуара на глазах Клермона помолодело на три десятилетия. Резко изменилась и внешность его слуг. Пред Арманом стоял теперь высокий, необыкновенно красивый человек, но это была красота распада, казалось, прекрасное существо больно смертельной, ужасающей болезнью, тем более страшной, что она уничтожала такую неизъяснимую, утонченную и трепетную красоту. Мсье Гастон, стоявший одесную, тоже, пожалуй, мог быть назван красивым, но лишь до тех пор, пока его чёрные ресницы закрывали глаза. Стоило им распахнуться и злобный взгляд пылающих, словно адская бездна, глаз, заставлял забыть не только о приятных чертах, но и парализовывал всякую мысль. Описать третьего, мсье Камиля, стоявшего теперь ошую от герцога, у Армана просто не получилось бы, внешность его менялась поминутно, черты искажались и перекашивались, словно отражаясь на зыбкой водной глади. Он был в черной хламиде, строен и очень худ, длиннонос и темноволос, и вдобавок кривлялся, как заправский шут.
— Я вижу, мой дорогой Арман, вы не слишком-то шокированы? — с улыбкой обратился герцог к Клермону.
В этом существе и взаправду сочеталось несочетаемое, глаза выдавали страшную, томящую и завораживающую вековую мудрость, порой в чертах и жестах проступало неуёмное фиглярство, но стоило улыбке уйти с лица, и на собеседника смотрело жуткое в своей безжалостности лицо палача. Все странные, недоговоренные, недодуманные и просто неосмысляемые неясности воистину прояснились для Клермона, как озарение. Удивительным он счёл только отсутствие в своей душе потрясения, а ведь, казалось, мозг едва ли мог вместить воплощение — земное, осязаемое и чувственное — того, кто стоял перед ним. Но понимание было отчетливым, разумным, и — очень спокойным. Да, он не был шокирован. Не был испуган. Не был даже взволнован.
Не был, хотя и понимал, что никогда не увидел бы подлинного облика этого существа, если бы на этом всё не кончалось.
— Откровенно сказать, юноша, я бы мог ещё немного позабавляться с вами со всеми, но…
Герцог резким и царственным жестом вытянул руку вперед. Рассвет кончился. Свет померк. Клермон снова оказался в душном склепе. Над гробовыми нишами возвышался трон, стен не было, пространство вокруг казалось бесконечным.
Где-то на высоте звенел, разрезая темноту, яростный писк и шум крыльев больших черных нетопырей, носившихся под сводами потолка. Крылья летучих мышей двигались в такт, взмахи их чередовались с какими-то наглыми и малопристойными движениями… Всюду слышались нарастающие шипящие звуки, в воздухе заклубился хоровод полупрозрачных ужасающих сущностей с нелепейшими конечностями, странными кривыми рожками, выглядящими иногда игриво, а иногда — пугающе, хвостатых и голозадых, распевающих к тому же какую-то непристойную песню, в рефрене которой различался вполне понятный и издевательский вопрос: «Perché diàvolo fare qui?»
Арман обернулся и увидел за своей спиной Элоди, Этьенна и Огюстена. Все они испуганно озирались, не понимая, как оказались здесь. Дювернуа тихо скулил от страха, Элоди, увидя Армана, схватила его за правую руку, на левое его плечо неожиданно оперся Виларсо де Торан. Граф едва мог стоять, слегка пошатывался, но было заметно, что его куда более Армана шокировало преображение герцога. Этьенн смотрел на него остановившимся непонимающим взглядом и потрясённо молчал.
— Должен сказать вам, мои дорогие гости, что вы мне порядком надоели. Возможно, звучит это не очень-то вежливо, но — искренность прежде всего. Все вы провели здесь вполне достаточно времени для того, чтобы осточертеть мне. И потому вы должны простить меня, но я хотел бы выпроводить вас отсюда. Правда, уйдут только двое, ибо все ниши, что вы видите, должны быть заполнены. Двое из вас и послужат этой цели.
— Палач Бога… — тихо прошептал Арман.
Герцог неожиданно улыбнулся.
— Я вижу, вы не забыли наши разговоры, юноша. Да, Замок Искушений не выпускает своих жертв. Что делать — «надлежит быть соблазнам…»
Этьенн, до этого в немом недоумении озиравший своды, расширившиеся до бесконечности, омерзительных призраков и нетопырей, носящихся в воздухе, и остановившимися глазами рассматривая хозяина замка, чей вид столь изменился, несколько минут просто не мог произнести ни слова. Истина Зла, носителем которой был и он сам, вмещалась в него куда трудней, чем в Армана. Это… это…Дьявол? Их хозяин… герцог… как же это? Замок искушений? Так, стало быть… это просто… искусы… И он, до этого слушавший герцога в молчании, вдруг спросил:
— Так… стало быть… Это вы… соблазнили… искусили меня — этой любовью?
Тот с насмешкой смерил его ироничным взглядом.
— Я? Что за бред? — лицо Сатаны фиглярски перекосилось, — вы поглядите-ка на него! Нечего напиваться, да шляться, где попало, племянничек! Приличный и воспитанный человек, видя купающихся женщин, должен опустить глаза в землю и отвернуться, а не пялить их куда не надо. Скромность спасительна! Я его искусил — подумать только! Дьявол — клеветник, конечно, так сказать, по должности, но, чёрт возьми, кто бы знал, сколько клеветы льётся на меня самого! Вы ещё скажите, что я искусил этого жалкого Дювернуа! Или идиота Файоля! Или внушил этой, как вы мило изволили выразиться, «юной шлюшке» мысль отдаться этому ничтожеству! Или сестрицу вашу, бестию, подначивал. Как будто она в этом нуждалась! Все они искусились собственной похотью, как и вы, впрочем. Я вас, дорогой племянничек, вообще не трогал. Попривыкли, чуть что — «чёрт попутал»… И мысли подобной не имел! Не помышлением, ни деянием, как говорится…
Все молчали.
— Удобненькая отговорка, ничего не скажешь, — ворчливо продолжил его светлость. — Вот после этого-то и хочется считаться несуществующим. Хоть собак на тебя чужих вешать не будут! Впрочем, — задумчиво проговорил кривлявшийся Сатана, приняв позу мыслителя, — это аргумент pro doma sua. Можно отказаться от признания бытия Бога, но Бога ради, не отказывайтесь от идеи об экзистенциальности дьявола. Пока я есть — на меня можно списать любую мерзость. Ради своей же подлости — верьте в меня. Но нет, всё враньё, — снова задумчиво поправил он себя, — подонок в отсутствие дьявола всё спишет на мамочку и тяжелые обстоятельства бытия. Почему-то для подонка они всегда тяжелые…
— Но что же тогда сделали вы, ваша светлость? — Клермон был бледен и говорил тихо.
— Видит Бог… Впрочем, что это я, в самом-то деле? Ну, не важно… — хохотнул герцог, — Так вот, я приложил некоторые усилия в том, чтобы собрать вас вместе. Пришлось даже задурить на минуту мозги вашего Фонтейна. Это потребовало в вашем случае наибольших усилий. Нет ничего неприятнее этих праведников…омерзительные рожи… — Его слегка передернуло. — Ну, и после я немного поработал, затеяв небольшую бурю и обрушив мост, но, сами понимаете, тут уж не перетрудился. Когда в очередном грешнике не оставалось ни единого чистого помысла — жертва поступала в наше ведомство. Поэтому-то мсье Гастон, — рекомендую, Самаэль, дух злобы, — снимая с ветвей созревшие гроздья, потрудился больше всех. Любит он людей, что ж тут поделаешь? Любит… Целует столь страстно, что от объекта его любви остаётся головешка. Но что делать — такова истинная любовь!! Но вы только представьте себе его порыв, когда в его штаны засунула шаловливую ручонку юная распутница? Он даже смутился, по-моему, не так ли, Самаэль? — справедливости ради следует сказать, что на физиономии слуги Дьявола трудно было разглядеть что-то, кроме изуверской усмешки, но его светлость сделал вид, что не заметил этого, — некоторые утверждают, что без любви земля превратилась бы в бесплодную пустыню, а человек — в пригоршню пыли…. Красиво сказано. Но человек — все равно прах, — махнул он рукой, — с любовью или без. Да-да, уверяю вас… Но вообще-то и это незначимо, ведь истина есть просто частный случай заблуждения. — Он почесал кончик носа. — Да… ну и мсье Бюффо, — чертов Пифон, дух пакостных шалостей, вот он, познакомьтесь, — забавлялся надписями на стене, когда прилетал на часок отдохнуть от дневных забот. Так что — я возвращаюсь к теме, — не клевещите на нечистую силу. Никто вас не искушал.
— Но тогда… — Элоди была бледна и казалась совсем больной, — как… как погибла моя сестра? Она… покончила с собой? Или…
Герцог окинул её странным взглядом, глаза его на мгновение стали зеркальными, но потом в них промелькнуло что-то отеческое, жалостливое, даже сострадательное. Впрочем, определить степень искренности и актерства этого существа мог только он сам. Но голос его изменился — зазвучал по-отечески душевно.
— Может, вам лучше не знать об этом, мадемуазель? Вы, задавая этот вопрос, отнимаете у себя последний шанс благого неведения… подумайте. — Он искоса бросил любезный взгляд на Элоди и, видя её непреклонное желание узнать правду о гибели сестры, усмехнулся. — Ну, что ж, правду так правду. Вы, мадемуазель, и я с прискорбием и стыдом вынужден это констатировать, — единственное существо на свете, обязанное мне, Сатане, жизнью. Меня извиняет в этом случае только то, что получилось это ненамеренно. Ваша сестрица, придя в отчаяние от порыва весьма экстравагантной страсти мсье Виларсо де Торана, право слово, тут вы, племянничек, себя превзошли, мы с Пифоном даже кое-чему у вас поучились, — бросил он насмешливо графу, — так вот, усладившись любовью дорогого Тьенну, ваша сестрица действительно решила покончить с собой, но её остановила в этом намерении мысль о том, что она умрёт, а её ветреный и жестокий любовник получит вас. После чего она направилась на кухню, взяла там нож для резки овощей, и подошла к двери вашей спальни… Вам оставалось жить считанные мгновения…
Тройной помысел зависти, ненависти, отчаяния, умышления на убийство и самоубийство, теперь не искупаемые даже толикой пусть ничтожной, пустой, тщеславной, блудной и грешной, но все же любви, ибо теперь она яростно ненавидела его сиятельство — привлекли её в объятья мсье Гастона, кои я разрешил ему распахнуть ей навстречу. Потом он помог ей, излишне разгоряченной, — охладиться в пруду… Кстати, Самаэль, мадам Соркье, наша кухарка, уже интересовалась, куда подевался овощной нож…
Элоди стояла молча, только Арман почувствовал, что она сильней оперлась на его плечо.
— Однако, довольно болтовни. Вы сами видите — здесь ещё два места, — тон герцога изменился, и в склепе потянуло могильным смрадом. — При этом вопрос о том, является ли дьявол существом благородным, спорен. Я бы лично на это и гроша не поставил бы. Но, естественно, я предпочту мужчину.
Дювернуа понял все быстрее остальных. Он заверещал, и ринулся к престолу Сатаны.
Герцог был сбит с толку, пытаясь вслушаться в его визгливые стенания.
— Чего? Спасения? Да вы с ума сошли. Это не у меня… А, в смысле, вы хотите выйти отсюда? Это вы считаете спасением? Да, рынок перенасыщен компостом. Но — к чёрту, — прервал он сам себя, — презрение следует расточать весьма экономно, так как число нуждающихся в нём чрезмерно велико… Что? — переспросил он, — я — чудовище? Не знаю, что бы я подумал о вас, если бы удостоил задуматься. Отойдите от меня. Помню, Джованни Фиданца Бонавентура, а надо признать, что и среди святых бывают умницы, утверждал, что противоположности, поставленные рядом, проступают явственней. С этим не поспоришь. Отойдите, говорю, от меня.
Дювернуа вдруг отбросило к стене.
— Довольно, — прошипел герцог, и все стихло. — Ладно, я удовольствуюсь одним, так и быть. Я не кровожаден. Мсье де Клермон? Вы не обидитесь, если я выберу вас? Просто выбирать не из кого… — Клермон молчал, ощущая во всем теле странную скованность, точно его околдовали. Он не мог пошевелиться, и язык прилип к гортани. Неведомая сила притянула его к престолу Сатаны. Элоди и Этьенн, оставшись без опоры, покачнулись. Его светлость обернулся к остальным, — выход там. Племянничек, проводи даму и этого господина, — он указал на Дювернуа, тут же рванувшегося к двери.
Элоди осталась на месте.
Этьенн — тоже. Он зачарованно глядел на Сатану, не двигаясь и не пытаясь уйти. Он чувствовал, что ещё совсем немного — и он не выдержит этого невыносимого надлома, крушения всего, сорвётся в черную бездну безумия. Он изнемог и был на пределе, этот безумный Фигляр-Палач не вмещался в его сознание, но тут Этьенн с изумлением заметил, что над всеми его скорбями и недоумениями этих последних дней, над признаниями Франсуа и гибелью Сюзанн, над этим диким фантомом, — превалирует пустое, куда менее значительное, мелкое и суетное чувство — скорее — просто настроение. Ему все надоело. Причем больше всего — ему надоел… он сам. Да, он надоел себе, он был настолько не нужен себе, так устал от самого себя, что эта усталость была выше любого из его чувств. Ему даже и на чёрта в глубине души было наплевать.
Возможность уйти отсюда с Элоди не взволновала его. Он не нужен ей. Он не нужен даже ничтожному Дювернуа, уже скребущемуся, как крыса, и входа. Чёрт возьми — он даже дьяволу не нужен! И тот предпочёл, что поприличнее. Он никому не нужен.
Неожиданно Этьенн вздрогнул. Бытие дьявола — вот он, сукин сын, — упорно подталкивало его к мысли, которая давила мозг, давила, но не проступала. И вдруг — взорвалась в нём.
— Как же это? — глаза его вышли из орбит, ногти впились в ладони. — Стало быть… Он есть?
— Что? Ты о чём, племянник? — тон Сатаны был насмешлив и легкомысленен.
— Если есть вы, стало быть, и Бог есть?
Дьявол изумленно распахнувшимися глазами посмотрел на Этьенна. Растерянно заморгал. Впрочем, растерянно ли?
— Даже не знаю, что тебе и ответить, мой дорогой Тьенну, — проговорил он наконец, почесав кончик уха. — Надо заметить, что Бог никогда не отрицал существования Дьявола. Почему бы Дьяволу не быть столь же любезным? Но достовернее и, что особенно важно — истиннее, сказать, что для тебя этот вопрос, поверь, неактуален. Даже если что-то подобное где-то и имеется, к тебе оно не имеет никакого отношения. Как ты совершенно правильно понял, малыш Тьенну, и это разумение делает тебе честь, ты не нужен даже Дьяволу. Глупо думать, что в том ведомстве, о котором ты любопытствуешь, интересуются тем, чем пренебрегаем даже мы. Я никогда не замечал подобного. — Он помолчал, потом, ухмыльнувшись и закинув руки за голову, добавил, — да, Он оградил Себя от понимания негодяями, и с тех пор любой негодяй опознаётся по непониманию Божественных предикатов, но я вообще-то не ограждал себя ни от кого. Не люблю, знаете ли, замыкаться в себе, отгораживаться от мира. Это неразумно. При этом, если мерзавец не может поверить в Бога — это только его проблемы. Мне же его вера вовсе и не нужна, Фанфан, ты правильно это когда-то понял. Что мне за дело, убежден ли антрекот, поданный мне на ужин, в моём существовании?
— Но… — мысль с трудом выстраивалась в голове Этьенна. — Вы сказали, что забирали того, в ком не оставалось ни одного чистого помысла… но… почему вы тогда… Эта жалкая девчонка-потаскушка, истощённый незадачливый неврастеник, ещё одна влюблённая дура… ладно, моя сестрица, пожалуй, удовлетворяла вашим требованиям… Но почему вы… почему вы не забрали меня? И первым? Кто здесь хуже меня? — Этьенн пронзил Сатану пристальным взглядом. Глаза их встретились, и в грудь Этьенна проникла волна запредельной, смертной тоски, но он через силу продолжил. — Почему? Меня, подонка, даже здесь обесчестившего одну девицу и желавшего овладеть другой, меня, готового подставить того, кто спас мне жизнь, моего друга, — под растление… Почему вы не забрали меня? Разве во мне есть хоть что-то чистое?
— Ну, полно тебе, Фанфан. Будем считать, что это — родственные чувства. — Его светлость шутовски взмахнул руками, — ну, или — просто симпатия. Как мог я тебя, дорогого племянника…
— Он лжёт, Этьенн. Он лжёт. — Клермон с трудом разжал зубы, — ты простил своего убийцу. Он не мог забрать тебя.
Этьенн окинул Армана сумрачным взглядом. Простил дяде? Да. Но лишь потому, что прекрасно понимал его. Ведь он сам хладнокровно отдал на растление Клермона своей сестрице. Себя Этьенн не судил за это намерение — не мог осудить и дядю. Или осудил?… Клермон мешал ему, он сам мешал Франсуа. Если правда, что понять, значит простить, то простил. Но скорее — просто понял. Но это все было не очень важно для него. Просто Этьенн впервые взглянул на себя с этой странной стороны — «…в ком не оставалось ни одного чистого помысла…»
Странно, но порой действительно не понимая, что допустимо, а что — нет, притом, что считал для себя допустимым всё, что ему хотелось считать таковым, Этьенн сейчас понял его светлость. Понял правильно. Неразличающий добра и зла — молниеносно понял, что именно отправляло гостей герцога в чёрный склеп.
Но что спасало доселе его самого — искренне не понимал.
— Но я тысячу раз заслужил ад. Распутник, выродок, подлец. Я тысячу раз его заслужил. — Этьенн задумался. Да, распутство, блуждание с пути на путь, шатание по ложным стезям, потеря своей подлинной стези, это блужение, блуд, заблуждение… Он заблудился. Истины нет. Он был так слаб. Да, прав этот старый чёрт. Истина есть просто частный случай заблуждения. Вращая лживыми и стократно изолгавшимися словами, вы можете ненароком проронить нечто вполне истинное. Почему нет? Верно и обратное — употребляя слова Истины, стоит на волос размыть понятия, сдвинуть синонимические ряды, ввернуть кривое вводное слово — и вы сами не заметите, как причудливо и калейдоскопично начнёт, вращаясь, искажаться смысл, преображаясь в самую заурядную ложь. Всё едино, всё равно бессмысленно. Круги на воде… Но… раз так… К черту!
Снова на него наплывал этот дьявольский морок.
Неимоверным усилием томящая мысль разорвала вязкую, расползшуюся по душе тоску. Нет. Это ложь. Если есть свобода от Бога и порча духа — есть и тот, кто воплотил их. Вот он, сукин сын, убийца и кривляка. Но если есть чистота и благородство, столь рано отнятые у него и почти неизвестные ему — их тоже кто-то воплощает. Первым. Да, Этьенн не спорил, «если что-то подобное где-то и имеется, к нему оно не имеет никакого отношения…» Это верно. Но оно, по крайней мере, есть. Это он понял. И если понял не до конца — это было неважно. Если оно есть — значит, можно быть с Ним, а не с этим шутом гороховым. «Если из тебя сделали мерзавца и ты понимаешь, что ты мерзавец — перестань им быть. Но если он не хочет сделать этого…»
Он — хочет! Хочет. Едва ли он сможет перестать быть тем, что есть, не перестав быть вообще. Да, мерзость из него уйдет только с жизнью. Но он не даст этому фигляру убить Армана. Он прожил скотскую жизнь, пустую и суетную, но ведь право завершить эту жизнь благородно — у него не отнято! И это понимание непомерно вдруг усилило его.
Этьенн почти бегом устремился к Арману и с силой оттолкнул его к Элоди.
— Ваша светлость, — странно, но с той минуты, когда он понял, что хочет умереть вместо Армана, в нём исчезло ощущение гнетущей скорби, Этьенн вдруг вдохнул полной грудью и почувствовал легкость, какую дает бокал искристого шампанского. Он улыбнулся. — Я заменю его. Я хочу умереть за него. Это будет моя ниша, — ткнул он пальцем в гробницу.
Этьенн вздрогнул всем телом, — лицо дьявола утратило человеческие очертания, склеп пронзила молния, в темноте перед ним возник кто-то в хитоне, чей цвет был подобен молнии. Глаза Его на миг встретились с глазами Этьенна. В воздухе закружились очертания замка, потом они вздрогнули и опали. Раздались скрежещущие, нечеловечески жуткие звуки, словно извергаемые разрываемой на куски живой плотью. «Le diable prends! Comment il pouvait échapper, canaille?»
Склеп рухнул, погребая всех под слоем чёрного пепла и серой гари.
Глава 24. Которая начинается тем, что Клермон оплакивает гибель Этьенна а завершается тем, что к героям приходит понимание некоторых в общем-то банальных вещей
Клермон ослеп. И оглох. Но что тогда так глухо, подобно морскому прибою, шумит и шумит, неотступно и гулко бьётся в ушах? А это что? Во рту был вкус крови и пыли. Клермон попытался встать и мышцы с болью подчинились. Он стал на колени, потом сумел подняться. Воспалённые веки распахнулись, резкий свет резанул по ним новой болью. Арман стоял на руинах замка возле тёмного провала склепа, который теперь заливали потоки света. Верхняя ниша была пуста.
Клермон огляделся, — и ринулся к уступу, заметив около него шевеление слоя пепла. Он рывком поднял Элоди, на запылённом лице которой белели только глаза. Он отнёс её к реке, опустил на берег и остановившимся взглядом уставился на мост. Целый и невредимый, он мирно возвышался над рекой полукруглой аркой.
Но где Дювернуа? Сжимая зубы, чтобы не стонать от сковывающей все тело боли, вернулся на пепелище. Кидался к каждому камню, ощупывал слой пепла. Неожиданно из провала склепа раздался стон — и Клермон ринулся вниз. Земля провалилась и осыпалась под ним, Армана резко снесло по осыпи к двум гробовым нишам. Три нижние были засыпаны землей, верхняя — пуста, но две средние — заполнены. Покрывало, в котором они принесли Сюзанн, посерело от слоя пыли. В соседней нише чернел ещё один труп. Клермон отвёл глаза.
Там лежал тот, кто пожертвовал за него жизнью.
Он почувствовал саднящую боль в сердце. Этьенн. Изломанный и несчастный, растленный и развращенный, он всё же совершил свой последний выбор. Выбор благородства и величия, выбор подвига и любви. Сердцем Арман всегда ощущал в нём под искаженными мнениями и порочными взглядами нечто живое и чистое. Его влекло к этому человеку, и он не ошибся в нём. Обретённое понимание истины стоило ему жизни, но Клермону хотелось думать, что Этьенн спасён. Ведь нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя… Этьенн оказался способен на такую любовь…
Клермон потряс головой, почувствовав, что на глаза его навернулись слёзы.
Странно, но когда его светлость Князь Ада выбрал своей жертвой его, Клермон, притом, что не мог пошевелиться и был словно околдован — ни на минуту не поверил Сатане и не ощутил ни страха, ни отчаяния, понял, что сатана просто, по обыкновению, «лукавит». Вечный комедиант, он дурачил свои жертвы и играл с ними, как кот с мышами… Арман поймал себя на жестокой и скорбной мысли — он горько сожалел о гибели Этьенна, и недоумевал — неужели в хладнокровно совратившем Габриэль Дювернуа, ничтожном, распутном и трусливом, готовом безжалостно бросить его и сбежать — остался хоть один чистый помысел? Он помилован, а Этьенн… Там, во мраке склепа ему казалось, что он всё понимал — потому и не испытывал страха, но Дьявол одурачил и его… Воистину, одурачил, но это было — пустое. Пустое, ибо связь времен не распалась, в мире не оскудела Любовь — и это доказал тот, кто ещё недавно был в его глазах — исчадьем ада. Клермон хотел верить, что Этьенн помилован Господом. Этьенн прощён. Арман твердил эти слова, как молитву, иначе не смог бы дышать.
Но где Дювернуа?
Белая рука высунулась из черного провала земли, и коснулась его ботинка. Клермон несколько секунд испуганно смотрел на неё, потом стремительно схватив руку за запястье, потянул наверх. Потрясённо вздрогнул.
На запястье сиял золотой браслет с перевернутой пентаграммой.
Раздался новый стон, и поражённый Арман вытащил окровавленное тело Этьенна. Тот был смертельно бледен и почти полумёртв. Извлечённый из бездны, медленно приходил в себя, глаза его едва осмысленно блуждали по бездонному небу, по трупам в стене склепа, по лицу Клермона.
— Ты видел? — с трудом произнес он и тяжело захлебнулся надрывным кашлем. Едва его приступ прошёл, Этьенн повторил, — ты видел Его?
Клермон с трудом переосмыслил увиденное. Медленно перевёл взгляд на обугленный труп. Стало быть, он ошибся, точнее — всё понял правильно. На Дювернуа его светлость просто не хотел тратить ни слов, ни усилий. «При извечной и неистребимой склонности мира шататься, заблуждаться и самоодурачиваться, болтаться в распутстве, потеряв все пути к Небу, стремление одурачить его ещё больше противоречит принципу экономии сил и здравомыслия. На месте Дьявола я был бы просто ленивым зрителем распутной драмы человеческого бытия…». Дьявол истинен в своей лжи, и лжив в своих истинах, но порой — бывает истинен и в истине. Не по склонности к Истине, но — забавы ради. И чтобы разгрести тот ворох лживых истин и истинной лжи, что он наговорил им — жизни не хватит. Тут Клермон понял, что не ответил Этьенну.
— Он погиб. Ты о Дювернуа?
Этьенн обжёг его больным и воспалённым взором.
— Так значит… Ты не видел… Неужели… нет…
Неожиданно Клермон понял, о ком спрашивает Этьенн.
— Ты о Господе?
Тот резко снова обернулся к нему.
— Так… ты видел??
— Мне показалось, что в дыму мелькнула фигура Спасителя, но я подумал, что просто свод упал и солнце резко хлынуло в глаза. Надо спросить Элоди, видела ли она…
Этьенн согласно кивнул и тут же покачал головой.
— Нет, я же сам видел. Он же сказал мне… Где же это…
Клермон покосился на Этьенна. Даже если видение было подлинным — никаких слов он не слышал.
…Еще несколько часов они сидели у разведённого Клермоном костра. Элоди странно взглянула на Этьенна, услышав вопрос о видении на руинах. Это был Христос. Хитон Его был бел, по плечам — узор алого золота. Да, Он что-то сказал, но она видела лишь шевеление губ.
Сама Элоди сидела в немом оцепенении, глядя в огонь. Он обмерла, когда его светлость потребовал себе в жертву её Армана, но внутренне — не поверила. Он не мог забрать Клермона, не мог, не мог. Она почему-то была уверена в этом — и не поверила. Но сама была совершенно обессилена тем услышанным от дьявола жутким свидетельством о сестре, которому… почему-то поверила. Истово желая не верить, откинуть, отбросить, забыть — поверила. Лора хотела убить её? Эта мысль не вмещалась в неё. Она даже шёпотом спросила Армана — верит ли он в сказанное его светлостью? Он — лжец, ведь мог в очередной раз солгать? Клермон видел надежду, горевшую во взоре Элоди, и задумался. Верил ли он в сказанное Сатаной о Лоретт? Верил, понял он, но сказать столь жестокие слова Элоди не мог. Этого и не потребовалось. Она все поняла сама. Вновь задумалась. Дьявол достаточно чётко дал понять, что лежащие в гробницах склепа — его жертвы. Эти души не отмолить. Неожиданно её обжёг гневный помысел. Теперь она — хозяйка Эрсенвиля. Она никого не будет спрашивать — и вышвырнет мерзавку и блудницу Люси Дюваль, развратившую и изгадившую души её сестёр! Вышвырнет, вышвырнет! Но гнев утих так же как и вспыхнул. Полно… конечно, вышвырнет, но не прав ли сатана и в этом? Если в душах сестер не было истины — так ли виновата в их развращении распутная дурочка Люси?
Каждый искушается собственной похотью… Но нет. Дюваль она все равно вышвырнет. Горе соблазняющим…
Двинуться к выходу из ущелья они смогли лишь ближе к полудню. Завал по-прежнему преграждал дорогу в ущелье, они, миновав мельницу, подошли к нему. Элоди, обернувшись, вдруг громко вскрикнула и попятилась. Юноши с удивлением посмотрели на неё, потом проследили направление её взгляда и оцепенели.
…Излучина реки живописно окаймляла каменистый уступ, на котором, словно вырастая из него, снова возвышался замок Тентасэ, и история тысячелетий, вызывая почтение и восторг, витала над ним. Сзади высилась поросшая лесом горная гряда, с миром же замок соединял арочный мост, чьи прибрежные опоры были сильно подмыты…
Из-за нагромождений камней раздались голоса.
— Боже мой, вы ли это, очаровательная Луиза? А где же ваши братья? Мне сказали, что Ален и Гюстав тоже собирались с вами? — молодой человек, стоя на каменистом уступе, галантно поцеловал руку высокой и сухопарой, на удивление некрасивой девице. За ней мелькнула субтильная девица лет восемнадцати с длинным и очень крупным носом, одетая чрезвычайно роскошно. Луиза ответила юноше, назвав его Андрэ, что братья будут после, решили ехать с его милостью виконтом де Фронсаком и его сиятельством графом де Суассоном, да замешкались в Гренобле, они же с Катрин решили их не ждать…Но Боже мой, откуда эти ужасные камни?
— Кучер сказал, что это случилось только в пятницу… надо думать, завтра уберут…
Девица, выслушав его, окинула брезгливым и презрительным взглядом шедших ей навстречу троих путников, похожих на погорельцев, которые, многозначительно переглянувшись, неспешно побрели по дороге, огибающей речные пороги и извивы. Навстречу им попалась карета, из которой слышались веселые и чуть подвыпившие голоса молодых людей и переливчатое сопрано девичьего смеха. «Не смешите, Гюстав» «Полно вам, Розали, посмотрите, что натворила Сесиль» «Люсьен, ну как вы можете?» Рядом с кучером сидел молодой голубоглазый блондин, который тоже окинул их взглядом удивлённым и чуть пренебрежительным.
Этьенн проводил экипаж долгим взглядом — и сделал то, от чего вздрогнул Клермон. Его сиятельство осенил себя крестом и пробормотал: «Господи, помилуй и спаси…», потом резким движением сдернул с запястья браслет и зашвырнул его в реку. Он что-то еле слышно бормотал, и неожиданно Клермон различил в его бормотании знакомые слова. «Je, Estienne, renoncie a tout enfer et aux diables, a toutes leurs propres orgueilz et a toutes leurs euvres et voulentez, et me offre corps et аme et me rens a Dieu le Père celestial, a son benoit et glorieux Filz Sauveur et Rеdempteur du monde et au Saint Esperit, trois en personnes et une en deité, vif et vrai Dieu…».[1]
Этьенн всё понял. Дьяволов водевиль требовал новых участников, шестеро из которых обречены были занять ниши склепа. Да и полно — постоянно ли число гробниц? И так будет до скончания века… Тысячи Замков Искушений — ими покрыта земля, и в каждом поминутно, не прекращаясь, разыгрывается драма прельщения человека его же собственным скотством. Этот старый чёрт был в чём-то прав, и часто говорил, одурачивая его, чистейшую правду… Но он, Этьенн, больше в водевилях не участвует. То, что сам он выскочил из когтистых лап дьявола, было для Этьенна странным недоумением, но оно гасло в сиянии глаз Предвечного. Почему он уцелел — это он мог понять и после — ведь у него впереди была вечность. Он заново создаст себя. Этьенн с трудом сжимал ладони, чувствовал боль во всем теле, но её импульсы не доходили до сознания. Он понял, зачем пришёл в этот мир и в чём смысл его бытия, он больше не будет бессмысленно волочить тяжелую ненужную тачку с ненужным ему грузом, всё стало на свои места, всё осмыслялось удивительно мудро и гармонично — впервые в жизни.
Бог есть и Он ждёт его — и ничего другое было незначимо.
Лишь в шестом часу пополудни они добрались до первого селения. Здесь Этьенну удалось договориться о ночлеге и подводе, которую он нанял до Гренобля. На следующее утро они двинулись в путь. Клермон заметил, что Этьенн странно отстранён и от него, и от Элоди, почти не замечает их, погружённый в какие-то свои сумрачные мысли. От Гренобля до Роанна они наняли дорожный экипаж, ехали неспешно и на второй день, когда полдороги осталось позади, он увидел, что глаза Этьенна потускнели и совсем темны. Неожиданно лошади остановились. Возница извинился — лопнула подпруга. Это недолго.
Этьенн вскочил и распахнул дверцы кареты.
— Где мы?
— В десяти лье от Сент-Этьенна, сударь. Места здесь горные, почти нежилые.
— А это куда дорога? — он показал рукой на каменные ступени, которые поднимались куда-то в гору, за скальный уступ, поросший лесом.
— Там, мсье, старый мужской монастырь, в нём сегодня только десять братьев.
Этьенн вздрогнул всем телом.
— Одиннадцать, — тихо поправил он возницу.
Он всунул руки в карманы и из одного извлёк кошелёк, набитый ассигнациями, из другого — вынул старый потёртый бархатный мешочек с иконой. Первый — вложил в руку Армана, второй, не глядя, протянул Элоди — и, не прощаясь, ринулся вверх по ступеням, что уводили вверх. Клермон заворожено следил за ним, пока стройная фигура Этьенна не исчезла за каменистым уступом. Туда же смотрела и Элоди. Потом их глаза встретились.
— Ты что-нибудь понимаешь? — Клермон недоумевал.
— Понимаю. Ты был прав. Он будет очень светлым человеком. — Элоди взяла свой мешочек. — Я и не знала, что он у него. Рада, что он не остался под обломками замка. Этот образок был с бабушкой в последнюю минуту её жизни. Не хотелось его потерять, — она вынула иконку, приникла к ней губами.
— И тебя ничего не удивляет? Он даже не простился!
Элоди закусила губу, потом кивнула.
— Все правильно. Он увидел Господа, и мы перестали для него существовать. Аббат Легран говорил, когда сердце и душу человека озарит Христос — мир для него теряет смысл. Я лишь не думала, что таким человеком может оказаться он… Ты был прав. Когда он сказал, что умрёт за тебя… Я поразилась. Это его и спасло — не то венчать бы ему собой ту пирамиду чёрных гробниц. Воистину, чудо.
Она опустила глаза, помолчала и грустно улыбнулась.
Эпилог.
Его сиятельства графа Этьенна Виларсо де Торана его милость виконт Арман де Гэрин де Клермон больше никогда не видел, хотя думал о нём часто. Старшего сына Армана назвали в честь покойных прадедов, Шарлем Аленом, но своего второго сына он назвал Этьенном. Элоди не возражала.
Смерть несчастных сестер д'Эрсенвиль сделала Элоди одной из богатейших невест департамента, и ныне семья де Клермон ни в чём не терпит нужды. Однако Арман счёл своим долгом продолжить дело своего учителя, и ныне преподает в Сорбонне. Элоди снова не возражала мужу. Сама Элоди де Клермон занята воспитанием детей, особенно двух дочерей, не доверяя их гувернанткам. Память о мадам Дюваль, которую она безжалостно, но спокойно вышвырнула сразу после своего бракосочетания из Эрсенвиля, все ещё остра в ней.
Элоди не любит шума светских увеселений, и семья проводит большую часть года в тихом доме в предместье Парижа. Мечты Элоди о долгих счастливых вечерах с мужем и детьми сбылись, хотя по ночам ей всё ещё снятся ужасные сны о прошлом. В них чернеют ниши склепов, кривляются препротивные бесы и стенают скелетообразные тени сестёр, заставляя её просыпаться в ужасе и ознобе.
Арману же снятся другие сны… В них — то какой-то Люсьен, виконт де Фронсак, сговаривается с его сиятельством графом де Суассоном отравить Гюстава де Мариньи, сам желая совратить красотку Сесиль, то, — напротив, некий Монтиньяк насквозь пронзает шпагой соперника, Франсуа Леброка, и сбрасывает тело в реку, и оно влечётся по волнам горной речушки, омывающей фундамент огромного замка из терракотовых камней с двускатной крышей и тремя башнями… А порой — ему снится страшный в своей удручающей мудрости тёмный лик его светлости…
Ночь за ночью в его снах разворачивается дьяволов водевиль, местами удручающий, местами смешащий, местами — просто заставляющий жаждать пробуждения. Перед ним бесконечно вращается калейдоскоп людских судеб, образуя причудливые и замысловатые узоры в трехмерном пространстве длинных зеркал. Узоры прихотливые и затейливые, но всё же до скуки одинаковые, и бесконечное разнообразие одного и того же однообразия заставляет мсье де Клермона сочувствовать хозяину замка Тентасэ…
Поистине скорбна его участь. Порча духа и свобода от Бога и Бытия, кои он воплотил первый, сегодня обрекает его на необходимость исследовать порчу чуждых ему человеческих душ и наблюдать бесконечно навязчивые и перманентно повторяющиеся грешные падения и редкие взлеты ненавидимого им людского духа…
Забава не из веселых — ибо чего не видел он на протяжении тысячелетий?
Недавно Арман, придя с супругой и детьми в воскресение с церковной службы, обратился к ней с изумившим её вопросом. Как она полагает, ведь прошло ровно семь лет с того дня, как они впервые встретились в Тентасэ, не написать ли ему о тех событиях книгу? Элоди вообще редко возражает мужу, но тут возразила. Во-первых, там остались тела двух её сестёр, и ворошить память о страшном прошлом ей бы не хотелось. Во-вторых, кто же ему поверит-то? Встреча с Дьяволом? Вот сейчас? А в-третьих, он ведь хотел написать работу по старым манускриптам — хроникам Клюни. Этим-то кто займется?
В итоге Арман занялся хрониками. Впрочем, временами он достаёт из потайного ящика стола толстую тетрадь и заносит туда кое-какие приходящие в голову воспоминания, связанные со снами, мечтами и загадками тех страшных дней, проведенных ими замке Искушений.
Потом снова возвращается к старым монастырским пергаментам.
Примечания
1
«Я, Этьенн, отрекаюсь от ада и диаволов, от их гордыни и всех их дел и помыслов, и вверяю тело и душу Господу Отцу Небесному, его блаженному и славному Сыну, Спасителю и Искупителю мира, и Святому Духу, триединому и единосущному в божественности, живому и истинному Богу». (ст. фр.)
(обратно)




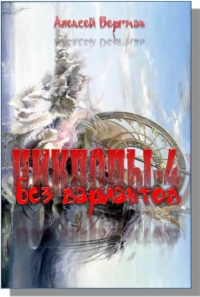

Комментарии к книге «Замок искушений», Ольга Николаевна Михайлова
Всего 0 комментариев