Айзек АЗИМОВ Избранные произведения II том
САМИ БОГИ (роман)
Посвящается Человечеству в надежде,
что война с безрассудством всё-таки
будет выиграна.
Фридрих Шиллер — «Против глупости сами Боги бессильны». Две Вселенных. Два мира, угасающий — и полный сил. Величайшее открытие в истории человечества дарит людям неисчерпаемый источник дешевой энергии. И надежду на спасение умирающему миру. Голоса, предупреждающие об опасности — мстительность и людская зависть? Гениальные умы, но всего лишь люди. Невероятный мир удивительных, непохожих на нас, существ. Уникальная фантазия Айзека Азимова, Гроссмейстера научной фантастики.
Три части романа представляют собой завершенные истории, поэтому изначально книга издавалась по частям в журналах: первая часть — в мартовском номере «Galaxy» за 1972; вторая — в апрельском номере «If»; третья — в майском номере «Galaxy» того же года («If» был дочерним журналом «Galaxy»).
Часть I. ПРОТИВ ГЛУПОСТИ
Глава 6[1]
— Без толку! — резко бросил Ламонт. — Я ничего не добился.
Лицо его было хмурым. Оно и всегда казалось насупленным из-за глубоко посаженных глаз и чуть скошенного набок подбородка. Даже когда он был в хорошем настроении. Но сейчас его настроение никак нельзя было назвать хорошим. Второй официальный разговор с Хэллемом завершился ещё большим фиаско, чем первый.
— Не впадай в мелодраму, — вяло посоветовал Майрон Броновский. — Ты ведь ничего другого и не ждал. Сам же говорил.
Он подбрасывал вверх ядрышки арахиса и ловил их пухлыми губами. Проделывал он это очень ловко — ни одно ядрышко не пролетало мимо. Броновский был не слишком высок и не очень строен.
— Так что же, мне теперь радоваться? Впрочем, ты прав — это значения не имеет. У меня есть другие средства, и я намерен к ним прибегнуть, а кроме того, я рассчитываю на тебя. Если бы тебе удалось…
— Не продолжай, Питер! Всё это я уже слышал. От меня требуется всего лишь расшифровать мыслительные процессы внеземного разума.
— Но зато высокоразвитого! И ведь они там у себя, в паравселенной, явно добиваются, чтобы их поняли.
— Возможно, — вздохнул Броновский. — Но посредником-то служит мой разум, и хотя я считаю, что он, конечно, развит неимоверно высоко, однако всё-таки не настолько. Ночью, когда не спится, меня начинают одолевать сомнения: а способны ли вообще разные типы разума понять друг друга? Ну а если день выдался особенно скверный, то мне и вовсе мерещится, что слова «разные типы разума» не имеют ни малейшего смысла.
— Как бы не так! — свирепо сказал Ламонт, и его руки в карманах лабораторного халата сжались в кулаки. — Хэллем и я — вот тебе эти типы. То есть прославленный дурак доктор Фредерик Хэллем и я. И вот тебе доказательство: он попросту не понимает того, что я ему говорю. Его тупая физиономия багровеет ещё больше, глаза вылезают на лоб, а уши глохнут. Я бы сказал, что его рассудок перестает функционировать, но у меня нет никаких оснований предполагать, что он вообще функционирует.
— Ай-ай-ай! Разве можно говорить так про Отца Электронного Насоса? — пробормотал Броновский.
— То-то и оно! Псевдоотец! Уж если кто тут ни при чем, так это он. Его вклад был минимальным. Я-то знаю.
— И я знаю. Ты мне это без конца твердишь! — Броновский подбросил очередное ядрышко. И опять не промахнулся.
Глава 1
За тридцать лет до этого разговора Фредерик Хэллем был заурядным радиохимиком. Его диссертационная работа ещё пахла типографской краской, и ничто в нём не свидетельствовало о таланте, способном потрясти мир.
А потрясение мира началось, собственно, с того, что на рабочем столе Хэллема стояла запыленная колба с ярлычком «Вольфрам». Её поставил сюда не он. Он даже никогда к ней не прикасался. Она досталась ему в наследство от прежнего владельца кабинета, которому когда-то бог весть по какой причине понадобился вольфрам. Да и содержимое колбы уже, собственно говоря, перестало быть вольфрамом. Это были серые запыленные крупинки, покрытые толстым слоем окиси. Их давно пора было выбросить.
И вот однажды Хэллем вошёл в лабораторию (ну да, это произошло 3 октября 2070 года) и приступил к работе. Около десяти часов он поднял голову, уставился на колбу и вдруг схватил её. Пыли на ней не стало меньше, выцветший ярлычок нисколько не изменился, но Хэллем тем не менее крикнул:
— Чёрт подери! Какой сукин сын трогал эту колбу?
Так, по крайней мере, утверждал Денисон, который слышал этот вопль и много лет спустя поведал о нём Ламонту. Парадный рассказ об обстоятельствах замечательного открытия, запечатленный во множестве книг и учебников, этой фразы не содержит. Перед читателем возникает образ проницательного химика, который орлиным взором сразу же подметил изменения и мгновенно сделал далеко идущие выводы.
Куда там! Хэллему вольфрам был не нужен, он его совершенно не интересовал. И, в сущности, ему было всё равно, трогал кто-то колбу или нет. Просто он (подобно многим другим людям) терпеть не мог, когда на его столе хозяйничали без его ведома, и всегда готов был заподозрить окружающих в таких посягательствах, продиктованных исключительно желанием ему насолить.
Но в покушении на колбу никто не признавался. Бенджамин Аллан Денисон услышал возглас Хэллема потому, что сидел в кабинете напротив лицом к открытой двери. Он поднял голову и встретил сверлящий взгляд Хэллема.
Хэллем не внушал ему особых симпатий (впрочем, он никому их не внушал), а в то утро Денисон плохо выспался и — как он вспоминал впоследствии — был даже рад сорвать на ком-нибудь своё дурное настроение. Хэллем же был для этого идеальным объектом.
Когда Хэллем поднес колбу к самому его лицу, Денисон брезгливо отстранился.
— На какого дьявола мне понадобился бы ваш вольфрам? — спросил он саркастически. — Да и кому он вообще нужен? Если бы вы посмотрели на колбу повнимательнее, то заметили бы, что её уже лет двадцать никто не открывал и что единственные следы на ней — от ваших же лап.
Хэллем побагровел. И сказал, еле сдерживаясь:
— Слушайте, Денисон. Кто-то подменил содержимое. Это не вольфрам.
Денисон позволил себе негромко фыркнуть.
— А вы-то почём знаете?
Вот из таких пустяков — мелочной досады и бесцельных уколов — рождается история.
Такой выпад не мог бы пройти бесследно при любых обстоятельствах. Академические успехи Денисона, который, как и Хэллем, ещё совсем недавно работал над диссертацией, были куда более внушительными, и он слыл подающим надежды молодым учёным. Хэллем это знал. Знал это и сам Денисон — что было значительно хуже, поскольку он не трудился скрывать своё превосходство. Поэтому денисоновское «А вы-то почём знаете?» с ударением на «вы» оказалось достаточной причиной для всего, что последовало дальше. Без этой фразы Хэллем никогда не стал бы самым великим, самым почитаемым в истории учёным — так выразился Денисон в своей беседе с Ламонтом много лет спустя.
Согласно официальной версии в то знаменательное утро Хэллем, сев за свой рабочий стол, заметил, что серые запыленные крупинки исчезли (как и пыль на внутренних стенках колбы). Теперь за стеклом тускло поблескивал чистый тёмно-серый металл. Естественно, он начал исследовать…
Но оставим официальную версию. Причиной всему был Денисон. Если бы он ограничился простым «нет» или только пожал плечами, Хэллем скорее всего опросил бы других своих соседей, а затем ему надоело бы заниматься таким, пусть и необъясненным, пустяком, он отставил бы колбу в сторону и не предотвратил бы трагического исхода (то ли постепенного, то ли мгновенного — это уж зависело от того, насколько задержалось бы неизбежное открытие истины), который и определил бы грядущие события. Но в любом случае тогда оседлал бы смерч и вознесся бы на нём к вершинам славы отнюдь не Хэллем.
Однако, уязвленный до глубины души денисоновским «А вы-то почём знаете?», Хэллем взвизгнул:
— Я вам докажу, что знаю!
И он закусил удила. Теперь у него была одна задача — поскорее получить анализ металла в старой колбе, одна цель — стереть ироническую улыбку с узких губ Денисона, добиться, чтобы тот перестал презрительно морщить тонкий нос.
Денисон не забыл их стычки, потому что брошенная им фраза принесла Хэллему Нобелевскую премию, а его самого ввергла в пучину безвестности.
Откуда ему было знать (впрочем, тогда он всё равно не придал бы этому ни малейшего значения), что Хэллем в полной мере обладал тем ожесточенным упрямством, в которое выливается страх посредственности уронить себя в собственных глазах, и что в данных обстоятельствах это упрямство окажется куда более действенным оружием, чем его — Денисона — блестящие способности?
Хэллем начал действовать немедленно. Он отнес металл в лабораторию масс-спектрографии. Для него, специалиста по радиохимии, это был самый естественный ход. Он знал там всех лаборантов, он работал с ними и к тому же был напорист. Напорист до такой степени, что ради своего металла заставил отложить куда более важные и первоочередные задания.
В конце концов спектрометрист объявил:
— Это не вольфрам.
Плоское сумрачное лицо Хэллема сморщилось в злорадной улыбке.
— Чудесненько. Так мы и скажем вашему хваленому Денисону. Мне нужна справка по форме…
— Погодите, доктор Хэллем. Я сказал, что это не вольфрам, но что это такое, я не знаю.
— Как так не знаете?
— Получается чёрт-те что! — Спектрометрист помолчал. — Этого просто не может быть. Отношение заряда к массе не лезет ни в какие ворота.
— В каком смысле?
— Чересчур велико. Не может этого быть, и всё тут.
— Ну, в таком случае, — начал Хэллем, и независимо от руководивших им побуждений продолжение этой фразы открыло ему дорогу к Нобелевской премии (причем, возможно, и с некоторым на то правом), — в таком случае определите частоту его характеристического рентгеновского излучения и рассчитайте заряд. Это будет лучше, чем сидеть сложа руки и твердить, будто что-то там «невозможно».
Когда спектрометрист несколько дней спустя вошёл в кабинет Хэллема, на его лице были написаны растерянность и тревога. Но Хэллем не умел замечать настроения других людей и спросил только:
— Ну как, установили вы… — Но тут в свою очередь встревожился, покосился через коридор на Денисона и поспешил закрыть свою дверь. — Значит, вы установили заряд ядра?
— Да, но таких не бывает.
— Ну, тогда, Трейси, рассчитайте ещё раз.
— Да я уже десять раз проверял и перепроверял! всё равно выходит чепуха.
— Если ваши измерения точны, значит, это так. И нечего спорить с фактами.
Трейси поскреб за ухом и сказал:
— Тут поспоришь! Если я приму это за факт, значит, вы мне дали плутоний сто восемьдесят шесть.
— Плутоний сто восемьдесят шесть? Что?! Плутоний… сто восемьдесят шесть???
— Заряд — плюс девяносто четыре. Масса — сто восемьдесят шесть.
— Но это же невозможно! Нет такого изотопа. И не может быть.
— А я что вам говорю? Но такой получается результат.
— То есть в ядре не хватает пятидесяти с лишним нейтронов? Плутоний сто восемьдесят шесть получить невозможно. Нельзя сжать девяносто четыре протона в одно ядро со всего только девяносто двумя нейтронами — такое вещество не просуществует и триллионной доли секунды.
— А я что вам говорю, доктор Хэллем? — терпеливо повторил Трейси.
Тут Хэллем умолк и задумался. У него пропал вольфрам. Изотоп этого элемента — вольфрам-186 — устойчив. Ядро вольфрама-186 содержит семьдесят четыре протона и сто двенадцать нейтронов. Неужто каким-то чудом двадцать нейтронов превратились в двадцать протонов? Да нет, это невозможно.
— А как насчёт радиоактивности? — спросил Хэллем, ощупью отыскивая дорогу из лабиринта.
— Я проверял, — ответил спектрометрист. — Он устойчив. Абсолютно.
— Тогда это не может быть плутоний сто восемьдесят шесть.
— Ну а я что говорю?
Хэллем сказал обессиленно:
— Ладно, давайте его сюда.
Оставшись один, он отупело уставился на колбу. Наиболее устойчивым изотопом плутония был плутоний-240, но для того, чтобы девяносто четыре протона удерживались вместе и сохраняли хотя бы относительную устойчивость, требовалось сто сорок шесть нейтронов.
Так что же теперь делать? Проблема была явно ему не по зубам, и он уже раскаивался, что вообще ввязался в эту историю. В конце-то концов, у него есть своя работа, а эта… эта загадка не имеет к нему никакого отношения. Трейси что-нибудь напутал, или масс-спектрометр начал врать, или…
Ну и что? Выбросить всё это из головы, и конец!
Но на это Хэллем пойти не мог. Рано или поздно Денисон заглянет к нему и с мерзкой своей полуулыбочкой спросит про вольфрам. И что Хэллем ему ответит? «Да, это оказался не вольфрам, как я вам и говорил»? А Денисон скажет: «Ах так! Что же это такое?» Хэллем представил себе, какие насмешки посыплются на него, если он ответит: «Это плутоний сто восемьдесят шесть!» Да ни за что на свете! Он должен выяснить, что это такое. И выяснить сам. Совершенно очевидно, что доверять никому нельзя.
И вот примерно через две недели он ворвался в лабораторию к Трейси, прямо-таки задыхаясь от ярости.
— Э-эй! Вы же сказали мне, что эта штука нерадиоактивна!
— Какая штука? — с недоумением спросил Трейси.
— А та, которую вы назвали плутонием сто восемьдесят шесть!
— Вот вы о чём! Ну да. Полнейшая устойчивость.
— В голове у вас полнейшая устойчивость! Если, по-вашему, это не радиоактивность, так идите в водопроводчики!
Трейси нахмурился.
— Ладно. Давайте проверим. — Через некоторое время он сказал: — Это надо же! Радиоактивна, чёрт! Самую чуточку — и всё-таки не понимаю, как я мог проморгать в тот раз.
— Так как же я могу верить вашему бреду про плутоний сто восемьдесят шесть?
Хэллем был уже не в силах остановиться. Он не находил разгадки и воспринимал это как личное оскорбление. Тот, кто в первый раз подменил колбу или её содержимое, либо вновь проделал свой фокус, либо изготовил неизвестный металл, специально чтобы выставить его дураком. В любом случае он готов был разнести мир вдребезги, лишь бы добраться до сути дела, — и разнес бы, если бы мог.
Упрямство и злость подстегивали его, и он пошёл прямо к Г.К. Кантровичу, незаурядной научной карьере которого предстояло оборваться менее чем через год. Заручиться помощью Кантровича было нелегко, но, раз начав, он доводил дело до конца.
И уже через два дня Кантрович влетел в кабинет Хэллема вне себя от возбуждения.
— Вы руками эту штуку трогали?
— Почти нет, — ответил Хэллем.
— Ну и не трогайте. Если у вас есть ещё, так ни-ни. Она испускает позитроны.
— Что-что?
— И позитронов с такой высокой энергией я ещё не видел. А радиоактивность вы занизили.
— Как — занизил?
— И порядочно. Меня только одно смущает: при каждом новом измерении она оказывается чуть выше.
Глава 6 (продолжение)
Броновский нащупал во вместительном кармане своей куртки яблоко, вытащил его и задумчиво надкусил.
— Ну хорошо, ты побывал у Хэллема, и тебя попросили выйти вон, как и следовало ожидать. Что дальше?
— Я ещё не решил. Но в любом случае его жирный зад зачешется. Я ведь был у него прежде — один раз, когда только поступил сюда, когда верил, что он — великий человек. Великий человек… Да он величайший злодей в истории науки! Он ведь переписал историю Насоса — вот тут переписал (Ламонт постучал себя по лбу). Он уверовал в собственный вымысел и отстаивает его с упорством маньяка. Это карлик, у которого есть только один талант — умение внушать другим, будто он великан.
Ламонт поглядел на круглое невозмутимое лицо Броновского, которое расплылось в улыбке, и принужденно засмеялся.
— Ну, да словами делу не поможешь, и всё это я тебе уже говорил.
— И не один раз, — согласился Броновский.
— Но меня просто трясет при мысли, что весь мир…
Глава 2
Когда Хэллем взял в руки колбу с подмененным вольфрамом, Питеру Ламонту было два года. В двадцать пять лет, когда типографская краска его собственной диссертации была ещё совсем свежа, он приступил к работе на Первой Насосной станции и одновременно получил место преподавателя на физическом факультете университета.
Для молодого человека это было блестящим началом. Правда, Первой станции не хватало технического глянца станций, построенных позже, но зато она была бабушкой их всех — всей цепи, опоясавшей планету за каких-нибудь два десятка лет. Такого стремительного скачка в масштабах всей планеты технический прогресс ещё не знал, но ничего удивительного тут не было. Ведь речь шла о неограниченных запасах даровой и совершенно безопасной энергии, равно доступной для всех — волшебная лампа Аладдина, принадлежащая всему миру.
Ламонт пришёл на Станцию, чтобы заниматься сложнейшими теоретическими проблемами, но неожиданно для себя заинтересовался поразительной историей создания Электронного Насоса и сразу столкнулся с тем фактом, что ни одна из книг, посвященных этой истории, не была написана человеком, который понимал бы его теоретические принципы (в той мере, в какой они вообще могли быть поняты) и в то же время сумел бы изложить их в доступной для широкого читателя форме. О, разумеется, сам Хэллем написал немало статей для научно-популярных журналов и передач, но они не слагались в последовательную и полностью обоснованную историю вопроса. И Ламонт возжаждал взять эту задачу на себя.
Для начала он проштудировал статьи Хэллема, а также все опубликованные воспоминания (единственные, так сказать, официальные документы) и добрался до потрясшей мир фразы Хэллема — Великого Прозрения, как её нередко называли, и обязательно с большой буквы.
Ну а потом, когда Ламонт пережил своё горькое разочарование, он принялся копать глубже и вскоре усомнился, что знаменитую фразу произнес действительно Хэллем. Она была сказана на семинаре, который, собственно, и привёл к созданию Электронного Насоса, но выяснилось, что узнать подробности об этом историческом семинаре чрезвычайно трудно, а получить его звукозапись и вовсе невозможно.
В конце концов Ламонт заподозрил, что странная нечёткость следа, который семинар оставил в песках времен, отнюдь не случайна. Хитроумно сопоставив ряд отрывочных сведений, он пришёл к выводу, что, по-видимому, нечто очень похожее на ошеломляющее заявление Хэллема сказал Джон Ф.К. Макфарленд, и, главное, — раньше Хэллема.
Он отправился к Макфарленду, который вообще не фигурировал ни в одном официальном отчете и занимался теперь изучением верхних слоев атмосферы и воздействия на них солнечного ветра. Это было не самое видное положение, но у него были свои преимущества, и работа в значительной степени была связана с процессами, имеющими прямое отношение к Насосу. Макфарленд, несомненно, сумел избежать пучины безвестности, поглотившей Денисона.
Макфарленд принял Ламонта достаточно любезно и был готов беседовать с ним о чём угодно — кроме семинара. Всё, что там произошло, просто изгладилось из его памяти.
Но Ламонт не отступал и перечислил факты, которые ему удалось собрать.
Макфарленд взял трубку, набил её, тщательно проверил, плотно ли она набита, и сказал размеренно:
— Я не хочу ничего помнить, потому что это не имеет значения. Ни малейшего. Ну, предположим, я начну утверждать, будто сказал что-то. Ведь никто не поверит. Я буду выглядеть как дурак — к тому же дурак, страдающий манией величия.
— А Хэллем позаботится, чтобы вас отправили на пенсию?
— Этого я не говорю, но не думаю, чтобы подобное заявление оказалось для меня очень полезным. Да и ради чего, собственно?
— Ради исторической истины, — сказал Ламонт.
— А, чушь! Историческая истина состоит в том, что Хэллем довёл дело до конца. Он прямо-таки принуждал людей браться за исследования, чуть ли не против их воли. Без него этот вольфрам в конце концов, несомненно, взорвался бы, унеся уж не знаю сколько человеческих жизней. Второго образчика могло бы и не найтись, и мы не получили бы Насоса. Так что вся честь его создания принадлежит Хэллему, хотя она ему и не принадлежит — а если это бессмысленно, то я тут ничего поделать не могу: история всегда бессмысленна.
Ламонту волей-неволей пришлось удовлетвориться этим, поскольку больше Макфарленд об Электронном Насосе и его создании говорить не пожелал.
Историческая истина!
Во всяком случае, одно, по-видимому, было неоспоримо: великая карьера «хэллемовского вольфрама» (так его теперь называли по освященному временем обычаю) началась благодаря его странной радиоактивности. Вопрос о том, вольфрам ли это и не подменили ли его, утратил всякое значение, и даже тот факт, что загадочный металл по всем характеристикам выглядел изотопом, которого не могло быть, отошёл на задний план. Слишком велико было изумление перед веществом, которое демонстрировало нарастающую радиоактивность, не подходившую ни под один тип радиоактивного распада, известный в то время.
…Некоторое время спустя Кантрович пробормотал:
— Надо бы его рассредоточить. Даже небольшие куски неизбежно испарятся или взорвутся, загрязнив полгорода. А может быть, и то и другое вместе.
Поэтому вещество превратили в порошок, разделили на мельчайшие доли и смешали с порошком обычного вольфрама, а когда и обычный вольфрам стал радиоактивным, использовали графит, эффективное сечение которого гораздо ниже.
Менее чем через два месяца после того, как Хэллем заметил изменения в колбе, Кантрович прислал в «Ядерное обозрение» сообщение, подписанное и Хэллемом в качестве соавтора, об открытии плутония-186. Таким образом, доброе имя Трейси было восстановлено, но в сообщении не упомянуто — как не упоминалось оно и впредь. С этой минуты «хэллемовский вольфрам» начал свой стремительный путь к превращению в благодетеля человечества, а Денисон ощутил первые симптомы процесса, который в конце концов превратил его в пустое место.
Существование плутония-186 уже само по себе выглядело чёрт знает чем. Но первоначальная устойчивость, которая затем сменялась нарастающей радиоактивностью, была ещё хуже.
Для рассмотрения этой проблемы был организован семинар под председательством Кантровича — обстоятельство исторически небезынтересное, поскольку с тех пор любым сколько-нибудь представительным собранием, которое было так или иначе связано с Электронным Насосом, непременно руководил Хэллем. Во всяком случае, Кантрович умер пять месяцев спустя, и, таким образом, с пути Хэллема исчез единственный человек, обладавший достаточным престижем, чтобы удерживать его в тени.
Семинар протекал на редкость бесплодно, пока Хэллем не возвестил о своем Великом Прозрении, однако по версии, созданной Ламонтом, всё решилось во время перерыва на обед. Именно тогда Макфарленд, который согласно официальной версии никаких исторических фраз не произносил (хотя на семинаре, несомненно, присутствовал), задумчиво сказал: «А знаете, тут следовало бы немножко пофантазировать. Что, если…»
Он сказал это Дидерику ван Клеменсу, а ван Клеменс записал их разговор в дневнике с помощью собственной стенографической системы. Но он умер задолго до того, как Ламонт начал своё расследование. И хотя эти беглые заметки полностью убедили молодого ученого, он тем не менее отдавал себе отчет, что без дополнительного подтверждения они как официальное свидетельство не стоят ничего. К тому же не было никаких доказательств, что Хэллем слышал рассуждения Макфарленда. Ламонт готов был побиться об заклад хоть на миллион, что Хэллем в ту минуту находился где-то рядом, но его готовность юридической силы не имела.
Да и сумей он это доказать, что тогда? Да, непомерное самолюбие Хэллема будет задето, но его положение останется неуязвимым. Ведь сам собой напрашивается аргумент, что Макфарленд просто фантазировал и вовсе не собирался выдвигать никакой гипотезы. Это Хэллем увидел проблеск истины. Это Хэллем не побоялся навлечь на себя град насмешек и смело провозгласил свою теорию. А Макфарленд вряд ли рискнул бы «немножко пофантазировать» на трибуне.
Ламонт, правда, мог бы возразить, что Макфарленду, известному ядерному физику, было что терять, а вот Хэллему, молодому радиохимику, любые публичные бредни, касающиеся ядерной физики, сошли бы с рук, как неспециалисту.
Но что бы там ни было на самом деле, Хэллем, если верить официальной стенограмме, сказал следующее:
«Господа, мы зашли в тупик. А потому я намерен предложить гипотезу — не потому, что считаю её заведомо верной, но потому лишь, что она всё-таки менее нелепа, чем всё, что я слышал до сих пор… Мы имеем дело с веществом, с плутонием сто восемьдесят шесть, которое согласно физическим законам нашей вселенной вообще существовать не может, а о том, чтобы оно хоть на самое короткое время обрело устойчивость, и говорить, казалось бы, нечего. Но раз оно, бесспорно, существует и было сперва устойчивым, отсюда следует, что прежде оно, хотя бы какой-то срок, должно было находиться в месте, во времени или в условиях, где физические законы вселенной действуют не так, как они действуют здесь и теперь. Попросту говоря, вещество, которое мы изучаем, возникло вовсе не в нашей вселенной, а в иной, альтернативной, параллельной вселенной — называйте её как хотите.
Оказавшись здесь — каким образом это произошло, я объяснить не берусь, — оно некоторое время оставалось устойчивым, как я предполагаю, потому, что несло в себе законы своей вселенной. Тот факт, что постепенно оно стало радиоактивным и его радиоактивность всё возрастает, возможно, означает, что оно медленно проникается законами нашей вселенной, если вы позволите мне так выразиться.
Я хочу напомнить, что одновременно с появлением плутония сто восемьдесят шесть бесследно исчезло некоторое количество вольфрама, состоявшего из нескольких устойчивых изотопов, включая вольфрам сто восемьдесят шесть. Возможно, этот вольфрам переместился в параллельную вселенную. Ведь только логично предположить, что обмен массами произвести легче, чем осуществить одностороннее перемещение.
Быть может, в параллельной вселенной вольфрам сто восемьдесят шесть — такая же аномалия, как плутоний сто восемьдесят шесть у нас. Не исключено, что и он вначале окажется устойчивым, а затем постепенно будет становиться всё более радиоактивным. И может послужить там источником энергии точно так же, как плутоний сто восемьдесят шесть здесь у нас».
По-видимому, аудитория онемела от удивления — во всяком случае, Хэллема как будто никто не перебивал, и он после вышеприведенной фразы сам сделал паузу, то ли переводя дух, то ли дивясь собственной наглости.
Тут кто-то из зала (предположительно Антуан-Жером Лапен, хотя в протоколе это не отражено) спросил, верно ли он понял, что, по мнению профессора Хэллема, некие разумные существа в паравселенной сознательно произвели обмен, чтобы получить источник энергии. Вот так в язык вошло выражение «паравселенная», возникшее, судя по всему, как сокращение сочетания «параллельная вселенная». По крайней мере, до этого момента оно нигде зарегистрировано не было.
После некоторого молчания Хэллем, совсем уж закусив удила, объявил:
«Да, я так считаю. И я считаю, кроме того, что практическую пользу из подобного источника энергии можно извлечь, только если наша вселенная и паравселенная будут работать вместе, каждая у своей стороны насоса, перекачивая энергию от них к нам и от нас к ним и извлекая взаимную выгоду из различий в физических законах, действующих там и здесь».
Вот это и было сутью Великого Прозрения.
Использовав термин «паравселенная», Хэллем тем самым его присвоил. Кроме того, он первым употребил в таком смысле слово «насос» (которое с тех пор писалось только с большой буквы).
Официальная версия создает впечатление, будто гипотеза Хэллема сразу завоевала признание. Но это было не так.
Те немногие, кто вообще счел нужным высказаться по её поводу, в лучшем случае отозвались о ней как о любопытном предположении. А Кантрович не сказал ничего. Это была решающая минута в карьере Хэллема.
Сам Хэллем, конечно, не мог разработать свою гипотезу ни в теоретическом, ни в практическом плане. Тут требовалась совместная работа многих учёных. И такие учёные нашлись. Однако вначале они избегали открыто связывать своё имя с этой гипотезой, а потом было уже поздно: когда пришёл успех, широкая публика твёрдо знала, что всё сделал Хэллем, и только Хэллем. В глазах всего мира Хэллем, и только Хэллем открыл таинственное вещество, именно он разгадал его тайну и доказал истинность своего Великого Прозрения. А потому Хэллем и был Отцом Электронного Насоса.
Во многих лабораториях соблазнительно выкладывались крупинки вольфрама. В одной лаборатории из десяти происходила замена и появлялся новый запас плутония-186. Таким же способом предлагались и другие элементы, но эти приманки оставались нетронутыми… Однако где бы ни появился плутоний-186, кто бы ни доставил его в специальный научно-исследовательский центр, в глазах публики это была лишь новая порция «хэллемовского вольфрама».
И опять-таки Хэллем предложил широкой публике наиболее доходчивое объяснение теории паравселенной. К собственному удивлению (как он не преминул указать впоследствии), он обнаружил, что пишет весьма легко и популяризирует с удовольствием. Помимо всего прочего, успех обладает особой инерцией, и публика просто не желала получать информацию ни от кого другого.
В своей прославленной статье для воскресного еженедельника «Североамериканский тележурнал» Хэллем писал:
«Нам неизвестно, как и в чём законы паравселенной отличаются от наших, но, по-видимому, мы не ошибемся, предположив, что сильное ядерное взаимодействие, самая могучая из известных сил нашей вселенной, в паравселенной много действеннее — возможно, в сотни раз. А это значит, что протоны с большей лёгкостью удерживаются вместе вопреки собственному электростатическому отталкиванию и что ядру для достижения стабильности требуется меньше нейтронов.
Плутоний-186, устойчивый в их вселенной, содержит либо слишком много протонов, либо слишком мало нейтронов, чтобы сохранить устойчивость в условиях нашей вселенной, где ядерное взаимодействие не столь эффективно. Оказавшись в нашей вселенной, плутоний-186 начинает испускать позитроны, высвобождая при этом энергию. Каждый испущенный таким образом позитрон означает, что в ядре один протон превратился в нейтрон. В конце концов двадцать протонов ядра превращаются в нейтроны, и плутоний-186 становится вольфрамом-186, который в условиях нашей вселенной устойчив. На протяжении этого процесса из каждого ядра выделяются двадцать позитронов, которые сталкиваются с двадцатью электронами, вступают с ними во взаимодействие и аннигилируют, опять-таки высвобождая энергию. Таким образом, с каждым ядром плутония-186, посланным к нам, наша вселенная теряет двадцать электронов.
Наш же вольфрам-186, попадая в паравселенную, оказывается там неустойчивым по прямо противоположным причинам. По законам паравселенной он содержит или слишком много нейтронов, или слишком мало протонов. Ядра вольфрама-186 начинают испускать электроны, непрерывно высвобождая энергию. Каждый же испущенный электрон означает, что нейтрон превращается в протон, и в конце концов возникает плутоний-186. И с каждым ядром вольфрама-186, посланным в паравселенную, она приобретает двадцать электронов.
Такой обмен плутонием и вольфрамом между нашей вселенной и паравселенной может происходить бесконечно с выделением энергии то там, то здесь, причем заключением цикла для каждого отдельного ядра будет переход двадцати электронов из нашей вселенной к ним. И обе стороны получают энергию. Явление это можно назвать своего рода «Межвселенским Электронным Насосом».
Претворение этой идеи в жизнь и создание реального Электронного Насоса, ставшего мощнейшим источником энергии, осуществилось с ошеломляющей быстротой, и каждый новый успех укреплял престиж Хэллема.
Глава 3
У Ламонта не было причин сомневаться в том, что этот престиж вполне заслужен. Задумав написать историю вопроса, он не без труда добился приёма у Хэллема и вошёл в кабинет с чувством, похожим на благоговение. (Впоследствии у него от одной мысли об этой телячьей восторженности начинали гореть уши, и он постарался изгладить её из своей памяти, что ему отчасти и удалось.)
Хэллем держался снисходительно. За тридцать лет он вознесся на такие высоты славы, что можно было только удивляться, почему у него ещё не течёт кровь из носа. С возрастом он приобрел внушительность, хотя и лишенную одухотворенности. Его грузная фигура казалась представительной, а грубым чертам своего лица он научился придавать выражение умудренного спокойствия. Но он по-прежнему легко багровел, а его самовлюбленность и обидчивость стали присловьем.
Перед тем как принять Ламонта, Хэллем позаботился навести о нём справки и был во всеоружии. Он сказал:
— Вы доктор Питер Ламонт и занимаетесь паратеорией — довольно плодотворно, как я слышал. Я помню вашу диссертацию. О паратермоядерной реакции, не так ли?
— Совершенно верно, сэр.
— Ну, так напомните мне подробности. Расскажите мне о ваших выводах. Неофициально, разумеется, словно вы говорите с профаном. Ведь в конце-то концов, — он добродушно засмеялся, — в известном смысле я и есть профан. Я же всего только радиохимик, как вам, быть может, известно, и не ахти какой теоретик, разве что иной раз позволяю себе выдвинуть концепцию-другую.
В тот момент Ламонт принял всё это за чистую монету.
Да, возможно, слова Хэллема вовсе и не были столь оскорбительно наглыми, как казалось ему потом. Но в дальнейшем Ламонт обнаружил (или, во всяком случае, уверил себя), что они были типичны для хэллемовского метода ознакомления с сутью чужих исследований. А потом Хэллем бойко рассуждал на эти темы, как правило, — а вернее, никогда, — не утруждая себя упоминанием о том, кому он обязан своими сведениями.
Но тот, более юный Ламонт был только польщен и сразу же заговорил — словоохотливо и с тем увлечением, которое обычно охватывает человека, когда он рассказывает о своих открытиях.
— Ну конечно, я сделал совсем не так уж много, доктор Хэллем. Ведь устанавливать физические законы паравселенной — паразаконы — дело очень рискованное. У нас слишком мало исходных данных. Я начал с того немногого, что нам известно, и не позволял себе никаких предположений, если они не опирались на уже имеющийся материал. Можно с достаточной уверенностью заключить, что при более сильном ядерном взаимодействии слияние легких ядер должно происходить с меньшими затруднениями.
— Параслияние, — поправил Хэллем.
— Совершенно верно, сэр. Задача, следовательно, сводилась к установлению частностей. Над математикой пришлось-таки поломать голову, но после нескольких преобразований всё стало много проще. Оказывается, например, что в паравселенной у гидрида лития термоядерная реакция начнется при температуре на четыре порядка ниже, чем здесь. У нас, чтобы взорвать гидрид лития, требуются температуры атомной бомбы, а в паравселенной для этого достаточно, так сказать, простого динамитного заряда. Возможно даже, что там гидрид лития вспыхнет от спички, но это маловероятно. Мы им предлагали гидрид лития, поскольку термоядерная энергия может быть у них там чем-то вроде природного ресурса, но они его не тронули.
— Да, я знаю.
— Совершенно очевидно, что для них это слишком опасно. Ну, как использовать нитроглицерин в ракетных двигателях тоннами — только ещё рискованнее.
— Отлично. А кроме того, вы ведь работаете над историей Насоса?
— Для собственного удовольствия, сэр. И если это вас не слишком затруднит, сэр, не смогли бы вы ознакомиться с рукописью, когда она будет готова? Ведь никто не знает всю подоплеку этих событий так, как её знаете вы, сэр, и ваши замечания были бы поистине неоценимыми. Да если бы и сейчас у вас нашлось для меня несколько лишних минут…
— Попробую найти. Так что же вам хотелось бы узнать? — сказал Хэллем с улыбкой, не подозревая, что ему уже больше никогда не захочется улыбаться в присутствии Ламонта.
— Эффективный и практичный Насос, профессор Хэллем, был создан в потрясающе короткий срок, — начал Ламонт. — Едва проект Насоса…
— Проект Межвселенского Электронного Насоса, — поправил Хэллем, всё ещё улыбаясь.
— Да, конечно. — Ламонт кашлянул. — Я просто употребил сокращенное название. Достаточно было начать, а уж само конструирование протекало удивительно быстро и без каких-либо видимых затруднений.
— Совершенно справедливо, — сказал Хэллем с легким самодовольством. — Меня постоянно уверяют, что это моя заслуга, что всё объясняется моим энергичным и прозорливым руководством, но мне не хотелось бы, чтобы вы в вашей книге излишне это подчеркивали. Мы привлекли к работе над проектом немало высокоталантливых людей, и мне было бы неприятно, если бы чрезмерное преувеличение моей роли привело к некоторому затушевыванию блестящей работы отдельных членов группы.
Ламонт досадливо мотнул головой. Всё это не относилось к делу. Он сказал:
— Меня интересует другое. Я имел в виду разумные существа той вселенной. Паралюдей, как их принято называть. Ведь начали они. Мы открыли их после первой замены вольфрама на плутоний. Но они-то открыли нас первыми, причем чисто теоретически, без той подсказки, которую получили от них мы. А та железная фольга, которую они переслали…
Вот тут-то улыбка Хэллема исчезла — исчезла навсегда. Он нахмурился и сказал, повысив голос:
— Символы расшифровке не поддались. Они ни в коей мере…
— Но, сэр, ведь геометрические фигуры, несомненно, были понятны. Я ознакомился с материалами, и нет никаких сомнений, что они представляют собой своего рода чертеж Насоса. По-моему…
Хэллем гневно скрипнул креслом.
— Хватит измышлений, молодой человек. Всю работу сделали мы, а не они.
— Да… Но разве не правда, что они…
— Что «они», что?!
Ламонт наконец осознал, какую бурю чувств он вызвал, но по-прежнему не понимал её причины. Он сказал нерешительно:
— Что они более высоко развиты, чем мы, и что, в сущности, всё сделали они. Разве это не так, сэр?
Хэллем, совсем пунцовый, с усилием поднялся на ноги.
— Конечно, нет! — закричал он. — Никакой мистики в этом вопросе я не допущу. Её и без того хватает. Послушайте, молодой человек! — Он надвинулся на ошеломленного Ламонта, который всё ещё продолжал растерянно сидеть, и погрозил ему толстым пальцем. — Если вы в своей истории исходите из того, что мы были марионетками, которых паралюди дёргали за ниточки, то Первая станция не станет её публиковать, да и никто её не опубликует, если это будет зависеть от меня. Я не допущу, чтобы человечество унижали, чтобы паралюдям отводили роль богов.
Ламонт сделал единственное, что ему оставалось, — он ушёл. Ушёл, ничего не понимая, расстроенный тем, что, действуя из самых лучших побуждений, он почему-то вызвал только гнев и озлобление.
А затем его исторические источники начали пересыхать один за другим. Люди, которые неделю назад охотно отвечали на его вопросы, теперь ничего не помнили и не находили времени для дальнейших бесед.
Вначале Ламонт сердился и недоумевал, а потом в нём начали нарастать ожесточение и злоба. Он оценил собранный им материал с новой точки зрения и принялся требовать и настаивать там, где прежде вежливо просил. Когда они с Хэллемом случайно оказывались рядом на совещаниях или официальных приёмах, Хэллем хмурился, делая вид, будто не замечает Ламонта, а Ламонт в свою очередь начинал презрительно морщиться.
В результате Ламонт обнаружил, что на избранной им ниве паратеории его явно не ждет ничего хорошего, и решительно обратился ко второй своей профессии — профессии историка науки.
Глава 6 (продолжение)
— Ох, какой идиот! — пробормотал Ламонт, всё ещё во власти воспоминаний о тех днях. — Видел бы ты, Майк, в какую панику он впал при одном только предположении, что инициатива принадлежала им. Теперь я просто не понимаю, как можно было с первого взгляда не догадаться, каким образом это на него подействует. Радуйся, что тебе с ним работать не приходилось.
— Я и радуюсь, — сказал Броновский скучным голосом. — Хотя и ты не ангел, если уж на то пошло.
— Не жалуйся! В твоей работе тебе никто палок в колеса не вставляет.
— Зато ею никто и не интересуется. Кому нужна моя работа, если не считать меня самого и ещё пятерых человек в мире? Ну, может, шестерых. Помнишь?
Ламонт помнил.
— Ну, ладно, ладно, — сказал он.
Глава 4
Добродушная вялость Броновского могла обмануть только совсем не знавших его людей. Он обладал на редкость острым умом и, раз взявшись за какую-нибудь задачу, терзал её до тех пор, пока не находил решения или не оставлял от неё лишь жалкие клочья, которые явно доказывали, что она вообще решения не имеет.
Взять хотя бы этрусские надписи, принесшие ему известность. Этрусский язык был живым ещё в первом веке нашей эры, но культурный шовинизм древних римлян уничтожил его с такой полнотой, что от него не осталось почти никаких следов. Буквы отдельных надписей, сохранившихся несмотря на вакханалию римской враждебности и — что ещё хуже — всеобщее равнодушие, походили на греческие, что позволяло угадывать звучание слов. Но этим всё и исчерпывалось. У этрусского языка словно бы не было родственников среди соседних языков, он казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским.
Это навело Броновского на мысль обратиться к другому языку, который тоже словно бы не был родственным ни одному из соседних языков, который тоже казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским, — но язык этот был вполне живым, и говорили на нём в области, расположенной не так уж далеко от тех мест, где некогда обитали этруски.
Язык басков? Броновский задумался. И положил в основу своих исследований баскский язык. Он не был тут первым, но его предшественники после тщетных попыток в конце концов отступались от этой идеи. Броновский не отступился.
Это была тяжелейшая работа, тем более что баскский язык, сам по себе на редкость трудный, оказался более чем скромным подспорьем. Но чем дольше занимался Броновский своими исследованиями, тем тверже становилась его уверенность, что между древними обитателями Северной Италии и Северной Испании, несомненно, существовала определённая культурная связь. У него набралось достаточно данных, чтобы построить убедительную гипотезу о широко заселявших Западную Европу пракельтах, язык которых явился предком и этрусского и баскского, хотя в своем дальнейшем развитии они очень разошлись. К тому же следовало учитывать, что этрусский язык остановился в своем развитии, а баскский продолжал развиваться ещё две тысячи лет, испытав при этом значительное воздействие испанского. Логически вывести, какова была его структура в эпоху Древнего Рима, а затем связать полученные результаты с проблемами этрусского языка — значило поистине совершить редкостный по трудности интеллектуальный подвиг, и понятно, что филологи всего мира были поражены, когда Броновскому удалось это сделать.
Правда, содержание памятников этрусской письменности оказалось удивительно неинтересным и для истории не дало почти ничего — чуть ли не все они были ритуальными надгробными надписями. Но сам факт перевода был ошеломителен и в ходе дальнейших событий послужил для Ламонта спасительной соломинкой.
Однако далеко не вначале. Честно говоря, Ламонт только пять лет спустя после прочтения надписей впервые узнал, что когда-то существовали какие-то там этруски. Затем Броновский был приглашен выступить с докладом на ежегодных чтениях в университете, и хотя Ламонт обычно пренебрегал своим долгом преподавателя и пропускал чтения, но на лекцию Броновского он пришёл.
Не потому, что осознавал важность темы или испытывал какое бы то ни было любопытство. Просто он тогда ухаживал за аспиранткой кафедры романских языков, и, не пойди он на чтения, ему пришлось бы отправиться на музыкальный фестиваль, а эта перспектива увлекала его ещё меньше. Роман этот был мимолетным, и никаких серьёзных намерений у Ламонта не было, но тем не менее на лекцию он попал из-за него.
Впрочем, лекция ему скорее понравилась. Сама загадочная этрусская цивилизация возбудила у него лишь легкий отвлеченный интерес, зато идея расшифровки неизвестного языка показалась ему увлекательной. Подростком он любил решать ребусы, но потом оставил их вместе с прочими детскими забавами ради куда более сложных ребусов, которые предлагает природа, и в конце концов посвятил себя паратеории.
И на лекции Броновского он вновь пережил мальчишескую радость неторопливого извлечения смысла из того, что на первый взгляд казалось случайным набором рисунков и знаков, когда трудности делали победу только слаще. Броновский же был ребусником первой величины, и Ламонт испытывал прямо-таки наслаждение, слушая рассказ о том, как логика упорядочивала и истолковывала неведомое и бесформенное.
Но даже это тройное совпадение — появление Броновского в университете, ламонтовское детское увлечение ребусами и флирт с хорошенькой аспиранткой, водившей своих поклонников на доклады и фестивали, — не привело бы ни к чему, если бы на следующий же день Ламонт не отправился на роковую аудиенцию к Хэллему и не погубил свою карьеру — причем безвозвратно, как он довольно скоро убедился.
Едва выйдя от Хэллема, Ламонт решил поговорить с Броновским о проблеме, которая ему самому представлялась совершенно очевидной, хотя Хэллем и пришёл в бешенство при одном намеке на неё. Ламонт считал необходимым нанести ответный удар, потому что был прав, потому что именно его правота навлекла на него начальственный гнев, — а для этого в первую очередь следовало доказать справедливость той идеи, которая этот гнев вызвала. Конечно, паралюди более высоко развиты! Прежде он об этом, по правде говоря, не задумывался — это как-то само собой разумелось и особого значения не имело. Но теперь вопрос приобрел решающее значение. Он должен доказать, что прав, — вбить эти доказательства в глотку Хэллема, и по возможности боком, чтобы труднее было проглотить.
Благоговение перед великим учёным уже успело угаснуть настолько, что Ламонт с наслаждением смаковал такую перспективу.
Броновский ещё не уехал, и Ламонт, разыскав его, ворвался к нему чуть ли не силой.
Загнанный в угол Броновский держался с изысканной любезностью.
Ламонт нетерпеливо выслушал его вежливые фразы, назвал себя и сразу же перешёл к делу.
— Доктор Броновский, — сказал он, — я страшно рад, что успел поймать вас до отъезда. Надеюсь, я сумею уговорить вас остаться тут на более длительный срок.
Броновский ответил:
— Возможно, это будет не так уж трудно. Меня приглашают к вам в университет читать курс.
— И вы думаете согласиться?
— Я ещё не решил. Но это не исключено.
— Нет, вы должны согласиться. Вы сами это поймете, когда выслушаете меня. Доктор Броновский, чем, собственно, вы можете заняться теперь, когда вы уже расшифровали этрусские надписи?
— Я занимался не только этим, молодой человек. (Он был старше Ламонта на пять лет.) Я археолог, а этрусская культура не исчерпывается надписями, так же как италийская культура доклассического периода не исчерпывается одними этрусками.
— Но ведь вряд ли в этой области есть задачи столь же увлекательные, как прочтение этрусских надписей?
— Тут вы правы.
— Тогда, наверное, вы будете рады найти проблему еше более увлекательную, ещё более сложную и в триллион раз более злободневную!
— Что вы имеете в виду, доктор… Ламонт, не так ли?
— У нас есть надписи, не связанные ни с какой мертвой культурой. И даже с Землей. И даже со всей вселенной. У нас есть то, что мы называем парасимволами.
— Я о них слышал. И даже видел их.
— Но в таком случае неужели вам не захотелось взяться за решение этой проблемы, доктор Броновский? Не захотелось узнать, что они означают?
— Нет, не захотелось, доктор Ламонт, поскольку никакой проблемы тут нет.
Ламонт бросил на него подозрительный взгляд.
— Вы что, их уже прочли?
Броновский покачал головой.
— Вы меня не поняли. Проблемы нет, потому что их вообще нельзя прочесть. И я этого не могу. И никто другой не сможет. Для этого нет исходной точки. Когда речь идёт о земном языке, даже самом мертвом, можно с достаточной уверенностью рассчитывать, что найдётся живой язык или мертвый, но уже известный, который окажется с ним в родстве, пусть самом отдаленном. И даже если такой аналогии не отыщется, можно исходить хотя бы из того, что на этом языке писали люди и их мыслительные процессы были человеческими, сходными с нашими. Это уже опора, хотя и слабенькая. Но к парасимволам ни один такой способ неприложим, то есть они слагаются в задачу, заведомо не имеющую решения. А задача без решения — не задача.
Ламонт сдерживался, чтобы не перебить его, лишь с большим трудом. Но тут его терпение иссякло:
— Вы ошибаетесь, доктор Броновский! Не подумайте, что я хочу учить вас вашей профессии, но вы ведь не знаете ряда фактов, которые установили люди моей профессии. Мы имеем дело с паралюдьми, о которых нам практически ничего не известно. Мы не знаем, как они выглядят, как они мыслят, в каком мире обитают. То есть мы не знаем почти ничего о самом главном, о самом основном. В этом отношении вы правы.
— Но соль, по-видимому, заключается в «почти», не правда ли?
Броновский как будто нисколько не заинтересовался. Он достал из кармана пакетик с инжиром, распечатал его, сунул ягоду в рот и протянул пакетик Ламонту, но тот покачал головой.
— Вот именно! — объявил Ламонт. — Нам известен факт решающей важности. По развитию они стоят выше нас. Во-первых, они умеют осуществлять обмен через Межвселенское Окно, нам же достаётся чисто пассивная роль…
Не договорив фразы, он спросил:
— Вы что-нибудь знаете о Межвселенском Электронном Насосе?
— Достаточно, чтобы следить за вашими рассуждениями, доктор Ламонт, до тех пор, пока вы ограничиваетесь общими положениями.
Ламонт заговорил, не дослушав:
— Во-вторых, они прислали нам объяснения, как сконструировать нашу часть Насоса. Мы не смогли в них разобраться, но чертежи всё-таки подсказали нам верный путь. В-третьих, они каким-то образом воспринимают нас. Во всяком случае, они, например, узнают, когда мы предлагаем им вольфрам. Они узнают его местонахождение и действуют соответственно. Мы ни на что аналогичное не способны. Есть ещё частности, но и этого вполне достаточно, чтобы показать, насколько паралюди выше нас по развитию.
— Мне кажется, — заметил Броновский, — что тут вы одиноки. Полагаю, ваши коллеги с вами не согласны.
— О да! Но почему вы так решили?
— А потому, что, на мой взгляд, вы ошибаетесь.
— Факты, на которые я ссылаюсь, верны, так как же я могу ошибаться?
— Вы ведь доказываете только, что паралюди опередили нас в техническом отношении. Но как это связано с умственным развитием? Вот послушайте! — Броновский встал, снял куртку и расположился в кресле поудобнее. Его полное мягкое тело уютно расслабилось, словно непринужденная поза помогала ему думать. — Примерно двести пятьдесят лет назад в гавань Токио вошла американская эскадра под командованием Мэтью Перри. Японцы, в ту эпоху отрезанные от остального мира, внезапно столкнулись с технической культурой, заметно превосходившей их собственную, и мудро решили, что открытое сопротивление было бы неразумным. Большая страна с давними военными традициями и многомиллионным населением оказалась бессильной перед несколькими чужеземными кораблями. Но доказывает ли это, что американцы стояли по умственному развитию выше японцев, или просто западная культура шла несколько иным путем? Разумеется, верно второе — не прошло и пятидесяти лет, как японцы освоили западную технику, а ещё через полвека стали в один ряд с ведущими индустриальными странами мира, несмотря на то что примерно тогда же потерпели сокрушительное военное поражение.
Ламонт, который слушал с большим вниманием, сказал:
— Я об этом думал, доктор Броновский, хотя и не знал про японцев — у меня слишком мало времени, чтобы подробно знакомиться с историей прошлых веков, а жаль! Но тут другое. Речь идёт не только о техническом превосходстве, а и об умственном развитии.
— Но ведь это только ваши догадки. Почему вы, собственно, так думаете?
— А потому, что они прислали нам инструкции. Они очень хотели, чтобы мы установили свою часть Насоса, и искали способ, как подтолкнуть нас на это. Сами они к нам попасть не могут — ведь даже железная фольга, на которой были выбиты их инструкции (а железо и у них, и у нас самый устойчивый из элементов), даже она постепенно сделалась настолько радиоактивной, что её стало опасно хранить целыми кусками. Но конечно, прежде чем принять необходимые меры, мы сняли точные копии.
Он умолк, чтобы перевести дух, и с досадой подумал, что говорит слишком взволнованно и настойчиво. Так ведь можно оттолкнуть, вместо того чтобы увлечь.
Броновский смотрел на него с любопытством.
— Ну хорошо. Они присылали нам инструкции. Какой, собственно, вывод вы пытаетесь из этого сделать?
— А вот какой: по их мнению, мы способны понять, что они нам пишут. Неужели они настолько глупы, что стали бы отправлять нам послания, иногда довольно длинные, если бы считали, что мы их не поймем?.. Без их чертежей мы ничего не смогли бы сделать. Если же они были уверены, что мы поймем, значит, они считают, что существа вроде нас, с технической культурой примерно их уровня (а это они каким-то образом установить сумели — ещё одно подтверждение моей точки зрения) должны находиться примерно на той же ступени умственного развития, что и они, и без труда разберутся в их символах.
— С тем же успехом это можно считать доказательством их наивности, — спокойно возразил Броновский.
— То есть, по-вашему, они полагают, будто возможен всего один устный и письменный язык и что разумные обитатели другой вселенной говорят и пишут так же, как они сами? Согласитесь, это уж слишком.
— Предположим даже, что вы правы, — сказал Броновский. — Но что вы, собственно, хотите от меня? Я видел парасимволы. Думаю, в мире не найдётся археолога или филолога, который бы их не видел. И я не понимаю, что я мог бы сделать. Думаю, и все остальные сказали бы то же. За двадцать с лишним лет дело не сдвинулось с места.
— Потому что все эти двадцать лет никто всерьёз и не пытался что-нибудь сделать, — горячо возразил Ламонт. — Управление Насосными станциями вовсе не хочет, чтобы символы были прочитаны.
— Но отчего?
— А вдруг прямое общение с паралюдьми неопровержимо докажет, что их развитие выше? Вот тогда уже не удастся скрыть, что создатели Насоса — лишь номинальные его творцы, а это непереносимо для их самомнения. И, таким образом (Ламонт старался говорить без злости, но это ему не удавалось), Хэллем утратит право называться Отцом Электронного Насоса.
— Ну хорошо, предположим, символами захотели бы заняться всерьёз. Что это дало бы? Ведь хотеть ещё не значит мочь.
— Можно было бы заручиться сотрудничеством паралюдей. Можно было бы написать в паравселенную. Этого даже не пытались сделать, хотя ничего невозможного тут нет. Можно было бы подложить письмо на железной фольге под крупинку вольфрама.
— Вот как? Они что же, по-прежнему высматривают вольфрам, хотя Насос уже действует?
— Нет. Но они заметят вольфрам и сообразят, что мы стараемся привлечь их внимание. И вообще можно изготовить фольгу из вольфрама и написать прямо на ней. Если они заберут наше послание и хоть что-то поймут, то ответят, используя свои новые знания. Например, составят сравнительную таблицу своих слов и наших или используют наши слова в окружении своих. Это будет обмен — они нам, мы им, они нам и так далее.
— Причем львиную долю работы выполнят они, — добавил Броновский.
— Вот именно.
Броновский покачал головой.
— Ну и что тут интересного? Меня, во всяком случае, это не прельщает.
Ламонт испепелил его гневным взглядом.
— Но почему? Или, по-вашему, вам будет мало чести? Славы вам не хватит? Вы что, такой уж специалист в вопросах славы? Да какую, собственно, славу принесли вам эти этрусские надписи, чёрт побери? Ну, утерли вы нос пятерым другим специалистам. Или даже шестерым. Вот для них одних во всём мире вы победитель, авторитет, и они вас ненавидят. А ещё что? Ну, читаете вы лекции перед полусотней слушателей, которые на другой день уже не помнят вашей фамилии. Вас это прельщает?
— Не впадайте в мелодраму.
— Ладно, не буду. И найду кого-нибудь другого. Времени уйдёт больше, но, как вы совершенно правильно заметили, львиную долю работы выполнят паралюди. В конце-то концов я и сам справлюсь.
— Вам это официально поручено?
— Нет, не поручено. Ну и что? Или это для вас ещё одна причина держаться в сторонке? Блюдете академическую этику? Так нет же правил, запрещающих заниматься переводом, и почему я не имею права положить кусочек вольфрама на свой письменный стол? Я не стану сообщать о посланиях, которые могу получить взамен, и в этом смысле несколько отступлю от общепринятых норм научных исследований. Но когда ключ к переводу будет найден, кто об этом вспомнит? Согласны ли вы работать со мной, если я гарантирую вам полное отсутствие неприятностей и обещаю сохранить ваше участие в тайне? В результате вы лишитесь славы, но, может быть, своё спокойствие вы цените выше? Ну что ж. — Ламонт пожал плечами. — Если мне придётся работать одному, то по крайней мере не надо будет тратить время и силы на то, чтобы оберегать чье-то спокойствие.
Он встал, собираясь уйти. Оба были рассержены и держались теперь с той сухой корректностью, которая возникает между собеседниками, настроенными враждебно, но соблюдающими внешнюю вежливость.
— Полагаю, — сказал Ламонт, — мне необязательно просить вас считать нашу беседу конфиденциальной?
Броновский тоже поднялся.
— О, разумеется, — ответил он холодно, и они учтиво пожали друг другу руки.
Ламонт решил, что на Броновского ему рассчитывать не приходится, и принялся убеждать себя, что он и сам может отлично справиться со всеми трудностями перевода.
Однако два дня спустя Броновский явился к Ламонту в лабораторию и сказал без всякого вступления:
— Я уезжаю, но в сентябре вернусь. Я принял приглашение работать здесь, так что, если это вас по-прежнему устраивает, я посмотрю тогда, может ли у меня что-нибудь получиться с переводом этих ваших символов.
Ламонт не успел даже оправиться от удивления и поблагодарить его, как Броновский сердито вышел из комнаты, словно согласиться ему было даже неприятнее, чем отказаться.
Со временем они подружились. И со временем Ламонт узнал, что заставило Броновского изменить первоначальное решение. На другой день после их спора Броновский был приглашен в преподавательский клуб на званый завтрак, на котором присутствовал весь цвет университетской администрации во главе, разумеется, с ректором. Во время завтрака Броновский объявил о своем согласии работать в университете, упомянув, что необходимое официальное заявление пришлет несколько позже, и все выразили удовольствие по этому поводу.
Ректор сказал:
«Поистине, это великолепное перо в шляпу нашего университета, что в его стенах будет трудиться прославленный переводчик айтасканских надписей! Для нас это большая честь».
Конечно, никто даже не намекнул ректору на его ляпсус, и Броновский продолжал сиять улыбкой, правда, теперь несколько вымученной. После завтрака заведующий кафедрой древней истории сказал в извинение ректора, что он родом из Миннесоты и большой патриот своего штата, который знает много лучше античности, а поскольку озеро Айтаска является истоком великой Миссисипи, такая оговорка вполне естественна.
Но этот эпизод, словно подкреплявший насмешки Ламонта над его славой, несколько уязвил Броновского.
Когда Ламонт услышал эту историю, он расхохотался.
— Можешь не продолжать, — заявил он. — Я ведь и сам через это прошёл. Ты сказал себе: «Чёрт подери, я сделаю такое, что даже этот олух вынужден будет запомнить».
— Что-то в этом роде, — согласился Броновский.
Глава 5
Однако год работы не принес практически никаких результатов. Их послания в конце концов попали по назначению, они получили ответные послания. И — ничего.
— Ну, попробуй догадаться, — лихорадочно требовал Ламонт. — Возьми хоть с потолка. И испробуй на них.
— Я этим и занимаюсь, Пит. Что ты нервничаешь? На этрусские надписи я потратил двенадцать лет. А ты что же, думал, на это потребуется меньше времени?
— Чёрт возьми, Майк. Двенадцать лет — это немыслимо.
— А почему, собственно? Послушай, Пит, я ведь замечаю, что с тобой творится что-то неладное. Весь последний месяц ты был просто невозможен. Мне казалось, мы с самого начала знали, что дело быстро не пойдёт и нам надо запастись терпением. Мне казалось, ты понимаешь, что у меня, кроме того, есть моя работа в университете. И ведь я уже несколько раз задавал тебе этот вопрос. Ну, так я его повторю: почему ты вдруг так заторопился?
— Потому что заторопился, — резко ответил Ламонт. — Потому что хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
— Поздравляю! — сухо сказал Броновский. — Представь себе, и я хочу того же. Послушай, уж не собираешься ли ты скончаться во цвете лет? Твой врач, случайно, не предупредил тебя, что ты неизлечимо болен?
— Да нет же, нет! — скрипнув зубами, сказал Ламонт.
— Так что же с тобой?
— Ничего. — И Ламонт поспешно ушёл.
В тот момент, когда Ламонт решил заручиться помощью Броновского, его просто злило тупое упрямство Хэллема, не желавшего допустить даже мысли о том, что паралюди могут стоять по развитию выше землян. И, стремясь установить с ними прямую связь, он хотел только доказать, что Хэллем не прав. И ничего больше — в первые месяцы.
Но у него почти сразу же начались всяческие неприятности. Опять и опять его заявки на новое оборудование оставлялись без внимания, время, положенное ему для работы с электронной вычислительной машиной, урезывалось, на заявление о выдаче ему командировочных сумм он получил пренебрежительный отказ, а предложения, которые он вносил на межфакультетских совещаниях, даже не рассматривались.
Кризис наступил, когда освободившаяся должность старшего сотрудника, на которую все права имел Ламонт, была отдана Генри Гаррисону, много уступавшему ему и в стаже, и, главное, в способностях. Ламонт кипел от возмущения. Теперь ему уже было мало просто продемонстрировать свою правоту — он жаждал разоблачить Хэллема в глазах всего мира, сокрушить его.
Это чувство ежедневно, почти ежечасно подогревалось поведением остальных сотрудников Насосной станции. Ламонт был слишком колюч, чтобы пользоваться всеобщей любовью, но тем не менее многие ему симпатизировали.
Гаррисон же испытывал большую неловкость. Это был тихий молодой человек, старавшийся сохранять добрые отношения со всеми, и на его лице, когда он остановился в дверях ламонтовской лаборатории, было написано боязливое смущение. Он сказал:
— Привет, Пит. Найдётся у вас для меня пара минут?
— Хоть десять, — хмуро сказал Ламонт, избегая его взгляда.
Гаррисон вошёл и присел на краешек стула.
— Пит, — сказал он. — Я не могу отказаться от этого назначения, но хотел бы вас заверить, что я о нём не просил. Это была для меня полнейшая неожиданность.
— А кто вас просит отказываться? Мне наплевать.
— Пит, что у вас вышло с Хэллемом? Если я откажусь, назначат ещё кого-нибудь, но только не вас. Чем вы допекли старика?
Этого Ламонт не вынес.
— Скажите-ка, что вы думаете о Хэллеме? Что он за человек, по-вашему? — набросился он на бедного Гаррисона.
Гаррисон совсем растерялся. Он пожевал губами и почесал нос.
— Ну — у… — сказал он и умолк.
— Великий человек? Замечательный учёный? Блистательный руководитель?
— Ну-у…
— Ладно, так я вам сам скажу. Он шарлатан! Самозванец! Правдой и неправдой урвал себе сладкий кусок, а теперь трясется, как бы его не потерять! Он знает, что я его насквозь вижу. Вот этого-то он и не может мне простить!
Гаррисон испустил неловкий смешок.
— Неужто вы пошли к нему и сказали…
— Нет, прямо я ему ничего не говорил, — угрюмо перебил Ламонт. — Но придёт день, и я скажу. Только он и без этого знает. Он понимает, что меня ему провести не удалось, пусть я пока и молчу.
— Послушайте, Пит, ну для чего вам это ему показывать? Я ведь тоже не считаю, что он такой уж гений, но зачем, собственно, кричать об этом на всех перекрестках? Погладьте его по шерстке. Ведь ваша карьера в его руках.
— Да неужто? А у меня в руках его репутация. Я его разоблачу! Я покажу, что у него за душой ничего нет.
— Каким образом?
— А уж это моё дело, — пробормотал Ламонт, который в ту минуту не мог бы ответить на этот вопрос даже самому себе.
— Но это же смешно, — сказал Гаррисон. — У вас нет никаких шансов на победу. Он сотрет вас в порошок. Пусть он на самом деле не Эйнштейн и не Оппенгеймер, но мир-то считает его выше их. В глазах всех обитателей земного шара он — Отец Электронного Насоса, и, пока Насос служит ключом к райской жизни, они останутся глухи. До тех пор Хэллем неуязвим, и надо быть сумасшедшим, чтобы вступать с ним в борьбу. Какого чёрта, Пит! Скажите ему, что он великий человек, и проглотите пилюлю. Очень вам нужно быть вторым Денисоном!
— Вот что, Генри! — крикнул Ламонт, внезапно приходя в ярость. — Шли бы вы заниматься своими делами!
Гаррисон вскочил и вышел, не сказав больше ни слова. Ламонт обзавёлся ещё одним врагом или, во всяком случае, потерял ещё одного друга. Но, поразмыслив, он решил, что оно того стоило, так как этот разговор натолкнул его на новую идею.
Суть всех рассуждений Гаррисона исчерпывалась одной фразой: «…пока Электронный Насос служит ключом к райской жизни… Хэллем неуязвим».
Эти слова звенели в ушах Ламонта, и он впервые задумался не о Хэллеме, а о самом Электронном Насосе.
Действительно ли Электронный Насос — ключ к райской жизни? Или, чёрт подери, тут есть какой-то подвох?
История показывает, что во всём новом обычно кроется какой-то подвох. А как обстоит дело с Электронным Насосом?
Ламонт, специалист по паратеории, конечно, знал, что проблема «подвоха» в своё время уже возникала. Едва было установлено, что работа Электронного Насоса в конечном счёте сводится к перекачке электронов из нашей вселенной в паравселенную, со всех сторон послышались вопросы: «А что произойдёт, когда будут перекачаны все электроны?»
Ответ был самый успокоительный. При той интенсивности перекачки, которая полностью покроет всю практическую потребность человечества в энергии, запаса электронов во вселенной хватит по меньшей мере на триллион триллионов лет, помноженный на триллион, то есть на срок, который неизмеримо превосходит возможный период существования как вселенной, так и паравселенной, взятых вместе.
Следующее возражение было более хитрым. Перекачать все электроны нельзя даже теоретически. По мере их перекачки общий отрицательный заряд паравселенной будет увеличиваться, так же как и общий положительный заряд вселенной. С каждым годом по мере возрастания разницы перекачка электронор будет затрудняться всё больше, поскольку потребуется преодолевать противодействие противоположных зарядов. Да, конечно, непосредственно перекачивались нейтральные атомы, но сопровождающее этот процесс возмущение орбитальных электронов создавало эффективный заряд, который колоссально увеличивался благодаря наступавшим вслед за этим радиоактивным превращениям.
Если бы заряды непрерывно накапливались в точках перекачки, их воздействие на перекачиваемые атомы с возмущенными электронами почти немедленно оборвало бы весь процесс, но, разумеется, тут вступала в действие диффузия. Накапливающийся заряд диффундировал в атмосферу, и его воздействие на процесс перекачки следовало рассчитывать с учетом этого момента.
В результате возрастания общего положительного заряда Земли положительно заряженный солнечный ветер начинал отклоняться от нашей планеты на всё большем расстоянии, а её магнитосфера увеличивалась. Благодаря работам Макфарленда (того самого, кому, по убеждению Ламонта, принадлежала идея, обернувшаяся Великим Прозрением) удалось показать, что определённое равновесие обеспечивалось солнечным ветром, уносившим прочь всё больше и больше накапливающихся положительно заряженных частиц, которые отталкивались от земной поверхности всё выше в экзосферу. С нарастанием интенсивности перекачки, со вступлением в строй очередной Насосной станции общий положительный заряд Земли слегка увеличивался и магнитосфера на несколько миль расширялась. Изменение это, однако, было незначительным, а положительно заряженные частицы уносились солнечным ветром и распределялись по внешним областям Солнечной системы.
И всё-таки даже при самой стремительной диффузии заряда неизбежно должно было наступить время, когда локальная разность зарядов вселенной и паравселенной возрастет настольно, что процесс прекратится, причем на это должна была уйти лишь малая доля того времени, которое потребовалось бы на перекачку всех электронов, — примерно одна триллионная одной триллионной.
То есть это означало, что перекачка может продолжаться триллион лет. Один-единственный триллион. Но и его было достаточно. Совершенно достаточно. За триллион лет мог исчезнуть не только человек, но и сама Солнечная система. А если человек (или какой-нибудь его наследник и преемник) будет существовать и тогда, он, уж конечно, сумеет найти наилучший выход из положения. Ведь за триллион лет можно сделать очень много.
Со всем этим Ламонт должен был согласиться.
Тут он попробовал взглянуть на проблему под другим углом и припомнил рассуждения Хэллема в одной из статей, рассчитанной на самых неискушенных читателей. Он отыскал эту статью и с некоторой брезгливостью перечитал её: прежде чем идти дальше, необходимо было проверить, что именно утверждает Хэллем.
В статье он нашёл такое место:
«Из-за действия вездесущей силы тяготения мы привыкли связывать выражение «под гору» со своего рода неизбежным изменением, которое мы можем использовать для получения энергии, которую, в свою очередь, мы можем преобразовать в полезную работу. В далеком прошлом текущая под гору вода вращала колеса, которые приводили в действие машины вроде насосов и турбин. Но что случится, когда вся вода стечёт?
Дальнейшая работа окажется невозможной до тех пор, пока вода не будет поднята на гору — а это требует работы. И для того чтобы вернуть воду на гору, требуется больше работы, чем можно получить, пока она течёт вниз. Работа всегда сопровождается потерей энергии. К счастью, тут за нас работает Солнце. Оно испаряет воду из океанов, водяные пары поднимаются высоко в атмосферу, образуют там облака, и в конце концов вода возвращается на Землю в виде осадков — дождя или снега. В результате вода проникает в почву на всех уровнях, вновь питая источники и потоки. Вот почему на Земле всегда есть вода, которая течёт под гору.
Но длиться вечно это не может. Солнце способно поднимать воду вверх в виде водяных паров только потому, что оно само, если выразиться образно, имея в виду ядерную энергию, течёт под гору. И течёт со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость самых стремительных земных рек, причем нам неизвестны силы, которые способны были бы вновь поднять его на гору, когда оно протечёт всё.
Все до единого источники энергии в нашей вселенной текут под гору, и это от нас не зависит. Всё течёт под гору в одном направлении, и мы способны временно заставить поток течь обратно на гору, только воспользовавшись находящимся где-нибудь поблизости более мощным устремлением вниз. Если мы хотим получить вечный источник полезной энергии, нам требуется дорога, которая в обоих направлениях уходит под гору. Таков парадокс нашей вселенной. Ведь само собой разумеется, что склон, уходящий вниз, одновременно является склоном, ведущим вверх.
Но должны ли мы ограничиваться одной лишь нашей вселенной? Поразмыслим о паравселенной. И там тоже дороги в одном направлении ведут под гору, а в противоположном — в гору. Однако эти дороги не совпадают с нашими. И возможно отправиться из паравселенной в нашу по дороге, которая ведёт под гору и будет вести по-прежнему под гору, когда мы захотим пойти по ней из нашей вселенной в паравселенную, — это возможно потому, что физические законы этих вселенных различны.
Электронный Насос использует дорогу, которая ведёт под гору в обоих направлениях. Электронный Насос…»
Ламонт ещё раз перечитал название статьи. «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях».
Он задумался. Конечно, он прекрасно знал и эту концепцию, и её термодинамические следствия. Но почему бы не проверить исходные допущения? Ведь именно они составляют слабое звено любой теории. Что, если допущения, считающиеся верными по определению, в действительности неверны? Каковы будут следствия, если исходить из иных предпосылок? Противоположных?
Он начал искать вслепую, но не прошло и месяца, как к нему пришло ощущение, знакомое любому ученому, — ощущение, что каждый кусочек мозаики ложится на нужное место и досадные аномалии перестают быть аномалиями… Это ощущалась близость Истины.
Именно с этой минуты он и начал подгонять Броновского.
Затем в один прекрасный день он заявил:
— Я собираюсь ещё раз поговорить с Хэллемом.
Броновский поднял брови.
— Для чего?
— Для того, чтобы он меня выгнал.
— Это в твоём духе, Пит! Если твои неприятности начинают идти на убыль, тебе словно чего-то не хватает.
— Ты не понимаешь. Необходимо, чтобы он отказался выслушать меня. Я не хочу, чтобы потом говорили, будто я действовал через его голову, будто он не знал.
— Не знал о чём? О переводе парасимволов? Так они же ещё не переведены. Не забегай вперёд, Пит.
— Ах, дело не в этом! — Но больше Ламонт ничего не сказал.
Хэллем не облегчил Ламонту его задачу — прошло несколько недель, прежде чем он наконец выбрал время, чтобы принять своего неуживчивого подчиненного. Но и Ламонт намеревался ничего Хэллему не спускать. Он вошёл в кабинет, ощетинившись всеми невидимыми иголками. Хэллем встретил его ледяным взглядом и спросил резко:
— Что это ещё за кризис вы обнаружили?
— Кое-что прояснилось, сэр, — ответил Ламонт бесцветным голосом. — Благодаря вашей статье.
— А? — Хэллем сразу оживился. — Какой же это?
— «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях». Вы программировали её для «Мальчишек», сэр.
— Ну и что же?
— Я считаю, что Электронный Насос вовсе не ведёт под гору в обоих направлениях, если мне будет дозволено воспользоваться вашей метафорой, которая, кстати, не так уж и подходит для образного описания второго закона термодинамики.
Хэллем нахмурился.
— Что, собственно, вы имеете в виду?
— Мне будет проще объяснить это, сэр, если я выведу уравнение для полей обеих вселенных, сэр, и продемонстрирую взаимодействие, которое до сих пор не рассматривалось, — на мой взгляд, совершенно напрасно.
С этими словами Ламонт направился к тиксо-табло и поспешно набрал уравнения, не переставая быстро говорить.
Он знал, что Хэллем оскорбится и выйдет из себя, — эти области математики были ему не по зубам.
И он добился своей цели. Хэллем проворчал:
— Послушайте, молодой человек, у меня сейчас нет времени заниматься дискуссиями по отдельным аспектам паратеории. Пришлите мне развернутый доклад, а пока ограничьтесь кратким изложением, если вам действительно есть что сказать.
Ламонт отошёл от табло, пренебрежительно морщась.
— Ну хорошо, — сказал он. — Второй закон термодинамики описывает процесс, который неизбежно исключает крайние состояния. Вода не бежит под гору — на самом деле происходит выравнивание экстремальных значений гравитационного потенциала. Вода с такой же лёгкостью потечёт в гору, если она окажется под давлением. Можно получить работу за счёт использования двух разных температурных уровней, но в конце концов температура сравняется на какой-то промежуточной точке: нагретое тело остынет, холодное — нагреется. И остывание, и нагревание одинаково представляют собой проявление второго закона термодинамики и в соответствующих условиях одинаково возможны.
— Не учите меня основам термодинамики, молодой человек! Что вам всё-таки нужно? У меня мало времени.
Ламонт сказал, не меняя выражения и словно не замечая, что его подгоняют:
— Электронный Насос работает за счёт выравнивания противоположностей. В данном случае противоположностями являются физические законы двух вселенных. Условия, обеспечивающие существование этих законов, какими бы эти условия ни были, поступают из одной вселенной в другую, и конечным результатом этого процесса будут две вселенные с одинаковыми физическими законами, представляющими собой нечто среднее между нынешними. Поскольку это неминуемо вызовет какие-то пока ещё не ясные, но весьма значительные изменения в нашей вселенной, необходимо со всей серьёзностью взвесить, не следует ли остановить Насосы и полностью и навсегда прекратить перекачивание.
Ламонт твёрдо рассчитывал, что именно тут Хэллем взорвётся и лишит его возможности продолжать объяснения. И Хэллем не обманул его ожиданий. Он вскочил с такой стремительностью, что опрокинул кресло. Пинком отшвырнув кресло в сторону, он шагнул к Ламонту.
Тот быстро отодвинулся вместе со стулом и тоже встал.
— Идиот! — кричал Хэллем, задыхаясь от ярости. — Вы что же, думаете, никто на Станции до сих пор не подозревал об уравнивании физических законов? Вы смеете тратить моё время на пересказ того, что я знал, когда вы пешком под стол ходили! Убирайтесь вон и в любой момент, когда вам вздумается подать заявление об уходе, считайте, что я его принял!
Ламонт покинул кабинет, добившись того, чего хотел, и тем не менее его душила ярость при одной только мысли, что Хэллем посмел так с ним обойтись.
Глава 6 (окончание)
— Во всяком случае, — сказал Ламонт, — теперь путь расчищен. Я сделал попытку объяснить ему положение вещей. Он не захотел слушать. А потому я предпринимаю следующий шаг.
— А именно? — спросил Броновский.
— Я намерен добиться приёма у сенатора Бэрта.
— У главы комиссии по техническому прогрессу и среде обитания?
— Вот именно. Значит, ты про него слышал?
— А кто про него не слышал? Но зачем, Пит? Что ты можешь сообщить ему такого, что его заинтересует? Перевод тут ни при чем, Пит. Я снова задаю тебе всё тот же вопрос — что тебя тревожит?
— Как я тебе объясню? Ты не знаешь паратеории.
— А сенатор Бэрт её знает?
— Думаю, лучше, чем ты.
Броновский укоризненно покачал пальцем.
— Пит, довольно играть в прятки. Может быть, и я знаю то, чего не знаешь ты. Мы не можем работать вместе, если будем работать друг против друга. Либо я член этого мозгового треста, состоящего из нас двоих, либо нет. Скажи мне, что тебя тревожит, и я тоже тебе кое-что скажу. Или же вообще кончим это.
Ламонт пожал плечами.
— Хорошо. Если хочешь, я объясню. И раз уж я разделался с Хэллемом, так, пожалуй, будет даже лучше. Дело в том, что Электронный Насос представляет собой передатчик физических законов. В паравселенной сильное ядерное взаимодействие в сто раз сильнее, чем у нас, из чего следует, что для нас более характерно деление ядер, а для них — слияние. Если Электронный Насос будет действовать и дальше, неминуемо наступит равновесие, когда сильное ядерное взаимодействие будет одинаковым в обеих вселенных — у нас примерно в десять раз сильнее, чем сейчас, а у них — во столько же раз слабее.
— Но ведь это же известно?
— Разумеется. Это стало очевидным чуть ли не с самого начала. Даже до Хэллема дошло. Вот почему этот сукин сын так разъярился. Я принялся объяснять ему со всеми подробностями, будто думал, что он об этом никогда даже не слышал, и он сразу начал орать.
— Но в чём всё-таки суть? Если взаимодействие уравняется, это опасно?
— Само собой. А ты как думаешь?
— Я ничего не думаю. И когда же оно уравняется?
— При нынешней скорости перекачки — через десять в тридцатой степени лет.
— А это долго?
— Пожалуй, хватит на то, чтобы триллион триллионов вселенных вроде нашей сменили друг друга, чтобы каждая возникла, отжила свой срок, состарилась и уступила место следующей.
— О чёрт! Так из-за чего же тут копья ломать?
— А из-за того, — начал Ламонт, выговаривая слова чётко и неторопливо, — что цифра эта, между прочим официальная, была выведена на основании некоторых предпосылок, которые, на мой взгляд, неверны. И если исходить из других предпосылок, которые, на мой взгляд, верны, то нам уже сейчас грозят неприятности.
— Например?
— Ну, предположим, Земля за пять минут превратится в облачко газа — это, по-твоему, достаточная неприятность?
— Из-за перекачки?
— Из-за перекачки.
— А мир паралюдей? Ему тоже грозит гибель?
— Я в этом убежден. Опасность другого рода, но всё-таки опасность.
Броновский вскочил и начал расхаживать по комнате. Его каштановые волосы были густыми и длинными. Он запустил в них обе пятерни.
— Если, по-твоему, паралюди так уж умны, зачем же они создали Насос? Ведь они раньше нас должны были понять, насколько он опасен.
— Мне это приходило в голову, — ответил Ламонт. — Вероятно, они наткнулись на идею перекачки совсем недавно и, подобно нам, слишком увлеклись непосредственными благами, которые она приносит, а о последствиях просто не задумались.
— Но ведь ты-то уже сейчас определил, какие будут последствия. Так что же, они тупее тебя?
— Все зависит от того, когда их заинтересуют эти последствия, да и заинтересуют ли вообще. Насос настолько полезная штука, что как-то не хочется искать в нём изъяны. Я и сам не стал бы в этом копаться, если бы не… Кстати, Майк, а о чём ты хотел мне рассказать?
Броновский остановился перед Ламонтом, посмотрел ему в глаза и сказал:
— По-моему, мы чего-то добились.
Ламонт секунду смотрел на него диким взглядом, а потом вцепился в его рукав.
— С парасимволами? Да говори же, Майк!
— Видишь ли, когда ты был у Хэллема… Как раз когда ты с ним говорил. Я в первый момент не вполне разобрался, потому что не знал, в чём дело. Но теперь…
— Так что же?
— Я всё-таки не совсем уверен. Видишь ли, они передали кусок фольги с пятью знаками…
— Ну?
— …похожими на наши буквы. Их можно прочесть.
— Что?!
— Вот погляди.
И Броновский, как заправский фокусник, извлек неизвестно откуда полоску фольги. По ней, совершенно не похожие на изящные и сложные спирали и разноцветные блестки парасимволов, растянулись пять корявых, совсем детских букв: «СТРАК».
— Что это может значить, как по-твоему? — с недоумением спросил Ламонт.
— Я прикидывал и так и эдак, но, мне кажется, скорее всего это слово «страх», написанное с ошибкой.
— Так вот почему ты меня допрашивал? Ты подумал, что кто-то у них испытывает страх?
— Да, и решил, что тут может быть какая-то связь с твоим явно нервным состоянием в последние месяцы. Откровенно говоря, Пит, я терпеть не могу, когда от меня что-то старательно скрывают.
— Ну ладно тебе. Но давай не торопиться с выводами. Раз дело идёт об обрывках фраз, тебе и карты в руки. Так, значит, по-твоему, паралюдям Электронный Насос начинает внушать страх?
— Вовсе не обязательно, — сказал Броновский. — Я ведь не знаю, в какой мере они способны воспринимать то, что происходит в нашей вселенной. Если они каким-то способом ощущают вольфрам, который мы им предлагаем, если они ощущают наше присутствие, то не исключено, что они ощущают и наши настроения. Может быть, они хотят нас успокоить, убедить, что причин для страха нет.
— Так почему же они так прямо и не написали — «не надо страха»?
— А потому, что настолько хорошо они нашего языка ещё не знают.
— Хм-м. Ну, в таком случае Бэрту об этом рассказывать, пожалуй, рано.
— Да, не стоит. Слишком двусмысленно. И вообще, я бы на твоём месте подождал обращаться к Бэрту. Кто знает, что они пытаются сообщить!
— Нет, Майк, я ждать не могу. Я знаю, что прав, и времени у нас остаётся очень мало.
— Ну что ж. Только ведь, отправившись к Бэрту, ты сожжешь свои корабли. Твои коллеги тебе этого не простят. Кстати, а не поговорить ли тебе со здешними физиками? Один ты не можешь повлиять на Хэллема, но все вместе…
Ламонт замотал головой.
— Ничего не выйдет. Тут выживают только бесхребетные субъекты. И против него ни один из них открыто не пойдёт. Уговорить их нажать на Хэллема? А ты не пробовал скомандовать вареным макаронам, чтобы они стали по стойке «смирно»?
Добродушное лицо Броновского стало непривычно хмурым.
— Возможно, ты и прав.
— Я знаю, что я прав, — не менее хмуро ответил Ламонт.
Глава 7
Для того чтобы добиться приёма у сенатора, потребовалось довольно много времени, и эта проволочка выводила Ламонта из себя, тем более что паралюди больше не присылали буквенных сообщений. Никаких, хотя Броновский переслал не менее десятка полос с тщательно подобранными комбинациями парасимволов, а также вариантами «страк» и «страх».
Ламонт не мог понять, зачем ему понадобилось такое количество вариантов, но Броновский, казалось, очень на них рассчитывал.
Однако ничего не произошло, а Бэрт наконец принял Ламонта.
Глаза сенатора на худом морщинистом лице были цепкими и пронизывающими. Он достиг весьма почтенного возраста (комиссию по техническому прогрессу и среде обитания он возглавлял с незапамятных времен). К своим обязанностям сенатор относился с величайшей серьёзностью, что неоднократно доказывал делом.
Бэрт поправил старомодный галстук, давно уже превратившийся в его эмблему.
— Сынок, я могу уделить вам только полчаса, — сказал он и поднес к глазам часы на широком браслете.
Ламонта это не смутило. Он не сомневался, что заставит сенатора забыть о времени. И он не стал начинать с азов — на этот раз его цель была иной, чем во время беседы с Хэллемом. Он сказал:
— Я не стану излагать математические доказательства, сенатор. Полагаю, вам и так известно, что благодаря перекачиванию происходит смешение физических законов двух вселенных.
— Перемешивание, — спокойно заметил сенатор, — причем полное равновесие будет достигнуто через десять в тридцатой степени лет. Я верно помню эту цифру? — Изогнутые брови придавали его изрытому морщинами лицу вечно удивленный вид.
— Совершенно верно. Но цифра эта опирается на допущение, что законы, просачивающиеся от нас к ним и наоборот, распространяются во все стороны от точки проникновения со скоростью света. Это только предположение, и я считаю, что оно ошибочно.
— Почему же?
— Измерена только скорость смещения внутри плутония сто восемьдесят шесть, переданного в нашу вселенную. Вначале оно протекает чрезвычайно медленно — предположительно из-за высокой плотности вещества, — а затем начинает непрерывно убыстряться. Если добавить к плутонию менее плотное вещество, скорость смещения начнет возрастать гораздо стремительнее. Измерений такого рода было сделано немного, но если положиться на них, то в вакууме скорость проникновения должна стать равной скорости света. Иновселенским законам требуется определённое время, чтобы проникнуть в атмосферу; заметно меньше времени, чтобы достичь её верхних слоев; и практически мгновение, чтобы оттуда умчаться по всем направлениям в космос со скоростью триста тысяч километров в секунду, тотчас разреживаясь до полной безобидности.
Ламонт умолк, обдумывая, как перейти к дальнейшему, и сенатор сразу же уловил его нерешительность.
— Однако… — подсказал он тоном человека, берегущего своё время.
— Это очень удобное предположение, правдоподобное и не сулящее никаких неприятностей. Но что, если проникновению иновселенских законов препятствует не вещество, а самая структура нашей вселенной?
— А что такое — «самая структура»?
— Мне трудно объяснить это словами. Существует математическое выражение, которое, по-моему, тут подходит… но на словах ничего не получится. Структура вселенной — это то, что определяет её физические законы. Структура нашей вселенной, например, делает обязательным сохранение энергии. Именно структура паравселенной, сконструированная, так сказать, не вполне по нашему образцу, и делает их ядерное взаимодействие в сто раз более сильным, чем у нас.
— И что же?
— Если проникновение идёт в самую структуру, сэр, то наличие вещества независимо от его плотности имеет лишь второстепенное значение. Скорость проникновения в вакууме больше, чем в плотном веществе, но ненамного. Скорость проникновения в космосе может быть чрезвычайно большой по сравнению с земными условиями и всё же во много раз уступать скорости света.
— Из чего следует…
— Что иновселенская структура не рассеивается так быстро, как нам казалось, но, образно говоря, нагромождается в пределах Солнечной системы, где концентрация её оказывается заметно выше, чем мы предполагали.
— Так-так, — кивнул сенатор. — И сколько же понадобится времени, чтобы космос в пределах Солнечной системы достиг равновесия? Наверное, цифра будет меньше десяти в тридцатой степени?
— Гораздо меньше, сэр. Думаю, даже меньше десяти в десятой степени. На это уйдёт что-нибудь около пятидесяти миллиардов лет плюс-минус два-три миллиарда.
— Сравнительно немного, но вполне достаточно, а? И повода тревожиться сейчас у нас нет, э?
— Нет, сэр, боюсь, что есть. Непоправимое произойдёт задолго до того, как будет достигнуто равновесие. Благодаря перекачиванию сильное ядерное взаимодействие в нашей вселенной с каждым мгновением становится всё сильнее.
— Настолько, что это поддаётся измерению?
— Пожалуй, нет, сэр.
— Хотя перекачивание продолжается уже двадцать лет?
— Да, сэр.
— Так где же повод для тревоги?
— Видите ли, сэр, от степени сильного ядерного взаимодействия зависит скорость, с какой водород внутри солнечного ядра превращается в гелий. Если взаимодействие станет сильнее, хотя бы даже в самой ничтожной мере, скорость слияния ядер водорода и превращения их в ядра гелия внутри Солнца возрастет уже заметно. Равновесие же между тяготением и излучением внутри Солнца весьма хрупко, и если нарушить его в пользу излучения, как сейчас делаем мы…
— И что же?
— Это вызовет колоссальный взрыв. По законам нашей вселенной такая небольшая звезда, как наше Солнце, неспособна стать сверхновой. Но если они изменятся, это перестанет быть невозможным. И, насколько я могу судить, никакого предупреждения не будет. Когда процесс достигнет критической точки, Солнце взорвётся, и через восемь минут после этого мы с вами перестанем существовать, а Земля превратится в расширяющееся газовое облако.
— И сделать ничего нельзя?
— Если равновесие уже необратимо нарушено, то ничего. Если же ещё не поздно, необходимо прекратить перекачивание.
Сенатор кашлянул.
— Прежде чем согласиться принять вас, молодой человек, я навёл о вас справки, так как вы были мне неизвестны. В частности, я обратился к доктору Хэллему. Вы с ним знакомы, я полагаю?
— Да, сэр. — Голос Ламонта оставался ровным, хотя уголки его губ задёргались. — Я с ним очень хорошо знаком.
— Он ответил мне, — продолжал сенатор, покосившись на листок у себя под рукой, — что вы безмозглый склочник, страдающий явным помешательством, и что он самым решительным образом требует, чтобы я вас ни в коем случае не принимал.
Ламонт сказал, стараясь сохранить хладнокровие:
— Это его слова, сэр?
— Его собственные.
— Так почему же вы меня приняли, сэр?
— При обычных обстоятельствах, получи я от Хэллема такой отзыв, я бы вас не принял. Я ценю своё время, и безмозглых склочников и явных помешанных ко мне, свидетель бог, является более чем достаточно, и даже с самыми лестными рекомендациями. Но мне не понравилось хэллемовское «требую». От сенаторов не требуют, и Хэллему полезно зарубить это себе на носу.
— Так вы мне поможете, сэр?
— В чём?
— Ну… прекратить перекачку.
— Прекратить? Нет. Это невозможно.
— Но почему? — почти крикнул Ламонт. — Вы ведь глава комиссии по техническому прогрессу и среде обитания, и ваша прямая обязанность — запретить перекачку, как и всякий другой технический процесс, который наносит среде обитания непоправимый ущерб. А можно ли представить себе ущерб страшнее и непоправимее того, которым грозит перекачивание?
— О, разумеется, разумеется! При условии, что вы правы. Но ведь пока всё в конечном счёте сводится к тому, что вы просто исходите из иных предположений, нежели те, которые приняты всеми. Однако кто определит, какая система предположений верна, а какая нет?
— Сэр, моя гипотеза делает понятными несколько моментов, которым принятая теория объяснения не даёт.
— В таком случае ваши коллеги должны были бы принять ваши поправки, а тогда вы вряд ли пришли бы ко мне, не так ли?
— Сэр, мои коллеги не хотят мне верить. Этому мешают их личные интересы.
— А вам личные интересы мешают поверить, что вы можете и ошибаться… Молодой человек, на бумаге я обладаю огромной властью, но осуществить её могу, только если на моей стороне будет общественное мнение. Разрешите, я преподам вам урок практической политики.
Он поднес к глазам часы, откинулся в кресле и улыбнулся. Подобные предложения были не в его привычках, но утром в редакционной статье «Земных новостей» он был назван «тончайшим политиком, украшением Международного конгресса», и это всё ещё приятно щекотало его самолюбие.
— Большое заблуждение полагать, — начал он, — будто средний человек хочет, чтобы среда обитания оберегалась, а его жизнь ограждалась от гибели, и проникнется благодарностью к идеалисту, который будет бороться за эти цели. Он просто ищет личных удобств. Это ясно показал кризис среды обитания в двадцатом веке. Когда стало известно, что сигареты повышают вероятность заболевания раком легких, казалось бы, наиболее разумным выходом было покончить с курением вообще, однако желанным выходом стала сигарета, не вызывающая рака. Когда стало ясно, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу, наиболее очевидным выходом было бы вовсе отказаться от таких машин, однако желанный выход лежал в создании двигателей, которые не загрязняли бы воздуха. Так вот, молодой человек, не просите, чтобы я остановил перекачивание. На него опираются экономика и благосостояние всей планеты. Лучше подскажите мне способ, как сделать перекачку безопасной для Солнца и избежать его взрыва.
— Такого способа нет, сенатор. Тут мы имеем дело с основой основ, и играть с этим нельзя. Надо прекратить перекачивание.
— Но при этом вы можете предложить только возврат к положению, которое существовало до появления Электронного Насоса?
— Иного выхода не существует.
— Тогда вам нужно представить чёткие и неопровержимые доказательства своей правоты.
— Лучшим доказательством, — сказал Ламонт сухо, — был бы взрыв Солнца. Но, вероятно, вы не хотите, чтобы я зашёл так далеко?
— Не вижу в этом необходимости. Почему вы не можете заручиться поддержкой Хэллема?
— Потому что он мелкий человечишка, который вдруг оказался Отцом Электронного Насоса. Так может ли он признать, что его дитя губит Землю?
— Я понимаю вас, но в глазах всего мира он действительно Отец Электронного Насоса, и только его слово могло бы иметь достаточный вес в подобном вопросе.
Ламонт покачал головой.
— Чтобы он добровольно пошёл на это? Да он скорее сам взорвёт хоть десять солнц.
— Ну, так заставьте его, — сказал сенатор. — У вас есть теория, но ничем не подкрепленная теория немногого стоит. Неужели нет способа проверить её? Скорость радиоактивного распада урана, например, зависит от внутриядерных взаимодействий. Изменяется ли эта скорость так, как предсказывает ваша теория вопреки общепринятой?
Ламонт снова покачал головой.
— Обычная радиоактивность зависит от слабого ядерно-го взаимодействия, и, к сожалению, эксперименты не позволят сделать окончательных выводов, а к тому времени, когда картина прояснится, будет уже поздно.
— Что-нибудь ещё?
— Существует ещё специфическое взаимодействие пионов, то есть пи-мезонов, в котором могли бы уже и сейчас обнаружиться чёткие изменения. Есть даже лучший путь: некоторые комбинации кварк — кварк в последнее время ведут себя странно, и я убежден, что мог бы доказать…
— Ну, вот видите!
— Да, но получить эти данные, сэр, можно только с помощью большого синхрофазотрона на Луне, а работа с ним расписана по минутам на много лет вперёд — я выяснял это. Разве что кто-нибудь нажмет на кнопки…
— То есть я нажму?
— Да, вы, сенатор.
— Нет, сынок. Пока доктор Хэллем так вас аттестует, — узловатым пальцем сенатор постучал по лежащему перед ним листку, — я этого сделать не могу.
— Но существование мира…
— Докажите!
— Приструните Хэллема, и я докажу.
— Докажите, и я приструню Хэллема.
Ламонт глубоко вздохнул.
— Сенатор! Предположим, существует хотя бы ничтожная доля процента вероятности того, что я прав. Неужели от неё можно так просто отмахнуться? Ведь она означает всё: человечество, саму нашу планету. Неужели ради них не стоит бороться?
— Вы хотите, чтобы я бросился в бой во имя благородной цели? Заманчиво, ничего не скажешь. Отдать жизнь свою за други своя — это красиво. Кто из порядочных политиков порой не видел в мечтах, как он всходит на костер под ангельское пение. Но, доктор Ламонт, решиться на такой шаг можно, только веря, что борьба всё-таки не совсем безнадёжна. Надо верить, что твоё дело может победить, пусть шансы и невелики. Если я поддержу вас, я ничего не добьюсь. Чего стоит ваше ничем не подкрепленное слово против того, что даёт перекачка? Могу ли я потребовать, чтобы люди отказались от удобств и благосостояния, которые обеспечил им Насос, потому лишь, что один-единственный человек кричит «Волк!», причем остальные учёные не соглашаются с ним, а высокочтимый Хэллем называет его безмозглым идиотом? Нет, сэр, во имя заведомой неудачи я на костер не пойду.
— Ну, так помогите мне получить доказательства, — умоляюще сказал Ламонт. — Вам ведь не обязательно делать это открыто. Если вы боитесь…
— Я не боюсь, — перебил Бэрт резко. — Я трезво смотрю на вещи, и только. Доктор Ламонт, ваши полчаса давно истекли.
Ламонт посмотрел на сенатора с отчаянием, но лицо Бэрта было теперь холодным и замкнутым. Ламонт повернулся и вышел.
Сенатор Бэрт не стал приглашать следующего посетителя. Минуты шли, а он всё теребил галстук и хмуро смотрел на закрытую дверь. А что, если этот одержимый прав? Что, если он вопреки очевидности всё-таки прав?
Да, конечно, было бы очень приятно подставить ножку Хэллему, ткнуть его лицом в грязь и подержать так… Но этого не произойдёт. Хэллем неуязвим. У него с Хэллемом была только одна стычка, со времени которой прошло десять лет. Он тогда был прав, абсолютно прав, а Хэллем молол чепуху, и дальнейшее развитие событий показало это достаточно ясно. И тем не менее Бэрт был тогда публично отшлёпан и в результате чуть было не проиграл на выборах.
Бэрт кивнул, словно отвечая на свои мысли. Ради благой цели можно рискнуть местом сенатора, но не вторичным унижением. Он позвонил, приглашая следующего посетителя, и поднялся ему навстречу со спокойной приветливой улыбкой.
Глава 8
Если бы Ламонт ещё верил, что его научная карьера всё-таки не совсем кончена, он, возможно, не решился бы на свой следующий шаг. Джошуа Чен был сомнительной фигурой, и всякий, кто прибегал к его помощи, сильно компрометировал себя в глазах власти предержащей. Чен был бунтарем-одиночкой, который, однако, заставлял прислушиваться к себе: во-первых, потому, что вкладывал в каждую свою кампанию неистовую энергию, а во-вторых, потому, что сумел превратить свою организацию в силу, с которой нельзя было не считаться, — политический талант, которому завидовало немало видных общественных деятелей.
Быстрота, с какой Электронный Насос вытеснил прежние энергетические источники, в определённой степени объяснялась именно его усилиями. Достоинства Электронного Насоса были ясны и очевидны (что может быть яснее абсолютной дешевизны и очевиднее отсутствия какого бы то ни было загрязнения окружающей среды?), и всё-таки, если бы не Джошуа Чен, те, кто предпочитал атомную энергию просто в силу её привычности, могли бы дольше сопротивляться такому новшеству.
Да, когда Чен начинал бить в свои барабаны, к нему прислушивались.
И вот он сидит перед Ламонтом — круглолицый, с широкими скулами, унаследованными от деда-китайца.
Чен спросил:
— Я хотел бы знать совершенно точно — вы выступаете только от своего имени?
— Да, — напряженно ответил Ламонт. — Хэллем меня не поддерживает. Честно говоря, Хэллем утверждает, что я сумасшедший. А вам, чтобы начать действовать, нужно одобрение Хэллема?
— Я ни в чьем одобрении не нуждаюсь, — ответил Чен с вполне понятным высокомерием.
Он задумался, а затем спросил:
— Так вы говорите, что в техническом отношении паралюди нас опередили?
Ламонт стал теперь осторожнее и старательно избегал слова «развитие». «Опередили в техническом отношении» звучало не так вызывающе, а означало практически то же самое.
— Это следует хотя бы из того, — ответил он, — что они способны пересылать вещество из одной вселенной в другую, а мы этого ещё не умеем.
— В таком случае, если Насос опасен, зачем они установили его у себя? И почему продолжают им пользоваться?
Ламонт стал осторожнее не только в выборе слов. Он мог бы, например, ответить, что Чен не первый задаёт ему этот вопрос. Но он ничем не выдал досадливого нетерпения, которое могло бы показаться обидным, и ответил спокойно:
— Вероятно, вначале они, так же как и мы, видели в Насосе только безопасный источник энергии. Но у меня есть основания считать, что теперь он внушает им такую же тревогу, как и мне.
— Но ведь это опять-таки только ваше мнение. Никаких реальных свидетельств, подкрепляющих его, нет.
— Да, пока я таких свидетельств представить ещё не могу.
— А одного вашего слова мало.
— Но можем ли мы пойти на риск…
— Мало, профессор, мало! А доказательств у вас нет. Я заслужил свою репутацию не стрельбой куда попало. Нет, я каждый раз поражал цель, потому что твёрдо знал, что я делаю и зачем.
— Но когда я получу доказательства…
— Тогда я вас поддержу. Если ваши доказательства меня убедят, то, поверьте, ни Хэллем и никакие правительственные организации ничего не смогут сделать: общественное мнение возьмет верх. Итак, раздобудьте доказательства и приходите ко мне снова.
— К тому времени будет уже поздно.
Чен пожал плечами.
— Возможно. Но куда более вероятно другое: вы убедитесь, что ошибались и никаких доказательств попросту не существует.
— Нет, я не ошибаюсь. — Ламонт перевел дыхание и заговорил доверительно: — Мистер Чен! В нашей вселенной, возможно, существуют триллионы триллионов обитаемых планет, среди которых, конечно, можно насчитать миллиарды с высокоразвитой жизнью и технической культурой. Такое же положение скорее всего существует и в паравселенной. Отсюда неизбежно следует, что в прошлом обеих вселенных многие планеты и парапланеты вступали в обоюдный контакт и начинали перекачку. Наверное, существуют десятки, если не сотни Насосов в тех точках, где эти вселенные соприкасаются.
— Это уже чистейшие домыслы. Но если и так, то что отсюда следует?
— А то, что в десятках, если не в сотнях, случаев смешение физических законов локально достигало критической точки и солнце данной планеты взрывалось. Возможно, возникал цепной эффект: энергия сверхновой в совокупности с изменениями физических законов вызывала взрывы соседних звезд, а это, в свою очередь, приводило к дальнейшим взрывам. И со временем происходил взрыв центральной линзы галактики или одной из её ветвей.
— Но лишь в вашем воображении, ведь так?
— Почему же? В нашей вселенной существуют сотни квазаров — крохотных тел, по размерам равных лишь нескольким солнечным системам, но излучающих свет, которого хватило бы на сто обычных больших галактик.
— Вы хотите сказать, что квазары возникают в результате перекачки?
— Это вполне вероятно. Ведь открыли их полтора века назад, но астрономы до сих пор не могут объяснить, каков источник их энергии. Во вселенной нет ничего, что хотя бы отдаленно подходило для такой роли. Разве не логично предположить…
— А паравселенная? В ней тоже полно квазаров?
— Думаю, что нет. Там другие условия. Паратеория не оставляет сомнения, что слияние ядер происходит там заметно легче, а потому в среднем их звёзды должны быть намного меньше наших. Выделение энергии, равной энергии нашего Солнца, там требует значительно меньшего запаса легко сливающихся ядер водорода. Звезда такой величины, как наше Солнце, взорвалась бы там мгновенно. С проникновением наших законов в паравселенную слияние ядер водорода в ней слегка затрудняется, и паразвёзды начинают понемногу остывать.
— Ну, это не страшно, — заметил Чен. — С помощью перекачки они могут получать всю необходимую им дополнительную энергию. По вашим предположениям получается, что у них всё обстоит отлично.
— Только на первый взгляд, — сказал Ламонт, вдруг осознав, что до сих пор он вообще как-то не задумывался о ситуации в паравселенной. — Если у нас произойдёт взрыв, перекачка прекратится. Они не смогут продолжать её без нас. Другими словами, они останутся с остывающей звездой, но без энергии, получаемой от перекачки. В сущности, их положение даже хуже: мы-то исчезнем в мгновенной вспышке, а они будут обречены на длительную агонию.
— У вас поразительное воображение, профессор, — сказал Чен, — но для меня этого мало. Я не представляю себе, как можно отказаться от перекачки, противопоставив ей лишь силу вашего воображения. Да отдаёте ли вы себе отчет в том, что такое Насос для человечества? Это ведь не только гарантия даровой, чистой и неиссякаемой энергии. Взгляните на дело шире. Насос освобождает человечество от каждодневной борьбы за существование. Впервые оно получило возможность посвятить свою коллективную мысль полному развитию заложенного в нём потенциала. Например, несмотря на все успехи медицины за последние два с половиной века, средняя продолжительность человеческой жизни лишь немного превышает сто лет. А ведь геронтологи вновь и вновь повторяют, что теоретически бессмертие вполне достижимо — однако этой проблеме пока не уделяется достаточного внимания.
— Бессмертие! — гневно перебил Ламонт. — Это же мыльный пузырь!
— Вы, бесспорно, специалист по мыльным пузырям, профессор, — ответил Чен. — Тем не менее я намерен добиваться принятия программы исследований по проблемам бессмертия. Но она окажется неосуществимой, если перекачка будет остановлена. Тогда нам придётся вернуться к дорогой энергии, к скудной энергии, к грязной энергии. И людям, населяющим Землю, вновь придётся думать только о том, как бы прожить завтрашний день, а мечта о бессмертии действительно останется мыльным пузырем.
— Это-то будет в любом случае. Какое уж тут бессмертие, когда никто из нас не проживёт даже и нормального срока своей жизни!
— Ну, ведь это только ваше предположение.
Ламонт взвесил все за и против и решил рискнуть:
— Мистер Чен, в начале нашего разговора я упомянул, что по некоторым причинам мне не хотелось бы касаться того, почему я считаю возможным судить о настроении паралюдей. Но, пожалуй, без этого не обойтись. Мы получили от них фольгу с символами.
— Да, я знаю. Но разве вы способны их понять?
— Мы получили слово, составленное из наших букв.
Чен сдвинул брови, потом сунул руки в карманы, вытянул короткие ноги и откинулся на спинку стула.
— Какое же?
— «Страх»! (Ламонт не счел нужным сообщать об ошибке в последней букве.)
— Страх… — повторил Чен. — И как же вы это толкуете?
— По-моему, ясно, что перекачка вызывает у них серьёзные опасения.
— Ничего подобного. Что им мешает в этом случае просто остановить Насос? Я думаю, они действительно боятся — но того, что Насос остановим мы. Они уловили ваше намерение, а если мы последуем вашему совету и остановим Насос, им также придётся его остановить. Вы же сами говорили, что продолжать перекачку без нас они не смогут. Эта палка ведь о двух концах. И неудивительно, если они боятся.
Ламонт ничего не ответил.
— Как видно, вам такое объяснение в голову не приходило, — сказал Чен. — Ну, в таком случае мы начнем борьбу за бессмертие. Мне кажется, подобная кампания будет более популярной.
— Популярной… — медленно повторил Ламонт. — Я ведь не знал, что для вас важно. Сколько вам лет, мистер Чен?
Чен вдруг замигал и отвернулся. Он быстро встал и, сжимая кулаки, поспешно вышел из комнаты.
Позже Ламонт заглянул в биографический справочник. Чену было шестьдесят лет, а его отец умер в шестьдесят два года. Но какое это имело значение!
Глава 9
— Судя по твоему лицу, тебе опять не повезло, — сказал Броновский.
Ламонт сидел в лаборатории, уставившись на носки своих ботинок, и думал о том, что они сильно поцарапаны. Он кивнул:
— Да.
— И великий Чен тоже не стал тебя слушать?
— Он ничего не хочет делать. Ему нужны доказательства. Они все требуют доказательств и старательно опровергают любой довод. На самом же деле они попросту хотят сохранить свой проклятый Насос, или свою репутацию, или своё место в истории. А Чен хочет бессмертия.
— А ты чего хочешь, Пит? — мягко спросил Броновский.
— Избавить человечество от грозящей ему опасности, — сказал Ламонт, но, заметив усмешку в глазах Броновского, добавил: — Ты мне не веришь?
— О, верю, верю! Но чего ты хочешь на самом деле?
— Ну ладно, чёрт побери! — Ламонт с силой хлопнул ладонью по столу. — Я хочу быть правым, а это у меня уже есть, потому что я прав!
— Ты уверен?
— Уверен! И я ни о чём не беспокоюсь, потому что добьюсь своего. Знаешь, когда я вышел от Чена, то чуть было не запрезирал себя.
— Ты — себя?
— Да, себя. И за дело. Мне всё время в голову лезла мысль: Хэллем преграждает мне все пути. До тех пор пока Хэллем против меня, у них у всех есть предлог не верить мне. Пока Хэллем стоит передо мной, как каменная стена, я обречен на неудачу. Так почему же я не попробовал прибегнуть к уловкам? Почему не подмазался к нему? Почему не попытался действовать через него, вместо того чтобы доводить его до белого каления?
— И ты думаешь, у тебя что-нибудь получилось бы?
— Наверняка нет. Но от отчаяния чего не придёт в голову! Например, я мог бы отправиться на Луну. Бесспорно, когда я только-только раздразнил Хэллема, о гибели Земли и речи не было, но ведь потом-то я сознательно испортил всё ещё больше. Впрочем, ты совершенно верно заметил, что от Насоса он всё равно не отказался бы, как бы я его ни улещал.
— Но сейчас ты, по-видимому, себя больше не презираешь?
— Нет. Потому что мой разговор с Ченом не прошёл впустую. Я понял, что напрасно теряю время.
— Да уж!
— Я не о том. Выход из положения вовсе не обязательно искать на Земле. Я сказал Чену, что наше Солнце может взорваться, а парасолнце уцелеет, но паралюдям всё равно придётся плохо, так как их часть Насоса без нашей работать не будет. Без нас они не смогут продолжать перекачку, понимаешь?
— А что же тут непонятного?
— Но ведь наоборот-то выходит то же самое: мы не сможем продолжать перекачку без них. А раз так, не всё ли равно, остановим мы Насос или нет? Пусть это сделают паралюди.
— А если не сделают?
— Но они же передали нам: «С-Т-Р-А-К». А это значит, что они боятся. По мнению Чена, они боятся нас — боятся, что мы остановим Насос. Но я с ним не согласен. Они испытывают совсем другой страх. Я ничего Чену не возразил — я просто промолчал, и он решил, что мне нечего сказать. Но он ошибся. Я только задумался о том, как нам убедить паралюдей, чтобы они остановили Насос. Мы должны этого добиться. Я больше ни на что не рассчитываю. И теперь всё дело за тобой, Майк. Ты — надежда мира. Втолкуй им это. Как хочешь, но втолкуй.
Броновский засмеялся детски радостным смехом.
— Пит, — сказал он, — ты гений!
— A-а! Заметил наконец!
— Нет, я серьёзно. Ты отгадываешь то, что я собираюсь сказать, прежде чем я успеваю открыть рот. Я посылал полоску за полоской, располагая их символы в том порядке, который, по-моему, означает «Насос», и ставил рядом наше слово. И я использовал все клочки сведений, которые мы собрали за это время, чтобы расположить их символы в порядке, означающем неодобрение, и опять-таки поставил рядом соответствующее земное слово. Конечно, я не знал, действительно ли я передаю что-то осмысленное или попадаю пальцем в небо, а ответа никакого не приходило, и я уже решил, что дело безнадёжно.
— А мне ты даже не считал нужным рассказывать, чего добиваешься?
— Ну, это уж моя часть работы. А сам-то ты мне сразу объяснил паратеорию?
— Но что дальше?
— Вчера я послал всего два наших слова: «НАСОС ПЛОХО».
— Ну и?..
— Ну и сегодня утром я наконец получил ответ. Очень простой и недвусмысленный. «ДА НАСОС ПЛОХО ПЛОХО ПЛОХО». Вот посмотри.
Ламонт взял фольгу дрожащими пальцами.
— Тут ведь не может быть ошибки? Это же подтверждение?
— Да, конечно. Кому ты это покажешь?
— Никому, — твёрдо сказал Ламонт. — Я ничего больше доказывать не буду. Они мне заявят, что я подделал фольгу, так какой смысл терять время? Пусть паралюди остановят Насос, и он остановится у нас. Только своими усилиями мы его вновь запустить не сможем. И тогда вся Станция примется изо всех сил доказывать, что я был прав, что Насос действительно опасен.
— Это ещё откуда следует?
— А что им останется делать, когда разъяренные толпы начнут требовать, чтобы Насос снова был запущен, а они его запустить не смогут? Ты со мной согласен?
— Не берусь судить. Меня беспокоит другое.
— А именно?
— Если паралюди убеждены, что Насос опасен, почему они его уже не остановили? Я недавно воспользовался удобным случаем и проверил. Насос работает как ни в чём не бывало.
Ламонт нахмурился.
— Ну, скажем, односторонняя остановка их не устраивает. Они считают нас равноправными партнерами и хотят, чтобы мы сделали это по взаимному согласию. Ведь так может быть, верно?
— Конечно. Но ведь, с другой стороны, систему нашего общения никак нельзя назвать совершенной. Не исключено, что они попросту не уловили смысла слова «ПЛОХО». А вдруг я совершенно исказил их символы и они решили, что «ПЛОХО» по-нашему значит «ХОРОШО»?
— Этого не может быть!
— Ну что ж, надейся. Но ведь надежда ещё никогда не спасала.
— Майк, ты продолжай посылать. Используй как можно больше слов, которыми пользуются они. Тут ты мастер. В конце концов они узнают необходимые слова и ответят яснее, а тогда мы объясним, что просим их остановить Насос.
— Мы не уполномочены на такие заявления.
— Конечно, но они-то этого не знают. А нас человечество в конце концов признает героями.
— Предварительно свернув нам шеи?
— Тем более… Дальнейшее зависит от тебя, Майк, и я уверен, что всё решится в ближайшие дни.
Глава 10
Но ничто не решилось. Миновали две недели — и ни одной полоски. Ожидание становилось невыносимым.
Особенно тяжело оно сказалось на Броновском. От его недавнего радостного возбуждения не осталось и следа. И в этот день он вошёл в лабораторию Ламонта, угрюмо нахмурившись.
Некоторое время они смотрели друг на друга. Наконец Броновский сказал:
— По всему университету только и разговоров, что тебя выгоняют…
Подбородок Ламонта покрывала двухдневная щетина. Лаборатория выглядела какой-то запыленной, словно бы уже покинутой. Ламонт пожал плечами.
— Ну и что? Это меня не трогает. Неприятно другое: «Физический бюллетень» не взял мою статью.
— Но ты ведь этого и ждал?
— Да, но я думал, что они объяснят почему. Укажут на ошибки, на неточности, на неверные выводы. Чтобы я мог возразить.
— А они обошлись без объяснений?
— Ни единого слова. По мнению их рецензентов, статья для опубликования не подходит — кавычки закрыть. Они просто отмахнулись от неё… Перед такой всеобщей глупостью как-то теряешься. Если бы человечество обрекало себя на катастрофу по бесшабашности или порочности, честное слово, мне было бы легче. Но очень уж унизительно и обидно погибать из-за чьего-то тупого упрямства и глупости. Какой смысл быть мыслящими существами, если мы должны кончить вот так?
— Из-за глупости, — пробормотал Броновский.
— А как ещё ты это назовешь? Например, от меня сейчас требуют официальных объяснений: мне полагается представить основания, почему меня не следует увольнять за величайшее из преступлений — за то, что я прав.
— Откуда-то стало известно, что ты побывал у Чена?
— Да! — Ламонт устало потёр пальцами веки. — По-видимому, я настолько сильно наступил ему на ногу, что он не поленился нажаловаться Хэллему. И теперь я обвиняюсь в том, что пытался сорвать работу Насоса, сея панику с помощью бездоказательных и ложных утверждений, а это противоречит профессиональной этике и делает моё дальнейшее пребывание на Станции невозможным.
— Всё это они могут обосновать достаточно веско.
— Вероятно. Но это неважно.
— Что ты намерен предпринять?
— А ничего! — отрезал Ламонт. — Пусть делают что хотят. Я рассчитываю на бюрократическую волокиту. Официальное оформление подобной истории займет недели, а то и месяцы, а ты пока работай. Паралюди успеют нам ответить.
Броновский болезненно поморщился.
— А если нет? Пит, может, тебе вернуться к той идее…
Ламонт встрепенулся.
— К какой идее?
— Объяви, что ты ошибся. Покайся. Бей себя в грудь. Уступи.
— Ни за что! Чёрт возьми, Майк! Ведь мы ведем игру, в которой ставка — весь мир, каждое живое существо!
— Да, но насколько это касается тебя лично? Ты не женат. Детей у тебя нет. Я знаю, что твой отец умер. Я ни разу не слышал, чтобы ты упомянул про свою мать или каких-ни-будь родственников. По-моему, ты ни к кому не испытываешь любви или горячей привязанности. Ну, так брось всё это и живи спокойно.
— А ты?
— И я. С женой я развелся, детей у меня нет, а милые отношения с милой женщиной будут продолжаться, пока не оборвутся. Живи, пока можешь! Радуйся жизни!
— А завтра как?
— А это уж не наша забота. Во всяком случае, смерть будет мгновенной.
— Я не способен принять подобную философию… Майк! Майк, да что это с тобой? Ты просто не хочешь сказать прямо, что у нас ничего не выйдет? Что ты не рассчитываешь установить связь с паралюдьми?
Броновский отвел глаза.
— Видишь ли, Пит, — сказал он, — я получил ответ. Вчера вечером. Я решил подождать и подумать, но думать, собственно, не о чём… Вот читай.
Ламонт взял фольгу, ошеломленно посмотрел на неё и начал читать. Знаков препинания не было.
«НАСОС НЕ ОСТАНОВИТЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ МЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ НАСОС МЫ НЕ СЛЫШАТЬ ОПАСНОСТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ЧТОБЫ МЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ НАСОС».
— Чёрт побери, — пробормотал Броновский. — Ведь это вопль отчаяния!
Ламонт смотрел на фольгу и молчал.
— Насколько я могу понять, — начал Броновский, — кто-то у них там похож на тебя. Пара-Ламонт, так сказать. Он тоже не может заставить своего пара-Хэллема остановить перекачку. И пока мы умоляем их спасти нас, они умоляют нас спасти их.
— Но если показать это… — глухо произнес Ламонт.
— Они скажут, что ты лжешь, что ты подделал эту фольгу, чтобы оправдать твой порожденный психозом кошмар.
— Про меня-то они скажут, но ведь про тебя этого сказать нельзя. Ты поддержишь меня, Майк. Ты официально заявишь, что получил эту фольгу, и расскажешь, при каких обстоятельствах.
Броновский густо покраснел.
— А что пользы? Они ответят, что в паравселенной отыскался маньяк вроде тебя и что двое сумасшедших нашли общий язык. Они скажут, что это сообщение свидетельствует лишь об одном: те, кто в паравселенной представляют ответственное руководство, убеждены в отсутствии какой бы то ни было опасности.
— Майк, но будем же драться!
— А что пользы, Пит? Ты сам сказал — глупость. Может быть, паралюди опередили нас в техническом отношении, может быть, они даже, как ты утверждаешь, стоят выше нас по развитию, но ведь ясно, что глупы они не меньше нашего, и на этом всё кончается. Тут я согласен с Шиллером.
— С кем?
— С Шиллером. Был такой немецкий драматург лет триста назад. В пьесе о Жанне д’Арк он сказал примерно следующее: «Против глупости сами боги бороться бессильны». А я не бог и тем более не стану бороться. Брось, Пит, и займись чем-нибудь другим. Возможно, на наш век времени хватит, а если нет, так ведь изменить всё равно ничего нельзя. Извини, Пит. Ты отлично дрался, но ты потерпел поражение, и я больше в этом не участвую.
Он вышел, и Ламонт остался один. Он сидел неподвижно, только его пальцы бесцельно барабанили и барабанили по столу. Где-то в глубинах Солнца протоны соединялись чуть более бурно, и с каждым мгновением это «чуть» увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось, приближая тот миг, когда хрупкое равновесие нарушится…
— И никто на Земле не успеет понять, что я был прав! — крикнул Ламонт и замигал, стараясь удержать слезы.
Часть II. …САМИ БОГИ
Глава 1а
Дуа легко ускользнула от остальных. Она всегда опасалась, что это вызовет неприятности, но почему-то всё обходилось благополучно. Более или менее.
А с другой стороны — что тут, собственно, такого? Ун, правда, возражал против этого со своим обычным высокомерием. «Не броди, — говорил он. — Ты же знаешь, как это раздражает Тритта». О своем раздражении он не упоминал — рационалы не сердятся из-за пустяков. И тем не менее он опекал Тритта почти так же заботливо, как Тритт опекал детей.
Правда, если она настаивает, Ун всегда позволяет ей делать то, что она хочет, и даже вступается за неё перед Триттом. Иногда он даже не скрывает, что гордится её способностями, её независимостью… «Как левник он вовсе не так уж плох», — подумала она с рассеянной нежностью.
Ладить с Триттом труднее, и он очень хмуро смотрит на неё, когда она бывает… ну, когда она бывает такой, какой ей хочется. Впрочем, правники иначе не могут. Для неё-то он, конечно, правник, но ведь он ещё и пестун, а потому дети заслоняют от него всё остальное. Это и к лучшему — в случае неприятностей всегда можно рассчитывать, что кто-нибудь из детей отвлечет его внимание.
Не то чтобы Дуа очень считалась с Триттом. Если бы не синтез, она бы, наверное, вообще его игнорировала. Другое дело Ун. Он сразу показался ей удивительно интересным: от одного его присутствия её очертания теряли чёткость и начинали мерцать. И то, что он рационал, делало его только ещё интереснее. Она не понимала почему. Но это тоже было одной из её странностей. Ну, она уже привыкла к своим странностям… почти привыкла.
Дуа вздохнула.
Когда она была ребенком и ещё ощущала себя законченной личностью, самодостаточным существом, а не частью триады, она осознавала эти странности гораздо острее. Потому что их подчеркивали другие. Даже такая мелочь, как выход на поверхность под вечер…
Как ей нравилась поверхность в вечерние часы! Остальные эмоционали пугались холода, сгущающихся теней — они коалесцировали, едва она начинала описывать свои впечатления. Сами они с удовольствием выходили в теплое время дня, расстилались и ели, но оттого-то она и не любила поверхность в дневные часы: их болтовня наводила на неё скуку.
Конечно, не есть она не могла, но насколько приятнее питаться по вечерам, когда еды, правда, очень мало, зато кругом всё тускло-багровое и она совсем-совсем одна! По правде сказать, в разговорах с другими эмоционалями она изображала поверхность куда более холодной и унылой, чем на самом деле, — просто чтобы посмотреть, как они, пытаясь вообразить подобный холод, становятся жесткими по краям — в той мере, конечно, в какой молодые эмоционали вообще способны обрести жесткость. Потом они начинали шептаться о ней, смеялись… и оставляли её в одиночестве.
Маленькое солнце уже почти достигло горизонта и тонуло в таинственной алости, которую, кроме неё, некому было видеть. Она разостлалась, утолщилась по спинно-вентральной оси и принялась поглощать слабую жиденькую теплоту, неторопливо её усваивая, смакуя чуть кисловатый, почти неуловимый вкус длинных волн. (Ни одной из знакомых ей эмоционалей этот вкус не нравился. Но не могла же она объяснить, что для неё он неразрывно связан со свободой — со свободой быть одной, без других.)
Даже сейчас пустынность, знобящий холод и глубокие багровые тона словно возвратили её в дни детства, когда она ещё не стала частью триады. И вдруг Дуа с поразительной ясностью словно вновь увидела перед собой своего собственного пестуна, который неуклюже выбирался на поверхность, мучимый вечными опасениями, что она причинит себе какой-нибудь вред.
С ней он был особенно заботлив — ведь пестуны всегда лелеют крошку-серединку даже больше, чем крошку-левого и крошку-правого. Её это раздражало, и она мечтала о том дне, когда он её покинет. Ведь со временем все пестуны обязательно исчезали — и как же она тосковала без него, когда этот день настал!
Он вышел на поверхность предупредить её — бережно и осторожно, хотя пестунам очень трудно облекать чувства в слова. В тот день она убежала от него — не потому, что хотела его подразнить, и не потому, что догадалась, о чём он хочет её предупредить, а просто ей было весело. Днём она отыскала удивительно удобное местечко далеко от других эмоционалей, наелась до отвала и испытала то щекотное чувство, которое требует разрядки в движениях и действиях. Она ползала по камням, запуская свои края в их поверхность. Она знала, что в её возрасте делать это стыдно, что так играют только малыши, но зато какое приятное ощущение — бодрящее и в то же время баюкающее!
И тут наконец пестун её нашёл. Он долго стоял возле неё и молчал, а глаза у него делались всё меньше и плотнее, точно он хотел задержать каждый лучик отражающегося от неё света, вобрать в них её образ и сохранить его навсегда.
Сначала она тоже смотрела на него — в смущении, думая, что он заметил, как она забиралась в камни, и что ему стыдно за её поведение. Но она не уловила излучения стыда и в конце концов спросила виновато:
«Ну что я сделала, папочка?»
«Дуа, время настало. Я ждал этого. И ты, наверное, тоже».
«Какое время?»
Она знала, но упрямо не хотела знать. Ведь если верить, что ничего нет, то, может быть, ничего и не будет. (Она до сих пор не избавилась от этой привычки. Ун говорил, что все эмоционали такие — снисходительным голосом рационала, сознающего своё превосходство.)
Пестун сказал:
«Я должен перейти. И больше меня с вами не будет».
А потом он только смотрел на неё, и она тоже молчала.
И ещё он сказал:
«Объясни остальным».
«Зачем?»
Дуа сердито отвернулась, её очертания расплылись, стали смутными, словно она старалась разредиться. Да она и старалась разредиться — совсем. Только, конечно, у неё ничего не получилось. Наконец ей стало больно, боль сменилась немотой, и она опять сконцентрировалась. А пестун, против обыкновения, не побранил её и не сказал даже, что неприлично так растягиваться — вдруг кто-нибудь увидит?
Она крикнула:
«Им ведь всё равно!» — и тут же ощутила, что пестуну больно. Он же по-прежнему называл их «крошка-левый» и «крошка-правый», хотя крошка-левый думал теперь только о занятиях, а крошке-правому не терпелось войти в триаду — ничем другим он больше не интересовался. Из них троих только она, Дуа, ещё чувствовала… Но ведь она была младшей, как и все эмоционали, и у эмоционалей всё происходило не так.
Пестун сказал только:
«Ты им всё-таки объясни».
И они продолжали смотреть друг на друга.
Ей не хотелось ничего им объяснять. Они стали почти чужими. Не то что в раннем детстве. Тогда они и сами с трудом разбирались, кто из них кто — левый брат, правый брат и сестра-серединка. Они были ещё прозрачными и разреженными — постоянно перепутывались, проползали друг сквозь друга и прятались в стенах. А взрослые и не думали их бранить.
Но потом братья стали плотными, серьёзными и больше не играли с ней. А когда она жаловалась пестуну, он ласково отвечал: «Ты уже большая, Дуа, и не должна теперь разреживаться».
Она не хотела слушать, но левый брат отодвигался и говорил: «Не приставай. Мне некогда с тобой возиться». А правый брат теперь всё время оставался совсем жестким и стал хмурым и молчаливым. Тогда она не могла понять, что с ними случилось, а пестун не умел объяснить. Он только повторял время от времени точно урок, который когда-то выучил наизусть: «Левые — рационалы, Дуа, правые — пестуны. Они взрослеют каждый по-своему, своим путем».
Но ей их пути не нравились. Они уже перестали быть детьми, а её детство ещё не кончилось, и она начала гулять вместе с другими эмоционалями. Они все одинаково жаловались на своих братьев. Все одинаково болтали о будущем вступлении в триаду. Все расстилались на солнце и ели. И с каждым днём сходство между ними росло, и каждый день они говорили одно и то же.
Они ей опротивели, и она начала искать одиночества, а они в отместку прозвали её «олевелая эм». (С тех пор как она в последний раз слышала эту дразнилку, прошло уже много времени, но стоило ей вспомнить, и она словно вновь слышала их жиденькие пронзительные голоски, твердившие: «Олевелая эм, олевелая эм!» Они дразнили её с тупым упоением, потому что знали, как это ей неприятно.)
Но её пестун оставался с ней прежним, хотя, наверное, замечал, что все над ней смеются. И неуклюже старался оберегать её от остальных. Он даже иногда выходил следом за ней на поверхность, хотя и чувствовал себя там очень тягостно. Но ему нужно было удостовериться, что с ней ничего не случилось.
Как-то раз она увидела, что он разговаривает с Жестким. Пестунам разговаривать с Жесткими было трудно — это она знала ещё совсем крошкой. Жесткие разговаривали только с рационалами.
Она перепугалась и отпульсировала, но всё-таки успела услышать, как её пестун сказал: «Я хорошо о ней забочусь, Жесткий-ру».
Неужели Жесткий спрашивал про неё? Может быть, про её странности? Но в её пестуне не ощущалось виноватости. Даже с Жестким он говорил про то, как он о ней заботится. И её охватила неясная гордость.
И вот теперь он прощался с ней, и внезапно независимость, которую Дуа так предвкушала, утратила свои манящие очертания и стала твёрдым пиком одиночества. Она сказала:
«Но почему ты должен перейти?»
«Должен, серединка моя».
Да, должен. Она это знала. И каждый рано или поздно должен перейти. Наступит день, когда и она, вздохнув, скажет: «Я должна».
«Но откуда ты знаешь, что время настало? Если ты можешь выбирать, так почему ты не хочешь назначить другое время и остаться подольше?»
Он ответил:
«Так решил твой левый породитель. Триада должна делать то, что он говорит».
Своего левого породителя и породительницу-середину она видела очень редко. Они были не в счёт. Ей нужны не они, а только правый породитель, её пестун, её папочка, такой кубический, с совсем ровными гранями. Ни плавных изгибов, как у рационалов, ни зыбкости эмоционалей — она всегда заранее знала, что он сейчас скажет. Ну, почти всегда.
И теперь он, конечно, ответит: «Этого я крошке-эмоционали объяснить не могу».
Так он и ответил.
Дуа сказала в порыве горя:
«Мне будет грустно без тебя. Я знаю, ты думаешь, что я тебя не слушаюсь, что ты мне не нравишься, оттого что не позволяешь мне ничего делать. Но уж лучше ты мне совсем ничего не позволяй. Я не буду злиться, только бы ты был со мной».
А пестун просто стоял и смотрел. Он не умел справляться с такими порывами и, приблизившись к ней, образовал руку. Было видно, как ему трудно. Но он, весь дрожа, продолжал удерживать руку, и её очертания стали мягкими — самую чуточку.
Дуа сказала: «Ой, папочка!» — и заструила свою руку вокруг, и сквозь её вещество его рука казалась зыбкой и мерцающей. Но Дуа была очень внимательна и не прикоснулась к нему — ведь ему это было бы неприятно.
Потом он убрал руку, и пальцы Дуа остались сомкнутыми вокруг пустоты. Он сказал:
«Вспомни про Жестких, Дуа. Они о тебе позаботятся. А мне… мне пора».
Он удалился, и больше она его никогда не видела.
И вот теперь она смотрела на закат, вспоминала и досадливо ощущала, что её долгое отсутствие уже сердит Тритта и скоро он примется ворчать на Уна.
После чего Ун примется растолковывать ей её обязанности…
Ну и пусть.
Глава 1б
Ун рассеянно ощущал, что Дуа бродит где-то по поверхности. При желании он мог бы сказать, в каком направлении она от него находится и даже на каком расстоянии. Впрочем, осознай он своё ощущение, он был бы недоволен, так как способность взаимно ощущать друг друга на расстоянии давно уже начала притупляться, и это было ему приятно, хотя он сам не понимал почему. Таков был естественный ход вещей — тело с возрастом продолжало развиваться.
У Тритта способность к взаимному ощущению на расстоянии не притупилась, но теперь она сосредоточивалась почти исключительно на детях. Развитие, безусловно, полезное, но, с другой стороны, роль пестуна, несмотря на свою бесспорную важность, в сущности, довольно проста. Рационалы куда сложнее, с грустной гордостью подумал Ун.
Вот Дуа, конечно, была настоящей загадкой. Она так мало походила на прочих эмоционалей. Тритта это сбивало с толку, и он всё больше замыкался в себе. Ун тоже порой испытывал недоумение и неловкость, но он, кроме того, ощущал ту особую силу, с какой Дуа индуцировала упоение жизнью, а одно, по всей видимости, было неотъемлемо от другого. И эта радость полностью искупала то раздражение, которое она иногда вызывала у него.
И возможно, странные привычки Дуа также являются необходимым компонентом целого. Она даже как будто интересует Жестких, а ведь обычно они обращают внимание только на рационалов. И вновь его охватила гордость: тем лучше для триады, если в ней незаурядна даже эмоциональ.
Всё идёт так, как должно идти. В этом заключалась основа, и он надеялся, что так будет до конца. Когда-нибудь он осознает, что настало время перейти, и тогда он не будет хотеть ничего другого. Так ему сказали Жесткие — они заверяли в этом всех рационалов, но добавили, что нужный момент ему точно укажет его внутреннее сознание. От них же он тут не должен ждать ни помощи, ни совета.
«Когда ты сам скажешь себе, — объяснял ему Лостен, медленно и внятно, как принято у Жестких, когда они говорят с Мягкими, словно подбирая понятия полегче, — что знаешь, почему ты должен перейти, тогда ты перейдешь, и твоя триада перейдёт вместе с тобой».
И Ун ответил:
«Сейчас мне не хотелось бы перейти, Жесткий-ру. Ещё столькому можно научиться».
«Разумеется, левый мой. Ты чувствуешь так, потому что ты ещё не готов».
Ун подумал тогда: «Но я ведь всегда буду чувствовать, что должен научиться ещё многому. Так как же я почувствую, что готов?»
Но вслух он этого не сказал. Он твёрдо знал, что поймет, когда время для этого настанет.
Он поглядел на себя и в забывчивости чуть было не выбросил глаз вперёд на придатке — даже самым зрелым рационалам бывают иногда свойственны чисто детские импульсы. А ведь это совершенно не нужно. Он способен ощущать себя не менее точно и тогда, когда его глаз плотно сидит на предназначенном для него месте. Он с удовольствием убедился, что в меру плотен — красивый чёткий абрис, ровные изгибы закругляются в изящно сопряженные овоиды.
Его тело не обладало ни загадочно пленительным мерцанием, как у Дуа, ни приятной кубичностью Тритта. Он любит их обоих, но не стал бы меняться с ними внешностью. И уж конечно, разумом. Естественно, вслух он этого никогда не скажет — зачем обижать их? — но он каждый день радуется, что на его долю не выпали ни ограниченное сознание Тритта, ни — тем более! — прихотливость мыслительных процессов Дуа. Впрочем, их, вероятно, не огорчают недостатки подобных типов мышления — ведь они ничего другого и не знают.
Он вновь смутно ощутил далекое присутствие Дуа и сознательно погасил это ощущение. Сейчас его к ней не влекло. Не то чтобы он нуждался в ней меньше обычного, но просто другие интересы были сильнее. Созревание рационала проявляется именно в том, что он получает всё больше и больше удовольствия от чисто интеллектуальных занятий наедине с самим собой или в обществе Жестких.
Он постепенно привыкал к Жестким, всё сильнее привязывался в ним. Он чувствовал, что так и должно быть: ведь он — рационал, а Жесткие в известном смысле — сверхрационалы. (Он как-то сказал об этом Лостену, самому внимательному из Жестких и, как ему почему-то казалось, самому молодому. Лостен излучил веселость, но промолчал. Но ведь это же означало, что он не сказал «нет»!)
Жесткие всегда были рядом с тех пор, как Ун помнил себя. Его пестун почти всё своё внимание и время отдавал последнему ребенку — крошке-эмоционали. Это было вполне естественно. То же произойдёт и с Триттом, когда отпочкуется их последний ребенок — если только это когда-нибудь случится. (Ун заимствовал такое уточнение от Тритта, который теперь постоянно повторял это «если», чтобы упрекнуть Дуа.)
Но так вышло даже лучше. Пестун был всё время занят, и Ун получил возможность начать образование сравнительно рано. К тому времени, когда произошла их встреча с Триттом, он уже почти избавился от детских привычек и успел узнать очень многое.
И всё-таки их встреча, наверное, навсегда сохранится в его памяти. Словно бы она произошла вчера и они не прожили с тех пор ещё такой же срок. Разумеется, он видел пестунов своего поколения, но, собственно говоря, пестунами они становились, только когда начинали взращивать первого ребенка, а до этого однозначность их мышления была далеко не такой явной. Совсем маленьким он играл со своим правым братом и не замечал никаких различий в их интеллектах (хотя различия существовали уже тогда — теперь, вспоминая, он это ясно видел).
Он примерно представлял себе и роль пестуна в триаде, потому что, конечно, ещё в детстве слышал про синтез.
Но когда появился Тритт, когда Ун увидел его в первый раз, всё изменилось. Впервые в жизни он ощутил какую-то особую внутреннюю теплоту и интерес к чему-то помимо мыслительных процессов и приобретения знаний. Он хорошо помнил, как его смутила эта потребность в другом существе.
Тритт, конечно, воспринял их встречу как нечто само собой разумеющееся. Пестуны ведь твёрдо чувствуют, что их назначение — быть основой триады, а потому не испытывают ни смущения, ни застенчивости. Как, впрочем, и эмоционали. Какую-то сложность это представляет только для рационалов.
«Вы, рационалы, слишком много думаете», — сказал Жесткий, которому Ун изложил свои сомнения. Но такой ответ только ещё больше запутал Уна — разве можно «думать слишком много»?
Тритт, когда они встретились, тоже только-только простился с детством и ещё плохо умел замыкаться в себе — от радости он стал по краям совсем прозрачным, и такое неумение вести себя даже шокировало Уна. Чтобы рассеять неловкость, он спросил:
«Мы ведь прежде не встречались, правый?»
«Я тут прежде никогда не бывал. Меня сюда привели», — ответил Тритт.
Оба они прекрасно знали, что произошло: их встречу устроили нарочно. Кто-то (пестун, думал Ун тогда, но позже он понял, что это был один из Жестких) решил, что они подойдут друг другу, — и не ошибся.
Интеллектуальной близости между ними, конечно, не было. Да и откуда? Ведь Ун стремился учиться, стремился постигать как можно больше нового — это было для него главным и, если не считать триады, единственным, что занимало все его помыслы. Тритт же вообще не понимал, что значит «учиться». Всё, что Тритт знал, он знал изнутри, и не мог этому ни научиться, ни разучиться.
В те первые дни Ун, с упоением впитывая сведения об их мире, о его Солнце, об истории и устройстве жизни, обо всех «о», какие только существовали во вселенной, не выдерживал и начинал рассказывать о них Тритту.
Тритт слушал безмятежно, явно ничего не понимая, но ему нравилось слушать, а Уну нравилось излагать свои знания, хотя бы и впустую.
Но именно Тритт, подчиняясь заложенной в нём потребности, бессознательно стал организующим началом триады. Ун прекрасно помнил тот полдень, когда после краткого обеда принялся было сообщать Тритту сведения, которые узнал за утро. (Их более плотное вещество поглощало пищу так быстро, что им достаточно было просто прогуляться на солнце, тогда как эмоционали грелись в его лучах часами, свертывались и разреживались, словно нарочно стараясь затянуть этот процесс.)
Ун, попросту не замечавший эмоционалей, говорил так, как будто кругом никого не было, но Тритт, который прежде только молча смотрел на них, теперь вдруг утратил обычную невозмутимость.
Неожиданно он приблизился к Уну почти вплотную и выбросил протуберанец с такой поспешностью, что это оскорбило чувство формы, присущее Уну как всякому рационалу. Ун как раз впивал на десерт теплый ветерок, и небольшой участок его верхнего овоида замерцал. Тритт с видимым усилием уменьшил плотность протуберанца и приложил его к мерцающему пятну, заполняя пустоты там, где верхний слой оболочки Уна был разрежен. Ун с неудовольствием отстранился. Эти детские игры были ниже его достоинства.
«Не надо, Тритт», — сказал он раздраженно.
Тритт недоуменно помахал протуберанцем.
«Но почему?»
Ун уплотнился, как мог, стараясь сделать оболочку совсем жесткой.
«Я не хочу».
«А что тут такого?» — продолжал недоумевать Тритт.
Ун сказал первое, что пришло ему на ум: «Мне больно». (Собственно говоря, что было не так. Во всяком случае, не физически. Но ведь Жесткие всегда старались избегать прикосновения Мягких. Случайное взаимопроникновение оболочек причиняло им сильную боль. Правда, если быть честным до конца, строение Жестких заметно отличается от строения Мягких. Они попросту совсем другие.)
Тритт не поверил. Он инстинктивно знал, что тоже ощутил бы эту боль, а потому сказал обиженно:
«Не обманывай!»
«Видишь ли, для синтеза нужна ещё эмоциональ».
И Тритт сказал:
«Так давай подыщем себе эмоциональ».
Давай подыщем! Прямолинейность Тритта была поразительной. Ну, как ему объяснить, что на всё есть свой порядок?
«Это не так просто, правник мой», — начал он мягко.
Но Тритт нетерпеливо перебил:
«Пусть её найдут Жесткие. Ты ведь с ними дружишь. Ну, так попроси их».
Ун пришёл в ужас.
«Я не могу, пойми же! Время ещё не настало, — продолжал он, бессознательно переходя на поучающий тон. — Не то я бы об этом знал. А пока время не настанет…»
Тритт не слушал.
«Тогда я попрошу!»
«Нет! — Ун совсем растерялся. — Ты в это не вмешивайся. Говорят же тебе, время ещё не настало. Мне надо думать об образовании. Очень легко быть пестуном и ничему не учиться, но…»
Он тут же пожалел о своих словах, да к тому же они были ложью. Просто он старался избегать всего, что могло бы оказаться неприятным для Жестких и испортить их хорошее отношение к нему. Но Тритт нисколько не обиделся, и Ун тут же сообразил, что пестун не видит ничего заманчивого и почетного в способности учиться, а потому даже не заметил его упрека.
С тех пор Тритт всё чаще и чаще заговаривал об эмоционали. Каждый раз Ун с ещё большей самозабвенностью погружался в занятия, стараясь уйти от разрешения этой проблемы.
И всё-таки он порой с трудом удерживался, чтобы не заговорить о ней с Лостеном.
Лостена он знал лучше и ближе всех остальных Жестких, потому что Лостен специально им интересовался. Жестким была свойственна удручающая одинаковость — они не изменялись, никогда не изменялись. Их форма была зафиксирована раз и навсегда. Глаза у них находились всегда на одном и том же месте, и место это у них у всех было одним и тем же. Их оболочка была не то чтобы действительно жесткой, но она никогда не приобретала прозрачности, никогда не мерцала, не утрачивала чёткости и не обладала проникающими свойствами.
Они были не намного крупнее Мягких, но зато гораздо тяжелее. Их вещество было значительно более плотным, и они всячески остерегались соприкосновения с разреженными тканями Мягких.
Как-то раз, когда Ун был совсем ещё крошкой и его тело струилось с такой же лёгкостью, как тело его сестры, к нему приблизился Жесткий.
Он так никогда и не узнал, кто именно это был, но — как ему стало ясно позднее — крошки-рационалы вызывали большой интерес у всех Жестких. Ун тогда потянулся к Жесткому — просто из любопытства. Жесткий еле успел отскочить, а потом пестун выбранил Уна за то, что он хотел прикоснуться к Жесткому.
Выговор был таким строгим, что Ун запомнил его навсегда. Став старше, он узнал, что атомы в тканях Жестких расположены очень тесно и поэтому Жесткие испытывают боль даже от самого легкого соприкосновения с тканями Мягких. А уж о проникновении и говорить не приходилось. Ун подумал тогда, что и Мягким, возможно, становится при этом больно. Но потом другой юный рационал рассказал ему, как случайно столкнулся с Жестким. Жесткий перегнулся пополам, а он ничего не почувствовал — ну прямо ничегошеньки. Однако Ун заподозрил, что его приятель хвастает.
Были и другие запреты. В детстве он любил ползать по стенам пещеры — когда он проникал в камень, ему становилось тепло и приятно. Это было обычным развлечением всех крошек. Но когда он подрос, это перестало у него получаться с прежней лёгкостью. Правда, он ещё мог разреживать оболочку и почесывать её внутри камней, но как-то его застал за этим занятием пестун, и ему снова влетело. Он заспорил: ведь сестра только и делает, что лазает в стены, он сам видел!
«Ей можно, — сказал пестун. — Она ведь эмоциональ».
В другой раз Ун, поглощая учебную запись (он тогда уже сильно вырос), машинально выбросил парочку протуберанцев с такими разреженными краями, что их можно было протаскивать друг сквозь друга. Это было забавно и помогало слушать, но пестун увидел и… Ун даже теперь поежился, вспомнив, как он его стыдил за такие детские шалости.
Про синтез он тогда ничего толком не знал. Он учился, он вбирал в себя массу сведений, но они не имели никакого отношения к назначению и смыслу триады. Тритту тоже никто ничего не объяснял, но он был пестун, и знания ему заменял инстинкт. Ну, разумеется, когда наконец появилась Дуа, всё стало ясно само собой, хотя она, по-видимому, знала обо всём этом даже меньше, чем сам Ун.
А в том, что она появилась, заслуги Уна не было никакой. Всё сделал Тритт — Тритт, который так боялся Жестких, что всегда старательно избегал встречи с ними, Тритт, который во всём остальном был так покладист и уступчив, Тритт, который вдруг оказался способным упрямо настаивать на своем… Тритт… Тритт… Тритт…
Ун вздохнул. Тритт вторгся в его мысли потому, что был уже близко. Он ощутил, что Тритт раздражен, и понял, что Тритт снова будет требовать, требовать, требовать… Последнее время Ун всё чаще с горечью замечал, что почти не бывает свободен от посторонних забот. А ведь именно сейчас ему, как никогда прежде, нужно было сосредоточиться, разобраться в своих мыслях…
— Ну, что тебе, Тритт? — спросил он.
Глава 1в
Тритт осознавал свою кубичность. Но не думал, что она безобразна. Он вообще не задумывался о форме своего тела. А если бы вдруг и задумался, то решил бы, что она прекрасна. Его тело отвечало своему назначению, и отвечало наилучшим образом.
Он спросил:
— Ун, где Дуа?
— Где-то снаружи, — промямлил Ун, словно ему было всё равно. Тритту стало обидно, что судьба триады заботит только его одного. С Дуа нет никакого сладу, а Уну всё равно.
— Почему ты её отпустил?
— А как я мог её остановить? И что тут плохого, Тритт?
— Ты сам знаешь, что. Двое крошек у нас есть. Но что толку без третьей? А в нынешние времена взрастить крошку-серединку очень трудно. Она не отпочкуется, если Дуа будет мало есть. А она опять где-то бродит на закате. Разве на закате можно наесться досыта?
— Она просто не любит есть много.
— А мы просто останемся без крошки-серединки. Ун! — Голос Тритта стал вкрадчивым. — Ведь без Дуа настоящего синтеза быть не может. Ты же сам говорил!
— Ну довольно! — буркнул Ун, и Тритт, по обыкновению, не понял, почему Уна так раздражает упоминание о самых простых и житейских вещах. Но он не отступал.
— Не забывай, это я раздобыл Дуа!
Но, может быть, Ун и вправду не помнит? Может быть, Ун вообще не думает о триаде и о том, как она важна? Порой Тритт испытывал такую безнадёжность, что просто готов был… готов был… Собственно говоря, он не представлял, что мог бы сделать, и чувствовал только тупую безнадёжность. Как в те далекие дни, когда им пора было получить эмоциональ, а Ун ничего не хотел делать.
Тритт знал, что не умеет говорить длинно и запутанно. Но если у пестунов нет дара речи, они зато умеют думать! И думают о том, что по-настоящему важно. Вот Ун всегда толкует про атомы и энергию. Будто они кому-нибудь нужны — эти его атомы и энергия! Ну а Тритт думает о триаде и о детях.
Ун как-то упомянул, что Мягких постепенно становится всё меньше и меньше. Неужели это его не заботит? Неужели и Жестких это тоже не заботит? Неужели это заботит только одних пестунов?
Всего лишь две формы жизни во всём мире — Мягкие и Жесткие. А пища падает с неба вместе с солнечными лучами.
Ун однажды сказал, что Солнце остывает. Пищи становится меньше, сказал он, а потому сокращается и число людей. Тритт этому не поверил. Солнце ни чуточки не остыло с того времени, как он был крошкой. Просто людей перестала заботить судьба триад. Слишком много развелось поглощенных своим учением рационалов и глупых эмоционалей.
Лучше бы Мягкие занялись тем, что по-настоящему важно. Вот как Тритт. Он занимается триадой. Отпочковался крошка-левый, потом крошка-правый. Дети растут и крепнут. Но необходима ещё крошка-серединка. А её взрастить труднее всего. Но без неё не сможет образоваться новая триада!
Почему Дуа стала такой? С ней всегда было трудно, но всё-таки не так, как теперь.
Тритт ощутил смутную злость на Уна. Ун говорит и говорит всякие жесткие слова, а Дуа слушает. Ведь Ун готов без конца разговаривать с Дуа, точно она — рационал. А для триады это вредно.
Ун-то мог бы это сообразить!
Одному Тритту не всё равно. И всегда Тритту приходится делать то, что необходимо сделать. Ун подружился с Жесткими, но он и не подумал с ними поговорить. Им нужна эмоциональ, а Ун ничего про это не говорил. Он разговаривал с Жесткими про энергию, а про то, в чём нуждалась триада, молчал.
Это он, Тритт, всё устроил! И Тритт с гордостью вспомнил, как всё произошло. Он увидел, что Ун разговаривает с Жестким, направился прямо к ним, без всякой дрожи перебил их и заявил твёрдым голосом:
«Нам нужна эмоциональ».
Жесткий повернулся и посмотрел на него. Тритт ещё ни разу в жизни не видел Жесткого так близко. Он был весь цельный — когда одна его часть поворачивалась, с ней поворачивались и все остальные. У него были протуберанцы, которые могли двигаться самостоятельно, но при этом они не меняли своей формы. Жесткие никогда не струились, они были несимметричны и неприятны на вид. И уклонялись от прикосновений.
Жесткий сказал:
«Это верно, Ун?»
С Триттом он говорить не стал.
Ун распластался. Распластался над самой поверхностью камней. Таким распластанным Тритт его ещё никогда не видел. Он сказал:
«Мой правник излишне ревностен. Мой правник… он… он…»
Тут Ун начал заикаться, раздуваться и не мог дальше говорить.
А Тритт говорить мог. Он сказал:
«Без эмоционали мы не можем синтезироваться».
Тритт знал, что Ун онемел от смущения, но ему было всё равно. Время пришло.
«А ты, левый мой, — сказал Жесткий, по-прежнему обращаясь только к Уну, — ты тоже так считаешь?»
Жесткие говорили почти как Мягкие, но гораздо более резко, почти без переходов. Их было трудно слушать. То есть ему, Тритту. А Ун будто привык, и ему слушать было нетрудно.
«Да», — промямлил наконец Ун.
Только тут Жесткий повернулся к Тритту.
«Напомни мне, юный правый, как давно ты знаком с Уном?»
«Достаточно давно, чтобы подумать об эмоционали, — сказал Тритт. Он старательно удерживал все свои грани и углы. Он не позволял себе бояться — слишком важной была его цель. — И меня зовут Тритт», — добавил он.
Жесткому как будто стало весело.
«Да, выбор оказался неплохим. Вы с Уном очень друг другу подходите, но тем труднее выбрать для вас эмоциональ. Впрочем, мы почти уже решили. То есть я решил, и уже давно, однако надо убедить других. Наберись терпения, Тритт».
«Всё моё терпение кончилось».
«Я знаю. И всё-таки подожди». — Жесткий опять говорил так, словно ему было весело.
Когда Жесткий оставил их вдвоем, Ун округлился и стал гневно разреживаться. Он сказал:
«Тритт, как ты мог? Ты знаешь, кто это?»
«Ну, Жесткий».
«Это Лостен. Мой специальный руководитель. Я не хочу, чтобы он на меня сердился».
«А чего ему сердиться? Я говорил вежливо».
«Ну, неважно». — Ун уже почти принял нормальную форму.
Значит, он перестал злиться. Тритт почувствовал большое облегчение, хотя и постарался это скрыть. А Ун тем временем продолжал:
«Это же очень неловко, когда мой дурак правый вдруг подходит и начинает разговаривать с моим Жестким».
«А почему ты сам не захотел?»
«Всему есть своё время».
«Только почему-то для тебя оно никогда своим не бывает».
Но потом они помирились и перестали спорить. А вскоре появилась Дуа.
Её привёл Лостен. Тритт этого не заметил. Он не смотрел на Жесткого, он видел только Дуа. Но после Ун объяснил ему, что её привёл Лостен.
«Вот видишь! — сказал Тритт. — Я с ним поговорил, потому он её привёл».
«Нет, — ответил Ун. — Просто наступило время. Он всё равно привёл бы её. Даже если бы ни ты, ни я ничего ему не сказали».
Тритт ему не поверил. Он твёрдо знал, что они получили Дуа только благодаря ему.
И конечно, второй такой Дуа в мире быть не могло! Тритт видел много эмоционалей. Они все были привлекательны, и он обрадовался бы любой из них. Но, увидев Дуа, он понял, что никакая другая эмоциональ им не подошла бы. Только Дуа. Одна только Дуа.
И Дуа знала, что ей полагается делать. Совершенно точно знала. А ведь ей никто ничего не показывал, говорила она им потом. И ничего не объяснял. Даже другие эмоционали, потому что она старалась держаться от них подальше.
И всё-таки, когда они все трое оказались вместе, каждый знал, что ему надо делать.
Дуа начала разреживаться. Тритту ещё не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так разреживался. Он даже не представлял себе, что подобное разрежение возможно. Она превратилась в сверкающую цветную дымку, которая заполнила всё вокруг. Он был ослеплен. Он двигался, не сознавая, что движется. Он погрузился в туман, который был Дуа.
Это совсем не походило на погружение в камни. Тритт не чувствовал никакого сопротивления или трения. Он словно парил. Он осознал, что тоже начинает разреживаться — легко, без тех отчаянных усилий, которых это обычно требовало. Теперь, когда Дуа пронизывала его всего, он в свою очередь без малейшего напряжения рассеялся в густой дым. Ему казалось, что он струится, исчезая и растворяясь в радости.
Смутно он увидел, что с другой, левой, стороны приближается Ун, тоже расходясь дымом.
Затем он соприкоснулся с Уном, смешался с ним. Он перестал чувствовать, перестал сознавать. Он не понимал — он ли окружает Уна, Ун ли окружает его. А может быть, они окружали друг друга или были раздельны.
Все растворилось в чистой радости бытия.
Она заслонила и смела чувства и сознание.
Потом они опять стали каждый сам по себе. Синтез длился много суток. Так полагалось. И чем полнее он был, тем больше времени занимал. Но для них всё исчерпывалось кратким мгновением. И память не сохраняла ничего.
Ун сказал:
«Это было чудесно».
А Тритт молчал и смотрел на Дуа.
Она коалесцировала, закручивала спирали, подергивалась. Из них троих только она, казалось, никак не могла прийти в себя.
«После, — сказала она торопливо. — Всё после. А сейчас отпустите меня».
И она кинулась прочь. Они её не остановили. Потрясение ещё не прошло. Но так продолжалось и дальше. После синтеза она всегда исчезала. Каким бы полным он ни оказался. Словно у неё была потребность в одиночестве.
Это беспокоило Тритта. Он замечал в ней всё новые и новые отличия от прочих эмоционалей. А надо бы наоборот: ей следовало во всём походить на них.
Ун придерживался другого мнения. Он много раз повторял: «Ну почему ты не оставишь её в покое, Тритт? Она не такая, как все остальные, но это потому, что она лучше остальных. С кем ещё мы могли бы получить такой полный синтез? А ничто хорошее даром не даётся».
Тритт не понял, но не стал в этом разбираться. Он знал только, что ей следует вести себя так, как полагается. Он сказал:
«Я хочу, чтобы она поступала правильно».
«Я понимаю, Тритт. Я понимаю. Но всё-таки оставь её в покое».
Сам Ун часто бранил Дуа за её странные привычки, а Тритту этого делать не позволял.
«У тебя нет такта, Тритт», — объяснил он.
Но Тритт не знал толком, что такое такт.
И вот теперь… С момента первого синтеза прошло очень много времени, а крошки-эмоционали у них всё нет и нет. Сколько ещё можно ждать? И так уж они это слишком затянули. А Дуа только всё больше и больше времени проводит в одиночестве.
Тритт сказал:
— Она слишком мало ест.
— Когда настанет время… — начал Ун.
— Ты только и знаешь, что говоришь: «настанет время, не настанет время». Если на то пошло, ты ведь так и не выбрал времени, чтобы раздобыть нам Дуа. А теперь у тебя всё не время для крошки-эмоционали. Дуа должна…
Но Ун отвернулся. Потом сказал:
— Она на поверхности, Тритт. Если ты хочешь отправиться за ней, точно ты её пестун, а не правник, так и отправляйся. Но я говорю: оставь её в покое.
Тритт попятился. Он хотел бы многое сказать, только не знал как.
Глава 2а
Дуа смутно улавливала, что её левник и правник волнуются и препираются из-за неё, но это только усилило её возмущение.
Если кто-нибудь из них явится за ней сюда (возможно даже, они поднимутся оба), всё завершится синтезом, а самая мысль об этом выводила её из себя. Для Тритта важны только дети — уже отпочковавшиеся, и главное, их сестра, которой ещё нет. А Тритт умеет поставить на своем. Заупрямившись, он подчиняет себе триаду. Уцепится за какую-ни-будь примитивную идею и будет требовать и требовать, пока Ун и Дуа не уступят. Но на этот раз она не уступит. Ни за что…
И ей не стыдно. Ничуть не стыдно! Ун и Тритт гораздо ближе между собой, чем с ней. Она способна разреживаться сама, а они — только благодаря её посредничеству (уж из-за одного этого они могли бы больше с ней считаться!). Тройственный синтез вызывает приятное ощущение, было бы глупо это оспаривать. Но она испытывает почти то же, когда проникает в каменные стены… уж от себя-то она скрывать не будет, что иногда тайком это проделывает. Ну а Тритт и Ун давно утратили это умение, и, кроме синтеза, у них других радостей нет.
Впрочем, это не совсем так. Ун утверждает, что приобретение знаний, или, как он выражается, «интеллектуальное развитие», — огромная радость. И она сама, Дуа, испытывала нечто подобное. Во всяком случае, настолько, что может об этом судить. Хотя удовольствие получаешь не такое, как при синтезе, но по-своему оно ничуть не меньше, и Ун предпочитает его всему на свете.
А вот у Тритта всё иначе. У него нет других радостей, кроме синтеза и детей. Никаких. И когда он начинает настаивать со всем упрямством глупости, Ун уступает, и она, Дуа, тоже вынуждена уступать.
Как-то раз она взбунтовалась:
«Но что происходит, когда мы синтезируемся? Ведь мы вновь становимся самими собой только через много часов, а то и дней. Что происходит за это время?»
Тритт был шокирован.
«Так было всегда. Иначе не бывает».
Ун смутился. Он с утра до ночи только и делает, что смущается.
«Видишь ли, Дуа, это необходимо. Из-за… из-за детей».
Выговаривая последнее слово, он запульсировал.
«Почему ты пульсируешь? — резко сказала Дуа. — Мы давно взрослые, мы синтезировались уж не знаю сколько раз, и нам всем известно, что без этого нельзя взрастить детей. Ну и говорил бы прямо. Только я ведь спрашивала о другом: почему синтез занимает столько времени?»
«Потому что это сложный процесс, — ответил Ун, всё ещё пульсируя. — Потому что он требует значительной энергии. Дуа, образование детской почки продолжается очень долго, и ведь почка далеко не всегда завязывается. А условия непрерывно ухудшаются… И не только для нас», — добавил он поспешно.
«Ухудшаются?» — тревожно переспросил Тритт. Но Ун больше ничего не сказал.
Со временем они взрастили ребенка — крошку-рационала, левульку, который так клубился и разреживался, что все трое прямо мерцали от умиления, и даже Ун брал его в ладони и позволял ему менять форму, пока Тритт наконец не вмешивался и не отбирал малыша. Ведь именно Тритт хранил его в своей инкубаторной сумке весь период формирования. От Тритта он отпочковался, когда обрел самостоятельность. И Тритт же продолжал его опекать.
После рождения крошки-левого Тритт начал бывать с ними гораздо реже. И Дуа радовалась, не вполне понимая почему. Одержимость Тритта её раздражала, но одержимость Уна, как ни странно, была ей приятна. Она всё более чётко ощущала его… его важность. В рационалах было что-то такое, что давало им возможность отвечать на вопросы, а ей всё время хотелось спрашивать его то об одном, то о другом. И она скоро заметила, что он отвечает охотнее, когда Тритта рядом нет.
«Но почему это занимает столько времени, Ун? Мы синтезируемся, а потом не знаем, что происходило в течение нескольких суток. Мне это не нравится».
«Ведь нам ничего не грозит, Дуа, — убеждал её Ун. — Подумай сама — с нами никогда ничего не случалось, верно? И ты ни разу не слышала, чтобы с какой-нибудь другой триадой случалось несчастье, верно? Да и вообще тебе не следует задавать вопросов».
«Потому что я эмоциональ? Потому что другие эмоционали вопросов не задают? Ну так, если хочешь знать, я других эмоционалей терпеть не могу. А вопросы задавать буду!»
Она чётко ощущала, что Ун смотрит на неё так, словно в жизни не видел никого прекраснее, и из чистого кокетства начала чуточку разреживаться — самую чуточку.
Ун сказал:
«Но ты ведь вряд ли сумеешь понять, Дуа. Для того чтобы вспыхнула новая искра жизни, требуется огромное количество энергии».
«Вот ты всегда говоришь про энергию. А что это такое? Объясни, но поточнее».
«Ну, это то, что мы едим».
«А почему же ты тогда не скажешь просто — «пища»?»
«Потому что пища и энергия — не совсем одно и то же. Наша пища поступает от Солнца — это один вид энергии. Но существуют и другие виды, которые в пищу не годятся. Когда мы едим, мы расстилаемся и поглощаем свет. Для эмоционалей это особенно трудно, потому что они очень прозрачные. То есть свет проходит сквозь них и не поглощается».
Как чудесно узнать, в чём тут дело, думала Дуа. Собственно, она всё это знала, но не знала нужных слов — умных жестких слов, которыми пользовался Ун. А благодаря им всё, что происходило, становилось более чётким и осмысленным.
Теперь, когда она стала взрослой и больше не боялась дразнилок, когда ей выпала честь войти в триаду Уна, Дуа порой присоединялась к другим эмоционалям, стараясь не обращать внимания на болтовню и скученность. Ведь время от времени ей всё-таки хотелось поесть поплотнее, чем обычно, да и синтез после этого проходил удачнее. К тому же она иногда почти разделяла блаженную радость остальных эмоционалей, улавливая то удовольствие, которое они получали, выгибаясь и растягиваясь под солнечными лучами, томно утолщаясь и сжимаясь, чтобы стать как можно более плотными и эффективнее поглощать теплоту.
Но для Дуа вполне достаточно было незначительной доли того, что поглощали другие, словно были не в силах насытиться. Они как-то по-особому жадно подергивались, а Дуа этого не умела, и ей становилось невыносимо наблюдать такое чудовищное обжорство.
Так вот почему рационалы и пестуны столь мало задерживаются на поверхности. Их толщина позволяет им быстро насытиться и вернуться в пещеры. Эмоционали же извиваются на солнце часами — ведь едят они дольше, а энергии им требуется больше (во всяком случае, для синтеза).
Эмоциональ обеспечивает энергию, объяснял Ун (пульсируя так, что его сигналы стали почти невнятными), рационал — почку, а пестун — инкубаторную сумку.
После того как Дуа узнала всё это, ей стало понятней, почему Тритт так злится, когда она спускается к ним по-прежнему прозрачная, а не матово клубясь от пресыщения. Но почему, собственно, они должны быть недовольны? Разреженность, которую она сохраняет, только придаёт синтезу особую прелесть. Другие триады, должно быть, захлебываются энергией, просто чавкают, но ведь и в лёгкости и воздушности, конечно, тоже есть своё неповторимое очарование. И ведь крошка-левый и крошка-правый отпочковались, как им положено, разве нет?
Но конечно, крошка-эмоциональ, сестра-серединка, требовала куда больше энергии, и Дуа никак не могла накопить её достаточно.
Даже Ун начал заговаривать об этом:
«Ты поглощаешь слишком мало солнечного света, Дуа».
«Больше, чем нужно», — поспешно сказала Дуа.
«Триада Гении только что отпочковала эмоциональ».
Дуа недолюбливала Гению. Она её никогда не любила. Гения была дурочкой даже по нормам эмоционалей. И Дуа сказала высокомерно:
«А, так, значит, она этим хвастает? В ней нет ни малейшей деликатности. Уж конечно, она шепчет всем, кто только готов слушать: «Я знаю, милочка, об этом вслух не говорят, но мой левник и мой правник, ты только представь себе…» — Дуа воспроизвела трепетные верещащие сигналы Гении с такой убийственной точностью, что Ун излучал веселость.
И тем не менее он сказал:
«Пусть Гения пустышка, но она взрастила эмоциональ, и Тритт очень расстроен. Мы образовали триаду раньше их…»
Дуа отвернулась.
«Я поглощаю столько солнца, сколько могу выдержать. Я питаюсь, пока не теряю способности двигаться. Не понимаю, чего вы от меня хотите».
«Не сердись, — сказал Ун. — Я обещал Тритту поговорить с тобой. Он думает, что ты меня послушаешься».
«А, Тритт просто считает странным, что ты рассказываешь мне про науку. Он не понимает… Или ты хотел бы, чтобы у вас была середина такая же, как в остальных триадах?»
«Нет, — ответил Ун твёрдо. — Ты не похожа на других, и я этому рад. А если тебя интересует наука, то позволь, я тебе ещё кое-что объясню. Солнце даёт теперь меньше пищи, чем в древние времена. Световой энергии становится всё меньше, и впитывать её приходится много дольше. Рождаемость снижается из века в век, и население мира уменьшилось по сравнению с прошлым во много раз».
«Я тут ничем помочь не могу!» — сердито сказала Дуа.
«Зато Жесткие как будто могут. Их численность также сокращается…»
«А они тоже переходят?» — Дуа вдруг почувствовала, что это ей интересно. Почему-то ей всегда казалось, что Жесткие бессмертны — что они не рождаются и не умирают. Кто, например, хоть раз видел крошку-Жесткого? У них не бывает детей. Они не синтезируются. Они не едят.
Ун ответил задумчиво:
«Мне кажется, они переходят. Но о себе они со мной не разговаривают. Я даже не знаю точно, как они едят. Но есть они, конечно, должны. И они рождаются. Вот сейчас, например, среди них появился новый. Я его ещё не видел… Ну, да дело не в этом. Видишь ли, они пытаются создать искусственную пищу…»
«Знаю, — сказала Дуа. — Я её пробовала».
«Как? А я ничего об этом не слышал!»
«О ней болтала компания эмоционалей. Они слышали, что Жесткие ищут желающих её попробовать, и все боялись, идиотки. Говорили, что от неё можно навсегда стать жесткой, разучиться синтезироваться».
«Какие глупости!» — раздраженно перебил Ун.
«Конечно. И я вызвалась попробовать. Тут уж им пришлось замолчать. С ними не хватит никакого терпения, Ун».
«Ну, как тебе показалась новая пища?»
«Мерзость, — резко сказала Дуа. — Грубая и горькая. Конечно, другим эмоционалям я про это не сказала».
«Я её пробовал, — заметил Ун. — И право, она всё-таки не настолько плоха».
«Рационалы и пестуны не обращают внимания на вкус пищи».
Но Ун продолжал:
«Это ведь только первые попытки. Жесткие сейчас напряженно работают над её улучшением. И особенно Эстуолд — тот новый, о котором я упоминал, тот, которого я ещё не видел. Судя по словам Лостена, таких Жестких, как он, ещё никогда не бывало. Гениальный учёный».
«А почему же ты его не видел?»
«Но ведь я просто Мягкий. Или, по-твоему, они мне обо всём говорят и всё показывают? Наверное, когда-нибудь я его увижу. Он открыл новый источник энергии, который может нас спасти…»
«Мне искусственная пища не нравится», — вдруг заявила Дуа и заструилась прочь.
Разговор этот происходил не так давно, и, хотя с тех пор Ун ни разу не упоминал про Эстуолда, она знала, что скоро опять о нём услышит, и теперь на закате тревожно размышляла о будущем.
Она видела искусственную пищу один-единственный раз — светящийся шар, что-то вроде маленького Солнца в особой пещере, отведенной для него Жесткими. Дуа вновь ощутила горечь этой пищи.
А если они её улучшат? Сделают приятной? Или даже восхитительной? Тогда ей придётся есть до полного насыщения, и её охватит желание разреживаться…
Она страшилась этого самопроизвольного импульса к разреживанию. Он не был похож на чувство, которое заставляло её разреживаться, чтобы мог осуществиться синтез лев-ника и правника. Такое самопроизвольное разреживание покажет, что она готова к взращиванию крошки-серединки. А она… она не хочет этого!
Она далеко не сразу сказала правду даже себе. Она не хочет взращивать эмоциональ! Ведь после рождения троих детей неизбежно наступит время перехода, а она не хочет переходить. Ей вспомнился день, когда её пестун навсегда её покинул. Нет, с ней так не будет! Она была полна яростной решимости.
Остальные эмоционали ни о чём подобном не задумывались. Ведь они — пустышки, совсем не такие, как она. Как она — чудачка Дуа, олевелая эм. Так они её прозвали, ну, она и будет такой! До тех пор пока она не отпочкует третьего ребенка, она не перейдёт, она останется жить.
А потому третьего ребенка не будет. Никогда. Никогда!
Но как это устроить? Как помешать Уну догадаться? А если Ун догадается, что тогда?
Глава 2б
Ун выжидающе смотрел на Тритта. Он почти не сомневался, что на поверхность за Дуа Тритт подниматься не станет. Это значило бы оставить детей одних, чего он всегда избегал. Тритт молча медлил, а затем удалился — в сторону детской ниши.
Ун почувствовал облегчение. Не без горечи, конечно: ведь Тритт, рассердившись, замкнулся в себе, отчего взаимный контакт ослабел и возник барьер раздражения. Естественно, что Уну взгрустнулось, — словно упала жизненная пульсация.
Но может быть, и Тритт чувствует то же? Нет, это было бы несправедливо: Тритту хватает его особенного отношения к детям.
Ну а Дуа… Кто способен сказать, что чувствует Дуа? Да и вообще любая эмоциональ? Они настолько своеобразны, что рядом с ними левые и правые кажутся совершенно одинаковыми — если, конечно, не считать интеллекта. Но, даже и учитывая капризность эмоционалей, разве кто-нибудь способен сказать, что чувствует Дуа? Именно Дуа?
Вот почему Ун испытал облегчение, когда Тритт удалился. Дуа и в самом деле превратилась в загадку. Задержка с третьим ребенком действительно становилась опасной, а Дуа не только не прислушивалась к уговорам, но, наоборот, делалась всё более упрямой. А в нём, в Уне, пробуждалось странное беспричинное беспокойство. Ему никак не удавалось определить, что это такое, и он решил обсудить вопрос с Лостеном.
Ун отправился в пещеры Жестких. Он спешил и двигался одним непрерывным струением, которое, однако, было гораздо изящнее легкомысленных всплесков и стремительных скачков, которые характеризовали кривую движения эмоционалей, или забавного переваливания тяжеловесных пестунов.
В его памяти всплыл мысленный образ: Тритт неуклюже гоняется за крошкой-рационалом, который в нежном возрасте почти не уступал в неуловимости молодым эмоционалям. В конце концов Дуа блокировала крошку и вернула его в нишу, а Тритт нерешительно ахал, не зная, то ли хорошенько встряхнуть маленькую искорку жизни, то ли закутать её в своё вещество. Ради детей Тритт умел разреживаться самым удивительным образом, а когда Ун его поддразнивал, Тритт, вообще не понимавший шуток, отвечал совершенно серьёзно: «Пестунам можно, когда это нужно детям».
Ун гордился своим струением — грациозным и в то же время полным достоинства. Как-то он рассказал об этом Лостену — своему Жесткому руководителю, которому говорил о себе всё. Лостен ответил: «А не кажется ли тебе, что эмоционалям и пестунам их манера передвижения нравится не меньше? Если вы думаете по-разному и действуете по-разному, то и удовольствия вам должны доставлять разные вещи, не так ли? Видишь ли, триада не исключает индивидуальности».
Однако Ун не совсем понимал, что такое индивидуальность. По-видимому, это значит — быть самому по себе? Каждый Жесткий, бесспорно, всегда сам по себе. У них нет триад. Но как они это выдерживают?
Когда Ун впервые задался этим вопросом, он был совсем ещё маленький. Его взаимоотношения с Жесткими только-только завязывались, и внезапно он сообразил, что ничего толком о них не знает. Откуда он, собственно, взял, будто у Жестких нет триад? Конечно, такая легенда бытует среди Мягких, но верна ли она? Поразмыслив, он решил, что нужно спросить, а не принимать чужие утверждения на веру.
И он спросил: «Ру, вы левый или правый?» (Позже при одном воспоминании об этом Ун начинал пульсировать. Надо быть поразительно наивным, чтобы обратиться к Жесткому с таким вопросом! И его нисколько не утешала мысль, что каждый рационал обязательно в той или иной форме задавал его Жесткому. Да, рано или поздно, но это случалось всегда, причем чаще — рано.)
Лостен ответил невозмутимо: «Ни то и ни другое, крошка-левый. Жесткие не делятся на левых и правых».
«И у них нет се… эмоционалей?»
«Серединок? — И форма перманентной сенсорной области Жесткого изменилась (позже Ун убедился, что подобные изменения ассоциируются с весельем или удовольствием). — Нет. Серединок у нас тоже нет. Только Жесткие — и все одинаковые».
Тогда Ун спросил — сам не зная, каким образом, почти против воли:
«Но как вы выдерживаете?»
«У нас ведь всё по-другому, крошка-левый. Мы к этому привыкли».
Неужели Ун мог бы привыкнуть к чему-либо подобному? До сих пор его жизнь была неразрывно связана с родительской триадой, и он твёрдо знал, что в будущем, причем не таком уж отдаленном, станет членом собственной триады. Как же можно жить иначе?
Он иногда размышлял об этом с полным напряжением. Впрочем, он всегда размышлял с полным напряжением, что бы его ни занимало. И порой он как будто улавливал, что это значит. У Жесткого есть только он сам. Ни левого брата, ни правого, ни сестры-середины, ни синтеза, ни детей, ни пестунов — ничего этого у Жестких нет: ничего, кроме интеллекта, кроме исследования вселенной.
Возможно, им этого достаточно. Становясь старше, Ун начинал всё глубже постигать радость познания. Её было достаточно… почти достаточно. Но тут он вспомнил Тритта, Дуа и решил, что даже вся вселенная не может заменить их вполне.
Разве что… Странно, но порой ему начинало казаться, будто со временем, в определённой ситуации, в определённых условиях… Затем мимолетное прозрение будущего угасало бесследно. А потом опять вдруг вспыхивало, и всё чаще ему чудилось, что оно держится дольше и должно вот-вот запечатлеться в памяти.
Но сейчас важно другое. Надо что-то придумать с Дуа.
Он двигался по знакомой дороге. В первый раз его вел по ней пестун (скоро и Тритт поведёт по ней их собственного маленького рационала, их крошку-левого).
Ну и конечно, он вновь погрузился в воспоминания.
Как тогда было страшно! Рядом другие маленькие рационалы пульсировали, мерцали, меняли форму, как ни сигналили им пестуны, чтобы оставались плотными, гладкими и не позорили триаду. А один маленький левый, приятель Уна, распластался и утончился совсем по-детски и не желал уплотняться, несмотря на все уговоры пестуна, изнемогавшего от смущения. (Тем не менее он стал прекрасным учеником… «Хотя до Уна ему и далеко», — не без самодовольства заключил Ун.)
В тот их первый школьный день с ними знакомилось много Жестких. Жесткие останавливались перед каждым маленьким рационалом, специальными способами определяли тип его вибраций и затем решали, принять ли его сейчас или выждать новый срок, а если принять, то какой курс обучения подойдёт ему больше.
Когда Жесткий приблизился к нему, Ун, напрягая все свои силы, разгладился и заставил себя не мерцать.
Жесткий сказал (и Ун, впервые услышав непривычные тона его голоса, с перепугу чуть было не забыл, что он теперь большой и должен сохранять плотность):
«Очень устойчивый рационал. Как ты определяешь себя, левый?»
В первый раз Уна назвали «левый», а не «левулечка» или «левуленька», и он проникся неведомой прежде устойчивостью, а потому сумел выговорить твёрдо: «Ун, Жесткий-ру», отчеканив вежливое обращение, совсем как наставлял его пестун.
Ун смутно помнил, как его водили по пещерам Жестких, где он видел их приборы, их машины, их библиотеки, и терялся от непонятных зрелищ и звуков. Впрочем, помнил он не столько их, сколько своё отчаяние, свой страх. Что они с ним сделают?
Пестун объяснил ему, что он будет учиться. Но что такое «учиться»? Он не знал, а когда спросил пестуна, оказалось, что тот тоже не знает, хотя и был много старше Уна.
Только через некоторое время он обнаружил, что это очень приятный процесс — чрезвычайно приятный, хотя и не без своих отрицательных сторон.
Сперва его руководителем стал Жесткий, который первым назвал его «левым». Этот Жесткий научил его воспринимать смысл волновых записей, и вскоре то, что прежде казалось ему недоступным для понимания кодом, превратилось в слова — такие же осмысленные и понятные, как те, которые он произносил с помощью своих вибраций.
Но затем первый Жесткий перестал появляться, и его сменил другой. Ун не сразу заметил, что у него другой руководитель (в те дни все Жесткие казались ему одинаковыми, и он не умел различать их голоса). Но потом он всё-таки разобрал, что это другой Жесткий. Мало-помалу он уверился в своем открытии и почувствовал страх. Такая замена была непонятной, а потому пугала. В конце концов он собрался с духом и спросил:
«Где мой руководитель, Жесткий-ру?»
«Гамалдан?.. Он больше не будет руководить тобой, левый».
Ун на минуту утратил дар речи. Затем он всё-таки сказал:
«Но ведь Жесткие не переходят…» — Он не решился закончить фразу.
Новый Жесткий промолчал и ничего не объяснил.
И так бывало всегда. В дальнейшем Ун убедился, что Жесткие избегают говорить о себе. Обо всём остальном они рассказывали охотно и подробно. Но о себе — ничего.
Некоторые факты в конце концов убедили Уна, что Жесткие тоже переходят, что они небессмертны (хотя большинство Мягких было твёрдо уверено в обратном). Но Жесткие хранили молчание. Иногда Ун и другие рационалы-ученики обсуждали это между собой — неуверенно, боязливо. Каждый подмечал что-то, что, казалось, неопровержимо свидетельствовало о бренности Жестких, и все они думали: «Неужели?» — но избегали очевидного вывода и торопились переменить тему.
Жесткие как будто были равнодушны к тому, что молодые рационалы подмечают свидетельства их бренности. Они и не думали их скрывать. Но сами об этом никогда не говорили. А если их об этом спрашивали прямо (что порой оказывалось неизбежным), они ничего не отвечали — ни «да», ни «нет».
Однако, если они переходят, значит, они должны и рождаться, но и об этом от них нельзя было ничего узнать, и Ун ни разу не видел крошки-Жесткого.
Ун полагал, что Жесткие получают энергию от камней, а не от Солнца — вернее, что они вводят в своё тело чёрный каменный порошок. И так думал не он один. Но другие ученики сердито отказывались верить этому. Однако прийти к окончательному выводу было нельзя, потому что никто из них своими глазами не видел, как едят Жесткие, а те хранили молчание.
В конце концов Ун привык к этой сдержанности как к неотъемлемому их свойству. Возможно, размышлял он, причиной тут индивидуальность Жестких — то, что они не создают триад. Из-за этого они словно окружают себя оболочкой скрытности.
А потом Ун узнал такие важные и серьёзные вещи, что они совсем заслонили от него загадки жизни Жестких. Например, он узнал, что мир сжимается… уменьшается…
Это сказал ему Лостен, его новый руководитель.
Ун задал вопрос о пустующих пещерах, которые бесконечными анфиладами уходили в самые недра мира, и Лостен, казалось, был доволен.
«Ты побаивался спросить об этом, Ун?»
(Теперь он был Ун, а не просто один из бесчисленных левых. Он всякий раз испытывал гордость, когда какой-нибудь Жесткий называл его по имени. А таких было немало. Ун усваивал знания с поразительной лёгкостью, и обращение по имени подчеркивало его исключительность. Лостен не раз упоминал, как он доволен тем, что Ун занимается именно у него.)
После некоторых колебаний Ун признался, что ему действительно было страшно спросить. Признаваться в недостатках Жестким было легче, чем однокашникам-рационалам, и куда легче, чем Тритту… Нет, Тритту он вообще не признался бы… (Разговор этот происходил в то время, когда Дуа ещё не стала членом их триады.)
«Так почему же ты спросил?»
Ун снова заколебался, но потом всё-таки сказал медленно:
«Я боюсь необитаемых пещер, потому что, когда я был маленьким, мне рассказывали, будто они полны всяких ужасов. Но по собственному опыту я этого не знаю. Мне известно лишь то, что мне рассказывали другие дети, которые тоже по собственному опыту знать этого не могли. Я хочу знать о них правду, и желание это выросло настолько, что любопытство во мне теперь пересиливает страх».
Лостен как будто был доволен.
«Очень хорошо! Любопытство — полезное чувство, а страх пользы не приносит. Твоё внутреннее развитие, Ун, не оставляет желать ничего лучшего. И помни: твоё внутреннее развитие — вот что в конечном счёте важнее всего. А наша помощь играет второстепенную роль. Раз ты хочешь узнать, то мне легко будет объяснить, что необитаемые пещеры действительно необитаемы. Они пусты. В них нет ничего, кроме ненужных вещей, оставленных там в прошлые времена».
«Кем оставленных, Жесткий-ру?»
Эту официально-почтительную форму обращения Ун теперь употреблял лишь в тех случаях, когда вдруг ощущал, насколько больше его Лостен осведомлен в том или ином вопросе.
«Теми, кто жил в них в прошлые времена. Множество циклов тому назад мир населяли сотни тысяч Жестких и миллионы Мягких. Нас стало гораздо меньше, Ун, чем было когда-то. Всего триста Жестких и менее десяти тысяч Мягких».
«Почему?» — Ун был потрясен. (Жестких осталось всего триста! Почти прямое признание, что Жесткие тоже переходят… но задумываться об этом пока не время.)
«Потому что энергии становится всё меньше. Солнце остывает. И с каждым циклом становится всё труднее жить и взращивать детей».
(А это разве не значит, что Жесткие тоже взращивают детей? И ещё одно: следовательно, Жесткие также получают пищу от Солнца, а не из камней. Но и эти мысли Ун решил обдумать после.)
«Так будет продолжаться и дальше?» — спросил Ун.
«Да, пока Солнце совсем не истощится и не перестанет давать пищу».
«Значит ли это, что мы все перейдём? И Жесткие, и Мягкие?»
«А можно ли сделать иной вывод?»
«Но нельзя же допустить, чтобы мы все перешли. Если нам нужна энергия, а Солнце истощается, так надо найти другие источники. Другие звёзды».
«Видишь ли, Ун, остальные звёзды тоже истощаются. Наша вселенная приближается к своему концу».
«А мы можем получать пищу только от звезд? Других источников энергии не существует?»
«Нет. Конец наступает для всех источников энергии во всей вселенной».
Ун недовольно обдумал это, а потом сказал:
«Ну а другие вселенные? Мы не должны гибнуть только потому, что гибнет наша вселенная».
Он весь пульсировал и с непростительной невежливостью расширился, стал почти прозрачным и заметно выше, чем Жесткий.
Однако Лостен излучил только большое удовольствие. Он сказал:
«Великолепно, левый мой. Об этом необходимо рассказать остальным».
От смущения и радости Ун мгновенно сжался до нормальных размеров. Ведь ещё никто — кроме, конечно, Тритта — не обращался к нему с ласково-доверительным «левый мой».
И вскоре Лостен сам привёл к ним Дуа. Ун тогда подумал, нет ли тут связи с их разговором, но со временем оставил эти мысли. Слишком уж часто твердит Тритт, что это ему они обязаны появлением Дуа — кто, как не он, попросил Лостена? И Ун, совсем запутавшись, вовсе перестал обдумывать эту тему.
И вот сейчас он снова идёт к Лостену. С тех пор как он узнал, что вселенная приближается к концу и что (как вскоре выяснилось) Жесткие упорно ищут средства всё-таки выжить, прошло много времени. Он уже стал специалистом в самых разных областях науки, и Лостен даже объявил, что физику Ун знает настолько полно, насколько её вообще способен воспринять Мягкий. А тут новые рационалы достигли возраста обучения, и они с Лостеном виделись теперь всё реже и реже.
Лостен занимался с двумя рационалами-подростками в радиационной камере. Он увидел Уна сквозь стеклянную дверь и вышел к нему, тщательно закрыв за собой дверь.
— Левый мой! — сказал он, протягивая свои конечности. При виде этого дружеского движения Ун, как и прежде, испытал безрассудное желание сжать их, но сумел сдержаться. — Как поживаешь?
— Я не хочу мешать вам, Лостен-ру.
— Мешать? Эти двое прекрасно позанимаются и сами. Вероятно, они только рады, что я ушёл. Мне кажется, им надоедает всё время меня слушать.
— Ну, уж этого не может быть, — сказал Ун. — Я всегда готов был слушать вас без конца. И конечно, их ваши объяснения увлекают не меньше.
— Ну-ну, спасибо на добром слове. Я часто вижу тебя в библиотеке, и мне говорили, что твои успехи в завершающих занятиях по-прежнему блестящи, но я немножко скучаю без своего лучшего ученика. Как поживает Тритт? Всё ещё по-пестунски упрям?
— Он с каждым днём становится упрямее. Триада только им и держится.
— А Дуа?
— Дуа? Я ведь искал вас… Вам известно, какая она особенная.
Лостен кивнул.
— Да, я знаю, — сказал он с выражением, которое Ун научился истолковывать как грусть.
Он немного поколебался, а потом решил говорить прямо.
— Лостен-ру, — начал он, — её привели к нам, к Тритту и мне, именно потому, что она особенная?
— А тебя это удивило бы? Ты ведь и сам особенный. А ты не раз говорил мне, что Тритт бывает не таким, как другие пестуны.
— Да, — убеждённо сказал Ун. — Он совсем не такой.
— И значит, естественно, что для вашей триады требовалась особенная эмоциональ, не так ли?
— Но ведь особенность бывает разная, — задумчиво сказал Ун. — Некоторые своеобразные привычки Дуа сердят Тритта и тревожат меня. Можно мне с вами посоветоваться?
— Разумеется.
— Она… она избегает синтеза.
Но Лостен слушал невозмутимо, как будто речь шла о самых обычных вещах.
Ун продолжал:
— В тех случаях, когда она соглашается, разреживание ей как будто приятно не меньше, чем нам, и всё-таки соглашается она очень редко.
— А что ищет в синтезе Тритт? — спросил Лостен. — Помимо приятного ощущения от разреживания? Что важно для него?
— Дети, конечно, — ответил Ун. — Я им рад, и Дуа тоже, но ведь Тритт — пестун. Вам это понятно? (Уну вдруг показалось, что Лостен не способен уловить все тонкости внутренних взаимоотношений триады.)
— В какой-то мере, — ответил Лостен. — Следовательно, насколько я могу судить, Тритт получает от синтеза нечто большее, чем просто удовольствие? А как ты сам? Чем тебя привлекает синтез?
Ун задумался.
— По-моему, вы это знаете. Он даёт мне своего рода интеллектуальную стимуляцию.
— Да, я знаю. Но мне нужно было проверить, насколько ты отдаешь себе в этом отчет. Я хотел убедиться, помнишь ли ты. Ведь ты не раз говорил мне, как, выходя из синтезированного состояния, которое сопряжено с загадочной и полной утратой ощущения времени — и, по правде сказать, ты действительно исчезал на довольно долгие сроки, — ты обнаруживал, что вопросы, прежде трудные и неразрешимые, вдруг стали ясными и понятными, что твои знания расширились.
— Мой интеллект словно бы оставался активным и на протяжении этого интервала полной утраты сознания, — сказал Ун. — У меня создаётся впечатление, будто это время, хотя я не замечал его и не ощущал собственного существования, было мне необходимо и давало мне возможность сосредоточиться на чисто умственных процессах, от которых меня ничто не отвлекало, как случается при нормальных обстоятельствах.
— Да, — согласился Лостен. — Когда ты снова являлся ко мне, твоё мышление словно бы совершало качественный скачок. Для вас, рационалов, это обычно, хотя нельзя не признать, что никто ещё не развивался такими гигантскими скачками, как ты. Я совершенно искренне считаю, что за всю историю в мире не было другого такого рационала.
— Нет, правда? — пробормотал Ун, стараясь удержать свою радость в пристойных границах.
— Впрочем, я могу и ошибиться… — Лостена как будто развеселила внезапность, с какой Ун перестал мерцать, — но пока оставим это. Суть в том, что тебе, как и Тритту, синтез даёт что-то сверх самого синтеза.
— Да. Безусловно.
— А что получает от синтеза Дуа — сверх самого синтеза?
Наступило долгое молчание.
— Не знаю, — сказал наконец Ун.
— И ты её не спрашивал?
— Нет.
— В таком случае, — продолжал Лостен, — если для тебя и Тритта синтез — не самоцель, но в какой-то мере лишь средство, а для Дуа он не приносит ничего дополнительного, то и привлекать её он должен меньше, чем вас.
— Но ведь другие эмоционали… — начал Ун, оправдываясь.
— Другие эмоционали не похожи на Дуа. Ты сам не раз говорил мне это, и, по-моему, с гордостью.
Уну стало стыдно.
— Мне казалось, что причина не в этом.
— А в чём же?
— Это очень трудно объяснить. Мы, как члены триады, знаем друг друга, ощущаем друг друга и в какой-то мере представляем собой три части, из которых слагается единая личность. Личность неясная, которая то вырисовывается, словно в дымке, то снова исчезает. Почти всегда это происходит где-то за гранью сознания. Если мы стараемся сосредоточиться и понять, всё сразу как бы расплывается, не оставляя сколько-нибудь чёткого образа. Мы… — Ун растерянно помолчал. — Очень трудно объяснить триаду тому, кто…
— Но всё-таки я попытаюсь понять. Тебе кажется, что ты уловил какие-то тайные мысли Дуа? То, что она хотела бы скрыть от вас?
— Если бы я знал! Но это лишь смутное впечатление, которое порой теплится на самой периферии моего сознания.
— Ну и?..
— Иногда мне кажется, что Дуа просто не хочет взращивать крошку-эмоциональ.
Лостен внимательно посмотрел на него.
— У вас ведь, если не ошибаюсь, пока только двое детей? Крошка-левый и крошка-правый?
— Да, всего двое. Как вы знаете, взрастить эмоциональ очень трудно.
— Я знаю.
— А Дуа и не пытается поглощать необходимое количество энергии. Скорее даже наоборот. У неё всегда находится множество объяснений, но я им не верю. Мне кажется, она почему-то не хочет, чтобы у нас была эмоциональ. Сам я… ну, если Дуа действительно предпочла бы подождать, я предоставил бы решать ей. Но ведь Тритт — пестун, и он настаивает. Ему нужна крошка-эмоциональ. Без неё его потребность заботиться о детях не находит удовлетворения. И я не могу лишать Тритта его права. Даже ради Дуа.
— А если Дуа не хочет взрастить крошку-эмоциональ по какой-нибудь вполне рациональной причине, ты с ней посчитался бы?
— Конечно. Но я, а не Тритт. Для него нет ничего важнее детей.
— Но ты постарался бы убедить его? Уговорить не торопиться?
— Да. Насколько это в моих силах.
— А ты замечал, что Мягкие… — Лостен запнулся в поисках подходящего слова и употребил обычное выражение Мягких: — Что они практически никогда не переходят до появления детей? Всех троих? Причем эмоциональ обязательно бывает последней?
— Я это знаю, — ответил Ун, недоумевая, почему Лостен решил, что ему могут быть неизвестны столь элементарные сведения.
— Другими словами, появление крошки-эмоционали означает приближение времени перехода.
— Но ведь не раньше, чем эмоциональ вырастет настолько, чтобы…
— Тем не менее переход превращается в неизбежность. Так, может быть, Дуа не хочет переходить?
— Но это немыслимо, Лостен! Переход — это как синтез: если время для него наступило, он совершается сам собой. Как тут можно хотеть или не хотеть? (Ах да, ведь Жесткие не синтезируются, а потому, возможно, им это непонятно!)
— А что, если Дуа решила вообще избежать перехода? Что бы ты сказал тогда?
— Но ведь мы обязательно должны перейти. Если Дуа хочет просто отложить взращивание последнего ребенка, я мог бы уступить её желанию и, пожалуй, сумел бы уговорить Тритта. Но если она решила вообще не переходить, это недопустимо.
— Почему?
Ун задумался.
— Мне трудно объяснить, Лостен-ру. Но каким-то образом я знаю, что мы обязательно должны перейти. С каждым циклом это моё ощущение растет и крепнет. Иногда мне даже кажется, что я понимаю, в чём тут дело.
— Порой я готов думать, что ты философ, Ун, — суховато заметил Лостен. — Но давай рассуждать. Когда крошка-эмоциональ появится и подрастет, Тритт выпустит всех положенных ему детей и спокойно примет переход, ощущая, что ему было дано изведать всю полноту жизни. И сам ты примешь переход с удовлетворением, как завершающий этап в твоём стремлении обогащаться всё новыми знаниями. А Дуа?
— Я не знаю, — сказал Ун расстроенно. — Другие эмоционали всю жизнь только и делают, что болтают друг с другом и, очевидно, находят в этом какое-то удовольствие. Но Дуа всегда держалась и держится особняком.
— Да, она необычна. И ей совсем ничто не нравится?
— Она любит слушать, как я рассказываю про мои занятия, — пробормотал Ун.
— Не надо стыдиться этого, Ун. Все рационалы рассказывают своим правникам и серединам о своих занятиях. Да, конечно, все вы делаете вид, будто этого никогда не случится, тогда как на самом деле…
— Но Дуа меня слушает, Лостен-ру. По-настоящему.
— В отличие от прочих эмоционалей? Охотно верю. А тебе никогда не казалось, что после синтеза она тоже начинает лучше понимать?
— Пожалуй… Но я как-то не обращал внимания…
— Да, поскольку ты убеждён, что эмоционали не способны разбираться в подобных предметах. Но в Дуа как будто есть многое от рационала.
(Ун взглянул на Лостена с внезапной тревогой. Как-то раз Дуа рассказала ему, какой несчастной чувствовала она себя в детстве. Только один раз: о визгливых выкриках других эмоционалей, о гадком прозвище, которой они ей дали, — «олевелая эм». Неужели Лостен каким-то образом узнал про это?.. Но нет — его взгляд, устремленный на Уна, оставался невозмутимым.)
— Мне тоже так казалось. И я горжусь, что это так! — вдруг не выдержал Ун.
— И очень хорошо, что гордишься, — заметил Лостен. — Но почему бы не сказать ей об этом? А если ей нравится пестовать в себе рациональность, так почему бы не помочь ей? Учи её тому, что знаешь, более систематически. Отвечай на её вопросы. Или это покроет вашу триаду позором?
— Пусть покрывает!.. И, собственно, что тут позорного? Тритт заявит, что это напрасная трата времени, но я сумею его уговорить.
— Втолкуй ему, что Дуа, если у неё возникнет ощущение полноты жизни, перестанет бояться перехода и скорее согласится взрастить крошку-эмоциональ.
Ун ощущал такую радость, словно можно было больше не опасаться катастрофы, которая уже казалась неминуемой. Он сказал торопливо:
— Вы правы. Я чувствую, что вы правы. Лостен-ру, вы всё понимаете! Раз вы возглавляете Жестких, проект контакта с той вселенной не может потерпеть неудачи!
— Я? — Лостен излучал веселость. — Ты забыл, что сейчас нас возглавляет Эстуолд. Проект многим обязан ему. Без Эстуолда работа почти не продвинулась бы.
— Да, конечно… — Ун немного приуныл. Он ещё не видел Эстуолда. И никто из Мягких с ним не встречался, хотя некоторые и утверждали, будто видели его издали. Эстуолд был новый Жесткий. Новый в том смысле, что Ун в детстве ни разу не слышал его имени. А ведь это скорее всего означало, что Эстуолд — молодой Жесткий и был крошкой-Жестким, когда Ун был крошкой-Мягким.
Но сейчас Уна это не интересовало. Сейчас он хотел только одного — вернуться домой. Конечно, он не мог коснуться Лостена в знак признательности, но он ещё раз горячо поблагодарил его и радостно поспешил назад.
Радость его была отчасти эгоистичной. Её порождала не только надежда взрастить крошку-эмоциональ и не только мысль о том, как будет доволен Тритт. Даже сознание, что Дуа обретет полноту жизни, было не главным. В эти минуты он с восторгом предвкушал то, что ждало его самого. Он будет учить! И ведь ни один из остальных рационалов не может даже мечтать о подобном счастье! В чьей ещё триаде есть такая эмоциональ, как Дуа?
Если только Тритт сумеет понять, что это необходимо, всё будет чудесно. Надо поговорить с Триттом, убедить его набраться терпения.
Глава 2в
Тритт чувствовал, что больше терпеть нельзя. Да, он не понимает, почему Дуа поступает так, а не иначе. Он и не хочет ничего понимать. Его это не интересует. Откуда ему знать, почему эмоционали ведут себя так, как они себя ведут! А Дуа к тому же и ведёт себя не так, как они.
Она никогда не думает о важном. Она любит смотреть на Солнце. А сама рассеивается до того, что свет и пища проходят сквозь неё. И объясняет, что так красивее. Но ведь это неважно. Важно есть досыта. И при чем тут красота? Да и вообще — что такое красота?
И с синтезом она всё время что-то придумывает. Один раз даже сказала: «Давайте обсудим, что, собственно, происходит. Мы ведь никогда не говорим и даже не думаем про это».
А Ун твердит одно: «Не мешай ей, Тритт. Так лучше».
Ун чересчур уж терпеливый. Только и знает, что повторять — не надо торопиться, надо подождать, и всё будет хорошо. Или говорит, что ему нужно обдумать вопрос.
А что значит «обдумать вопрос»? Неизвестно. То есть это значит, что Ун ничего делать не станет.
Вот как было тогда с Дуа. Ун и сейчас бы ещё обдумывал вопрос. А он, Тритт, пошёл и сказал, что им нужна эмоциональ. Вот как надо.
А теперь Ун говорит, что Дуа надо оставить в покое, и ничего не делает. А как же крошка-эмоциональ? Самое-самое важное? Ну ладно, раз Ун хочет обдумывать вопрос, тогда Тритт сам возьмется за дело.
И он уже взялся. Пока эти мысли мелькали в его сознании, он всё продвигался и продвигался по длинному коридору и только сейчас заметил, какой большой путь уже проделал. Может, это и есть «обдумывать вопрос»? Нет, он не будет бояться. Он не повернет назад.
Тритт осторожно огляделся. Да, это дорога к пещерам Жестких. Скоро он поведёт по ней своего левенького. Ун как-то показал ему эту дорогу.
Он не знал, что будет делать, когда доберётся туда. Но страха он не чувствовал. Ему нужна крошка-эмоциональ. И Жесткие позаботятся, чтобы она у него была. Привели же они Дуа, когда он попросил!
Но только кого просить? Первого Жесткого, который ему встретится? Нет, он ведь уже всё решил. Он же помнит имя. Он скажет его и будет говорить с тем Жестким, которого так зовут.
И он помнит не только имя. Он даже помнит, как услышал это имя в первый раз. Это случилось, когда левенький впервые нарочно изменил свою форму. (Какой это был день! «Ун, скорее! Аннис собрался в овал и стал совсем твёрдым! Сам! Дуа, да посмотри же!» И они примчались. Аннис был у них тогда один. Им ведь столько времени пришлось ждать второго! Они примчались, а левенький как раз уплощился в уголке. Он закручивал края и расползался по своей постельке, словно жидкий. Ун сразу ушёл, потому что ему было некогда. А Дуа сказала: «Ничего, Тритт, он сейчас опять это сделает!» Они ждали и ждали, но Аннис больше не пожелал овалиться.)
Тритт тогда обиделся, что Ун не захотел ждать. Он бы его выбранил, но Ун выглядел таким усталым! Его овоид был весь покрыт морщинками, а он даже не пробовал их разгладить. И Тритт встревожился;
«Случилось что-нибудь плохое, Ун?»
«Просто у меня был тяжелый день, и, боюсь, до следующего синтеза я так и не сумею разобраться с дифференциальными уравнениями». (Тритт не был уверен, верно ли он запомнил жесткие слова. Во всяком случае, Ун сказал что-то в этом роде. Ун всё время говорил жесткие слова.)
«Ты хочешь синтезироваться сейчас?»
«Ничего не выйдет. Я как раз видел, что Дуа отправилась на поверхность, а ты знаешь, она не любит, чтобы мы уводили её оттуда. Время терпит. И ещё вот что — появился новый Жесткий».
«Новый Жесткий?» — повторил Тритт без всякого интереса.
Ему вообще не нравилось, что Ун всегда ищет общества Жестких. Ни один из рационалов, живущих по соседству, не занимался с таким усердием тем, что Ун называл «образованием». Это было нечестно. Ун думает только об образовании. Дуа думает только о том, чтобы бродить одной по поверхности. И никто, кроме Тритта, не думает о триаде и не заботится о ней.
«Его зовут Эстуолд», — сказал Ун.
«Эстуолд?» — Тритту вдруг стало чуточку интересно. Может быть, потому, что он очень старательно настраивался на чувства Уна.
«Я его ещё не видел, но они только о нём и говорят. — Глаза Уна уплощились, как бывало всегда, когда он думал о своем. — Благодаря ему у них уже есть новое изобретение».
«А что это такое?»
«Позитронный На… Ты не поймешь, Тритт. Это одна новая вещь, которой обзавелись Жесткие. Она революционизирует весь мир».
«А что это такое — революционизирует?»
«Всё станет другим».
Тритт сразу встревожился:
«Не надо, чтобы Жесткие всё делали другим».
«Они всё сделают лучше. Другое вовсе не обязательно значит плохое. Ну, во всяком случае, это придумал Эстуолд. Он удивительно умён. Такое у меня чувство».
«А почему он тебе не нравится?»
«Я этого не говорил».
«Но ты ощущаешься так, словно он тебе не нравится».
«Ничего подобного, Тритт. Просто… ну, просто… — Ун засмеялся. — Мне завидно. Жесткие настолько умны, что ни один Мягкий не может и мечтать с ними сравниться, но я с этим свыкся — ведь Лостен постоянно повторяет мне, что я удивительно умен… наверное, он имел в виду — для Мягкого. А теперь появился Эстуолд, и даже Лостен не помнит себя от восхищения. А я — ничто, пустое место».
Тритт выпятил переднюю плоскость, чтобы коснуться Уна, чтобы напомнить ему, что он не один. Ун посмотрел на него и улыбнулся.
«Но всё это глупости. Как бы ни были умны Жесткие, а Тритта ни у одного из них нет!»
Потом они всё-таки отправились искать Дуа. И надо же так случиться — она как раз кончила свои блуждания и сама спускалась вниз! Синтез получился очень полный, хотя длился всего один день. Тритту тогда было не до синтезов. Он боялся надолго отлучиться от маленького Анниса, хотя за ним, конечно, в это время присматривали другие пестуны.
После этого Ун время от времени упоминал про Эстуолда. Только он всегда называл его просто Новый, даже когда прошло уже много дней. Сам он его ещё ни разу не видел. «Мне кажется, я его бессознательно избегаю, — сказал он как-то, когда с ним была Дуа. — Потому что он слишком хорошо осведомлен о новом изобретении. Я не люблю получать готовые сведения, гораздо интереснее самому всё узнавать».
«Про Позитронный Насос?» — спросила тогда Дуа.
Ещё одна её странность, с раздражением подумал Тритт. Дуа умела выговаривать жесткие слова не хуже самого Уна. А эмоционали это не полагается.
И Тритт решил спросить Эстуолда. Ведь Ун говорил, что он удивительно умный. А раз Ун его не видал, Эстуолд уже не сможет сказать: «Я обсудил это с Уном, Тритт. Ты напрасно беспокоишься».
Все почему-то считают, что говорить с рационалом — значит говорить с триадой. А на пестунов никто даже внимания не обращает. Но уж теперь придётся всё-таки обратить!
Он уже двигался внутри Жестких пещер, и вдруг его поразила странность всего того, что было вокруг. Он не видел ничего привычного. Всё здесь было чужим, неправильным и пугало своей непонятностью. Но он подумал, что ему надо поговорить с Эстуолдом, и страх уменьшился. «Мне нужна крошка-серединка», — повторил он про себя и собрался с силами настолько, что смог двигаться дальше.
В конце концов он увидел Жесткого. Только одного. Он что-то делал. Нагибался над чем-то и что-то делал. Ун однажды сказал ему, что Жесткие всегда работают над своими… ну, над этими. Тритт не помнил над чем, да и помнить не хотел.
Он приблизился к Жесткому ровным движением и остановился.
— Жесткий-ру! — сказал он.
Жесткий посмотрел на него, и воздух между ними завибрировал. Тритт вспомнил, как Ун рассказывал, что воздух всегда вибрирует, когда Жесткие говорят между собой. Но тут Жесткий словно бы наконец увидел Тритта по-настоящему и сказал:
— Да это же правый! Что ты тут делаешь? Ты привёл своего левого? Разве семестр начинается сегодня?
Тритт не старался понять, о чём говорит Жесткий. Он спросил:
— Где я могу найти Эстуолда, руководитель?
— Кого-кого?
— Эстуолда.
Жесткий долго молчал, а потом сказал:
— А какое у тебя дело к Эстуолду, правый?
Тритт упрямо посмотрел на него.
— Мне надо поговорить с ним об очень важном. Вы и есть Эстуолд, Жесткий-ру?
— Нет… А как тебя зовут, правый?
— Тритт, Жесткий-ру.
— A-а! Ты ведь правый в триаде Уна?
— Да.
Голос Жесткого словно стал мягче.
— Боюсь, ты сейчас не сможешь повидать Эстуолда. Его тут нет. Но, может быть, ты захочешь поговорить с кем-нибудь другим?
Тритт молчал, не зная, что ответить.
Тогда Жесткий сказал:
— Возвращайся домой. Поговори с Уном. Он тебе поможет. Ведь так? Возвращайся домой, правый.
И Жесткий отвернулся. Он, казалось, был занят чем-то, что совсем не касалось Тритта, и Тритт продолжал стоять в нерешительности. Потом он двинулся в другую пещеру, струясь совсем бесшумно. Жесткий даже и не посмотрел в его сторону.
Сначала Тритт не понимал, почему он свернул именно сюда. Просто он ощущал, что так будет лучше. А потом вдруг всё стало ясно. Вокруг была легкая теплота пищи, и незаметно для себя он уже поглощал её.
Тритт подумал, что вроде бы он и не был голоден — и всё-таки он ест и получает от этого удовольствие.
Солнца нигде не было видно. Тритт инстинктивно посмотрел вверх, но, конечно, увидел только потолок пещеры. И тут он подумал, что на поверхности такой вкусной пищи ему ни разу пробовать не приходилось. Он с удивлением посмотрел по сторонам и задумался. А потом удивился ещё больше — тому, что задумался.
Ун порой раздражал его, задумываясь о множестве вещей, которые не имели никакой важности. И вот теперь он — Тритт! — вдруг тоже задумался. Но ведь он задумался об очень важной веши. Внезапно ему стало ясно, до чего она важная. На мгновение весь замерцав, он понял, что не смог бы задуматься, если бы что-то внутри не подсказало ему, насколько это важно.
Он сделал всё очень быстро, поражаясь собственной храбрости. А затем отправился обратно. Поравнявшись с Жестким — с тем, которого он спрашивал про Эстуолда, — он сказал:
— Я возвращаюсь домой, Жесткий-ру.
Жесткий ответил что-то невнятное. Он по-прежнему делал что-то, наклонялся над чем-то, занимался глупостями и не замечал самого важного.
«Если Жесткие действительно так могущественны и умны, — подумал Тритт, — то как же они могут быть такими глупыми?»
Глава За
Дуа почти незаметно для себя самой направилась в сторону Жестких пещер. Солнце село, а это всё-таки была хоть какая-то, но цель. Что угодно, лишь бы оттянуть возвращение домой, где Тритт опять будет ворчать и требовать, а Ун смущенно советовать, не веря в пользу этих советов. К тому же Жесткие пещеры манили её сами по себе.
Она давно ощущала их притягательную силу — собственно говоря, с тех пор, как перестала быть крошкой, — и теперь уже больше не могла притворяться перед собой, будто ничего подобного нет. Эмоционалям не полагалось испытывать подобные влечения. Правда, у иных из них в детстве проскальзывали такие наклонности (теперь Дуа была уже достаточно взрослой и опытной, чтобы понимать это), но увлечение проходило само собой, а если оно оказывалось слишком сильным, то его быстро гасили.
Впрочем, когда она сама была крошкой, она упрямо продолжала интересоваться и миром, и Солнцем, и пещерами, и… ну, всем, чем только возможно, и её пестун всё чаще повторял: «Ты не такая, как все, Дуа моя. Ты странная серединка. Что с тобой будет дальше?»
Сначала она никак не могла взять в толк, почему узнавать новое — значит быть странной и не такой, как другие. Но очень скоро убедилась, что пестун просто не способен отвечать на её вопросы, и однажды попросила своего левого породителя объяснить ей что-то. А он сказал только — и не с ласковым недоумением, как пестун, но резко, почти грубо: «Зачем ты об этом спрашиваешь, Дуа?» — и поглядел на неё испытующе и строго.
Она в испуге ускользнула и больше никогда не задавала ему вопросов.
А потом настал день, когда другая маленькая эмоциональ, её сверстница, взвизгнула «Олевелая эм!», после того как она сказала… Дуа уже не помнит, что она тогда сказала, но в тот момент это представлялось ей вполне естественным. Она растерялась, ей почему-то стало стыдно, и она спросила у своего левого брата, который был гораздо старше её, что такое «олевелая эм». Он замкнулся в себе, смутился — смущение она восприняла очень чётко — и пробормотал: «Не знаю», хотя ей было ясно, что он это прекрасно знает.
Поразмыслив, она пошла к своему пестуну и спросила: «Я олевелая эм, папочка?»
Он сказал: «А кто тебя так назвал, Дуа? Не надо повторять нехорошие слова».
Она обвилась вокруг его ближнего уголка, немножко подумала и сказала:
«А это очень нехорошо?»
«С возрастом у тебя это пройдёт», — сказал он и выпятился так, что она начала раскачиваться и вибрировать. Она всегда очень любила эту игру, но на этот раз ей не захотелось играть — ведь нетрудно было догадаться, что, в сущности, он ничего не ответил. Она заструилась прочь, раздумывая над его словами: «С возрастом у тебя это пройдёт». Значит, сейчас у неё «это» есть. Но что «это»?
Даже тогда у неё не было настоящих подруг среди эмоционалей. Они любили перешептываться и хихикать, а она предпочитала струиться по каменным обломкам, которые нравились ей своей зазубренностью. Но некоторые из её сверстниц-середин относились к ней без враждебности и не так её раздражали. Например, Дораль. Она была, конечно, не умнее остальных, но зато от её болтовни иногда становилось весело. (Дораль, когда выросла, вошла в триаду с правым братом Дуа и очень молодым левым из другого пещерного комплекса — этот левый показался Дуа не слишком симпатичным. Затем Дораль взрастила крошку-левого и почти сразу же — крошку-правого, а за ними через самый короткий промежуток последовала крошка-серединка. Сама Дораль стала теперь такой плотной, что казалось, будто в их триаде два пестуна, и Дуа не понимала, как они вообще могут синтезироваться… И тем не менее Тритт всё чаще многозначительно говорил при ней о том, какую замечательную триаду помогла создать Дораль.)
Как-то, когда они с Доралыо сидели вдвоем, Дуа шепнула:
«Дораль, а ты не знаешь, что такое олевелая эм?»
Дораль захихикала, собралась в комок, словно стараясь стать как можно незаметнее, и ответила: «Это эмоциональ, которая держится точно рационал. Ну, знаешь, как левый. Поняла? «Олевелая эм» — это значит «левая эмоциональ». Поняла?»
Разумеется, Дуа поняла. Стоило немножко подумать, и это стало очевидным. Она бы и сама разобралась, если бы могла вообразить подобное. Она спросила:
«А ты откуда знаешь?»
«А мне говорили старшие эмоционали. — Вещество До-рали заклубилось, и Дуа почувствовала, что ей это почему-то неприятно. — Это неприлично!» — добавила Дораль.
«Почему?»
«Ну, потому что неприлично. Эмоционали не должны вести себя как рационалы».
Прежде Дуа вообще не задумывалась над такой возможностью, но теперь она поразмыслила и спросила:
«Почему не должны?»
«А потому! И знаешь, что ещё неприлично?»
Дуа почувствовала невольное любопытство:
«Что?»
Дораль ничего не ответила, но внезапно часть её резко расширилась и задела Дуа, которая от неожиданности не успела втянуться. Ей стало неприятно, она сжалась и сказала:
«Не надо!»
«А знаешь, что ещё неприлично? Можно забраться в камень!»
«Нет, нельзя», — заявила Дуа. Конечно, глупо было так говорить, ведь Дуа сама нередко забиралась во внешние слои камней, и ей это нравилось. Но хихиканье Дорали так её уязвило, что она почувствовала гадливость и тут же убедила себя, что ничего подобного не бывает.
«Нет, можно. Это называется камнеедство. Эмоционали могут залезть в камни, когда захотят. А левые и правые — только пока они крошки. Они, когда вырастут, смешиваются между собой, а с камнями не могут».
«Я тебе не верю! Ты всё выдумала!»
«Да нет же! Ты знаешь Димиту?»
«Не знаю».
«А ты вспомни. Ну, такая, с уплотненным уголком из Пещеры В».
«Та, которая струится как-то боком?»
«Ага. Это ей уголок мешает. Ну, так она один раз залезла в камень вся целиком — только уголок торчал наружу. А её левый брат всё видел и рассказал пестуну. Что ей за это было! С тех пор она и правда от камней шарахается».
Дуа тогда ушла встревоженная и расстроенная. После этого они с Доралью долгое время вообще не разговаривали, да и потом их полудружеские отношения не возобновились. Но её любопытство росло и росло.
Любопытство? Почему бы сразу не сказать — «олевелость»?
Однажды, убедившись, что пестуна поблизости нет, она проникла в камень — потихоньку и совсем немножко. Она не позабыла, как это бывало в раннем детстве. Но, кажется, тогда она так глубоко всё-таки не забиралась. Её пронизывала приятная теплота, однако, выбравшись наружу, она испытала такое чувство, будто камень оставил на ней след и теперь все догадаются, чем она занималась.
Тем не менее она продолжала свои попытки, с каждым разом всё более смело, и совсем перестала внутренне смущаться. Правда, по-настоящему глубоко в камень она никогда не забиралась.
В конце концов пестун поймал её и выбранил. После этого она стала более осторожной. Но теперь она была старше и знала, что ничего особенного в её поведении нет — как бы ни хихикала Дораль, а почти все эмоционали лазали в камни, причем некоторые открыто этим хвастали.
С возрастом, однако, эта привычка исчезла, и, насколько Дуа знала, ни одна из её сверстниц не вспоминала детские проказы после того, как вступала в триаду. Она же — и это было её заветной тайной, которой она не делилась ни с кем, — раза два позволила себе погрузиться в камень и после вступления в триаду. (Оба раза у неё мелькала мысль — а что, если узнает. Тритт?.. Такая перспектива не сулила ничего хорошего, и у неё портилось настроение.)
Она находила для себя неясное оправдание в том, что её сверстницы смеялись над ней и дразнили. Вопль «Олевелая эм!» преследовал её повсюду, внушал ей ощущение неполноценности и стыда. В её жизни наступил период, когда она начала прятаться, лишь бы не слышать этой клички. Вот тогда-то в ней окончательно окрепла любовь к одиночеству. Оставаясь одна, она находила утешение в камнях. Камнеед-ством, прилично оно или нет, заниматься можно было только в одиночку, а ведь они обрекали её на одиночество.
Во всяком случае, так она убеждала себя.
Один раз она попыталась ответить им тем же и закричала дразнившим её эмоционалям:
«А вы все — оправелые эм, оправелые, оправелые!»
Но они только засмеялись, и Дуа, потерпев поражение, ускользнула от них совсем расстроенная. Но ведь она сказала правду! Когда эмоционали достигали триадного возраста, они начинали интересоваться крошками и колыхались вокруг них совсем по-пестунски, а это Дуа находила отвратительным. Сама она никогда подобного интереса не испытывала. Крошки — это крошки, и опекать их должны правые братья.
Дуа становилась старше, и её перестали дразнить. Тут сыграло известную роль и то, что она сохраняла юную разреженную структуру и умела струиться, как-то по-особенному матово клубясь, — ни у одной из её сверстниц это не получалось. А уж когда левые и правые начали проявлять к ней всё более живой интерес, остальные эмоционали быстро обнаружили, что их насмешки обращаются против них же самих.
И тем не менее… тем не менее теперь, когда никто не посмел бы говорить с Дуа пренебрежительно (ведь всем пещерам было известно, что Ун — самый выдающийся рационал своего поколения и что Дуа — середина его триады), именно теперь к ней пришло твёрдое сознание, что она действительно олевелая эм и останется такой навсегда.
Однако теперь она была убеждена, что ничего неприличного в этом нет — ну совершенно ничего. И всё-таки порой ловила себя на мысли, что ей лучше было бы появиться на свет рационалом, и вся сжималась от стыда. Но, может быть, и другие эмоционали иногда… или хотя бы очень редко… А может быть, именно поэтому — хотя бы отчасти — она не хочет взрастить крошку-эмоциональ?.. Потому что она сама — не настоящая эмоциональ… и плохо выполняет свои обязанности по отношению к триаде…
Ун как будто не имел ничего против её олевелости. И уж конечно, никогда не употреблял этого слова. Наоборот, ему нравилось, что ей интересна его жизнь, ему нравились её вопросы — он отвечал на них с удовольствием и радовался, что она понимает его ответы. Он даже защищал её, когда Тритт начинал ревновать… ну, собственно, не ревновать, а сердиться, потому что их поведение противоречило его узким и незыблемым представлениям о жизни.
Ун иногда водил её в Жесткие пещеры, стараясь показать, чего он стоит, и открыто гордился тем, что умеет произвести на неё впечатление. И он действительно производил на неё впечатление, хотя больше всего Дуа поражалась не его знаниям и уму — в них она не сомневалась, — а его готовности разделить эти знания с ней. (Она хорошо помнила, с какой резкостью её левый породитель оборвал её только потому, что она попыталась задать ему вопрос.) И особенно остро она ощущала свою любовь к Уну именно в те минуты, когда он позволял ей разделять с ним его жизнь. Однако это тоже было свидетельством её олевелости.
Возможно даже (она вновь и вновь возвращалась к этой мысли), что именно олевелость сближала её с Уном, отдаляя от Тритта, и, наверное, именно поэтому упрямая узость правника была ей так неприятна. Ун никогда не выражал своего отношения к такому необычному положению вещей в их триаде, но Тритт, пожалуй, смутно ощущал что-то неладное и, хотя был не способен понять, в чём дело, всё же улавливал достаточно, чтобы чувствовать себя несчастным и не разбираясь в причинах.
Когда она впервые попала в Жесткие пещеры, ей довелось услышать разговор двух Жестких. Конечно, тогда она не поняла, что они разговаривают. Просто воздух вибрировал очень сильно и неравномерно, отчего у неё где-то глубоко внутри возник неприятный зуд. Она даже начала разреживаться, чтобы вибрации проходили насквозь, не задевая её. Но тут Ун сказал:
«Это они разговаривают».
И поспешил добавить, предвосхищая её недоуменный вопрос:
«По-своему. Мы так не можем. Но они друг друга понимают».
Дуа сразу сумела уловить это совершенно непривычное для неё представление — и радость познания нового стала ещё больше потому, что Ун был очень доволен её сообразительностью. (Он как-то сказал: «У всех рационалов, которых я знаю, эмоционали — совершенные дурочки. Мне удивительно повезло». А она ответила: «Но другим рационалам нравятся как раз дурочки. Почему ты не такой, как они?» Ун не стал отрицать, что другим рационалам нравятся дурочки, а просто заметил: «Я никогда над этим не размышлял, и, на мой взгляд, это не стоит размышлений. Просто я горжусь тобой и я горд своей гордостью».)
Она ответила: «А ты понимаешь, что говорят Жесткие, когда они говорят по-своему?»
«Не совсем, — ответил Ун. — Я не успеваю воспринимать различия в колебаниях. Иногда мне удаётся уловить ощущение общего смысла их речи — особенно после синтеза. Но далеко не всегда. Улавливать ощущение — это, собственно, свойство эмоционалей, но беда в том, что эмоциональ не способна воспринять смысл того ощущения, которое она улавливает. А вот ты, пожалуй, сумела бы».
Дуа застеснялась.
«Я бы побоялась. А вдруг им это не понравится?»
«Ну, попробуй! Мне очень интересно знать, получится ли у тебя что-нибудь. Проверь, сможешь ли ты понять, о чём они говорят».
«Ты правда этого хочешь?»
«Правда. Если они поймают тебя на этом и рассердятся, я скажу, что это я велел».
«Обещаешь?»
«Обещаю».
Сама почти вибрируя, Дуа рискнула настроиться на Жестких и замерла в полной пассивности, которая даёт возможность воспринимать чужие ощущения.
Она сказала:
«Возбуждение! Они волнуются. Из-за кого-то нового».
«Может быть, это Эстуолд», — заметил Ун.
Так Дуа в первый раз услышала это имя. Она сказала:
«Как странно!»
«Что странно?»
«Я ощущаю солнце. Очень большое солнце».
Ун стал серьёзным.
«Да, они могут говорить про это».
«Но как же так? Где оно?»
Тут Жесткие заметили их, подошли поближе и ласково поздоровались, выговаривая слова так, как их выговаривают Мягкие. Дуа ужасно смутилась, и ей стало страшно — а вдруг они знают, что она на них настраивалась? Но они, даже если и заметили это, ничего ей не сказали.
(Потом Ун объяснил ей, что подсмотреть, как Жесткие разговаривают между собой по-своему, удаётся очень редко. Они всегда считаются с присутствием Мягких и, увидев их, тотчас оставляют свою работу. «Они нас любят, — сказал Ун. — И они очень добрые».)
Ун и после этого иногда водил её в Жесткие пещеры — обычно в те часы, которые Тритт всецело посвящал детям. И не считал нужным сообщать Тритту об этих их прогулках. Тритт непременно заговорил бы о том, что Ун без конца потакает Дуа и она, того и гляди, вовсе перестанет питаться, а тогда какой же будет толк от синтеза?.. С Триттом невозможно было и двух слов сказать без того, чтобы он так или иначе не упомянул про синтез.
Три раза она отправлялась в Жесткие пещеры совсем одна, хотя и пугалась собственной смелости. Правда, Жесткие, которые ей встречались, всегда были ласковы, или «очень добрые», как выразился Ун. Но они не принимали её всерьёз. Когда она задавала вопросы, они были довольны, но в то же время посмеивались — это она ощущала совершенно ясно. И отвечали так просто, что их слова не содержали никаких сведений. «Это машина, Дуа, — говорили они. — Может быть, Ун сумеет объяснить, что это такое».
Интересно, а был ли среди них Эстуолд? У неё не хватило храбрости спрашивать Жестких, как их зовут. И по имени она знала только Лостена, с которым её познакомил Ун и о котором она много слышала раньше. Иногда ей казалось, что вот этот Жесткий или вон тот, наверное, и есть Эстуолд. Ун говорил об Эстуолде с величайшим почтением и с некоторой обидой.
Насколько она поняла, Эстуолд был так поглощен чрезвычайно важной работой, что почти никогда не заглядывал в пещеры, куда допускались Мягкие.
Она свела воедино то, о чём ей в разное время сообщал Ун, и мало-помалу поняла, что мир получает всё меньше и меньше пищи. Впрочем, Ун почти никогда не говорил «пища», а только «энергия», объяснив, что так её называют Жесткие.
Солнце остывало, оно умирало, но Эстуолд открыл, как можно добыть энергию из неимоверной дали, которая лежит дальше Солнца, дальше семи звезд, светящихся в тёмном небе. (Ун как-то объяснил, что семь звезд — это семь солнц, только находящихся очень далеко, и что есть ещё много звезд, ещё более далеких, а потому их нельзя увидеть. Это услышал Тритт и спросил, зачем нужны звёзды, если их нельзя увидеть, а потом заявил, что ничему этому не верит. Ун терпеливо произнес: «Ну, Тритт, оставь». Дуа как раз собиралась сказать примерно то же, что и Тритт, но после этого удержалась и промолчала.)
А теперь получалось, что в будущем энергии станет опять много — и уже навсегда. Пищи будет сколько угодно — как только Эстуолд и другие Жесткие сумеют сделать новую энергию достаточно вкусной.
Всего несколько дней назад она сказала Уну:
«Помнишь, как давным-давно, когда ты в первый раз привёл меня в Жесткие пещеры и я настроилась на Жестких, я сказала, что поймала ощущение большого солнца?»
Он не сразу сообразил, о чём она говорит.
«Я что-то не помню. Но продолжай, Дуа. Почему ты об этом заговорила?»
«Я всё думаю — ведь это большое солнце и есть источник новой энергии?»
А Ун ответил с радостью:
«Отлично, Дуа! Это не совсем точно, но такая интуиция у эмоционали — это великолепно!»
Дуа, хмуро перебирая все эти воспоминания, медленно двигалась и двигалась вперёд. Она добралась до Жестких пещер и только тут заметила, что совсем утратила представление о времени и пространстве. Она уже подумала, что слишком задержалась и, пожалуй, лучше будет всё-таки вернуться домой и вытерпеть неизбежные упреки Тритта, как вдруг… словно причиной этому была мысль о Тритте… она ощутила Тритта совсем рядом.
Ощущение было удивительно сильным, и мелькнувшая было у неё мысль, что она вопреки всякой вероятности уловила его чувство через расстояние, отделяющее её от домашней пещеры, тут же исчезла. Нет-нет! Он здесь, в Жестких пещерах, неподалеку от неё.
Но что он тут делает? Ищет её? Собирается бранить её здесь? Или ему взбрело на ум нажаловаться Жестким? Нет, уж этого она не вынесет…
Но чувство холодного ужаса тут же угасло, сменившись изумлением. Тритт вовсе не думал о ней. Он не чувствовал её присутствия. Она воспринимала только всепоглощающую решимость, к которой примешивались робость и страх перед тем, что он намеревался сделать.
Дуа могла бы проникнуть глубже и хотя бы в общих чертах узнать, что он собирается сделать и почему, но ничего подобного ей и на мысль не пришло. Раз уж Тритт не знает, что она тут, важно одно — чтобы он этого так и не узнал.
И она почти инстинктивно совершила то, что всего мгновение назад показалось бы ей невероятным, не допустимым ни при каких обстоятельствах.
Быть может (как она решила позже), всё случилось оттого, что совсем недавно она вспоминала свои разговоры с Доралью и детское камнеедство (у камнеедства было сложное взрослое название, но детское смущало её меньше).
Но как бы то ни было, не отдавая себе отчета в том, что она делает… в том, что она уже сделала… Дуа торопливо скользнула в ближайшую стену.
Глубоко внутрь! Вся целиком!
Она ужаснулась своему поступку, но ей тут же стало легче оттого, что её уловка оказалась не напрасной: Тритт прошёл совсем рядом с ней, но в нём ни на миг не возникло даже смутного ощущения, что он мог бы сейчас дотронуться до своей эмоционали.
Впрочем, Дуа уже больше не думала о том, зачем Тритт явился в Жесткие пещеры, ищет ли он её или нет.
Она попросту забыла про Тритта.
В это мгновение она не испытывала ничего, кроме всепоглощающего изумления. Ведь даже в детстве она ни разу не смешивалась с камнем целиком и не встречала эмоционали, которая призналась бы в чём-нибудь подобном (хотя у каждой из них была наготове сплетня именно про такой случай с кем-то из подруг). И уж конечно, ни одна взрослая эмоциональ не проникала в камни целиком — да и не смогла бы, как бы ни старалась. Дуа ведь была удивительно разрежена даже для эмоционали (Ун часто и с гордостью говорил ей это), чему способствовало её нежелание есть как следует (о чём постоянно твердил Тритт).
Случившееся доказывало степень её разреженности куда весомее любых упреков правника. Ей стало стыдно, и она почувствовала жалость к Тритту.
Но тут же испытала другой и более мучительный стыд: что, если её обнаружат? Если кто-нибудь увидит, что взрослая эмоциональ…
Вдруг какой-нибудь Жесткий задержится в этой пещере как раз в ту минуту… Нет, никакие силы не заставят её покинуть камень, если будет хоть малейшая опасность, что её заметят… Но сколько времени можно оставаться в камне? И что произойдёт, если её обнаружат прямо в нём?
В тот же миг она ощутила Жестких и тут же, сама не зная как, поняла, что они далеко.
Она помедлила, стараясь успокоиться. Камень, окружавший и пронизывающий её, придавал какую-то тусклость её восприятию, но не притуплял его. Наоборот, оно даже обострилось. Она по-прежнему ощущала равномерное продвижение Тритта, уходящего всё дальше и дальше, — причем так, словно он был рядом. И она воспринимала Жестких, хотя они находились через один пещерный комплекс от неё. Она их словно видела! Каждого в отдельности, каждого на его месте. Она улавливала малейшие оттенки их вибрирующей речи и даже кое-что понимала!
Никогда ещё она не воспринимала с такой остротой. Ей даже не грезилось, что можно так воспринимать.
А потому Дуа, хотя она и могла бы сейчас выбраться из камня, твёрдо зная, что вокруг никого нет и никто её не увидит, осталась там, где была. Её удерживало удивление и ещё тот странный жаркий восторг, который она испытывала от процесса понимания. Ей хотелось продлить его.
Ее восприимчивость достигла такой степени, что она даже осознала, чем объясняется подобная чувствительность. По словам Уна, после синтеза он начинал без труда разбираться в том, что прежде казалось недоступным пониманию. Что-то в периоды синтеза невероятно повышало восприимчивость — поглощение и усвоение убыстрялись и усиливались. Всё дело тут в более тесном расположении атомов, объяснил Ун.
Правда, Дуа не знала, что такое «более тесное расположение атомов», но одно было ясно: это состояние наступает при синтезе, а разве то, что происходит с ней сейчас, не похоже на синтез? Ведь она словно синтезировалась с камнем.
При синтезе триады вся совокупность их общей восприимчивости доставалась Уну. Благодаря этому рационал расширял своё понимание, сохраняя его и после окончания синтеза. Но в этом подобии синтеза всё сознание принадлежит ей одной. Ведь тут нет никого, кроме неё и камня. И значит, «более тесное расположение атомов» (так ведь?) служит только ей.
Уж не потому ли камнеедство считается гадкой привычкой? Потому, что оно уравнивает эмоционалей с рационалами? Или только она, Дуа, способна на это благодаря своей разреженности (или, быть может, олевелости)?
Но тут Дуа перестала размышлять и только воспринимала, всё больше увлекаясь. Она чувствовала, что Тритт возвращается, проходит мимо, удаляется, — но её сознание лишь машинально зарегистрировало всё это. И столь же машинально, даже не удивившись, она заметила, что из Жестких пещер той же дорогой уходит Ун. Она настроилась только на Жестких, только на них, и старалась как можно глубже и полнее улавливать смысл того, что воспринимала.
Дуа выбралась из камня лишь много времени спустя. И она уже больше не боялась, что её могут заметить: её новая восприимчивость и чувствительность служили надёжной гарантией против этого.
Она заструилась домой, поглощенная своими мыслями.
Глава 3б
Когда Ун вернулся домой, его там ждал Тритт, но Дуа ещё не появлялась. Тем не менее Тритта это, казалось, не волновало. То есть он, несомненно, был взволнован, но по какой-то другой причине. Его чувства были настолько сильны, что Ун улавливал их с большой чёткостью, однако он не стал в них разбираться. Ему нужна была Дуа, и он вдруг поймал себя на том, что присутствие Тритта его сейчас раздражает — только потому, что Тритт не Дуа.
Это его удивило. Ведь от самого себя он не мог скрывать, что из них двоих всегда больше любил Тритта. Разумеется, все члены идеальной триады должны составлять единое целое и относиться друг к другу одинаково, не делая различия даже между собой и остальными двоими. Однако такой триады Ун ещё никогда не встречал — и меньше всего к идеалу приближались именно те, кто громко хвастал, что их триада полностью ему соответствует. Один из троих всегда оказывался чуточку в стороне и обычно сознавал это.
Но только не эмоционали! Они оказывали друг другу взаимную внетриадную поддержку в степени, недоступной ни для рационалов, ни для пестунов. Недаром поговорка гласит: «У рационала — руководитель, у пестуна — дети, а у эмоционали — все другие эмоционали».
Эмоционали обсуждали между собой жизнь своих триад, и, если какая-нибудь жаловалась на пренебрежение или остальные внушали ей, будто она позволяет помыкать собой, её отсылали домой с визгливыми наставлениями отвердеть и требовать! А поскольку синтез в значительной мере зависел от эмоционали и её настроений, левый и правый обычно всячески ей потакали и баловали её.
Но ведь Дуа была такой неэмоциональной эмоциональю! её как будто вовсе не задевало, что Ун и Тритт не так близки с ней, как между собой, а среди эмоционалей у неё не было подруг, которые растолковали бы ей её права.
Уну нравилось, что она так живо интересуется его занятиями, нравилась её сосредоточенность и удивительная быстрота понимания, но это была интеллектуальная любовь. А по-настоящему дорог ему был медлительный глупый Тритт, который так хорошо знал своё место и не вносил в их жизнь ничего, кроме самого нужного, самого главного — спокойной и надёжной привычности.
И вот теперь Ун злился на Тритта!
Он спросил:
— Тритт, ты не знаешь, где сейчас Дуа?
Тритт не ответил прямо, а сказал только:
— Я занят. Я с тобой потом поговорю. У меня дела.
— А где дети? Ты что, тоже уходил? В тебе чувствуются следы другого места.
В голосе Тритта появилась явная досада.
— Дети хорошо воспитаны. Они остаются там, где за ними всегда могут приглядеть другие пестуны. Ун, они ведь давно уже не крошки.
Но он ничего не сказал про ощущение «другого места», которое от него исходило.
— Извини. Я просто хотел бы знать, где Дуа.
— А ты бы почаще этого хотел, — сказал Тритт. — Ты ведь всё время твердишь, чтобы я оставил её в покое. Ну, вот и ищи её сам.
И Тритт. удалился в дальнюю часть домашней пещеры.
Ун глядел вслед своему правнику с некоторым удивлением. При других обстоятельствах он непременно постарался бы проанализировать совершенно необычное волнение, которое пробивалось даже сквозь врождённую пестунскую невозмутимость. Что натворил Тритт?
…Но где же всё-таки Дуа? С каждой минутой его тревога нарастала, и он тут же забыл про Тритта.
Беспокойство обострило восприимчивость Уна. Среди рационалов было даже принято гордиться низкой чувствительностью. Способность улавливать ощущения не принадлежала к сфере разума, это было преимущественно свойство эмоционалей. И Ун, рационал из рационалов, всегда особенно ценил в себе способность мыслить, а не чувствовать. Тем не менее теперь он, как мог, широко раскинул свою бедную сеть чувственного восприятия и даже вдруг на мгновение пожалел, что он не эмоциональ и сеть эта так несовершенна.
Однако оказалось, что и она в какой-то мере эффективна. Во всяком случае, он ощутил приближение Дуа на довольно большом (по крайней мере, для него) расстоянии и поспешил ей навстречу. Кроме того, с такого расстояния он острее обычного воспринимал её разреженность. Она была как легкая дымка, не больше…
«Тритт прав, — с внезапной жгучей тревогой подумал Ун. — Надо заставить Дуа питаться, синтезироваться — необходимо пробудить в ней интерес к жизни».
Эта мысль настолько завладела им, что он даже не увидел ничего странного в том, как Дуа заструилась вокруг него, словно они были у себя дома, вдали от посторонних глаз. Она говорила:
— Ун, мне необходимо узнать… так много, так много!
Он отстранился — всё-таки следовало считаться с приличиями! Но постарался сделать это как можно осторожнее, чтобы Дуа не подумала, будто он недоволен.
— Пойдём! — сказал он. — Я просто вышел к тебе навстречу. Скажи, что ты хочешь узнать, и я объясню, если знаю сам.
Они быстро двигались к дому, и Ун охотно приспосабливался к волнистому струению, обычному для эмоционалей.
Дуа сказала:
— Расскажи мне про другую вселенную. Почему она не такая? И чем она не такая? Расскажи мне всё-всё.
Дуа совершенно не представляла себе, как много она хочет знать. Но Ун это себе представлял. Он ощутил неимоверное богатство собственных сведений и чуть было не спросил: «Откуда ты узнала про другую вселенную столько, что она тебя заинтересовала?»
Но он удержался. Дуа возвращалась со стороны Жестких пещер. Может быть, с ней разговаривал Лостен, предположив, будто Ун всё-таки слишком гордится статусом радио-нала и не снизойдёт до того, чтобы удовлетворить любознательность своей середины.
«Как будто я на это способен!» — подумал Ун с полным сознанием своей ответственности. Не нужно ничего спрашивать. Он просто объяснит ей всё, что сможет.
В домашней пещере их хлопотливо встретил Тритт.
— Если хотите разговаривать, так идите в комнату Дуа. У меня тут много дела. Мне нужно присмотреть, чтобы дети привели себя в порядок и сделали все упражнения. Времени синтезироваться у меня нет. И не думайте!
О синтезировании ни Ун, ни Дуа не думали, тем не менее они послушно свернули в комнату Дуа. Дом принадлежит пестуну. Рационалу открыты Жесткие пещеры на нижних уровнях, эмоциональ всегда может отправиться на поверхность. У пестуна же есть только дом. А потому Ун поспешил ответить:
— Хорошо, Тритт, мы не будем тебе мешать.
А Дуа излучила нежность и сказала:
— Мне приятно увидеть тебя, правый мой.
(Ун спросил себя, не объясняется ли её нежность отчасти тем, что Тритт против обыкновения не стал требовать синтеза. Нельзя отрицать, что Тритт действительно придаёт синтезу излишнее значение. Другие пестуны далеко не так настойчивы.)
У себя в комнате Дуа вдруг уставилась на кормильник, хотя обычно она старалась даже не смотреть в его сторону.
Установить кормильник придумал Ун. Он знал о существовании подобных приспособлений и объяснил Тритту, что, раз уж Дуа не хочет питаться рядом с другими эмоционалями, можно без всякого труда доставлять солнечную энергию прямо в пещеру — пусть Дуа питается дома.
Тритт пришёл в ужас. Никто же так не делает! Все будут смеяться! Триада покроет себя позором! Почему Дуа не хочет вести себя как полагается?
«Конечно, это было бы лучше, Тритт, — сказал тогда Ун. — Но раз уж она не ведёт себя как полагается, так почему бы не помочь ей? Что тут, собственно, плохого? Она будет питаться дома, наберётся энергии — а от этого станет лучше и ей, и нам, — и, может быть, она даже начнет выходить на поверхность с другими эмоционалями».
Тритт согласился, и даже Дуа согласилась, хотя и после долгих уговоров, но настояла при этом на самой простой конструкции. А потому Уну при конструировании кормильника пришлось ограничиться двумя примитивнейшими стержнями, которые служили электродами и передавали в пещеру солнечную энергию. Они были установлены так, чтобы Дуа могла поместиться между ними. Впрочем, пользовалась она ими очень редко.
Однако на этот раз Дуа долго смотрела на кормильник, а потом сказала:
— Тритт его украсил… Или это ты, Ун?
— Я? Ну конечно, нет.
У основания обоих электродов были выложены узоры из цветной глины.
— Наверное, он решил таким способом напомнить, чтобы я не забыла поесть, — заметила Дуа. — А я и вправду проголодалась. К тому же, пока я буду есть, Тритт нас перебивать не станет, ведь верно?
— Разумеется, — сказал Ун с глубоким убеждением. — Тритт способен был бы остановить мир, если бы вдруг подумал, что его вращение мешает тебе питаться.
— Ну… я и правда проголодалась, — повторила Дуа.
Уну показалось, что он уловил ощущение виноватости.
Из-за Тритта? Из-за того, что она голодна? Но почему Дуа должна чувствовать себя виноватой, если ей захотелось есть?
Или она занималась чем-то таким, что поглотило очень много энергии, и теперь испытывает…
Он раздраженно отбросил эти мысли. Избыток рациональности, пожалуй, всё-таки не украшает рационала. Несомненно, прослеживание каждой частной идеи наносит ущерб главному. А сейчас главным был разговор с Дуа.
Она расположилась между электродами. Для этого ей пришлось сжаться, и Ун ещё отчетливей осознал, какая она маленькая. Тут он понял, что и сам голоден. Он заметил это потому, что свечение электродов представлялось ему более ярким, чем обычно, а кроме того, он ощущал вкус пиши даже на таком расстоянии, и вкус этот казался ему восхитительным. А ведь, проголодавшись, всегда воспринимаешь вкус пищи острее и на большем расстоянии… Ну, ничего, поест попозже.
— Не молчи, левый мой, — сказала Дуа. — Расскажи мне про ту вселенную. Я хочу знать.
Она приняла (бессознательно?) форму овоида — форму рационала, словно убеждая его говорить с ней как с рацио-налом.
— Всего я объяснить не могу, — начал Ун. — То есть научную сторону. У тебя ведь нет нужной подготовки. Но я постараюсь говорить как можно проще и понятнее, а ты слушай и не перебивай. Когда я кончу, ты скажешь, что для тебя осталось неясным, и тогда я попробую тебе это растолковать. Ну, во-первых, я хочу тебе напомнить, что всё на свете состоит из мельчайших частиц, которые называются атомами и, в свою очередь, состоят из ещё более мелких субатомных частиц.
— Да-да! — сказала Дуа. — Благодаря этому мы и можем синтезироваться.
— Совершенно верно. Ведь в действительности мы состоим почти из пустоты. Частицы эти разделены значительными расстояниями, и твои частицы могут перемешиваться с частицами Тритта и моими потому, что каждая структура беспрепятственно входит в пустоты другой структуры. Но вещество всё же не распадается, потому что эти крохотные частицы обладают способностью удерживать друг друга даже через разделяющее их расстояние. В систему их объединяют силы притяжения, из которых самая могучая — та, которую мы называем ядерной силой. Она удерживает главные из субатомных частиц в тесных скоплениях, которые располагаются на довольно значительных расстояниях друг от друга, но тем не менее остаются вместе благодаря действию более слабых сил. Тебе это понятно?
— Не всё, — ответила Дуа.
— Ничего. Мы вернёмся к этому позже… Вещество может существовать в различных состояниях. Оно может быть очень разреженным, как в эмоционалях — как в тебе, Дуа. Или же оно может быть более плотным, как в рационалах и пестунах. Или ещё плотнее, как в камнях. Оно может быть и очень сжатым, то есть сгущенным — как в Жестких. Потому-то они и Жесткие. Они состоят сплошь из частиц.
— Значит, в них вовсе нет пустоты? Ты это имеешь в виду?
— Нет, не то чтобы вовсе… — Ун запнулся, подыскивая подходящее объяснение. — В них пустоты много, но гораздо меньше, чем в нас. Частицам обязательно требуется определённое количество пустого пространства, и, если они его займут, другие частицы уже не могут в него втиснуться. Если же их вгоняют насильно, возникает боль. Вот почему Жесткие не любят, чтобы мы к ним прикасались. У нас, у Мягких, пустого пространства между частицами больше, чем требуется, а потому находится место и другим частицам.
Дуа, по-видимому, не могла полностью охватить эту мысль, и Ун заторопился.
— В другой вселенной правила другие. У них ядерные силы слабее, чем у нас. А значит, их частицам требуется больше пустого пространства.
— Почему?
Ун покачал верхним овоидом.
— Потому что… ну, потому что волновые формы частиц там распространяются дальше. Понятнее я объяснить не могу. Раз ядерная сила слабее, частицам требуется больше пространства, и два разделенных объёма вещества не способны смешиваться с такой же лёгкостью, как в нашей вселенной.
— А мы можем увидеть ту вселенную?
— О нет! Это невозможно. Мы можем только сделать некоторые выводы из её основных законов, которые нам известны. Однако Жесткие умеют очень многое. Мы научились пересылать туда вещество и получать вещество от них. Мы можем изучать их вещество, понимаешь? И мы создали Позитронный Насос. Ты ведь про него знаешь?
— Ну, ты говорил, что с его помощью мы получаем энергию. Но я не знала, что он работает, потому что существует другая вселенная… А какая она? У них там есть звёзды и миры, как у нас?
— Превосходный вопрос, Дуа! — Ун теперь наслаждался ролью учителя даже сильнее, чем раньше, потому что, так сказать, заручился одобрением Жестких. (До сих пор ему всё время мешало ощущение, что пытаться объяснить эмоционали подобные вещи не совсем прилично.)
Он продолжал:
— Мы не можем увидеть другую вселенную, но, зная её законы, можем представить себе, какой она должна быть. Видишь ли, звёзды светят благодаря тому, что простые комбинации частиц постепенно преобразуются в более сложные. Мы называем это ядерным слиянием.
— И у них в той вселенной тоже так?
— Да. Но поскольку ядерная сила у них слабее, слияние происходит гораздо медленнее. Отсюда следует, что звёзды в той вселенной должны быть гораздо, гораздо больше, иначе происходящего в них слияния будет недостаточно для того, чтобы они сияли. В той вселенной звёзды величиной с наше Солнце были бы холодными и мертвыми. А если бы наши звёзды были больше, то происходящее в них слияние количественно настолько увеличилось бы, что они мгновенно взорвались бы. Отсюда следует, что число наших, маленьких, звезд в нашей вселенной должно в тысячи раз превышать число их, больших, звезд в их вселенной.
— Но у нас же только семь… — начала было Дуа и тут же поправилась: — Ах да, я забыла!
Ун снисходительно улыбнулся. Так легко забыть об остальных неисчислимых звездах, если их можно видеть только с помощью специальных приборов!
— Да, это бывает. Но тебе не скучно меня слушать?
— Совсем нет! — воскликнула Дуа. — Мне очень интересно. Даже пища приобретает какой-то особенно приятный вкус! — И она блаженно заколыхалась между электродами.
Ун обрадовался — он ещё никогда не слышал, чтобы Дуа говорила о еде без пренебрежения.
— Разумеется, срок жизни их вселенной много больше, чем нашей, — продолжал он. — Здесь у нас ядерное слияние происходит с такой скоростью, что все частицы должны войти в более сложные соединения за миллион циклов.
— Но ведь есть ещё множество других звезд!
— Конечно. Но видишь ли, этот процесс происходит в них во всех одновременно. И вся наша вселенная умирает. В той вселенной, где звезд много меньше, но они гораздо больше по величине, слияние происходит настолько медленнее, что их звёзды живут в тысячи, в миллионы раз дольше, чем наши. Впрочем, сравнивать трудно, так как не исключено, что у них и у нас время движется с разной скоростью. — Помолчав, он добавил с неохотой: — Этого я и сам хорошенько не понимаю. Это одно из положений теории Эстуолда, а я её ещё толком не изучал.
— Значит, всё это открыл Эстуолд?
— Не всё, но многое.
— До чего же чудесно, что мы научились получать пищу из той вселенной, — сказала Дуа. — Ведь теперь уже не страшно, что наше Солнце умрет. Всю необходимую пищу нам даст та вселенная.
— Именно.
— Но ничего плохого не происходит? У меня такое… такое чувство, что не всё хорошо.
— Ну, — сказал Ун, — для того чтобы Позитронный Насос работал, мы передаем вещество то туда, то сюда, и в результате обе вселенные чуть-чуть смешиваются. Наша ядерная сила слегка ослабевает, а потому слияние в нашем Солнце немного замедляется и оно остывает быстрее. Но убыстрение это ничтожно мало, а к тому же мы теперь можем обойтись и без Солнца.
— Нет, моё чувство «что-то плохо» не связано с этим. Но если ядерная сила становится чуточку слабее, значит, атомы начинают занимать больше пространства — верно? А что же произойдёт с синтезированием?
— Оно чуть-чуть затруднится, но пройдут миллионы циклов, прежде чем синтезирование станет по-настоящему трудным. Не исключено, что придёт день, когда оно окажется вовсе невозможным, и Мягкие вымрут. Однако прежде пройдут миллионы и миллионы циклов, а если мы не будем получать пищу из той вселенной, мы все погибнем от голода гораздо раньше.
— Нет, «что-то плохо» я ощущаю не поэтому… — Дуа говорила всё медленнее, потом её голос замер.
Она изгибалась между электродами, и Ун с радостью подумал, что она стала заметно больше и плотнее, как будто его объяснения питали её не хуже, чем солнечная энергия.
Лостен был прав! Знания приносят ей ощущение полноты жизни! Ун никогда ещё не чувствовал в Дуа такой беззаботной упоённости. Она сказала:
— Ун, спасибо тебе, что ты мне всё объяснил. Ты — замечательный левник.
— Хочешь, чтобы я продолжал? — польщённо спросил Ун (он был необыкновенно доволен). — Ну, так что ещё тебя интересует?
— Очень-очень многое. Но только не теперь, Ун. А теперь, Ун, теперь… Ты знаешь, чего я хочу?
Ун понял сразу, но он боялся что-нибудь сказать: слишком редко Дуа сама заговаривала о синтезе, и он боялся спугнуть её настроение. Если бы Тритт не возился с детьми…
Но Тритт уже был в комнате. Неужели он ждал за дверью?.. Но если и так? Сейчас не время думать об этом.
Дуа заструилась из пространства между электродами, и Ун был ошеломлен её красотой. Теперь она была между ним и Триттом. Сквозь её дымку Тритт весь мерцал, и его очертания вспыхивали неимоверными красками.
Такого ещё никогда не бывало. Никогда!
Ун старался продлить это мгновение, но его вещество атом за атомом смешивалось с Дуа, с Триттом, и мысли исчезли, растворились в невероятной, невыразимой радости бытия.
Никогда ещё со дня возникновения триады период вневременного бессознательного существования не продолжался так долго.
Глава Зв
Тритт был доволен. Он получил от синтеза всё, чего хотел. Все прошлые не шли с этим ни в какое сравнение. Мысль о том, что произошло, переполняла его ликованием. Но он молчал. Он чувствовал, что говорить об этом не надо.
Ун и Дуа тоже были счастливы. Он это ощущал. И даже дети так и светились.
Но счастливей всех был он, Тритт, — а как же иначе?
Он слушал разговоры Уна с Дуа и ничего не понимал. Но теперь это не имело больше никакого значения. Его не задевало, что им как будто вполне достаточно друг друга. У него была своя радость, а потому он слушал с удовольствием.
Как-то Дуа сказала:
— Значит, они действительно пытаются вступить в общение с нами?
(Тритт так и не разобрался, что это были за «они», хотя понял, что «вступать в общение» попросту означает «разговаривать». Почему бы так прямо и не сказать? Иногда ему хотелось вмешаться. Но если он задаст вопрос, Ун ответит только: «Да ну же, Тритт!» — а Дуа нетерпеливо заклубится.)
— Несомненно, — ответил Ун. — Жесткие в этом уверены. На веществе, которое мы получаем, иногда есть метки, и Жесткие говорят, что подобные метки вполне могут служить для общения. Сначала Жесткие даже сами использовали метки, чтобы объяснить тем существам, как сконструировать их часть Позитронного Насоса.
— Интересно, а как выглядят те существа? Ты можешь себе это представить?
— Исходя из законов той вселенной, мы можем установить свойства её звезд, потому что это просто. Но как установить свойства живых существ? Нет, мы никогда не узнаем, какие они.
— А не могли бы они сообщить это?
— Пожалуй… если бы мы понимали, что они сообщают. Но мы не понимаем их меток.
Дуа как бы огорчилась.
— Неужели и Жесткие не понимают?
— Не знаю. Во всяком случае, мне они про это не говорили. Лостен как-то сказал, что совершенно неважно, какие они, лишь бы Позитронный Насос работал и мощность его становилась больше.
— Может быть, у него не было времени и он не хотел, чтобы ты ему мешал?
— Я никогда ему не мешаю, — обиженно ответил Ун.
— Ты ведь понимаешь, что я хотела сказать. Просто ему не хотелось говорить об этом подробно.
Тут Тритт перестал слушать. А они ещё долго спорили, надо ли просить Жестких, чтобы Дуа позволили посмотреть на метки. Дуа сказала, что она попробовала бы уловить их смысл.
Тритт даже рассердился. Ведь Дуа — всего только Мягкая и даже не рационал. Наверное, зря Ун столько ей рассказывает. Она уже воображает себя неведомо кем…
Тритт заметил, что Ун тоже рассердился. Сначала он засмеялся. Потом сказал, что всё это слишком сложно для эмоционали. А потом вообще замолчал. И Дуа долго к нему ластилась, а он никак не хотел мириться.
А один раз рассердилась Дуа — просто в бешенство пришла.
Сначала всё было очень тихо. Они пустили к себе детей. И Ун позволил им возиться возле него. Даже когда Торун, правуленька, начал его тянуть, он не рассердился, хотя потерял при этом форму самым потешным образом. Но он только смеялся и начал сам менять форму. Верный признак, что он в хорошем настроении. Тритт отдыхал в уголке, и всё, что происходило, было ему очень приятно.
Дуа тоже смеялась над бесформенностью Уна и, поддразнивая, заструила своё вещество по его шишкам. А ведь Тритт знал, что ей хорошо известно, какой чувствительной бывает поверхность левых, когда они утрачивают форму овоида.
Дуа говорила:
— Я всё думаю, Ун… Если законы той вселенной понемножку переходят к нам через Позитронный Насос, так, значит, и наша вселенная по капельке отдаёт им свои?
Ун охнул от её прикосновения и отдернулся, но так, чтобы не напугать малышей.
— Если ты хочешь, чтобы я отвечал, так перестань, серединка ты эдакая, — пропыхтел он.
Дуа перестала его щекотать, и он сказал:
— Отличное предположение, Дуа. Ты поразительна! Ну конечно, смешение — двухсторонний процесс… Тритт, уведи малышей, хорошо?
Но они уже сами удрали. Да и какие они малыши? Вон какие выросли! Аннис скоро начнет своё образование, а Торун уже оквадратился, как настоящий пестун.
Тритт остался и начал думать о том, что Дуа выглядит очень красивой, когда Ун ведёт с ней такие разговоры.
— Но если те законы замедляют реакции в нашем Солнце и охлаждают его, — сказала Дуа, — значит, наши законы ускоряют реакции в тех солнцах и нагревают их?
— Совершенно верно, Дуа. Ни один рационал не сделал бы более точного вывода.
— И намного нагреваются их солнца?
— Нет. Они становятся чуточку теплее, лишь самую чуточку.
— Но у меня именно тут появляется чувство «что-то плохо», — сказала Дуа.
— Видишь ли, беда в том, что их солнца слишком уж велики. Если наши маленькие солнца остывают чуть быстрее, это никакого значения не имеет. Даже если они вообще погаснут, это не страшно до тех пор, пока у нас есть Позитронный Насос. Но на огромные, колоссальные звёзды самое легкое нагревание может подействовать очень сильно. В каждой из этих звезд столько вещества, что даже самое ничтожное ускорение ядерного слияния заставит её взорваться.
— Как — взорваться? А что тогда будет с людьми?
— С какими людьми?
— С теми, которые живут в той вселенной.
Ун некоторое время недоумевающе смотрел на неё, а потом ответил:
— Я не знаю.
— Ну а что случилось бы, если бы вдруг взорвалось наше Солнце?
— Оно не может взорваться.
(Тритт был не в силах понять, отчего они так волнуются. Ну как Солнце может взорваться? Дуа словно бы рассердилась, а Ун смутился.)
Дуа сказала:
— Ну а всё-таки? У нас тут станет тогда очень горячо?
— Наверное.
— И мы все погибнем, ведь так?
Ун промолчал, а затем сказал с явной досадой:
— Но, Дуа, ведь это не имеет ни малейшего значения! Нашему Солнцу взрыв не грозит, и, пожалуйста, не задавай глупых вопросов.
— Ты сам просил меня задавать вопросы, Ун! И это имеет значение, потому что Позитронный Насос может работать только в обеих вселенных сразу. И без них у нас ничего не получится.
Ун внимательно посмотрел на неё:
— Я ведь тебе этого не говорил!
— Но я ощущаю!
— Ты чересчур много ощущаешь, Дуа… — сказал Ун.
И вот тут Дуа начала кричать вне себя от ярости. Тритт никогда ещё не видел её такой.
— Не уклоняйся от темы, Ун! И не замыкайся в себе, не делай вида, будто я полная дура — просто эмоциональ, и больше ничего. Ты сам говорил, что я скорее похожа на рационала, и неужели так трудно сообразить, что Позитронный Насос без тех существ работать не будет? Если люди в той вселенной погибнут, Позитронный Насос остановится, а наше Солнце станет ещё холоднее, и мы все умрем с голоду. Как по-твоему, имеет это значение или нет?
Ун тоже начал кричать:
— Вот и видно, сколько ты знаешь! Нам нужна их помощь потому, что концентрация энергии очень низка и мы вынуждены обмениваться с ними веществом. Но если то Солнце взорвётся, возникнет гигантский поток энергии, которого хватит на миллионы циклов. Энергии будет столько, что мы сможем получать её непосредственно, без передачи вещества. А потому они нам не нужны, и то, что произойдёт, не имеет ни малейшего значения…
Они теперь почти соприкасались. Тритт был охвачен ужасом. Он понимал, что должен что-то сказать, развести их в разные стороны, уговорить их. Но он всё не мог придумать, что бы такое сказать. А потом и придумывать не пришлось.
К их пещере приблизился Жесткий. И не один Жесткий, а целых три. Они что-то говорили, но их невозможно было расслышать.
Тритт пронзительно крикнул:
— Ун, Дуа!
И умолк, весь дрожа. Он с испугом ощутил, что они пришли для того…
И он решил уйти.
Но один из Жестких протянул свой постоянный непрозрачный протуберанец и сказал:
— Останься.
Он говорил резко, неласково, и Тритт испугался ещё больше.
Глава 4а
Дуа пылала гневом. Он так её переполнял, что она была буквально не в состоянии ощутить присутствие Жестких. Гнев слагался из отдельных элементов, и каждый элемент сам по себе пронизывал её всю целиком: Ун хотел ей солгать; целый мир людей обречен на гибель; она так легко усваивает знания, а ей не давали учиться. Каждое из этих ощущений говорило о чём-то неправильном и плохом, и каждое это ощущение было невыносимо.
После того раза, когда ей пришлось спрятаться в камне, она ещё дважды побывала в Жестких пещерах. Дважды, никем не замеченная, она погружалась в камень, и каждый раз улавливала что-то и понимала. А потом, когда Ун начинал ей объяснять, она заранее знала, каким будет это объяснение.
Так почему Жесткие не стали учить её, как они учили Уна? Почему они занимаются только с рационалами? Или у неё есть эта способность потому лишь, что она — олевелая эм, плохая середина триады? Ну и тем более пусть учат, раз она такая. А оставлять её без знаний плохо и неправильно.
В конце концов она всё-таки начала улавливать слова Жесткого. Она увидела Лостена, но говорил не он, а незнакомый Жесткий, который стоял впереди. Она его не знала — но ведь кого из них она знает? Этот Жесткий спросил:
— Кто из вас недавно был в нижних пещерах? В Жестких пещерах, как вы их называете?
Дуа не ощутила ничего, кроме возмущения. Они узнали про её камнеедство, а ей всё равно! Пусть рассказывают всем, кому хотят. Да она и сама им скажет!
— Я бывала. Много раз.
— Одна? — спокойно спросил Жесткий.
— Одна. Много-много раз! — выкрикнула Дуа. (Была она там всего три раза, но разве сейчас время считать!)
— Ну и, конечно, я постоянно бываю в нижних пещерах, — пробормотал Ун.
Жесткий не стал его слушать, а повернулся к Тритту и сказал резко:
— А ты, правый?
Тритт пошёл рябью.
— Бывал, Жесткий-ру.
— Один?
— Да, Жесткий-ру.
— Часто?
— Всего раз.
Дуа почувствовала досаду. Бедняга Тритт перепугался совершенно напрасно. Ведь это делала она, и она сумеет постоять за себя.
— Он тут ни при чем, — сказала она. — Этим занималась я.
Жесткий неторопливо повернулся к ней.
— Чем? — спросил он.
— Ну… тем. — Когда настал решительный момент, у неё всё-таки не хватило твёрдости прямо сказать, чем она занималась. Нет, только не при Уне!
— Хорошо, мы поговорим и с тобой. Но сначала всё-таки ответь мне, правый… Тебя зовут Тритт, не так ли? Так зачем ты отправился один в нижние пещеры?
— Поговорить с Жестким, которого зовут Эстуолд, Жесткий-ру.
Тут Дуа, не выдержав, снова вмешалась:
— Это вы Эстуолд?
— Нет, — коротко ответил Жесткий.
Ун недовольно сморщился, словно он смутился оттого, что она не узнала Жесткого. Но ей было всё равно! А Жесткий спросил у Тритта:
— Что ты унес из Жестких пещер?
Тритт не ответил.
Жесткий сказал, не излучая никакого чувства:
— Мы знаем, что ты кое-что взял. Но мы хотим выяснить, знал ли ты, что берешь. Ведь это могло кончиться очень плохо.
Тритт продолжал молчать, но тут вмешался Лостен и ласково попросил:
— Пожалуйста, ответь, Тритт. Мы знаем теперь, что это был ты, а нам не хотелось бы прибегать к строгости.
— Я взял питательный шар, — промямлил Тритт.
— А-а! — Это снова заговорил первый Жесткий. — И что же ты с ним сделал?
И тут Тритт не выдержал.
— Я взял его для Дуа, — бормотал он. — Она не хотела есть. Я взял его для Дуа.
Дуа подскочила и закоалесцировала от удивления.
Жесткий тут же повернулся к ней:
— Ты об этом знала?
— Нет!
— И ты? — обратился он к Уну.
Ун стоял неподвижно, как замороженный. Он ответил:
— Нет, Жесткий-ру.
Несколько мгновений воздух дрожал от неприятных вибраций: Жесткие разговаривали между собой, словно не замечая триады.
То ли периоды камнеедства обострили её восприимчивость, то ли этому способствовал недавний взрыв гнева — Дуа не знала, в чём тут было дело, и не хотела в этом разбираться, но, как бы то ни было, она улавливала смысл… Нет, не слов, а общего хода их разговора…
Они заметили пропажу некоторое время назад. Поиски они начали не поднимая шума. И лишь с большой неохотой пришли к выводу, что виновниками должны быть Мягкие. В результате расследования они сосредоточили внимание на триаде Уна — с ещё большей неохотой. (Почему? Дуа не сумела уловить причину этой неохоты.) По их мнению, ни Ун, ни Дуа виновниками быть не могли. Ун просто не сделал бы такой глупости. Подозревать Дуа было бы нелепо. Ну а о Тритте они даже думать не стали.
Затем третий Жесткий (тот, который пока ни к кому из триады не обращался) припомнил, что как-то видел Тритта в Жестких пещерах. («Верно!» — подумала Дуа. В тот самый день, когда она впервые забралась в камень. Она же тогда ощутила присутствие Тритта. Но только она совсем про это забыла.)
Однако подобное предположение выглядело настолько невероятным, что они пришли сюда только после того, как все остальные поиски ничего не дали, а дальнейшее промедление могло привести к серьёзным последствиям. Они были бы рады посоветоваться с Эстуолдом, но, когда подозрение пало на Тритта, Эстуолда с ними уже не было.
Всё это Дуа восприняла за единый миг и уставилась на Тритта с удивлением и злостью.
Лостен обеспокоенно провибрировал, что всё обошлось благополучно, что у Дуа прекрасный вид и что это можно считать полезным экспериментом. Жесткий, с которым Тритт разговаривал в пещере, соглашался с Лостеном, но третий всё ещё излучал озабоченность.
Впрочем, Дуа уже не следила за ними с прежним вниманием. Она смотрела на Тритта.
Первый из Жестких спросил:
— Тритт, а где сейчас питательный шар?
Тритт показал им.
Шар был спрятан очень надёжно, а проводники, хотя и выглядели неказисто, вполне отвечали своему назначению.
Жесткий спросил:
— Ты сам всё это сделал, Тритт?
— Да, Жесткий-ру.
— А откуда ты знал, что надо сделать?
— Я поглядел, как это было устроено в Жестких пещерах. И сделал всё точно так же, как было там.
— А ты не подумал, что можешь причинить вред своей середине?
— Я ей не повредил! Я ни за что не стал бы делать ей плохо. Я… — Тритт как будто на мгновение потерял дар речи, а потом сказал: — Я не хотел делать ей плохо. Я думал о том, чтобы её накормить. Я сделал так, чтобы пища текла в кормильник, а кормильник я украсил. Я хотел, чтобы она начала есть. И она начала есть! В первый раз за долгое-долгое время она поела досыта. И мы синтезировались. — Он умолк, а потом страстно выкрикнул: — И у неё наконец достало энергии взрастить крошку-эмоциональ. Она сгустила почку из Уна и отдала её мне. И почка теперь растет у меня в сумке. У меня в сумке растет крошка-эмоциональ!
Дуа не могла говорить. Она откинулась назад и устремилась к двери так беспорядочно, что Жесткие не успели отстраниться. Она ударилась о протуберанец того, кто стоял впереди, пронзила его насквозь и вырвалась с резким звуком.
Протуберанец бессильно повис, а Жесткий излучил сильнейшую боль. Ун хотел было обогнуть его и догнать Дуа, но Жесткий сказал, хотя это и далось ему с большим трудом:
— Оставь её. И так уже допущено слишком много ошибок. Мы примем меры.
Глава 4б
Уну казалось, что всё происходит в каком-то кошмаре. Дуа исчезла. Жесткие ушли. Остался только Тритт. Но Тритт молчал.
«Как всё это могло случиться? — мучительно думал Ун. — Как мог Тритт один найти дорогу в Жесткие пещеры? Как мог он взять аккумулятор, заряженный Позитронным Насосом и хранящий энергию гораздо более высокой концентрации, чем солнечный свет? Как он мог рискнуть…»
Сам Ун никогда на это не решился бы! Так как же смог это сделать Тритт, неуклюжий, невежественный Тритт? Или и он незауряден? Ун — умнейший рационал, Дуа — любознательная эмоциональ, а Тритт — предприимчивый и смелый пестун?
Он сказал:
— Тритт, как ты мог?
— А что я такого сделал? — горячо возразил Тритт. — Я накормил её. Накормил досыта, как она никогда ещё не ела. И мы наконец взрастили крошку-эмоциональ. Мы ведь и без того ждали слишком долго. А если бы мы стали дожидаться, пока Дуа сама накопит энергию, так не дождались бы этого и до перехода.
— Но разве ты не понимаешь, Тритт? Ты мог бы причинить ей вред. Это ведь не обычный солнечный свет, а экспериментальный источник энергии, возможно, настолько концентрированной, что она не годится для прямого употребления.
— Я не понимаю того, что ты говоришь, Ун. Какой вред? Я пробовал пищу, которую Жесткие приготовляли раньше. У неё был плохой вкус. Ты ведь тоже пробовал. Вкус у неё был очень противный, и всё-таки никакого вреда она нам не причинила. Из-за её мерзкого вкуса Дуа и прикоснуться к ней не пожелала. А потом я нашёл питательный шар. У него был хороший вкус. Я сам поел, и вкус был очень приятный. А как может приятное причинять вред? И ведь Дуа ела, ты сам видел. Ей понравилось. И энергии хватило на крошку-эмоциональ. Так что же я сделал плохого?
Ун больше не пытался объяснять. Он сказал только:
— Дуа очень рассердится.
— Ничего, пройдёт.
— Не знаю. Послушай, Тритт, она ведь не похожа на остальных эмоционалей. Потому с ней так трудно ладить, но поэтому же она умеет сделать жизнь такой полной и прекрасной. А теперь неизвестно, согласится ли она ещё когда-нибудь синтезироваться.
Все грани Тритта были чёткими и прямыми. Он сказал:
— Ну и что?
— Как — «ну и что»? Уж от тебя-то я ждал таких слов меньше всего. Или ты не хочешь больше синтезироваться?
— Нет, почему же. Но если она не захочет, то пусть. Я получил мою третью крошку, и мне теперь всё равно. Я, конечно, знаю, что в прежние времена Мягкие иногда повторяли все рождения во второй раз. Но мне всё равно. С меня хватит и наших троих детей.
— Но, Тритт, значение синтеза не исчерпывается только детьми.
— Разве? Да, я помню, ты как-то говорил, что после синтеза быстрее приобретаешь знания. Ну, так приобретай их медленнее. Мне всё равно. Я получил мою третью крошку.
Ун отвернулся, весь дрожа, и рывками заструился из комнаты. Какой смысл бранить Тритта? Он всё равно не поймет. Да и он сам — действительно ли он понимает?
Как только третья крошка отпочкуется и немного подрастет, нужно ждать времени перехода. И сигнал подаст он. Он должен будет сказать, когда наступит пора перехода, а переходить надо без страха. Иначе — позор или что-то даже ещё хуже. Но без синтезирования — откуда ему взять решимость? Даже теперь, когда взращены все трое детей? Синтезирование каким-то образом должно уничтожить страх. Быть может, потому, что синтезирование само похоже на переход. Сознание на какой-то срок отключается, однако ничего плохого не происходит. Словно ты и не существуешь вовсе, и всё-таки это отвечает какой-то глубочайшей потребности. Синтезирование поможет ему набраться храбрости, чтобы встретить переход без страха и без…
О Солнце и все прочие звёзды! Ведь это же никакой не «переход»! К чему такая велеречивость? Он знает другое слово, которое, правда, употребляют только дети, чтобы подразнить старших. И это слово — «умереть». Они не переходят, они умирают. И он должен подготовиться к тому, чтобы умереть без страха, чтобы Дуа и Тритт умерли вместе с ним.
А он не знает как… И без синтезирования не сможет…
Глава 4в
Тритт остался в комнате один. Ему было страшно, так страшно! Но он твёрдо решил не показывать и виду. Он получил свою третью крошку. Он чувствует её в сумке. Вот сейчас.
Только это и важно.
Только это одно и важно.
Но тогда почему же где-то в самой глубине прячется упрямое смутное ощущение, что важно не только это?
Глава 5а
Дуа испытывала нестерпимый стыд. Прошло очень много времени, прежде чем ей наконец удалось справиться с собой настолько, чтобы собраться с мыслями. Сначала она хотела только одного: уйти как можно дальше и как можно скорее от пещеры, которая стала для неё отвратительной. И она мчалась, мчалась, сама не зная куда, не разбирая дороги, не замечая ничего по сторонам.
По ночам порядочные Мягкие не поднимаются на поверхность — на это не решится ни одна даже самая взбалмошная эмоциональ. А сейчас была ночь. И Дуа с чем-то похожим на радость подумала, что Солнце взойдёт ещё не скоро. Ведь Солнце означало пищу, а теперь — после того, что с ней сделали, — при одной мысли о пище она ощущала ненависть и омерзение.
На поверхности было холодно, но Дуа почти не замечала этого. Да и ей ли бояться холода, думала она, после того, как её раскормили, чтобы она выполнила своё назначение, — раскормили и тело, и сознание! Нет, теперь голод и холод — её единственные друзья.
Тритта она видела насквозь. Бедняга, его так легко понять! Все его действия подчиняются только врождённым инстинктам, и он даже заслуживает похвалы за мужество, с каким следовал велениям этих инстинктов. Он так смело унес из Жестких пещер питательный шар (и она, она сама ощутила тогда его присутствие и, конечно, поняла бы, что он затеял, но только Тритт, ошеломленный собственной дерзостью, совсем перестал думать. А её восприятие было притуплено — ведь её тоже ошеломили дерзость того, что она сделала, и новые ощущения, которые ей открылись. Вот почему она, как выяснилось теперь, не заметила самого важного!).
Тритт принес этот шар домой и соорудил нелепую ловушку, старательно украсив кормильник, чтобы подманить её. А она вернулась, остро сознавая свою разреженность, стыдясь её, жалея Тритта. И от стыда, от жалости она уступила, она поела… и помогла взрастить эмоциональ.
После этого единственного раза она, как и прежде, ела очень мало и больше не пользовалась кормильником. У неё просто не было желания, а Тритт не настаивал. У него был довольный вид (ещё бы!), и она перестала чувствовать себя виноватой. А питательный шар Тритт так и оставил в тайнике. Он, наверное, побоялся отнести его обратно. Своего он добился, и проще было не трогать шар и поскорее забыть про его существование.
…Пока его не изобличили.
Но умный Ун, разгадав план Тритта, конечно, заметил, что к электродам что-то подключено, и, конечно, понял — зачем. Разумеется, Тритту он ничего не сказал — ведь это только смутило бы и напугало бедного правника, а Ун всегда заботливо оберегал Тритта от всех неприятностей.
Да и зачем ему было что-то говорить? Он и без этого сумел сделать всё необходимое, чтобы глупая затея Тритта принесла нужные результаты.
Пора отказаться от иллюзий и посмотреть правде в глаза. Она, конечно, заметила бы вкус питательного шара, уловила бы его особую терпкость, осознала бы, что перенасыщается, не испытывая даже легкой сытости, — если бы Ун не отвлекал её разговорами!
Они действовали против неё вдвоем, пусть даже Тритт этого и не подозревал. Но она! Как могла она не заметить фальши, когда Ун вдруг превратился во внимательного наставника и начал с такой охотой отвечать на все её вопросы? Как могла она не заметить его тайных побуждений? Да, она была им нужна, но лишь как средство для завершения новой триады, а сама она для них — ничто.
Ну ладно же…
Тут Дуа вдруг ощутила, насколько она устала, и поспешила забраться в узкую расселину, чтобы спрятаться от пронзительного холодного ветра. Две из семи звезд оказались в поле её зрения, и она рассеянно смотрела на них, занимая свои внешние чувства пустяками, чтобы полнее сосредоточиться на внутренних мыслях.
У неё больше нет иллюзий.
— Меня предали, — бормотала она. — Предали!
Неужели Ун и Тритт не способны видеть ничего, кроме самих себя?
Тритт, конечно, так уж устроен, что готов хоть весь мир обречь на гибель, лишь бы получить своих крошек. В нём говорит только инстинкт. Но Ун?
Ун мыслит. Так неужели ради возможности мыслить он согласен принести в жертву всё остальное? Неужели всё, что создаёт разум, служит лишь тому, чтобы оправдывать его же собственное существование, а прочее не имеет для него никакой цены? Эстуолд сконструировал Позитронный Насос — но разве можно использовать его, не задумываясь, подчиняя ему само существование мира, и Жестких, и Мягких, ставя их в зависимость от обитателей той вселенной? А что, если те остановят его, что, если мир останется без Позитронного Насоса после того, как он успеет остудить Солнце?
Но нет. Те люди его не остановят. Их убедили воспользоваться Насосом, так убедят пользоваться им и дальше, до тех самых пор, пока они не погибнут, а тогда рационалы, и Жесткие, и Мягкие, перестанут в них нуждаться.
Вот как она, Дуа, теперь, когда она перестала быть нужна, должна будет перейти — иначе говоря, погибнуть.
И её, и тех людей одинаково предали.
Незаметно для себя она всё глубже и глубже погружалась в камень. Она уже не видела звезд, не ощущала ветра, не сознавала окружающего. Она превратилась в чистую мысль.
Эстуолд — вот кого она ненавидит! Олицетворение эгоизма и жестокости. Он изобрел Позитронный Насос и готов спокойно уничтожить целый мир, населённый, быть может, тысячами, а то и десятками тысяч разумных существ. Он настолько замкнут в себе, что никогда нигде не показывается и обладает такой силой, что даже другие Жесткие его как будто боятся.
Ну а она вступит с ним в борьбу. Она принудит его остановиться!
Люди той вселенной помогли установить Позитронный Насос после того, как с ними был налажен контакт с помощью меток. Об этом говорил Ун. Где хранятся эти метки? Какие они? Нельзя ли использовать их для новых контактов?
Удивительно, как ясны её мысли. Поразительно. И какое жгучее наслаждение — использовать мысль, чтобы взять верх над безжалостными служителями мысли!
Помешать ей они не смогут. Ведь она способна проникать туда, куда ни один Жесткий, ни один рационал, ни один пестун проникнуть не сможет, а ни одна эмоциональ не посмеет.
Возможно, когда-нибудь они её всё-таки поймают, но ей всё равно. Она будет добиваться своего любой ценой — да, любой! Пусть даже ей придётся прятаться в камне, жить в камне, обшаривать Жесткие пещеры, воровать пищу из аккумуляторов, если у неё не останется другого выхода, или впитывать солнечный свет на поверхности, скрываясь среди других эмоционалей.
Она преподаст им всем хороший урок, а потом пусть делают с ней что хотят. Тогда она даже будет готова перейти… тогда, но не раньше!
Глава 5б
Ун присутствовал при отпочковании новой крошки-эмоционали, безупречной во всех отношениях, но не испытал никакого восторга. Даже Тритт, который заботился о ней со всем пестунским тщанием, выглядел каким-то притихшим.
Миновало уже много дней, и Уну начинало казаться, что Дуа исчезла навсегда. Нет, она не перешла. Мягкий может перейти только вместе с остальными двумя членами триады. Но с ними её не было. Словно она перешла не переходя.
С тех пор как она умчалась, узнав, что помогла взрастить новую крошку, он видел её один раз. Всего один раз. И это было уже давно.
Он тогда поднялся на поверхность в нелепой надежде отыскать её и наткнулся на скопление эмоционалей. Они захихикали (рационал, прогуливающийся возле скопления эмоционалей, — это такая редкость!) и кокетливо истончились (дуры!), только чтобы продемонстрировать свою эмоциональность.
Ун испытывал к ним брезгливое презрение, и ни один из его ровных изгибов даже не замерцал. Он сразу начал думать о Дуа — о том, как она непохожа на них. Дуа никогда не истончалась просто так, из желания быть привлекательной, и потому была особенно привлекательна. И конечно, если бы она принудила себя присоединиться к скоплению дурочек, её сразу можно было бы узнать потому, что она не только не истончилась бы, а, наоборот, уплотнилась — наперекор остальным.
Ун обвел взглядом нежащихся на солнце эмоционалей и увидел, что одна из них действительно осталась плотной.
Он повернулся и кинулся к ней, не обращая внимания на пронзительные вопли остальных эмоционалей, которые шарахались от него, матово клубились и взвизгивали, опасаясь слипнуться друг с другом — что, если такое случится на глазах у всех, да ещё в присутствии чужого рационала!
Это действительно была Дуа. Она не попыталась скрыться, а спокойно осталась на месте.
«Дуа, — сказал он робко, — когда ты вернешься домой?»
«У меня нет дома, Ун», — ответила она. Без гнева, без ненависти, отчего ему стало совсем страшно.
«Дуа, как ты можешь сердиться на Тритта за его поступок? Ты же знаешь, что бедняга не умеет думать».
«Но ты-то умеешь, Ун! И ты отвлекал моё сознание, пока он старался перекормить моё тело, ведь так? Твоё умение думать подсказало тебе, что ты скорее сумеешь поймать меня в ловушку, чем он».
«Нет, Дуа, нет!»
«Что — нет? Разве ты не притворялся, будто хочешь учить меня, делиться со мной знаниями?»
«Да, но я не притворялся. Я на самом деле этого хотел. И вовсе не из-за того, что устроил Тритт. Про его затею я ничего не знал».
«Не верю!»
Она неторопливо заструилась прочь. Он последовал за ней. Теперь они были совсем одни среди багровых отблесков Солнца.
Дуа повернулась к нему:
«Разреши задать тебе один вопрос, Ун. Почему ты хотел учить меня?»
«Потому что хотел. Потому что мне нравится учить, потому что это мне интереснее всего на свете. Не считая того, чтобы учиться самому, конечно».
«И ещё синтезироваться… Но неважно, — добавила она, предупреждая его возражения. — Не объясняй, что ты имеешь в виду сознание, а не инстинкт. Если ты сказал правду, что тебе нравится учить, если я всё-таки могу верить твоим словам, может быть, ты сумеешь понять то, что я тебе сейчас скажу.
С тех пор как я рассталась с вами, Ун, я узнала очень много. Каким образом — не имеет значения. Но это так. И я теперь эмоциональ только физически. А во всём, что по-настоящему важно, я рационал, хотя мне хотелось бы верить, что чувствовать я умею лучше остальных рационалов. И среди многого другого, Ун, я узнала, что мы такое — и ты, и я, и Тритт, и все прочие триады на планете. Я узнала, что мы такое и чем были всегда».
«А именно?» — спросил Ун. Он был готов покорно слушать столько времени, сколько ей захочется, лишь бы она потом вернулась с ним домой. Он вытерпит любое испытание, сделает всё, что от него может потребоваться. Но она должна вернуться… и что-то неясное, смутное внутри его говорило, что вернуться она должна добровольно.
«Что мы такое, Ун? Да в сущности, ничего, — ответила она равнодушным голосом, почти со смехом. — Странно, правда? Жесткие — единственный вид по-настоящему живых существ на планете. Разве они тебя этому не учили? Да, по-настоящему живы только они одни, потому что и ты, и я, и все Мягкие — не живые существа. Мы — машины, Ун. Это так, и потому-то живыми можно назвать только Жестких. Неужели они тебя этому не учили, Ун?»
«Дуа, это вздор», — ошеломленно пробормотал Ун.
Голос Дуа стал более резким:
«Да, машины, Ун! Машины, которые Жесткие сначала собирают, а потом уничтожают. Живут только они — Жесткие. Только они. Про это они почти не разговаривают. Зачем? Они ведь и так знают. Но я научилась думать, Ун, и вывела правду из отдельных намеков. Они живут чрезвычайно долго, но в конце концов всё же умирают. Теперь они уже не в состоянии иметь детей — Солнце даёт для этого слишком мало энергии. И хотя умирают они редко, детей у них нет, и их число очень медленно, но сокращается. И у них нет молодежи, которая создавала бы новое, порождала бы новые мысли, а потому старые, живущие долго-долго Жесткие томятся от скуки. И что же они, по-твоему, делают, Ун?»
«Что?» — невольно спросил Ун с ужасом, к которому примешивался виноватый интерес.
«Они конструируют механических детей, которых можно учить. Ты же сам сказал, что тебе ничего не надо — только учить и учиться самому и, может быть, ещё синтезироваться. Рационалы созданы по образу сознания Жестких. Жесткие не синтезируются, учиться самим им очень трудно, потому что они и так уже знают невероятно много. Так какое же удовольствие им остаётся? Только учить. И рационалы создаются лишь для одной цели — чтобы их можно было учить. Эмоционали и пестуны создаются как необходимые части самовозобновляющихся машин, которые изготовляют новых рационалов. А новые рационалы требуются постоянно, потому что старые становятся ненужными, едва их научат всему, чему можно научить. Когда старые рационалы вбирают в себя всё, что могут, они уничтожаются, но их позаботились заранее утешить сказочкой о том, будто они «переходят». И с ними, разумеется, переходят эмоционали и пестуны. Ведь после того, как они способствовали появлению материала для новой триады, от них больше нет никакой пользы».
«Дуа, это невероятно», — с трудом выговорил Ун.
У него не было доводов, чтобы опровергнуть её бредовую систему, но он был непоколебимо убеждён, что она ошибается. Однако где-то глубоко внутри он ощутил щемящее сомнение: а вдруг это убеждение просто привито ему? Нет, не может быть. Ведь тогда бы и Дуа носила в себе такое же убеждение… Или она потому и отличается от других эмоционалей, что её изготовили небрежно?.. О чём он думает? Нет, он такой же сумасшедший, как она.
«Ты как будто взволнован, Ун. Так ли уж ты абсолютно уверен, что я ошибаюсь? Ну конечно, теперь у них есть Позитронный Насос, и они будут получать столько энергии, сколько им может потребоваться. Если не сейчас, так в недалеком будущем. Скоро у них опять появятся дети. Если уже не появились. Надобность в Мягких машинах отпадет, и мы все будем уничтожены… Ах, прошу прощения! Мы все перейдём».
«Нет, Дуа, — категорически сказал Ун, стараясь образумить не столько её, сколько себя. — Не знаю, откуда ты набралась этих идей, но Жесткие — не такие. Нас не уничтожают».
«Не обманывай себя, Ун. Они именно такие. Ради своей пользы они готовы уничтожить мир тех людей — целую вселенную, если понадобится. Так неужели они поколеблются уничтожить горстку Мягких, которые им не нужны? Но они допустили один просчёт. Каким-то образом произошла путаница, и сознание рационала попало в тело эмоционали. Я ведь «олевелая эм», тебе это известно? Меня так дразнили в детстве. Но я действительно «олевелая эм». Я способна мыслить, как рационал, и я способна чувствовать, как эмоциональ. И я воспользуюсь своими способностями, чтобы бороться с Жесткими».
Ун не знал, что делать. Конечно, Дуа обезумела, но сказать ей об этом он не решился. Её необходимо уговорить, чтобы она вернулась с ним. Он сказал убеждённо:
«Дуа, когда мы переходим, нас не уничтожают».
«Да? Ну а что же случается?»
«Я… Я не знаю. По-моему, мы переходим в другой мир, более прекрасный и счастливый, и становимся… становимся… Ну, много лучше, чем мы сейчас».
Дуа рассмеялась.
«Где ты это слышал? Это тебе Жесткие рассказали?»
«Нет, Дуа. В этом меня убеждают мои собственные мысли. Я очень много думал после того, как ты нас покинула».
«Ну, так думай меньше, и не будешь так глуп, — сказала Дуа. — Бедный Ун! Прощай же».
И она заструилась прочь, совсем разреженная. Она казалась очень усталой.
«Подожди, Дуа! — крикнул Ун ей вслед. — Неужели ты не хочешь увидеть свою крошку-серединку?»
Она не ответила.
«Когда ты вернешься домой?»
Она продолжала молчать.
Он не стал её преследовать и только с тоской смотрел, как она исчезает вдали.
Ун не сказал Тритту о том, что встретил Дуа. Зачем? Больше с тех пор он её не видел. Он завёл привычку бродить возле тех мест, где любили питаться эмоционали, и отправлялся туда снова и снова, хотя нередко замечал, что вслед за ним на поверхность выбираются пестуны и глядят на него с тупым подозрением. (По сравнению с большинством пестунов Тритт казался интеллектуальным гигантом.)
Отсутствие Дуа с каждым днём отзывалось внутри него всё более мучительно. И с каждым проходящим днём внутри рос странный безотчетный страх, как-то связанный с её отсутствием. Но в чём тут было дело, он не понимал.
Как-то, вернувшись в пещеру, он застал там Лостена, который дожидался его. Лостен вежливо и внимательно слушал Тритта, который показывал ему новую крошку, всячески стараясь, чтобы этот легкий клочок дымки не прикоснулся к Жесткому.
— Да, она прелестна, Тритт, — сказал Лостен. — Так её зовут Дерала?
— Дерола, — поправил Тритт. — Я не знаю, когда вернется Ун. Он теперь всегда где-то бродит…
— Я здесь, Лостен, — торопливо сказал Ун. — Тритт, унеси крошку, будь так добр.
Тритт унес Деролу, а Лостен с явным облегчением обернулся к Уну и сказал:
— Вероятно, ты очень счастлив, что триада завершена.
Ун попытался что-то вежливо ответить, но ничего не придумал и продолжал уныло молчать. Одно время он чувствовал, что между ним и Жесткими возникло нечто вроде дружбы, он ощущал себя в чём-то равным им и разговаривал с ними свободно и просто. Но безумие Дуа всё омрачило и испортило. Ун знал, что она ошибается, и всё-таки сейчас он почувствовал в присутствии Лостена ту же скованность, которую испытывал в давно прошедшие дни, когда считал, что стоит неизмеримо ниже их, как… словно… машина?
— Ты видел Дуа? — спросил Лостен. Это был настоящий вопрос, а не вежливое начало беседы.
— Всего один раз, Жес… (Он чуть было не сказал «Жесткий-ру», словно ребенок или пестун!) Всего один раз, Лостен. Она не хочет возвращаться домой.
— Она должна вернуться, — негромко сказал Лостен.
— Я не знаю, как это устроить.
Лостен хмуро посмотрел на него.
— Тебе известно, что она делает?
Ун не осмеливался поднять на него глаза. Может быть, Лостен узнал про сумасшедшие теории Дуа? Как он в этом случае поступит?
И Ун ничего не ответил, ограничившись отрицательным жестом.
— Она ведь совершенно необычная эмоциональ, — сказал Лостен. — Ты это знаешь, Ун, не так ли?
— Да, — вздохнул Ун.
— Как и ты — на свой лад, и как Тритт — на свой. Не думаю, что в мире найдётся ещё один пестун, у которого хватило бы смелости и предприимчивости, чтобы стащить аккумулятор, или сметки, чтобы использовать его так, как использовал Тритт. Вы трое составляете такую необычную триаду, каких, насколько мы можем судить, ещё не было.
— Благодарю тебя.
— Но оказалось, что такая триада таит в себе и неприятные неожиданности, которых мы не предвидели. Мы хотели, чтобы ты учил Дуа, рассчитывая, что это наиболее мягкий и действенный способ подтолкнуть её на добровольное выполнение той функции, которую она должна выполнить. Но мы не предвидели, что Тритту вздумается совершить столь самоотверженный поступок, а также, если сказать правду, совершенно не ожидали, что неизбежная гибель той вселенной подействует на Дуа таким странным образом.
— Мне следовало бы осторожнее отвечать на её вопросы, — тоскливо сказал Ун.
— Это не помогло бы. Она умеет сама узнавать то, что её интересует. А мы и этого не предвидели. Ун, мне очень грустно, но я обязан сказать тебе следующее: Дуа теперь представляет собой смертельную опасность. Она пытается остановить Позитронный Насос.
— Но ей с этим не справиться! Она не может до него добраться, а кроме того, у неё нет необходимых знаний.
— Добраться до него она может без труда… — Лостен нерешительно помолчал. — Она прячется в коренных породах, где мы не можем её достать.
Ун не сразу понял смысл этих слов. Он растерянно пробормотал:
— Ни одна взрослая эмоциональ никогда… Дуа ни за что…
— Нет, это так. Не трать времени на бесплодные возражения… Она способна проникнуть в любую пещеру. От неё ничего нельзя скрыть. Она изучила метки, которые мы получили из той вселенной. У нас нет прямых доказательств, но иначе никак нельзя объяснить то, что происходит.
— А-а-а! — Ун раскачивался взад и вперёд, и вся его поверхность помутнела от стыда и горя. — И Эстуолд знает об этом?
— Пока ещё нет, но со временем, несомненно, узнает, — угрюмо сказал Лостен.
— Зачем ей понадобились эти метки?
— Она старается найти способ послать сообщение в ту вселенную.
— Но она же не умеет ни переводить, ни передавать.
— Она учится и тому и другому. Об этих метках она знает даже больше самого Эстуолда. Она — крайне опасное явление: эмоциональ, которая способна мыслить и вышла из-под контроля.
Ун вздрогнул. Вышла из-под контроля? Словно речь идёт о машине!
— Но ведь это не может быть настолько уж опасно! — сказал он.
— К сожалению, может. Она передала одно сообщение, и, боюсь, она советует тем существам, чтобы они остановили их часть Позитронного Насоса. Если они его остановят до того, как взорвётся их Солнце, мы тут ничего сделать не сможем.
— Но ведь тогда…
— Ей необходимо помешать, Ун.
— Но… но как? Вы намерены взорвать… — Его голос пресекся.
Ему смутно припомнилось, что у Жестких есть какие-то приспособления для высверливания пещер в коренных породах — приспособления, которые перестали применяться с тех пор, как сотни циклов тому назад численность мирового населения начала сокращаться. Что, если Жесткие решили найти Дуа в глубине камня и взорвать его вместе с ней?
— Нет! — категорически сказал Лостен. — Мы не способны причинить Дуа вред.
— Эстуолд мог бы…
— Эстуолд тоже не способен причинить ей вред.
— Так что же делать?
— Все зависит от тебя, Ун. От тебя одного. Мы бессильны, и нам остаётся только рассчитывать на тебя.
— На меня? Но что я могу?
— Думай об этом, — настойчиво сказал Лостен. — Думай!
— Но о чём?
— Больше я тебе ничего не имею права сказать, — ответил Лостен страдальчески. — Думай! Времени остаётся так мало!..
Он повернулся и ушёл — с быстротой, необычной для Жестких. Он торопился так, словно не доверял себе и опасался сказать что-то лишнее.
Ун беспомощно смотрел ему вслед, охваченный смятением и ужасом.
Глава 5в
У Тритта было много дел. Крошки всегда требуют забот, на даже два юных левых и два юных правых, взятые вместе, вряд ли могли бы причинить столько забот, сколько одна крошка-серединка, да к тому же серединка такая безупречная, как Дерола. Нужно было следить, чтобы она проделывала все упражнения, успокаивать её, не давать ей забираться во всё, с чем она соприкасалась, улещать и уговаривать, чтобы она сгустилась и отдохнула.
Он даже не замечал, что уже очень давно не видит Уна, — впрочем, ему было всё равно. Для него теперь не существовало никого, кроме Деролы. А потом вдруг он увидел Уна в углу его собственной ниши. Ун радужно переливался от напряженных мыслей. Тут Тритт вдруг вспомнил и спросил:
— Лостен сердился из-за Дуа?
Ун вздрогнул и очнулся.
— Лостен?.. Да, он очень сердился. Дуа причиняет большой вред.
— Ей бы надо вернуться домой, правда?
Ун пристально посмотрел на Тритта.
— Тритт, — сказал он, — мы должны убедить Дуа, чтобы она вернулась домой. Но прежде её надо отыскать. Ты можешь это сделать. Ведь у нас новая крошка, и поэтому твоя пестунская восприимчивость снова обострилась. Используй её, чтобы найти Дуа.
— Нет, — возмущенно и растерянно сказал Тритт. — Она для Деролы. И не годится тратить её на то, чтобы искать Дуа. А кроме того, раз Дуа не возвращается, когда она так нужна нашей крошке-серединке, — и ведь она сама была прежде крошкой-серединкой! — то мы должны научиться жить без неё, и всё тут.
— Тритт, разве ты не хочешь больше синтезироваться?
— Новая триада завершена.
— Но синтезирование этим не исчерпывается.
— А где искать Дуа? — спросил Тритт. — Я нужен крошке Дероле. Она ещё совсем маленькая. Я не могу оставить её без присмотра.
— Жесткие позаботятся, чтобы с Деролой ничего не случилось. А мы с тобой пойдём в Жесткие пещеры и отыщем Дуа.
Тритт обдумал эти слова. Ему было всё равно, есть Дуа или нет. И почему-то ему даже было почти всё равно, есть ли Ун или нет. Важнее всего Дерола. И он сказал:
— Как-нибудь сходим. Когда Дерола подрастет. А раньше нельзя.
— Тритт, — настойчиво сказал Ун. — Мы должны найти Дуа, а не то… А не то у нас отнимут крошек.
— Кто отнимет? — спросил Тритт.
— Жесткие.
Тритт молчал. Ему нечего было сказать. Он ни разу не слышал ни о чём подобном. И не мог даже представить себе, что это возможно. А Ун говорил:
— Тритт, нам пора переходить. И теперь я знаю — почему. Я думал об этом всё время после того, как Лостен… Но неважно. Дуа и ты — вы тоже должны перейти. Теперь, когда я понял почему, и ты почувствуешь, что должен перейти. И я надеюсь… я верю, Дуа тоже почувствует, что она должна перейти. И надо, чтобы это произошло как можно скорее, потому что она губит наш мир.
Тритт отступил к стене.
— Ун, не смотри на меня так!.. Ты меня заставляешь… ты меня заставляешь…
— Я тебя не заставляю, Тритт, — грустно сказал Ун. — Просто я понял, и поэтому ты должен… Но нам необходимо найти Дуа.
— Нет, нет! — Тритт испытывал невыразимые муки, пытаясь воспротивиться. В Уне было что-то новое, страшное, и его, Тритта, существование неумолимо приближалось к концу. Больше не будет Тритта, и не будет крошки-серединки. Все другие пестуны ухаживали за своими серединками очень долго, а он должен лишиться своей почти сразу.
Это несправедливо. Несправедливо!
Тритт сказал, задыхаясь:
— Это Дуа виновата. Так пусть она перейдёт первой!
Ун ответил с мертвящим спокойствием:
— По-другому нельзя. Мы должны все сразу…
И Тритт понял, что это так… что это так… что это так…
Глава 6а
Дуа чувствовала себя истончившейся, холодной, совсем прозрачной. После того как Ун отыскал её на поверхности, она оставила попытки отдыхать там и поглощать солнечный свет. А энергией из аккумулятора Жестких она могла питаться лишь изредка, от случая к случаю. Она боялась надолго покидать свой надёжный приют в камне, а потому ела торопливо и никогда не бывала сыта.
Она непрерывно ощущала голод, который казался ещё сильнее оттого, что постоянное пребывание в камне было очень утомительно. Она словно терпела теперь наказание за то, что прежде предпочитала любоваться закатами и питалась кое-как.
Если бы она не была так увлечена работой, то вряд ли выдержала бы усталость и голод. Порой ей даже хотелось, чтобы Жесткие её уничтожили — но только после того, как она добьётся своего.
Пока она оставалась в камне, Жесткие ничего не могли против неё предпринять. Иногда она ощущала их рядом с камнем. Они боялись. Порой ей казалось, что они боятся за неё, но это было нелепо. С какой стати им бояться за неё — бояться, что она перейдёт от голода и истощения? Нет, этого не может быть — они боятся её, боятся машины, которая отказалась работать по их предначертаниям. Невероятность этого приводит их в трепет, они цепенеют от ужаса.
И Дуа старательно избегала Жестких. Она всегда знала, где они находятся, а потому они не могли ни поймать её, ни помешать ей. Они были не в состоянии поставить охрану повсюду. К тому же ей, по-видимому, удавалось глушить ту слабую восприимчивость, которой они всё-таки обладали.
Она клубами вырывалась из камня и изучала копии меток, полученных из той вселенной. Они не знали, что именно это было её целью. Но если бы они и спрятали копии куда-нибудь ещё, она всё равно нашла бы их. И даже уничтожь они все копии, это им уже не помогло бы — Дуа помнила все метки до последней чёрточки.
Сперва она не могла в них разобраться, но от постоянного пребывания в камне её восприимчивость всё больше обострялась и метки становились понятными, хотя сознанием она их по-прежнему не понимала. Она не знала, что означают эти символы, но они вызывали в ней ощущения.
Она выбрала нужные метки и поместила их там, откуда они должны были попасть в ту вселенную. Метки были такие: СТРАК. Нет, она не знала, каков их смысл. Однако эта комбинация внушала ей страх, и Дуа постаралась запечатлеть этот страх в метках. Может быть, те существа, изучая метки, тоже испытывают страх.
Когда начали приходить ответы, Дуа улавливала в них волнение. Ей удавалось увидеть не все ответы. Иногда Жесткие находили их первыми. Конечно, теперь они уже знали, чем она занимается. Но они не умели истолковывать метки, не могли даже уловить вложенные в них чувства.
А потому ей было всё равно. Что бы ни думали Жесткие, остановить её они не смогут, и она доведёт дело до конца.
Теперь она ожидала меток, в которых было бы заключено нужное ей чувство. И они появились: НАСОС ПЛОХО.
Каждую метку принизывали страх и ненависть, на которые она надеялась. И она переслала их обратно, повторив несколько раз, чтобы было больше страха, больше ненависти… Теперь те люди поймут. Теперь они остановят Насос. Жестким придётся найти какой-нибудь другой источник энергии, разработать другой способ её получения. Нельзя, чтобы энергия принесла смерть тысячам и тысячам обитателей той вселенной.
Она спохватилась, что отдыхает слишком долго, погрузившись внутри камня в какое-то странное оцепенение. Ей мучительно хотелось есть, и она выжидала удобного момента, чтобы выбраться наружу. Но как ни томила её мысль о пище в аккумуляторе, ещё больше ей хотелось бы найти его пустым. Она мечтала высосать из него всю пищу до последней частицы, зная, что новой порции в него не поступит, что её задача выполнена.
Наконец она выбралась наружу и, забыв об осторожности, сосала и сосала содержимое аккумулятора. Она жаждала опустошить его, убедиться, что энергии в него больше не поступает… Но он был неисчерпаем… неисчерпаем… неисчерпаем…
Дуа вздрогнула и с омерзением отодвинулась от аккумулятора. Значит, Позитронные Насосы по-прежнему работают. Неужели ей не удалось убедить обитателей той вселенной? Или они не получили её метки? Не уловили их смысла?
Надо попробовать ещё раз. Надо сделать так, чтобы всё было ясно, абсолютно ясно. Она использует все комбинации символов, в которых улавливает ощущение опасности, все комбинации, которые в той вселенной должны сложиться в мольбу остановить Насосы.
Вне себя от отчаяния, Дуа начала вплавлять символы в металл, неистово расходуя энергию, которую только что всосала из аккумулятора. И расходовала до тех пор, пока не осталось ничего, и её вновь сковала невероятная усталость.
НАСОС НЕ ОСТАНОВИТЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ МЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ НАСОС МЫ НЕ СЛЫШАТЬ ОПАСНОСТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ЧТОБЫ МЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ НАСОС.
Больше у неё не было сил. Её терзала свирепая боль. Она поместила метки туда, откуда они должны были попасть в ту вселенную, но не стала ждать, чтобы Жесткие переслали их, сами того не подозревая. В глазах у неё мутилось, она чувствовала, что энергии в ней нет больше совсем, и всё-таки повернула рукоятки, как это делали Жесткие.
Металл исчез, а с ним и пещера, вдруг заполнившаяся фиолетовым мерцанием, которое туманило мысли. Она… переходит… от истощения…
Ун… Тритт…
Глава 6б
И Ун появился. Он никогда ещё не струился с такой стремительностью. Вначале он полагался на восприимчивость Тритта, обострившуюся с появлением новой крошки, но, когда расстояние сократилось, его более тупые чувства тоже начали улавливать близость Дуа. Он уже воспринимал прерывистые угасающие вспышки её сознания и рвался вперёд, а Тритт, как мог, поспевал за ним, задыхаясь и вскрикивая:
— Скорее! Скорее!
Ун нашёл её в глубоком обмороке. Жизнь в ней еле теплилась, и она стала совсем крошечной — он даже не представлял, что взрослая эмоциональ может так уменьшаться.
— Тритт, — распорядился он. — Неси сюда аккумулятор. Нет-нет! Не трогай её. Она так истончилась, что её нельзя нести. Если она погрузится в пол…
В пещеру входили Жесткие. Конечно, они опоздали — ведь они не способны воспринимать на расстоянии другие существа. Нет, без него и Тритта они не успели бы спасти её. И она не перешла бы! Нет, она по-настоящему погибла бы… и… с ней погибло бы нечто неимоверно важное, о чём она даже не подозревала.
Теперь она медленно впитывала консервированную энергию и с нею жизнь, а Жесткие молча стояли возле них.
Ун поднялся — новый Ун, который совершенно точно знал, что происходит. Сердитым жестом он властно отослал Жестких… и они ушли. Молча. Не возражая.
Дуа шевельнулась.
— Она оправилась, Ун? — спросил Тритт.
— Тише, Тритт, — сказал Ун. — Дуа, ты меня слышишь?
— Ун? — Она всколыхнулась и прошептала: — Мне показалось, что я уже перешла.
— Нет, Дуа, пока ещё нет. Сначала ты должна поесть и отдохнуть.
— А Тритт тоже здесь?
— Вот я, Дуа, — сказал Тритт.
— Не старайся вернуть меня к жизни, — сказала Дуа. — Всё кончено. Я сделала то, что хотела сделать. Позитронный Насос… скоро остановится. Я верю в это. И Мягкие по-прежнему будут нужны Жестким, и Жесткие позаботятся о вас и, уж во всяком случае, о детях.
Ун ничего не сказал и сделал Тритту знак молчать. Он давал Дуа энергию небольшими порциями, медленно, очень медленно, делая перерывы, чтобы дать ей отдохнуть.
Дуа бормотала:
— Хватит, хватит!
Её вещество трепетало всё сильнее.
Но он продолжал её кормить.
Потом он заговорил.
— Дуа, ты ошиблась, — сказал он. — Мы не машины. Я знаю совершенно точно, что мы такое. Я бы пришёл к тебе раньше, если бы узнал это раньше, но я понял, только когда Лостен попросил меня подумать. И я думал. Со всем напряжением. И всё-таки это чуть было не вышло преждевременно.
Дуа застонала, и Ун умолк.
— Послушай, Дуа, — сказал он после паузы. — В нашем мире действительно есть только один вид живых существ, и живут в нём действительно только Жесткие. Ты уловила это, и тут ты не ошиблась. Но отсюда вовсе не следует, что Мягкие — машины, а не живые существа. Нет, просто мы принадлежим к этому же виду. Мягкие — это первичная форма Жестких. Мы появляемся на свет как Мягкие, становимся взрослыми как Мягкие, а потом мы переходим в Жестких. Ты поняла?
— Что? Что? — спросил Тритт тихо и растерянно.
— Погоди, Тритт, — сказал Ун. — Не сейчас. Потом ты тоже поймешь. А пока я говорю для Дуа.
Он следил за тем, как Дуа обретает матовость.
— Послушай, Дуа! — сказал он потом. — Всякий раз, когда мы синтезируемся, когда синтезируется любая триада, мы образуем Жесткого. Каждый Жесткий триедин, потому-то он и Жесткий. И весь срок утраты сознания в период синтезирования мы живем в форме Жесткого. Но лишь временно, а потом, выходя из синтеза, мы всё забываем. И долго оставаться Жестким мы не можем, нам необходимо возвращаться в мягкое состояние. Однако всю свою жизнь мы развиваемся от стадии к стадии. Отпочкование каждого ребенка отмечает такую стадию. Появление третьего ребенка — крошки-эмоционали — открывает путь к заключительной стадии, когда сознание рационала само, без содействия остальных двоих, обретает память о кратких периодах существования в форме Жесткого. Тогда, и только тогда он становится способен провести безупречный синтез, который создаст Жесткого уже навсегда и обеспечит триаде новую единую интеллектуальную жизнь, посвященную приобретению знаний. Я ведь говорил тебе, что переход — это как бы новое рождение. Тогда я лишь нащупывал эту неясную мысль, но теперь я говорю то, что знаю твёрдо.
Дуа смотрела на него, силясь улыбнуться. Она сказала:
— Как ты можешь настолько обманываться, Ун? Будь это так, почему Жесткие не рассказали тебе об этом раньше? Да и всем нам тоже?
— Они не могли, Дуа. Когда-то, тысячи тысяч циклов тому назад, синтезирование представляло собой лишь соединение атомов тела. Но в результате эволюции у первоначальных форм постепенно развились разные типы сознания. Слушай, Дуа. Синтезирование включает в себя и слияние сознаний, а это процесс гораздо более сложный и тонкий. Рационал может слить их правильно и навсегда, только когда он созреет для этого. Зрелость же наступает в тот момент, когда он сам, без чьей-либо помощи, постигает сущность происходящего, когда его сознание наконец становится способным вместить воспоминания о том, что происходило в периоды временных слияний. Если рационалу объяснить всё заранее, естественность развития будет безнадёжно искажена, он уже не сумеет определить правильный момент для безупречного синтеза, и новый Жесткий получится ущербным. Когда Лостен умолял меня думать, он очень рисковал. И не исключено, что… Хотя я надеюсь… Видишь ли, Дуа, мы ведь особый случай. Из поколения в поколение Жесткие старательно подбирали триады так, чтобы появлялись особо одаренные новые Жесткие. И наша триада — лучшая из тех, которые им удалось до сих пор подобрать. А особенно ты, Дуа. Особенно ты. Лостен — это слившаяся триада, чьей крошкой-серединкой когда-то была ты. Какая-то его часть была твоим пестуном. Он следил за тобой. Он привёл тебя к нам с Триттом.
Дуа приподнялась. Голос её стал почти нормальным.
— Ун! Ты придумал всё это, чтобы утешить меня?
Но, опередив Уна, ей ответил Тритт:
— Нет, Дуа! Я это тоже чувствую. Да, чувствую. Я не совсем понял что, но я это чувствую.
— Он говорит правду, Дуа, — сказал Ун. — И ты это тоже почувствуешь. Разве ты уже не припоминаешь хоть немного, как мы были Жестким в период нашего синтеза? Разве ты не хочешь ещё раз синтезироваться? В последний раз? В самый последний?
Он помог ей подняться. В ней чувствовался жар, и она, хоть и сопротивлялась, уже начала разреживаться.
— Если ты сказал правду, Ун, — произнесла она, задыхаясь, — если мы должны стать Жестким, то по твоим словам получается, что мы будем кем-то очень важным. Ведь так?
— Самым важным. Самым лучшим, который когда-либо синтезировался. Я не преувеличиваю… Тритт, стань вот тут. Мы не расстаемся, Тритт. Мы будем вместе, как нам всегда хотелось. И Дуа тоже. И ты тоже, Дуа.
— Тогда мы сможем убедить Эстуолда, что Насос надо остановить, — сказала Дуа. — Мы заставим…
Синтезирование началось. В комнату один за другим входили Жесткие. Ун еле различал их, потому что он уже сливался с Дуа.
Этот синтез не был похож на прежние — ни упоенного восторга, ни острой радости бытия, а лишь непрерывный, спокойный, блаженно-безмятежный процесс. Он чувствовал, что становится единым с Дуа, и весь мир словно хлынул в его/ее обостренное восприятие. Позитронные Насосы всё ещё работали — он/она чувствовали это ясно. Почему они работают?
Он был также и Триттом — его/ее/его сознание исполнилось ощущением горькой потери. О мои крошки…
И он вскрикнул — последний крик, рождённый ещё сознанием Уна, но каким-то образом кричала Дуа:
— Нет, мы не сможем остановить Эстуолда. Эстуолд — это мы. Мы…
Крик, который был криком Дуа и не её криком, оборвался — Дуа перестала быть. И больше никогда не будет Дуа. И Уна. И Тритта. Никогда.
Глава 7абв
Эстуолд шагнул к стоящим в молчании Жестким и печально сказал с помощью звуковых вибраций:
— Теперь я навсегда с вами. Нам предстоит сделать так много…
Часть III. …БОРОТЬСЯ БЕССИЛЬНЫ?
Глава 1
Селена Линдстрем просияла профессиональной улыбкой и пошла дальше. Её легкая пружинистая припрыжка уже больше не удивляла туристов, и теперь им даже начинало казаться, что в этой непривычной походке есть своя грациозность.
— Пора перекусить! — объявила она жизнерадостно. — Завтрак исключительно из продуктов местного производства, уважаемые дамы и господа. Вкус может показаться вам несколько непривычным, но все они высокопитательны… Вот сюда, сэр. Я знаю, вы не станете возражать, если я посажу вас с дамами… Одну минутку. Места хватит для всех… Мне очень жаль, но дежурное блюдо всего одно, хотя напитки вы можете заказать по желанию. Сегодня телятина… Нет-нет. И вкус, и консистенция создаются искусственным образом, но общий результат превосходен, можете мне поверить.
Затем она села сама, не удержавшись от легкого вздоха, и даже любезная улыбка на её лице чуть-чуть поблекла.
Один из туристов остановился у стула напротив.
— Разрешите? — спросил он.
Селена бросила на него внимательный оценивающий взгляд. Он казался безобидным, а она привыкла с полным на то основанием полагаться на свою проницательность.
— О, пожалуйста! — ответила она. — Но ведь вы, по-моему, тут с кем-то?
Он покачал головой:
— Нет. Я один. Но в любом случае общество земляшек меня не особенно прельщает.
Селена снова поглядела на него. Лет около пятидесяти, лицо усталое, но глаза живые и умные. Ну и конечно, впечатление неуклюжей грузности, которое всегда производят земляне, впервые попавшие в условия лунного тяготения. Она сказала:
— Земляшки — это чисто лунное словечко, и к тому же довольно грубое.
— Я ведь сам с Земли, — ответил он, — а потому, мне кажется, имею право его употребить. Но конечно, если вам неприятно…
Селена только пожала плечами, словно говоря: «Как вам угодно!»
Глаза у неё были чуть раскосыми, как у большинства лунных девушек, но волосы цвета спелой пшеницы и крупноватый нос никак не вязались с традиционным представлением о восточных красавицах. Однако, несмотря на неправильные черты лица, она была очень привлекательна.
Землянин глядел на металлический флажок с её именем, который она носила на груди слева. И Селена ни на секунду не усомнилась, что интересует его действительно флажок.
— А тут много Селен? — спросил он.
— О да! Они исчисляются по меньшей мере сотнями. Так же, как Синтии, Дианы и Артемиды. Но особенно популярны Селены, хотя половина знакомых мне Селен предпочитает сокращение «Лена», а вторая половина именуют себя Селиями.
— А какое сокращение выбрали вы?
— Никакого. Я — Селена. Все три слога. Се-ЛЕ-на, — произнесла она, подчеркнуто выделив ударный слог. — Так называют меня те, кто вообще называет меня по имени.
Губы землянина сложились в улыбку — с некоторой неловкостью, словно для них это было что-то не вполне привычное. Он сказал:
— А когда вас спрашивают, на что вы сели, Селена?
— Больше он этого вопроса не повторит! — ответила она с полной серьёзностью.
— Но спрашивают?
— Дураков в мире хватает.
К их столику подошла официантка и быстрыми плавными движениями расставила блюда.
На землянина это произвело явное впечатление. Он повернулся к официантке и сказал:
— Они у вас словно парят в воздухе.
Официантка улыбнулась и отошла к следующему столику. Селена сказала предостерегающе:
— Только не вздумайте ей подражать. Она привыкла к нашей силе тяжести и умеет ею пользоваться.
— Другими словами, я всё перебью?
— Во всяком случае, вы устроите нечто очень эффектное.
— Ну хорошо. Не буду!
— Но кто-нибудь непременно попробует! Тарелка спланирует на пол, он попытается поймать её на лету и свалится со стула. Я пробовала предупреждать, но, конечно, это не помогает, и бедняга потом только сильнее смущается. А все остальные хохочут. То есть остальные туристы. А мы столько раз видели такие спектакли, что нам уже не смешно, да к тому же потом кому-то приходится всё это убирать.
Землянин с большой осторожностью поднес вилку ко рту.
— Да, вы совершенно правы. Даже простейшие движения даются с некоторым трудом.
— Нет, вы быстро освоитесь. Во всяком случае, с несложными операциями вроде еды. Ходьба, например, даётся тяжелее. Мне ещё не приходилось видеть землянина, который был бы способен бегать тут по-настоящему. То есть легко и быстро.
Некоторое время они ели молча. Потом землянин спросил:
— А что означает это «Л»?
Он опять глядел на её флажок, на котором было написано: «Селена Линдстрем, Л.».
— Всего лишь «Луна», — ответила Селена равнодушно. — Чтобы отличить меня от иммигрантов. Я родилась здесь.
— Неужели?
— А что. тут удивительного? Люди живут и работают на Луне уже более пятидесяти лет. Или вы полагали, что у них не может быть детей? У многих лунорождённых есть уже внуки.
— А сколько вам лет?
— Тридцать два года.
На его лице отразилось неподдельное удивление, но он тут же пробормотал:
— Ах да, конечно.
Селена подняла брови.
— Значит, вы понимаете? Большинству землян приходится объяснять, в чём тут дело.
— Ну, я достаточно осведомлен для того, чтобы сообразить, что большинство внешних признаков возраста появляется в результате неминуемой победы силы тяжести над тканями тела — вот почему обвисают щеки и животы. Поскольку сила тяжести на Луне равна лишь одной шестой силы тяжести на Земле, нетрудно догадаться, что люди тут должны выглядеть молодыми очень долго.
— Да, но только выглядеть, — сказала Селена. — У нас тут нет ничего похожего на бессмертие, и средняя продолжительность жизни соответствует земной. Однако старость мы, как правило, переносим лучше.
— Ну, это уже немало… Но конечно, у медали есть и оборотная сторона? — Он как раз отхлебнул кофе. — Вам, скажем, приходится пить вот это… — Он умолк, подыскивая нужное слово, но, по-видимому, оно оказалось не слишком удобопроизносимым, потому что он так и не докончил фразу.
— Мы могли бы ввозить продукты питания и напитки с Земли, — сказала она, улыбнувшись. — Но в таких мизерных количествах, что их хватило бы лишь для очень ограниченного числа людей и к тому же на очень ограниченный срок. Так какой же смысл отнимать ради этого место у по-настоящему важных грузов? Да мы и привыкли к этому пойлу. Или вы хотели употребить слово покрепче?
— Не для кофе, — сказал он. — Я приберегал его для еды. Но «пойло» вполне подойдёт… Да, кстати, мисс Линдстрем, в программе нашей поездки я не нашёл упоминания о посещении синхрофазотрона.
— Синхрофазотрона? — Она почти допила кофе и уже поглядывала по сторонам, выбирая момент, чтобы встать и собрать группу. — Это собственность Земли, и он не входит в число достопримечательностей, которые показывают туристам.
— Вы хотите сказать, что доступ к нему для лунян закрыт?
— О, ничего подобного! Его штат укомплектован почти одними лунянами. Просто правила пользования синхрофазотроном устанавливает Земля, и туристам его не показывают.
— А мне бы очень хотелось взглянуть на него!
— Да, конечно… А вы принесли мне удачу, — весело добавила она. — Ни одна тарелка и ни один турист не очутились на полу!
Она встала из-за стола и сказала:
— Уважаемые дамы и господа! Мы отправляемся дальше через десять минут. Пожалуйста, оставьте на столах всё как есть. Если кто-нибудь хочет привести себя в порядок, туалетные комнаты направо. Сейчас мы отправимся на пищевую фабрику, благодаря которой мы смогли пообедать так, как пообедали.
Глава 2
Квартира Селены была, разумеется, небольшой и умещалась, по сути, в одной комнате, но догадаться об этом сразу было трудно. Три панорамных окна сверкали звездами, которые двигались медленно и беспорядочно, образуя всё новые и новые созвездия, не имевшие даже отдаленного сходства с настоящими. При желании Селена могла менять настройку и созерцать их словно в сильный телескоп.
Бэррон Невилл не выносил этих звездных видов и всегда сердито их выключал, повторяя каждый раз: «Как только ты их терпишь? Из всех моих знакомых одной тебе нравится эта безвкусица. И ведь этих туманностей и звездных скоплений в действительности даже не существует!»
А Селена спокойно пожимала плечами и отвечала: «А что такое «существует в действительности»? Откуда ты знаешь, что те, которые можно увидеть с поверхности, действительно существуют? А мне они дают ощущение свободы и движения. Неужели я не могу обставить свою квартиру, как мне нравится?»
После этого Невилл бормотал что-то невнятное и без особой охоты шёл к окнам, чтобы вновь их включить, а Селена говорила: «Оставь!»
Мебель отличалась округлостью линий, а стены были покрыты неярким геометрическим орнаментом на приятно приглушенном фоне. Нигде не было ни одного изображения, которое хотя бы отдаленно напоминало живое существо.
«Живые существа принадлежат Земле, — говорила Селена. — А тут Луна».
Вернувшись домой в этот вечер, она, как и ожидала, увидела у себя в комнате Невилла. Он полулежал на маленькой легкой кушетке, задрав ногу в сандалии. Вторая сандалия валялась рядом на полу. На его груди, там, где он её задумчиво почесывал, проступили красные полосы.
Селена сказала:
— Бэррон, свари кофе, ладно? — И, грациозно изогнувшись, одним гибким движением сбросила платье на пол и носком ноги отшвырнула его в угол. — Уф! — сказала она. — Какое облегчение! Пожалуй, хуже всего в этой работе то, что приходится одеваться как земляшки.
Невилл, который возился в кухонной нише, ничего не ответил. Он слышал это десятки раз. Через минуту он спросил с раздражением:
— Что у тебя с подачей воды? Еле капает.
— Разве? — рассеянно сказала она. — Ну, значит, я перерасходовала. Ничего, сейчас натечёт.
— Сегодня у тебя были какие-нибудь неприятности?
— Нет. — Селена пожала плечами. — Обычная канитель. Смотришь, как они ковыляют, как притворяются, будто еда им не противна, и наверняка всё время думают про себя, предложат им ходить раздетыми или нет… Бр-р-р! Ты только представь себе, как это выглядело бы!
— Ты, кажется, становишься ханжой?
Бэррон вернулся к столу, неся две чашечки с кофе.
— Не понимаю, при чем тут ханжество. Дряблая кожа, отвислые животики, морщины и всякие микроорганизмы. Карантин карантином, только они всё равно нашпигованы всякими микробами… А у тебя ничего нового?
Бэррон покачал головой. Для лунянина он был сложен очень плотно. Привычка постоянно щуриться придавала хмурое, почти угрюмое выражение его лицу. А если бы не это, подумала Селена, оно было бы очень красиво. Он сказал:
— Да ничего особенного. Мы по-прежнему ждем смены представителя. Прежде всего надо посмотреть, что такое этот Готтштейн.
— А он может помешать?
— Не больше, чем нам мешают сейчас. В конце-то концов, что они могут сделать? Подослать шпиона? Но как земляшку ни переодевай, за лунянина он сойти не сможет! — Тем не менее в его голосе слышалась тревога.
Селена внимательно смотрела на него, со вкусом прихлебывая кофе.
— Но ведь и лунянин внутренне может быть вполне убеждённым земляшкой.
— Конечно, но как их узнаешь? Иногда мне кажется, что я не могу доверять даже… Ну да ладно. Я трачу уйму времени на мой синхрофазотронный проект и ничего не могу добиться. Всё время что-то оказывается более срочным.
— Возможно, они тебе попросту не доверяют, да и неудивительно! Вольно же тебе расхаживать с видом заядлого заговорщика!
— Ничего подобного! Я бы с величайшим восторгом раз и навсегда ушёл из синхрофазотронного комплекса, но тогда они и правда встревожатся… Если ты растратила свою водную квоту, Селена, о второй чашке кофе, наверное, не стоит и думать?
— Да, не стоит. Но если уж на то пошло, то ведь ты усердно помогал мне транжирить воду. На прошлой неделе ты дважды принимал у меня душ.
— Я верну тебе водяной талон. Мне и в голову не приходило, что ты всё подсчитываешь.
— Не я, а водомер.
Она допила кофе и, задумчиво посмотрев на дно чашки, сказала:
— Они всегда строят гримасы, когда пьют наш кофе. То есть туристы. Не понимаю почему. Я его всегда пью с удовольствием. Ты когда-нибудь пробовал земной кофе, Бэррон?
— Нет, — ответил он резко.
— А я пробовала. Всего раз. Один турист тайком провез несколько пакетиков кофе — растворимого, как он его назвал. И предложил мне попробовать, рассчитывая на… Ну, ты понимаешь. По его мнению, это был справедливый обмен.
— И ты попробовала?
— Из любопытства. Очень горький, с металлическим привкусом. Просто омерзительный. Тут я объяснила этому туристу, что смешанные браки не входят в лунные обычаи, и он сразу тоже приобрел горький и металлический привкус.
— Ты мне об этом прежде не рассказывала! И он себе что-нибудь позволил?
— А собственно, какое тебе дело? Нет-нет, он себе ничего не позволил. Не то с непривычки к нашей силе тяжести он у меня полетел бы отсюда до коридора номер первый… Кстати, — продолжала она после паузы, — меня сегодня обхаживал ещё один земляшка. Подсел ко мне за обедом.
— И что же он предложил тебе взамен… «ну, ты понимаешь», по твоему столь изящному выражению?
— Он просто сидел и ел.
— И поглядывал на твою грудь?
— Нет, только на именной флажок… Но в любом случае не всё ли тебе равно, на что он поглядывал? Или, по-твоему, я только и думаю о том, чтобы завести роман с землянином и любоваться, как он хорохорится наперекор непривычной силе тяжести? Да, конечно, подобные случаи бывали, но не со мной, и, насколько мне известно, ни к чему хорошему такие романы не приводили. С этим вопросом всё ясно? Могу ли я вернуться к моему обеденному собеседнику? Которому почти пятьдесят? Впрочем, он и в двадцать явно не был сногсшибательным красавцем. Правда, лицо у него интересное, не стану отрицать.
— Ну ладно, ладно. Портрет его меня не интересует. Так что же он?
— Он спрашивал про синхрофазотрон.
Невилл вскочил, слегка пошатнувшись (обычное следствие быстрых движений при малой силе тяжести).
— Что именно?
— Да ничего особенного. Что с тобой? Ты просил, чтобы я рассказывала о туристах всё вплоть до мелочей, если эти мелочи хоть в чём-то выходят за рамки стандартного поведения. Ну так вот, о синхрофазотроне меня ещё никто ни разу не спрашивал.
— Ну хорошо! — Он помолчал, а затем спросил уже спокойнее: — Почему его интересует синхрофазотрон?
— Не имею ни малейшего представления, — ответила Селена. — Он просто спросил, нельзя ли его посмотреть. Может быть, он любит осматривать научные учреждения. А может быть, он просто это придумал, чтобы заинтересовать меня.
— Что ему, кажется, и удалось! Как его зовут?
— Не знаю. Я не спросила.
— Почему?
— Потому что он меня нисколько не заинтересовал. Ты уж выбирай что-нибудь одно! Впрочем, сам его вопрос показывает, что он — простой турист. Будь он физиком, ему бы не пришлось задавать таких вопросов. Его пригласили бы туда и без них.
— Дорогая моя Селена! — сказал Невилл. — Ну хорошо, я повторю всё с азов. При нынешнем положении вещей любой человек, задающий вопросы про синхрофазотрон, уже потенциально опасен, а поэтому нам нужно знать о нём как можно больше. И почему, собственно, он обратился с таким вопросом именно к тебе?
Невилл быстро прошёлся по комнате, словно сбрасывая излишек энергии. Потом сказал:
— Ты специалистка по таким вещам. Он показался тебе интересным?
— Как мужчина?
— Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. Перестань увиливать, Селена!
Она ответила с явной неохотой:
— Он интересен, в нём даже есть что-то интригующее. Но я не могу сказать, что именно. В его словах и поведении не было ничего хоть сколько-нибудь необычного.
— Интересен, в нём есть что-то интригующее? В таком случае тебе нужно встретиться с ним ещё раз.
— Ну, предположим, мы встретимся — и что же я должна буду делать?
— Откуда я знаю? Это уж тебе виднее. Узнай его имя. Выясни всё, что будет возможно. Используй свои несомненные умственные способности для интеллектуального вынюхивания.
— Ну ладно, — ответила она. — Приказ начальства? Будет исполнено.
Глава 3
По размерам резиденция представителя Земли ничем не отличалась от стандартной лунной квартиры. На Луне не было лишнего пространства — в том числе и для высокопоставленных землян. Никакие соображения престижа не могли изменить того факта, что на Луне люди жили глубоко под поверхностью планеты в условиях малой силы тяжести, и даже самому прославленному из землян пришлось бы смириться с отсутствием такой недоступной роскоши, как простор.
— Человек привыкает ко всему! — вздохнул Луис Монтес. — Я прожил на Луне два года, и порой у меня возникало желание остаться тут и дольше, но… Я уже не молод. Мне пошёл пятый десяток, и если я не хочу остаться тут навсегда, то должен уехать немедленно, или я уже не сумею вновь приспособиться к полной силе тяжести.
Конраду Готтштейну было только тридцать четыре года, а выглядел он ещё моложе. Его лицо было круглым, с крупными чертами — среди лунян такой тип лица настолько редок, что оно стало непременной принадлежностью земляшек на лунных карикатурах. Однако фигура у него была сухощавой и стройной — посылать на Луну дородных землян, как правило, избегали, — а потому его голова казалась непропорционально большой.
Он сказал (произнося слова общепланетного эсперанто с несколько иным акцентом, чем Монтес):
— Вы как будто извиняетесь.
— Вот именно, вот именно! — воскликнул Монтес. (Если лицо Готтштейна производило впечатление безмятежного благодушия, то лицо Монтеса, изборождённое глубокими складками, было печальным до комизма.) — И даже в двух отношениях. Я испытываю потребность оправдываться, потому что покидаю Луну — очень привлекательный и интересный мир. И чувствую себя виноватым потому, что ощущаю такую потребность. Мне стыдно, что я словно побаиваюсь принять на себя бремя Земли — и силу тяжести, и всё прочее.
— Да, могу себе представить, что эти добавочные пять шестых дадутся вам не очень легко, — сказал Готтштейн. — Я пробыл на Луне всего несколько дней и уже нахожу, что одна шестая земной силы тяжести — прекрасная штука.
— Ну, вы перемените мнение, когда ваше пищеварение взбунтуется и вам неделями придётся жить на касторке, — со вздохом заметил Монтес. — Впрочем, это пройдёт… Но хотя вы и ощущаете лёгкость во всём теле, лучше всё-таки не изображайте из себя легкую серну. Для этого требуется большое умение.
— Я понимаю.
— О нет, Готтштейн, вам только кажется, будто вы понимаете. Вы ведь ещё не видели кенгуровой припрыжки?
— Видел по телевизору.
— Ну, это совсем не то. Надо самому попробовать. Лучший способ быстрого передвижения по ровной лунной поверхности. Вы отталкиваетесь обеими ступнями, словно для прыжка в длину на Земле. В воздухе вы выносите ноги вперёд, а в последний момент опускаете их и снова отталкиваетесь. И так далее. По земным меркам это происходит до-вольно-таки медленно, поскольку тяжесть, обеспечивающая толчок, невелика, зато с каждым прыжком человек покрывает свыше двадцати футов, а для того, чтобы удерживаться в воздухе, — то есть если бы тут был воздух, — необходимы лишь минимальные мышечные усилия. Ощущение такое, будто ты летишь…
— Значит, вы пробовали? Вы умеете передвигаться кенгуровой припрыжкой?
— Да, я пробовал, но у землянина это по-настоящему получиться не может. Мне удавалось сделать до пяти прыжков подряд — вполне достаточно, чтобы возникло ощущение полёта и чтобы захотелось прыгать дальше. Но тут вы обязательно допускаете просчёт, слишком замедляете или убыстряете движения и катитесь кубарем четверть мили, если не больше. Луняне вежливы и никогда над вами не смеются. Сами же они начинают с раннего детства, и для них это всё просто и естественно.
— Это ведь их мир, — усмехнулся Готтштейн. — А вы представьте себе, как они выглядели бы на Земле.
— Но ведь они в таком положении оказаться никак не могут. Им пути на Землю нет. Тут мы имеем перед ними преимущество. Нам открыты и Земля, и Луна. А они способны жить только на Луне. Мы порой забываем об этом, потому что подсознательно путаем лунян с грантами.
— С кем, с кем?
— Так они называют иммигрантов с Земли. Тех, кто почти постоянно живёт на Луне, но родился и вырос на Земле. Иммигранты могут при желании вернуться на Землю, но у настоящих лунян ни кости, ни мышцы не приспособлены к тому, чтобы выдерживать земное тяготение. В начале лунной истории это не раз приводило к подлинным трагедиям.
— Вот как?
— К сожалению. Родители возвращались на Землю с детьми, которые родились на Луне… Мы про это как-то забываем. Это ведь были годы решительного перелома, и смерть горстки детей прошла в тот момент почти незамеченной. Внимание человечества было поглощено общемировой ситуацией и её окончательным разрешением в конце двадцатых годов. Но здесь, на Луне, помнят всех лунян, не выдержавших жизни в условиях земной силы тяжести… По-моему, это помогает им ощущать себя самостоятельными и независимыми.
— Мне казалось, что на Земле я получил всю необходимую информацию, — сказал Готтштейн, — но, по-видимому, мне предстоит узнать ещё очень многое.
— Изучить Луну полностью по сведениям, поступающим на Землю, попросту невозможно, а потому я подготовил для вас исчерпывающее резюме. То же сделал для меня мой предшественник. Вы убедитесь, что Луна необычайно интересна, а в некоторых отношениях и способна довести человека до помешательства. Вряд ли вы пробовали на Земле лунную пищу, а никакие описания не помогут вам приготовиться к тому, что вас ждет… И всё-таки вам придётся смириться с необходимостью: выписывать сюда земные деликатесы было бы плохой политикой. Тут мы едим и пьем продукты исключительно местного производства.
— Вы ведь прожили на них два года. Надеюсь, и я тоже выдержу.
— Два года — но с некоторыми перерывами. Нам полагается через регулярные промежутки проводить несколько дней на Земле. И эти отпуска обязательны, хотим мы того или нет. Но вас, вероятно, предупредили?
— Да, — ответил Готтштейн.
— Как бы вы ни следили здесь за своим физическим состоянием, вам всё-таки необходимо время от времени напоминать вашим костям и мышцам, что такое полная сила тяжести. А уж попав на Землю, вы отъедаетесь вволю. Ну и, кроме того, порой удаётся провезти тайком кое-какие лакомства.
— Мой багаж, разумеется, был подвергнут тщательному осмотру, — сказал Готтштейн. — Но потом я обнаружил в кармане пальто банку тушенки. Я совсем про неё забыл, а таможенники её не заметили.
Монтес улыбнулся и сказал нерешительно:
— Я подозреваю, что вы намерены поделиться со мной.
— Нет, — торжественно ответил Готтштейн, наморщив свой толстый короткий нос. — Я намеревался произнести со всем трагическим благородством, на какое я только способен: «О Монтес, съешь её всю сам — твоя нужда больше моей!» — Последнюю фразу он произнес с запинкой, поскольку ему редко приходилось ставить глаголы общепланетарного эсперанто во второе лицо единственного числа.
Улыбка Монтеса стала шире, однако он с сожалением покачал головой:
— Спасибо, но ни в коем случае. Через неделю я получу возможность есть любую земную пищу в любых количествах. Вам же в ближайшие годы она будет перепадать лишь изредка, и вы вновь и вновь будете раскаиваться в нынешней своей щедрости. Оставьте всю банку себе… Прошу вас. Я вовсе не хочу, чтобы в дальнейшем вы меня люто возненавидели.
Он дружески положил руку на плечо Готтштейна и посмотрел ему в глаза.
— Кроме того, — продолжал он, — нам с вами предстоит разговор на весьма важную тему, а я не знаю, как его начать, и эта тушенка послужила бы мне удобным предлогом, чтобы снова его оттянуть.
Готтштейн тотчас спрятал банку. Его круглое лицо было органически не способно принять выражение сосредоточенности, но голос стал очень серьёзным:
— Значит, есть что-то, о чём вы не могли сообщить в своих донесениях на Землю?
— Я пытался, Готтштейн, но всё это достаточно зыбко, а Земля не сумела или не пожелала разобраться в моих намеках, и вопрос повис в воздухе. Возможно, вам удастся добиться чего-то более определённого. Я от души на это надеюсь. По правде говоря, я не просил о продлении срока моих полномочий, в частности, именно потому, что ответственность слишком велика, а я не сумел убедить Землю.
— Если судить по вашему тону, это действительно что-то очень серьёзное.
— Да, если судить по тону! Но я отдаю себе отчет, что выглядит всё довольно глупо. На Луне постоянно живёт около десяти тысяч человек, и уроженцы Луны не составляют из них и половины. Им не хватает ресурсов, им мешает теснота, они живут на очень суровой планете, и всё же… всё же…
— И всё же? — подсказал Готтштейн.
— Тут что-то происходит — я не знаю точно, что именно, но, возможно, что-то опасное.
— То есть как — опасное? Что они, собственно, могут сделать? Объявить Земле войну? — Казалось, Готтштейн с трудом сдерживает улыбку.
— Нет-нет. Всё это гораздо тоньше. — Монтес провёл рукой по лицу и раздраженно протер глаза. — Разрешите, я буду с вами откровенным. Земля утратила прежний дух.
— Что вы под этим подразумеваете?
— Ну а как это назвать по-другому? Примерно в то время, когда на Луне появилось первое поселение, Земля пережила экологический перелом. Полагаю, мне не надо вам о нём рассказывать?
— Разумеется, — хмуро ответил Готтштейн. — Но ведь в конечном счёте Земля от него выиграла, не так ли?
— О, без сомнения! Но он оставил после себя непреходящее недоверие к технике, определённую апатию, ощущение, что всякая перемена чревата рискованными побочными следствиями, которые трудно предвидеть заранее. Многообещающие, но опасные исследования были прекращены, потому что даже полный их успех, казалось, не оправдывал сопряженного с ними риска.
— Насколько я понимаю, вы говорите о программе генетического конструирования?
— Да, это наиболее яркий пример, но, к сожалению, не единственный, — ответил Монтес с грустью.
— Честно говоря, отказ от генетического конструирования меня лично нисколько не огорчает. С самого начала и до конца это была цепь срывов и неудач.
— Человечество утратило шанс на развитие интуитивизма.
— Но ведь так и осталось неясным, насколько интуитивизм был бы полезен, а вот его возможные минусы были более чем очевидны… Кстати, а как же Луна? Какие ещё нам нужны доказательства, что Земля вовсе не погрузилась в апатию?
— Наоборот! — вскричал Монтес. — Лунная колония — это наследие эпохи, предшествовавшей перелому, последний бросок человечества вперёд, а затем началось отступление.
— Вы преувеличиваете, Монтес.
— Не думаю. Земля отступила, человечество отступило повсюду, кроме Луны. Луна олицетворяет замечательнейшее завоевание человека не только физически, но и психологически. Это мир, где нет живой и уязвимой природы, где можно не опасаться нарушить хрупкое равновесие сложной среды обитания. На Луне всё, что необходимо человеку, создано самим человеком. Луна — мир, сотворенный человеком с начала и до конца. У него нет прошлого.
— Ну и что же?
— На Земле нам мешает тоска по пасторальному единению с природой, которого никогда в действительности не было. Но даже существуй оно когда-то, возродить его всё равно было бы невозможно. А у Луны нет прошлого, о котором можно мечтать или тосковать. Тут есть только одна дорога — вперёд.
Монтес, казалось, загорался от собственных слов всё больше и больше.
— Готтштейн, я наблюдал эти два года. Вам предстоит наблюдать тоже два года, если не больше. Луна охвачена огнем — огнем деятельности. Причем поле этой деятельности всё время расширяется. И физически — каждый месяц бурятся всё новые коридоры, оборудуются всё новые жилые комплексы, обеспечивая дальнейший рост населения. И в смысле ресурсов — всё время открываются новые строительные материалы, новые источники воды, новые залежи полезных ископаемых. Расширяются поля солнечных аккумуляторов, растут электронные заводы… Полагаю, вам известно, что эти десять тысяч человек здесь, на Луне, обеспечивают всю Землю мини-электронными приборами и прекрасными биохимическими препаратами?
— Да, я знаю, что это довольно важный их источник.
— Земля предаётся приятному самообману. Луна — основной их источник. А в недалеком будущем может стать и единственным. Они здесь, на Луне, растут и интеллектуально. Готтштейн, я убеждён, что на Земле не найдётся ни одного начинающего молодого ученого, который иногда — а может быть, и далеко не иногда — не мечтал бы со временем уехать на Луну. Ведь во многих областях техники Луна начинает занимать ведущие позиции.
— Вероятно, вы имеете в виду синхрофазотрон?
— И его тоже. Когда был построен на Земле последний синхрофазотрон? И это лишь наиболее яркий пример, но отнюдь не единственно важный. И даже не самый важный. Если хотите знать, то решающий фактор в области науки на Луне — это…
— Нечто столь секретное, что мне о нём не сообщили?
— Нет. Нечто столь очевидное, что его просто не замечают. Я имею в виду десять тысяч интеллектов, отборных человеческих интеллектов, которые и по убеждению, и по необходимости посвятили себя служению науке.
Готтштейн беспокойно заерзал и хотел подвинуть стул. Но стул был привинчен к полу, и Готтштейн едва не соскользнул на ковер. Монтес удержал его за локоть.
— Простите! — досадливо покраснев, пробормотал Готтштейн.
— Ничего, вы скоро освоитесь со здешней силой тяжести.
Но Готтштейн не слушал.
— Согласитесь всё-таки, что вы сильно преувеличиваете, Монтес. Ведь Земля — это вовсе не такая уж отсталая планета. Например, Электронный Насос. Он создан Землей. Ни один лунянин не принимал участия в работе над ним.
Монтес покачал головой и пробормотал что-то по-испански — на своем родном языке. Судя по всему, что-то очень энергичное. Потом он спросил на эсперанто:
— Вам доводилось встречаться с Фредериком Хэллемом?
Готтштейн улыбнулся.
— А как же. Отец Электронного Насоса! По-моему, он вытатуировал этот титул у себя на груди.
— Ваша улыбка и ваши слова — уже аргумент в мою пользу. Спросите себя: а мог ли человек вроде Хэллема действительно создать Электронный Насос? Тем, кто предпочитает не размышлять над такими вопросами, это представляется само собой разумеющимся. Но стоит задуматься, и сразу становится ясно, что у Насоса вообще не было отца. Его изобрели паралюди, обитатели паравселенной, каковы бы они ни были и какой бы ни была она. Хэллему же случайно досталась роль их орудия. Да и вся Земля для них — всего лишь средство, помогающее достижению какой-то их цели.
— Но мы сумели извлечь пользу из их инициативы.
— Да, как коровы умеют извлечь пользу из сена, которым мы их снабжаем. Насос — вовсе не доказательство прогресса человечества. Скорее наоборот.
— Ну, если Насос, по-вашему, символизирует шаг назад, то подобный шаг назад можно только приветствовать. Мне не хотелось бы остаться без него.
— Мне тоже! Но речь идёт о другом. Насос удивительно хорошо отвечает нынешнему настроению Земли. Неисчерпаемый источник энергии, абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и содержание станций, и никакого загрязнения среды обитания! Но на Луне нет Электронных Насосов.
— Так ведь они тут и не нужны, — заметил Готтштейн. — Солнечные аккумуляторы, насколько мне известно, с избытком обеспечивают Луну необходимой энергией, тоже абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и обслуживание, и тоже не загрязняющей среду обитания… Я верно запомнил заклинание?
— О да, вполне. Но ведь солнечные аккумуляторы созданы человеком. Вот о чём я говорю. Кстати, на Луне собирались установить Электронный Насос, и такая попытка была сделана.
— И что же?
— Ничего не вышло. Паралюди не забрали вольфрама. Не произошло ровно ничего.
— Я этого не знал. А почему?
Монтес выразительно поднял брови и развел руками.
— Кто может знать? Отчего не предположить, например, что паралюди живут на планете, не имеющей спутника, и не в состоянии представить себе второй обитаемый мир в близком соседстве с первым? Или же, отыскав то, что им было нужно, они попросту прекратили дальнейшие поиски? Как знать? Важно другое: они не забрали вольфрама, а сами мы без них ничего сделать не смогли.
— Сами мы… — задумчиво повторил Готтштейн. — Под этим вы подразумеваете землян?
— Да.
— А луняне?
— Они в этом участия не принимали.
— Но Электронный Насос их интересовал?
— Не знаю… Этим, собственно, и объясняются моя неуверенность, мои опасения. У лунян… и особенно у родившихся тут… существует собственная точка зрения. Я не знаю их намерений, их планов. И мне ничего не удалось выяснить.
Готтштейн задумался.
— Но что, собственно, они могут сделать? Какие у вас есть основания полагать, что они злоумышляют против нас? А главное, какой вред они в силах причинить Земле, даже если бы и захотели?
— Я ничего не могу ответить. Все они — очень обаятельные и умные люди. Мне кажется, в них нет ни ненависти, ни злобы, ни даже страха. Но вдруг мне это только кажется? Я тревожусь именно потому, что ничего не знаю твёрдо.
— Если не ошибаюсь, научно-исследовательские установки на Луне подчинены Земле?
— Совершенно верно. Синхрофазотрон. Радиотелескоп на обратной стороне. Трехсотдюймовый оптический телескоп… Другими словами, большие установки, которые действуют уже пятьдесят с лишним лет.
— А что было добавлено с тех пор?
— Землянами? Очень мало.
— А лунянами?
— Не могу сказать точно. Их учёные работают на больших установках. Но я однажды проверил их табели. В них есть большие пробелы.
— Какие пробелы?
— Значительную часть времени они проводят где-то ещё. Так, словно у них есть собственные лаборатории.
— Но ведь это естественно, если они производят мини-электронное оборудование и высококачественные биохимические препараты?
— Да, и всё-таки… Готтштейн, говорю же вам — я не знаю. И эта моя неосведомленность внушает мне страх.
Они помолчали. Потом Готтштейн спросил:
— Насколько я понял, Монтес, вы рассказали мне всё это для того, чтобы я был настороже и постарался без шума выяснить, чем занимаются луняне?
— Пожалуй, — невесело сказал Монтес.
— Но ведь вы даже не знаете, действительно ли они чем-то занимаются.
— И всё-таки я убеждён, что это так.
— Странно! — сказал Готтштейн. — Мне следовало бы убеждать вас, что ваши необъяснимые страхи абсолютно беспочвенны… и тем не менее очень странно…
— Что именно?
— На том же корабле, что и я, летел ещё один человек. То есть летела большая группа туристов, но лицо одного показалось мне знакомым. Я с этим человеком не разговаривал — просто не пришлось — и сразу забыл о нём. Но этот наш разговор опять мне о нём напомнил…
— А кто он?
— Мне как-то довелось быть членом комиссии, рассматривавшей некоторые вопросы, связанные с Электронным Насосом. А точнее, вопрос о безопасности его использования. То недоверие к технике, о котором мы говорили. — Готтштейн улыбнулся. — Да, мы всё проверяем и перепроверяем. Но так ведь и надо, чёрт побери. Я уже забыл подробности, но на одном из заседаний комиссии я видел человека, который теперь летел вместе со мной на Луну. Я убеждён, что это он.
— По-вашему, тут что-то кроется?
— Не знаю. Но его лицо ассоциируется у меня с чем-то тревожным. Я постараюсь вспомнить. Во всяком случае, полезно будет затребовать список пассажиров и посмотреть, не значится ли в нём какая-нибудь знакомая фамилия. Как ни жаль, Монтес, но вы, кажется, обратили меня в свою веру.
— О чём же тут жалеть! — ответил Монтес. — Наоборот, я очень рад. Ну а этот человек, возможно, просто турист и уедет через две недели. И всё-таки очень хорошо, что я заставил вас задуматься.
Готтштейн бормотал, не слушая его:
— Он физик… или, во всяком случае, учёный. В этом я убеждён. И он ассоциируется у меня с какой-то опасностью.
Глава 4
— Здравствуйте! — весело сказала Селена.
Землянин оглянулся и сразу её узнал.
— Селена! Я не ошибаюсь? Вы ведь — Селена?
— Правильно. Имя вы вспомнили совершенно точно. Ну, как вам тут нравится?
— Очень! — серьёзно сказал землянин. — Я как-то по-новому понял, в каком неповторимом веке мы живем. Ещё совсем недавно я был на Земле и чувствовал, насколько я устал от своего мира, устал от самого себя. И тут я подумал: живи я сто лет назад, у меня не было бы другого способа покинуть свой мир, кроме одного — умереть. Но теперь я могу уехать на Луну! — И он улыбнулся невеселой улыбкой.
— И что же, на Луне вы чувствуете себя счастливее? — спросила Селена.
— Немножко. — Он огляделся. — Но где же туристы, которых вы пасёте?
— Сегодня я свободна, — ответила она, засмеявшись. — Возможно, я возьму ещё два-три свободных дня. Это ведь очень скучная работа.
— Как же вам не повезло! Только решили отдохнуть и сразу же наткнулись на туриста.
— Вовсе я на вас не наткнулась. Я вас специально разыскивала. И должна сказать, это было нелегкой задачей. А вам всё-таки не следовало бы бродить в одиночестве.
Землянин посмотрел на неё с любопытством.
— А зачем, собственно, вы меня разыскивали? Вы что, так любите землян?
— Нет, — ответила она с непринуждённой откровенностью. — Они мне до смерти надоели. Я в принципе отношусь к ним без особых симпатий, а оттого, что мне постоянно приходится иметь с ними дело в силу моих профессиональных обязанностей, они милее не становятся.
— И всё-таки вы специально меня разыскивали, а ведь нет такой силы на Земле, то есть я хотел сказать — на Луне, которая могла бы убедить меня, будто я молод и красив.
— Ну, это ничего не изменило бы! Земляне меня совершенно не интересуют, как известно вам, кроме Бэррона.
— В таком случае почему же вы меня разыскивали?
— Потому что в человеке интересны не только молодость и красота, и ещё потому, что вами заинтересовался Бэррон.
— А кто такой Бэррон? Ваш приятель?
Селена засмеялась.
— Его зовут Бэррон Невилл. И для меня он несколько больше, чем приятель.
— Я именно это и имел в виду. У вас есть дети?
— Сын. Ему десять лет. Он живёт в интернате для мальчиков. Я избавлю вас от необходимости задавать мне следующий вопрос. Его отец — не Бэррон. Возможно, Бэррон будет отцом моего следующего ребенка, если мы с ним не разойдёмся к тому времени, когда я получу право иметь второго ребенка. Если я такое право получу… Впрочем, в этом я не сомневаюсь.
— Вы очень откровенны.
— Разумеется. Какой смысл придумывать несуществующие секреты? Вот если бы… Ну а чем бы вы хотели заняться сейчас?
Они шли по коридору, пробитому в молочно-белой породе. Его отполированные стены были инкрустированы дымчатыми осколками «лунных топазов», которые валялись на лунной поверхности практически повсюду. Сандалии Селены, казалось, почти не прикасались к полу, а на землянине были башмаки на толстой, утяжеленной свинцом подошве, и только благодаря им каждый шаг не был для него мукой.
Движение в коридоре было одностороннее. Время от времени их нагоняли миниатюрные электромобили и бесшумно проносились мимо.
Землянин сказал:
— Чем бы я хотел заняться? У этого предложения слишком широкий спектр. Лучше задайте граничные условия, чтобы я ненароком не нарушил каких-либо запретов.
— Вы физик?
— Почему вы об этом спросили? — спросил землянин после нерешительной паузы.
— Только чтобы услышать, как вы мне отвечаете. А что вы физик, я и так знаю.
— Откуда?
— А кто ещё попросит задать граничные условия? Тем более что, едва попав на Луну, тот же человек в первую очередь пожелал осмотреть синхрофазотрон.
— Ах, так вот почему вы постарались меня найти? Потому что решили, будто я физик?
— Поэтому Бэррон послал меня разыскать вас. Он ведь физик. А я согласилась потому, что вы мне показались непохожим на обычных землян.
— В каком смысле?
— Ничего особенно лестного для вас, если вы напрашиваетесь на комплименты. Просто вы как будто не питаете особой любви к остальным землянам?
— Откуда вы это взяли?
— Я видела, как вы держитесь с остальными членами вашей группы. И вообще я это как-то чувствую. Ведь на Луне обычно оседают те земляне, которые недолюбливают своих сопланетников. Что возвращает меня к моему первому вопросу… Чем бы вы хотели заняться? Скажите, и я определю граничные условия. То есть в смысле объектов осмотра.
Землянин внимательно посмотрел на неё.
— Всё это как-то странно, Селена. У вас сегодня выходной. Ваша работа настолько вам неинтересна и даже неприятна, что вы с радостью взяли бы ещё два-три свободных дня. Однако отдыхать вы намерены опять исполняя свои профессиональные обязанности, причем ради одного меня… И всё из-за мимолетного любопытства.
— Не моего, а Бэррона. Он пока занят, так почему бы не послужить вам гидом, пока он не освободится? К тому же это совсем другое дело! Неужели вы сами не понимаете? Моя работа заключается в том, чтобы нянчить десятка два земляшек… Вас не обижает, что я употребила это определение?
— Я сам им пользуюсь.
— Да. Потому что вы землянин. Но туристы с Земли считают его насмешливой кличкой, и им не нравится, когда её употребляет лунянин.
— То есть лунатик?
Селена покраснела.
— Вот именно.
— Ну, так давайте не придавать значения словам. Вы ведь начали что-то говорить мне про вашу работу.
— Так вот. Я обязана не допускать, чтобы эти двадцать земляшек сломали себе шеи. Я должна водить их по одному и тому же маршруту, произносить одни и те же фразы, следить, чтобы они ели, пили и ходили, соблюдая все правила и инструкции. Они осматривают положенные по программе достопримечательности и проделывают всё, что принято проделывать, а я обязана быть безупречно вежливой и по-матерински заботливой.
— Ужасно! — сказал землянин.
— Но мы с вами можем делать что захотим. Вы готовы рисковать, а я не обязана следить за тем, что я говорю.
— Я ведь вам уже сказал, что вы спокойно можете называть меня земляшкой.
— Ну так, значит, всё в порядке. Я провожу свой выходной день в обществе туриста. Итак, чем бы вы хотели заняться?
— На это ответить нетрудно. Я хотел бы осмотреть синхрофазотрон.
— Только не это. Возможно, Бэррон что-нибудь устроит после того, как вы с ним поговорите.
— Ну, в таком случае я, право, не знаю, что тут ещё может быть интересного. Радиотелескоп, насколько мне известно, находится на обратной стороне, да и не такая уж это новинка… Предлагайте вы. Что обычно осматривают туристы?
— Существует несколько маршрутов. Например, бассейны с водорослями. Нет, не фабрика, где они обрабатываются в стерильных условиях. Её вы уже видели. Это комплекс, где их выращивают. Однако они очень сильно пахнут, и земляшки… земляне находят этот запах не слишком аппетитным… Земляш… земляне и так давятся нашей едой.
— Это вас удивляет? А вы знакомы с земной кухней?
— Практически нет. И думаю, что земная еда мне вряд ли понравится. Это ведь вопрос привычки.
— Да, наверное, — ответил землянин со вздохом. — Если бы вам подали настоящую говядину, жесткие волокна и жирок, пожалуй, отбили бы у вас аппетит.
— Можно побывать на окраине, где ведётся пробивка новых коридоров. Но тогда надо надеть защитные костюмы. Есть ещё заводы…
— Я полагаюсь на ваш выбор, Селена.
— Хорошо, я возьму это на себя, но только если вы честно ответите мне на один вопрос.
— Пока я не услышу вопроса, я не могу обещать, что отвечу на него.
— Я сказала, что земляшки, которым не нравятся другие земляшки, обычно остаются на Луне. Вы не стали возражать. Значит, вы намерены остаться на Луне?
Землянин уставился на тупые носки своих тяжелых башмаков. Он сказал, не поднимая глаз:
— Селена, визу на Луну я получил с большим трудом. Меня предупредили, что я слишком стар для такой поездки и, если моё пребывание на Луне затянется, мне скорее всего уже нельзя будет вернуться на Землю. А потому я заявил, что намерен поселиться на Луне навсегда.
— И вы не лгали?
— В тот момент я ещё не решил. Но теперь я думаю, что, вероятно, останусь.
— Странно! После такого заявления они тем более должны были бы вас не пустить.
— Почему?
— Обычно Земля предпочитает, чтобы её физики не оставались на Луне насовсем.
Губы землянина тронула горькая улыбка.
— В этом отношении мне никаких препятствий не чинили.
— Что же, раз вы намерены стать одним из нас, вам, пожалуй, следует осмотреть гимнастический комплекс. Земляне часто изъявляют желание посетить его, но, как правило, мы предпочитаем их туда не водить, хотя официально это не запрещено. Иммигранты — другое дело.
— А почему такие сложности?
— Ну, например, мы занимаемся там практически нагими. А что тут, собственно, такого? — В её голосе появилась досада, словно ей надоело оправдываться. — Температура в городе поддерживается оптимальная, чистота везде стерильная, а то, что общепринято, ничьего внимания не привлекает. Кроме, конечно, туристов с Земли. Одни туристы возмущаются, другие хихикают, а третьи и возмущаются, и хихикают. А нам это мешает. Менять же ради них мы ничего не собираемся и потому просто стараемся их туда не пускать.
— А как же иммигранты?
— Пусть привыкают. Они ведь сами скоро будут одеваться по лунным модам. А им посещать спортивный комплекс нужнее, чем урождённым лунянам.
— И мы тоже должны будем раздеться? — спросил он весело.
— Как зрители? Зачем же? Можно, конечно, но лучше не надо. Вам с непривычки будет неловко, да и с эстетической точки зрения вы поступите разумнее, если не станете спешить.
— Вы прямолинейны, ничего не скажешь.
— Что же делать? Взгляните правде в глаза. А поскольку я упражняться не собираюсь, то и мне проще обойтись без переодевания.
— Но наше появление никаких возражений не вызовет?
То есть моё присутствие там — присутствие земляшки с не слишком эстетической внешностью?
— Не вызовет, если вы придёте со мной.
— Ну хорошо, Селена. А идти далеко?
— Мы уже почти пришли. Вот сюда.
— А, так вы с самого начала собирались показать мне ваш гимнастический комплекс?
— Я подумала, что это может оказаться интересным.
— Почему?
— Ну, я просто так подумала, — улыбнулась Селена.
Землянин покачал головой.
— Я начинаю думать, что вы никогда ничего просто так не думаете. Дайте-ка я попробую догадаться. Если я останусь на Луне, мне необходимо будет время от времени заниматься гимнастикой, чтобы мышцы, кости, а может быть, и внутренние органы функционировали как следует.
— Совершенно верно. Это необходимо нам всем, но иммигрантам с Земли — особенно. Довольно скоро вы начнете посещать спортивный комплекс каждый день.
Они вошли в дверь, и землянин остановился как вкопанный.
— Впервые я вижу тут что-то, что напоминает Землю!
— Чем?
— Размерами. Мне и в голову не приходило, что на Луне есть такие огромные помещения. Письменные столы, конторское оборудование, секретарши…
— В шортах, — невозмутимо докончила Селена.
— Согласен, что здесь сходство с Землей кончается.
— У нас есть скоростная шахта и лифты для земляшек. Комплекс расположен на нескольких уровнях… Минутку!
Селена подошла к одному из столов и вполголоса заговорила с секретаршей. Землянин тем временем с доброжелательным любопытством посматривал по сторонам.
— Все в порядке, — сказала Селена, вернувшись. — И сейчас как раз начинается довольно интересный матч. Я знаю обе команды — на них стоит посмотреть.
— Послушайте, а это место производит внушительное впечатление. Очень внушительное.
— Если вы имеете в виду размеры, то этот комплекс всё-таки тесноват, хотя он и больше остальных двух. Пока у нас их три. Это самый большой.
— Почему-то мне очень приятно, что, несмотря на спартанские условия Луны, вы позволяете себе пожертвовать такое количество свободного пространства на развлечения.
— Как — на развлечения? — Селена даже обиделась. — Почему вы так решили?
— Но ведь вы сказали — матч? То есть речь идёт об игре?
— Дело не в названии. На Земле у вас есть возможность устраивать спортивные состязания ради развлечения. Десять человек соревнуются, десять тысяч смотрят. На Луне всё по-другому. То, что для вас — развлечение, для нас — жизненная необходимость… Вот сюда. Мы поедем на лифте, так что придётся немного подождать.
— Простите. Я вовсе не хотел вас обидеть.
— Я не обиделась, но попробуйте немножко подумать. Вы, земляне, приспосабливались к земной силе тяжести добрых триста миллионов лет — с того самого момента, как живые организмы выбрались на сушу. Вы можете обходиться и без упражнений. А у нас ещё не было времени приспособиться к лунной силе тяжести.
— Однако у вас уже выработался свой тип.
— У тех, кто родился и вырос в условиях лунной силы тяжести, кости и мышцы, естественно, менее массивны, чем у земляшек, но это лишь внешнее различие. Наш организм всё же плохо к ней приспособлен и требует постоянной тренировки, чтобы функционировать нормально. И это касается, в частности, таких сложных и тонких функций, как пищеварение, выделение гормонов и тому подобное. Оттого что мы придаем упражнениям форму веселой игры, они не становятся пустым развлечением… Но вот и лифт.
Землянин невольно попятился, и Селена продолжала всё с тем же легким раздражением, словно устав от необходимости непрерывно объяснять и оправдываться:
— Вам, конечно, не терпится сказать, что это не лифт, а плетеная кошелка. Ещё ни один землянин не сел в него без такого вступления. Но в условиях лунной силы тяжести он достаточно прочен.
Лифт медленно пошёл вниз. Они были в нём одни. Землянин заметил:
— По-видимому, им пользуются очень редко.
На этот раз Селена улыбнулась.
— Вы совершенно правы. Скоростная шахта быстрее и приятнее.
— А что это такое?
— Именно то, о чём говорит название… Мы приехали. Нам ведь надо было спуститься всего на два уровня. Скоростная шахта — это вертикальная труба с поручнями. Человек опускается или поднимается, придерживаясь за них. Но земляшек мы предпочитаем возить на лифтах.
— Слишком опасно?
— Сам спуск вовсе не опасен. Поручнями можно пользоваться точно лестницей. Но молодые ребята обычно летят вниз с большой скоростью, а земляшки не умеют увертываться. Ну а столкновения бывают довольно болезненными. Но со временем вы привыкнете. Собственно говоря, то, что вы увидите сейчас, — это тоже своего рода скоростная шахта, предназначенная для любителей острых ощущений.
Они направились к барьеру, Оттораживавшему широкий круглый провал. У барьера, облокотившись на него, стояли люди, одетые по большей части в легкие сандалии и шорты. Все непринуждённо разговаривали, кое-кто ел. У многих через плечо были надеты сумки. Проходя мимо юноши, который с аппетитом выскребал зеленоватую массу из бумажного стаканчика, землянин невольно поморщился.
— С зубами на Луне дело, наверное, обстоит не так уж хорошо, — сказал он.
— Да, не слишком, — согласилась Селена. — Будь у нас такая возможность, мы предпочли бы обходиться совсем без них.
— Без зубов?
— Ну, возможно, не совсем. Мы, наверное, сохранили бы резцы и клыки из косметических соображений. А кроме того, они бывают полезны. И их нетрудно чистить. Но для чего нам коренные зубы? Как свидетельство нашего земного происхождения?
— И вы что-нибудь для этого делаете?
— Нет, — ответила Селена сдержанно. — Генетическое конструирование запрещено. На этом настаивает Земля.
Она наклонилась над барьером и сказала:
— Лунная площадка для игр!
Землянин заглянул за барьер. Шахта уходила вертикально вниз футов на пятьсот и имела в поперечнике около пятидесяти футов. К её гладким розовым стенам, словно в хаотическом беспорядке, были прикреплены металлические перекладины. Кое-где они отходили от стен перпендикулярно, а некоторые полностью пересекали её по диаметру.
Окружавшие не обратили на землянина никакого внимания. Одни, скользнув взглядом по его одежде и лицу, равнодушно отворачивались. Другие приветственно махали рукой Селене и тоже отворачивались. Сильнее подчеркнуть полное отсутствие интереса они, пожалуй, не могли бы, хотя ничего демонстративного в их поведении не было.
Землянин опять заглянул в шахту. Стройные фигуры на дне казались непропорционально укороченными, потому что он смотрел на них сверху. Он заметил, что на одних были красные трико, а на других — синие. Чтобы различать команды, решил он. Трико, по-видимому, выполняли ещё и защитную функцию, так же как сандалии, перчатки и эластичные повязки над коленями и у локтей.
— А, — пробормотал он, — женщины участвуют наравне с мужчинами.
— Совершенно верно, — сказала Селена. — Тут всё решает ловкость, а не сила.
Раздался негромкий барабанный бой, и двое участников начали стремительно подниматься по противоположным стенкам шахты. В первые секунды они взбирались словно по приставной лестнице, но затем их движения убыстрились, и они уже только отталкивались от перекладин, звонко хлопая по ним ладонями.
— На Земле невозможно проделать это с таким изяществом — восхищенно сказал землянин и тут же поправился: — То есть вообще невозможно.
— И дело ведь не только в малой силе тяжести, — заметила Селена. — Вот попробуйте, и сами убедитесь! Для этого требуется долгая и упорная тренировка.
Гимнасты добрались до барьера и вспрыгнули на площадки, игравшие роль трамплинов. Одновременно перекувырнувшись в воздухе, они начали спуск.
— Они умеют двигаться очень быстро, когда хотят, — заметил землянин.
— Ещё бы! — ответила Селена под всплеск аплодисментов. — Я прихожу к выводу, что у землян, то есть у настоящих землян, никогда не бывавших на Луне, идея передвижения по Луне твёрдо ассоциируется со скафандрами. Другими словами, они рисуют себе мысленную картину лунной поверхности. Там передвижение действительно бывает медленным. Скафандр заметно увеличивает массу, а это означает большую инерцию при малой силе тяжести, которая могла бы ей противодействовать.
— Вы правы, — сказал землянин. — В мои школьные годы я видел все классические фильмы о первых космонавтах — их движения больше всего напоминали движения пловца под водой. И от этого представления потом трудно избавиться, даже если знаешь, что теперь всё уже не так.
— Ну, теперь мы и на поверхности умеем передвигаться очень быстро, несмотря на скафандры и всё прочее, — объявила Селена. — А уж тут, в недрах планеты, мы передвигаемся так же быстро, как земляне у себя дома. Правильное использование мускулатуры вполне компенсирует слабое притяжение.
— Но вы умеете, кроме того, двигаться и медленно. — Землянин внимательно следил за гимнастами. Если вверх они буквально взлетали, то спуск сознательно старались замедлить. Они планировали и по перекладинам теперь хлопали для того, чтобы затормозить падение, а не ускорить подъём, как было вначале. Наконец они достигли пола, и вверх начала подниматься новая пара. Затем настала очередь третьей пары, четвертой… Пара за парой, то от одной команды, то от другой, состязались в виртуозности.
Движения партнеров были на редкость согласованными, и от пары к паре они становились всё более сложными и разнообразными. Особенно громкие аплодисменты заслужили гимнасты, которые одновременно оттолкнулись, пронеслись через шахту навстречу друг другу по пологой параболе и, красиво разминувшись в воздухе, ухватились за поручни — каждый за тот, от которого оттолкнулся партнер.
— Боюсь, у меня не хватит опыта, чтобы по достоинству оценить тонкости этого искусства, — заметил землянин. — Они все — урождённые луняне?
— Разумеется, — ответила Селена. — Комплекс открыт для всех граждан Луны, и многие иммигранты показывают совсем неплохие результаты. Но такой виртуозности могут достичь лишь те, чьи родители освоились с лунной силой тяжести задолго до их рождения. Они не только физически заметно более приспособлены к здешним условиям, но и проходят необходимую подготовку с самого раннего детства. Большинству из соревнующихся нет ещё и восемнадцати лет.
— Вероятно, это опасно даже в лунных условиях.
— Да, переломы не такая уж редкость. Смертельных случаев, по-моему, не было ни разу, но один гимнаст сломал позвоночник, и наступил полный паралич. Это было ужасно! Всё произошло у меня на глазах… Но погодите, сейчас начнется вольная программа.
— Какая-какая?
— До сих пор проделывались обязательные упражнения, заданные заранее.
Барабанный бой стал глуше. Гимнаст внезапно взмыл в воздух, одной рукой ухватился за поперечную перекладину, перевернулся вокруг неё, вытянувшись в струнку, и спланировал на пол.
Землянин не упустил ни одного его движения.
— Это поразительно, — сказал он. — Он крутился вокруг перекладины, как настоящий гиббон.
— А это что такое? — спросила Селена.
— Гиббон? Человекообразная обезьяна — собственно говоря, единственная из человекообразных обезьян, которая ещё живёт в лесах на воле. Они… — Он взглянул на лицо Селены и поспешил добавить: — Я не имел в виду ничего обидного, Селена. Гиббоны — удивительно грациозные создания.
— Я видела обезьян на картинках, — хмуро ответила Селена.
— Однако вряд ли вы видели гиббонов в движении… Возможно, некоторые земляшки называют лунян «гиббонами», вкладывая в это слово не менее оскорбительный смысл, чем вы — в тех же «земляшек». Но я ничего подобного в виду не имел.
Он облокотился о барьер, не спуская глаз с гимнастов. Казалось, они танцуют в воздухе.
— А как на Луне относятся к иммигрантам с Земли, Селена? — вдруг спросил он. — К тем, кто решил остаться тут на всю жизнь? Поскольку они могут не всё, на что способны луняне…
— Это не имеет никакого значения. Гранты — такие же граждане, как и мы. И официально им предоставляются те же возможности.
— То есть как — официально?
— Но вы же сами сказали, что им не всё по силам. И определённые различия существуют. Например, в чисто медицинском плане. Как правило, их здоровье бывает несколько хуже. Если они переезжают в зрелом возрасте, то выглядят… старше своих лет.
Землянин смущенно отвел взгляд.
— А браки между иммигрантами и лунянами разрешены?
— Конечно. Чем их гены хуже? Да мой собственный отец был грантом, хотя по матери я лунянка во втором поколении.
— Но ваш отец, вероятно, приехал сюда совсем… О господи! — Он вцепился в барьер и судорожно перевел дух. — Я думал, он промахнулся.
— Он? — сказала Селена. — Да это же Марко Фор. Он любит выбрасывать руку в самый последний момент. Собственно говоря, это считается дешевым трюком, и настоящие чемпионы никогда к нему не прибегают. Но тем не менее… Мой отец приехал на Луну, когда ему было двадцать два года.
— Да, это, вероятно, оптимальный вариант. Молодой организм, способный легко адаптироваться, никаких прочных связей с Землей…
Селена внимательно следила за гимнастами.
— Вон опять Марко Фор. Когда он не старается привлекать к себе внимание, он по-настоящему хорош. И его сестра почти ему не уступает. Вместе они творят из движения настоящую поэзию. Смотрите, смотрите! Сейчас они сойдутся на одной перекладине и будут вертеться вокруг неё, словно одно тело, брошенное поперек неё. Он иногда бывает несколько экстравагантен, но координация у него безупречна.
Все гимнасты поднялись наверх и выстроились вдоль внутренней стороны барьера, держась за него одной рукой, — красные напротив синих. Руки, обращенные к провалу, были подняты. Аплодисменты стали громче. У барьера собралась теперь довольно большая толпа.
— А почему бы не установить тут сиденья? — спросил землянин.
— С какой стати? Это ведь не зрелище, а упражнение. И мы предпочитаем, чтобы число зрителей ограничивалось теми, кто может с удобством встать прямо у барьера. И вообще нам следует быть в шахте, а не здесь.
— Другими словами, Селена, вы тоже способны проделывать все эти трюки?
— Ну, не все, но значительную часть. Это умеют все луняне. Но я далеко не так ловка, как они. И я никогда не была членом команды… Сейчас начнется коктейль — вольные упражнения для всех сразу. Вот это действительно опасно. Обе десятки будут в воздухе одновременно. Задача каждой стороны — сбросить вниз противников.
— По-настоящему сбросить?
— Насколько выйдет.
— И бывают несчастные случаи?
— Иногда. В теории подобные упражнения не одобряются. Вот их и правда считают пустым развлечением, а численность нашего населения не настолько велика, чтобы мы могли спокойно терять полезных членов общества ради игры. Тем не менее коктейль пользуется большой популярностью, и нам не удастся собрать достаточное количество голосов, чтобы запретить его официально.
— А вы за что проголосовали, Селена?
Она порозовела.
— А, неважно! Начинается! Смотрите внимательнее.
Барабаны вдруг оглушительно загремели, и гимнасты молниеносно прыгнули вперёд. На мгновение в воздухе образовался настоящий клубок, но, когда он распался, каждый гимнаст успел ухватиться за перекладину. Они напряженно выжидали. Затем один прыгнул. За ним второй, и опять в воздухе хаотично замелькали тела. Это повторилось ещё раз. И ещё.
— Счёт очков тут довольно сложен, — сказала Селена. — Каждый прыжок приносит очко, как и каждое касание. Два очка, если заставишь противника промахнуться, и десять, если он окажется на полу. Штрафы за различные недозволенные приёмы.
— А кто ведёт счёт?
— Предварительное решение выносят судьи. В спорных случаях по требованию гимнаста просматривается видеозапись. Впрочем, довольно часто и по записи ничего решить нельзя.
Неожиданно раздались возбуждённые крики: девушка в синем пронеслась мимо юноши в красном и звонко хлопнула его по бедру. Тот попытался увернуться, но не успел и, хватаясь за перекладину, неуклюже ударился коленом о стену.
— Куда он смотрел? — негодующе спросила Селена. — Он же так её и не заметил!
Борьба разгоралась, и землянин уже не пытался следить за всеми её перипетиями. Порой гимнаст только касался перекладины и не успевал за неё ухватиться. Тогда все зрители наклонялись над барьером, словно готовые прыгнуть ему на помощь. Марко Фор получил удар по кисти, и кто-то крикнул: «Штраф!»
Фор не сумел схватить перекладину и упал. На взгляд землянина падение это было довольно медленным. Фор гибко изворачивался, протягивал руку то к одной перекладине, то к другой, но каждый раз чуть-чуть не доставал до них. Остальные гимнасты замерли, словно на время падения игра прерывалась.
Фор падал уже довольно быстро, хотя дважды слегка притормозил, успев хлопнуть ладонью по перекладине.
До пола оставалось совсем немного, но тут Фор сделал резкое движение в сторону и повис головой вниз, зацепившись правой ногой за поперечный брус. Раскинув руки, он висел так в десяти футах над полом, пока не смолкли аплодисменты, а затем вывернулся и мгновенно взлетел вверх по перекладинам.
— Его сбили запрещённым приёмом? — спросил землянин.
— Если Джин Вонг действительно схватила Марко за запястье, а не хлопнула по нему, то за это полагается штраф. Но судья признал честную блокировку, и не думаю, чтобы Марко потребовал проверки по видеозаписи. Он мог бы остановить своё падение гораздо раньше, но он обожает эффектные трюки в последний момент. Когда-нибудь он не рассчитает и сломает руку или ногу… Ого!
Землянин удивленно оглянулся на неё, но Селена смотрела не в шахту.
— Это один из секретарей представителя Земли, и, по-видимому, он ищет вас, — сказала она.
— Но почему…
— А кого же ещё? Ни к кому другому у него тут дела быть не может.
— Но с какой стати… — начал было землянин.
Однако секретарь — судя по его сложению и походке, тоже землянин или недавний иммигрант — направился прямо к нему, явно чувствуя себя неловко под обращенными на него взглядами, в которых за равнодушием пряталась легкая насмешка.
— Сэр, — сказал он, — представитель Готтштейн просит вас…
Глава 5
Квартира Бэррона Невилла была не такой уютной, как квартира Селены. Повсюду валялись книги, печатное устройство компьютера в углу было открыто, а на большом письменном столе царил полный хаос. Окна были просто матовыми.
Едва войдя, Селена скрестила руки на груди и сказала:
— Бэррон, человек, живущий среди такого беспорядка, вряд ли может мыслить логично.
— Уж как-нибудь! — ворчливо заметил Бэррон. — А почему ты не привела своего землянина?
— Его затребовал к себе представитель. Новый представитель.
— Готтштейн?
— Вот именно. Почему ты не мог освободиться раньше?
— Потому что мне нужно было время, чтобы сориентироваться. Нельзя же действовать вслепую.
— Ну, в таком случае делать нечего, придётся подождать, — сказала Селена.
Невилл покусал ноготь на большом пальце и свирепо уставился на обгрызанный край.
— Просто не знаю, как следует оценить сложившуюся ситуацию… Что ты о нём скажешь?
— Он мне нравится, — решительно ответила Селена. — Держится для земляшки очень неплохо. Соглашается идти, куда я его вела. Ему было интересно. Он воздерживался от категорических суждений, не смотрел сверху вниз… А я ведь нет-нет да и говорила ему не слишком приятные вещи.
— Он опять спрашивал про синхрофазотрон?
— Нет. Но ему и не нужно было спрашивать.
— Почему?
— Я ведь сказала ему, что ты хочешь с ним встретиться, и упомянула, что ты физик. Поэтому, мне кажется, все вопросы он намерен задавать тебе.
— И ему не показалось странным, что у гида его группы вдруг оказался знакомый физик?
— Что тут странного? Я сказала, что ты мой приятель.
А для таких отношений профессия большого значения не имеет, и даже физик может снизойти до презренного гида при условии, что этот гид — достаточно привлекательная женщина.
— Селена, хватит!
— Ах так… Послушай, Бэррон, по-моему, если бы он плел какую-нибудь тайную паутину и искал моего общества только потому, что рассчитывал с моей помощью добраться до тебя, он держался бы более напряженно. Чем сложнее и нелепее заговор, тем он уязвимее и тем больше нервничает тот, кто заинтересован в его успехе. А я нарочно вела себя чрезвычайно непосредственно. Я говорила обо всём, кроме синхрофазотрона. Я повела его на коктейль.
— И что же он?
— Ему было интересно. Он держался совершенно спокойно и наблюдал за гимнастами с большим любопытством. Я не знаю, чего он хочет, но никаких коварных замыслов он, по-видимому, не вынашивает.
— Ты уверена? А почему же представитель так поспешно потребовал его к себе и помешал нашей встрече? По-твоему, это хороший признак?
— Не вижу, почему его надо считать дурным. Приглашение, переданное в присутствии двух десятков лунян, тоже как-то не выглядит тонким коварством.
Невилл откинулся, заложив руки за голову.
— Селена, будь добра, воздержись от безосновательных выводов. Они меня раздражают. Начать хотя бы с того, что он никакой не физик. А ведь тебе он говорил, что он физик?
Селена задумалась.
— Нет. Это сказала я. А он не стал отрицать. Но сам он ничего подобного прямо не утверждал. И всё-таки… Всё-таки я убеждена, что он физик.
— Это ложь через умолчание, Селена. Возможно даже, что он искренне считает себя физиком, но он не получил соответствующего образования и никогда как физик не работал. Да, он что-то там кончил, но научной работой никогда не занимался. Пытался, но у него ничего не вышло. Не нашлось лаборатории, которая захотела бы его взять. Он занесен в чёрный список Фреда Хэллема и много лет возглавляет этот список.
— Это точно?
— Я всё проверил, можешь не сомневаться. Ты же сама меня упрекнула, что я так задержался… Всё выглядит настолько замечательным, что это даже подозрительно.
— Но почему? Я что-то не понимаю.
— Не кажется ли тебе, что такой человек прямо-таки напрашивается на наше доверие? Ведь он явно не должен питать к Земле добрых чувств.
— Если твои сведения точны, то рассуждать можно и так.
— Сведения-то точны! То есть в том смысле, что, наводя справки, я получил именно эти факты. Ну а вдруг кто-то как раз и добивается, чтобы мы рассуждали именно так?
— Бэррон, это нестерпимо! Почему тебе повсюду мерещатся заговоры? Бен не похож…
— Бен? — иронически переспросил Невилл.
— Да, Бен! — твёрдо повторила Селена. — Бен не похож на человека, который нянчится с тайной обидой. И он не пытался создать у меня впечатление, будто он — человек, который нянчится с тайной обидой.
— О да! Но ему удалось создать у тебя впечатление, что он приятный и интересный человек. Ты ведь сама это сказала, верно? И даже подчеркнула. А может быть, он именно этого и добивался?
— Ты ведь отлично знаешь, что меня не так легко провести.
— Что же, подождем, пока я сам с ним не познакомлюсь.
— А, иди ты к чёрту, Бэррон! Я встречалась с тысячами разных землян. Это моя работа. У тебя нет ни малейших оснований иронизировать над моими выводами. И ты это знаешь. Наоборот, у тебя есть все основания им доверять.
— Ну хорошо, увидим. Не сердись. Просто необходимость ждать… А не скрасить ли нам её? — И он гибким движением поднялся на ноги.
— У меня что-то нет настроения.
Селена тоже поднялась и, сделав едва заметное движение, ускользнула в сторону.
— Ты злишься, потому что я подверг сомнению твои выводы?
— Я злюсь, потому что… А, чёрт, ну почему ты не наведёшь порядка у себя в комнате?
И с этими словами она ушла.
Глава 6
— Я бы с удовольствием угостил вас чем-нибудь земным, доктор, — сказал Готтштейн, — но из принципиальных соображений мне было запрещено везти с собой земные продукты. Глубокоуважаемые луняне считают, что приезжие с Земли не должны жить в особых условиях, так как это создаёт искусственные барьеры. А потому мне положено вести, насколько возможно, лунный образ жизни, но боюсь, мою походку не скроешь. С этой чёртовой силой тяжести шутки плохи!
— Совершенно с вами согласен, — сказал землянин. — И позвольте принести вам мои поздравления по поводу вашего вступления в должность…
— Ну, я ещё не вполне вступил в неё.
— Тем не менее я вас поздравляю. Но, естественно, я несколько недоумеваю, почему вы пожелали меня видеть.
— Мы летели на одном корабле и вместе прибыли сюда.
Землянин вежливо слушал.
— Но моё знакомство с вами восходит к более давнему времени, — продолжал Готтштейн. — Нам довелось встретиться несколько лет назад… Правда, встреча была довольно мимолетной.
— Боюсь, я не помню, — спокойно сказал землянин.
— Это неудивительно. Было бы странно, если бы вы меня запомнили. Я в то время был сотрудником сенатора Бэрта, который возглавлял… как и теперь возглавляет… комиссию по техническому прогрессу и среде обитания. В то время он пытался собрать материал против Хэллема… Фредерика Хэллема.
— Вы знаете Хэллема? — спросил он.
— За время моего пребывания на Луне вы — второй, кто задаёт мне это вопрос. Да, я его знаю. Хотя и не очень близко. И я разговаривал со многими людьми, которые его знают. Как ни странно, их мнение обычно совпадало с моим. Хэллема почитает вся планета, но тем, кто встречается с ним лично, он почему-то внушает довольно мало симпатии.
— Довольно мало? Вовсе никакой, как мне кажется, — сказал землянин.
Готтштейн продолжал, словно его не перебивали:
— В то время мне было поручено — сенатором, я имею в виду — заняться Электронным Насосом и проверить, не сопровождается ли его установка и эксплуатация неоправданными расходами и личным обогащением. Такое расследование вполне отвечало задачам комиссии, но, между нами говоря, сенатор надеялся обнаружить что-нибудь компрометирующее Хэллема. Его тревожило чрезмерное влияние, которое тот приобрел в науке, и он хотел как-то подорвать хэллемовский престиж. Но у него ничего не вышло.
— Последнее очевидно. Хэллем силен как никогда.
— Никаких тёмных махинаций обнаружить не удалось, и, уж во всяком случае, Хэллем оказался совершенно чист. Он скрупулезно честен.
— В этом смысле — пожалуй. У власти есть своя рыночная цена, которая вовсе не обязательно измеряется деньгами.
— Но меня заинтересовало другое, хотя продолжить расследование в этом направлении я тогда не мог. Среди тех, кого опрашивала комиссия, нашёлся человек, который возражал не против власти Хэллема, а против самого Электронного Насоса. Я присутствовал при беседе с ним, хотя сам в ней активного участия не принимал. Этим человеком были вы, не так ли?
— Я помню разговор, о котором вы говорите, — осторожно сказал землянин. — Но вас я всё-таки не припомню.
— Тогда меня поразило, что у кого-то нашлись чисто научные возражения против Электронного Насоса. Вы произвели на меня такое впечатление, что на корабле ваше лицо сразу же показалось мне знакомым. А потом я припомнил всё остальное. В список пассажиров я не заглядывал, а решил просто положиться на свою память. Вы ведь доктор Бенджамин Эндрю Денисон, не так ли?
Землянин вздохнул.
— Бенджамин Аллан Денисон. Совершенно верно. Но, собственно говоря, какое это имеет значение? Мне нисколько не хочется ворошить прошлое, сэр. Я сейчас на Луне и хотел бы начать всё заново, С самого начала, если потребуется. Чёрт побери, я же думал изменить имя!
— Это не помогло бы. Я ведь узнал ваше лицо. У меня нет никаких возражений против вашего намерения начать новую жизнь, доктор Денисон. И я не собираюсь вам мешать. Но мне хотелось бы выяснить одно обстоятельство, которое вас затрагивает лишь косвенно. Я не помню точно, какие возражения против Электронного Насоса вы тогда выдвигали. Вы не изложили бы их снова?
Денисон опустил голову. Пауза затягивалась, но новый представитель Земли не прерывал её. Он даже постарался не кашлянуть. Наконец Денисон сказал:
— В сущности, обоснованных аргументов у меня не было. Простая догадка, опасения, что напряженность сильного ядерного поля может измениться. Короче говоря, ничего конкретного.
— Ничего? — Готтштейн всё-таки откашлялся. — Извините, но мне хотелось бы разобраться. Я вам уже сказал, что вы тогда очень меня заинтересовали. Но в тот момент у меня не было возможности этим заняться, а сейчас мне вряд ли удастся получить нужные сведения. Сенатор тогда потерпел поражение, а потому принял все меры, чтобы этот факт не стал достоянием гласности. Но кое-что я всё-таки припоминаю. Одно время вы были сослуживцем Хэллема. И вы не физик.
— Совершенно верно. Я был радиохимиком. Как и он.
— Поправьте меня, если я ошибаюсь, но начало вашей карьеры было многообещающим, не так ли?
— Это подтверждается объективными фактами. И у меня никогда не было склонности к переоценке собственной личности. Я действительно показал себя блестящим исследователем.
— Поразительно, сколько подробностей я, оказывается, помню! Хэллем, с другой стороны, особых надежд не подавал.
— Да, пожалуй.
— Тем не менее ваша научная карьера оборвалась. И когда с вами беседовали… вы ведь сами к нам пришли, насколько я помню… вы работали на фабрике игрушек.
— В косметической фирме, — сдавленным голосом поправил Денисон. — Мужская косметика. Что не послужило хорошей рекомендацией в глазах вашей комиссии…
— Да, конечно. К сожалению, это обстоятельство не придало весомости вашим словам. Вы, кажется, были коммивояжером?
— Нет, я заведовал отделом сбыта. И представьте себе, справлялся со своими обязанностями опять-таки блестяще. Когда я решил бросить всё и уехать на Луну, я был уже вице-президентом компании.
— А Хэллем имел к этому какое-нибудь отношение? К тому, что вы должны были бросить научные исследования?
— С вашего разрешения я предпочел бы оставить эту тему, сэр! — сказал Денисон. — Теперь это уже не имеет ни малейшего значения. Я практически присутствовал при том, как Хэллем открыл конверсию вольфрама и начались события, которые в конце концов привели к появлению Электронного Насоса. Что произошло бы, не окажись я в этот момент там, сказать не берусь. Вполне возможно, что месяц спустя и Хэллем, и я умерли бы от лучевой болезни или через полтора месяца стали бы жертвами ядерного взрыва. Не хочу гадать. Во всяком случае, я оказался там, и Хэллем стал тем, чем он стал, отчасти благодаря мне, а я по той же причине стал тем, чем стал. И к чёрту подробности. Вам довольно этого? Потому что ничего больше вы от меня не услышите!
— Пожалуй, довольно. Значит, у вас есть основания относиться к Хэллему с личной неприязнью.
— Да, в те дни я к нему, безусловно, нежных чувств не питал. Как, впрочем, и сейчас.
— Так не были ли ваши возражения против Электронного Насоса продиктованы желанием поквитаться с Хэллемом?
— Это допрос? — сказал Денисон.
— Что? Конечно, нет. Я просто хотел бы получить у вас некоторые справки в связи с Электронным Насосом и рядом других проблем, которые меня интересуют.
— Ну что же. Можете считать, что личные чувства сыграли тут некоторую роль. Из-за неприязни к Хэллему мне хотелось верить, что его престиж и популярность опираются на обман. И я начал раздумывать над Электронным Насосом, надеясь обнаружить какой-нибудь недостаток.
— И поэтому обнаружили?
— Нет! — Денисон гневно стукнул кулаком по ручке кресла и в результате взвился над сиденьем. — Нет, не поэтому. Да, я обнаружил сомнительное звено. Но по-настоящему сомнительное. Во всяком случае, с моей точки зрения. И я, безусловно, не подтасовывал факты ради того, чтобы подставить Хэллему ножку.
— О подтасовке и речи нет, доктор Денисон, — поспешно сказал Готтштейн. — Разумеется, я ни о чём подобном не думал. Но, как известно, попытка делать выводы на самой грани известных фактов обязательно требует каких-то допущений. И вот на этой зыбкой почве вполне честный выбор того или иного допущения может бессознательно зависеть от… гм… от эмоциональной направленности. Вот почему не исключено, что свои допущения вы выбирали с заранее заданной антихэллемовской направленностью.
— Это бесплодный разговор, сэр. В то время мне казалось, что мой вывод достаточно обоснован. Но ведь я не физик. Я радиохимик. То есть был когда-то радиохимиком.
— Как и Хэллем. Однако сейчас он самый знаменитый физик мира.
— И тем не менее он радиохимик, причем на четверть века отставший от современных требований науки.
— Ну, о вас того же сказать нельзя. Вы ведь приложили все усилия, чтобы переквалифицироваться в физика.
— Я вижу, вы по-настоящему покопались в моём прошлом, — еле сдерживаясь, сказал Денисон.
— Но я же сказал вам, что вы произвели на меня большое впечатление. Всё-таки поразительно, как всё воскресает в памяти! Но сейчас мне хотелось бы спросить вас о другом. Вам известен физик Питер Ламонт?
— Мы встречались, — с неохотой буркнул Денисон.
— Как, по-вашему, можно назвать его блестящим исследователем?
— Я недостаточно хорошо его знаю для подобных заключений. И вообще не люблю злоупотреблять такими словами.
— Но как по-вашему, можно считать, что он берёт свои теории не с потолка?
— Если нет прямых доказательств обратного, то, на мой взгляд, безусловно.
Готтштейн осторожно откинулся на спинку кресла, весьма хрупкого на вид. На Земле оно, безусловно, не выдержало бы его веса.
— Можно вас спросить, как вы познакомились с Ламонтом? Вы уже что-нибудь знали о нём? Или никогда до этого о нём не слышали?
— У нас было несколько встреч, — сказал Денисон. — Он собирался написать историю Электронного Насоса — полную и исчерпывающую. Другими словами, полное изложение дурацких мифов, которыми всё это обросло. Мне польстило, что Ламонт меня разыскал, что я его интересую. Чёрт побери, сэр, мне польстило, что он вообще знает о моём существовании! Но что я мог ему рассказать? Только поставил бы себя в глупое положение. А мне это надоело. Надоело мучиться, надоело жалеть себя.
— Вам известно, чем занимался Ламонт в последнее время?
— Что вы имеете в виду, сэр? — осторожно спросил Денисон.
— Примерно полтора года назад Ламонт побывал у Бэрта. Я уже давно ушёл из комиссии, но мы с сенатором иногда встречаемся. И он рассказал мне об их разговоре. Он был встревожен. Он считал, что Ламонт, возможно, прав и Электронный Насос действительно следует остановить, но не видел никаких путей для принятия практических мер. Меня это тоже встревожило…
— Всеобщая тревога, — саркастически заметил Денисон.
— Но теперь мне пришло в голову… Поскольку Ламонт говорил с вами, то…
— Погодите, сэр! Не продолжайте. Мне кажется, я понимаю, к чему вы клоните, а это, поверьте, будет совершенно лишним. Если вы ждете, что я стану утверждать, будто Ламонт присвоил мою идею и я опять оказался жертвой, то вы ошибаетесь. Говорю вам это со всей категоричностью. У меня не было никакой теории. Всё ограничивалось смутной догадкой. Она меня обеспокоила. Я сообщил о ней. Мне не поверили. И я махнул на всё рукой. Поскольку у меня не было возможности найти доказательства, я больше к этому вопросу не возвращался. В разговоре с Ламонтом я ни о чём подобном не упоминал. Мы говорили только о первых днях зарождения Насоса. Если его теория и напоминает мою догадку, он пришёл к ней самостоятельно. И, судя по всему, его выводы выглядят гораздо убедительнее и опираются на строгий математический анализ. Я вовсе не считаю, будто приоритет принадлежит мне. Ничего подобного!
— По-видимому, теория Ламонта вам знакома.
— В последние месяцы она приобрела некоторую известность. У него нет возможности выступить в печати, никто не относится к его предупреждениям серьёзно, но о них говорят. И слухи дошли даже до меня.
— Ах так, доктор Денисон. Но, видите ли, я к ним отношусь серьёзно. Ведь, как вы понимаете, эти предупреждения я слышу не впервые. Сенатор же ничего не знал о первом — о вашем — предупреждении, поскольку оно не имело никакого отношения к финансовым махинациям, которые он тогда пытался обнаружить. А человек, возглавлявший расследование, — это был не я, — счел вашу идею, простите меня, маниакальной. Но я с ним не был согласен. И когда этот вопрос всплыл снова, я встревожился. Я хотел поговорить с Ламонтом, но ряд физиков, с которыми я сначала проконсультировался…
— Включая Хэллема?
— Нет. Хэллема я не видел. Но те, с которыми я консультировался, заверили меня, что гипотеза Ламонта абсолютно безосновательна. И всё-таки я, наверное, повидался бы с ним, но тут мне предложили эту мою новую должность… и я приехал сюда. Как и вы. Теперь вы понимаете, почему я пригласил вас к себе. Вы считаете, что ваша идея и идея доктора Ламонта верны?
— То есть приведёт ли дальнейшее использование Электронного Насоса к взрыву Солнца, а может быть, и всей ветви нашей Галактики?
— Вот именно.
— Что я могу вам ответить? Моё предположение — не более чем догадка. Что же касается теории Ламонта, то я знаком с ней лишь понаслышке. Она ведь нигде не публиковалась. Но если бы я и мог ознакомиться с полным её изложением, весьма вероятно, что в математическом смысле она окажется для меня недоступной… Да и что толку? Ламонт никого не сможет убедить. Хэллем разделался с ним, как раньше разделался со мной, а если бы ему и удалось, так сказать, действовать через голову Хэллема, широкая публика вряд ли ему поверит, поскольку предлагаемые им меры противоречат её интересам. Отказаться от Электронного Насоса не хочет никто, а легче опорочить теорию Ламонта, чем искать выход из положения.
— Но вы всё ещё принимаете это близко к сердцу?
— Да, конечно. То есть я считаю, что мы идём к гибели, и мне очень не хотелось бы, чтобы так случилось на самом деле.
— А потому вы приехали на Луну, рассчитывая сделать что-то, чего Хэллем, ваш старинный враг, не позволял вам сделать на Земле?
— Вы, по-видимому, тоже склонны к догадкам, — после паузы ответил Денисон.
— Неужели? — невозмутимо сказал Готтштейн. — Может быть, и я по-своему блестящ. Но я угадал правильно?
— Быть может. Я ещё не отказался от надежды вновь заняться наукой. И был бы очень рад, если бы помог избавить человечество от призрака надвигающейся катастрофы, либо установив, что никакой угрозы вообще не существует, либо подтвердив её наличие с тем, чтобы её можно было устранить.
— Ах так. Доктор Денисон, я хотел бы поговорить с вами ещё вот о чём. Мой предшественник, мистер Монтес, убеждал меня, что фронт передовой научной мысли находится теперь на Луне. Он считает, что число людей, выдающихся по уму, энергии и инициативе, тут непропорционально велико.
— Возможно, он прав, — сказал Денисон. — Я об этом судить не берусь.
— Возможно, он прав, — задумчиво повторил Готтштейн. — Но в таком случае не считаете ли вы, что это может помешать вам добиться своей цели? Что бы вы ни сделали, люди будут говорить и думать, будто это достижение лунной науки. И какими бы ценными ни были результаты ваших исследований, ваши заслуги не получат должного признания… Что, конечно, будет несправедливо.
— Мне надоела гонка за признанием, мистер Готтштейн. Я хотел бы найти для себя занятие более интересное, чем обязанности вице-президента косметической фирмы, курирующего ультразвуковые депиляторные средства. Вернувшись в науку, я обрету то, что мне нужно. И если я сделаю что-нибудь, по моему мнению, стоящее, мне будет этого вполне достаточно.
— Но не мне. Ваши заслуги будут оценены по достоинству. Я, как представитель Земли, сумею представить факты землянам таким образом, что вы получите признание, на которое имеете право. Ведь, наверное, и вам свойственно обычное человеческое желание получить то, что вам причитается.
— Вы очень любезны. Ну а взамен?
— Вы циничны, но ваш цинизм извинителен. А взамен мне нужна ваша помощь. Мистер Монтес не сумел установить, какого рода исследованиями заняты учёные на Луне. Научные контакты Земли и Луны явно недостаточны, и координация работ, ведущихся на обеих планетах, была бы равно полезна для них обеих. Конечно, без некоторого недоверия дело не обойдётся, но, если бы вам удалось его рассеять, для нас это было бы не менее ценным, чем любые ваши научные открытия.
— Но, сэр, как вы и сами прекрасно понимаете, я не слишком подхожу для того, чтобы убедить лунян в благожелательности и справедливости научных кругов Земли.
— Доктор Денисон, не следует всё-таки судить о всех землянах по одному злопамятному администратору от науки. Скажем так: мне надо быть в курсе ваших научных успехов, чтобы я мог гарантировать вам заслуженное признание, но, как вам известно, сам я не учёный, и, если бы вы объяснили мне их в свете нынешнего состояния науки на Луне, я был бы вам весьма признателен. Ну как, вы согласны?
— Всё это довольно сложно, — сказал Денисон. — Сообщение о предварительных результатах может нанести непоправимый вред репутации ученого, если оно будет сделано преждевременно — по неосторожности или в результате излишнего энтузиазма. Мне было бы крайне тяжело и неприятно обсуждать ход моих исследований с кем бы то ни было, пока я не буду твёрдо убеждён, что иду по верному пути. Мой прежний опыт — ну хотя бы с комиссией, членом которой вы были, — приучил меня к осторожности.
— Я всё прекрасно понимаю, — благожелательно сказал Готтштейн. — Разумеется, вы сами примете решение, когда именно будет иметь смысл информировать меня… Но уже очень поздно, и вы, вероятно, хотите спать…
Поняв, что их разговор окончен, Денисон попрощался и ушёл, а Готтштейн ещё долго сидел, задумчиво глядя перед собой.
Глава 7
Денисон открыл дверь, нажав на ручку. Она открывалась автоматически, но спросонок он забыл, где находится нужная кнопка.
Темноволосый человек с хмурым лицом сказал:
— Извините… Я, кажется, пришёл слишком рано.
Денисон машинально повторил последнее слово, стараясь собраться с мыслями:
— Рано?.. Нет… Это я проспал.
— Я вам звонил. Мы договорились…
И тут Денисон вспомнил:
— Да-да. Вы ведь доктор Невилл?
— Совершенно верно. Можно я войду?
С этими словами он перешагнул порог. Комната Денисона была совсем крохотной, и постель со смятыми простынями занимала добрую её половину. Негромко жужжал вентилятор.
— Надеюсь, вам спалось неплохо? — с безразличной вежливостью осведомился Невилл.
Денисон взглянул на свою пижаму и провёл ладонью по всклокоченным волосам.
— Нет, — ответил он неожиданно для самого себя. — Я провёл совершенно жуткую ночь. Вы разрешите мне привести себя в порядок?
— Ну конечно. А я, если хотите, пока приготовлю вам завтрак. Вы ведь, я полагаю, ещё плохо знакомы с нашим кухонным оборудованием?
— Буду вам очень благодарен, — ответил Денисон.
Минут через двадцать он вернулся, побрившись и приняв душ. Теперь на нём были брюки и майка. Он сказал:
— Я, кажется, сломал душ: вода вдруг перестала течь, и мне не удалось снова его включить.
— Подача воды ограничена, и, когда квота израсходована, краны автоматически отключаются. Вы на Луне, доктор Денисон. Я взял на себя смелость приготовить омлет и бульон для нас обоих.
— Омлет?
— Мы пользуемся этим обозначением, хотя для землян оно, возможно, означает что-то совсем другое.
— А! — сказал Денисон и, опустившись на стул, без особого воодушевления попробовал упругую желтоватую массу, которую Невилл назвал омлетом. Он напряг всю свою волю, чтобы не поморщиться, а затем мужественно подцепил на вилку новый кусок.
— Со временем вы привыкнете, — заметил Невилл. — А калорийность этого продукта очень высока. И учтите, что пища с большим содержанием белка в условиях малой силы тяжести вообще снижает потребность в еде.
— Тем лучше, — деликатно кашлянув, сказал Денисон.
— Селена мне говорила, что вы намерены остаться на Луне, — продолжал Невилл.
— Да, я так думал… — Денисон протер глаза. — Но эта ночь прошла настолько мучительно, что, боюсь, у меня может не хватить решимости.
— Сколько раз вы падали с кровати?
— Дважды… Так, значит, это в порядке вещей?
— Все приезжие с Земли обязательно проходят через это. Пока вы бодрствуете, вы способны приноравливать свои движения к лунной силе тяжести. А во сне вы ворочаетесь точно так же, как на Земле. Но, во всяком случае, ушибы практически исключены.
— Второй раз я проснулся уже на полу и совершенно не помнил падения. А как вы умудряетесь спать спокойно?
— Не забывайте регулярно проверять сердце, давление и прочие функции организма. Перемена силы тяжести может плохо сказаться на них.
— Да, меня неоднократно об этом предупреждали, — нехотя ответил Денисон. — Через месяц я должен явиться на приём к врачу, а пока меня снабдили всяческими таблетками.
— Впрочем, — сказал Невилл таким тоном, словно ему надоело говорить о пустяках, — через неделю, возможно, вы уже полностью адаптируетесь… Но вам нужно одеться как следует. Ваши брюки просто невозможны, а эта легкая рубашка без рукавов совершенно бесполезна.
— Вероятно, у вас имеются магазины, где я могу купить подходящую одежду?
— Конечно. И думаю, Селена будет рада помочь вам в свободное время. Она говорила мне, что вы производите весьма приятное впечатление, доктор Денисон.
— Очень рад это слышать. — Денисон проглотил ложку бульона, некоторое время переводил дух, а потом с угрюмым упорством зачерпнул вторую.
— Селена почему-то решила, что вы физик, но, разумеется, она ошибается.
— По образованию я радиохимик.
— Но в этой области вы работали недолго, доктор Денисон. Мы здесь, конечно, несколько в стороне, но кое-что известно и нам. Вы ведь одна из жертв Хэллема.
— А почему вы употребляете множественное число? Разве этих жертв так много?
— Как вам сказать. Вся Луна — одна из его жертв.
— Луна?
— В определённом смысле.
— Я что-то не понимаю.
— У нас на Луне нет Электронных Насосов. Потому что с нами паравселенная сотрудничать не стала. Ни один кусок вольфрама не был конвертирован.
— Но, доктор Невилл, всё-таки вряд ли это можно приписать козням Хэллема.
— От обратного — вполне можно. Почему, собственно, инициатива установки каждого Электронного Насоса обязательно должна исходить от паравселенной, а не от нас?
— Насколько мне известно, у нас не хватает для этого необходимых знаний.
— А откуда же они возьмутся, если всякие исследования в этой области запрещены?
— А разве они запрещены? — с некоторым удивлением спросил Денисон.
— Практически да. Если тем, кто ведёт такую работу, никак не удаётся получить доступа к синхрофазотрону и к другим большим установкам, которые все контролирует Земля и, следовательно, Хэллем, это равносильно прямому запрещению.
Денисон протер глаза.
— Боюсь, мне скоро снова придётся лечь спать… Прошу прощения, я вовсе не имел в виду, что вы нагоняете на меня скуку. Но скажите, так ли уж нужен Луне Электронный Насос? Ведь солнечные аккумуляторы с лихвой покрывают все её потребности в энергии.
— Они привязывают нас к Солнцу, доктор Денисон. Они привязывают нас к поверхности!
— A-а… Но как вы думаете, доктор Невилл, чем, собственно, объясняется столь негативная позиция Хэллема?
— На этот вопрос легче ответить вам. Вы ведь знакомы с ним лично, а я нет. Он предпочитает не напоминать лишний раз широкой публике, что Электронный Насос создан паралюдьми, а мы — всего лишь их подручные. Если же мы на Луне сами решим эту проблему, то мы и положим начало истинной эре Электронного Насоса, а он останется ни при чем.
— Зачем вы мне всё это говорите? — спросил Денисон.
— Чтобы сэкономить время. Обычно мы принимаем земных физиков с распростертыми объятиями. Мы на Луне чувствуем себя изолированными, жертвами сознательной политики земных научных центров, и такое посещение значит для нас очень много хотя бы уже потому, что рассеивает это ощущение изолированности. А физик-иммигрант способен помочь нам даже ещё больше, и мы предпочитаем сразу ввести его в курс и пригласить работать с нами. Мне искренне жаль, что вы не физик.
— Я этого никогда и не утверждал, — сказал Денисон с раздражением.
— Но вы изъявили желание осмотреть синхрофазотрон. Почему?
— Ах, так вот что вас беспокоит! Ну, я попробую объяснить. Моя научная карьера была погублена четверть века назад. И вот я решил найти для моей жизни какое-то оправдание, вернуть ей смысл, а сделать это возможно только вдали от Хэллема, то есть здесь, на Луне. По образованию я радиохимик, но это ведь не означало, что я не могу попробовать свои силы в другой области. Парафизика — наиболее современный раздел физики, да и всей науки вообще, и я попытался заняться ею самостоятельно, чувствуя, что это даст мне наибольшие шансы вновь обрести себя в науке.
Невилл кивнул.
— Вот как! — произнес он с явным сомнением.
— Да, кстати, раз уж вы заговорили об Электронном Насосе… Вы что-нибудь слышали о теории Питера Ламонта?
Невилл прищурился.
— Нет. Я не припоминаю этой фамилии.
— Да, он пока ещё не знаменит. И возможно, так и останется в полной безвестности — по той же причине, что и я. Он встал Хэллему поперек пути… Вчера кое-что напомнило мне о нём, и я начал думать… Отличное занятие для бессонной ночи! — Он снова зевнул.
— Ну и что же? — нетерпеливо спросил Невилл. — Почему вы заговорили об этом… как его зовут?
— Питер Ламонт. Он занимался паратеорией и выдвинул небезынтересную гипотезу. По его мнению, дальнейшая работа Электронного Насоса приведёт к усилению сильного ядерного взаимодействия в пределах Солнечной системы, в результате чего Солнце постепенно будет разогреваться всё больше и в какой-то критический момент произойдёт фазовое превращение, которое завершится взрывом.
— Чепуха! Вы знаете, какие изменения в космических масштабах способно произвести максимальное использование Насоса в человеческих масштабах? Пусть вы всего лишь физик-самоучка, но и вам должно быть сразу ясно, что Насос не успеет оказать заметного влияния на вселенную за всё время естественного существования Солнечной системы!
— Вы уверены?
— Конечно! А вы?
— Не знаю. Ламонт, бесспорно, действует из личных побуждений. Мне довелось разговаривать с ним, и он произвел на меня впечатление очень увлекающегося и эмоционального человека. Если вспомнить, как разделался с ним Хэллем, будет только естественно предположить, что им руководит исступленная ненависть.
Невилл нахмурился.
— А вы уверены, что он действительно в немилости у Хэллема?
— Я в этом вопросе эксперт.
— А вам не приходило в голову, что подобные сомнения в безопасности Насоса могли быть посеяны опять-таки с единственной целью — помешать Луне обзавестись собственным Насосом?
— Посеяв при этом всеобщую панику и отчаяние? Ну, разумеется, это чепуха. С тем же успехом можно щелкать орехи при помощи ядерных взрывов. Нет, я убеждён в искренности Ламонта. По правде говоря, когда-то и мне при всём моём невежестве пришло в голову нечто подобное.
— Потому что и вами тоже руководит ненависть к Хэллему.
— Я ведь не Ламонт. И следовательно, воспринимаю всё по-другому. Собственно, у меня была некоторая надежда разобраться в этом вопросе на Луне без помех со стороны Хэллема и без ламонтовских эмоций.
— Здесь, на Луне?
— Да, здесь, на Луне. Я надеялся, что смогу воспользоваться синхрофазотроном.
— Поэтому вы о нём и спрашивали?
Денисон кивнул.
— Вы и правда думали, что сможете воспользоваться синхрофазотроном? Вы знаете, какая на него очередь?
— Я надеялся, что заручусь помощью кого-нибудь из лунных учёных.
Невилл засмеялся и покачал головой.
— У нас возможностей не многим больше, чем у вас… Но вот что мы могли бы вам предложить. У нас есть собственные лаборатории. Мы можем предоставить вам рабочее место и даже кое-какие приборы. Не берусь судить, насколько всё это будет вам полезно, но не исключено, что вы чего-нибудь и добьётесь.
— Как по-вашему, позволят ли мне эти приборы вести исследования в области паратеории?
— Отчасти, я полагаю, это будет зависеть от вашей изобретательности. Вы рассчитываете найти подтверждение теории этого вашего Ламонта?
— Или опровержение. Если что-нибудь получится.
— Ну, в любом случае её можно только опровергнуть, в этом я не сомневаюсь.
— Но ведь вы знаете, что я по образованию не физик? — спросил Денисон. — Так почему же вы с такой готовностью предлагаете мне место в лаборатории?
— Потому что вы с Земли. Я ведь сказал вам, что мы это ценим, а тот факт, что в физике вы самоучка, может сыграть и положительную роль. Селена высказалась в вашу пользу, а я придаю этому, возможно, больше значения, чем следовало бы. Нас сближает и то, что мы — жертвы Хэллема. Если вы хотите восстановить вашу репутацию, мы вам поможем.
— Простите мой цинизм. А что вы рассчитываете получить взамен?
— Вашу помощь. В сношениях между учёными Земли и Луны существует некоторая натянутость. Вы добровольно приехали с Земли на Луну и могли бы послужить сближению обеих планет к их взаимной пользе. Вы уже наладили контакт с новым представителем Земли, и, возможно, восстанавливая свою репутацию, вы заодно укрепите и нашу.
— Другими словами, если я подорву влияние Хэллема, это будет полезно и лунной науке?
— Всё, чего бы вы ни добились, будет полезно… Но пожалуй, вам действительно надо ещё поспать. Зайдите ко мне в ближайшие день-два, и я выясню вопрос с лабораторией. А кроме того… — он обвел взглядом тесную комнатку, — мы постараемся подыскать вам и более удобное жилье.
Они пожали друг другу руки, и Невилл ушёл.
Глава 8
Готтштейн продолжал:
— И всё-таки, с какими бы неприятностями ни было сопряжено ваше пребывание на Луне, я думаю, сегодня, расставаясь с ней, вы не можете не испытывать сожаления.
— И даже очень большое, — выразительно пожал плечами Монтес. — Как только подумаю о земной силе тяжести. Одышка, боль в ногах, испарина. Я буду всё время мокрым от пота.
— Рано или поздно и мне придётся пройти через это.
— Послушайте моего совета — обязательно летайте на Землю не реже чем раз в два месяца. Что бы ни говорили вам доктора, какие бы изометрические упражнения вы ни проделывали, непременно каждые шестьдесят дней возвращайтесь на Землю минимум на неделю. Старайтесь, чтобы ваше тело сохраняло её ощущение.
— Попробую, насколько это будет от меня зависеть… Ах да! Я побеседовал с моим другом.
— С каким это?
— С моим спутником по кораблю. Мне казалось, что я его уже видел раньше. И я не ошибся. Некий Денисон, радиохимик. Как оказалось, я очень хорошо помню всё, что с ним связано.
— То есть?
— Мне запомнилась одна его навязчивая идея, и я попытался вызвать его на откровенность. Он противился с большой ловкостью. И рассуждал очень логично. Настолько логично, что мои подозрения ещё более укрепились. Некоторым типам маньяков свойственна весьма изящная логичность. Это своего рода защитный механизм.
— Боже мой, — с видимой досадой сказал Монтес. — Я что-то запутался. С вашего разрешения я на минутку присяду. Когда то и дело лихорадочно прикидываешь, всё ли упаковано как следует, и предвкушаешь первую встречу с земным тяготением, поневоле хочется отдышаться… Так в чём же заключается его навязчивая идея?
— В своё время он пытался убедить нас, что Электронный Насос опасен. Что его употребление приведёт к взрыву вселенной.
— Неужели? А это правда?
— Надеюсь, что нет. В тот момент от него отмахнулись, и довольно грубо. Когда учёные работают на пределе понимания, они начинают нервничать. Один мой знакомый психиатр называл это синдромом «Кто знает?». Если, несмотря на все ваши усилия, вам не удаётся получить нужных данных, вы говорите: «Кто знает, что произойдёт?» — а дальше начинает работать воображение.
— Да, но если физики говорят нечто подобное, пусть даже не все…
— В том-то и дело, что они ничего подобного не говорят. Во всяком случае, официально. Существует такое понятие, как ответственность ученого, и журналы не публикуют заведомого вздора… Вернее, того, что они считают вздором. Видите ли, эта идея снова всплыла. Физик по фамилии Ламонт обратился к сенатору Бэрту, к Чену, этому самозваному спасителю среды обитания, и ещё к некоторым влиятельным людям, стараясь убедить их в реальности угрозы космического взрыва. Ему никто не верит, но слухи ползут и ползут, ничего не теряя от пересказа.
— И этот человек — тот, который приехал с вами на Луну, — тоже так думает?
Готтштейн широко улыбнулся.
— Боюсь, что да. Чёрт побери, ночью, когда мне не спится… между прочим, я то и дело падаю с кровати… я и сам готов поверить. Возможно, он надеется, что сумеет здесь подтвердить свою теорию экспериментально.
— Ну и?..
— Пусть подтверждает. Я даже намекнул, что мы ему поможем.
— Рискованно! — покачал головой Монтес. — Мне не нравится официальное поощрение навязчивых идей.
— Но ведь нельзя совершенно исключить возможность, что даже навязчивая идея всё-таки окажется верной. Впрочем, дело не в этом. Если нам удастся устроить его здесь, на Луне, благодаря ему мы сумеем узнать, что, собственно, тут происходит. Он хотел бы восстановить свою репутацию, и я дал ему понять, что он может рассчитывать на наше содействие, если поведёт себя соответствующим образом… Я буду держать вас в курсе… По-дружески, так сказать.
— Спасибо, — сказал Монтес. — Ну, счастливо оставаться.
Глава 9
— Да, он мне не понравился, — сердито повторил Невилл.
— Но почему? Из-за того, что он земляшка? — Селена сняла пушинку с груди и критически её оглядела. — Она не от моей блузы. Нет, всё-таки очистка воздуха поставлена из рук вон плохо.
— Этот Денисон — пустышка. Он не парафизик. По его собственным словам, он самоучка, и это блистательно подтверждается тем, что он явился сюда с на редкость дурацкими предвзятыми идеями.
— Например?
— Ну, он считает, что Электронный Насос взорвёт вселенную.
— Он это сказал?
— Я знаю, что он это думает… Ах, мне известны все эти аргументы, я их слышал десятки раз. Но это не так, вот и всё.
— А может быть, — заметила Селена, подняв брови, — ты просто не хочешь, чтобы это было так.
— Хоть ты-то не начинай! — буркнул Невилл.
Наступила короткая пауза. Потом Селена сказала:
— Ну и что же ты думаешь с ним делать?
— Предоставлю ему место для работы. Как учёный он ничто, но всё-таки от него может быть польза. Он достаточно бросается в глаза — новый представитель Земли с ним уже побеседовал.
— Я знаю.
— Ну, его история достаточно романтична: человек с погубленной карьерой пытается обрести себя и восстановить свою репутацию.
— Правда?
— О, абсолютно! Я убеждён, что тебе будет любопытно. Ты его спроси, и он тебе расскажет. А это очень хорошо. Если на Луне начнет работать романтичный землянин, стараясь найти подтверждение своим маниакальным идеям, представителю Земли будет чем заняться. Денисон послужит нам ширмой, ложным следом. И кто знает, возможно, благодаря ему мы сумеем получить более точные сведения о том, что происходит на Земле… Продолжай поддерживать с ним дружбу, Селена.
Глава 10
Селена засмеялась. В наушниках Денисона её смех звучал металлически. В скафандре она выглядела неприлично толстой и неуклюжей. Она сказала:
— Ну, не робейте, Бен! Бояться совершенно нечего. Да ещё такому старожилу! Ведь вы здесь уже месяц.
— Двадцать восемь дней, — пробурчал Денисон. У него было ощущение, что скафандр его душит.
— Нет, месяц! — стояла на своем Селена. — Когда вы приехали, Земля была совсем на ущербе. Как и сейчас. — Она указала на узкий серп Земли, ослепительно сверкавший в южной части небосвода.
— Погодите немножко. Тут я ведь не такой храбрый, как внизу. Что, если я упаду?
— И пусть. Сила тяжести по вашим меркам мала, уклон невелик, а скафандр у вас крепкий. Если вы упадете, то спокойно скользите и катитесь. Так даже интересней.
Денисон неуверенно огляделся. В холодном сиянии Земли чёрно-белый лунный пейзаж был удивительно красивым и совсем не таким, как при солнечном свете, — за неделю до этого Денисон ездил осматривать солнечные аккумуляторы, которые простирались в Море Дождей от горизонта до горизонта. Теперь белизна была серебристой и нежной, и даже чернота словно смягчалась и обретала полутона из-за отсутствия резких контрастов лунного дня. Звёзды сияли непривычно ярко, а Земля… Земля с её белыми спиралями на голубом фоне, кое-где переходящем в коричневый, была прекрасной и манящей.
— Можно я ухвачусь за вас? — спросил он.
— Конечно. На самый верх я вас не поведу. Вы испробуете свои силы на скате для начинающих. Постарайтесь идти со мной в ногу. Я не буду торопиться.
Он, как мог, приспосабливался к её широкому пружинистому шагу. Склон, по которому они поднимались, был покрыт пылью. Денисон следил, как она взметывается из-под его подошв и тут же оседает в безвоздушной пустоте. Ему лишь с большим трудом удавалось идти в ногу с Селеной.
— Прекрасно, — сказала она, крепко держа его под руку. — Для земляшки просто отлично… то есть для гранта, хотела я сказать.
— Спасибо.
— И получилось скверно. «Грант» вместо «иммигрант» ничем не лучше «земляшки» вместо «землянина». В таком случае скажем — для человека вашего возраста вы идёте отлично.
— Ну нет! Это ещё хуже! — Денисон еле переводил дух, чувствуя, что его лоб становится всё более влажным.
— Перед тем как опустить стопу, старайтесь немного оттолкнуться другой ногой, — сказала Селена. — Это удлиняет шаг и снимает нагрузку. Нет, нет, не так… Вот посмотрите!
Денисон с облегчением остановился. Селена, которая в движении, несмотря на скафандр, снова показалась ему тонкой и изящной, ушла вперёд, по-особому подскакивая. Прыжки были стелющимися и длинными. Потом она вернулась и опустилась на колени рядом с ним.
— Шагните, Бен, только не торопясь, а я стукну вас по ноге, когда надо будет оттолкнуться.
После нескольких неудачных попыток Денисон сказал:
— Нет, это куда трудней, чем бегать на Земле! Можно я отдохну?
— Отдыхайте. Просто вы ещё не умеете координировать работу мышц. И боретесь сам с собой, а вовсе не с непривычной силой тяжести… Ну хорошо. Садитесь и переведите дух. Но вообще, идти нам недалеко.
— А если я лягу на спину, я не раздавлю баллоны? — спросил Денисон.
— Конечно, нет. Но ложиться тем не менее не стоит. Особенно прямо на голый камень. Температура поверхности всего сто двадцать по Кельвину, или, если вам так больше нравится, сто пятьдесят градусов ниже нуля, а потому чем меньше площадь соприкосновения с почвой, тем лучше. На вашем месте я бы села.
— Ну хорошо. — Денисон, покряхтывая, осторожно сел лицом к северу, так, чтобы не видеть Землю. — Взгляните-ка на звёзды!
Селена села напротив него. Она чуть повернула голову, и в свете Земли он смутно различил за стеклом скафандра её лицо.
— Но ведь звёзды видны и с Земли, — сказала она удивленно.
— Не так, как здесь. Даже в безоблачную погоду воздух поглощает часть их света. От различий температуры в разных слоях атмосферы они мерцают, а в электрическом зареве над городом и вовсе теряются.
— М-да!
— А вам тут нравится, Селена? На поверхности?
— Нельзя сказать, чтоб очень, но иногда бывает даже приятно. Ну, конечно, я, как гид, постоянно сопровождаю сюда туристов.
— А на этот раз меня?
— Когда наконец вы поймете, Бен, что это совсем не одно и тоже? Для туристов существует один-единственный маршрут, очень легкий и неинтересный. Не думаете ли вы, что мы приводим туристов на скат? Этот спорт для лунян и грантов. И в основном для грантов.
— По-видимому, он всё же не слишком популярен. Тут нет никого, кроме нас.
— Это ничего не значит. Посмотрели бы вы, что здесь делается в дни состязаний! Но вам тогда поверхность понравилась бы, наверное, куда меньше.
— Не скажу, чтобы она так уж нравилась мне сейчас. Значит, скольжение — это в основном иммигрантский вид спорта?
— Пожалуй. Луняне, как правило, не слишком любят поверхность.
— А доктор Невилл?
— Вас интересует, как он относится к поверхности?
— Да.
— Честно говоря, не думаю, чтобы он хоть раз поднимался сюда. Завзятый горожанин. А почему это вас заинтересовало?
— Когда я сказал, что хочу осмотреть солнечные аккумуляторы, он как будто не имел ничего против, но сам отправиться со мной не пожелал. Я прямо его об этом попросил, чтобы было кому задавать вопросы, а он отказался, причем в довольно резкой форме.
— Надеюсь, вы нашли кому задавать вопросы?
— О да. И кстати, он тоже был иммигрантом… Возможно, отношение доктора Невилла к Электронному Насосу объясняется как раз этим.
— О чём вы говорите?
— Ну… — Денисон откинулся и поочередно взбросил ноги, с ленивым удовольствием следя за тем, как они медленно поднимаются и опускаются. — А ведь приятно! Послушайте, Селена… Я имел в виду вот что: Невилл почему-то жаждет установить на Луне Электронный Насос, хотя вам вполне достаточно солнечных аккумуляторов. На Земле мы ими воспользоваться не можем, потому что там для солнечного света слишком много помех и Солнце не может служить таким же постоянным и надёжным источником энергии во всех диапазонах волн, как здесь. В Солнечной системе вообще нет небесного тела, более подходящего для использования солнечных аккумуляторов, чем Луна. Даже Меркурий уступает ей, потому что там слишком жарко. Но солнечные аккумуляторы привязывают вас к поверхности, а раз вы её не любите…
Селена вдруг вскочила.
— Вставайте, Бен! Довольно сидеть! Вы уже достаточно отдохнули. Вставайте!
Не без труда поднявшись на ноги, Денисон упрямо продолжал:
— А Электронный Насос означал бы, что никому из лунян уже не придётся выходить на поверхность, если они сами этого не захотят.
— Тут подъём будет круче, Бен. Мы пойдём вон к тому гребню. Видите, вон там, где земной свет срезается почти точно по горизонтали?
Дальше они шли молча. Денисон заметил, что склон с боку от них выровнен и уходит вниз широкой полосой, очищенной от пыли.
— Нет, начинающим по скату подниматься не стоит. Он слишком гладок, — сказала Селена, словно в ответ на его мысли. — Держите своё честолюбие в узде, а не то вы потребуете, чтобы я сейчас же обучила вас кенгуровой припрыжке.
Ещё не договорив, она сделала кенгуровый прыжок, на лету повернулась к Денисону и объявила:
— Вот мы и пришли. Садитесь, я надену…
Денисон сел лицом к спуску и посмотрел на скат с некоторой опаской.
— Неужели по нему и правда можно скользить?
— Ну конечно. Из-за малой силы тяжести вы на Луне ступаете менее плотно, чем на Земле, а это снижает трение. На Луне гораздо легче поскользнуться, чем на Земле. Вот почему полы у нас в коридорах и комнатах всегда шероховатые — это вовсе не небрежность, как иногда думают земляне. Хотите послушать мою лекцию на эту тему? Ту, которую я читаю туристам?
— Лучше не надо, Селена.
— А к тому же мы наденем коньки.
У неё в руке он увидел небольшой баллон с зажимами и двумя узкими трубками.
— Что это такое? — спросил Денисон.
— Баллончик со сжиженным газом. Он будет выбрасывать струйки газа прямо вам под подошвы, и эта тонкая газовая подушка практически уничтожит трение. Вы будете двигаться словно в невесомости.
— Мне это не нравится, — строго сказал Денисон. — Использовать на луне газ для подобных целей — непростительное расточительство!
— Ну послушайте! Неужели, по-вашему, мы стали бы использовать для коньков углекислый газ? Или кислород? Начнем с того, что это природный газ. Это аргон. Он вырывается из лунных пород тоннами, накопившись там за миллиарды лет распада калия сорок… Опять-таки цитата из моей лекции, Бен. Практического применения на Луне аргон почти не находит, и мы можем кататься на коньках хоть миллион лет, не истощив его запасов… Ну вот, ваши коньки и надеты. Погодите, сейчас я надену свои.
— А как они действуют?
— Автоматически. Едва вы начнете скользить на них, откроется клапан и начнется подача газа. Запаса хватит всего на несколько минут, но больше вам и не понадобится.
Она встала и помогла встать ему.
— Повернитесь лицом прямо к склону… Смелее, Бен! Уклон ведь совсем небольшой. Вот поглядите, он кажется ровным, как стол.
— Нет, не кажется, — мрачно ответил Денисон. — На мой взгляд, он даст сто очков вперёд любому обрыву.
— Чепуха. А теперь слушайте и запоминайте. Разведите ноги примерно на шесть дюймов и одну чуть-чуть выставьте вперёд — неважно, левую или правую. Колени подогните. Не наклоняйтесь навстречу ветру, потому что ветра тут нет. Ни в коем случае не оглядывайтесь и не смотрите вверх, но по сторонам при необходимости смотреть можно. А главное, достигнув ровной площадки, не торопитесь остановиться — вы разовьете заметно большую скорость, чем вам будет казаться. Просто дождитесь, чтобы газ весь вышел, а тогда благодаря трению вы постепенно остановитесь.
— Я всё перезабуду.
— Отлично будете помнить. Да и я в любую минуту приду вам на помощь. Если же я не успею вас поддержать и вы упадете, не пытайтесь встать или остановиться. Спокойно кувыркайтесь или скользите на спине. Тут нет ни одного опасного выступа.
Денисон сглотнул и посмотрел вперёд. Скат, уходящий к югу, был залит земным светом. Крохотные неровности, окруженные пятнышками тени, сверкали особенно ярко, и от этого поверхность ската казалась рябой. Почти прямо перед ним в чёрном небе висел рельефный серп Земли.
— Готовы? — спросила Селена, упершись рукой в его спину.
— Готов, — со вздохом сказал Денисон.
— Ну, в путь! — Она толкнула его вперёд, и Денисон почувствовал, что начинает двигаться. Сначала движение было медленным. Он поглядел через плечо на Селену и пошатнулся.
— Не беспокойтесь, — сказала она. — Я рядом.
Внезапно он перестал ощущать под ногами каменный скат — баллон начал подавать газ.
На мгновение Денисону показалось, будто он стоит неподвижно. Его грудь не встречала сопротивления воздуха, подошвы ни за что не задевали. Но когда он снова оглянулся на Селену, то обнаружил, что искры света и пятнышки тени убегают назад со всевозрастающей скоростью.
— Глядите на Землю, — раздался у него над ухом голос Селены. — До тех пор, пока не наберёте скорость. Чем быстрей вы будете двигаться, тем устойчивее будете держаться на ногах… Не забывайте подгибать колени! Вы отлично скользите, Бен.
— Для гранта! — пропыхтел Денисон.
— И какое же у вас впечатление?
— Я точно лечу, — ответил он. Пятнышки света и тени по обеим сторонам уносились назад, сливаясь в смутные полоски. Он покосился влево, потом вправо, надеясь избавиться от ощущения, будто поверхность летит назад, и почувствовать наконец, что это он, он сам устремляется вперёд. Но едва это ему удалось, как он тут же вновь уставился на серп Земли, стараясь сохранить равновесие. — Боюсь, это сравнение мало что вам скажет, — добавил он. — Ведь на Луне полёт — понятие абстрактное.
— Ну, для меня оно уже стало конкретным. По вашим словам, полёт похож на скольжение, а это ощущение мне очень хорошо знакомо.
Селена без всякого труда держалась наравне с ним.
Денисон скользил уже так стремительно, что чувствовал своё движение, даже когда смотрел прямо перед собой. Лунный пейзаж впереди распахивался и обтекал его со всех сторон.
— Какую скорость можно развить при скольжении? — спросил он.
— На настоящих гонках были зарегистрированы скорости свыше ста миль в час — конечно, на более крутых склонах. Ваш предел будет около тридцати пяти миль.
— Мне кажется, я уже двигаюсь много быстрее.
— На самом деле это не так. Ну, Бен, мы уже почти спустились на равнину, а вы так и не упали. Продержитесь ещё немного. Газ сейчас кончится, и вы ощутите трение. Но не вздумайте тормозить сами. Спокойно скользите дальше.
Селена ещё не договорила, как Денисон почувствовал под башмаками твёрдую поверхность. Одновременно возникло ощущение огромной скорости, и он сжал кулаки, стараясь удержаться и не вскинуть руки, словно отвращая столкновение, которого не могло быть. Он знал, что стоит ему приподнять руки, и он опрокинется на спину.
Он прищурился и задержал дыхание. Когда ему уже начало казаться, что его легкие вот-вот лопнут, Селена сказала:
— Безупречно, Бен. Безупречно. Я ещё ни разу не видела, чтобы грант не упал во время своего первого скольжения. А потому, если вы всё-таки упадете, не расстраивайтесь. Ничего позорного в этом нет.
— Нет уж, я не упаду, — прошептал Денисон, хрипло вздохнул и широко открыл глаза. Земля по-прежнему была всё такой же безмятежной и равнодушной, но он двигался медленнее, гораздо, гораздо медленнее…
— Селена, я остановился или нет? — спросил он. — Я никак не могу понять.
— Вы стоите. Нет, не двигайтесь. Прежде чем мы вернёмся в город, вам следует отдохнуть… Чёрт побери, ведь я его где-то здесь оставила!
Денисон смотрел на неё, не веря своим глазам. Она поднималась по склону вместе с ним, она скользила вниз вместе с ним — но он еле держался на ногах от усталости, а она носилась вокруг кенгуровыми прыжками. Шагах в ста от него она нагнулась и воскликнула:
— А! Вот он!
Ее голос звучал в его ушах так же громко, как и прежде, когда она была рядом.
Через секунду Селена вернулась, держа под мышкой пухлый пластмассовый сверток.
— Помните, когда мы поднимались, вы спросили меня, что это такое, а я ответила, что вы сами увидите на обратном пути?
Она аккуратно развернула широкий мешок.
— Называется это лунным ложем, — сказала Селена. — Но мы говорим просто «ложе». Прилагательное «лунный» у нас здесь разумеется само собой.
Она привинтила баллончик к ниппелю и повернула кран.
Мешок начал наполняться. Денисон прекрасно знал, что звуков в безвоздушном пространстве не бывает, и всё-таки ждал, что вот-вот услышит шипение.
— Не торопитесь упрекать нас за расточительство! — сказала Селена. — Это тоже аргон.
Мешок тем временем превратился в тахту на шести толстых ножках.
— Ложе вас вполне выдержит, — сообщила Селена. — Оболочка практически нигде не соприкасается с поверхностью, а вакуум помогает сохранять теплоту.
— Неужели оно ещё и горячее? — с изумлением спросил Денисон.
— При выходе из баллончика аргон нагревается, но очень относительно. Максимальная его температура равна примерно двумстам семидесяти градусам Кельвина — почти достаточно для того, чтобы растопить лёд, и более чем достаточно для того, чтобы ваш скафандр терял теплоту не быстрее, чем вы её вырабатываете. Ну, ложитесь.
И Денисон лег, испытывая невыразимое блаженство.
— Чудесно, — сказал он с удовлетворенным вздохом.
— Нянюшка Селена обо всём позаботилась.
Она появилась из-за его спины, скользнула в сторону, приставив ступню к ступне, словно на коньках, оттолкнулась и изящно опустилась возле ложа на локоть и бедро.
Денисон даже присвистнул.
— Как это у вас получается?
— Тренировка. Только не вздумайте мне подражать. В лучшем случае разобьете локоть. Но учтите, если я начну замерзать, вам придётся потесниться.
— Ну, поскольку мы оба в скафандрах…
— Весьма любезно! Как вы себя чувствуете?
— Неплохо. Уж это ваше скольжение!
— А что? Не понравилось? Вы ведь поставили настоящий рекорд по отсутствию падений. Вы не рассердитесь, если я расскажу про это в городе моим знакомым?
— Пожалуйста. Ужасно люблю, когда меня хвалят… Но неужели вы собираетесь ещё раз тащить меня на скат?
— Сейчас? Конечно, нет. Я и сама не стану спускаться два раза подряд. Мы просто подождем здесь, чтобы ваше сердце пришло в норму, а потом вернёмся в город. Протяните ноги в мою сторону, и я сниму с вас коньки. Следующий раз я вас научу, как они снимаются и надеваются.
— Скорее всего следующего раза не будет.
— Будет, не сомневайтесь. Разве вы не испытывали удовольствия?
— Иногда. В промежутках между припадками ужаса.
— Ну, так в следующий раз припадков ужаса будет меньше, а потом ещё меньше, и в конце концов останется одно удовольствие. Я ещё сделаю из вас чемпиона.
— Ну уж нет. Для этого я слишком стар.
— Не на Луне. У вас только вид такой.
Денисона окутывал неизъяснимый лунный покой. Он лежал лицом к Земле. Именно её присутствие в небе помогло ему сохранить равновесие во время спуска, и он испытывал к ней тихую благодарность.
— Вы часто выходите на поверхность, Селена? — спросил он. — То есть я хочу сказать — одна или в небольшой компании. Не во время состязаний.
— Можно сказать — никогда. Если кругом нет людей, всё это действует на меня угнетающе. Я даже сама немножко удивлена, как это я решилась отправиться сюда сегодня.
Денисон неопределённо хмыкнул.
— А вас это не удивляет?
— А почему это должно меня удивлять? Я считаю, что всякий человек поступает так, как поступает, либо потому, что хочет, либо потому, что должен, и в каждом случае это касается его, а не меня.
— Спасибо, Бен. Нет, я не иронизирую. В вас очень подкупает то, что вы, в отличие от других грантов, не требуете, чтобы мы укладывались в ваши представления и понятия.
Мы, луняне, обитаем под поверхностью — мы пещерные люди, коридорные люди. Ну и что тут плохого?
— Ничего.
— Но послушали бы вы земляшек! А я гид и должна их слушать. Все их мнения и соображения я слышала тысячи раз, и чаще всего на меня обрушивается вот что. — Селена заговорила с пришептыванием, типичным для землян, объясняющихся на общепланетном эсперанто. — «Но, милочка, как вы можете жить всё время в пещерах? Неужели вас не угнетает ощущение вечной тесноты? Неужели вам не хочется увидеть синее небо, деревья, океан, почувствовать прикосновение ветра, вдохнуть запах цветов?..» Бен, я могла бы продолжать так часами! А потом они спохватываются: «Впрочем, вы ведь, наверное, даже не знаете, что такое синее небо, и море, и деревья, так что и не тоскуете без них»… Как будто мы не смотрим земных телепрограмм! Как будто у нас нет доступа к земной литературе, как зрительной, так и звуковой, а иногда и олифакторной.
Денисону стало весело.
— И какой же полагается давать ответ в подобных случаях?
— Да никакой. Говоришь просто: «Мы к этому привыкли, мадам». Или «сэр», но почти всегда такие вопросы задают женщины. Мужчины, как ни странно, больше интересуются лунными модами. А знаете, что бы я с радостью ответила этим дурам?
— Скажите, скажите. Облегчите душу.
— Я бы им сказала: «Послушайте, мадам, а на черта нам сдалась ваша хваленая планета? Мы не хотим вечно болтаться на поверхности и ждать, что свалимся оттуда или нас сдует ветром. Мы не хотим, чтобы нам в лицо бил неочищенный воздух, чтобы на нас лилась грязная вода. Не нужны нам ваши микробы, и ваша вонючая трава, и ваше дурацкое синее небо, и ваши дурацкие белые облака. Когда мы хотим, то можем любоваться Землей на нашем собственном небе. Но подобное желание возникает у нас не часто. Наш дом — Луна, и она такая, какой её сделали мы. Какой мы хотели её сделать. Она принадлежит нам, и мы создаем свою собственную экологию. И нечего жалеть нас за то, что мы идём своим путем. Отправляйтесь к себе на Землю, и пусть ваша сила тяжести оттянет вам живот до колен!» Вот что я сказала бы.
— Ну и прекрасно! Теперь всякий раз, когда вам нестерпимо захочется высказать очередной туристке десяток горьких истин, приберегите их для меня, и вам станет легче.
— Знаете что? Время от времени какой-нибудь грант предлагает разбить на Луне земной парк — уголок с земными растениями, выращенными из семян или даже из саженцев, а может быть, и с кое-какими животными. Кусочек родного дома — вот как это обычно формулируется.
— Насколько я понимаю, вы против?
— Конечно, против! Кусочек чьего родного дома? Наш родной дом — Луна. Гранту, который мечтает о «кусочке родного дома», следует просто поскорее уехать к себе домой. Гранты иной раз бывают хуже земляшек.
— Учту на будущее, — сказал Денисон.
— К вам это не относится… пока.
Наступило молчание, и Денисон решил, что Селена сейчас предложит вернуться в город. Конечно, по некоторым соображениям откладывать это надолго не стоит. Но, с другой стороны, он давно не испытывал такого физического блаженства. А на сколько, собственно, рассчитан запас кислорода в его баллоне? От этих размышлений его отвлек голос Селены:
— Бен, можно задать вам один вопрос?
— Пожалуйста. Если вас интересует моя личность, то у меня секретов нет. Рост — пять футов девять дюймов. Вес на Луне — двадцать восемь фунтов. Когда-то был женат. Давно развелся. Один ребенок — дочь, ныне взрослая и замужняя. Учился в университете…
— Нет, Бен, я говорю серьёзно. Можно задать вам вопрос про вашу работу?
— Конечно, можно, Селена. Правда, я не знаю, сумею ли я объяснить вам…
— Ну… Вы же знаете, что Бэррон и я…
— Да, знаю, — почти оборвал её Денисон.
— Мы разговариваем. Он мне кое-что рассказывает. Он упомянул, например, что, по вашему мнению, Электронный Насос может взорвать вселенную.
— Ту её часть, в которой находимся мы. Не исключено, что он может превратить нашу ветвь галактики в квазар.
— Нет, вы правда в это верите?
— Когда я приехал на Луну, — сказал Денисон, — я ещё сомневался. Но теперь я верю. Я убеждён, что это произойдёт, и произойдёт неизбежно.
— И когда, как по-вашему?
— Вот этого я точно сказать не берусь. Может быть, через несколько лет. Может быть, через несколько десятилетий.
Снова наступило молчание. Потом Селена пробормотала:
— Бэррон так не думает.
— Я знаю. И не пытаюсь его переубеждать. Нежелание верить нельзя сломить фронтальной атакой. В этом и была ошибка Ламонта.
— Кто такой Ламонт?
— Извините, Селена, я задумался.
— Нет, Бен! Объясните мне. Пожалуйста! Я хочу знать.
Денисон повернулся на бок лицом к ней.
— Ладно, — сказал он. — Я вам расскажу. Ламонт — физик и живёт на Земле. Он попытался предупредить мир об опасности, таящейся в Электронном Насосе, но потерпел неудачу. Людям нужен Насос. Нужна дешевая энергия. Настолько нужна, что они не желают верить в её опасность, в необходимость отказаться от неё.
— Но как они могут продолжать ею пользоваться, если она грозит всеобщей гибелью?
— Для этого достаточно не поверить, что она грозит гибелью. Самый легкий способ решения проблемы — попросту отрицать её наличие. Как и делает ваш друг доктор Невилл. Его пугает поверхность, а потому он внушает себе, будто солнечные аккумуляторы не отвечают своему назначению, хотя любому непредвзятому человеку ясно, что для Луны это идеальный источник энергии. Установка Насоса позволит ему никогда больше не покидать коридоров, а потому он не желает верить, что Насос опасен.
— Не думаю, чтобы Бэррон отказался поверить, если ему будут представлены реальные доказательства. А такие доказательства у вас правда есть?
— По-моему, да. Это просто поразительно, Селена. Всё опирается на некоторые тончайшие факторы во взаимодействии кварк — кварк. Вы понимаете, о чём я говорю?
— Да, понимаю. Я столько разговаривала с Бэрроном о самых разных проблемах, что у меня есть некоторое представление обо всём этом.
— Ну, сначала я полагал, что мне для этого понадобится лунный синхрофазотрон. Его поперечник равен двадцати пяти милям, он оснащен магнитами из сверхпроводников и может развивать энергии свыше двадцати тысяч гигаэлектрон-вольт. Но оказалось, что у вас тут есть установка, которую вы назвали пионотроном. Она умещается в небольшой комнате и выполняет все функции синхрофазотрона. Луну можно поздравить с поистине замечательным шагом вперёд.
— Благодарю вас, — польщёно сказала Селена. — То есть от имени Луны.
— Ну так вот: проведя исследования с помощью пионотрона, я убедился, что напряженность сильного ядерного взаимодействия возрастает, и возрастает именно с такой скоростью, о которой говорит Ламонт, а не с той, которую указывает общепринятая теория.
— И вы сообщили об этом Бэррону?
— Нет. Я думаю, он всё равно не поверит. Он скажет, что полученные мной результаты неубедительны. Он скажет, что я допустил ошибку. Он скажет, что я не учёл всех факторов. Он скажет, что моя методика неверна… Но всё это будет означать одно — ему нужен Электронный Насос и он не желает от него отказаться.
— И по-вашему, выхода нет?
— Есть, конечно. Меры принять можно, но только не те прямолинейные меры, на которых настаивает Ламонт.
— А именно?
— Он считает, что надо отказаться от Насоса. Но нельзя повернуть прогресс вспять. Нельзя загнать цыпленка в яйцо, а вино в виноградную лозу. Если вы хотите, чтобы маленький ребенок отпустил ваши часы, не стоит объяснять ему, что он должен их отдать, а лучше предложить взамен что-нибудь ещё более интересное.
— А что, например?
— Вот тут-то я и не уверен. У меня, правда, есть одна мысль, очень простая — настолько простая, что она может оказаться вообще бесплодной. Мысль, основанная на том очевидном факте, что число «два» бессмысленно и существовать не может.
Наступило долгое молчание. Примерно через минуту Селена сказала напряженно:
— Дайте я попробую догадаться, что вы имеете в виду.
— Я и сам этого хорошенько не знаю.
— И всё-таки я попробую. Есть своя логика в предположении, что наша вселенная — одна и никакой другой нет и существовать не может. Ведь сами мы существуем только в ней, наш опыт говорит нам только о ней. Но вот у нас появились доказательства, что есть ещё одна вселенная — та, которую мы называем паравселенной, — и теперь уже глупо, смехотворно глупо считать, что вселенных всего две. Если существует ещё одна вселенная, значит, их может быть бесконечно много. Между единицей и бесконечностью в подобных случаях никаких осмысленных чисел существовать не может. Не только два, но любое конечное число тут нелепо и невозможно.
— Я так и рассуж… — начал было Денисон и вдруг оборвал фразу на полуслове. Вновь воцарилось молчание.
Потом Денисон приподнялся, сел, поглядел на скрытую в скафандре девушку и сказал:
— По-моему, нам пора возвращаться.
— Я ведь пыталась угадать, и ничего больше, — сказала Селена.
— Нет, — сказал он. — Не знаю, в чём тут дело, но это не просто догадка.
Глава 11
Бэррон Невилл уставился на неё, не в силах произнести ни слова. Селена ответила ему невозмутимым взглядом. Звездная панорама в её окнах опять изменилась. Теперь в одном из них плыла почти полная Земля.
— Но зачем? — наконец выдавил он из себя.
— Это вышло случайно, — ответила Селена. — Я вдруг уловила суть и так увлеклась, что не смогла удержаться. Мне следовало бы сразу тебе всё рассказать, а не откладывать неделю за неделей, но я опасалась, что это подействует на тебя именно так, как подействовало.
— Так он знает? Дура!
Селена нахмурилась.
— А что он, собственно, знает? То, о чём всё равно довольно скоро догадался бы, — что я на самом деле не гид, а твоя интуистка. Причем интуистка, которая не имеет ни малейшего представления о математике. Так пусть себе знает! Ну хорошо, у меня есть интуиция, но что из этого следует? Сколько раз ты мне повторял, что моя интуиция не имеет никакой цены, если не подкреплять её математическим анализом и экспериментальными наблюдениями? Сколько раз ты мне повторял, что самое, казалось бы, чёткое интуитивное заключение может всё-таки быть неверным? Так неужели чистый интуизм покажется ему заслуживающим внимания?
Невилл побелел, но Селена не могла решить — от гнева или от страха. Он сказал:
— Ведь ты же не такая. Разве твои интуитивные выводы не оказывались всякий раз безошибочными? Когда ты была твёрдо убеждена в их правильности?
— Но ведь он-то этого не знает!
— Он догадается. Он пойдёт к Готтштейну.
— И что же он скажет Готтштейну? О наших истинных планах ему ведь ничего не известно.
— Ах, не известно?
— Да!
Селена вскочила и отошла к окну, потом обернулась к Бэррону и крикнула:
— Да! Да! И подло с твоей стороны намекать, будто я способна предать тебя и остальных. Если ты не веришь в мою честность, так поверь хотя бы в мой здравый смысл. Зачем мне им о чём-нибудь рассказывать? Какое вообще всё это имеет значение, когда и они, и мы, и все обречены на гибель?
— Ну пожалуйста, Селена! — брезгливо отмахнулся Невилл. — Только не это!
— Нет, ты всё-таки выслушай. Он был со мной откровенен и рассказал о своих исследованиях. Ты меня прячешь, точно секретное оружие. Ты говоришь мне, что я ценнее любого прибора, любого в меру талантливого ученого. Ты играешь в таинственность, требуешь, чтобы для всех я оставалась простым гидом, дабы мои замечательные способности всегда были в распоряжении лунян. Вернее, в твоём распоряжении. И чего ты добился?
— У нас есть ты, ведь так? А долго ли, по-твоему, ты останешься на свободе, если они узнают…
— Ты постоянно твердишь об этом. Но назови мне хоть одного человека, которого лишили свободы, которому помешали! Где хоть малейшие реальные признаки великого заговора против нас, который мерещится тебе повсюду? Земляне не допускают тебя и твою группу к своим большим установкам, главным образом, потому, что ты сам их на это провоцируешь, а не из-за каких-то чёрных замыслов. Впрочем, нам это пошло только на пользу, потому что в результате мы создали собственные, более чувствительные приборы и более мощные установки.
— На основе твоих теоретических прозрений, Селена!
— Не спорю, — улыбнулась Селена. — Бен отозвался о них с большой похвалой.
— Ты и твой Бен! На черта тебе нужен этот жалкий земляшка?
— Он иммигрант. И я получаю от него сведения, которые мне необходимы. Ты мне их обеспечиваешь? Ты до того боишься, как бы про меня не узнали, что не позволяешь мне встречаться с другими физиками. Только ты, и никто, кроме тебя. И только потому, что ты мой… Да, наверное, и на это ты пошёл исключительно из соображений конспирации.
— Ну что ты, Селена! — Он кое-как сумел придать своему голосу нежность, и всё-таки его слова прозвучали нетерпеливо.
— Собственно говоря, это меня не трогает. Ты объяснил мне, какая передо мной стоит задача, и я стараюсь сосредоточиться на ней одной. И иногда мне кажется, что я вот-вот нащупаю решение, пусть и без всякой математики. Мне вдруг совершенно ясно представляется, что надо сделать, но потом мысль ускользает… А, да пусть! Раз Насос уничтожит нас всех гораздо раньше… Ведь я же тебе говорила, что обмен напряженности полей внушает мне большие опасения.
— Селена, я тебя спрашиваю, — сказал Невилл. — Готова ты безоговорочно утверждать, что Насос нас уничтожит? Не «может уничтожить», не «вероятно, уничтожит», а «неизбежно уничтожит»?
Селена сердито мотнула головой.
— Нет, не могу. Всё достаточно зыбко. Нет, я не могу сказать — «неизбежно». Но разве в таком вопросе «вероятно» — это мало?
— О господи!
— Не возводи глаза к потолку! Не усмехайся! Ты ведь и не подумал проверить эту гипотезу экспериментально. А я тебе говорила, как это можно сделать!
— Пока ты не начала слушать своего земляшку, ты и не тревожилась вовсе!
— Он иммигрант. Так ты проверишь или нет?
— Нет! Я ведь объяснил тебе, что твои предположения невыполнимы. Ты не экспериментатор, и то, что тебе представляется теоретически возможным, вовсе не обязательно окажется осуществимым в реальном мире приборов, случайности и недостоверности.
— Так называемый реальный мир твоей лаборатории! — Её лицо покраснело от негодования, она поднесла к подбородку сжатые кулаки. — Сколько времени ты тратишь, чтобы получить достаточно приличный вакуум… А ведь там, наверху, куда я показываю, там, на поверхности, вакуума сколько угодно и температура по временам приближается к абсолютному нулю. Почему ты не ставишь эксперименты на поверхности?
— Это ничего не даст.
— Откуда ты знаешь? Ты просто не хочешь попробовать. А Бен Денисон попробовал. Он сконструировал специальный прибор для поверхности и успел получить с его помощью необходимые данные, когда ездил осматривать солнечные аккумуляторы. Он звал тебя поехать с ним, но ты не захотел. Помнишь? Это очень простой прибор — такой, что даже я могу объяснить тебе его принцип после того, как его объяснили мне. Бен включил его при дневной температуре, а потом при ночной, и этого оказалось достаточно, чтобы затем провести серию экспериментов с пионотроном.
— Как всё у тебя просто получается!
— А это и было просто. Едва он понял, что я — интуистка, как, в отличие от тебя, начал мне объяснять! Он объяснил, почему он считает, что сильное ядерное взаимодействие увеличивается вокруг Земли поистине катастрофически. Ещё несколько лет — и Солнце взорвётся, а нарастающее сильное ядерное взаимодействие распространится волнами…
— Нет! Нет и нет! — закричал Невилл. — Я видел его результаты. Это ерунда.
— Ты их видел?
— Конечно. Неужели ты думала, что я позволю ему работать в наших лабораториях и не буду проверять, чем он занимается? Я видел его результаты, и они ровным счётом ничего не стоят. Он рассматривает столь малые отклонения, что они вполне укладываются в пределы ошибок опыта. Если ему угодно верить, будто эти отклонения значимы, и если ты хочешь этому верить, так валяйте. Но никакая вера не изменит того факта, что они не стоят ничего.
— А чему хочешь верить ты, Бэррон?
— Мне нужна истина.
— Но разве ты не решил заранее, какой должна быть эта истина? Тебе нужен Электронный Насос на Луне для того, чтобы ты мог больше не подниматься на поверхность, ведь так? И потому всё, что может помешать, автоматически перестает быть истиной.
— Я не буду с тобой спорить. Да, мне нужен Электронный Насос, и то, другое, тоже. Только их сочетание даст нам то, что требуется. Ты уверена, что ты не…
— Нет!
— Но ты ему всё-таки скажешь?
Селена подбежала к нему, взлетая в воздух в такт сердитому перестуку сандалий.
— Я ему ничего не скажу. Но мне нужны сведения. Раз от тебя я их получить не могу, так я обращусь к нему. Он, во всяком случае, ставит эксперименты! Мне надо поговорить с ним, узнать, что, собственно, он рассчитывает установить. Если ты мне помешаешь, ты никогда не получишь того, что тебе нужно. И можешь не опасаться, что он меня опередит. Он слишком привык к системе земных представлений и не рискнет сделать последний вывод. А я рискну.
— Ну хорошо. Но и ты тоже не забывай разницы между Землей и Луной. Луна — твой мир. Другого у тебя нет. Этот человек, этот твой Денисон, этот Бен, этот иммигрант, раз уж тебе так хочется, приехал на Луну с Земли и может, если захочет, снова вернуться на Землю. А ты уехать на Землю не можешь. Ты навсегда связана с Луной. Навсегда!
— Лунная дева, — с усмешкой сказала Селена.
Он продолжал, не слушая:
— А что до пресловутого взрыва, так объясни мне: если риск, связанный с изменениями основных констант вселенной, столь велик, то почему паралюди, технически настолько нас опередившие, не прекратят перекачку?
Не дожидаясь ответа, он вышел.
Селена уставилась на захлопнувшуюся дверь, стиснув зубы. Потом она пробормотала:
— Почему? А потому, что условия у них другие, чем у нас, сукин ты сын, ничтожество!
Но она говорила сама с собой — Невилл её уже не слышал.
Селена пнула ногой рычаг, опускавший постель, и кинулась на неё вне себя от злости. Намного ли ближе она теперь к той цели, которую Бэррон и его группа так давно поставили перед собой?
Ни на шаг.
Энергия… Всем требуется энергия! Волшебное слово! Рог изобилия! Единственный ключ ко вселенскому изобилию!.. Но ведь энергией исчерпывается далеко не всё.
Если найти энергию, удастся найти и то, другое. Если найти ключ к энергии, ключ к тому, другому, обнаружится сам собой. Да, так и случится, если только ей удастся уловить какую-то тонкость, которая сразу же станет очевидной. (Боже мой, она настолько заразилась от Бэррона его подозрительностью, что даже думает «то, другое»!)
Ни один землянин этой тонкости не уловит, так как у землян нет никаких оснований искать её.
И потому Бен Денисон обнаружит эту тонкость, сам того не заметив, а воспользуется его открытием она, Селена.
Но только… Если вселенная должна погибнуть, к чему всё это?
Глава 12
Денисон испытывал неловкость и смущение. Он то и дело подтягивал несуществующие брюки. Он был совсем голым, если не считать коротеньких трусов и сандалий. Ну и, разумеется, он нес одеяло.
Селена, тоже в лунном туалете, засмеялась:
— Послушайте, Бен, у вас вполне приличный торс. И кожа почти не дряблая. Можете считать, что лунная мода вам к лицу.
— Угу, — пробурчал Денисон и перекинул одеяло через плечо, старательно задрапировав живот, но Селена тотчас сдернула одеяло.
— Отдайте-ка его мне, — сказала она. — Какой же из вас выйдет лунянин, если вы с таким упорством будете цепляться за земные предрассудки и привычки?
— Селена, кругом нас люди, а вы надо мной издеваетесь! — взмолился Денисон. — Дайте мне освоиться.
— Ну, осваивайтесь. Но вы могли бы заметить, что встречные на нас даже не смотрят.
— Это они на вас не смотрят. А меня так и едят глазами. Возможно, им ещё не приходилось видеть таких дряхлых уродов.
— Не исключено, — сказала Селена весело. — Ну что же, пусть привыкают.
Денисон угрюмо шагал рядом с ней, болезненно ощущая каждый седой волосок у себя на груди, каждую складку на животе. Только когда коридор сузился и обезлюдел, он перестал стесняться своего вида и начал поглядывать по сторонам уже почти спокойно.
— Сколько мы прошли? — спросил он.
— Вы устали? — огорченно воскликнула Селена. — Надо было взять электророллер. Я всё время забываю, что вы с Земли.
— И очень хорошо. Разве это не предел мечтаний иммигранта? Я нисколько не устал. Ну, разве самую чуточку. Вот только я всё время мерзну.
— Самообман, и больше ничего, Бен, — твёрдо сказала Селена. — Вы просто подсознательно убеждены, что вам должно быть холодно, поскольку на вас нет привычной одежды. Выкиньте это из головы.
— Легко сказать! — вздохнул он. — Но иду я всё-таки терпимо?
— Отлично идёте. Вы у меня ещё закенгурите.
— И стану чемпионом самых крутых скатов. Вы, кажется, совсем забыли, что я человек в годах. Нет, но сколько мы всё-таки прошли?
— Мили две.
— Ого! А какова же общая длина коридоров?
— Боюсь, этого я не знаю. Жилые коридоры составляют лишь относительно небольшую часть всей системы. Есть коридоры рудных разработок, геологические, промышленные, микологические… Думаю, их общая длина достигает несколько сотен миль.
— А карты у вас есть?
— Конечно. Не можем же мы работать вслепую.
— Я не о том. У вас сейчас с собой какая-нибудь карта есть?
— Нет… Я не стала их брать. В этом секторе мне карты не нужны. Я тут знаю каждый поворот. Ещё с детских лет. Это же старые коридоры. Почти все новые коридоры — а в год мы прокладываем их в среднем две-три мили — расположены в северном секторе. Вот туда я без карты ни за что не пошла бы. Я там и с картой могу заблудиться.
— А куда мы идём?
— Я обещала показать вам замечательную вещь, самую редкую на Луне. Такую, что туристам её никогда не показывают.
— Неужто у вас на Луне есть алмазы?
— Это лучше всяких алмазов.
Стены коридора тут не были отполированы. Неяркие люминесцентные плафоны освещали их шероховатую серую поверхность. Тепло было по-весеннему, и вентиляция работала так безупречно, что не ощущалось ни малейшего сквозняка. Трудно было поверить, что камень и пыль всего в двухстах футах у них над головой то накаляются, пока Солнце совершает свой двухнедельный путь по небосклону, то охлаждаются чуть ли не до абсолютного нуля, когда оно на две недели скрывается за горизонтом.
— А утечки воздуха быть не может? — спросил Денисон, который вдруг с легкой дрожью осознал, что почти сразу же за этим сводом начинается океан безвоздушного пространства, простирающийся в бесконечность.
— Нет. Стены абсолютно герметичны. И оборудованы всевозможными защитными приспособлениями. Если давление воздуха в какой-нибудь секции снизится хотя бы на десять процентов, раздастся такой вой сирен, какого вы в жизни не слышали, и повсюду загорятся сигналы и указатели, которые скоро выведут вас в безопасное место.
— И часто это бывает?
— Нет, очень редко. По-моему, за последние пять лет ни один человек не погиб из-за нехватки воздуха. — После краткой паузы она добавила воинственно: — А у вас на Земле бывают всякие стихийные бедствия! Сильное землетрясение или цунами может уничтожить тысячи жизней.
— Не надо ничего доказывать, Селена! — Денисон поднял руки. — Сдаюсь!
— Ладно, — сказала она. — Я не собиралась так взвиваться… Слышите?
Она остановилась, прислушиваясь.
Денисон тоже прислушался, но ничего не услышал. Внезапно он с тревогой оглянулся.
— Как тихо! Почему тут никого нет? Вы уверены, что мы не заблудились?
— Это ведь не естественная пещера с неисследованными ходами, какие есть у вас на Земле. Я видела их фотографии.
— Да. Как правило, это известковые пещеры, созданные водой. Но, разумеется, на Луне подобные явления невозможны.
— И значит, заблудиться мы не можем, — улыбнулась Селена. — А то, что мы тут одни, объясняется, если хотите, суеверием.
— Чем-чем? — Денисон удивленно и недоверчиво поднял брови.
— Ой, не надо! — сказала Селена. — Уберите эти морщины. Вот так. А знаете, вы очень посвежели за последнее время. Теперь вам понятно, что могут сделать малая сила тяжести и систематические упражнения?
— А также попытки держаться наравне с изящными голыми интуистками, у которых на редкость много выходных дней и на редкость мало занятий, более интересных, чем показ лунных достопримечательностей даже в свободное время.
— Вот вы опять говорите со мной как с гидом. А кроме того, я вовсе не голая.
— Ну, уж если на то пошло, нагота — куда менее опасная вещь, чем интуитивизм… Но о каком суеверии вы говорили?
— Пожалуй, я выразилась не совсем удачно, и суеверие тут ни при чем. Просто все как-то избегают этого коридора.
— Но почему?
— А вот сейчас увидите.
Они пошли дальше, и вскоре Селена сказала негромко:
— Ну, а теперь слышите?
Они опять остановились, и Денисон напряженно прислушался. Потом он спросил:
— Вы имеете в виду это легкое постукивание? Тук-тук… Да?
Селена побежала — длинными низкими прыжками, отталкиваясь то одной ногой, то другой, как делают луняне, когда они не очень торопятся. Денисон тоже побежал, стараясь подражать её движениям.
— Вот тут! Тут!
Денисон взглянул туда, куда нетерпеливо указывала пальцем Селена.
— Господи! — сказал он. — Откуда она здесь?
Из скалы одна за другой появлялись и падали капли прозрачной жидкости, которая могла быть только водой. Капля неторопливо сменяла каплю и падала в керамический желобок, вделанный в стену.
— Из камней. У нас же на Луне есть вода. Большую её часть мы добываем из гипса. Нам хватает, тем более что мы умеем её экономить.
— Это я заметил! Мне ещё ни разу не удалось толком принять душ. Честное слово, я не понимаю, как вы все тут умудряетесь оставаться чистыми.
— Но я же вам объяснила. Сперва надо облиться. Затем отключить воду и обрызгаться моющим препаратом. Растереть его… Ах, Бен, сколько раз я должна повторять одно и то же! К тому же на Луне запачкаться трудно… И вообще мы говорили не об этом. Кое-где вода встречается и в чистом виде — обычно в форме льда вблизи поверхности в тени, отбрасываемой горами. Когда коридор проходит рядом с такими отложениями, лёд начинает таять, и вода капает, пока не истощится её запас. В этом месте она капает уже восемь лет.
— Но при чем тут суеверия?
— Естественно, что вода — основа основ жизни на Луне. Мы пьем её, моемся, выращиваем с её помощью нашу пищу, получаем из неё кислород. Короче говоря, она нужна нам всюду и везде. И самородная вода, разумеется, вызывает чувство, похожее на благоговение. Как только появились эти капли, бурение туннеля в эту сторону было прекращено. И даже стены оставлены необработанными.
— Да, это действительно отдаёт суеверием.
— Нет, скорее тут можно говорить об уважении. Все думали, что залежь иссякнет через два-три месяца. Обычно так и бывает. Но прошёл год, и начало казаться, что эти капли неиссякаемы. Им даже дали название «Вечный источник». Это место так и на картах помечено. Ну, и вполне понятно, что люди начинают думать, что всё это имеет какой-то скрытый смысл и что истощение Вечного источника явится дурным предзнаменованием.
Денисон расхохотался.
— Нет, конечно, никто серьёзно в это не верит, — горячо заговорила Селена, — и всё-таки… Ведь, конечно, источник на самом деле вовсе не вечен и должен когда-нибудь истощиться. Собственно говоря, теперь капли появляются втрое медленнее, чем вначале. То есть он уже иссякает. Ну и, наверное, никому не хочется стать свидетелем того, как Вечный источник вдруг пересохнет. Вот вам вполне рациональное объяснение того факта, что сюда мало кто заглядывает.
— Насколько я понимаю, сами вы этого чувства не разделяете.
— Дело не в том. Просто, по моему твёрдому убеждению, это произойдёт не сразу, а настолько постепенно, что никто не сможет с уверенностью сказать — «вот упала последняя капля» и испытать суеверный страх. А потому — зачем вообще об этом беспокоиться?
— Совершенно справедливо.
— Тем более что мне хватает других поводов для беспокойства. — Переход к другой теме выглядел почти естественным. — И мне хотелось бы обсудить их с вами, пока мы одни.
С этими словами Селена расстелила одеяло и села на него, поджав ноги.
— Так вот зачем вы меня сюда привели! — Денисон лег на бок лицом к ней и оперся на локоть.
— На поверхности было бы удобнее, но о том, чтобы выйти туда незаметно, нечего и думать. Догадаться же, что мы пошли именно сюда, трудно, а это, пожалуй, единственное место в городе, где нам заведомо никто не помешает.
Селена умолкла, словно не зная, что сказать дальше.
— Ну и?.. — спросил Денисон.
— Бэррон очень сердит. Просто взбешен.
— И неудивительно. Как ещё он мог отнестись к тому, что мне известно про ваш интуитивизм? Я ведь вас, по-моему, предупреждал. Неужели так уж обязательно было ему об этом рассказывать?
— Как-то неприятно скрывать что-нибудь от человека, с которым… Впрочем, для него это, по-видимому, уже в прошлом.
— Мне очень жаль, что из-за меня…
— Вы тут ни при чем. Всё уже шло к концу само собой. Меня гораздо больше волнует, что он наотрез отказывается признать ваше истолкование тех данных, которые вы получили, работая с пионотроном после наблюдений на поверхности.
— Но я же говорил вам, что так и будет.
— Он сказал, что видел ваши результаты.
— Да, видел! Скользнул по ним глазами и что-то буркнул.
— Как, в сущности, грустно! Неужели человек всегда верит только в то, во что хочет верить, не считаясь с фактами?
— Во всяком случае, до последней возможности. А иной раз и дольше.
— А вы?
— То есть насколько ничто человеческое мне не чуждо? Разумеется, и я — не исключение. Вот я, например, не верю, что я действительно стар. Я верю, что я чрезвычайно обаятелен. Я верю, что вы ищете моего общества не только поэтому… даже вопреки тому, что вы всё время сворачиваете разговор на физику.
— Я серьёзно.
— Ну что ж! Полагаю, Невилл сказал вам, что обнаруженные мною отклонения более чем укладываются в пределы возможной ошибки, а потому сомнительны. Это, безусловно, так… И всё-таки я предпочитаю верить, что они несут в себе именно то подтверждение, в поисках которого я и проводил эти эксперименты.
— И верите только потому, что хотите верить?
— Не совсем. На это можно посмотреть и следующим образом: предположим, Насос безвреден, а я упорно отстаиваю мнение, что он опасен. В этом случае я буду выглядеть дураком, и моя репутация ученого очень пострадает. Но в глазах весьма важных лиц я и так выгляжу дураком, а репутации ученого у меня вообще нет никакой.
— Но почему, Бен? Вы не в первый раз на что-то намекаете. Почему бы вам не рассказать мне всё?
— Да рассказывать-то, по правде говоря, почти нечего. В двадцать пять лет я был ещё настолько мальчишкой, что не сумел найти себе развлечения умнее, чем дразнить дурака за то лишь, что он дурак. Но он-то вести себя умнее не мог, так что настоящим дураком, в сущности, был я. А в результате мои насмешки загнали его на такую высоту, куда он без них никогда бы не забрался…
— Вы говорите про Хэллема?
— Именно. И чем выше он поднимался, тем ниже падал я, пока не свалился на Луну.
— А это так уж плохо?
— Нет. По-моему, даже очень хорошо. А потому сделаем вывод, что в конечном счёте он оказал мне немалую услугу. И вернёмся к тому, о чём я говорил. Итак, ошибочно считая Насос опасным, я ничего не теряю. С другой стороны, ошибочно считая Насос безвредным, я способствую гибели мира. Да, конечно, большая часть моей жизни уже позади, и, наверное, я мог бы внушить себе, что у меня нет особых поводов любить человечество. Однако вред мне причиняла лишь горстка людей, и, если я в отместку погублю всех остальных, это выйдет нечто совсем уж несоразмерное. Ну а если вам требуются не столь благородные причины, Селена, то вспомните, что у меня есть дочь. Перед моим отъездом на Луну она говорила, что подумывает о ребенке. Таким образом, весьма вероятно, что в недалеком будущем я стану — увы, увы! — дедушкой. И почему-то мне хочется, чтобы мой внук прожил весь отпущенный ему срок жизни. А потому я предпочитаю считать, что Насос опасен, и действовать, исходя из этого убеждения.
— Но ведь я об этом и спрашиваю, — взволнованно сказала Селена. — Опасен Насос или нет? Мне нужно знать истину, а не разбираться, кто во что хочет верить.
— Об этом скорее я должен спросить у вас. Вы ведь интуистка. Так что же говорит ваша интуиция?
— Вот это меня и мучит, Бен. У меня нет твёрдой уверенности. Пожалуй, я ощущаю, что Насос опасен, но, возможно, потому, что мне этого хочется.
— Допустим. Но почему вам этого хочется?
Селена виновато улыбнулась и пожала плечами.
— Наверное, мне было бы приятно поймать Бэррона на ошибке. Слишком уж он категоричен и агрессивен, когда бывает в чём-то убеждён.
— Мне это понятно. Вам хотелось бы посмотреть, какое у него будет лицо, когда ему придётся пойти на попятный. Я по собственному опыту знаю, каким жгучим бывает такое желание. Ведь если Насос опасен и я сумею это доказать, меня, возможно, ждет слава спасителя человечества, но, честное слово, сейчас я думаю только о том, какую физиономию скорчит Хэллем. Не слишком достойное чувство, и потому я скорее всего заявлю, что заслуга принадлежит Ламонту в не меньшей мере, чем мне, — а это, кстати, чистая правда, — и ограничусь тем, что буду любоваться лицом Ламонта, пока он будет любоваться физиономией Хэллема. Такое злорадство через посредника всё-таки менее мелочно… Но я, кажется, договорился до полной чепухи. Скажите, Селена…
— Ну, Бен?
— Когда вы обнаружили, что вы интуистка?
— Сама не знаю.
— Вероятно, в колледже вы занимались физикой?
— Да. И математикой, но она у меня не шла. Впрочем, физика мне тоже не слишком давалась. Но когда я совсем заходила в тупик, мне вдруг становилось ясно, каким должен быть ответ. Вернее сказать, я видела, что надо сделать, чтобы получить верный ответ. Очень часто ответ действительно получался верный, но, когда меня спрашивали, каким образом я к нему пришла, я начинала путаться. Преподаватели были убеждены, что я пользуюсь шпаргалкой, но поймать меня на этом не могли.
— А они не подозревали, что вы интуистка?
— Думаю, что нет. Я ведь сначала и сама была в полном неведении, а потом… Ну, я влюбилась в одного физика. В будущего отца моего ребенка. И как-то, когда у нас не нашлось другой темы для разговора, он начал рассказывать мне о физической проблеме, над которой он тогда работал, а я вдруг сказала: «Знаешь, что, по-моему, нужно?» — и изложила ему мысль, которая почему-то пришла мне в голову. Он испробовал мой вариант — смеха ради, как объяснил потом, — и получил то, что искал. Собственно говоря, тогда-то и зародился пионотрон, который нравится вам больше синхрофазотрона.
— Как! Это была ваша идея? — Денисон подставил палец под каплю и собирался уже слизнуть её, но потом всё-таки спросил: — А эту воду можно пить?
— Она совершенно стерильна, — сказала Селена, — и поступает отсюда в общий резервуар для обычной обработки. Но она насыщена сернистыми и углеродистыми соединениями и вряд ли вам понравится.
Денисон вытер палец о шорты.
— Так это вы изобрели пионотрон?
— Нет. Я только предложила идею, а развили и осуществили её другие — в частности, Бэррон.
Денисон помотал головой.
— А знаете, Селена, вы ведь редкий феномен. Вас бы должны изучать специалисты по молекулярной биологии.
— Вы так думаете? Меня эта перспектива что-то не увлекает.
— Лет пятьдесят назад был период сильного увлечения генетическим конструированием. А затем оно…
— Я знаю, — перебила Селена. — Оно ни к чему не привело, и его даже запретили — насколько можно запретить научные исследования. Мне известны люди, которые продолжают заниматься этой темой.
— Специализируясь на интуитивизме?
— По-моему, нет.
— А! Но ведь я к этому и веду. В то время, когда генетическое конструирование достигло наибольшего расцвета, была произведена попытка стимулировать интуицию. Практически все великие учёные обладали высокоразвитой интуицией, и возникло мнение, что именно она лежит в основе оригинального мышления. Вывод о том, что особая интуиция связана с какой-то специфической комбинацией генов, напрашивался сам собой, и было выдвинуто немало гипотез о характере такой комбинации.
— Мне кажется, таких комбинаций может быть очень много.
— А мне кажется, что ваша интуиция вас опять не подвела, если это заключение подсказала вам она. Однако кое-кто считал, что в этой комбинации решающую роль играет очень маленькая группа связанных генов, если не один какой-то ген, так что можно говорить о некоем «гене интуиции»… Затем генетическому конструированию пришёл конец.
— Как я и сказала.
— Но незадолго до этого, — продолжал Денисон, словно не заметив, что она его перебила, — была предпринята попытка изменить гены так, чтобы повысить степень интуитивизма, и, по утверждению некоторых, она увенчалась определённым успехом. Если это так, то по законам наследственности… А из родителей вашего отца или матери никто не принимал участия в этих экспериментах?
— Насколько мне известно, нет, — ответила Селена. — Но отрицать этого категорически я не могу. Что-нибудь подобное не исключено… Однако, с вашего разрешения, я ничего выяснять не стану. Предпочитаю оставаться в неведении.
— В этом есть смысл. Генетическое конструирование породило столько опасений и кривотолков, что вряд ли тот, на кого оно наложило свой отпечаток, может рассчитывать на благожелательное отношение окружающих… Утверждалось, например, что интуитивизм неотделим от некоторых крайне нежелательных качеств.
— Разрешите вас поблагодарить!
— Так ведь не я же это утверждаю! Во всяком случае, интуиция пробуждает зависть и враждебность в других людях. Даже такой кроткий и во всех отношениях симпатичный интуитивист, как Майкл Фарадей, вызывал зависть и ненависть у Хэмфри Дэви. А способность вызывать зависть — тоже своего рода нежелательное качество. Вот и в вашем случае…
— Неужели я вызываю у вас зависть и ненависть? — спросила Селена.
— У меня-то, пожалуй, нет. А у Невилла?
Селена промолчала.
— К тому времени, когда вы сблизились с Невиллом, — продолжал Денисон, — среди ваших знакомых, вероятно, уже было известно, что вы — интуистка?
— Ну, известно — это слишком сильно сказано. Вероятно, кто-нибудь и подозревал, но здешние физики любят делиться успехом не больше, чем земные, а потому, я думаю, они убедили себя, что мои идеи были лишь случайной, хотя и счастливой догадкой, не больше. Но Бэррон, конечно, знал.
— А-а, — многозначительно протянул Денисон.
Губы Селены чуть дернулись.
— У меня такое ощущение, что вам хочется сказать: «А, так вот почему он с вами связался».
— Нет, Селена, ничего подобного. В вас вполне можно влюбиться и без всякой задней мысли.
— Мне тоже так кажется, но одно другого не исключает, а Бэррон не мог не заинтересоваться моим интуитивизмом. Почему бы и нет? Но он настоял, чтобы я по-прежнему работала гидом. Он заявил, что я — важная статья естественных ресурсов Луны и он не желает, чтобы Земля монополизировала меня, как она монополизировала синхрофазотрон.
— Оригинальная идея. Но с другой стороны, чем меньше людей знает, что вы интуистка, тем больше шансов, что вся честь открытия останется за ним.
— Сейчас вы говорите совсем как Бэррон.
— Неужели? А не бывает ли так, чтобы он сердился на вас, когда ваша интуиция оказывается особенно плодотворной?
Селена пожала плечами.
— Бэррон склонен к подозрительности. У нас у всех есть свои недостатки.
— Так благоразумно ли с вашей стороны проводить со мной столько времени с глазу на глаз?
— Вы недовольны тем, что я его защищаю, — резко ответила Селена. — И он меня вовсе к вам не ревнует. Вы же с Земли. Не стану от вас скрывать, что он, наоборот, скорее поощряет моё знакомство. Он считает, что с вашей помощью я могу многому научиться.
— Ну и как, научились? — холодно спросил Денисон.
— Да. Но для меня это в наших отношениях вовсе не самое главное — я ведь не Бэррон.
— А что же главное для вас?
— Вы сами прекрасно знаете, — сказала Селена. — Но раз вам так хочется услышать, я скажу: ваше общество мне интересно и приятно. В противном случае я уже давно выяснила бы всё, что могло бы меня заинтересовать.
— Ну хорошо, Селена. Значит, мы друзья?
— Да, друзья.
— В таком случае можно мне спросить, что вы, собственно, от меня узнали?
— Этого сразу не объяснишь. Как вам известно, сами мы не можем запускать Насосы потому, что не умеем устанавливать контакт с паравселенной, хотя они его устанавливают, когда хотят. Это может объясняться их превосходством — или умственным, или техническим…
— Что совсем не одно и то же, — вставил Денисон.
— Знаю. Потому-то я и сказала — «или — или». Но вполне вероятно, что мы вовсе не так уж неразвиты или отсталы, а просто нащупать их много труднее, чем нас. Если сильное ядерное взаимодействие в паравселенной сильнее, чем в нашей, их солнца, да и планеты тоже, должны быть значительно меньше наших. А потому нащупать именно их планету гораздо сложнее. Не исключено и другое объяснение, — продолжала Селена. — Скажем, они ориентируются по электромагнитным полям. Электромагнитное поле планеты занимает гораздо большее пространство, чем сама планета, что заметно облегчает поиски. Но отсюда следует, что Луну, в отличие от Земли, они заметить не в состоянии, так как у Луны электромагнитного поля практически нет. Возможно, нам тут не удаётся установить Насос именно по этой причине. А если их небольшие планеты не имеют электромагнитного поля, у нас вообще нет шансов их обнаружить.
— Любопытная гипотеза! — заметил Денисон.
— Теперь рассмотрим межвселенский обмен свойствами, который ослабляет их сильное ядерное взаимодействие и заставляет остывать их солнца, а наше ядерное взаимодействие, наоборот, усиливает, что приводит к нагреванию и взрыву наших солнц. Что отсюда следует? Предположим, они способны добывать энергию односторонне, без нашей помощи, но с крайне низким коэффициентом полезного действия. В обычных условиях этот способ явно бесполезен. А потому для получения концентрированной энергии они нуждаются в нас — в том, чтобы мы снабжали их вольфрамом сто восемьдесят шесть и принимали от них плутоний сто восемьдесят шесть. Но предположите, что наша ветвь галактики взорвётся и превратится в квазар. В результате концентрация энергии в районе бывшей Солнечной системы неизмеримо возрастет и будет сохраняться на этом уровне миллионы лет. А после образования квазара они даже при самом низком коэффициенте полезного действия будут без труда получать всю энергию, какая им нужна. Поэтому наша гибель не будет иметь для них ни малейшего значения. Собственно говоря, логично предположить, что им даже выгоднее, чтобы мы взорвались. Ведь мы можем остановить перекачку по множеству самых разных причин, и они будут бессильны её возобновить. А после взрыва энергия начнет поступать к ним практически сама, без малейших помех… Вот почему те, кто доказывает: «Если Насос так опасен, то почему же паралюди, столь интеллектуально и технически развитые, его не остановят?» — лишь демонстрируют полнейшее непонимание сути дела.
— К этому аргументу прибегал Невилл?
— Да.
— Но ведь парасолнце будет всё больше остывать?
— Ну и что? — нетерпеливо бросила Селена. — Зачем им солнце, если у них есть Насос?
Денисон сказал решительно:
— Я вам скажу что-то, чего вы не знаете, Селена. По слухам, Ламонт получил от паралюдей сообщение, что Насос опасен, но что остановить его они не могут. Разумеется, никто на Земле не отнесся к этому серьёзно. Но вдруг это правда? Вдруг Ламонт действительно получил подобное сообщение? В таком случае напрашивается предположение, что не для всех паралюдей приемлема мысль об уничтожении мира, населённого разумными существами, которые к тому же столь охотно и доверчиво начали с ними сотрудничать. Но эта горстка не сумела переубедить практичное и несентиментальное большинство.
— Вполне возможно, — кивнула Селена. — Всё это я знала — то есть вывела интуитивно — до знакомства с вами. А потом вы сказали, что никакое число, лежащее между единицей и бесконечностью, не имеет смысла. Помните?
— Конечно.
— Так вот: совершенно очевидно, что наша вселенная и паравселенная различаются в первую очередь степенью сильного ядерного взаимодействия, а потому до сих пор все исследования велись только в этом направлении. Но ведь это не единственное взаимодействие, существуют ещё три — электромагнитное, слабое ядерное и гравитационное, — напряженность которых относится друг к другу как сто тридцать к одному, единица к десяти в минус десятой степени и единица к десяти в минус сорок второй степени. Однако если их четыре, то почему не бесконечное множество? Просто все остальные настолько слабы, что не могут воздействовать на нашу вселенную и не поддаются обнаружению.
— Если взаимодействие настолько слабое, что не поддаётся обнаружению и не оказывает никакого воздействия, то его можно считать практически несуществующим, — заметил Денисон.
— В нашей вселенной! — отрезала Селена. — А кто может знать, что существует и чего не существует в паравселенной? При бесконечном множестве возможных взаимодействий, каждое из которых может бесконечно варьироваться в напряженности по сравнению с любым из них, принятым за норму, число возможных вселенных может быть бесконечным.
— Бесконечность континуума… И скорее алеф-один, чем алеф-нуль…
Селена сдвинула брови.
— А что это означает?
— Неважно. Продолжайте.
— А потому вместо того, чтобы взаимодействовать с единственной паравселенной, которая навязала себя нам и, возможно, не отвечает нашим потребностям, почему бы не попытаться установить, какая из бесконечного множества вселенных подходит нам больше всего и легче остальных поддаётся обнаружению? Давайте придумаем такую вселенную, поскольку она всё равно должна существовать, а потом займемся её поисками.
Денисон улыбнулся.
— Селена, я и сам об этом думал. И хотя нет закона, который устанавливал бы, что я не способен ошибаться, всё же маловероятно, чтобы блестящая личность вроде меня заблуждалась, если другая блестящая личность вроде вас независимо пришла к такому же выводу… А знаете что?
— Нет, — сказала Селена.
— Ваша чёртова лунная еда начинает мне нравиться. Во всяком случае, я к ней привыкаю. Пойдёмте домой и перекусим. А потом начнем разрабатывать план дальнейших действий… И знаете, что ещё?
— Нет.
— Раз уж мы будем работать вместе, можно я вас поцелую? Как экспериментатор интуистку.
Селена задумалась.
— Вероятно, для вас, как и для меня, это не первый поцелуй в жизни. Так, может быть, не надо вводить дополнительных определений?
— Что же, обойдёмся без них. Но я не знаю техники поцелуев на Луне. Что я должен делать, чтобы не допустить какой-нибудь промашки?
— Положитесь на инстинкт, — злокозненно сказала Селена.
Денисон осторожно заложил руки за спину и наклонился к Селене. Затем, несколько секунд спустя, он завёл их ей за плечи.
Глава 13
— А потом я его сама поцеловала, — задумчиво сообщила Селена.
— Вот как? — зло переспросил Бэррон Невилл. — К чему такая самоотверженность?
— Ну, особой самоотверженности тут не требовалось. — Она улыбнулась. — Всё получилось очень трогательно. Он чрезвычайно боялся сделать что-нибудь не так и даже заложил руки за спину. Наверное, для равновесия. А может быть, опасался переломать мне кости.
— Избавь меня от подробностей. Когда мы получим от тебя то, что нам требуется?
— Как только у меня что-нибудь выйдет, — ответила Селена бесцветным голосом.
— А он не узнает?
— Он интересуется только энергией.
— И ещё он желает спасти мир, — насмешливо сказал Невилл. — И стать героем. И утереть всем нос. И целоваться с тобой.
— А он этого и не скрывает. Не то что ты.
— Ну, положим! — зло буркнул Невилл. — Но я желаю только одного: чтобы у меня хватило терпения ждать.
Глава 14
— А хорошо, что день всё-таки кончился, — заметил Денисон, критически разглядывая толстый рукав своего скафандра. — Я никак не могу привыкнуть к лунному солнцу. Да и не хочу привыкать. Оно настолько немыслимо, что даже этот костюм кажется мне чуть ли не собственной кожей.
— За что такая немилость к Солнцу? — спросила Селена.
— Неужели вы его любите?
— Нет, конечно. Терпеть его не могу. Но ведь я его практически никогда не вижу. Вы же зем… Вы должны были к нему привыкнуть.
— На Земле оно другое. А тут оно пылает на чёрном небе и пожирает звёзды, вместо того чтобы просто их затмевать. Тут оно жгучее, свирепое и опасное. Солнце здесь — враг, и, пока оно в небе, мне всё время кажется, что наши попытки снизить напряженность поля обречены на неудачу.
— Уж это чистейшее суеверие, Бен, — сказала Селена с легким раздражением. — При чем тут Солнце? К тому же мы находились в тени кратера, совсем в ночной обстановке. И звёзды были видны. И вокруг темнота.
— Нет, — возразил Денисон. — А освещенная полоса поверхности на севере? Мне страшно не хотелось туда смотреть, но я ничего не мог с собой поделать. А стоило поглядеть, и я прямо ощущал, как жесткое ультрафиолетовое излучение бьет в стекла моего скафандра.
— Глупости! Во-первых, какое может быть ультрафиолетовое излучение в отражённом свете? А во-вторых, скафандр защищает вас от любого излучения.
— Не от теплового. Во всяком случае, недостаточно.
— Но теперь же ночь!
— Вот именно! — с большим удовлетворением произнес Денисон. — Я ведь с этого и начал.
Он огляделся с непреходящим изумлением. Земля висела в небе на положенном месте — её широкий серп теперь выгибался к юго-западу. Прямо над ним горел Орион — охотник, встающий со сверкающего кресла. По горизонту разливалось мерцание мягкого земного света.
— Какая красота! — воскликнул он и без всякого перехода вдруг спросил: — Селена, пионотрон что-нибудь показывает?
Селена, которая молча смотрела в небо, отошла к приборам, которые стояли тут, в тени кратера, уже три смены лунного дня и ночи.
— Пока ничего, — ответила она. — Но это хороший знак. Напряженность поля держится чуть выше пятидесяти.
— Надо бы ниже, — сказал Денисон.
— Можно ещё снизить, — ответила Селена. — Я уверена, что все параметры подходят.
— И магнитное поле?
— В этом я не уверена.
— Но если его усилить, возникнет неустойчивость.
— Не должно бы. Я чувствую.
— Селена, я верю в вашу интуицию вопреки чему угодно, но только не фактам. Ведь мы уже пробовали, и каждый раз возникала неустойчивость.
— Я знаю, Бен. Но параметры были не совсем такими. Напряженность сохраняется на пятидесяти двух поразительно долгое время. И раз мы начинаем удерживать её часами вместо минут, то появляется возможность увеличить магнитное поле в десять раз не на секунды, как раньше, а на минуты… Ну, попробуем?
— Подождем, — сказал Денисон.
Селена нерешительно помедлила, потом отошла от приборов.
— Бен, вы всё ещё скучаете по Земле? — спросила она.
— Нет. Как ни странно, совершенно не скучаю. Я думал, что буду тосковать по синему небу, по зелёной траве, по обилию прозрачной струящейся воды — по всему тому, что принято считать особым очарованием Земли. Но я нисколько не тоскую по ним. Они мне даже не снятся.
— Это бывает, — сказала Селена. — Во всяком случае, некоторые гранты утверждают, что ностальгия им незнакома. Разумеется, они составляют незначительное меньшинство, и ещё никому не удалось определить, что их объединяет. Выдвигались самые разные гипотезы — от полной эмоциональной тупости, то есть неспособности что-либо вообще чувствовать, до избытка эмоциональности, заставляющей их бессознательно вообще отрицать ностальгию, чтобы она не вызвала серьёзного нервного срыва.
— Что касается меня, то всё, по-моему, обстоит очень просто. Последние двадцать лет моей жизни на Земле были не слишком приятными, а тут мне наконец удалось посвятить себя работе, в которой я нашёл своё призвание… К тому же ваша помощь… Более того, Селена, само общение с вами…
— Очень любезно, что помощь вы упомянули прежде общения, — ответила Селена, сохраняя полную серьёзность. — Ведь никакая помощь вам, в сущности, не нужна. Не притворяетесь ли вы, будто не можете без неё обойтись только потому, что вам нравится моё общество?
— Не могу решить, какой ответ вам было бы приятнее услышать, — засмеялся Денисон.
— А вы испробуйте правду.
— Но я и сам её не знаю. И то и другое мне очень дорого. — Он обернулся к пионотрону. — Напряженность поля всё ещё сохраняется, Селена.
Стекло, закрывавшее лицо Селены, блеснуло в земном свете. Она сказала:
— Бэррон утверждает, что отсутствие ностальгии естественно и свидетельствует о душевном здоровье. Он утверждает, что, хотя тело человека приспособилось к Земле и вынуждено приспосабливаться к Луне, к человеческому мозгу ни то ни другое не относится. Человеческий мозг качественно настолько отличается от любого другого, что его можно считать особым явлением. У него не было времени, чтобы прочно связать себя с Землей, а потому он способен просто принять иные условия, не приспосабливаясь к ним. По словам Бэррона, не исключено, что лунные пещеры являются для мозга оптимальной средой, поскольку их можно рассматривать как своего рода увеличенную черепную коробку.
— И вы этому верите? — с веселой усмешкой спросил Денисон.
— В устах Бэррона всё это выглядит очень правдоподобным.
— Ну, не менее правдоподобным было бы предположение, что лунные пещеры позволяют сублимировать пресловутое подсознательное стремление человека вернуться вновь в материнское лоно. Собственно говоря, — добавил он задумчиво, — я с тем же успехом мог бы доказать, ссылаясь на контролируемую температуру и давление, а также на высокую усвояемость и консистенцию лунной пищи, что лунная колония — простите, Селена, — лунный город представляет собой сознательно созданную идеальную среду обитания для нерождённого младенца.
— Думаю, Бэррона вы бы ни на секунду не убедили, — заметила Селена.
— Куда там!
Денисон взглянул на земной серп, стараясь различить облачные слои по его краю. Он умолк и даже не сразу заметил, что Селена снова отошла к пионотрону.
Затем Денисон перевел взгляд с Земли в её звездном венке на зубчатый горизонт, над которым время от времени взметывалось что-то вроде клубов дыма.
Он заметил это явление ещё в прошлую лунную ночь и, решив, что это пыль, поднятая падением метеорита, с некоторой тревогой спросил у Селены, так ли это.
Она ответила с полным равнодушием:
«Земля чуть-чуть смещается в небе из-за вибрации Луны, и передвижение её света по неровностям почвы создаёт оптические иллюзии. Например, если отражение света происходит за небольшим возвышением, то кажется, будто там взлетает облачко пыли. Эти явления очень часты, и мы не обращаем на них никакого внимания».
Он тогда возразил:
«Но ведь это может быть и метеорит! А метеориты часто попадают в людей?»
«Конечно. В вас, наверное, их угодило уже немало. Но в скафандре это не чувствуется».
«Я говорю не о микроскопических частицах, а о настоящих — о таких, которые действительно способны поднять пыль… или убить человека».
«Ну, бывают и такие. Но они падают редко, а Луна велика. До сих пор от них никто ещё не пострадал».
И теперь, глядя в небо, Денисон вдруг понял, почему он опять вспомнил про метеориты — между звездами мелькала яркая точка. Но он тут же сообразил, что метеориты горят только в земной атмосфере, а на Луне они падают тёмными и холодными — ведь на ней нет воздуха.
Эта яркая точка в небе могла быть только созданием человеческих рук, но Денисон не успел разобраться в своих впечатлениях, как она уже превратилась в маленький ракетолет, который через минуту опустился на поверхность неподалеку от него.
Из ракетолета вышла одинокая фигура. Водитель остался в кабине — тёмное бесформенное пятно на освещенном фоне.
Денисон спокойно ждал. На поверхности Луны действовали свои законы вежливости, продиктованные особенностями работы в скафандрах: первым всегда называл себя вновь прибывший.
— Представитель Готтштейн, — раздался в его наушниках знакомый голос. — Впрочем, я так ковыляю, что об этом легко догадаться.
— Бен Денисон, — ответил Денисон.
— Да, я так и предполагал.
— Вы искали именно меня?
— Совершенно справедливо.
— В космоблохе? Но почему вы не…
— Почему я не воспользовался тамбуром П-четыре? — перебил Готтштейн. — До него ведь всего полмили. Да, безусловно, но меня интересовали не только вы.
— Вероятно, я не должен задавать вопросов. Но мне непонятно, что вы, собственно, имеете в виду.
— У меня нет причин что-нибудь скрывать. Вы ведь ставите эксперименты на поверхности, и вполне естественно, что они меня заинтересовали. Вы согласны?
— Я не делаю из этого тайны, а интересоваться не возбраняется никому.
— Но о подробностях вашего эксперимента не осведомлен ни один человек. Известно, конечно, что ваша работа как-то связана с проблемой Электронного Насоса, но и только.
— Предположение вполне логичное.
— Так ли? Насколько я знаю, подобные эксперименты требуют сложнейшего оборудования. Иначе они не дадут никаких результатов. Как вы понимаете, сам я в этом ничего не смыслю, но я обращался за справками к квалифицированным консультантам. И во всяком случае, очевидно, что установка, которой вы пользуетесь, совсем не похожа на то, о чём мне говорили. Вот мне и пришло в голову, что, возможно, интересоваться мне следует совсем не вами. Ведь пока моё внимание сосредоточивается на вас, где-то может происходить нечто важное.
— А с какой целью использовать меня как ширму?
— Не знаю. Если бы я мог ответить на этот вопрос, то тревожился бы меньше.
— Так, значит, за мной следили?
— А как же, — усмехнулся Готтштейн. — С самого момента вашего прибытия на Луну. Однако пока вы работали тут на поверхности, мы осмотрели все окрестности в радиусе десятков миль. Возможно, это покажется вам странным, доктор Денисон, но сейчас на лунной поверхности чем-то, что выходит за рамки обычных рутинных работ, занимаетесь только вы и ваша помощница.
— И что тут странного?
— А то, что вы, следовательно, убеждены в плодотворности своих экспериментов с этой штукой, названия которой я не знаю. Поскольку я не сомневаюсь в вашей компетентности, то мне кажется, было бы интересно послушать, если бы вы согласились объяснить мне, чем занимаетесь.
— Я ставлю парафизические эксперименты, мистер Готтштейн, так что слухи вас не обманули. И могу добавить только, что пока мне ещё не удалось добиться чего-нибудь определённого.
— Ваша помощница, если не ошибаюсь — гид Селена Линдстрем Л.?
— Совершенно верно.
— Странный ассистент.
— Она умна, интересуется парафизикой, обучает меня всем тонкостям лунного поведения и очень привлекательна.
— А к тому же готова работать с землянином?
— С иммигрантом, который намерен при первой возможности получить лунное гражданство.
К ним подошла Селена, и в их шлемах раздался её голос:
— Здравствуйте, мистер Готтштейн. Я не люблю ни подслушивать, ни вмешиваться в чужие разговоры, но в скафандре слышно всё, о чём говорят в пределах видимости.
— Добрый вечер, мисс Линдстрем, — повернулся к ней Готтштейн. — Я и не собирался делать тайну из нашей беседы. Так, значит, вы интересуетесь парафизикой?
— Очень!
— И неудачные эксперименты вас не обескураживают?
— Они ведь не такие уж неудачные, — ответила Селена. — Просто доктор Денисон не вполне в курсе.
— Что?! — Денисон повернулся на каблуках так резко, что чуть не опрокинулся на спину. Из-под его ног вырвалось облако пыли.
Они все трое стояли лицом к пионотрону. Над ним на высоте человеческого роста пылала огненная точка, похожая на пухлую звезду.
— Я увеличила напряженность магнитного поля, — сказала Селена, — а ядерное поле оставалось устойчивым, не менялось, потом началось рассеивание, усилилось и…
— Образовалась протечка! — докончил Денисон. — Чёрт! А я и не видел, как это произошло.
— Я прошу у вас прощения, Бен, — сказала Селена. — Но ведь сначала вы о чём-то задумались. Потом явился мистер Готтштейн, и я не удержалась от соблазна попробовать самой.
— Объясните же, что я, собственно, вижу, — попросил Готтштейн.
— Вы наблюдаете спонтанное излучение энергии веществом, которое просачивается из другой вселенной в нашу, — сказал Денисон.
Едва он договорил, как свет над пионотроном вдруг погас, и одновременно в сотне шагов от них вспыхнула другая, чуть более тусклая звезда.
Денисон кинулся к пионотрону, но Селена с лунной грацией стремительно скользнула вперёд и оказалась там намного раньше его. Она отключила поле, и дальняя звезда погасла.
— Видите ли, место протечки неустойчиво, — сказала она.
— В весьма малой степени, — возразил Денисон. — Учитывая, что смещение на один световой год теоретически так же возможно, как и смещение на сотню ярдов, эти сто ярдов можно считать чудом устойчивости.
— И тем не менее такого чуда ещё мало, — категорически заявила Селена.
— Простите, так ли я понял то, о чём вы говорите? — перебил их Готтштейн. — Значит, вещество может просачиваться в нашу вселенную и тут, и там, и где угодно?
— Вовсе не где угодно, — ответил Денисон. — Вероятность протечки падает с увеличением расстояния до пионотрона, причем очень стремительно. Зависит это от целого ряда факторов, и, должен сказать, нам удалось добиться просто поразительной устойчивости. Тем не менее смещение на несколько сотен ярдов не исключено, чему вы сами были свидетелем.
— А не могла ли она сместиться в город или внутрь наших скафандров?
— Да нет же! — с досадой ответил Денисон. — Возможность протечки — во всяком случае, такой, какую можно получить с помощью наших методов, — определяется, в частности, плотностью вещества, уже присутствующего в нашей вселенной. Вероятность того, что место протечки сместится из вакуума туда, где атмосфера будет иметь хоть одну сотую плотности воздуха в городе или внутри наших скафандров, практически равна нулю. Попытка добиться протечки где-нибудь ещё, кроме вакуума, заведомо обречена на неудачу — вот почему мы сразу начали свои эксперименты здесь, на поверхности.
— Значит, ваша установка не похожа на Электронный Насос?
— Нисколько, — сказал Денисон. — Электронный Насос осуществляет обмен веществом. А тут мы имеем дело с однонаправленной протечкой. Да и поступает это вещество не из паравселенной, а совсем из другой.
— Не поужинаете ли вы у меня сегодня, доктор Денисон? — вдруг спросил Готтштейн.
— Вы приглашаете только меня? — нерешительно спросил Денисон.
Готтштейн любезно поклонился в сторону Селены. Впрочем, поклон этот не сделал бы чести и цирковому медведю.
— Я буду счастлив видеть мисс Линдстрем у себя в любой другой день, — сказал он, — но на этот раз мне необходимо поговорить с вами наедине, доктор Денисон.
— Идите, идите, — деловито распорядилась Селена, заметив, что Денисон всё ещё колеблется. — Завтра я принимаю новую группу туристов, а вам нужно время, чтобы подумать о том, как устранить неустойчивость протечки.
— Ну, в таком случае… Селена, а вы сообщите мне, когда у вас будет следующий выходной?
— По-моему, я этого от вас ещё ни разу не скрыла. Да мы и раньше встретимся… Собственно, вы оба уже можете отправляться ужинать, а я отключу приборы.
Глава 15
Бэррон Невилл переминался с ноги на ногу — будь комната обширнее, а сила тяжести побольше, он метался бы из утла в угол, но в лунных условиях он только делал скользящий шаг то вправо, то влево, не двигаясь с места.
— Значит, ты утверждаешь, что установка работает? Это верно, Селена? Ты не ошиблась?
— Нет, я не ошиблась, — ответила Селена. — Повторяю это в пятый раз. Я считала.
Но Невилл, казалось, не слышал её. Он сказал торопливым шёпотом:
— Следовательно, появление Готтштейна ничему не помешало? Он не пытался прекратить эксперимент?
— Нет. С какой стати?
— И не было никаких признаков, что он намерен употребить власть…
— Послушай, Бэррон, какую, собственно, власть он мог бы употребить? Земля пришлет сюда полицейских или как? И ведь… ты знаешь, что они не могут нас остановить.
Невилл вдруг застыл без движения.
— Они не знают? Всё ещё не знают?
— Конечно, нет. Бен смотрел на звёзды, а потом явился Готтштейн. И я попробовала добиться протечки поля, что мне удалось. А то, другое, получилось раньше. Установка Бена…
— При чем тут он? Это же была твоя идея.
Селена покачала головой.
— Я высказала только неопределённую догадку. Вся разработка принадлежит ему.
— Но ведь ты можешь точно всё воспроизвести? Ради всего лунного, не обращаться же нам за этим к земляшке!
— Я думаю, что сумею воспроизвести достаточно полно для того, чтобы наши сами смогли довести всё до конца.
— Ну ладно. Так идём!
— Погоди, Бэррон. Не торопись.
— Почему?
— Нам ведь нужна и энергия.
— Но мы же её получили!
— Не совсем. Место протечки неустойчиво. Крайне неустойчиво.
— Это, по-видимому, можно устранить, ты же сама сказала.
— Я сказала, что мне так кажется.
— Для меня этого вполне достаточно.
— И всё-таки будет лучше, если Бен доведёт дело до конца и добьётся полной устойчивости.
Наступила напряженная пауза. Худое лицо Невилла исказилось, стало враждебным.
— Ты думаешь, что я этого сделать не сумею? Так?
— Ты выйдешь со мной на поверхность, чтобы продолжать работу? — спросила Селена.
Вновь наступило молчание. Потом Невилл сказал сквозь стиснутые зубы:
— Твой сарказм неуместен. И я не хочу долго ждать.
— Я ведь не могу приказывать законам природы. Но думаю, долго ждать тебе не придётся… А теперь, с твоего разрешения, я хотела бы вернуться к себе и лечь спать. У меня завтра с раннего утра туристы.
Невилл взглянул в сторону своей спальной ниши, как будто собираясь пригласить её остаться, но ничего не сказал. Селена, словно ничего не заметив, устало кивнула ему и ушла.
Глава 16
— Откровенно говоря, я надеялся, что мы будем видеться чаще, — сказал Готтштейн с улыбкой, нагибаясь над липкой и приторно-сладкой массой, которую подали на десерт.
— Ваш любезный интерес к моей работе для меня очень лестен, — сказал Денисон. — Если устойчивость протечки удастся устранить, то, пожалуй, моё открытие — то есть моё и мисс Линдстрем, разумеется, — будет иметь довольно большое значение.
— Вы говорите с обычной для ученого осмотрительностью… Я не стану оскорблять вас, предлагая вам лунную замену ликера. Как ни твёрдо моё решение пользоваться только лунными продуктами, эту пародию на земные напитки я всё-таки пить не в силах… Не могли бы вы объяснить мне, как человеку, далекому от науки, в чём, собственно, заключается значение вашего открытия?
— Попробую, — осторожно сказал Денисон. — Начнем с паравселенной. Сильное ядерное взаимодействие в ней интенсивнее, чем у нас, а потому в паравселенной реакция синтеза, поддерживающая горение звезды, требует относительно малого количества протонов. Массы вещества, эквивалентные нашим звездам, в паравселенной мгновенно взрывались бы — там существует несравненно больше звезд, чем у нас, но они гораздо меньше наших. Теперь вообразим мир, в котором сильное ядерное взаимодействие заметно менее интенсивно, чем у нас. В этом случае даже колоссальные количества протонов будут стремиться к слиянию настолько слабо, что для поддержания жизни звезды потребуется гигантское количество водорода. Такая антипаравселенная, то есть вселенная, противоположная по своим свойствам паравселенной, будет содержать гораздо меньше звезд, чем наша, но уж эти звёзды будут огромными. Собственно говоря, если бы сильное ядерное взаимодействие можно было в необходимой степени ослабить, получилась бы вселенная, состоящая всего из одной звезды, которая включала бы всё вещество этой вселенной. Такая звезда обладала бы неимоверной плотностью, но реакции протекали бы в ней чрезвычайно медленно, а её излучение, возможно, было бы примерно таким же, как у нашего Солнца.
— Если я не ошибаюсь, — перебил его Готтштейн, — существует теория, что именно такой была наша собственная вселенная до Большого Взрыва — единым колоссальным телом, включавшим всё вещество вселенной.
— Совершенно верно, — сказал Денисон. — Собственно говоря, антипаравселенная, которую я обрисовал, представляет собой то, что некоторые называют «космическим яйцом», или сокращенно «космо». И для того, чтобы получить одностороннюю протечку, нам необходима как раз такая космовселенная. Паравселенная с её крохотными звездами представляет собой практически пустое пространство. Можно зондировать её без конца, но так ни на что и не наткнуться.
— Но ведь паралюди нас отыскали?
— Да. Возможно, они ориентировались по магнитным полям. Однако есть основания полагать, что у планет паравселенной магнитных полей нет вовсе либо они очень слабы, а это крайне затрудняет наши поиски. Зондируя же космовселенную, мы просто не можем потерпеть неудачу. Ведь космо — уже само по себе целая вселенная, и, в каком бы месте в неё ни проникнуть, мы всюду наткнемся на вещество.
— Но как вы осуществляете зондирование?
Денисон ответил после краткого молчания:
— Вот это мне объяснить трудно. Связующим звеном сильного ядерного взаимодействия являются пионы. Интенсивность взаимодействия зависит от массы пионов, а массу эту в некоторых специфических условиях можно изменить. Лунные физики разработали пионотрон — прибор, который позволяет создать необходимые условия. Стоит уменьшить или увеличить массу пиона, и он становится частью какой-то другой вселенной — входом в неё, пограничным пунктом. Если снизить массу до соответствующей степени, пион окажется частью космовселенной, чего мы и добиваемся.
— И можно всасывать вещество из… космовселенной? — спросил Готтштейн.
— Ну, это-то просто. С появлением входа вещество начинает просачиваться к нам само. В этот момент оно подчиняется собственным законам и сохраняет устойчивость. Затем в него постепенно начинают проникать законы нашей вселенной, сильное ядерное взаимодействие становится в нём более интенсивным, происходит ядерное слияние и высвобождается огромное количество энергии.
— Но если оно сверхплотно, то почему не расширяется мгновенно и не исчезает?
— Даже это дало бы энергию. Но тут большую роль играет электромагнитное поле, и в данном случае поле битвы остаётся за сильным ядерным взаимодействием, так как мы контролируем электромагнитное поле. Но чтобы объяснить это более или менее научно, мне потребуется очень много времени.
— Значит, светящийся шар, который я видел на поверхности, не что иное, как космовешество, в котором началось слияние ядер?
— Совершенно верно.
— И эту энергию можно использовать для полезных целей?
— Конечно. И в неограниченных количествах. Ведь вы наблюдали появление в нашей вселенной всего лишь микромикрограмма космовещества. А теоретически его можно получать хоть тоннами.
— Так, значит, мы можем теперь отказаться от Электронного Насоса?
Денисон покачал головой.
— Нет. Использование космоэнергии также меняет свойства вселенной. По мере обмена физическими законами сильное ядерное взаимодействие постепенно становится всё более интенсивным в космовселенной и всё менее интенсивным — в нашей. В результате скорость ядерного слияния в космическом яйце нарастает, и оно нагревается. И в конце концов…
— И в конце концов, — подхватил Готтштейн, задумчиво прищурившись и скрестив руки на груди, — происходит Большой Взрыв.
— Вот именно.
— По-вашему, как раз это и произошло в нашей вселенной десять миллиардов лет назад?
— Кто знает? Космогонисты всё ещё ломают голову над тем, почему космическое яйцо взорвалось тогда, когда оно взорвалось, а не раньше и не позже. Одно из предложенных объяснений предполагало существование пульсирующей вселенной, в которой космическое яйцо взрывается, едва образовавшись. Гипотеза эта была отвергнута, и, по последним предположениям, космическое яйцо существует значительный отрезок времени, а затем по неизвестным причинам утрачивает устойчивость.
— И возможно, это происходит потому, что его энергию начинает заимствовать другая вселенная?
— Вполне вероятно. Но это вовсе не подразумевает обязательного вмешательства разумных существ. Не исключено возникновение и самопроизвольных протечек.
— А когда Большой Взрыв произойдёт, мы по-прежнему сможем добывать энергию из космовселенной?
— Не берусь судить, но пока об этом можно не думать. Скорее всего проникновение нашего сильного ядерного взаимодействия в космовселенную будет длиться миллионы лет, прежде чем оно достигнет критического уровня. А к тому же, безусловно, существуют и другие космовселенные, причем число их бесконечно.
— Ну а изменения в нашей вселенной?
— Сильное ядерное взаимодействие ослабевает. И медленно, чрезвычайно медленно наше Солнце остывает.
— А мы сможем компенсировать его остывание с помощью космоэнергии?
— Этого не понадобится! — убеждённо воскликнул Денисон. — По мере того как сильное ядерное взаимодействие в нашей вселенной станет ослабляться в результате действия космонасоса, оно в равной степени будет возрастать благодаря Электронному Насосу. Если мы начнем получать энергию таким двойным способом, физические законы будут меняться в пара-и космовселенной, но у нас останутся неизменными. Мы в данном случае — перевалочный пункт, а не конечная станция. Впрочем, за судьбу конечных станций нам тоже тревожиться нечего. Паралюди, по-видимому, как-то приспособились к остыванию своего солнца, которое никогда особенно горячим не было. Ну а в космовселенной, бесспорно, никакой жизни быть не может. Собственно говоря, создавая там условия для Большого Взрыва, мы тем самым открываем путь к развитию новой вселенной, в которой со временем может возникнуть жизнь.
Готтштейн задумался. Его круглое лицо было спокойным и непроницаемым. Несколько раз он кивал, как будто отвечая на собственные мысли, а потом сказал:
— Знаете, Денисон, а ведь это заставит мир прислушаться! Теперь уже никто не захочет отрицать, что Электронный Насос сам по себе опасен.
— Да, внутреннее нежелание признать его опасность исчезнет, поскольку доказательство её уже само по себе предлагает оптимальный выход из положения, — согласился Денисон.
— К какому сроку вы можете подготовить статью? Я гарантирую, что она будет опубликована немедленно.
— А вы можете дать такую гарантию?
— Если ничего другого не останется, я опубликую её отдельной брошюрой по своему ведомству.
— Сначала нужно найти способ стабилизировать протечку.
— Да, конечно.
— А пока я хотел бы договориться с доктором Питером Ламонтом о соавторстве, — сказал Денисон. — Он мог бы взять на себя математическую часть — мне она не по силам. К тому же направление моих исследований мне подсказала его теория. И ещё одно, мистер Готтштейн…
— А именно?
— По-моему, совершенно необходимо, чтобы в этом участвовали лунные физики. Скажем, третьим автором вполне мог бы стать доктор Бэррон Невилл.
— Но зачем? К чему ненужные осложнения?
— Без их пионотрона мне ничего не удалось бы сделать.
— В таких случаях, по-моему, достаточно просто выразить в статье благодарность… А разве доктор Невилл работал с вами?
— Непосредственно? Нет.
— Так зачем же вмешивать ещё и его?
Денисон старательно стряхнул соринку с брюк.
— Так будет дипломатичнее, — сказал он. — Ведь космонасосы придётся устанавливать на Луне.
— А почему не на Земле?
— Ну, во-первых, нам нужен вакуум. Это ведь односторонняя передача вещества, а не двусторонняя, как в Электронном Насосе, а потому для неё требуются другие условия. Поверхность Луны предоставляет в наше распоряжение естественный и неограниченный вакуум, тогда как создание необходимого вакуума на Земле потребует колоссальных усилий и материальных затрат.
— Но тем не менее это возможно?
— Во-вторых, — продолжал Денисон, пропуская его вопрос мимо ушей, — если поместить слишком близко друг от друга два столь мощных источника энергии, поступающей, так сказать, с противоположных концов шкалы, в середине которой находится наша вселенная, может произойти своего рода короткое замыкание. Четверть миллиона миль вакуума, разделяющие Землю с её Электронными Насосами и Луну с космонасосами, послужит надёжной, а вернее сказать, совершенно необходимой изоляцией. Ну а раз нам придётся использовать Луну, то благоразумие, да и простая порядочность требуют, чтобы мы считались с самолюбием лунных физиков и привлекли их к работе.
— Так рекомендует мисс Линдстрем? — улыбнулся Готтштейн.
— Думаю, она была бы того же мнения, но идея эта настолько очевидна, что я додумался до неё сам.
Готтштейн встал и трижды подпрыгнул на месте, поднимаясь и опускаясь с обычной на Луне жутковатой медлительностью. При этом он ритмично сгибал и разгибал колени. Потом снова сел и осведомился:
— Вы пробовали это упражнение, доктор Денисон?
Денисон покачал головой.
— Его рекомендуют для ускорения кровообращения в нижних конечностях. Вот я и прыгаю всякий раз, когда чувствую, что отсидел ногу. Мне вскоре предстоит съездить на Землю, и я стараюсь не слишком привыкать к лунной силе тяжести… Не поговорить ли нам с мисс Линдстрем, доктор Денисон?
— О чём, собственно? — спросил Денисон изменившимся тоном.
— Она гид.
— Да. И вы это уже говорили.
— И ещё я говорил, что физик, казалось бы, мог выбрать себе не столь странную помощницу.
— Я ведь физик-любитель, так почему бы мне и не выбрать помощницу без профессиональных навыков?
— Довольно шуток, доктор Денисон! — Готтштейн больше не улыбался. — Я позаботился навести о ней справки. Её биография крайне интересна, хотя, по-видимому, никому и в голову не приходило ознакомиться с ней. Я твёрдо убеждён, что она интуистка.
— Как и очень многие из нас, — заметил Денисон. — Не сомневаюсь, что и вы по-своему интуист. А уж я — во всяком случае. По-своему, конечно.
— Тут есть некоторая разница, доктор Денисон. Вы — профессиональный учёный, и притом блестящий. Я — профессиональный администратор, и, надеюсь, неплохой. А мисс Линдстрем работает гидом, хотя её интуиция настолько развита, что может помочь вам в решении сложнейших вопросов теоретической физики.
— Она почти не получила специального образования, — поколебавшись, ответил Денисон. — И хотя её интуитивизм очень высокого порядка, он почти не коррелируется с сознанием.
— Не был ли кто-нибудь из её родителей в своё время связан с программой по генетическому конструированию?
— Не знаю. Но меня это не удивило бы.
— Вы ей доверяете?
— В каком смысле? Она мне во многом помогла.
— А вам известно, что она жена доктора Бэррона Невилла?
— Насколько я знаю, их отношения официально не оформлены.
— На Луне официальное оформление браков вообще не принято. А не тот ли это Невилл, которого вы намерены пригласить в соавторы вашей статьи?
— Да.
— Простое совпадение?
— Нет. Невилл интересовался мной и, по-моему, попросил Селену помогать мне.
— Это она вам сказала?
— Она сказала, что он мной интересуется. Мне кажется, ничего странного тут нет.
— А вам не приходило в голову, доктор Денисон, что она помогала вам в собственных интересах и в интересах доктора Невилла?
— Разве их интересы расходятся с нашими? Она помогала мне без каких-либо условий.
Готтштейн переменил позу и подвигал плечами, словно проделывая очередное упражнение.
— Доктор Невилл не может не знать, что его близкая приятельница — интуистка, — сказал он. — И было бы только естественно, если бы он сам использовал её способности. Так почему она работает гидом? Не для того ли, чтобы с какой-то целью маскировать эти способности?
— Такая логика, насколько мне известно, типична для доктора Невилла. У меня же нет привычки повсюду подозревать бессмысленные заговоры.
— Но почему вы решили, что бессмысленные? Когда моя космоблоха висела над лунной поверхностью за несколько минут до того, как над вашей установкой образовался пылающий шарик, я глядел вниз, на вас. Вы стояли в стороне от пионотрона.
Денисон попытался вспомнить.
— Совершенно верно. Я загляделся на звёзды. Поднимаясь на поверхность, я всегда на них смотрю.
— А что делала мисс Линдстрем?
— Я не видел. Она ведь сказала, что усиливала магнитное поле, пока не возникла протечка.
— И она всегда работает с установкой без вас?
— Нет. Но её нетерпение понять нетрудно.
— Должен ли этот процесс сопровождаться каким-нибудь выбросом?
— Я вас не понимаю.
— И я себя тоже. В земном сиянии промелькнула какая-то смутная искра, словно что-то пролетело мимо. Но что именно — я не знаю.
— И я не знаю, — сказал Денисон.
— Но это не могло быть каким-нибудь естественным побочным следствием вашего эксперимента?
— Вроде бы нет.
— Так что же делала мисс Линдстрем?
— Не знаю.
Оба умолкли. Молчание становилось всё напряженнее. Потом Готтштейн сказал:
— Насколько я понял, вы теперь попробуете устранить неустойчивость протечки и начнете работать над статьей. Я со своей стороны предприму необходимые шаги, а когда буду на Земле, подготовлю опубликование статьи и сообщу о вашем открытии ответственным лицам.
Денисон понял, что разговор окончен, и встал. Готтштейн добавил с непринуждённой улыбкой:
— И подумайте о докторе Невилле и мисс Линдстрем.
Глава 17
На этот раз звезда была гораздо более пухлой и яркой. Денисон почувствовал её жар на стекле скафандра и попятился. В излучении, несомненно, присутствовали рентгеновские лучи, и, хотя в надёжности экранирования сомневаться не приходилось, всё-таки не стоило заставлять его работать на полную мощность.
— По-моему, это то, что надо, — пробормотал Денисон. — Полная устойчивость.
— Безусловно, — сказала Селена.
— Ну, так отключим и вернёмся в город.
Их движения были вялыми и медлительными. Денисон ощущал непонятный упадок духа. Все волнения остались позади. Теперь уже можно было не опасаться неудачи. Соответствующие земные организации зарегистрировали новое открытие, и дальше всё будет зависеть не от него. Он сказал:
— Пожалуй, можно приступать к статье.
— Наверное, — осторожно ответила Селена.
— Вы поговорили с Невиллом ещё раз?
— Да.
— Он не изменил своего решения?
— Нет. Он участвовать не будет. Бен…
— Что?
— Я убеждена, что уговаривать его нет смысла. Он не желает участвовать в программе, какой бы она ни была, если в ней участвует Земля.
— Но вы объяснили ему ситуацию?
— Во всех подробностях.
— И он всё-таки не хочет…
— Он сказал, что будет говорить с Готтштейном. Тот обещал принять его, когда вернется с Земли. Может быть, Готтштейну удастся его переубедить. Но не думаю.
Денисон пожал плечами — жест совершенно бессмысленный, поскольку скафандру он не передался.
— Я его не понимаю.
— А я понимаю, — негромко сказала Селена.
Денисон промолчал. Он закатил пионотрон и остальную аппаратуру в каменную нишу и спросил:
— Всё?
— Да.
Они молча вошли в тамбур П-4. Денисон начал медленно спускаться по лестнице. Селена скользнула мимо, хватаясь за каждую третью перекладину. Денисон уже и сам умел спускаться этим способом достаточно ловко, но на сей раз он тяжело переступал с перекладины на перекладину, словно назло собственному желанию приспособиться к Луне.
В раздевальне они сняли скафандры и убрали их в шкафчики. Только тут Денисон наконец сказал:
— Вы не пообедаете со мной, Селена?
— Вы чем-то расстроены? — спросила она встревоженно. — Что случилось?
— Да ничего. Просто в таких случаях всегда возникает ощущение растерянности и пустоты. Так как насчёт обеда?
— С удовольствием.
По настоянию Селены они отправились обедать к ней. Она объяснила:
— Мне надо поговорить с вами, а в кафетерии это неудобно.
И вот теперь, когда Денисон вяло пережевывал нечто отдаленно напоминавшее телятину под ореховым соусом, Селена вдруг сказала:
— Бен, вы всё время молчите. И так уже неделю.
— Ничего подобного! — возразил Денисон, сдвинув брови.
— Нет, это так! — Она поглядела на него с дружеской озабоченностью. — Не знаю, много ли стоит моя интуиция вне физики, но, по-моему, вас тревожит что-то, о чём вы не хотите мне рассказать.
Денисон пожал плечами.
— На Земле поднялся шум. Готтштейн перед отъездом туда нажимал на кнопки величиной с тарелку. Доктор Ламонт ходит в героях, и меня приглашают вернуться, как только статья будет написана.
— Вернуться на Землю?
— Да. По-видимому, и я попал в герои.
— И вполне заслуженно.
— Полное признание моих заслуг — вот что мне предлагают, — задумчиво произнес Денисон. — Любой университет, любое государственное учреждение будут счастливы предложить мне место на выбор.
— Но ведь вы этого и хотели?
— Хочет этого, по-моему, Ламонт. И хочет, и, несомненно, получит, и будет рад. А я не хочу.
— Так чего же вы хотите?
— Остаться на Луне.
— Почему?
— Потому что это клинок человечества, и я хочу быть частью его острия. Я хочу заняться установкой космонасосов, а устанавливать их будут только здесь, на Луне. Я хочу работать над паратеорией с помощью приборов, которые способна создать ваша мысль, Селена… Я хочу быть с вами. Но вы, Селена, вы останетесь со мной?
— Паратеория интересует меня так же, как и вас.
— А разве Невилл позволит вам продолжать?
— Бэррон? Мне? Вы стараетесь оскорбить меня, Бен?
— Что вы!
— Или я неправильно вас поняла? Вы ведь намекнули, что я работаю с вами по указанию Бэррона?
— А разве не так?
— Да, он мне это предложил. Но работала я с вами не потому. Я сама этого захотела. Вероятно, он воображает, будто может мной распоряжаться по своему усмотрению, но это верно лишь до тех пор, пока его желания совпадают с моими — вот как было в случае с вами. Меня возмущает, что он думает, будто я ему подчинена, и меня возмущает, что так думаете вы.
— А ваши отношения?
— Но при чем тут это? Если рассуждать подобным образом, то почему, собственно, он должен распоряжаться мной, а не я им?
— Так, значит, вы можете и дальше работать со мной, Селена?
— Конечно, — ответила она холодно. — Если захочу.
— Но вы хотите?
— Пока да.
И тут Денисон улыбнулся.
— Теперь я понимаю, что всю эту неделю меня грызла тревога — а вдруг вы не захотите или не сможете. И я подсознательно боялся завершения экспериментов: ведь это могло означать, что мы с вами расстанемся. Простите меня, Селена. Я не хочу докучать вам сентиментальной привязанностью дряхлого земляшки…
— Ну, ваш интеллект, Бен, дряхлым никак не назовешь. Да и вообще привязанности бывают разными. Мне нравится разговаривать с вами.
Наступило молчание. Улыбка Денисона увяла. Потом он снова улыбнулся, но уже механически.
— Завидую своему интеллекту, — пробормотал он, отвернулся, покачал головой и опять поглядел на Селену.
Она смотрела на него внимательно, почти с тревогой.
— Селена, — сказал он, — протечка между вселенными не исчерпывается только энергией. По-моему, вы об этом уже думали.
Молчание затягивалось, становилось мучительным, и наконец Селена сказала:
— Ах это…
Они продолжали смотреть друг на друга — Денисон смущенно, а Селена почти виновато.
Глава 18
— Я пока не обрел свою лунную форму, — сказал Готтштейн. — Но знали бы вы, Денисон, чего мне стоило обрести земную форму! А вам, пожалуй, это и вовсе не удастся. Так что лучше оставьте всякую мысль о возвращении.
— Я не думаю об этом, — сказал Денисон.
— Жаль, конечно. Вы были бы там первым человеком. Ну а Хэллем…
— Мне хотелось бы поглядеть на его физиономию, — вздохнул Денисон с некоторой грустью. — Впрочем, это не слишком похвальное желание.
— Львиная доля, конечно, достанется Ламонту. Он ведь там, в самой гуще событий.
— Я рад. Он меньшего и не заслуживает… Так вы считаете, что Невилл действительно придёт?
— Безусловно. Я жду его с минуты на минуту… А знаете что? — произнес Готтштейн заговорщицким шёпотом. — Пока его ещё нет… Хотите шоколадный батончик?
— Что?
— Шоколадный батончик. С миндальной начинкой. Но только один! У меня их мало.
Недоумение на лице Денисона сменилось недоверчивой улыбкой.
— Настоящий шоколад?
— Да.
— Ну коне… — Вдруг его лицо посуровело. — Нет, спасибо.
— Нет?
— Нет! Пока шоколад будет таять у меня во рту, я затоскую по Земле. По всему, что есть на ней. А этого я себе позволить не могу и не хочу… Не угощайте меня шоколадом. Не показывайте мне его. Я даже запаха его боюсь.
Готтштейн смутился.
— Вы правы, — сказал он и неловко переменил тему: — Сенсация вышла колоссальная. Конечно, мы попытались замять скандал с Хэллемом. Он сохранит какой-нибудь из своих почетных постов, однако реального влияния у него не будет.
— Сам он с другими так не деликатничал, — заметил Денисон, но без особого жара.
— Это ведь не ради него. Наука не может не понести значительного ущерба, если вдруг объявить дутым авторитет, который столько времени слыл непререкаемым. А добрая слава науки важнее личной судьбы Хэллема.
— Я принципиально с этим не согласен, — возразил Денисон. — Наука должна честно признавать свои ошибки.
— Всему есть время и место… А, вот и доктор Невилл!
Готтштейн придал своему лицу непроницаемое выражение, а Денисон повернулся к двери.
Бэррон Невилл вошёл тяжелой походкой, лишенной какого то ни было лунного изящества. Он отрывисто поздоровался, сел, заложив ногу на ногу, и выжидательно посмотрел на Готтштейна. Было совершенно ясно, что первым он не заговорит.
Представитель Земли сказал:
— Рад вас видеть, доктор Невилл. Я узнал от доктора Денисона, что вы не захотели поставить своё имя под статьей о космонасосе, которая, как мне кажется, обещает стать классическим основополагающим трудом в этой области.
— А зачем мне это? — сказал Невилл. — То, что происходит на Земле, меня не интересует.
— Вам известны эксперименты с космонасосом? И их значение?
— Да, конечно. Я в курсе всего происходящего, так же как вы или доктор Денисон.
— Тогда я обойдусь без предисловий. Я только что вернулся с Земли с точными планами на будущее. Три большие космостанции будут построены в трех точках лунной поверхности, выбранных с таким расчётом, что хотя бы одна из них в каждый данный момент будет обязательно находиться в ночной тени. А чаще и две. Каждая станция, пока она остаётся в тени, будет вырабатывать энергию, в основном просто излучая её в пространство. Главное назначение этих станций — компенсация нарушений в напряженности поля, вызываемых Электронным Насосом.
— В ближайшие годы, — перебил Денисон, — они должны работать с большой мощностью, чтобы восстановить в нашем секторе вселенной то положение, которое было до появления Насоса.
Невилл кивнул.
— А Лунный город сможет пользоваться этой энергией? — спросил он затем.
— В случае необходимости. По нашему мнению, солнечные аккумуляторы вполне обеспечивают вас энергией. Но если вам понадобится дополнительный источник…
— Очень любезно с вашей стороны, — с подчеркнутой иронией сказал Невилл. — А кто будет строить космостанции и следить за их работой?
— Мы надеемся, что луняне, — сказал Готтштейн.
— Вы знаете, что луняне! — возразил Невилл. — Землянам никогда с такой задачей не справиться.
— Мы это понимаем и надеемся на сотрудничество лунных граждан, — сказал Готтштейн официальным тоном.
— А кто будет решать, сколько надо вырабатывать энергии, какое её количество использовать для местных нужд и сколько излучать в пространство? Кто будет принимать решения?
— Это установка общепланетного значения, — ответил Готтштейн. — И ведать ими будет специальная организация.
— Как видите, работать будут луняне, а руководить земляне, — объявил Невилл.
— Нет, — спокойно ответил Готтштейн. — Речь идёт о простой целесообразности, и только.
— Это всё слова. А суть одна: мы работаем, вы решаете… Нет, господин представитель Земли. Мы отвечаем — нет.
— То есть вы отказываетесь строить космостанцию?
— Мы их построим, господин представитель, но они будут нашими. И мы сами будем решать, сколько энергии получать и как её использовать.
— Всё это не так просто. Вам ведь постоянно придётся поддерживать контакт с Землей, поскольку энергия космонасосов должна точно уравновешивать энергию Электронных Насосов.
— В какой-то мере так оно и будет. Но у нас другие планы. Я могу познакомить вас с ними теперь же. При соприкосновении вселенных неисчерпаемой становится не только энергия.
— Мы отдаем себе отчет в том, что закон сохранения не ограничивается одной энергией, — перебил Денисон.
— Вот и прекрасно! — Невилл смерил его враждебным взглядом. — Такому же закону подчиняется также количество движения и угловой момент. До тех пор пока предмет реагирует с полем тяготения, в котором он находится, и только с ним, он пребывает в состоянии свободного падения и сохраняет массу. Для того чтобы он начал двигаться в другом направлении, ему необходимо приобрести ускорение, а для этого какая-то часть должна претерпеть обратное движение.
— Как ракетный корабль, — перебил Денисон, — который выбрасывает некоторую массу в одном направлении, чтобы двигаться с ускорением в противоположном.
— Я не сомневаюсь, что вам это известно, доктор Денисон, — сухо сказал Невилл. — Я объясняю мистеру Готтштейну. Потеря массы может быть сведена до минимума, если скорость её отбрасывания резко возрастет, поскольку количество движения равно произведению массы на скорость. Тем не менее даже при самой колоссальной скорости какая-то масса должна отбрасываться. Если же необходимо придать ускорение колоссальной массе, то и отбрасывать придётся тоже колоссальную массу. Если, например, Луну…
— Как — Луну?! — воскликнул Готтштейн.
— Именно Луну, — невозмутимо ответил Невилл. — Если Луну потребовалось бы сдвинуть с орбиты и выбросить за пределы Солнечной системы, закон сохранения количества движения оказался бы, по всей вероятности, неодолимым препятствием. Но если бы удалось перенести импульс в другую вселенную, Луне можно было бы придать любое ускорение без какой-либо потери массы. Так на Земле, если судить по картинке в книге, которую я читал в детстве, вы плывете на плоту против течения, отталкиваясь с помощью шеста.
— Но для чего? То есть для чего вам нужно придавать ускорение Луне?
— Неужели это не ясно? К чему нам душное соседство Земли? У нас есть необходимая нам энергия и удобный мир, который мы можем осваивать ещё много столетий. Так почему бы нам и не отправиться куда-нибудь ещё? И мы это сделаем. Я пришёл сообщить вам, что воспрепятствовать нам вы не можете, а потому для всех будет лучше, если вы не станете вмешиваться. Мы передадим импульс в космовселенную и сойдём с орбиты. Как строить космостанции, нам известно. Мы будем производить всю необходимую нам энергию, а также избыток для нейтрализации изменений, которые возникают из-за работы ваших собственных силовых установок.
— Очень любезно с вашей стороны производить ради нас избыточную энергию, — насмешливо сказал Денисон. — Но объясняется это, конечно, отнюдь не вашим альтруизмом. Ведь если этого не сделать, Электронный Насос взорвёт Солнце ещё задолго до того, как вы пересечете хотя бы орбиту Марса, и от вас тоже останется только облачко газа.
— Не спорю, — сказал Невилл. — Но мы будем производить избыточную энергию, так что этого не произойдёт.
— Нет, это невозможно! — с тревогой воскликнул Готтштейн. — Вы не должны покидать свою орбиту. Ведь тогда вы удалитесь на большое расстояние, космостанции уже не будут нейтрализовать действие Электронных Насосов. Так ведь, Денисон?
Денисон пожал плечами.
— Когда они уйдут за орбиту Сатурна, могут начаться неприятности, если я сейчас правильно всё прикинул. Но для этого им понадобится столько лет, что мы вполне успеем построить космостанции и вывести их на бывшую лунную орбиту. Собственно говоря, мы в Луне не нуждаемся. И она может отправляться куда ей заблагорассудится. Но только она останется тут.
— Это почему же? — с легкой улыбкой спросил Бэррон. — Нас остановить невозможно. У землян нет способа навязать нам свою волю.
— Луна останется тут потому, что тащить её куда-нибудь всю целиком бессмысленно. Чтобы придать такой массе сколько-нибудь заметное ускорение, понадобятся годы и годы. Вы будете ползти. Лучше начните строительство космических кораблей. Гигантов в милю длиной с самодостаточной экологией, а энергию им будет обеспечивать собственный космонасос. Снабдите их космодвигателями, и вы будете творить чудеса. Даже если на строительство кораблей понадобится двадцать лет, они меньше чем за год достигнут той точки, в которой оказалась бы к тому времени Луна, начни она своё движение сегодня. И курс такие корабли будут способны менять за ничтожную долю времени, которое потребовалось бы на подобный манёвр Луне.
— А некомпенсированные космостанции? Что они натворят со вселенной?
— Энергия, нужная кораблю или даже целому флоту, будет заметно меньше той, которая потребовалась бы для движения планеты, к тому же она будет распределяться по огромным областям вселенной. Пройдут миллионы лет, прежде чем изменения станут хоть сколько-нибудь значительными. Зато вы приобретете маневренность. Луна же будет двигаться так медленно, что нет смысла сталкивать её с места.
— А мы никуда не торопимся, — презрительно бросил Невилл. — Нам нужно только одно — избавиться от соседства с Землей.
— Но ведь это соседство Луне даёт немало полезного. Приток иммигрантов, культурный обмен. Да и просто сознание, что совсем рядом — живая жизнь, люди, разум. И вы хотите отказаться от всего этого?
— С радостью!
— Все луняне? Или лично вы? Вы ведь нетипичны, Невилл. Вы боитесь выходить на поверхность. А другие луняне выходят — может быть, без особого удовольствия, но и без страха. Для них недра Луны — не единственный возможный мир, как для вас. Для них они не тюрьма, как для вас. Вы страдаете неврозом, от которого другие луняне свободны, — во всяком случае, такой степени он не достигает ни у кого. Но если вы уведёте Луну от Земли, вы сделаете из неё тюрьму для всех. Она превратится в планету-темницу, все обитатели которой — как пока ещё вы один — начнут бояться её поверхности, откуда уже не будет виден другой обитаемый мир. Но возможно, вам как раз это и нужно?
— Мне нужна независимость. Мне нужен мир, который был бы полностью свободен от посторонних влияний.
— Так стройте корабли. В любом количестве. Едва вам удастся передать импульс в космовселенную, как вы без труда достигнете скорости, близкой к скорости света. Вы сможете исследовать нашу Галактику на протяжении жизни одного поколения. Неужели вы не хотите отправиться в путь на таком корабле?
— Нет, — ответил Невилл брезгливо.
— Не хотите или не можете? Или, куда бы вы ни отправлялись, вам необходимо тащить с собой всю Луну? Так почему же вы навязываете свою идиосинкразию всем остальным?
— Потому что так будет, и всё! — отрезал Невилл.
Денисон сказал ровным тоном, хотя его щеки пылали:
— А кто дал вам право говорить так? В Лунном городе есть много людей, которые, возможно, не разделяют вашего мнения.
— Вас это не касается.
— Нет, касается. Я — иммигрант и намерен в ближайшее время получить право гражданства. И я не хочу, чтобы мою судьбу решали, не спрашивая моего мнения, — тем более чтобы её решал человек, который не способен выйти на поверхность и который хочет сделать свою личную тюрьму тюрьмой для всех. Я расстался с Землей, но для того лишь, чтобы поселиться на Луне, в четверти миллиона миль от родной планеты. Я не давал согласия, чтобы меня увлекали от неё навсегда неведомо на какое расстояние.
— Ну так возвращайтесь на Землю, — равнодушно перебил Невилл. — Время ещё есть.
— А граждане Луны? А остальные иммигранты?
— Решение принято.
— Нет, оно ещё не принято… Селена!
В дверях появилась Селена. Её лицо было серьёзно, в глазах прятался вызов. От небрежной позы Невилла не осталось и следа. Обе его подошвы со стуком впечатались в пол. Он спросил:
— И долго ты ждала в соседней комнате, Селена?
— Я пришла раньше тебя, Бэррон, — ответила она.
Невилл посмотрел на неё, потом на Денисона, потом на неё.
— Вы… вы вдвоем… — пробормотал он, тыча в них пальцем.
— Я не совсем понимаю, что ты подразумеваешь под этим «вдвоем», — перебила Селена. — Но Бен уже давно узнал о передаче импульса.
— Селена тут ни при чем, — вмешался Денисон. — Мистер Готтштейн заметил какой-то летящий предмет в тот момент, когда никто не мог знать, что он наблюдает за установкой. Я понял, что Селена экспериментирует с чем-то, о чём я ещё не думал, и сообразил, что это может быть передача импульса. А потом…
— Ну ладно, вы знали, — сказал Невилл. — Но это ровно ничего не меняет.
— Нет, меняет, Бэррон! — воскликнула Селена. — Я обсудила всё это с Беном, и мне стало ясно, что я слишком часто принимала твои слова на веру, и совершенно напрасно. Пусть я не могу поехать на Землю. Пусть я даже не хочу этого. Но я убедилась, что мне нравится видеть её в небе, когда у меня появляется такое желание. Мне не нужно пустого неба! Потом я поговорила с другими членами группы. И оказалось, что далеко не все они хотят отправляться в бесконечные странствия. Большинство считает, что надо строить корабли для тех, кто стремится к звездам, а те, кто хочет остаться, пусть остаются.
— Ты говорила об этом! — задыхаясь, крикнул Невилл. — Кто дал тебе право…
— Оно и так принадлежало мне, Бэррон. Да это и неважно. Большинство против тебя.
— Из-за этого… — Невилл вскочил и угрожающе шагнул к Денисону.
— Пожалуйста, успокойтесь, доктор Невилл, — поспешно сказал Готтштейн. — Вы уроженец Луны, но всё-таки я думаю, что с нами двоими вам не справиться.
— С тремя, — поправила Селена. — И я тоже уроженка Луны. Всё это сделала я, Бэррон, а не они.
— Послушайте, Невилл, — после некоторого молчания заговорил Денисон. — Земле в конечном счёте всё равно — останется Луна на орбите или нет. Земля без труда построит взамен космические станции. Это гражданам Луны не всё равно. Селене. И мне. И всем остальным. Вас никто не лишает права проникнуть в космос, бежать туда, искать там свободы. Самое большее через двадцать лет те, кто захочет покинуть Луну, смогут это сделать. Включая и вас, если у вас хватит мужества расстаться со своей норой. А те, кто захочет остаться, останутся.
Невилл медленно опустился на стул. Он понял, что потерпел поражение.
Глава 19
В квартире Селены теперь каждое окно представляло панораму Земли. Селена сказала:
— Большинство проголосовало против него, Бен. Подавляющее большинство.
— Но он вряд ли откажется от своих планов. Если во время строительства станций начнутся трения, общественное мнение Луны может склониться на его сторону.
— Но ведь можно обойтись и без трений.
— Разумеется. Да и вообще в истории не бывает счастливых развязок. Просто на смену одной благополучно решенной проблеме приходят новые. Пока мы удачно справились с очередным затруднением. А о следующих будем думать, когда они возникнут. Ну а с постройкой звездных кораблей всё вообще переменится.
— И я уверена, что мы своими глазами увидим, как это будет.
— Вы-то увидите, Селена.
— И вы, Бен. Не кокетничайте своим возрастом. В конце концов, вам всего сорок восемь лет.
— А вы полетите на звездном корабле, Селена?
— Нет, не полечу. Годы будут уже не те, да и расставаться с Землей в небе мне и тогда вряд ли захочется. Вот мой сын, возможно, полетит… И знаете что, Бен…
Она замолчала, и Денисон осторожно спросил:
— Что, Селена?
— Я получила разрешение на второго ребенка. Хотите быть его отцом?
Денисон посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляда.
— Биологический отбор?
— Ну конечно… Комбинация генов должна получиться очень интересной.
Денисон отвернулся.
— Я польщен, Селена.
— Но что тут такого? — сказала Селена, точно оправдываясь. — Это же разумно. Хорошая наследственность крайне важна. И естественное генетическое конструирование, оно же… ну… естественно.
— Да, конечно.
— И это вовсе не единственная причина… Ведь вы мне нравитесь.
Денисон кивнул, но продолжал молчать.
— И в конце концов, любовь биологией не исчерпывается, — уже сердито сказала Селена.
— Не спорю, — сказал Денисон. — Во всяком случае, я вас люблю помимо биологических соображений.
— Ну, если уж на то пошло, биологические соображения могут диктоваться как раз любовью.
— И с этим не спорю, — сказал Денисон.
— Кроме того… — пробормотала Селена. — А, чёрт…
Денисон нерешительно шагнул к ней. Она стояла и ждала. И тут уж он поцеловал её без дальнейших колебаний.
НЕМЕЗИДА (роман)
Это повествование об еще не изученной звезде, прячущейся за пыльной тучей на полдороги от Солнца до Альфы Центавра. Действие происходит в 2236 году и Земле угрожает гибель. Ученые с околоземной орбиты строят звездолет, способный развивать скорость света. Этот корабль и открывает в системе Немезиды планету Эритро, вполне приспособленной к жизни человека, но пагубно влияющей на его мозг. Лишь дочку главного героя Марлену не затрагивает «эритроническая чума», поскольку, как позднее выяснилось, она с детства владела некими телепатическими способностями. Именно девочка смогла понять тот факт, что действие Эритро на человека несет в себе в конечном итоге благо.
И Марлена становится «переводчиком» и представителем Разума Эритро, потому, что она оказалась не такая как все. Она умела «читать» жесты людей и потому всегда знала, что у человека на уме. Немезида должна была через пять тысяч лет пройти через Солнечную систему и тогда Земля бы погибла. А Эритро подсказала выход из этого положения…
От автора
Книга эта не входит в мои серии об Академии, роботах или Галактической империи. Она сама по себе. Наверное, об этом стоит предупредить, чтобы избежать недоразумений. Может быть, я ещё напишу другой роман, связывающий этот с остальными, — а может быть, и нет. В конце концов, сколько же можно заставлять себя придумывать хитросплетения новой истории?
И ещё. Я давно уже руководствуюсь основным правилом — все мои произведения должны быть ясными. И потому отказался от мысли о всяких поэтических, символических и прочих экспериментах, хоть они и могли бы в случае удачи принести мне Пулитцеровскую премию. Я научился писать просто и ясно, и это помогает мне установить теплые отношения с читателями и профессиональными критиками.
Мои книги пишутся сами собой — я сам удивился, обнаружив в своем романе две событийные линии. Одни события совершаются в будущем, другие — в прошлом, но обе линии сходятся в настоящем. Не сомневаюсь, что вы без труда разберётесь во всём, но, поскольку мы с вами друзья, я счел необходимым предупредить вас заранее.
Пролог
Он остался один.
Где-то там, далеко, светили звёзды, и среди них одна, небольшая, со своей маленькой системой миров. Мысленный взор являл её гораздо отчетливей, чем можно было увидеть глазами, если вернуть прозрачность окну.
Маленькая звезда, розовато-красная, цвета крови и разрушения, носящая соответствующее имя.
Немезида!
Немезида, богиня возмездия.
Он опять вспомнил историю, которую слышал ещё в молодости, — легенду, миф, сказание о Всемирном потопе, истребившем грешное человечество, когда уцелела одна семья, с которой всё началось снова.
Но на сей раз Потопа не будет. Грядет Немезида.
Человечество вновь пало. Так пусть Немезида обрушит на него кару — оно заслужило такую судьбу. И это будет не Потоп. Не просто Потоп.
Даже если кому-то вдруг удастся уцелеть — куда им деваться?
Почему же он не чувствует жалости? Человечество не может оставаться таким, как есть. Оно медленно гибнет — и по заслугам. И если медленная смерть станет быстрой — о чём же жалеть?
Здесь, вокруг Немезиды, кружит планета, вокруг планеты вращается спутник, вокруг спутника — Ротор.
Только горстка избранных спаслась в Ковчеге от Потопа. Он не знал, каким был тот Ковчег, но сейчас Ковчегом стал Ротор. Он нес в себе семя рода людского, из которого должен вырасти новый и лучший мир.
А старой Земле предстоит встреча с Немезидой.
Он снова подумал об этом. Красный карлик неумолимо летел вперёд. Ему и его мирам ничто не грозило. А вот Земле…
Немезида уже в пути, Земля!
Она несет предреченное возмездие!
Глава 1
МАРЛЕНА
Последний раз Марлена видела Солнечную систему, когда ей едва миновал год. И, конечно, ничего не помнила.
Марлена много читала, но это занятие не помогло ей ощутить себя крохотной частичкой Солнечной Семьи.
Все свои пятнадцать лет она провела на Роторе, который был для неё целым миром. Как-никак восемь километров в диаметре. Лет с десяти у неё вошло в привычку регулярно, примерно раз в месяц, обходить его кругом. Иногда Марлена забиралась туда, где тяготение было слабым, — и тогда девочка почти парила в воздухе, едва касаясь ногами поверхности. Но пари или ходи — Ротор летел всё дальше и дальше, а с ним и здания, парки… и люди.
Путешествие занимало целый день, но мать девочки и не думала беспокоиться. Она всегда говорила, что Ротор — абсолютно безопасное место. «Это не Земля», — твердила она, не объясняя, впрочем, почему считала Землю местом небезопасным. «Да так, ничего», — говорила она.
Меньше всего Марлене нравились люди. Говорили, что, по последним данным, на Роторе их шестьдесят тысяч. Слишком много. Даже чересчур. И у каждого на лице фальшь. Марлена ненавидела эти лица, замечая то, что пряталось под приветливой внешностью. Но она молчала. Только раз, ещё маленькой девочкой, она осмелилась сказать об этом, но мать рассердилась и запретила ей неуважительно говорить о взрослых.
Став постарше, она научилась видеть фальшь куда более ясно, и лживые лица перестали волновать её. Она научилась не обращать на них внимания и старалась почаще уединяться и размышляла, размышляла.
Она всё чаще думала об Эритро — планете, на орбите которой прошло её детство. Марлена частенько забиралась на обзорную палубу и, сама не зная почему, с жадностью вглядывалась в лик планеты, мечтая когда-нибудь попасть туда.
Иногда мать спрашивала девочку, чем привлекает её пустынная, безжизненная планета, но та отмалчивалась. Она и сама не знала. «Просто хочется взглянуть на неё», — был её всегдашний ответ.
Она разглядывала планету в одиночестве, на обзорной палубе никогда никого не было. Роториане сюда не ходили: это не запрещалось, но почему-то никто не испытывал к Эритро подобного интереса.
Половина планеты была светлой, половина — погружена во мрак. Марлена смутно помнила, что впервые увидела её диск, сидя у матери на руках. С каждым мгновением планета становилась больше: Ротор медленно приближался к ней.
Действительно ли она это помнила? Впрочем, тогда ей было почти четыре года — могла и запомнить.
Воспоминание это — реальное или придуманное — незаметно сменилось размышлениями о величине планеты. Диаметр Эритро превышал двенадцать тысяч километров — что рядом с ними жалкие восемь? Планета не выглядела такой большой, и Марлена не могла даже представить себе, что стоит на её поверхности, а вокруг просторная ширь на сотни и даже тысячи километров. Но она знала, что хочет увидеть это, очень хочет.
А вот Ауринела Эритро не интересовала, и Марлену это огорчало. Он говорил, что у него и так есть о чём подумать, например, как получше готовиться к поступлению в колледж: ведь ему уже семнадцать с половиной. А Марлене недавно исполнилось всего пятнадцать. Подумаешь, разница, убеждала она себя, всё равно девочки развиваются быстрее.
Должны, по крайней мере. Она с привычным недовольством оглядела себя — ребенок, совсем ещё ребенок, всё ещё коренастая коротышка.
Она вновь перевела взгляд на Эритро, огромную и прекрасную, рдеющую под лучами красного солнца. Это большое небесное тело на самом деле не было планетой. Девочка знала, что перед ней спутник. Спутник громадного Мегаса, который и был настоящей планетой. Правда, на Роторе под этим словом обычно подразумевалась Эритро. Парочка эта, Мегас и Эритро, а с ними и Ротор, кружили вокруг звезды, которая звалась Немезидой.
— Марлена!
Девочка узнала голос Ауринела. В последнее время она всё больше помалкивала в его присутствии, и причина этой застенчивости смущала её. Ей нравилось, как он произносит её имя. Ауринел делал это правильно. В три слога: Мар-лена, слегка раскатывая букву «р». Просто приятно слушать.
Она обернулась и, стараясь не покраснеть, пробормотала:
— Привет, Ауринел.
Он ухмыльнулся:
— Опять на Эритро глазеешь, а?
Марлена не ответила. Конечно же, она была занята именно этим. Все знали, что её интересует Эритро.
— Как ты здесь оказался?
(Ну скажи, что искал меня, подумала она.)
— Твоя мать послала меня, — ответил Ауринел.
(Ладно.)
— Почему?
— Она сказала, что ты не в духе, а когда ты принимаешься жалеть себя, то поднимаешься сюда. И что я должен увести тебя. Потому что иначе, сказала она, ты станешь ещё угрюмее. А почему у тебя плохое настроение?
— Хорошее настроение. А если и не совсем, то не без причины.
— Какой причины? Выкладывай, ты уже не маленькая и должна уметь выражать свои чувства словами.
Марлена подняла бровь.
— Я прекрасно умею разговаривать. А причина простая — я хочу путешествовать.
Ауринел расхохотался.
— Но ты же путешествуешь, Марлена. Ты уже пролетела больше двух световых лет. Во всей истории Солнечной системы никому до нас не удавалось пролететь и части светового года. Никому. Так что нечего кукситься, Марлена Инсигна Фишер, галактическая путешественница.
Марлена едва сдержалась, чтобы не хихикнуть. Инсигна — это девичья фамилия её матери. Прежде, когда Ауринел, дурачась, называл её полным именем, он отдавал честь и корчил уморительную гримасу, но такого не случалось уже давно. Наверное, потому, подумала она, что он уже считает себя взрослым и отрабатывает достойные манеры.
— Я не помню путешествия, — ответила она. — И ты это знаешь. А раз так, значит, и нечего было запоминать. Просто мы здесь, в двух световых годах от Солнечной системы, и никогда не вернёмся назад.
— А ты откуда знаешь?
— Да ну тебя, Ауринел. Неужели ты хоть раз слышал, чтобы кто-нибудь говорил о возвращении?
— Ну и что? Земля — мирок людный, всю Солнечную систему тоже обжили, повсюду теперь тесновато. И нам лучше здесь, потому что мы хозяева всему, что видит глаз.
— Какие хозяева? Мы целую вечность пялимся на Эритро, но почему-то не торопимся спускаться, чтобы стать её истинными хозяевами.
— О чём ты? Ведь на Эритро уже построен прекрасный и надёжный Купол. Ты же знаешь.
— Он не для нас, а для горстки учёных. А я говорю о нас с тобой. Нам даже не разрешают бывать там.
— Всему своё время, — по-взрослому сказал Ауринел.
— Конечно — когда стану старухой или помру.
— Не сгущай краски. И вообще пошли-ка отсюда, пусть твоя мама порадуется. Да и мне некогда торчать здесь. Дела. Долоретта…
В ушах Марлены застучало, и она уже не расслышала, что Ауринел сказал дальше. Довольно и того, что было произнесено это имя… Долоретта!
Марлена ненавидела Долоретту, такую стройную — и такую пустую.
Марлене вдруг захотелось сделать Ауринелу больно, отыскать такие слова, от которых ему стало бы не по себе. Ошеломить его.
— Мы не вернёмся в Солнечную систему, — проговорила она. — И я знаю почему…
— Ну и почему же? — Марлена не ответила, и он насмешливо добавил: — Опять девчачьи тайны?
Марлену это задело.
— Не хочу тебе говорить, — пробормотала она. — Я и сама не должна была знать об этом.
Но ей так хотелось всё выложить ему. Ей так хотелось, чтобы всем было так же плохо, как и ей.
— Но мне-то скажешь? Мы ведь друзья?
— Друзья? — переспросила Марлена. — Ну хорошо, скажу. Мы никогда не вернёмся назад, потому что Земля обречена.
Реакция Ауринела оказалась совсем не такой, как она ожидала. Он разразился громким хохотом. И не сразу заметил её яростный и негодующий взгляд.
— Марлена, откуда ты это взяла? — спросил он. — Ужастиков насмотрелась, что ли?
— Я их не смотрю.
— Тогда почему говоришь такие вещи?
— Потому что знаю. Я умею делать выводы. Из того, что говорят люди и о чём умалчивают, и из того, что у них получается, когда они полагают, что изображают именно то, что хотят. И из того, что мне отвечает компьютер, когда я задаю ему вопросы.
— Ну и что он тебе отвечает?
— Я не хочу, чтобы ты знал об этом.
— А может быть, ты просто выдумываешь?
— Нет. Земля погибнет не в один миг — быть может, на это уйдут тысячелетия, но она обречена. — Марлена важно кивнула. — И ничто её не спасет.
Она повернулась и, сердитая, пошла прочь. Как посмел Ауринел усомниться в её словах? И не просто усомниться; он решил, что она не в своем уме. Впрочем, наверное, так оно и есть — она сказала ему слишком много и ничего этим не добилась. Всё вышло не так, как она хотела.
Ауринел смотрел ей вслед. Улыбка исчезла с его лица, и тревожная складка залегла между бровями.
* * *
Долгое путешествие к Немезиде превратило Эугению Инсигну в немолодую женщину. Все эти годы она напоминала себе: я делаю это ради наших детей, ради их будущего.
Однако эта мысль всегда угнетала её. Почему? Ведь она знала, что Ротор должен был покинуть Солнечную систему. Об этом знали все добровольцы, улетавшие на Роторе. А среди тех, у кого не хватило духу на вечную разлуку с родной планетой, был и…
Эугения предпочитала не оканчивать эту мысль, так часто приходившую в голову. Теперь все они здесь, на Роторе, — но был ли Ротор для них домом? Разве что для Марлены: другого дома она не знала. А она, Эугения? её домом была Земля — и Луна, и Солнце, и Марс, и все миры, что знало человечество на протяжении своей истории и предыстории, с тех пор как появилась сама жизнь. Нет, Ротор не дом им — этого нельзя было забывать.
Первые двадцать восемь лет своей жизни Эугения провела в Солнечной системе — и даже училась на Земле с двадцати одного до двадцати трех лет.
Как ни странно, Земля частенько вспоминалась ей. Эугения не любила Землю: эти толпы, шум, суету, абсолютную слабохарактерность, обнаруживаемую тамошними властями в важных вопросах, и их грубый деспотизм в каждой мелочи. Ещё ей не нравилась вечная непогода, её разрушительная сила, уродующая землю и приводящая в ярость океан. И, закончив образование, она с радостью вернулась на Ротор с молодым мужем. Ей хотелось, чтобы он полюбил милый её сердцу вращающийся мирок так же, как и она, родившаяся в нём.
Но мужу Ротор казался тесным. «Тебе осточертеет здесь через полгода», — говорил он.
Жена наскучила ему даже раньше. Ну что ж…
Все уладится, всё будет хорошо, но не для неё. Она, Эугения Инсигна, навеки затерялась между мирами. И всё это ради детей. Эугения родилась на Роторе и прекрасно может обойтись без Земли. Марлена уже и вовсе не видела ничего, кроме Ротора, и сумеет прожить без Солнечной системы, зная лишь о том, что где-то возле Солнца — родина её предков. А её дети забудут и об этом. И Земля, и Солнечная система станут для них мифом, и только Эритро будет цветущим миром.
Эугения надеялась на это. У Марлены вдруг обнаружилась странная привязанность к Эритро: впрочем, она может исчезнуть так же быстро, как и возникла.
И всё-таки жаловаться на судьбу было бы несправедливо. Нельзя было даже мечтать о том, что возле Немезиды обнаружится планета, пригодная для жизни людей. Совпадение условий на ней с земными оказалось воистину удивительным. Однако если прикинуть все вероятности и учесть, что Немезида не так уж и далека от Солнечной системы, то такое совпадение уже не покажется невероятным.
Эугения вернулась к своим ежедневным отчетам — компьютер дожидался её внимания с присущим его племени бесконечным терпением.
Но не успела она приняться за работу, как позвонила секретарша — негромкий голос донесся из крошечного динамика, приколотого к левому плечу.
— Вас хочет видеть Ауринел Пампас. Он не записывался на приём.
Инсигна поморщилась, но тут же вспомнила, что сама посылала его за Марленой.
— Пусть войдёт, — сказала она.
Она бросила беглый взгляд в зеркало и убедилась, что выглядит превосходно. Она казалась себе моложе своих сорока двух. И надеялась, что остальные разделяют её мнение.
Глупо думать о внешности, ожидая семнадцатилетнего мальчишку, но Эугения Инсигна заметила, как глядела на него бедняжка Марлена, и прекрасно понимала, что означал этот взгляд. Инсигна догадывалась, что Ауринел, юноша, внешностью своей весьма довольный, едва ли обратит внимание на Марлену, ещё не избавившуюся от подростковой угловатости. Но если Марлену ожидает разочарование — пусть у девочки не будет повода вообразить, что мать могла в чём-то содействовать её неудаче: придётся очаровать мальчугана.
Всё равно окажусь виноватой, со вздохом подумала Инсигна, когда Ауринел, застенчиво улыбаясь, ступил в её кабинет.
— Ну, Ауринел, — проговорила она, — отыскал Марлену?
— Да, мэм. Именно там, где вы сказали. Я передал ей, что вы хотели, чтобы она ушла оттуда.
— И какой она тебе показалась?
— Не могу вам сказать, доктор Инсигна, депрессия у неё или что-нибудь другое, только в голову ей пробралась забавная идейка. Даже не знаю, понравится ли ей, если я расскажу обо всём вам.
— Не стоило бы, конечно, узнавать об этом от чужого человека, но странные идеи посещают её нередко, и это меня беспокоит. Так что, пожалуйста, лучше скажи.
Ауринел покачал головой:
— Ладно, только не выдавайте меня. Совершенно ненормальная мысль. Она решила, что Земля должна погибнуть.
Ауринел ожидал, что Инсигна рассмеется. Но смеха не последовало. Напротив, она забеспокоилась:
— Что такое? Почему она так решила?
— Не знаю, доктор Инсигна. Марлена — странный ребенок, — вы это знаете, и идеи её посещают… А может быть, она просто дурачила меня?..
— Вполне возможно, даже наверняка, — перебила его Инсигна. — У моей дочери странные представления о чувстве юмора. Послушай, Ауринел, я бы не хотела, чтобы ты болтал об этом. Знаешь, не люблю дурацких разговоров. Ты понимаешь?
— Конечно, мэм.
— Я серьёзно — ни слова.
Ауринел кивнул.
— И спасибо, что рассказал. Это важно. Я переговорю с Марленой, выясню, что её встревожило, но так, чтобы не выдать тебя.
— Спасибо, — поблагодарил Ауринел. — ещё минуточку, мэм.
— Да?
— Значит, Земля и в самом деле погибнет?
Поглядев на юношу, Инсигна делано усмехнулась:
— Нет, конечно! Можешь не волноваться.
Глядя ему вслед, Инсигна думала, что ей, пожалуй, не удалось убедить мальчишку в своей искренности.
* * *
Янус Питт обладал весьма значительной внешностью, что, вероятно, помогло ему подняться к вершинам власти на Роторе. При подборе жителей будущих поселений предпочтение отдавали людям ростом не выше среднего. Тогда ещё собирались экономить — на помещении и ресурсах. Потом выяснилось, что подобные предосторожности излишни, и от них отказались, однако тенденция успела сформироваться, и жители самых первых поселений были ниже, чем в тех, что заселялись позднее.
Питт был высок, по-юношески строен, голубоглаз, и только легкая седина свидетельствовала о том, что он уже немолод — как-никак уже пятьдесят шесть.
Взглянув на вошедшую Инсигну, Питт улыбнулся. В её присутствии он всегда ощущал какую-то неловкость: она раздражала его своей вечной принципиальностью — с такими людьми всегда трудно общаться.
— Спасибо, что сразу принял меня, Янус, — проговорила она.
Питт отодвинулся от компьютера и откинулся на спинку кресла.
— К чему пустые формальности? Ведь мы давно знаем друг друга.
— И столько пережили вместе, — добавила Инсигна.
— Верно, — согласился Питт. — Как твоя дочь?
— О ней-то я и хочу поговорить с тобой. Мы заэкранированы?
Питт удивленно поднял брови:
— Экранировать? Что и от кого?
Ведь Ротор практически один во всей Вселенной. Солнечная система более чем в двух световых годах отсюда, а другие миры словно и вовсе не существуют: до них, может быть, миллионы световых лет.
Конечно, роториане могли чувствовать своё одиночество, могли ощущать неуверенность. Но опасаться чего-то извне…
— Ты знаешь, при решении каких именно вопросов необходимо экранироваться, — сказала Инсигна. — Ты сам настаивал на их секретности.
Включив экран, Питт вздохнул:
— Опять за старое… Ради бога, Эугения, всё давным-давно улажено — ещё четырнадцать лет назад, когда мы улетали. Конечно, я понимаю, что ты не можешь об этом забыть…
— Забыть? Почему я должна забыть? Это моя звезда, — она указала в сторону Немезиды, — и я в известной мере отвечаю за неё.
Питт скрипнул зубами. «Опять…» — подумал он. Но вслух сказал:
— Мы заэкранированы. Итак, Эугения, что тебя встревожило?
— Марлена. Моя дочь. Она всё узнала.
— Что узнала?
— Всё… О Немезиде, о том, что случится с Солнечной системой.
— Как это могло произойти? Или ты проболталась?
Инсигна беспомощно развела руками.
— Само собой, я ничего ей не говорила, но ей и не нужно говорить. Не знаю, как это у неё получается, но Марлена, кажется, замечает абсолютно всё. Она умеет догадываться даже, о чём человек думает. Эту её способность я заметила уже давно, только в последний год она проявляется всё сильнее.
— Догадывается, значит, и время от времени попадает в точку. Объясни Марлене, что на сей раз она ошиблась, и последи, чтобы девочка не болтала.
— Но она уже успела поделиться этим открытием с молодым человеком, а он передал мне их разговор. Так я обо всём и узнала. Юношу зовут Ауринел Пампас. Он сын моих друзей.
— Хорошо. Учтем и это. Скажи ему, чтобы не придавал значения фантазиям маленьких девочек.
— Она уже не маленькая. Ей пятнадцать.
— Уверяю тебя — для него она малышка. Я знаю, что говорю, — ведь я наблюдаю за этим юношей. Он торопится стать взрослым, а насколько я помню себя, у мальчишек его возраста пятнадцатилетние девчонки не вызывают интереса, тем более…
— Тем более что она такая нескладная? — перебила его Инсигна. — Ты это хотел сказать? Но она ведь такая умница.
— Это важно для нас с тобой. Но не для Ауринела. Если хочешь, я сам поговорю с мальчишкой. А ты побеседуй с Марленой. Объясни ей, что её догадка смешна, что гибель Земли невозможна. И не следует распространять выдумки.
— Самое печальное то, что она совершенно права…
— Опять ты за свое. Знаешь, Эугения, мы с тобой столько лет скрывали эту тайну от всех, что будет лучше, если всё так и останется. Едва люди узнают правду, они её тотчас исказят. На нас обрушится целый шквал дурацких сантиментов, абсолютно никому не нужных. Они помешают нам осуществить то, ради чего мы оставили Солнечную систему.
Эугения недоуменно поглядела на Питта.
— Значит, у тебя нет ни капли жалости к Солнечной системе, к Земле, породившей человечество.
— Знаешь, Эугения, чувства мои к делу не относятся, и я не могу позволить тебе отдаться эмоциям. Мы оставили Солнечную систему, когда поняли, что человеку пришла пора осваивать звездные миры. Я уверен, что за нами последуют другие, возможно, это происходит уже сейчас. Мы сделали человечество явлением галактического масштаба, и нам не следует мыслить в рамках одной планетной системы. Наше дело — здесь.
Они посмотрели друг на друга.
— Ты снова затыкаешь мне рот, — тяжело вздохнув, произнесла Эугения. — Ты заставлял меня молчать все эти годы.
— Да, и я буду делать это и в будущем году, и через год. Хватит, Эугения, ты меня утомляешь. Довольно с меня и первого раза.
И он вновь отвернулся к компьютеру.
Глава 2
НЕМЕЗИДА
В первый раз он заставил её молчать шестнадцать лет назад, в 2220 году, в том самом году, когда перед людьми открылась Галактика.
Тогда шевелюра Януса Питта была тёмно-каштановой, а сам он ещё не занимал должность комиссара Ротора, но уже считался многообещающим и весьма перспективным специалистом. Он возглавлял департамент исследований и коммерции и отвечал за работу Дальнего Зонда, который во многом был его собственным детищем.
Это было время, когда предпринимались первые попытки передачи материи через пространство с помощью гиперпривода.
Насколько было известно, только на Роторе занимались разработкой гиперпривода, и Питт принадлежал к числу энергичнейших сторонников полной секретности этих исследований.
— Солнечная система перенаселена, — говорил он на заседании совета. — Для космических поселений уже не хватает места. Даже пояс астероидов не поможет исправить ситуацию, поскольку и он почти весь заселён. Но что хуже всего — в каждом поселении существует собственное экологическое равновесие. От этого страдает коммерция, потому что все боятся подцепить чужую заразу. Уважаемые коллеги, у нас нет другого выхода: Ротор должен покинуть Солнечную систему — без торжественных проводов, без предупреждений. Покинуть навсегда, найти место во Вселенной, где мы сможем построить собственный дом, вырастить новую ветвь человечества, создать собственное общество и собственный образ жизни. Без гиперпривода это невозможно — но он у нас есть. За нами, разумеется, последуют другие. Солнечная система превратится в созревший одуванчик, семена которого разлетятся по всей Вселенной. Если мы отправимся первыми, то, быть может, сумеем подыскать уютное местечко ещё до того, как начнется массовый Исход. Мы успеем встать на ноги и сможем противостоять любому, кто посягнет на наш дом. Галактика велика, места должно хватить для всех.
Присутствующие яростно заспорили. Одни в качестве аргумента выдвигали страх, боязнь оставить обжитое место, другие — любовь к родной планете. Некоторые идеалисты советовали поделиться знаниями со всеми, чтобы и другие могли воспользоваться ими.
На победу Питт не надеялся. Но она пришла к нему — в лице Эугении Инсигны, давшей ему в руки решающий аргумент. Немыслимая удача — ведь она обратилась прямо к нему.
Ей было тогда всего двадцать шесть лет. Она была замужем, но детей у неё ещё не было.
Взволнованная, раскрасневшаяся, Эугения была нагружена ворохом распечаток.
Питт помнил, что при её появлении он почувствовал раздражение. Он был секретарём департамента, а она — если говорить честно — никто, но с того самого момента считать её таковой уже было нельзя.
Но Питт пока ещё не знал об этом — и уже собирался выразить недовольство подобной бесцеремонностью. Но, заметив возбуждение молодой женщины, воздержался от колкостей. Она явно намеревалась обрушить на него свой утомительный энтузиазм и немедленно ознакомить со всеми подробностями этих многочисленных документов.
Хорошо, пусть всё кратко изложит одному из помощников, решил он.
— Вижу, у вас важные материалы, доктор Инсигна, и вы хотите, чтобы я с ними ознакомился. Прекрасно, я сделаю это при первой же возможности. Почему бы вам не оставить всё это моим сотрудникам? — и он указал на дверь, в надежде, что, сделав «кругом через плечо», она отправится в приёмную. (Позже, на досуге, он пытался представить себе, что было бы, если бы она послушалась его тогда, — и сердце невольно замирало.)
Но она ответила:
— Нет-нет, мистер секретарь. Я должна переговорить лично с вами — и ни с кем другим. — Голос её дрожал от волнения. — Это же величайшее открытие со времен… со времени… — Она смешалась и замолчала. — Словом, величайшее!
Питт с сомнением посмотрел на распечатки, зажатые в её трясущихся руках, — и не ощутил никакого волнения. Этим специалистам всегда мерещится, что каждый их робкий шажок по научной ниве ниспровергает любые основы.
И он отрешенно произнес:
— Хорошо, доктор Инсигна, объясните мне вкратце суть дела.
— Мы экранированы, сэр?
— Зачем?
— Мне не хочется, чтобы кто-нибудь узнал об этом, пока я трижды не проверю и не перепроверю все выводы. Хотя я лично ни в чём не сомневаюсь. Я понятно объясняю?
— Вполне, — холодно ответил Питт и прикоснулся к переключателю. — Я включил экран. Можете говорить.
— У меня всё здесь. Я сейчас покажу вам.
— Нет, сначала изложите суть… в нескольких словах.
Она набрала воздуху в легкие.
— Мистер секретарь, я открыла ближайшую к нам звезду. — Округлив глаза, Эугения часто дышала.
— Самой близкой к нам звездой является альфа Центавра, — ответил Питт. — Об этом известно уже четыре столетия.
— Она считалась ближайшей из всех известных нам звезд, но теперь она таковой не является. Я открыла звезду, которая находится ещё ближе к нам. У Солнца есть соседка. Представляете?
Питт внимательно посмотрел на неё. Обычное дело. Людям молодым, бесхитростным и пылким свойственно воспламеняться по каждому поводу.
— А вы уверены в этом? — спросил он.
— Я? Конечно! Позвольте я ознакомлю вас с данными — подобного астрономия не знала с…
— Если вы не ошиблись. Только не надо заваливать меня цифрами. Я всё посмотрю потом. Рассказывайте. Если существует звезда более близкая к нам, чем альфа Центавра, почему её до сих пор не обнаружили? Почему история приберегла эту честь для вас, доктор Инсигна?
Он понимал, что говорит саркастическим тоном, но его собеседница словно не замечала этого — слишком уж она разволновалась.
— Все очень просто. Между нами и Звездой-Соседкой располагается тёмное облако космической пыли. Если бы не оно, на земном небосводе эта звезда имела бы восьмую звездную величину — и её, конечно, давно заметили бы. Но пыль поглощает свет, и звезда потускнела до девятнадцатой величины. И потому ей нетрудно затеряться среди бесчисленного множества тусклых звезд. Она не имеет никаких особенностей, кроме того, к ней никто и не приглядывался. Она видна только в Южном полушарии Земли, и до постройки поселений телескопы Земли, как правило, смотрели в другую сторону.
— Ну а почему же вы обратили на неё внимание?
— Все дело в Дальнем Зонде. Видите ли, Звезда-Соседка и Солнце постоянно меняют своё положение друг относительно друга. Не исключено, что они с Солнцем медленно обращаются вокруг общего центра тяготения с периодом в миллионы лет. Столетия назад условия могли быть иными, и Звезда-Соседка, возможно, находилась у края облака и ярко светила, но, чтобы её увидеть, нужен телескоп, а телескопы используются на Земле только шестьсот лет, а в тех местах, откуда она видна, и того меньше. Через несколько столетий она вновь станет видимой — выйдет из-за пылевого покрова.
Но нам уже незачем ждать так долго. Дальний Зонд всё сделал за нас.
Питт почувствовал, как в глубине души загорается слабый огонек энтузиазма.
— Итак, вы хотите сказать, что на достаточном удалении от Земли, там, где облако уже не могло помешать, Дальний Зонд сфотографировал участок неба, на котором обнаружилась эта ваша Звезда-Соседка?
— Именно. Я обнаружила звезду восьмой величины там, где не должно быть таких звезд. Спектрально она относится к красным карликам, которые нельзя увидеть издалека.
— А почему вы решили, что эта звезда ближе к нам, чем альфа Центавра?
— Естественно, я изучила этот же участок неба с Ротора — никакой звезды восьмой величины там не оказалось. Однако почти в том же самом месте нашлась звездочка девятнадцатой величины, которой не было на фотоснимке, сделанном Дальним Зондом. Тогда я решила, что это и есть та самая звезда — только ослабленная пылевым облаком, а визуальное несовпадение обусловлено параллактическим смещением.
— Да, я понимаю. Это когда ближние звёзды смещаются на фоне дальних, если глядеть на них из разных точек пространства.
— Правильно, но звёзды в основном находятся так далеко от нас, что, если бы Дальний Зонд прошёл больше половины светового года, их положение не изменилось бы. Иное дело — ближние светила. Смещение Звезды-Соседки оказалось просто чудовищным, конечно же, относительное. Я просмотрела снимки, переданные с Дальнего Зонда по мере его удаления от Солнца. В обычном пространстве он с интервалом сделал три снимка этого участка неба. И на них видно, как Звезда-Соседка становится ярче, смещаясь к краю облака. По параллактическому смещению получается, что она расположена от нас в двух световых годах. Наполовину ближе, чем альфа Центавра.
Питт задумчиво глядел на Эугению, и в наступившем продолжительном молчании она вдруг растерялась.
— Секретарь Питт, — сказала она, — может быть, теперь вы захотите познакомиться с материалами?
— Нет, — ответил он, — меня удовлетворило всё, что я услышал от вас. Ну а теперь я хочу задать вам несколько вопросов. Мне кажется, — если я правильно вас понял, — этой звездой девятнадцатой величины едва ли может заинтересоваться кто-то ещё — настолько, чтобы измерять её параллакс и расстояние до неё.
— Вероятность этого близка к нулю.
— Можно ли каким-нибудь иным способом обнаружить эту тусклую звезду?
— Она будет перемещаться по небу очень быстро — для звезды, конечно. Если постоянно наблюдать за ней, можно заметить, что она перемещается примерно по прямой. Движение звезд трехмерно, а мы видим его в двухмерной проекции. Кропотливая работа.
— Как вы полагаете, может ли это смещение привлечь к себе внимание астрономов, если им вдруг случится его обнаружить?
— Едва ли они его заметят.
— Значит, вполне возможно, что о Звезде-Соседке известно только на Роторе — ведь, кроме нас, никто не посылал автоматических аппаратов в глубокий космос. Здесь вы специалист, доктор Инсигна. Что знают в поселениях и на Земле о Дальнем Зонде?
— Эти работы не засекречены, мистер секретарь. Другие поселения предоставляли нам научные приборы, мы даже информировали обо всём Землю, не слишком интересующуюся астрономией в последние годы.
— Да, они целиком положились на поселения — это разумно. Но что, если другой Дальний Зонд, подобный нашему, был запущен каким-нибудь из поселений, решившим держать это дело в секрете?
— Сомневаюсь, сэр. Им потребовался бы гиперпривод, а сведения о нём в секрете. Если бы они сами сумели создать гипердвигатели, мы бы узнали об этом. Им пришлось бы производить в пространстве кое-какие эксперименты, что выдало бы их.
— В соответствии с соглашением по научным исследованиям, все данные, полученные Зондом, должны быть опубликованы. Значит ли это, что вы уже известили?..
— Нет, конечно, — с негодованием перебила его Инсигна. — До публикации необходимо провести более подробные исследования. А пока я располагаю лишь предварительными результатами, о которых и извещаю вас конфиденциально.
— Но вы же не единственный астроном, работающий с Дальним Зондом. Полагаю, вы уже успели проинформировать остальных?
Покраснев, Инсигна отвернулась. И сказала, словно защищаясь:
— Нет, я не сделала этого. Эти снимки обнаружила я. Я их исследовала и поняла, что они означают. И я хочу, чтобы честь открытия принадлежала мне. Есть только одна ближайшая к Солнцу звезда, и я хочу значиться в анналах науки как открывшая её.
— Ну а если существует ещё более близкая? — В первый раз за весь разговор Питт позволил себе улыбнуться.
— Об этом уже было бы известно. Даже о моей звезде знали бы давно — не окажись там крошечного облачка пыли. Ну а другая звезда, да ещё более близкая, — об этом нечего и говорить.
— Значит, так, доктор Инсигна. О Звезде-Соседке знаем лишь мы с вами. Я не ошибаюсь? И никто более?
— Да, сэр. Пока — вы и я.
— Не только пока. Все ваши сведения должны оставаться в секрете, пока я не решу сообщить о ней кое-кому.
— Но как же соглашение об открытом доступе к научной информации?
— Мы забудем о нём. Всякое правило имеет исключения. Ваше открытие касается безопасности нашего поселения. В данном случае мы вправе не обнародовать его. Молчим же мы о гиперприводе, не так ли?
— Но какое Звезда-Соседка может иметь отношение к безопасности Ротора?
— Самое прямое, доктор Инсигна. Вы, возможно, ещё не поняли этого, но ваше открытие изменит судьбу всего рода человеческого.
* * *
Эугения застыла и молча уставилась на Питта.
— Садитесь. Теперь мы с вами соучастники, а заговорщикам следует дружить. Отныне с глазу на глаз вы для меня Эугения, а я для вас — Янус.
— Но это неудобно, — возразила Инсигна.
— Привыкнете, Эугения. Заговорщикам не до формальностей.
— Но я не собираюсь участвовать ни в каких тайных делах и хочу, чтобы вы это знали. Я не вижу смысла в том, чтобы держать в тайне информацию о Звезде-Соседке.
— По-моему, вы просто опасаетесь за свои права первооткрывателя.
Недолго поколебавшись, Эугения выпалила:
— Вы правы, Янус, клянусь самой последней микросхемой компьютера, я жажду известности.
— Давайте на миг забудем о существовании Звезды-Соседки, — проговорил он. — Вы знаете, что я давно уже предлагаю увести Ротор за пределы Солнечной системы? И что вы об этом думаете? Вам не хочется оставить Солнечную систему?
Она пожала плечами:
— Не знаю. Хотелось бы, конечно, собственными глазами увидеть какой-нибудь астрономический объект — только страшновато немного.
— Страшно оставить дом?
— Да.
— Но вы же и не оставите его. Ротор и есть ваш дом. — Рука его описала полукруг. — И в странствие он отправится вместе с вами.
— Пусть так, мистер… Янус, но Ротор — это не всё, что мы считаем своим домом. Здесь у нас соседи: другие поселения, планета Земля — да вся Солнечная система.
— Ну вот, сколько народу. Рано или поздно люди начнут разбредаться, хотим мы этого или нет. Когда-то на Земле люди преодолевали горные хребты, пересекали океаны. А два столетия назад земляне стали оставлять родную планету, чтобы жить в поселениях. То, что я предлагаю, — просто очередное событие в нашей старой истории.
— Понимаю, но многие-то остались. И Земля не опустела. Там ещё найдутся семьи, которые не покинули родных краев и живут на одном месте поколение за поколением.
— И вы собираетесь присоединиться к этим домоседам?
— Мой муж Крайл относится к их числу, он не согласен с вами, Янус.
— У нас на Роторе каждый имеет право думать и говорить всё, что угодно, — пусть ваш муж протестует на здоровье. Но вот о чём я хочу вас спросить — как вы думаете, куда можно отправиться из Солнечной системы, если мы всё-таки решимся на это?
— Конечно, на альфу Центавра. Эта звезда считается ближайшей. Ведь даже с помощью гиперпривода мы не сможем двигаться быстрее скорости света — значит, на путешествие уйдёт примерно четыре года, а к дальним звездам путь и того дольше. Но и четыре года — срок немалый.
— Ну а если предположить, что мы смогли бы передвигаться быстрее — куда бы вы в таком случае направились?
Инсигна задумалась ненадолго, а потом проговорила:
— Наверное, всё-таки на альфу Центавра. Всё-таки она относительно недалеко. Даже звёзды над ней по ночам такие же, как над Землей. Если захотим вернуться — путь недалек. Самая крупная звезда А в тройной системе альфы Центавра практически как две капли воды похожа на Солнце. Звезда В поменьше — но не намного. Даже если забыть о красном карлике — альфе Центавра С, — это уже две планетные системы.
— Допустим, мы полетим к альфе Центавра, обнаружим там приемлемые условия и останемся, чтобы заселить новый мир, известив об этом Землю. Куда отправятся другие, решившие оставить Солнечную систему?
— Конечно, к альфе Центавра, — без колебаний отвечала Инсигна.
— Итак, место назначения очевидно. Значит, следом за нами неизбежно последуют остальные — и новый мир в конце концов станет таким же перенаселённым, как и старый.
Много людей, много культур, много поселений, каждое с собственной экологической системой.
— Тогда настанет время осваивать другие звёзды.
— Но, Эугения, где бы мы ни устроились — если мы устроимся с комфортом, за нами неизбежно потянутся соседи. Гостеприимное Солнце, плодородная планета привлекут к себе толпы желающих.
— Да, наверное.
— Ну а если мы полетим к звезде, которая удалена от нас чуть больше чем на два световых года, — кто отправится следом, если о существовании этой звезды никому не известно, кроме нас?
— Никто, пока звезду не обнаружат.
— Но на это уйдёт немало времени. А пока они устремятся к альфе Центавра и к другим, более далеким звездам. И не заметят красного карлика буквально у себя под носом. Ну а если его обнаружат — все подумают, что эта тусклая звездочка непригодна для жизни. Только никто в Солнечной системе не должен знать, что люди уже заинтересовались этой звездой.
Инсигна неуверенно взглянула на Питта.
— Но зачем всё это? Хорошо, мы полетим к Звезде-Соседке, и об этом никто не узнает. И что дальше?
— А то, что мы сможем сами заселить весь этот мир. Если там есть пригодная для обитания планета…
— Но её там нет. По крайней мере около красного карлика.
— Тогда мы воспользуемся сырьем, которое там найдём, и настроим множество новых поселений.
— Вы думаете, что там для нас окажется больше места?
— Да. Гораздо больше — если всё человеческое стадо не ввалится туда следом за нами.
— У нас просто будет больше времени. Даже одно наше поселение когда-нибудь заполнит всё пригодное для обитания пространство вокруг Соседки. Ну за пять столетий вместо двух. И что же?
— Эугения, в этом-то и вся разница. Пусть остальные толкутся, сбиваются в кучу, пусть опять собираются вместе тысячи различных культур, порождённых Землей за всю её скорбную историю. А нам пусть предоставят возможность побыть одним — тогда мы сумеем создать сеть поселений, общих по экологии и культуре. Ситуация изменится в нашу пользу: меньше хаоса — меньше анархии.
— Но и скучнее… К тому же меньше различий — ниже жизнеспособность.
— Ни в коей мере. Я уверен, что и внутри нашего общества возникнет разнообразие, но теперь уже на общей основе. А посему наши поселения будут жизнеспособнее. Но даже если я ошибаюсь, подобный эксперимент стоит провести. Почему бы тогда нам первым не выбрать себе звезду, не проверить, сработает ли подобная схема? Лучше сразу отдать предпочтение красному карлику, на который никто не позарится, а там посмотрим, сумеем ли мы построить возле него новое общество, более совершенное, чем было до нас. Разве не стоит проверить, на что способны люди, — продолжал он, — когда им не приходится тратить энергию на поддержание бесполезных культурных различий в условиях чуждой внешней среды.
Слова эти взволновали Инсигну. Даже если Янус не прав — человечество убедится, что таким путем следовать нельзя. Ну а если всё получится?
Но она покачала головой:
— Пустые мечтания. Соседку быстро обнаружат. Даже если мы утаим сведения о ней.
— Эугения, будьте откровенны: ваше открытие состоялось случайно. Просто вам посчастливилось заметить звезду — ну случилось так, что вы сравнили два снимка одного участка неба. Но ведь вы могли и не заметить эту точку. Неужели другие не могут не обратить внимания на неё?
Инсигна промолчала, но выражение её лица удовлетворило Питта.
Его голос стал тихим, вкрадчивым.
— Даже если в нашем распоряжении окажется только одно столетие, всего сто лет, чтобы построить новое общество, — мы всё равно успеем вырасти и окрепнуть. И сумеем защитить себя, когда остальные бросятся на поиски. Мы будем уже достаточно сильны, чтобы не прятаться.
И снова Инсигна не ответила.
— Ну, убедил я вас? — спросил Питт.
— Не совсем. — Она словно очнулась.
— Тогда поразмыслите. Я хочу вас кое о чём попросить. Пока вы обдумываете моё предложение, не говорите никому о Звезде-Соседке, а все материалы о ней отдайте мне на хранение. Они будут целы. Я обещаю. Они понадобятся нам, если мы решим отправиться туда. Ну как, Эугения, способны вы на подобную малость?
— Да, — ответила она тихо. И встрепенулась: — Кстати, чуть не забыла. Я имею право дать звезде имя. Это моя звездами я назову её…
Питт улыбнулся:
— И как же вы предлагаете именовать её? Звездой Эугении?
— Нет. Я всё-таки не дура. Я хочу назвать её Немезидой.
— Немезидой? Не-ме-зи-дой?
— Да.
— Почему?
— Уже в конце двадцатого столетия считали, что у Солнца должна быть звезда-спутница. Но тогда её обнаружить не смогли. Самую близкую соседку Солнца так и не разыскали, но в статьях её называли Немезидой. Мне хотелось бы почтить таким образом память учёных, догадавшихся о её существовании.
— Но Немезида? Ведь это же какая-то греческая богиня… с довольно скверным характером.
— Это богиня возмездия, законного отмщения, неотвратимой кары. Прежде её имя широко использовалось в литературе. Теперь мой компьютер снабдил его пометкой — архаическое.
— Ну а почему же предки назвали звезду Немезидой?
— Они связывали её с кометным облаком. Они считали, что, обращаясь вокруг Солнца, Немезида возмущает движение комет, в результате чего те падают на Землю. Дело в том, что подобные удары из космоса регулярно губили жизнь нашей планеты каждые двадцать шесть миллионов лет.
— В самом деле? — Питт казался удивленным.
— Ну, не совсем так. Эта гипотеза не подтвердилась, но тем не менее я хочу, чтобы звезда называлась именно Немезидой. И ещё я хочу, чтобы в анналы была внесена запись о том, что именно я дала ей имя.
— Это я могу обещать вам, Эугения. Вы открыли её — так и будет отмечено в нашей истории. Ну а когда человечество, от которого мы сбежим, обнаружит свою, так сказать, немезидийскую ветвь, оно узнает и о первооткрывательнице. Ваша звезда, ваша Немезида, окажется первой, которой суждено будет восходить над поселениями оставивших Солнечную систему людей.
…Глядя в спину уходившей Эугении, Питт ощущал уверенность: она не подведёт. Он позволил ей дать звезде имя — жест великодушный и хитроумный. Теперь она будет стремиться к своей звезде. И, конечно же, будет заинтересована в том, чтобы возле неё выросла цивилизация, подчиняющаяся логике и порядку, способная заселить всю Галактику.
И тут, не успев вкусить блаженства от воображаемой картины светлого будущего, Питт ощутил, как сердце стиснул ужас, прежде незнакомый ему.
Почему именно Немезида? Отчего Инсигна вдруг вспомнила имя богини возмездия?
И чтобы не поддаться слабости, он постарался не думать об этом как о недобром предзнаменовании.
Глава 3
МАТЬ
Время было обеденное, и Инсигна находилась в таком расположении духа, когда чуточку побаивалась собственной дочери.
В последнее время подобное случалось всё чаще, но почему — она не знала сама. Быть может, потому, что Марлена становилась всё молчаливее, всё чаще уходила в себя, вечно была погружена в какие-то размышления, слишком личные, чтобы о них можно было говорить.
Иногда смятение и опаска мешались в душе Инсигны с чувством вины: во-первых, её материнское терпение часто бывало небезгранично, во-вторых, она прекрасно видела физические недостатки дочери. Ни спокойное обаяние матери, ни буйная привлекательность отца не передались Марлене.
Девочка была невысока и плохо сложена. Нескладеха — так про себя Инсигна называла бедняжку Марлену.
Да, бедная девочка — слова эти не шли у матери из головы и вечно просились на язык.
Невысокая, нескладная. Плотная — но не жирная. Такова была её девочка. Ни капли изящества. Тёмно-каштановые волосы, прямые и достаточно длинные. Нос чуть бульбочкой, уголки рта слегка опущены, маленький подбородок — и эта вечная углубленность в себя. Прекрасными были только глаза: огромные, чёрные, горящие, чёткие тёмные дуги бровей, а длинные ресницы даже казались искусственными. Но всего прочего одни глаза не могли компенсировать, как бы ни очаровывал их взгляд.
Когда Марлене исполнилось пять лет, Инсигна стала понимать, что особо привлекательной для мужчин дочь никогда не будет, и с каждым годом она всё больше убеждалась в этом.
Кое-какое внимание уделял девочке Ауринел, которого привлекали её не по годам развитый интеллект и способность всё схватывать на лету. В его присутствии Марлена держалась застенчиво, однако чувствовалось, что общение с ним доставляет ей удовольствие. Она смутно догадывалась, что в объекте, называемом «мальчишкой», может обнаружиться нечто неотразимо привлекательное, хоть и не понимала ещё, что именно.
Правда, в последние два года Инсигне стало казаться, что Марлена сумела досконально разобраться, что такое «мальчик». Дочь без разбора поглощала книги и фильмы, слишком взрослые, если не для ума, то, во всяком случае, для тела — они-то и внесли полную ясность. Но рос и Ауринел: он уже начинал подпадать под власть гормонов, и разговорчики понемногу перестали привлекать его.
В тот вечер за обедом Инсигна поинтересовалась:
— Ну, как прошёл день, дорогая?
— Как обычно. Приходил Ауринел — по-моему, он всё сам тебе рассказал. Извини, что я заставила себя разыскивать.
Инсигна вздохнула:
— Видишь ли, Марлена, мне иногда кажется, что ты грустишь, и моё беспокойство вполне извинительно. По-моему, ты проводишь в одиночестве слишком много времени.
— Я люблю быть одна.
— Не притворяйся. Радости на твоём лице не видно. Многие ребята охотно подружились бы с тобой, да и тебе было бы веселее. Ведь Ауринел — твой приятель.
— Был. Теперь его интересуют другие. Сегодня я в этом убедилась. И возмутилась. Представь себе, он торопился к Долоретте.
— Нельзя на него за это сердиться, — ответила Инсигна. — Ты же знаешь, Долоретта его ровесница.
— По возрасту, — выпалила Марлена, — но она такая глупая.
— В этом возрасте внешность имеет значение.
— Вот он и доказал это. Значит, и сам такой же глупый, как она. И чем больше он облизывается на Долоретту, тем легче становится его собственная голова. Это видно.
— Марлена, он повзрослеет и, может быть, сумеет понять, что в человеке по-настоящему важно. Ты ведь сама взрослеешь и тоже станешь…
Марлена загадочно поглядела на Инсигну и произнесла:
— Не надо, мам: ты сама не веришь в то, что хочешь сказать. Даже на минутку.
Инсигна покраснела. Она-то думала, что дочь не догадывается об этом. А она, оказывается, знает — но откуда? Инсигна говорила совершенно естественным тоном, искренне, пытаясь ощутить свою искренность. Но Марлена видела её насквозь. И не впервые. Инсигна подозревала, что Марлена умеет улавливать интонации, мгновения нерешительности, жесты — и по ним всегда узнавала то, чего ей не следовало бы знать. Вот эти способности дочери и пугали Инсигну.
Никто не хочет оказаться прозрачным как стеклышко для осуждающих глаз.
Ну например, что же такого она сказала Марлене, из чего дочка сделала вывод, что Земля обречена? Придётся выяснить и обдумать.
Инсигна вдруг ощутила усталость. Ей Марлену не провести — стоит ли пытаться?
— Хорошо, ближе к делу, — проговорила Инсигна. — Чего ты хочешь?
— Я вижу, что ты и в самом деле хочешь узнать это, — ответила Марлена. — И только поэтому скажу. Я хочу уехать отсюда.
— Уехать отсюда? — Инсигна не могла уразуметь смысла этих простых слов. — Куда же ты хочешь уехать?
— Мама, на свете существует не только Ротор.
— Конечно. Но на два световых года вокруг ничего нет.
— Нет, мама, ты не права. До Эритро меньше двух тысяч километров.
— Это ничего не значит. Там нельзя жить.
— Но ведь там живут люди.
— Да, под Куполом живут учёные и инженеры, занятые важной научной работой. Но ведь Купол много меньше Ротора. Если тебе здесь тесно, то каково покажется там?
— Там за пределами Купола будет Эритро. Когда-нибудь люди расселятся по всей планете.
— Возможно. Но в этом нельзя быть уверенным.
— А я уверена.
— Всё равно на это уйдут столетия.
— Пора начинать — почему я не могу быть среди первопроходцев?
— Марлена, ты смешна. У тебя здесь уютный дом. Когда это пришло тебе в голову?
Марлена поджала губы, а потом сказала:
— Я не уверена, но, пожалуй, несколько месяцев назад, и становится всё хуже. Я просто уже не могу оставаться на Роторе.
Поглядев на дочь, Инсигна нахмурилась: девочка понимает, что потеряла Ауринела, сердце её разбито, она хочет уехать отсюда, чтобы наказать его. Вот, мол, будет она горевать в одиночестве посреди безжизненной пустыни, и ему станет стыдно…
М-да, такого нельзя исключить. Эугения вспомнила себя в пятнадцать лет. Нежное сердечко… малейшее переживание способно разбить его. Правда, сердечные раны в таком возрасте заживают быстро, да только юной девушке в это не поверить. Пятнадцать лет! Это потом, потом только…
Да что попусту думать об этом!
— Так чем же, Марлена, тебя так привлекает Эритро?
— Даже не знаю. Она такая огромная… Человек должен жить в огромном мире — разве это не естественно? — Поколебавшись, она нерешительно добавила: — Таком, как Земля!
— Как Земля! — с укоризной отозвалась Эугения. — Ты ничего не знаешь о ней. Ты никогда её не видела!
— Я много видела, мама. В библиотеке полно фильмов о Земле.
Это верно. Питт даже собирался изъять их и уничтожить. Он намеревался бежать из Солнечной системы, бежать навсегда — и любые романтические воспоминания о родной планете мешали ему. Инсигна тогда решительно возражала, но теперь ей стал ясен смысл тогдашних намерений Питта.
— Марлена, не придавай им большого значения, — сказала она. — В фильмах всё идеализировано. И по большей части они рассказывают о далеком прошлом. Тогда дела на Земле ещё не обстояли так скверно, но и в те времена там было не так уж хорошо.
— Даже тогда?
— Даже тогда. Знаешь ли ты, на что теперь похожа Земля? Это просто дыра, в которой немыслимо жить. Поэтому люди покидают её и строят поселения; они оставляют огромный и ужасный мир, чтобы жить в цивилизованных условиях, и никто из них не хочет возвращаться.
— На Земле ещё живут миллиарды людей.
— Именно поэтому там невозможно жить. Все, кто мог, уже переселились. Вот почему сейчас столько поселений, и все они перенаселены. Вот почему мы здесь, дорогая.
— Отец землянин, и он остался там, хотя мог быть здесь, — тихо сказала Марлена.
— Да, он остался, — хмуро согласилась Эугения, пытаясь говорить ровным голосом.
— Почему же, мама?
— Хватит, Марлена. Мы уже говорили об этом. Многие предпочли остаться дома. Просто не хотели покидать родные края. Почти у всех роториан на Земле остались родные. Ты это прекрасно знаешь. Ты хочешь вернуться на Землю? Так?
— Нет, мама, вовсе нет.
— Впрочем, даже если бы ты и хотела, до неё целых два световых года. Ты это должна понимать.
— Конечно, я понимаю. Я просто хочу напомнить тебе, что рядом есть вторая Земля. Это Эритро. Я хочу туда, я стремлюсь туда.
Инсигна не сумела сдержаться. Почти с ужасом она услышала собственные слова:
— Значит, и ты хочешь бросить меня, как твой отец?
Марлена вздрогнула.
— Мама, неужели это правда, что он бросил тебя? Мне кажется, всё сложилось бы по-другому, если бы ты повела себя иначе. — И спокойно добавила: — Ведь ты сама прогнала его, мама.
Глава 4
ОТЕЦ
Странно — а может, глупо, — но воспоминания эти даже теперь, после четырнадцати лет разлуки, всё ещё причиняли ей невыносимую боль.
Крайл был высок — за метр восемьдесят, тогда как рост мужчин на Роторе в среднем не превышал метра семидесяти. Благодаря этому преимуществу он — как и Янус Питт — казался сильным и властным. Это впечатление долго обманывало Эугению, и она не скоро поняла, что на его силу нельзя положиться.
У него был прямой нос, резко очерченные скулы, сильный подбородок и страстный суровый взгляд. Он словно источал мужественность. Эугения ощутила её аромат при первой встрече и сразу же покорилась.
Инсигна тогда заканчивала астрономический факультет на Земле. Ей хотелось поскорей вернуться на Ротор и заняться работой, связанной с Дальним Зондом. Она знала, что эта работа предполагает широкие исследования космоса, но даже не подозревала, какое ошеломляющее открытие предстоит сделать ей самой.
Тогда-то она и познакомилась с Крайлом и, к собственному смятению, безумно влюбилась… в землянина. Подумать только — в землянина! И уже почти решила выбросить из головы мечты о Дальнем Зонде и остаться на Земле, с ним.
Эугения помнила, как Крайл удивленно посмотрел на неё и сказал:
— Оставаться здесь… со мной? А мне бы хотелось уехать с тобой на Ротор.
Она и подумать не смела, что он готов променять свой огромный мир на её крохотный мирок.
Как Крайлу удалось добиться разрешения жить на Роторе, Инсигна не знала, да так никогда и не узнала.
Иммиграционные законы были весьма строги. Как только очередное поселение заканчивало набор необходимого числа людей, въезд немедленно ограничивался: во-первых, потому, что поселения могли обеспечить комфортом лишь ограниченное число жителей, а во-вторых, каждое из них отчаянно стремилось сохранить внутреннее экологическое равновесие. Люди, прибывавшие с Земли или из других поселений по необходимости, подвергались тщательной дезинфекции, а иной раз отправлялись в карантин. И едва гости заканчивали свои дела, их немедленно выпроваживали.
Крайл тоже был гостем. Однажды он посетовал на то, что ему предстоит провести в карантине несколько недель, и Эугения втайне обрадовалась его настойчивости. Значит, она и в самом деле нужна ему, раз он идёт на всё.
Но временами он казался ушедшим в себя, невнимательным, и тогда Эугения начинала гадать, что именно погнало его на Ротор, несмотря на все препятствия. Может быть, причина не в ней? Что, если он преступник? Или у него есть опасные враги? А может быть, ему просто надоела земная женщина и он сбежал от неё? Спросить она не решалась.
Сам он никогда не говорил об этом.
Но и после того, как Крайл обосновался на Роторе, оставалось неясным, как долго ему удастся там пробыть. Иммиграционное бюро специальным разрешением предоставило Крайлу гражданство, что для Ротора было событием экстраординарным.
Всё, что делало общество Крайла Фишера неприемлемым для роториан, казалось Инсигне дополнительным поводом для восхищения им. Земное происхождение придавало ему блеск и неординарность. Истинной роторианке следовало презирать чужака, но Эугения находила в этом даже источник эротического возбуждения. И решила биться за Крайла с враждебным миром — и победить.
Когда Крайл стал подыскивать себе работу — чтобы зарабатывать и как-то устроиться в новом для него обществе, — она намекнула ему, что женитьба на роторианской женщине — роторианке в третьем поколении — может заставить бюро иммиграции предоставить ему все права гражданина.
Крайл поначалу удивился, словно прежде это ему и в голову не приходило, но потом как будто обрадовался. Инсигна же почувствовала некоторое разочарование. Одно дело — выходить замуж по любви, другое — ради того, чтобы муж получил гражданство. Но она сказала себе: ничего, за всё приходится платить.
И после подобающей по роторианским обычаям долгой помолвки они поженились.
Жизнь пошла прежним чередом. Он не был страстным любовником — впрочем, как и до свадьбы. Но относился к ней неизменно ласково и внимательно, и это не давало остыть счастью в её душе. Он никогда не был груб, а тем более жесток. Кроме того, Инсигна помнила, что муж оставил ради неё свой мир и преодолел множество препятствий, чтобы иметь возможность жить вместе с нею. Всё это, конечно, свидетельствовало в пользу его чувств.
Несмотря на то что Крайл стал полноправным гражданином, в душе его всё-таки оставалась какая-то неудовлетворенность. Инсигна видела это, но не могла осуждать мужа. Гражданство гражданством, но, поскольку он не был рождён роторианином, ряд интересных областей деятельности по-прежнему был закрыт для него. Она не знала, чему его учили там, на Земле; сам же он никогда не рассказывал, какое образование получил. Но в разговоре недостатка образованности не обнаруживал. Впрочем, он мог быть и самоучкой: Инсигна успела узнать, что на Земле высшее образование не считается обязательным, как у роториан.
Вот это-то и смущало её. Не то, что Крайл Фишер был землянином, — тут она могла смело глядеть в лицо друзьям и коллегам, когда об этом заходила речь. Но вот то, что он мог оказаться необразованным землянином…
Но никто не делал никаких намеков, а Крайл терпеливо выслушивал рассказы Эугении о работе Дальнего Зонда. Правда, она так и не рискнула проверить его знания, заведя какой-нибудь разговор о технике. Впрочем, иногда он задавал ей вопросы по делу или отпускал вполне уместные замечания. Ей это было приятно, поскольку его слова вполне могли принадлежать человеку интеллигентному.
Фишер работал на одной из ферм — занятие вполне респектабельное, более того — из числа важнейших, но, увы, занимавшее место почти в самом низу социальной шкалы. Он не возмущался и не жаловался жене — ведь без её помощи он не смог бы попасть даже туда, — но и не обнаруживал удовлетворения. О своей работе он не рассказывал, но Эугения замечала в нём смутное недовольство.
И поэтому она привыкла обходиться без фраз вроде: «Привет, Крайл. Ну, как дела на работе?»
То есть поначалу она задавала такие вопросы, но ответ был неизменно один: «Ничего особенного» — и короткий досадливый взгляд.
Наконец и она перестала сообщать ему во всех подробностях мелкие служебные дрязги и сплетни. Ведь даже такие мелочи могли дать ему повод для неприятных сравнений.
Инсигна убеждала себя, что страхи её преувеличены и свидетельствуют скорее о её собственной неуверенности в себе. Вечерами, когда она приступала к описанию дневных трудов, Фишер слушал её, не обнаруживая нетерпения. Несколько раз без особого интереса он расспрашивал её о гиперприводе, но Инсигна знала о нём немного.
Политические перипетии на Роторе интересовали Крайла — впрочем, мелочную возню колонистов он воспринимал с высокомерием истинного землянина. Эугения старалась помалкивать, чтобы муж не заметил её неудовольствия.
И в конце концов между ними пролегло молчаливое отчуждение, которое иногда нарушали короткие разговоры о просмотренных фильмах, общих знакомых, мелких жизненных проблемах.
Она не считала себя несчастной. Пирожное превратилось в белый хлеб — однако есть вещи куда менее вкусные, чем пышный батон.
Были в этом и свои преимущества. Заниматься секретными делами — значит не говорить о них никому, но кто сумел бы не проболтаться, лежа рядом с женой или мужем? Впрочем, Инсигне это почти не грозило — так мало секретного было в её работе.
Но когда открытие Звезды-Соседки вынужденно и совершенно неожиданно для Эугении угодило под спуд — как только сумела она сдержаться? Естественные побуждения требовали иного: немедленно похвастаться перед мужем, обрадовать его тем, что она совершила важное открытие и имя её не исчезнет со страниц учебников астрономии, пока живо человечество. Она могла бы рассказать ему всё ещё до разговора с Питтом. Могла просто попрыгать перед ним на одной ножке: «Угадай-ка! Угадай-ка! Ни за что не угадаешь!»
Но она не сделала этого. Просто не сообразила, что Фишер может заинтересоваться. Может быть, он разговаривал о работе с другими — с фермерами или жестянщиками, — но не с ней…
Поэтому она даже не обмолвилась ему о Немезиде. И разговоров об этом не было до того ужасного дня, когда рухнула их семейная жизнь.
* * *
Когда же она полностью перешла на сторону Питта?
Поначалу мысль о том, что существование Звезды-Соседки нужно держать в секрете, смущала Инсигну; она не хотела покидать Солнечную систему ради звезды, о которой не было известно почти ничего, кроме положения в пространстве. Она считала неэтичным и бесчестным создавать новую цивилизацию втайне от всего человечества.
Но этого требовала безопасность поселения, и Инсигна сдалась. Однако она намеревалась бороться с Питтом и при любой возможности противоречить ему. Аргументы свои она отточила настолько, что, на её взгляд, они сделались абсолютно безукоризненными и неопровержимыми, но… ей пришлось оставить их при себе.
Питт всегда успевал перехватить инициативу.
Как-то раз он сказал ей:
— Эугения, вы наткнулись на Звезду-Соседку в известной мере случайно, и ничто не мешает вашим коллегам сделать то же самое.
— Едва ли… — начала она.
— Нет, Эугения, не будем полагаться на вероятность. Нам необходима уверенность. Вы сами проследите, чтобы никто даже шагу не сделал в опасную сторону, к материалам, которые могут выдать положение Немезиды.
— Как же я смогу это сделать?
— Очень просто. Я беседовал с комиссаром, и вы теперь будете возглавлять все работы по исследованиям Дальнего Зонда.
— Но это значит, что я перескочила…
— Да. У вас повысились ответственность, зарплата, общественный статус. Чем вы недовольны?
— Я не думаю возражать, — ответила Инсигна, ощущая тяжелые удары своего сердца.
— Уверен, что с обязанностями главного астронома вы справитесь самым лучшим образом, но главная ваша цель будет заключаться в том, чтобы все астрономические исследования производились с высочайшим качеством и максимальной эффективностью и при этом не имели бы никакого отношения к Немезиде.
— Но, Янус, разве можно утаить такое открытие?
— Я и не собираюсь этого делать. Сразу же, как только выйдём из Солнечной системы, все узнают, куда мы направляемся. Но до тех пор знать о Немезиде должны немногие — и чем позже они узнают о ней, тем лучше.
Повышение в должности, не без стыда отметила Инсигна, лишило её желания возражать.
В другой раз Питт поинтересовался:
— А как у вас с мужем?
— В каком смысле? — немедленно перешла в оборону Инсигна.
— По-моему, он — землянин?
— Он родился на Земле, но стал гражданином Ротора. — Инсигна поджала губы.
— Понимаю. Значит, вы ничего не рассказывали ему о Немезиде?
— Совершенно ничего.
— А этот самый муж никогда не говорил вам, почему он оставил Землю и что ему понадобилось на Роторе?
— Нет. Да я и не спрашивала.
— Неужели вас это вовсе не интересует?
Поколебавшись, Инсигна призналась:
— Конечно же — иногда.
— Тогда, быть может, я смогу кое-что объяснить вам, — улыбнулся Питт.
Так он и сделал — постоянно, понемногу, ненавязчиво, не оглушая, во время каждого разговора. Речи его вывели Инсигну из оболочки, в которой она замкнулась. В конце концов, если живешь на Роторе, приходится и воспринимать всё по-роториански.
Но благодаря Питту, тому, что он рассказывал, тем фильмам, которые он советовал ей посмотреть, она наконец составила верное представление о Земле и миллиардах людей, её населяющих, о вечном голоде и насилии, о наркотиках и умопомешательстве. И Земля стала казаться ей бездной, полной ужасов, от которой следовало бежать как можно дальше. Она больше не удивлялась, почему Крайл Фишер оставил планету, — она думала, почему так мало землян последовали его примеру.
Правда, сами поселения были немногим лучше. Теперь она поняла, как замкнуты эти мирки, жители которых не имеют возможности свободно передвигаться в космосе. Каждое поселение боялось заразы, чуждой микрофлоры и фауны. Торговля медленно отмирала, а если где и велась, то в основном с помощью автоматических кораблей, перевозивших тщательно простерилизованные грузы.
Поселения ссорились и враждовали. Околомарсианские поселения были не лучше прочих. Только в поясе астероидов поселения пока ещё беспрепятственно умножались, тем самым навлекая на себя растущую неприязнь всех обитавших ближе к Солнцу.
И Инсигна всё чаще внутренне соглашалась с Питтом, она почувствовала желание бежать из этой нестерпимой нищеты — чтобы заложить основы новой цепи миров, где не будет места страданию. Новое начало, новые возможности.
А потом выяснилось, что она беременна, и энтузиазм немедленно начал улетучиваться. Одно дело — рисковать собой и мужем, другое — подвергать опасности собственное дитя.
Но Питт был невозмутим. Он поздравил её:
— Ребенок родится здесь, у Солнца, и вам хватит времени привыкнуть к младенцу. К тому времени, как мы подготовимся к пути, ему исполнится годика полтора. А потом вы и сами поймете, какое это счастье, что не пришлось ждать дольше. Ваше дитя и знать не будет об участи загубленной родом людским планеты, об отчаянии, разделившем людей. Ребенок будет знать только свой новый мир — культурный, в котором все его обитатели будут понимать друг друга. Какой везучий ребенок, какой счастливый ребенок. Не то что мои сын и дочь — они уже выросли, и оба отмечены этой печатью.
И Эугения вновь воспрянула духом. И когда родилась Марлена, она уже начала опасаться всяких задержек, чтобы неудачники, заполонившие всю Солнечную систему, не смогли заразить девочку своей бестолковостью.
К тому времени она уже полностью разделяла взгляды Питта.
Ребенок, к большому облегчению Инсигны, словно приворожил Фишера. Она и не предполагала, что Крайл окажется таким хорошим отцом. Он буквально не давал на неё пылинке упасть и охотно взял на себя свою долю отцовских забот. Даже вдруг сделался жизнерадостным.
Когда Марлене было около года, по Солнечной системе вдруг поползли слухи, что Ротор собирается в путь. Известие взбудоражило едва ли не всю систему, а Питт, уже явно метивший в комиссары, зловеще усмехался.
— Ну что они могут сделать? Чем они могут остановить нас? Весь этот околосолнечный шовинизм, все эти обвинения в нелояльности лишь приведут к свертыванию исследований гиперпривода в других поселениях, что только послужит нашим целям.
— Но как они сумели узнать об этом? — удивилась Инсигна.
— Об этом позаботился я, — улыбнулся он. — Теперь я не против, пусть знают, что мы улетаем, ведь им неизвестно, куда мы направляемся. В конце концов, скрывать это больше нельзя. Мы должны провести всеобщее голосование, а когда все роториане узнают о предстоящем отлёте, узнает о нём и Солнечная система.
— Голосование?
— Конечно — а почему нет? Подумайте, разве можно улетать с таким количеством людей, которые боятся оказаться вдали от Солнца или будут тосковать без него? Так мы с нашим делом не справимся. Нам нужны добровольцы, и к тому же ретивые. Идея отлёта должна получить всеобщее одобрение.
Он был абсолютно прав. Кампания началась немедленно, а преднамеренная утечка информации смягчила напряженность как внутри Ротора, так и за его пределами.
Одни роториане радовались предстоящему событию, другие боялись.
Когда Фишер обо всём узнал, он помрачнел и однажды сказал жене:
— Это безумие.
— Неизбежное безумие, — поправила его Инсигна, стараясь говорить спокойно.
— Почему? Почему мы должны скитаться среди звезд? И куда нам лететь? Там же нет ничего.
— Там миллиарды звезд…
— А сколько планет? Ведь мы даже не знаем, есть ли вообще планеты возле других звезд, не говоря уж о пригодных для обитания. Только Солнечная система может быть домом для людей Земли.
— Любопытство в крови человека. — Это было одно из высказываний Питта.
— Романтическая чушь. Неужели никто здесь не понимает, что на голосование поставлено предложение: трусливо сбежать, бросить человечество и кануть в космической дали.
— Крайл, насколько я понимаю, — сказала Инсигна, — общественное мнение на Роторе склоняется к тому, чтобы принять это предложение.
— Пропаганда совета. Неужели ты считаешь, что народ проголосует за то, чтобы оставить Землю? Чтобы оставить Солнце? Никогда. Если такое случится — мы вернёмся на Землю.
Она почувствовала, как её сердце замерло.
— Нет-нет, неужели с тебя не хватит этих ваших самумов, буранов и мистралей — или как они там зовутся? Тебе хочется, чтобы на голову падали льдинки, шёл дождь, чтобы выл ветер?
— Всё это не так уж и плохо. — Высоко подняв брови, он посмотрел на жену. — Верно, бывают бури, но их легко предсказать. Между прочим, они даже интересны — если не слишком сильны. Это даже здорово: немного холода, немного жары, немного дождя. Разнообразие. Бодрит. И потом — подумай, как разнообразна земная кухня.
— Кухня? Что ты болтаешь? Люди на Земле голодают. Мы вечно отправляем туда корабли с продовольствием.
— Да, некоторые голодают, но ведь не все.
— И ты хочешь, чтобы Марлена выросла в подобных условиях?
— Так выросли миллиарды детей.
— Моей девочки среди них не будет, — отрезала Инсигна.
Теперь все надежды её заключались в Марлене. Девочке уже было десять месяцев, и у неё прорезалось по два передних зуба, сверху и снизу. Цепляясь за прутья манежа, она вставала на ножки, взирая на мир круглыми, изумленными, озаренными несомненным умом глазами.
Фишер души не чаял в своей дурнушке-дочурке. Когда девочка не сидела у него на руках, он возился с нею, любовался и восхищался дивными глазками. Больше восхищаться было нечем, и единственное достоинство заменяло отцу всё остальные.
Конечно же, Фишер не станет возвращаться на Землю, понимая, что это означает вечную разлуку с Марленой. Инсигна не была уверена, что, будучи поставлен перед выбором, Крайл выберет её, женщину, которую любил и на которой женился, — а не Землю… Впрочем, Марлена непременно заставит его остаться.
Непременно?
* * *
Через день после голосования, придя с работы, Эугения Инсигна застала своего мужа в ярости. Задыхаясь от гнева, он произнес:
— Результаты голосования сфальсифицированы.
— Тише, ребенка разбудишь, — ответила она.
Крайл попытался прийти в себя.
Чуточку расслабившись, Инсигна сказала:
— Теперь можно не сомневаться в том, чего желают роториане.
— И ты тоже голосовала за бегство?
Она помедлила. Лгать бессмысленно. К тому же она уже выразила своё мнение.
— Да, — подтвердила она.
— Питт приказал, ещё бы, — буркнул Крайл.
Она удивилась:
— При чем здесь Питт? Неужели я не способна сама принять решение?
— Но ты и он… — Фишер умолк.
Кровь бросилась ей в лицо:
— Что ты хочешь этим сказать?
(Неужели он подозревает её в неверности?)
— Что? А то, что он — политикан. И стремится стать комиссаром любой ценой, а ты хочешь подняться, уцепившись за него. За политическую лояльность тоже платят, не так ли?
— И куда же я, по-твоему, мечу? Как будто некуда. Я астроном, а не политик.
— Тебя же повысили — пренебрегая при этом более старшими, более опытными.
— Наверное, я хорошо работаю…
(Как ей теперь защитить себя, не выдав истину?)
— Не сомневаюсь, что тебе самой нравится эта мысль. Но всё дело в Питте.
— Так куда же ты клонишь? — вздохнула Инсигна.
— Слушай! — Крайл говорил негромко, помня, что Марлена спит. — Не верю я, что всё поселение готово рискнуть жизнью, отправляясь в путь с этим гиперприводом. Откуда вам известно, как дело обернется? Откуда вы знаете, как он сработает? А что, если мы все погибнем?
— Дальний Зонд работает прекрасно.
— А живые существа на нём были? Если нет, откуда вам знать, как воздействует гиперпривод на живой организм? Что тебе известно о нём?
— Ничего.
— Как же так? Ты ведь работаешь в лаборатории, а не на ферме.
Ревнует, решила Инсигна. И сказала:
— Ты думаешь, что все работники лаборатории сидят в одной комнате. Я уже говорила тебе: я астроном и ничего не знаю о гиперприводе.
— Значит, Питт ничего тебе не рассказывал?
— О гиперприводе? Он и сам не знает, что это такое.
— Ты хочешь убедить меня, что никто из вас о нём ничего не знает?
— Отчего же — специалисты по гиперпространству знают всё. Те, кому положено знать, — знают. Остальным это ни к чему.
— Значит, гиперпривод — секрет для всех, кроме горстки специалистов?
— Совершенно верно.
— Тогда нельзя быть уверенным в безопасности гиперперелета, нельзя полагаться на одних специалистов по гиперпространству. Они-то как, по-твоему, могли убедиться в этом?
— Думаю, они проводили необходимые эксперименты.
— Ты предполагаешь…
— Вполне разумное предположение. Они утверждают, что перелет безопасен.
— Ты думаешь, что они не способны на ложь?
— Кстати, они тоже полетят. И я уверена, что такие эксперименты проводились.
Прищурившись, Крайл посмотрел на жену:
— Значит, уже уверена. Конечно, Дальний Зонд — твоё детище. Так были на его борту живые существа или нет?
— Я же не имела отношения к обеспечению полёта. Я ознакомлена лишь со всеми астрономическими материалами. — Инсигна потеряла терпение. — Знаешь что, мне не нравится этот спор, да и ребенок уже ворочается. Теперь у меня к тебе пара вопросов. Что ты собираешься делать? Летишь с нами или нет?
— Я не обязан лететь. Условия голосования таковы: всякий, кто не хочет, может не лететь.
— Я знаю, что ты не обязан, но как ты поступишь? По-моему, не стоит разрушать семью.
Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла неубедительной.
— Но я не хочу оставлять Солнечную систему, — медленно и угрюмо проговорил Фишер.
— Значит, лучше оставить меня и Марлену?
— Зачем нам с Марленой разлучаться? Если ты намерена рисковать — при чем тут ребенок?
— Если полечу я, полетит и Марлена, — твёрдо произнесла Эугения. — Пойми это, Крайл. Куда ты с ней подашься? В недостроенное поселение на астероидах?
— Конечно, нет. Я родом с Земли и всегда могу вернуться туда.
— Это на гибнущую-то планету? Блестящая мысль.
— Уверяю тебя, до её гибели осталось ещё о-го-го сколько.
— Зачем же ты тогда покинул её?
— Я думал, что здесь мне будет лучше. Я не знал, что покупаю себе билет в никуда без возврата.
— Не в никуда, — не выдержала Инсигна. — Если бы ты только знал, куда мы отправляемся, то не стал бы так торопиться на Землю.
— Почему? Куда летит Ротор?
— К звездам.
— К забвению.
Они посмотрели друг на друга. В этот момент Марлена открыла глаза и спросонья пискнула. Взглянув на ребенка, Фишер смягчился.
— Эугения, нам незачем расставаться. Я не собираюсь разлучаться с Марленой. И с тобой тоже. Давай вернёмся вместе.
— На Землю?
— Да. А почему бы и нет? У меня там остались друзья. У моей жены и дочери не будет никаких проблем. Все ваши здешние экологические балансы Землю не волнуют. Лучше жить на огромной планете, чем в крошечном вонючем пузыре посреди космоса.
— Твоя планета просто до предела раздувшийся вонючий пузырь. Нет-нет, никогда.
— Тогда позволь мне взять Марлену с собой. Это для тебя путешествие оправдывает всякий риск. Ты ведь астроном, тебе нужна Вселенная для твоих работ, но ребенок пусть останется у Солнца, в безопасности и покое.
— Это на Земле-то? Не смеши меня. Зачем ты затеял этот разговор? Чтобы отобрать у меня моего ребенка?
— Нашего ребенка.
— Моего. Ступай куда хочешь. Я не хочу больше видеть тебя. И не смей трогать ребенка. Ты сказал, что я в хороших отношениях с Питтом — так оно и есть. А значит, я могу устроить так, чтобы тебя отправили в пояс астероидов, хочешь ты того или нет. А потом добирайся как знаешь до своей прогнившей Земли. А теперь убирайся из моего дома и подыщи себе другое место для ночлега, пока тебя не выслали отсюда. Когда сообщишь мне, где устроился, я перешлю тебе пожитки. И не думай, что сможешь вернуться. Мой дом будет под охраной.
В тот момент Инсигна была искренна, она говорила то, что думала; гнев переполнял её сердце. Она могла уговорить его, уломать, убедить — наконец, переспорить, но не стала даже пытаться. Она с ненавистью посмотрела на мужа — и выгнала из дома.
И Фишер ушёл. А она отправила вслед его вещи. Потом он отказался лететь на Роторе, и его выслали. Эугения полагала, что он вернулся на Землю.
Оставил навсегда её и Марлену. Нет, это она оставила его навсегда.
Глава 5
ДАР
Инсигна удивлялась себе самой. Она никому ещё не рассказывала о расставании с мужем, хотя переживала случившееся почти каждый день целых четырнадцать лет. Она и не собиралась посвящать кого бы то ни было в эту грустную историю, которая должна была вместе с ней уйти в могилу.
Не то чтобы она видела в этом нечто стыдное — просто считала глубоко личным делом.
И вот ни с того ни с сего выложила всё до капли своей юной дочери, которую до сих пор считала ребенком.
Дочь грустно смотрела на мать тёмными взрослыми глазами — по-совиному, не моргая… Наконец Марлена промолвила:
— Значит, это ты его прогнала?
— В общем — да. Я так разозлилась, просто рассвирепела. Он хотел забрать тебя с собой. И куда — на Землю! — Она помедлила; потом решительно проговорила: — Теперь понимаешь?
— Неужели ты не смогла бы обойтись без меня? — спросила Марлена.
— Как ты можешь такое говорить? — вспылила Инсигна — и осеклась под невозмутимым взглядом дочери. Действительно, так ли уж нужна была ей тогда дочь?.. Но она ответила, стараясь не выдать волнения: — Ну что ты. Разве я могла от тебя отказаться?
Марлена замотала головой, и на миг лицо её помрачнело.
— Ведь я не была очаровательным ребенком. Может, отцу я была нужна больше, чем тебе? Может быть, всё тогда и произошло из-за того, что я была ему нужнее, чем тебе? А ты настояла на своем, чтобы причинить ему боль.
— Какие ужасные вещи ты говоришь. Всё было совершенно не так, — ответила Инсигна, абсолютно не уверенная в том, что не кривит душой.
Грустное это дело — обсуждать семейную драму с Марленой. С каждым днём девочка всё больше обнаруживала жуткое умение резать по живому. Инсигне не раз приходилось сталкиваться с этим, но прежде она считала подобные выходки случайными. Но это происходило всё чаще, и теперь своим языком-скальпелем Марлена резала уже преднамеренно.
Инсигна проговорила:
— Марлена, а как ты поняла, что я сама прогнала твоего отца? Я ведь тебе не говорила об этом. Разве я себя чем-то выдала?
— Мама, я не понимаю, как это происходит, но я просто знаю. Когда ты вспоминаешь об отце, разговариваешь о нём с другими, в твоём голосе всякий раз слышится сожаление, чувствуется, что ты хотела бы, чтобы всё было иначе.
— В самом деле? А я этого не ощущаю.
— Я наблюдаю, делаю выводы. Как ты говоришь, как смотришь…
Пристально поглядев на дочь, Инсигна вдруг выпалила:
— Ну-ка, о чём я сейчас думаю?
Слегка вздрогнув, Марлена усмехнулась. Смешливой она не была и никогда не смеялась от души.
— Это легко, — сказала она, — сейчас ты думаешь, что я читаю твои мысли. Но это не так. Я не знаю их. Просто умею догадываться по словам, жестам, интонациям и выражениям. Люди абсолютно не умеют скрывать свои мысли. Я убедилась в этом, наблюдая за ними.
— Зачем тебе понадобилось наблюдать за людьми?
— Потому что все лгали мне, когда я была ребенком. Говорили, что я миленькая. Или же это говорили тебе, потому что я была рядом. Да у всех на лицах словно написано: я говорю не то, что думаю. И никто даже не представляет себе, как это заметно. Сначала я не могла поверить, что этого никто не знает. Но потом я сказала себе: наверное, они считают, что просто удобнее делать вид, что говоришь правду. — Марлена помолчала и вдруг спросила: — Почему ты не сказала отцу, куда мы направляемся?
— Не могла. Тогда это была не моя тайна.
— Но если бы ты сказала, он, возможно, и отправился бы с нами.
Инсигна затрясла головой:
— Нет-нет, никогда. Он твёрдо решил возвращаться на Землю.
— А если бы ты всё рассказала ему, мама, комиссар Питт не разрешил бы ему возвращаться? Ведь наш отец не должен был знать то, чего знать не положено.
— Питт не был тогда комиссаром, — рассеянно пробормотала Инсигна и внезапно вспыхнула: — Таким он был мне не нужен. И тебе, кстати, тоже!
— Не знаю. Я не могу представить, каким он был бы теперь.
— А я знаю!
Пламя чувств вновь охватило Инсигну. Ей вновь с отчаянной ясностью припомнилась и их ссора, и собственный резкий голос, приказывавший Фишеру убираться. Он должен был уйти. Нет, ошибки не было. Ей не хотелось, чтобы он стал пленником, невольным узником Ротора. Она ещё слишком любила его — или недостаточно ненавидела…
Она резко сменила тему разговора, стараясь, чтобы выражение лица не выдало её:
— Сегодня ты озадачила Ауринела. Почему ты сказала ему, что Земля погибнет? Он явился ко мне весьма озабоченный этим.
— Ты бы сказала ему, что я ещё ребенок и всё это — детский лепет. Такой ответ прекрасно устроил бы его.
Инсигна не стала обращать внимания на эти слова. Быть может, и в самом деле лучше не говорить ничего, чем говорить правду.
— Ты действительно думаешь, что Земля обречена?
— Да. Иногда ты говоришь о Земле — «бедная Земля». Ты редко забываешь назвать Землю бедной.
Инсигна почувствовала, что краснеет. Неужели она и впрямь так говорит о Земле?
— А разве это не так? — спросила она. — Планета перенаселена, измучена цивилизацией — это же просто клубок болезней, бедствий и ненависти. Трудно её не пожалеть. Бедная Земля.
— Нет, мама. Ты говоришь это иначе. — Марлена подняла руку вверх ладонью, словно что-то держала в ней.
— Ну, Марлена?
— Я понимаю это умом, но не могу выразить словами.
— Попробуй. Я должна понять.
— Мне кажется, что ты чувствуешь себя виноватой…
— Отчего ты так решила?
— Однажды ты смотрела в иллюминатор на Немезиду, и мне показалось тогда, что всё дело в ней. Когда я спросила у компьютера, что такое Немезида, он мне сказал: это нечто безжалостное, сулящее гибель, грозное возмездие.
— Она названа так по другой причине! — воскликнула Инсигна.
— Но имя ей дала ты, — невозмутимо ответила Марлена.
Это уже ни для кого не было тайной: когда Ротор вышел за пределы Солнечной системы, Инсигна потребовала публичного признания своего открытия.
— Именно поэтому, уверяю тебя, смысл имени здесь ни при чем.
— Тогда почему ты считаешь себя виноватой, мама?
(Молчи… если не хочешь говорить правду.)
Наконец Инсигна проговорила:
— Так как же, по-твоему, погибнет Земля?
— Я-то не знаю, а вот ты, мама…
— Марлена, мы с тобой принялись играть в загадки, пусть так. Об одном только прошу: никому ни о чём не говори: и об отце, и об этой бредовой идее о гибели Земли.
— Если ты хочешь, я буду молчать. Только Земля погибнет — и это вовсе не бред.
— А я говорю — бред. Будем считать это бредом.
Марлена кивнула.
— Схожу-ка я погляжу на планету, — сказала она с видимым безразличием. — А потом пойду спать.
— Хорошо.
Инсигна смотрела вслед уходящей дочери. «Вина, — думала она, — я её чувствую. Она, должно быть, словно печать у меня на лице. Каждый может увидеть, если захочет».
Каждый ли? Нет, только Марлена. С её даром.
Должна же девочка иметь что-то взамен того, что ей не дано. Редкий ум — этого слишком мало. Потому-то она и одарена способностью читать по лицам, интонациям, неприметным для другого глаза жестам и телодвижениям. Так что ни одной тайны от неё не скроешь. Давно ли открылся у неё этот дар? Давно ли она узнала о нём? Или это результат взросления? Но тогда почему она именно теперь обнаружила его, словно извлекла из-под покрова, под которым скрывала? Или ей потребовалось оружие против матери?
Может быть, это случилось потому, что Ауринел отверг её, окончательно и бесповоротно, — и она сама об этом догадалась? И теперь просто мечется от боли, слепо рассыпая удары?
«Я виновата, — думала Инсигна, — мне ли не знать собственной вины? Одна я во всём виновата. Я могла бы давно всё выяснить, но не хотела».
Глава 6
ПРИБЛИЖЕНИЕ
Так когда же она сама об этом догадалась? Когда давала звезде имя «Немезида»? Неужели уже тогда она инстинктивно ощутила, чем грозит эта звезда человечеству, и с неосознанной точностью выразила свои опасения в её имени?
Когда Инсигна обнаружила далекую звездочку, ей важно было одно — она сделала открытие. В голове кружилась только мысль о бессмертии. Это её звезда, звезда Инсигны. Она даже хотела назвать её так. Получалось звучно… только нескромно. Подумать только, как бы ей пришлось сейчас мучиться, если бы всё-таки поддалась искушению.
Навязанная Питтом секретность сбила её с толку. Потом началась суета перед Исходом. (Так, наверное, и будут называть это событие в учебниках по истории — с прописной буквы.)
Ну а после Исхода целых два года корабль то выходил из гиперпространства, то осторожно вползал в него. От Инсигны требовали бесконечных расчётов гиперперехода, для которых нужны были всё новые и новые астрономические данные, и ей приходилось контролировать все наблюдения. Только измерения плотности и состава межзвездной материи стоили ей изрядных трудов.
Почти четыре года ей некогда было подумать о Немезиде, не было времени заметить очевидное.
Но так ли это на самом деле? Или она просто ничего не желала видеть, ища спасения за мелкими загадками, суетой и волнениями?
Но наконец завершился последний гиперпространственный переход. Оставалось последнее — в течение месяца осуществить торможение. Ротор мчался сквозь ливень атомов водорода с такой скоростью, что невинные атомы преображались в частицы космических лучей.
Обычный космический аппарат не смог бы защитить людей от излучения, но Ротор был покрыт снаружи толстым слоем грунта, который нарастили ещё перед стартом. Он-то и поглотил опасные лучи.
Когда-нибудь, говорил Инсигне один из специалистов по гиперпространству, люди сумеют входить в него на обычной скорости и так же возвращаться обратно. «Общее представление о гиперпространстве мы имеем, эпохальных открытий не будет. Всё остальное — дело техники».
Может быть. Впрочем, другие специалисты полагали, что подобное совершенство будет достигнуто, когда звёзды померкнут.
Когда ужасная правда открылась Инсигне, она бросилась к Питту. За последний год они виделись редко: она знала, как мало у него времени. Очарование первого межзвездного путешествия начинало рассеиваться, и повсюду возникала известная напряженность; до людей постепенно доходило, что они вот-вот, через считаные месяцы, окажутся возле чужой звезды. Там перед ними немедленно возникнут проблемы: какое-то время придётся жить возле незнакомого красного карлика, и никто не мог гарантировать, что материя вокруг него сложилась в планеты, пригодные для жилья, или астероиды, способные послужить источником сырья.
Янус Питт уже не выглядел молодым — впрочем, волосы его не поседели, и на лице не было морщин. Всего четыре года назад Инсигна принесла ему своё открытие, а во взгляде Питта уже появилась глубокая озабоченность, словно радость оставила его навсегда.
Теперь он был верховным комиссаром. Быть может, это и служило причиной его тревог. Инсигна не изведала истинной власти и сопряженной с ней ответственности, но нечто подсказывало ей, что подобное могущество — вещь не сладкая.
Питт рассеянно улыбнулся ей. Поначалу никто не знал о тайне, которая их объединяла, и они были вынуждены держаться вместе. Вдвоем они могли разговаривать откровенно, не опасаясь проболтаться. Но после Исхода, когда секрет был раскрыт, они вновь отдалились друг от друга.
— Янус, — сказала она. — Я очень беспокоюсь и пришла поговорить с тобой. Дело касается Немезиды.
— Что-нибудь новенькое? Теперь ты уже не можешь сказать, что звезды нет там, где ты предполагала. Вот она, видна невооруженным глазом. Правда, до неё ещё шестнадцать миллиардов километров.
— Да, я знаю. Но когда я открыла её, нас разделяло чуть более двух световых лет, и я решила, что Немезида и Солнце обращаются вокруг общего центра тяготения. На таком расстоянии иначе и быть не могло, но, как выяснилось, всё обстоит иначе. Нас ждет подлинная трагедия.
— Хорошо. И какая же трагедия нас ожидает?
— Дело в том, что хотя Немезида находится близко от Солнца, но всё-таки не настолько, чтобы образовать с ним пару. Их взаимное притяжение на таком расстоянии настолько слабо, что воздействие ближайших звезд способно сделать нестабильной её орбиту.
— Но Немезида же вот, перед нами.
— Да, она перед нами, но в той же мере, как и перед альфой Центавра.
— При чем тут альфа Центавра?
— Немезида располагается чуть ближе к Солнцу, чем к этой звезде. Мне кажется, что она всё-таки входит в систему альфы Центавра. Правда, более вероятно, что, с какой бы из этих двух звезд она ни была связана прежде, тяготение второй сейчас разрушает эту связь, если уже не разрушило.
Питт задумчиво смотрел на Инсигну, барабаня пальцами по ручке кресла.
— Сколько времени нужно Немезиде на один оборот вокруг Солнца — если она, конечно, входит в его систему?
— Пока не знаю. Придётся изучить её орбиту. Мне следовало заняться ею ещё до Исхода, но тогда на меня сразу навалилось столько забот. Но это не оправдание — их и теперь немало.
— Ну а на глазок?
— Если орбита круговая, Немезиде потребуется около пятидесяти миллионов лет, чтобы обойти Солнце, а точнее — центр тяготения всей системы, вокруг которого обращаются обе звезды. Соединяющая их линия всегда будет проходить через этот центр. Но если орбита Немезиды представляет собой вытянутый эллипс и она сейчас находится вблизи точки максимального удаления — а иначе быть не может, поскольку обе звезды в таком случае не были бы связаны тяготением, — тогда период её обращения чуть превышает двадцать пять миллионов лет.
— Значит, когда Немезида в предыдущий раз находилась в этой точке своей орбиты, альфа Центавра находилась совершенно в другом месте, чем теперь. Двадцать пять или пятьдесят миллионов лет, но альфа Центавра не стояла на месте. На сколько она могла сместиться за такой срок?
— На заметную долю светового года.
— Не значит ли это, что обе звезды впервые борются за Немезиду? И до сих пор она мирно кружила и кружила себе по орбите?
— Едва ли, Янус. Кроме альфы Центавра вокруг полно звезд. Сейчас сказывается влияние альфы Центавра, в прошлом на Немезиду могли воздействовать другие звёзды. Её орбита просто нестабильна.
— Ну а если она не вращается вокруг Солнца, что же ей тогда делать в наших краях?
— Именно! — воскликнула Инсигна.
— Что значит «именно»?
— Будь Немезида на солнечной орбите, её относительная скорость составила бы от восьмидесяти до ста метров в секунду в зависимости от массы. Для звезды это очень мало, следовательно, она длительное время как бы стояла на месте. Тогда облако могло долго прятать её, в особенности если оно движется в ту же сторону, что и Немезида, относительно Солнца. Тусклая, почти неподвижная звездочка — и всё-таки удивительно, что её до сих пор никто не обнаружил. Однако… — Она сделала паузу.
Даже не попытавшись изобразить интерес, Питт вздохнул:
— Ну? Будет наконец резюме?
— Так вот, если Немезида не обращается вокруг Солнца, значит, она движется независимо, и её относительная скорость может достигать уже сотен или более километров в секунду — в тысячу раз больше той, что она имела бы на орбите. Значит, она просто случайно залетела сюда, пройдёт мимо Солнца и никогда не вернется. Но тем не менее она остаётся за облаком и, на взгляд, почти не меняет своего положения.
— Как это может быть?
— Если звезда движется с внушительной скоростью, а для наблюдателя остаётся почти на одном месте — этому может быть только одно объяснение.
— Только не говори мне, что она качается из стороны в сторону.
— Янус, не надо шутить. — Инсигна закусила губу. — Всё это не смешно. Дело в том, что, скорее всего, Немезида движется почти по прямой к Солнцу… Она не смещается ни вправо, ни влево, словно стоит на месте, а на самом деле летит прямо на нас, прямо на Солнечную систему.
— Это достаточно достоверные данные? Им можно верить? — Питт озабоченно взглянул на Эугению.
— Пока нет. Когда я обнаружила звезду, никаких причин специально измерять её спектр у меня не было. Конечно, когда я измерила её параллакс, следовало определить и спектр. Только у меня до этого руки не дошли. Ты ведь, конечно, помнишь, что, назначая меня руководителем всех работ по Дальнему Зонду, ты приказал, чтобы никто из моих подчиненных не вздумал даже взглянуть в сторону Немезиды. И я не имела права отдать им такое распоряжение, ну а после Исхода… каюсь, я просто забыла. Но теперь придётся заняться этим делом вплотную.
— Позволь тогда задать тебе один вопрос. А что, если Немезида, наоборот, летит от Солнца? Тогда для нас она тоже как бы стоит на одном месте. Теоретически оба события равновероятны, не так ли?
— Истину определит спектральный анализ. Если будет обнаружено красное смещение — значит, Немезида удаляется, если фиолетовое — приближается.
— Но теперь уже поздно этим заниматься. Если ты сейчас станешь определять её спектр, он покажет, что Немезида приближается к нам — потому что мы приближаемся к ней.
— Я не стану сейчас определять спектр Немезиды. Я займусь спектром Солнца. Если Немезида приближается к Солнцу, значит, и Солнце приближается к Немезиде; следует учесть и собственное движение Ротора. Но сейчас мы тормозим, и через какой-нибудь месяц наше собственное движение перестанет сказываться на результатах спектроскопических измерений.
С полминуты Питт размышлял, уставившись в стол, вовсе не заваленный бумагами; рука его медленно поглаживала клавиатуру компьютера. Наконец, не поднимая глаз, он буркнул:
— Нет, эти наблюдения лучше не проводить. Я не хочу, чтобы ты впредь забивала себе голову такой ерундой. На мой взгляд, здесь нет ничего интересного.
И знаком велел ей идти.
* * *
Ноздри Инсигны раздулись от гнева. Она резко выдохнула и громко произнесла:
— Как ты смеешь, Янус? Как ты смеешь?
— В чём дело? — Питт нахмурился.
— Как ты смеешь отсылать меня, словно простого оператора-компьютерщика? Не найди я Немезиду — где бы мы были? И ты не стал бы комиссаром! Немезида моя. Во всём, что касается её, я имею право голоса.
— Немезида уже не твоя. Теперь она принадлежит Ротору. Пожалуйста, уходи, не мешай мне заниматься делами.
— Янус, — продолжала она, повысив голос, — повторяю тебе ещё раз: по всему следует, что Немезида летит прямо на Солнечную систему.
— А я тебе опять говорю: может быть, летит, а может, и наоборот. И даже если так — теперь это не наша Солнечная система — она осталась всем этим… Только не надо говорить мне, что Немезида столкнется с Солнцем. Я тебе просто не поверю, если ты станешь упорствовать. За пять миллиардов лет Солнце ни разу не сталкивалось со звездою, даже близко не подходило. Вероятность столкновения звезд чудовищно мала даже в более густо населённых ими областях Галактики. Я не астроном, но это, по крайней мере, знаю.
— Янус, вероятность и есть вероятность — это не гарантия. Возможно, хоть и маловероятно, Солнце действительно столкнется с Немезидой, однако я в этом и сама сомневаюсь. Вся беда в том, что близкое прохождение звезды, даже без столкновения, способно оказаться гибельным для Земли.
— И насколько близким окажется это твоё близкое прохождение?
— Не знаю. Придётся хорошенько посидеть за расчётами.
— Хорошо. Итак, ты предлагаешь, чтобы мы взяли на себя все хлопоты: наблюдения и расчёты. А что прикажешь делать, если ситуация действительно чревата бедой для Солнечной системы? Что тогда? Будем предупреждать их?
— Естественно, разве у нас есть выбор?
— А как мы будем это делать? У нас нет никакой гиперсвязи, а если бы и была — они всё равно не смогли бы принять сообщение. Если мы попробуем использовать излучение — если у нас найдётся достаточно мощный источник когерентного света, микроволн, модулированных нейтрино, да чего угодно — через два года твоё послание достигнет Земли. А как мы узнаем, принято ли оно? Если они получат сообщение и дадут ответ, то его мы узнаем ещё через два года. И что же мы получим в итоге? Нам придётся открыть Земле, где расположена Немезида, ведь они увидят, что информация от неё-то и идёт. И все наши труды весь план создания единой цивилизации возле Немезиды, вдали от тлетворного влияния Земли, немедленно рухнет.
— Янус, а какую цену придётся заплатить человечеству за наше молчание?
— А тебе-то что? Даже если Немезида движется к Солнцу, сколько лет уйдёт на это путешествие?
— Вероятно, она подойдёт к Солнечной системе через пять тысяч лет.
Откинувшись в кресле, Питт холодным сухим взором с деланым удивлением взглянул на Инсигну.
— Надо же, через пять тысяч лет. Всего только через пять тысяч лет? Ты не забыла, Эугения, первый человек ступил на поверхность Луны всего двести пятьдесят лет назад. Два с половиной столетия миновало — и вот мы уже возле самой близкой звезды. Где же мы окажемся ещё через два с половиной века? Да где угодно, возле какой угодно звезды. А через пять тысяч лет, через пятьдесят столетий, люди расселятся по всей Галактике, если только там не окажется иных форм разумной жизни. Да мы протянем руку к другим галактикам! Через пять тысяч лет наша техника станет такой, что, если Солнечной системе и впрямь будет грозить беда, всё население и планет, и поселений сумеет отправиться в дальний космос к новым звездам.
— Янус, не думаю, что технический прогресс позволит эвакуировать всю Солнечную систему простым мановением руки. Чтобы переселить миллиарды людей — без хаоса, без снижения уровня жизни, — потребуются долгие приготовления. Но даже если смертельная опасность будет угрожать жизни человечества только через пять тысяч лет, люди должны узнать о ней немедленно. Чтобы, не теряя времени, приступить к подготовке.
— Эугения, я знаю — у тебя доброе сердце — и потому предлагаю тебе компромисс, — проговорил Питт. — Давай так: пусть у роториан будет в запасе ещё сотня лет, чтобы обжиться, народить детей, настроить поселений, обрести уверенность и силу. Вот тогда мы сможем спокойно заняться будущим и Немезиды, и самого Солнца. Тогда, если потребуется, мы предупредим Солнечную систему. И у них останутся почти те же пять тысяч лет на подготовку. Одно столетие — подобная задержка едва ли окажется роковой.
— Таким тебе видится будущее? — вздохнула Эугения. — Человечество рассеется среди звезд, и каждая крохотная группка его будет стараться отогнать чужих от своей звезды? Вечная ненависть, взаимные козни и свары — как и все эти тысячи лет на Земле, только раздутые теперь до масштабов Галактики?
— Эугения, ничего мне не видится. Пусть человечество поступает, как ему заблагорассудится. Пусть оно рассеется, как ты сказала, пусть создаёт себе галактическую империю, пусть делает что захочет. Я не собираюсь ему диктовать или направлять на путь истинный. С меня довольно моего поселения, его нужд и забот и того столетия, что нужно ему, чтобы пустить корни у Немезиды. К этому времени ни тебя, ни меня благополучно не будет в живых, и пусть наши потомки сами решают, как им предупреждать Солнечную систему и стоит ли это делать. Я пытаюсь подойти к этому делу с позиций разума, а не эмоций. Эугения, ты же умная женщина. Подумай об этом.
Так Инсигна и сделала. Усевшись в кресле, она долго с укоризной глядела на Питта, ожидавшего с подчеркнутым долготерпением на лице.
Наконец она проговорила:
— Ну хорошо, я вижу, к чему ты клонишь. Придётся заняться исследованием относительного движения Земли и Немезиды. Возможно, и в самом деле не из-за чего поднимать шум.
— Нет. — Питт поднял вверх указующий перст. — Вспомни, что я тебе говорил. Этого делать нельзя. Если Солнечной системе ничто не грозит, затраты себя не оправдают. Тогда мы будем просто исполнять то, на чем я настаиваю, — столетие спокойно растить здесь принесенное Ротором зерно цивилизации. Если же окажется, что это не так, что беда неминуема — совесть, страх и вина будут мучить тебя. Новость эта, конечно же, станет известна и ослабит решимость роториан, многие из которых не менее сентиментальны, чем ты. Ты поняла меня? — Она промолчала. — Вот и отлично, вижу, что поняла. — И вновь знаком велел ей уходить.
На сей раз она ушла. Глядя ей вслед, Питт подумал: она становится совершенно несносной.
Глава 7
РАЗРУШЕНИЕ
Марлена круглыми глазами глядела на мать. Она старалась, чтобы радость не отразилась на её лице, но душа её пела. Наконец-то мать рассказала ей и об отце, и о комиссаре Питте. Наконец-то её считают взрослой.
— А я бы проследила за движением Немезиды, невзирая на приказ комиссара Питта, — проговорила Марлена, — но вижу, что ты, мама, поступила иначе. Печать вины на твоём лице доказывает это.
— Вот уж не думала не гадала, что у меня на лбу печать вины, — сказала Инсигна.
— Своих чувств не скрыть никому, — отозвалась Марлена, — стоит только приглядеться повнимательнее — и всё становится ясным.
Другие так не умеют. Это Марлена поняла не сразу — и с большим трудом. Люди не умеют смотреть и видеть, не умеют обращать внимание. Они словно не замечают лиц, тел, звуков и поз… и всяких там нервных жестов.
— Не надо тебе постоянно так вглядываться, Марлена, — сказала Инсигна, словно мысли их текли параллельно. Она обняла дочь за плечи, чтобы смягчить то, что хотела сказать. — Люди нервничают, когда ты пронизываешь их взглядом своих огромных глаз. Уважай их уединение.
— Да, мама, — ответила Марлена, без всякого усилия подмечая, что мать пытается как-то оградиться от неё. Она явно беспокоилась о себе самой, не понимая, что выдаёт себя каждым жестом. — Ну а как случилось, что, невзирая на чувство вины, ты ничего не сделала для Солнечной системы? — спросила Марлена.
— По целому ряду причин, Молли.
«Какая Молли! — возмутилась про себя Марлена. — Я Марлена! Марлена! Марлена! Три слога, ударение на втором. Взрослая!»
— Каких же? — угрюмо спросила она.
Неужели мать не может заметить, какое отчуждение охватывает её всякий раз, когда она слышит своё детское имя? Ведь и лицо дёргается, и в глазах зажигается огонек, и губы кривятся. Почему люди не видят? Почему не замечают?
— Во-первых, слова Януса Питта звучали весьма убедительно. Сколь бы неожиданными ни были его соображения, какими бы неприглядными они ни казались, но в конце концов приходится признать известную справедливость его аргументов.
— Но если так, мама, — он опасный человек… просто жуткий.
Оторвавшись от размышлений, Инсигна с любопытством взглянула на дочь.
— Почему ты так решила?
— Можно достаточно убедительно обосновать любую точку зрения. И если ты сумеешь быстро подыскать подходящие причины и безукоризненно их представить, можешь убедить кого угодно и в чём угодно, а это опасная вещь.
— Я согласна с тобой. Янус Питт действительно обладает такой способностью. Удивляет меня то, что ты сумела это понять.
«Ещё бы, — подумала Марлена, — ведь мне всего пятнадцать, и ты привыкла видеть во мне ребенка».
Но вслух сказала:
— Наблюдая за людьми, можно многому научиться.
— Да. Только помни, что я тебе говорила, следи за собой.
(Никогда!)
— Так, значит, мистеру Питту удалось тебя убедить?
— Он сумел доказать мне, что наше промедление не опасно.
— А тебе не хотелось всё-таки выяснить, куда движется Немезида и чем это грозит? Тебе же следовало это сделать!
— Да, но это не так легко, как тебе кажется. Обсерватория вечно загружена. Приходится ждать своей очереди, чтобы воспользоваться инструментами. Хоть я и руковожу ею, но не распоряжаюсь бесконтрольно. К тому же, когда кто-то из нас берётся за какое-то дело, все немедленно узнают об этом. Что и как делается, знают все, и почему — тоже всем известно. Так что у меня практически не было возможности получить подробный спектр Немезиды и Солнца, а потом воспользоваться компьютером обсерватории для необходимых вычислений так, чтобы об этом никто не знал. Полагаю, что у Питта в обсерватории есть люди, которые приглядывают за мною. И если бы я выказала норов, об этом ему непременно стало бы известно.
— Но что он может тебе сделать, а?
— Конечно, он меня не расстреляет за измену — ты, наверное, это имела в виду? — едва ли он возмечтал о чём-нибудь подобном, но, во всяком случае, может освободить от работы в обсерватории и отправить куда-нибудь на ферму. А мне бы не хотелось. К тому же вскоре после моего разговора с Питтом мы обнаружили рядом с Немезидой планету или крошечную звезду: мы до сих пор не знаем, к планетам или звездам её отнести. Между ними всего четыре миллиона километров, и спутник этот не излучает в видимом диапазоне.
— Ты говоришь о Мегасе, мама?
— Да. Это старинное слово означает «большой». Для планеты Мегас очень массивен, он тяжелее Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, но для звезды слишком мал. Некоторые называют Мегас коричневым карликом. — Она умолкла и, прищурившись, посмотрела на дочь, словно вдруг засомневалась, что дочь способна разобраться в сути дела. — А ты знаешь, Молли, что такое коричневый карлик?
— Мама, меня зовут Марлена.
Инсигна слегка порозовела.
— Конечно. Прости, я частенько забываюсь. Понимаешь, привыкла. Просто была у меня когда-то любимая дочурка по имени Молли.
— Знаю. Когда мне снова исполнится шесть, можешь вновь звать меня Молли.
Инсигна рассмеялась:
— Итак, Марлена, знаешь ли ты, что такое коричневый карлик?
— Да, мама. Коричневый карлик — это крохотное, подобное звезде небесное тело, не обладающее необходимой массой, чтобы давление и температура внутри его стали достаточными для синтеза ядер водорода, при этом массы тела хватает для осуществления вторичных реакций, разогревающих его.
— Правильно. Неплохо. Мегас как раз находится на линии раздела. И не горячая планета, и не тусклый коричневый карлик. Он не испускает видимого света — только инфракрасный, и недостаточно интенсивно. Мегас не похож на известные нам небесные тела. Он оказался первой планетой за пределами Солнечной системы, которую мы обнаружили и могли изучить, поэтому обсерватория занялась подробнейшими исследованиями. И мне не дали бы приборного времени на изучение движения Немезиды, даже если бы я попросила, но, по правде сказать, я обо всём забыла. Мегас заинтересовал меня не менее, чем других.
— М-м-м, — произнесла Марлена.
— В итоге мы решили, что Мегас просто внушительных размеров планета, обращающаяся вокруг Немезиды. Масса его в пять раз…
— Знаю, мама. В пять раз больше, чем у Юпитера, и составляет одну тридцатую массы самой Немезиды. Всё это мне давным-давно рассказал компьютер.
— Конечно, дорогая. И Мегас пригоден к обитанию не более, чем Юпитер, скорее даже менее. Поначалу это нас разочаровало, хотя нельзя было надеяться, чтобы возле красного карлика нашлась пригодная для обитания планета. Приливные силы неминуемо заставили бы планету с морями обратиться к Немезиде одной стороной.
— Но разве не так дело обстоит с Мегасом? По-моему, одна сторона его всегда смотрит на Немезиду.
— Да, верно. Это значит, что у него есть теплая сторона и холодная. На теплой — достаточно тепло. Но она раскалилась бы докрасна, если бы не плотная атмосфера — циркуляция её несколько уравнивает температуру на всей планете. Поэтому — ну и потому, что Мегас сам выделяет тепло, — на обратной его стороне тоже не холодно. С точки зрения астронома, Мегас обладает уникальными особенностями. Потом мы обнаружили, что у Мегаса есть спутник — или планета, если считать его звездой, — Эритро.
— Вокруг которой и обращается Ротор. Знаю, мама, но после открытия Мегаса и Эритро и всех тогдашних хлопот прошло одиннадцать лет. Неужели за всё это время ты не сумела украдкой снять спектры Немезиды и Солнца? И кое-что просчитать?
— Ну…
— Я знаю, ты сделала это, — быстро сказала Марлена.
— Догадалась по выражению моего лица?
— По всему твоему виду.
— Марлена, жить рядом с тобой, наверное, скоро будет невозможно. Да, я сделала это.
— И?
— Немезида летит к Солнечной системе.
Помолчав, Марлена негромко спросила:
— Значит, произойдёт столкновение?
— Нет, если верить моим расчётам. Я уверена, что ни с Солнцем, ни с Землей, ни с какой-нибудь большой планетой она не столкнется. Но, видишь ли, даже если этого не случится, Земля всё равно может погибнуть.
Марлена видела, что разговор о гибели Земли неприятен матери, что Инсигна охотно прекратила бы его, если бы дочь не приставала с расспросами. Выражение её лица, то, как она отодвинулась от Марлены, словно хотела уйти, как время от времени деликатно облизывала губы, словно старалась стереть с них привкус собственных слов, — было для Марлены красноречивее любых слов.
Но девочка не хотела, чтобы мать замолчала, — всего нужного она ещё не услышала.
— А как Немезида может погубить Землю, не сталкиваясь с ней? — тихо спросила она.
— Попробую объяснить. Земля обращается вокруг Солнца — как Ротор вокруг Эритро. Если бы Солнечная система состояла только из Земли и Солнца, то первая могла бы кружить вокруг второго почти бесконечно. Я говорю — почти, ибо дело в том, что, обращаясь вокруг Солнца, Земля излучает гравитационные волны, уносящие её энергию, и медленно, очень медленно приближается к Солнцу. Сейчас этим фактором можно пренебречь. Но на самом деле всё гораздо сложнее, потому что Земля не одна. Её притягивают Луна, Марс, Венера, Юпитер и другие планеты. Их суммарное притяжение невелико по сравнению с солнечным, и орбита Земли более или менее постоянна. Однако малые воздействия сложным образом меняют свою силу и направление — поскольку перемещаются и порождающие их объекты — и тем самым вызывают незначительные изменения орбиты Земли. Планета то приближается к Солнцу, то удаляется от него. Ось её поворачивается, меняет наклон, изменяется эксцентриситет орбиты и так далее.
Можно показать — и уже было показано, — что все эти изменения цикличны, то есть периодически меняют направление. Существенно, что движение Земли вокруг Солнца неравномерно и подчиняется дюжине вынужденных воздействий. То же происходит со всеми телами Солнечной системы. Такая легкая тряска не мешает жизни на Земле. В худшем случае может наступить обледенение — но оно кончится; уровень моря упадет — и подымется: планета переживает всё это уже более трех миллиардов лет.
А теперь представим, что будет, если Немезида вторгнется в Солнечную систему и промчится, скажем, в световом месяце от Земли — меньше чем в триллионе километров. Пока она будет проходить мимо Солнца — а на это потребуется несколько лет, — гравитационное поле системы исказится. Планеты станут дёргаться на орбитах, но, когда Немезида пройдёт, всё снова встанет на свои места.
— Но ты выглядишь так, словно дела обстоят гораздо хуже, чем ты говоришь. Что плохого в том, что Немезида хорошенько порастрясет Солнечную систему? Ведь потом всё встанет на свои места.
— Встать-то встанет, но где в результате очутятся планеты? На прежнем ли месте? В этом, собственно, и вся проблема. Если изменится орбита Земли — она отодвинется от Солнца или приблизится к нему? Если ось планеты изменит своё положение в пространстве — как это подействует на климат планеты? Даже малое изменение может сделать необитаемым целый мир.
— А нельзя ли всё рассчитать?
— Нет. На Роторе трудно проводить астрономические измерения: он дёргается в пространстве, и куда сильнее, чем планеты. Чтобы определить, какой путь выберет Немезида, потребуется много времени и много расчётов, и всё равно нельзя будет положиться на их результаты, пока Немезида не окажется возле Солнца — через много-много лет после моей смерти.
— Значит, ты не можешь сказать, как близко к Солнечной системе подойдёт Немезида?
— Рассчитать это почти невозможно. Нужно учесть гравитационное поле почти всех ближних звезд. И даже самая крохотная неточность при исходном расстоянии в два световых года может привести к таким отклонениям, что точное попадание превратится в абсолютный промах, и наоборот.
— Но комиссар Питт утверждал, что, когда Немезида окажется близко, всякий обитатель Солнечной системы сумеет спастись — разве он не прав?
— Возможно, и прав. Но можно ли сказать, что будет через пять тысяч лет? Какие исторические выкрутасы произойдут, к каким последствиям они приведут? Можно лишь надеяться, что все уцелеют.
— Даже если их не предупредить, — проговорила Марлена, робко напоминая матери общеизвестную астрономическую истину, — они сами всё обнаружат. Иначе не может быть. Немезида приблизится, её заметят, и, когда в направлении её движения уже нельзя будет ошибиться, люди сумеют определить траекторию с куда большей точностью.
— Но тогда времени на подготовку к бегству останется гораздо меньше.
Поглядев на носки своих туфель, Марлена проговорила:
— Мама, не сердись на меня. Но мне кажется, ты не будешь рада, даже если все люди сумеют спастись. Что-то тут не то. Пожалуйста, скажи мне, в чём дело.
— Мне бы не хотелось, чтобы все покинули Землю, — ответила Инсигна, — пусть даже всё пойдёт по плану, и у них хватит времени, и обойдётся без несчастных случаев — мне всё равно не нравится эта мысль. Я не хочу, чтобы люди покинули Землю.
— А если это неизбежно?
— Пусть. Можно склонить голову перед судьбой, но мне не нравится такая перспектива.
— Значит, ты чувствуешь, что привязана к Земле? Ты, кажется, училась там, не так ли?
— Я завершала там дипломную работу. Земля не понравилась мне, но это ровным счётом ничего не значит. Это родина человечества. Ты понимаешь, что я имею в виду, Марлена? Как бы я к ней ни относилась, она останется миром, где жизнь просуществовала целую вечность. Для меня Земля не планета — а идея, абстракция. И я хочу, чтобы она жила ради того, что было. Не знаю, поняла ли ты меня.
— Отец был землянином, — сказала Марлена.
Инсигна поджала губы.
— Да, был.
— И он вернулся на Землю.
— Судя по регистрационным записям, он поступил именно так. Во всяком случае, я в этом не сомневаюсь.
— Значит, я наполовину землянка. Да?
Инсигна нахмурилась.
— Все мы земляне, Марлена. Мои предки жили на Земле. И прабабка моя родилась там же. Всё здесь — порождение Земли. И не только люди. Каждый кусочек жизни в любом из поселений — от вируса до дерева — с Земли.
— Но только люди сознают это. И некоторые — лучше остальных. Ведь ты до сих пор вспоминаешь об отце? — Заглянув Инсигне в глаза, Марлена вздрогнула. — Это не моё дело. Но ведь ты сама хочешь рассказать мне.
— Да, у меня было такое желание — но я не могу руководствоваться чувствами. В конце концов, ты и его дочь. Да, я до сих пор вспоминаю о нём. — Инсигна пожала плечами. — А о чём ты вспоминаешь, Марлена?
— Мне не о чём вспоминать. Я забыла его. Я даже никогда не видела его голограммы.
— Но ведь дело не в… — Инсигна осеклась.
— Знаешь, когда я была поменьше, меня удивляло, почему во время Исхода одни отцы оставались со своими детьми, а другие — нет. И я решила, что те, кто оставил Ротор, не любили своих детей и мой отец тоже не любил меня.
Инсигна взглянула на дочь.
— Ты никогда не говорила мне об этом.
— Я так думала, когда была маленькой. А потом стала старше и поняла, что всё гораздо сложнее.
— Ты не должна была так думать. Это неправда. И я немедленно переубедила бы тебя, если бы имела хоть малейшее представление…
— Мама, я понимаю, ты не любишь разговаривать о том времени.
— Пришлось бы, знай я только о твоей идее, — но, увы, я не умею читать на твоём лице, как ты на моём. Он любил тебя. И взял бы с собой, если бы я согласилась. Вы разлучились по моей вине.
— Он тоже виноват. Он должен был остаться.
— Должен — но теперь, когда столько лет прошло, я понимаю его лучше, чем прежде. В конце концов, я оставалась дома — мой мир всегда был со мной. И здесь, за два световых года от Земли, я тоже дома, на Роторе, где родилась. Твой отец был другим. Он родился на Земле. И я думаю, он не смог примириться с мыслью о том, что ему придётся навсегда оставить родную планету. Мне не нравится Земля. Но сердца миллиардов людей могут разорваться от тоски по ней.
Они помолчали, потом Марлена сказала:
— Интересно, что он делает сейчас на Земле?..
— Трудно сказать. Двадцать триллионов километров — путь неблизкий, и четырнадцать лет — это очень долго.
— Как ты думаешь, он жив?
— Даже этого мы с тобой не можем знать, — отозвалась Инсигна. — Жизнь человека на Земле весьма быстролетна… — И, словно вдруг осознав, что разговаривает не сама с собой, продолжила: — Я уверена, что он жив. Когда мы расставались, здоровье у него было хоть куда, и вообще ему ещё нет пятидесяти. — И тихо спросила: — Тебе его не хватает, Марлена?
Та покачала головой:
— Как может не хватать того, чего у тебя никогда не было?
«Он был у тебя, мама, — подумала она, — и тебе-то его и не хватает».
Глава 8
АГЕНТ
Как ни странно, Крайлу Фишеру пришлось привыкать к Земле, осваиваться на ней заново. Он и представить не мог, что за неполные четыре года Ротор станет частью его жизни. Конечно, четыре года — большой срок, однако не настолько, чтобы родная планета стала совсем чужой.
Снова необъятный земной простор, далекий чёткий горизонт, а над ним высокое хмурое небо. Снова люди, люди… Как приятно опять ощутить земное притяжение, но главное — погода, по-прежнему своенравная: непредсказуемые холода, оттепели и ветры, от умеренного до сильного.
Крайлу не нужно было испытывать всё это на своей шкуре, чтобы прочувствовать. Даже находясь в собственной квартире, он знал, что творится за её стенами. Капризы планеты действовали на него, волновали душу. А может быть, ему так только казалось — в его тесной, уставленной мебелью комнатушке, где каждый звук был отчетлив и ясен и куда загнал его этот шумный и тленный мир.
Странно — на Роторе он всё время скучал по Земле, а вернувшись домой, затосковал о Роторе. Может быть, ему суждено всю жизнь стремиться туда, где его нет?..
Вспыхнула сигнальная лампочка, заверещал звонок. Звук вибрировал — на Земле всё вибрирует, тогда как на Роторе буквально всё удручало своей эффективностью и постоянством.
— Входите, — негромко пригласил Крайл. Отреагировав на голос, дверь открылась.
Вошёл Гаранд Уайлер — Фишер ждал его — и взглянул на хозяина с удивлением.
— Крайл, ты хоть пошевелился, после того как я ушёл?
— Походил взад-вперёд. В ванной посидел.
— Хорошо. Значит, ты жив, хоть с виду этого и не скажешь. — Темнокожий гость широко улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами. У него были чёрные глаза и густые курчавые волосы. — Всё думаешь о Роторе?
— Да, всё время.
— Хотел спросить, да как-то не получалось. Значит, там были одни «белоснежки» и никаких семи гномов, так?
— Одни «белоснежки», — согласился Фишер, — чёрнокожих я не встречал.
— В таком случае скатертью им дорога. Ты знаешь, что они улетели?
Фишер напрягся и едва не вскочил, но сдержался и кивнул.
— Они же собирались.
— И не соврали. Когда Ротор стартовал, мы следили за ним — по излучению, потом он набирал скорость с помощью своего гиперпривода — и вдруг исчез… Словно его и не было.
— А вы заметили, когда он вновь вошёл в пространство?
— Несколько раз — и с каждым разом слабей и слабей. Сперва он опробовал силенки, а потом стал уходить со скоростью света, а после того, как он трижды нырнул в пространство и выскочил, то оказался уже недосягаемым для наших приборов.
— Так они решили, а несогласных вроде меня — выбросили, — с горечью проговорил Фишер.
— Жаль, что тебя там не было. Это было интересно. Знаешь, а ведь кое-кто из сторонников жесткой линии считал, что вся эта история с гиперприводом — не что иное, как надувательство, затеянное по неизвестным причинам.
— Но ведь Ротор уже отправлял в космос свой Дальний Зонд, Без гиперпривода он не смог бы залететь так далеко.
— Надувательство! Так они и говорили.
— И ошиблись.
— Да, теперь все это знают. Все-все. Когда Ротор исчез из поля зрения приборов, другого объяснения не осталось. Все поселения за ним следили. Ошибки быть не могло. Он исчез практически одновременно для всех наблюдателей. К сожалению, мы не знаем одного — куда они направились.
— Наверное, на альфу Центавра. Куда же ещё?
— В Конторе полагают, что это не альфа Центавра и что ты знаешь пункт назначения.
На лице Фишера появилась досада.
— Меня и так допрашивали всю дорогу — и до Луны, и после. Я ничего не утаил.
— Конечно. Мы это знаем. Ты не утаил ничего, что тебе было известно. Но меня просили переговорить с тобой по-дружески и выяснить, не знаешь ли ты такого, о чём и сам не догадываешься. Ну просто в голову не приходило. Всё-таки ты пробыл там четыре года. Женился, завёл ребенка. Не мог же ты ничего не узнать.
— А как? Да выкажи я хоть малейший интерес к таким вещам, меня немедленно выставили бы. Одно только моё земное происхождение заставляло их относиться ко мне с подозрением. Если бы я не женился, так сказать, не дал бы им понять, что намереваюсь сделаться роторианином, меня бы вышвырнули без разговоров. А так — меня просто не информировали обо всех важных делах. — Фишер поглядел в сторону. — Ну и вышло, как они хотели. Моя жена была всего лишь астрономом. Мне же не из чего было выбирать, сам знаешь. Не мог же я дать объявление на головидение, что ищу молодую даму — специалиста по гиперпространству. Уж если бы я встретил такую, то постарался бы заарканить, будь она похожа хоть на гиену. Только не повезло — не встретил. Техника — вещь тонкая, по-моему, они держат ценных специалистов в полной изоляции. Не исключено, что в лабораториях они носят маски и пользуются псевдонимами. Четыре года я пробыл там — и никакого следа, никакого намека. Не мог же я не понимать, что здесь подумают, будто я надуваю Контору. — Обернувшись к Гаранду, он заговорил со внезапной пылкостью: — Всё сложилось плохо, мне не повезло. Никак не мог отделаться от мысли, что я неудачник.
Уайлер сидел напротив Фишера за столом посреди тесной комнатушки и покачивался на задних ножках стула, придерживаясь за столешницу, чтобы не упасть.
— Крайл, Контора не может позволить себе деликатничать, но не все же такие бесчувственные. Сожалею, что приходится обходиться с тобой подобным образом, но, увы… Мне очень жаль, что работа эта выпала мне. Твой провал встревожил нас: ты не смог добыть никакой информации. Если бы Ротор не исчез, едва ли кто-нибудь взволновался, но он исчез. У них есть гиперпривод, а ты ничего не дал Земле.
— Я знаю.
— Но не думай, что мы намерены тебя вышвырнуть и забыть. Не исключено, что ты ещё сможешь оказаться полезным. Итак, я вынужден установить, честным ли был твой провал.
— Что это значит?
— Я должен иметь возможность заявить, что твоя неудача не была вызвана какими-нибудь личными причинами. В конце концов, ты был женат на роторианке. Она была красивая? Ты любил её?
— Иными словами, не из-за любви ли я решил встать на сторону роториан и хранить их тайну?! — негодующе воскликнул Фишер.
— Ну, — невозмутимо произнес Уайлер. — И что ты мне скажешь?
— Как ты мог подумать? Если бы я решил стать роторианином, то просто улетел бы с ними. Затерялся бы в глубинах космоса — и никто бы меня не нашёл. Но я этого не сделал. Я покинул Ротор и вернулся на Землю, понимая, что погубил свою карьеру.
— Мы ценим твою преданность.
— Моя преданность может быть сильнее, чем вы предполагаете.
— Хорошо, возможно, ты любил свою жену и вынужден был оставить её. Это зачлось бы в твою пользу, имей мы возможность проверить данный факт.
— Дело не столько в жене, сколько в дочери.
Уайлер задумчиво взглянул на Фишера.
— Крайл, мы знаем, что у тебя там осталась годовалая дочка. Учитывая обстоятельства, тебе не следовало бы, наверное, заходить так далеко.
— Согласен. Но я же не хорошо смазанный робот. Иногда кое-что случается и против твоей воли. А когда девочка родилась, я нянчился с ней целый год…
— Понятно, но год — это всего лишь год. Едва ли за такое время может создаться прочная связь.
Фишер скривился.
— Тебе кажется, что всё так просто, но ты совершенно ничего не понимаешь.
— Объясни — я попробую понять.
— Видишь ли, она как две капли воды похожа на мою сестру.
Уайлер кивнул.
— Ты упоминал о ней в своей анкете. Рози, кажется.
— Розанна. Она погибла восемь лет назад во время беспорядков в Сан-Франциско. Тогда ей было всего семнадцать.
— Сочувствую.
— Она не была ни на чьей стороне. Просто под руку подвернулась — это чаще случается с невинными очевидцами, чем с заводилами и их приспешниками. Потом мы нашли её тело и кремировали.
Уайлер сочувственно молчал.
— Ей было только семнадцать, — продолжал Фишер. — Родители наши умерли, — он коротко взмахнул рукой, словно хотел сказать, что не желает вдаваться в подробности, — когда мне было четырнадцать, а ей четыре. После школы я работал и следил, чтобы она была сыта, одета и под присмотром — даже когда мне самому приходилось туго. Я стал программистом — эта работа едва могла прокормить, о приличном заработке не могло быть и речи. И вот, едва ей исполнилось семнадцать… Да она за всю жизнь никого пальцем не тронула и знать не знала, о чём был весь шум и зачем драка. Просто шла мимо, и всё…
— Теперь мне понятно, почему ты решил отправиться на Ротор.
— О да. Пару лет я жил как во сне. Потом, чтобы занять чем-нибудь голову и в надежде на опасности, поступил в Контору. И какое-то время искал смерти — а пока не нашёл её, старался сделать что-то полезное. Когда обсуждался вопрос о засылке агента на Ротор, я вызвался добровольцем. Не хотелось больше видеть Землю.
— Но ты вернулся. Жалеешь?
— Немного жалею, конечно. Только на Роторе мне было душно. При всех своих недостатках наша Земля так просторна. Гаранд, если бы ты только видел Розанну! Ты даже не можешь себе представить. Хорошенькой она не была, а вот глаза… — Взгляд Фишера застыл, словно углубился в былое. — Прекрасные глаза… жутковатые даже. Я никогда не мог глядеть в них без трепета. Она словно видела меня насквозь — если ты понимаешь меня.
— Нет, не понимаю, — заметил Уайлер.
Фишер не обратил внимания на его слова.
— Она всегда знала, когда я привирал или утаивал что-нибудь. Даже промолчать было трудно — она всегда догадывалась, в чём дело.
— Что? Да нет же. Она говорила, что умеет догадываться по выражению лица и-интонациям. Она говорила, что никто не может скрыть свои мысли. Смейся не смейся, но и скорби за смехом не спрячешь, и улыбкой горечи в душе не укрыть. Она пыталась объяснять, но я так и не сумел понять, как ей это удавалось. Она была совсем не такая, как все, Гаранд. Я благоговел перед ней. И вот рождается моя собственная дочка, Марлена…
— Ну и?..
— С такими же точно глазами.
— Как у сестры?
— Поначалу не совсем, но я видел, как они становились такими. Ей было только шесть месяцев, а мне уже хотелось опустить глаза под её взглядом.
— И жена испытывала то же самое?
— По её поведению я никогда не замечал этого, но ведь сестрички Розанны у неё не было. Марлена почти не плакала, всегда была такой спокойной. Розанна, насколько я помню её в детстве, была такой же. И судя по личику Марлены, красавицей она быть не собиралась. В общем, словно это Розанна вернулась ко мне. Словом, всё давалось мне весьма тяжело.
— Ты говоришь о возвращении на Землю?
— Да, так трудно было покидать их. Словно я вновь потерял Розанну. Дочь мне тоже теперь не увидеть!
— Но ты же вернулся.
— Из чувства долга. Долг! Но если честно — я чуть было не остался. Меня буквально раздирало на части. Я отчаянно не хотел оставлять Розанну… то есть Марлену. Видишь, я имена перепутал. Жена моя, Эугения, тогда сказала мне трагическим голосом: «Если бы ты знал, куда мы направляемся, то не рвался бы обратно». А я совсем не собирался их покидать. Я хотел, чтобы она вернулась со мной на Землю. Она отказалась. Тогда я попросил её отдать мне… Марлену. Она снова отказалась. И в тот самый момент, когда я уже готов был сдаться, она словно взбесилась и прогнала меня. Я и ушёл.
Уайлер задумчиво взглянул на Фишера.
— «Если бы ты знал, куда мы направляемся, то не рвался бы обратно…» Так она сказала?
— Да, так она и сказала. А когда я стал спрашивать, куда же летит Ротор, ответила: «К звездам».
— Тут что-то не так, Крайл. Ты знал, что они собираются лететь к звездам, но она сказала: «Если бы ты знал, куда мы направляемся…» — значит, кое-что тебе не было известно. Так что же ты так и не узнал?
— О чём ты говоришь? Как можно знать то, чего не знаешь?
Уайлер пожал плечами.
— Ты сказал об этом на допросе в Конторе?
Фишер задумался.
— Кажется, нет. Просто не вспомнил, пока не начал рассказывать тебе. — Он прикрыл глаза, потом медленно проговорил: — Нет, я никому не говорил об этом. Просто в голову не пришло.
— Ну хорошо. А как ты сам считаешь, куда мог отправиться Ротор? Может быть, ты всё-таки слыхал кое-что? Слухи, какой-нибудь намек?
— Все считали, что к альфе Центавра. Куда же ещё? всё-таки самая ближняя к нам звезда.
— Твоя жена была астрономом. Что она говорила об этом?
— Ничего. Буквально ни слова.
— Но Ротор же запустил Дальний Зонд…
— Да.
— И твоя жена участвовала в этой работе в качестве астронома.
— Да, но она об этом молчала, а я старался не спрашивать. За любое открытое проявление излишнего любопытства меня могли бы посадить — даже казнить, насколько я понимаю, — и тогда дело осталось бы не сделанным.
— Но она же была астрономом — неужели не знала, куда они собираются лететь? Она ведь сказала: «Если бы ты знал…» — понял? Она знала, но если бы узнал и ты…
Фишер не проявил интереса к намеку:
— Видишь ли, она молчала, и я не могу сказать, знала она или нет, мне нечего тебе сказать.
— Ты уверен? А не припомнишь каких-нибудь словечек, фраз, смысла которых ты не понял тогда? Что-нибудь такое, чем ей случалось озадачить тебя?
— Не могу даже представить.
— Подумай! Что, если с помощью Дальнего Зонда они обнаружили планетную систему около одной из подобных Солнцу компонент альфы Центавра?
— Не могу сказать.
— Или они нашли планету возле какой-нибудь другой звезды?
Фишер пожал плечами.
— Думай, — настаивал Уайлер. — Можно ли понимать её слова так: «Ты думаешь, мы летим к альфе Центавра, а мы летим к планете, что обращается вокруг неё»? Или же она могла сказать: «Ты думаешь, мы летим к альфе Центавра, а мы летим к другой звезде, рядом с которой нам удалось обнаружить пригодную для жизни планету». Или что-нибудь в этом роде.
— Нет, не знаю.
Гаранд Уайлер поджал пухлые губы. Потом произнес:
— А теперь, старый дружище Крайл, я скажу тебе вот что. Тебя ждут три события. Во-первых, новый допрос. Во-вторых, скорее всего, нам удастся уговорить поселение на Церере, и они предоставят нам свои телескопы, чтобы мы могли внимательно и скрупулезно проверить каждую звезду в сотне световых лет от Солнца. В-третьих, наши специалисты по гиперпространству получат хорошую нахлобучку, чтобы впредь ловили мышей. Не сомневайся, так оно и будет.
Глава 9
ЭРИТРО
Годы шли. И не часто, совсем-совсем не часто — или так только казалось Янусу Питту — удавалось в одиночестве откинуться на спинку кресла, просто посидеть и расслабиться. Изредка выпадали минуты, когда не нужно было отдавать распоряжения, обдумывать информацию, принимать решения, ездить на фермы и фабрики; когда можно было не следить за направлением движения Ротора в космосе; когда никто не ждал приёма и не с кем было встречаться, некого было выслушивать, отчитывать и хвалить.
И всегда в такие моменты Питт позволял себе редкостную роскошь: он предавался жалости к себе самому.
Конечно, другой судьбы он и не принял бы. Он всегда хотел стать комиссаром, ибо был уверен, что лучше, чем кто бы то ни было, сумеет руководить Ротором. Став наконец комиссаром, он ещё больше убедился в этом.
И всё-таки жаль, что среди всех этих тупиц, населявших Ротор, нет никого, кто был бы наделен хоть частью его собственной прозорливости. С момента Исхода прошло уже четырнадцать лет, но никто так и не сумел увидеть неизбежное — несмотря на то что Питт пытался всё растолковать.
В оставшейся позади Солнечной системе кто-нибудь скоро, и достаточно скоро, снова изобретет гиперпривод, как это сделали на Роторе, — быть может, даже более совершенный. Настанет день, когда сотни и тысячи поселений, миллионы и миллиарды землян отправятся колонизировать Галактику. Жестокое будет время.
Да, Галактика безмерна. Он тысячу раз слыхал об этом. А за ней простираются другие галактики. Но человечество не в состоянии распространяться равномерно. Непременно какая-нибудь звездная система покажется притягательнее соседних, и из-за неё тут же начнется грызня. И если десять поселений с колонистами на борту отправятся к десяти звездам, можно не сомневаться — все десять сойдутся в одной звездной системе.
Рано или поздно обнаружат и Немезиду, и тогда здесь появятся колонисты. Сумеет ли Ротор выжить?
Выжить можно, если иметь в запасе время, успеть построить сильную цивилизацию и обжить достаточно большое пространство. Если хватит времени, можно освоить несколько звездных систем. Если нет — достаточно и Немезиды, но она должна стать неприступной. Не к завоеваниям, не к захватам стремился Питт. Он хотел создать островок спокойствия и безопасности к тому времени, когда ввергнутая в хаос конфронтации Галактика полыхнет огнем.
И только он один понимал это. Только он взвалил на себя эту тяжесть. А сколько ему осталось? Четверть века — не более… И что тогда? Кто сумеет проявить подобную дальнозоркость, когда его не станет?
Тут-то Питт и начинал жалеть себя. Столько лет, столько трудов, сколько ещё предстоит — да разве хоть кто-нибудь сумеет по достоинству оценить дело рук его? Никто. И всё кончится, его идея утонет в океане посредственности, что плещется у ног мудрых провидцев.
За все четырнадцать лет, минувших после Исхода, разве был хоть миг, когда он мог ощутить спокойную уверенность? Каждую ночь он засыпал с мыслью, что поутру узнает: возле Немезиды объявилось новое поселение.
И день за днём посреди повседневной суеты какая-то часть его была настороже, в любую минуту ожидая рокового известия.
Четырнадцать лет прошло, но цель ещё не достигнута. Правда, уже построено целое поселение — Ротор-2.
Новенький, пахнущий краской, как прежде говорили, — его уже начали обживать. Ещё три поселения находились в различной степени готовности.
Скоро, лет через десять, поселений станет больше и можно будет следовать древнему завету: плодитесь и размножайтесь!
Грустный пример Земли заставлял поселения помнить о собственных возможностях, и умножение рода людского в космосе не поощрялось. Неопровержимая сила арифметики сталкивалась с необоримой мощью инстинкта, но логика побеждала чувства. Однако, если поселений будет всё больше, настанут времена, когда для них потребуются жители — много, — и тогда потребности к воспроизводству можно будет дать волю.
Временно, правда. Ведь сколько поселений ни создавай, все будут заселены, раз население без всяких сложностей сможет удваиваться каждые тридцать пять лет. Но настанет день, когда, миновав максимум, число строящихся поселений пойдёт на убыль, тогда загнать в бутылку этого джинна будет куда труднее, чем выпустить.
Кто сумеет предусмотреть всё это и подготовиться должным образом, когда его, Питта, не станет?
Кроме того, нельзя забывать про Эритро, планету, вокруг которой обращался Ротор, встречая восходы и закаты огромного Мегаса и румяной Немезиды. Эритро! Загадочная планета…
Питт прекрасно помнил те дни, когда Ротор входил в систему Немезиды. Ротор стремился к красному карлику, и люди постепенно открывали для себя непривычную простоту его планетной системы.
Мегас обнаружили всего в четырех миллионах километров от Немезиды — Меркурий от Солнца отделяет расстояние в пятнадцать раз большее. От своей звезды Мегас получал примерно то же количество энергии, что и Земля от Солнца, — только в спектре Немезиды было больше инфракрасных лучей и меньше видимых.
Даже с первого взгляда трудно было не заметить, что для заселения Мегас явно непригоден. Этот газовый гигант был постоянно обращен к Немезиде одной стороной. Вокруг звезды и вокруг собственной оси он обращался за одно и то же время — двадцать дней.
Вечная ночь на другой половине Мегаса несколько снижала температуру планеты, излучавшей собственное тепло. На обращенном к Немезиде полушарии царила невыносимая жара. При такой температуре Мегас удерживал свою атмосферу лишь потому, что его масса была больше, а диаметр меньше, чем у Юпитера, а сила притяжения на его поверхности в пятнадцать раз превышала юпитерианскую и в сорок раз — земную. Других планет у Немезиды не было.
Ротор подлетал всё ближе, Мегас становился всё виднее — и ситуация вновь изменилась.
Новость Питту сообщила Эугения Инсигна. На одном из снимков после компьютерной обработки обнаружили некий объект, после чего фотографию немедленно доставили Инсигне как главному астроному. И она в смятении явилась к Питту, в его комиссарский кабинет.
— У Мегаса есть спутник, — произнесла она, стараясь сдержать волнение. Голос её дрожал.
Питт приподнял брови.
— Неужели это такая неожиданность? В Солнечной системе у газовых гигантов их бывает до двадцати.
— Конечно, Янус, но это не просто спутник. Он очень большой.
Питт сохранял невозмутимость.
— У Юпитера таких четыре.
— Я хочу сказать, что он действительно большой, — и масса, и размер почти как у Земли.
— Да? Интересно.
— Более чем интересно, Янус. Если бы этот спутник обращался вокруг Немезиды, приливные факторы давно заставили бы его повернуться к звезде одной стороной и он сделался бы непригодным для жизни. Но в данном случае одна его сторона обращена к куда более прохладному Мегасу. Далее, плоскость орбиты спутника образует большой угол с плоскостью экватора Мегаса. Это значит, что Мегас виден только из одного полушария спутника; период его вращения с севера на юг составляет примерно один день. От восхода до заката Немезиды на небе спутника тоже один день. В одном полушарии день и ночь длятся по двенадцать часов. В другом всё происходит примерно так же, только днём часто случаются затмения — полчаса, не более, — сопровождаемые легким похолоданием. В этом полушарии в ночные часы светлее — отражённый Мегасом свет рассеивает тьму.
— У этого спутника такое интересное небо — просто находка для астронома.
— Янус, это не просто астрономическая «конфетка». Не исключено, что температура на спутнике равномерна и приемлема для человека. Значит, он может оказаться пригодным для жизни.
Питт улыбнулся.
— Становится ещё интереснее, но всё-таки его свет непривычен для нас.
Инсигна кивнула.
— Верно, солнце этой планеты покажется нам багровым, а небо тёмным, там нет коротковолнового излучения, которое рассеивается атмосферой. И я думаю, ландшафт должен выглядеть там красноватым.
— Поскольку ты давала имя Немезиде, а кто-то из твоих людей Мегасу, на сей раз я воспользуюсь правом первооткрывателя. Назовем этот спутник «Эритро». Если не ошибаюсь, слово это греческое и означает «красный».
Какое-то время после этого новости оставались хорошими. Систему Мегас — Эритро окружал пояс астероидов. Маленькие планетки могли оказаться источником сырья для создания новых поселений.
Когда они ещё ближе подошли к Эритро, обнаружились новые признаки её пригодности для жизни. На Эритро оказались даже моря, которые, по предварительным оценкам облачного покрова в инфракрасном и видимом свете, были мельче земных. По-настоящему высоких гор на суше было немного.
Проанализировав все данные, Инсигна сделала заключение: климат планеты пригоден для человека.
Когда атмосферу Эритро можно было уже изучать точными спектроскопами, Инсигна с уверенностью сказала Питту:
— Атмосфера Эритро чуть-чуть плотнее, чем на Земле, и содержит шестнадцать процентов свободного кислорода, пять процентов аргона, остальное — азот. Возможна примесь двуокиси углерода, только мы её пока не обнаружили. Главное — там можно дышать.
— Звучит всё лучше и лучше, — обрадовался Питт. — Разве могла ты предположить такую возможность, когда обнаружила Немезиду?
— Это может обрадовать разве что биологов, а вот население Ротора — едва ли. При таком количестве кислорода в атмосфере возможно существование жизни.
— Жизни? — задумчиво повторил Питт.
— Жизни, — злорадно подтвердила Инсигна. — А там, где есть жизнь, могут оказаться и разум, и цивилизация.
* * *
Для Питта начались кошмарные дни. Теперь ему уже виделись не только полчища землян, преследующие по пятам его Ротор; к давним опасениям добавились новые, более сильные. Что, если Ротор вторгнется в пределы владений какой-нибудь древней и могущественной цивилизации, а та, сама того не замечая, возьмет и прихлопнет Ротор, как назойливого комара?
Но они продолжали приближаться к Немезиде, и однажды Питт с тревогой спросил у Инсигны:
— Так, значит, наличие кислорода и в самом деле может быть признаком существования жизни?
— Янус, это неизбежно следует из законов термодинамики. В атмосфере, похожей на земную — а насколько мы можем судить, Эритро во всём подобна Земле, — свободный кислород не может существовать, это столь же неопровержимо, как и то, что камни не могут висеть в воздухе. В атмосфере кислород непременно будет самопроизвольно соединяться с другими элементами, выделяя при этом энергию. Присутствовать в атмосфере свободный кислород может лишь тогда, когда в ней происходит какой-то процесс, обеспечивающий непрерывное выделение кислорода и поглощающий энергию.
— Эугения, я это всё понимаю — но неужели таким процессом может быть только жизнь?
— Дело в том, что, кроме фотосинтеза в зелёных растениях, природа не придумала другого способа превращения энергии в свободный кислород.
— Ты говоришь, природа не придумала — но ведь это в Солнечной системе не придумала. А мы возле другой звезды, тут иная планета, совершенно другие условия. Законы термодинамики, конечно, неизменны — а вдруг здесь кислород выделяется в результате неизвестного в Солнечной системе химического процесса, происходящего с выделением кислорода?
— Если ты любитель пари, я бы не советовала тебе ставить на это, — ответила Инсигна.
Нужны были доказательства, и Питту оставалось только ждать.
Сначала обнаружили, что магнитные поля Немезиды и Мегаса крайне слабы. Особого восторга открытие не вызвало, об этом многие уже догадывались, ведь и звезда, и планета вращались очень медленно. Магнитное поле Эритро, совершавшей один оборот вокруг собственной оси за двадцать три часа шестнадцать минут и за то же время обегавшей один раз вокруг Мегаса, по интенсивности оказалось эквивалентно земному.
Инсигна выглядела довольной.
— Планета защищена от космического излучения, к тому же звездный ветер от Немезиды должен быть куда слабее солнечного. Это хорошо, значит, признаки жизни на Эритро мы сумеем обнаружить издалека. Технологической цивилизации, разумеется.
— Каким это образом? — поинтересовался Питт.
— Можно не сомневаться, что высокого уровня технологии невозможно достигнуть, не используя радиоволнового излучения, распространяющегося во все стороны от Эритро. А поскольку искусственный компонент легко выделить из естественного хаоса радиоволн, излучаемых ею, планета обладает не слишком сильным магнитным полем.
— Едва ли это необходимо, — ответил Питт. — Можно доказать, что Эритро безжизненна, несмотря на наличие кислородной атмосферы.
— О? Хотелось бы услышать, каким образом это можно доказать.
— Вот что мне пришло в голову. Слушай! Ты же сама говорила, что приливное воздействие замедляет вращение Немезиды, Мегаса и Эритро. И не ты ли говорила, что в итоге Мегас отодвинулся от Немезиды, а Эритро удалилась от Мегаса?
— Да.
— Следовательно, некогда Мегас располагался ближе к Немезиде, а Эритро — к Мегасу, а значит, и к Немезиде. Отсюда следует, что поначалу на Эритро было слишком жарко для возникновения жизни, скорее всего, она только недавно достаточно охладйлась. О возникновении технологической цивилизации не может быть и речи.
Инсигна мягко усмехнулась.
— Я и представить себе не могла подобной изобретательности в астрономических вопросах — одной фантазии недостаточно. Красные карлики живут долго, так что Немезида вполне могла сформироваться ещё на заре Вселенной, скажем, миллиардов пятнадцать лет тому назад. Тогда приливное воздействие было весьма сильным, и поначалу все три тела располагались близко друг к другу. На процесс взаимного удаления могли уйти самые первые три-четыре миллиарда лет жизни этой системы. Приливное воздействие уменьшается обратно пропорционально кубу расстояния, так что потом оставшиеся десять миллиардов лет значительных перемен не было. А этого времени хватило бы на существование не одной, а нескольких технологических цивилизаций. Нет, Янус, что толку в безосновательных измышлениях. Лучше подождем, не обнаружится ли что-нибудь интересное в радиоволновом диапазоне.
— Но мы тогда окажемся ещё ближе к Немезиде…
Наконец звезда приблизилась настолько, что превратилась в крошечный красный тусклый шарик и на неё можно было смотреть невооруженным глазом. Возле неё ржавой точкой виднелся Мегас. В телескоп он казался пошедшим на ущерб — под таким углом подлетал к Немезиде и Мегасу Ротор. Эритро можно было различить в телескоп — алую неяркую точку.
Но она становилась всё ярче, и наконец Инсигна сказала Питту:
— Хочу тебя порадовать, Янус. Мы так и не обнаружили никакого радиоизлучения, которое могло бы иметь искусственное происхождение.
— Чудесно. — Теплая волна истинного облегчения окатила Питта.
— Но не надо скакать от радости, — осадила его Инсигна. — Ну а если они предпочитают обходиться без радиоволн? Или научились экранировать их? Или вообще пользуются чем-нибудь другим?
Питт криво улыбнулся:
— Ты серьёзно?
Инсигна неуверенно пожала плечами.
— Если ты хочешь предложить мне пари, советую не ставить на это, — сказал Питт.
Вскоре Эритро превратилась в шар, который уже различали без телескопа, за ней воздушным шариком парил Мегас, с другой стороны Ротора виднелась Немезида. Ротор тормозил, чтобы выйти к Эритро. Видимые в телескоп, над планетой клубились знакомые облака, совсем как на Земле, — оставалось надеяться, что и давление, и температура на поверхности Эритро будут не слишком отличаться от земных.
— Радуйся, Янус, городских огней на ночном полушарии Эритро мы не обнаружили, — объявила Инсигна.
— Ты хочешь сказать, что на ней нет технологической цивилизации?
— Конечно.
— Тогда я сам попытаюсь выступить в качестве адвоката дьявола, — проговорил Питт. — Разве цивилизация, возникшая у тусклого красного солнца, не может обойтись без яркого уличного освещения?
— Это в видимом диапазоне оно может казаться неярким, но Немезида обильно светит и в инфракрасном. Нетрудно предположить, что их уличные светильники дают инфракрасное излучение. Но спектр излучения планеты является полностью естественным. К тому же вся поверхность излучает достаточно однородно, а искусственное освещение образует произвольного вида сетки с тёмными ячейками, где никто не живёт.
— Значит, Эугения, о технологической цивилизации можно забыть, — с облегчением проговорил Питт. — Её здесь нет. Цивилизация могла бы сделать Эритро кое в чём привлекательнее для нас, но нельзя же стремиться к встрече с теми, кто ни в чём нам не уступает, если не превосходит. В таком случае нам пришлось бы удалиться, но куда? К тому же на новый перелет могло бы уже не хватить запасов энергии. Ну а раз так — мы можем с легким сердцем остаться у Немезиды.
— Но атмосфера Эритро изобилует кислородом, значит, на планете должна существовать жизнь. Нет лишь технологической цивилизации. Следовательно, нам придётся спускаться на её поверхность и изучать формы, которые приняла здесь жизнь.
— Зачем?
— Как ты можешь спрашивать, Янус? Если мы наткнулись на жизнь, возникшую независимо от Земли, — какое изобилие открытий ожидает наших биологов!
— Да-да, конечно. Это относительно научной любознательности. Видишь ли, местные формы жизни от нас не сбегут. Позже найдётся время и для них. Сейчас же всё внимание следует уделить неотложным задачам.
— Но что может быть важнее исследования жизни на первой планете, открытой людьми за пределами Солнечной системы?
— Эугения, постарайся же наконец подумать, как нам устроиться здесь. Надо будет строить новые поселения. Придётся урегулировать все отношения в обществе, состоящем из понимающих друг друга людей, значительно менее воинственном, чем то, что осталось в Солнечной системе.
— Но для этого нам понадобится сырье, а значит, всё равно надо спускаться на поверхность Эритро и исследовать жизнь, возникшую на ней…
— Нет, Эугения. Сажать транспорты на Эритро, потом поднимать их — дело чересчур энергоемкое при таком гравитационном поле. Даже здесь, в космосе, совместное гравитационное воздействие Эритро и Мегаса достаточно ощутимо. Мои люди уже всё просчитали. Транспортировку сырья из пояса астероидов наладить будет сложнее, но это выгоднее, чем возить всё с Эритро. Если перевести Ротор в пояс астероидов, затраты уменьшатся. Новые поселения мы будем сооружать именно там.
— Значит, ты предлагаешь не обращать на Эритро вообще никакого внимания?
— Да, Эугения, пока. Вот окрепнем, подкопим сил, выйдём на стадию устойчивого прироста — тогда и займемся жизнью на Эритро или загадочными химическими процессами на её поверхности.
Питт примиряюще улыбался Инсигне. Он был уверен, что исследования Эритро следовало отложить на возможно более далекие времена. Раз технологического общества на ней не существует, прочие формы жизни могут и подождать. Орды последователей, извергаемые Солнечной системой вдогонку Ротору, — вот кто был его истинным врагом.
Ну почему же никто, кроме него, не понимает, что следует делать? Что заставляет всех вечно уклоняться с магистрального пути на глухие тропы?
Разве можно позволить себе умереть, оставив этих дураков без присмотра?
Глава 10
ПЕРЕУБЕЖДЕНИЕ
Итак, теперь, через двенадцать лет после того, как выяснилось, что на Эритро нет технологической цивилизации, через двенадцать мирных лет, в течение которых ни одно поселение с Земли не появилось в окрестностях Немезиды, чтобы погубить зарождающийся новый мир, Питт мог ещё наслаждаться редкими моментами покоя. Но сомнения одолевали его даже во время недолгого отдыха. Он всё подумывал, не увести ли Ротор отсюда, как он намеревался поначалу. Вот если бы они не остались на орбите Эритро, если бы на её поверхности не вырос Купол…
Питт откинулся на спинку кресла, ограничительные поля поддерживали его, полный покой навевал сон… Внезапный негромкий звонок заставил его, хоть и не сразу, вернуться к действительности.
Он открыл глаза — и как это они вдруг оказались закрытыми? — и взглянул на небольшую видеополосу на противоположной стене. Легкое нажатие руки превратило её в экран головизора.
Конечно же, это был Семен Акорат.
Перед комиссаром появилась блестящая, как коленка, лысина: Акорат сбривал тёмный венчик вокруг неё, полагая, что редкая растительность на краю пустыни способна лишь подчеркнуть полное запустение в центре, а объёмистый череп во всей своей нагой красе может показаться даже величественным. Вот он. Озабоченный взгляд… Его глаза были озабоченными даже тогда, когда повод для беспокойства трудно было сыскать.
Питт не любил Акората. Не потому, что тот когда-либо подводил его, проявив неумение или отсутствие преданности — в обоих качествах его нельзя было даже заподозрить, — просто не нравился, и всё тут. Акорат вечно нарушал покой Питта, отрывал от размышлений, требовал от Питта такое, чего сам не намеревался делать. Акорат распоряжался в приёмной Питта и определял, кому и как попадать на приём к комиссару.
Питт слегка нахмурился. Он что-то не помнил, чтобы кому-то назначал встречу на это время. Однако, будучи человеком рассеянным, он во всём полагался на исполнительного, ничего не забывавшего Акората.
— Кто там? — спросил он без интереса. — Что-нибудь несущественное?
— Абсолютно ничего важного, — ответил Акорат, — но лучше вам самому поговорить с ней.
— Она рядом с вами и слышит нас?
— Комиссар, — с укоризной проговорил Акорат, усмотрев в словах босса замечание. — Конечно же нет. Она рядом, но по другую сторону экрана.
Мысли свои он формулировал с привычной точностью, что весьма нравилось Питту. Акората нельзя было понять превратно.
— Если «она», значит, это доктор Инсигна. Вы не забыли мои инструкции? Без предварительной записи я не приму её. Акорат, я сыт ею по горло. Хватит с меня этих двенадцати лет. Найдите какой-либо предлог. Скажите, что я медитирую… Нет, она не поверит… Скажите, что…
— Комиссар, это не доктор Инсигна. Я бы не стал вас беспокоить. Это её дочь.
— Её дочь? — Он не смог сразу припомнить имя девочки. — Ты хочешь сказать, что здесь Марлена Фишер?
— Да. Естественно, я объяснил ей, что вы заняты, но она сказала мне, что лгать стыдно, что всё написано у меня на лице и что таким голосом правду не говорят, — с возмущением цитировал баритон секретаря. — Во всяком случае, она утверждает, что не собирается уходить. Она просила передать вам, что просит принять её. Ну как, комиссар? По правде говоря, её глаза просто пугают меня.
— Кажется, я что-то уже слыхал о них. Хорошо, пусть войдёт. Пусть войдёт, и посмотрим, сумею ли я перенести их взгляд. Придётся подумать о её способностях, всему должно быть рациональное объяснение.
Марлена вошла. Удивительное самообладание, подметил Питт, впрочем, подобающе скромна и без какой бы то ни было заносчивости. Села, положив руки перед собой, предоставляя Питту право начать разговор. Он не торопился, рассеянным взором поглядывал на девочку. Питту приходилось видеть Марлену, когда она была поменьше, но с тех пор прошло много времени. Хорошеньким ребенком её назвать было нельзя, и подростком она не сделалась симпатичней. Широкие скулы, полное отсутствие изящества — но удивительные глаза с длинными ресницами под широкими дугами бровей.
— Ну, мисс Фишер, — начал Питт, — вы хотели видеть меня — так мне сказали. Могу ли я спросить, зачем я вам понадобился?
Марлена окинула его холодным взором своих необыкновенных глаз и без тени смущения проговорила:
— Комиссар Питт, полагаю, моя мать уже сказала вам о моём разговоре с приятелем: я проговорилась ему о том, что Землю ждет гибель.
Брови сошлись вплотную над обыкновенными глазами Питта.
— Да, — ответил он. — Надеюсь, что она успела уже запретить вам дурацкие разговоры о таких серьёзных вещах.
— Да, комиссар, она сделала это. Но, если о чём-то просто не говорить или называть глупостью, это не значит, что это что-то не существует.
— Мисс Фишер, комиссар Ротора — я, и подобные вопросы относятся к моей компетенции, так что я прошу вас позволить мне решать здесь, что так, что не так, что глупо, что нет. С чего вы взяли, что Земля погибнет? Ваша мать говорила что-нибудь в этом роде?
— Не прямо, комиссар.
— Косвенно, значит?
— Она просто не сумела скрыть это, комиссар. Люди говорят не только словами. Есть ещё интонации, выражения лиц, движения глаз и ресниц, разнообразные покашливания. Всех способов не перечесть. Вы понимаете, что я хочу сказать?
— Прекрасно понимаю. Мне тоже приходится обращать внимание на подобные вещи.
— И вы гордитесь этой способностью, комиссар. Вы знаете, что умеете хорошо понимать людей, и эта способность явилась одной из причин назначения вас комиссаром.
На лице Питта появилось удивление.
— Юная леди, я вам этого не говорил.
— Словами — нет. Но вы, комиссар, могли и не прибегать к ним. — Она смотрела прямо в глаза Питту, на лице её не было даже тени улыбки, только легкий интерес к разговору.
— Итак, мисс Фишер, вы пришли, чтобы поговорить со мной об этом?
— Нет, комиссар. Я пришла потому, что в последнее время моей матери стало сложно попадать к вам на приём. Нет, конечно, она мне этого не говорила. Я сама заметила и подумала, что, возможно, вы согласитесь переговорить со мной.
— Хорошо, и вот вы здесь. О чём же вы хотите поведать мне?
— Моя мать беспокоится — потому что Земля может погибнуть. Там остался мой отец, вы помните это.
Питт уже ощущал раздражение. Как можно постоянно смешивать личные интересы с процветанием Ротора? Эта Инсигна — хоть он и благодарен ей, открывшей для него Немезиду, — давно уже буквально душила его этой своей удивительной способностью безошибочно угадывать неверный путь и толкать его туда. А теперь, когда он больше не хочет её видеть, подослала дурочку дочь.
— Как вы считаете, эта самая гибель произойдёт завтра или в следующем году? — спросил Питт.
— Нет, комиссар, я знаю, что до неё ещё почти пять тысяч лет.
— К этому времени вашего отца уже не будет в живых. Как, впрочем, и вашей матери, и меня, и вас. Когда мы все умрем, до гибели Земли и всей Солнечной системы останется почти пять тысяч лет — хотя я лично сомневаюсь, что Солнечной системе действительно угрожает нечто серьёзное.
— Неважно, когда это случится, комиссар, — важно, что случится.
— Ваша мать должна была объяснить вам, что люди Земли задолго до начала катаклизма сумеют заметить угрозу — если она возникнет — и предотвратят её. К тому же бессмысленно заранее горевать по поводу гибели планеты. Эта участь ожидает любой из миров. Каждая звезда неизбежно проходит стадию красного гиганта и губит свои планеты. Планеты умирают, как люди. Только жизнь их много дольше. Вы согласны со мной, юная леди?
— Согласна, — согласилась Марлена. — Мы с компьютером дружим.
«Нисколько не сомневаюсь», — подумал Питт и с опозданием стер с лица сардоническую усмешку. Наверное, она поняла, как он к ней относится.
И, желая окончить разговор, Питт произнес:
— Тогда можно считать разговор оконченным. Любые речи о гибели планеты глупы, но даже если бы это было не так — что вам до неё? Не советую вспоминать об этом, иначе не только вас, но и вашу мать будут ожидать неприятности.
— Разговор ещё не окончен, комиссар.
Питт почувствовал, что теряет терпение, однако невозмутимо ответил:
— Дорогая мисс Фишер, если комиссар говорит — всё, значит — всё, и ваше мнение здесь ни при чем.
Он привстал, но Марлена не пошевелилась.
— Я хочу предложить вам кое-что, в чём вы нуждаетесь.
— Я?
— Возможность избавиться от моей матери.
Воистину озадаченный, Питт сел в кресло.
— Что вы имеете в виду?
— Я объясню, если вы согласитесь выслушать меня. Моя мать уже не может оставаться на Роторе. Её волнует, что будет с Землей, Солнечной системой, иногда она… даже тревожится об отце. Ей кажется, что Немезида погубит всю Солнечную систему. И она считает, что в ответе за это, поскольку давала имя звезде. Комиссар, она человек эмоциональный.
— Да. Вы тоже это подметили?
— Она причиняет вам беспокойство. Она частенько напоминает вам о делах, которые ей кажутся важными, а для вас, наоборот, не представляют интереса. Приходится отказывать ей в приёме, посылать её подальше — мысленно, комиссар. Её действительно можно отослать отсюда.
— В самом деле? Ах да, у нас появилось новое поселение. Значит, я должен отослать её на Новый Ротор?
— Нет, комиссар, пошлите её на Эритро.
— Почему я вообще должен это делать? Чтобы избавиться от неё?
— Да, комиссар. Вы этого хотите. А мне нужно другое. Я хочу, чтобы вы отпустили её на Эритро, — здесь она не имеет возможности работать в обсерватории: приборы постоянно заняты, она чувствует, что за ней следят, и ощущает ваше раздражение. К тому же Ротор не слишком хорошее место для точных измерений. Для этого он вращается слишком быстро и неравномерно.
— Вот как — всё на своих местах. Это ваша мама столько наговорила? Нет, не нужно объяснять. Понимаю, она это сделала косвенно и только косвенно.
— Да, комиссар. Кроме того, не забывайте про мой компьютер.
— Тот самый, с которым вы живёте душа в душу?
— Да, комиссар.
— Значит, вы полагаете, что на Эритро ей будет работаться лучше?
— Да, комиссар. Там будет стабильная база для наблюдений, и мама сумеет выполнить все измерения. Сумеет выяснить, уцелеет ли Солнечная система. А поскольку для этого ей потребуется немало времени, то по крайней мере на этот срок вы избавитесь от неё.
— Похоже, и вы стремитесь избавиться от неё, не так ли?
— Ни в коем случае, комиссар, — строго ответила Марлена. — На Эритро мы полетим вместе. Таким образом вы избавитесь и от меня, что доставит вам даже большее удовольствие.
— А почему вы решили, что я хочу отослать вас подальше?
Марлена посмотрела на Питта немигающими печальными глазами.
— Вам уже этого захотелось, комиссар, потому что теперь вы знаете, что я безошибочно интерпретирую все ваши внутренние побуждения.
И Питт вдруг понял, что отчаянно хочет избавиться от этого чудовища. Он сказал:
— Позвольте подумать, — и отвернулся. В его жесте было нечто детское, но он не желал, чтобы эта жуткая девица читала его лицо, как открытую книгу.
Девушка была права. Теперь ему хотелось отделаться от матери и дочери разом. Что касается матери, то он и сам подумывал, не сослать ли её на Эритро. Но она явно не стремилась туда, а подобная инициатива с его стороны обещала закончиться нежелательным шумом. И вот её дочь предоставила ему повод. Теперь Инсигна не будет противиться назначению на Эритро, а это меняет дело.
Он медленно проговорил:
— Ну, если ваша мать действительно этого хочет…
— Она хочет этого, комиссар. Она ещё не говорила об этом мне и, возможно, ещё сама не отдаёт себе отчёта, но она захочет туда. Я знаю. Поверьте мне.
— Что мне ещё остаётся? А вы хотите туда?
— Очень, комиссар.
— Тогда я немедленно распоряжусь. Вас это устраивает?
— Да, комиссар.
— Ну теперь я могу наконец считать разговор оконченным?
Марлена встала и склонила голову в неуклюжем поклоне, явно предназначенном, чтобы выразить благодарность.
— Спасибо, комиссар.
Она повернулась и вышла, но только через несколько минут после того, как за девушкой закрылась дверь, Питт осмелился расслабить мышцы лица, уже уставшие от застывшего на нём выражения.
Он не мог позволить ей узнать то, чего она не должна была даже заподозрить, то, что лишь он один знал об Эритро.
Глава 11
ОРБИТА
Пора было приниматься за дело, но Питт чувствовал, что не готов. Пришлось даже отложить приём посетителей. Ему нужно было подумать.
Прежде всего о Марлене. У её матери, Эугении Инсигны Фишер, постоянно были какие-то проблемы, и положение только ухудшилось за эти двенадцать лет. Вечные эмоции и заскоки, нимало не уравновешиваемые рассудком. Но всё-таки она была обычным человеком, ею можно было управлять, направляя её в нужную сторону, контролировать. Достаточно было окружить её со всех сторон несокрушимыми стенами логики, а когда она изредка начинала трепыхаться, её всегда можно было уговорить оставаться в этой темнице.
Но с Марленой дело обстояло иначе. Это было просто чудовище. И Питт был рад, что она по-глупому выдала себя, сказав, что хочет помочь матери. Пока она ещё не набралась опыта и ума. Став взрослее, она сумеет воспользоваться своими способностями самым сокрушительным образом. И тогда она станет ещё опаснее — значит, остановить её нужно немедленно. Так пусть её остановит другое чудовище — Эритро.
Питт понимал, что делает. Эритро показалась ему чудовищем с самого начала. Такое впечатление создавал весь облик планеты, кровавые отсветы лучей Немезиды, зловещий и угрюмый ландшафт.
Когда Ротор приблизился к поясу астероидов, находившемуся в сотне миллионов миль от орбиты, по которой кружили Мегас и Эритро, Питт уверенно объявил: «Приехали».
Он считал, что никаких сложностей не возникнет. Свет и тепло Немезиды не достигали пояса астероидов. Впрочем, Ротору это было и не нужно, поскольку он обеспечивал себя энергией. В этом было одно из достоинств искусственного мирка. Зачем ему кровавый свет звезды, который сжимает сердце, туманит разум и леденит душу?
Кроме того, в поясе астероидов тяготение Немезиды и Мегаса сказывалось не так сильно, и любые манёвры в космосе можно было производить с меньшими затратами. Отсюда легче было вести добычу полезных ископаемых на астероидах.
Идеальное место!
Однако роториане подавляющим большинством голосов решили, что поселение должно находиться на орбите Эритро. Питт старался доказать, что тогда им придётся утопать в злом и унылом красном свете, что помимо Эритро их будет держать в своей гравитационной хватке и Мегас, а за сырьем всё равно придётся летать к астероидам.
Питт сердито переругивался с Тамбором Броссеном, бывшим комиссаром Ротора, от которого он унаследовал пост. Порядком подустав на службе, Броссен наслаждался ролью отставного, но влиятельного государственного деятеля — куда больше, чем прежде ролью комиссара. (Говорили, что процесс принятия решения доставлял ему куда меньшее удовольствие, чем Питту.)
Броссен смеялся над заботами Питта о местоположении поселения. Правда, внешне он оставался совершенно серьёзен, но в глазах пряталась усмешка.
— Янус, — говорил он, — не стоит добиваться полного единомыслия среди населения Ротора. Пусть хоть время от времени у них будет возможность взбрыкнуть — покорнее будут в других случаях. Хотят они жить возле Эритро — пусть живут возле Эритро.
— Но ведь это неразумно, Тамбор. Разве ты этого не понимаешь?
— Конечно, понимаю. Но Ротор почти весь свой век провёл возле громадной планеты. Роториане к этому привыкли и полагают, что иначе быть не может.
— Но ведь то была околоземная орбита. Эритро не Земля, она ничуть на неё не похожа.
— По размерам эта планета почти не отличается от Земли. На ней есть суша и море. Вокруг неё атмосфера, в которой присутствует кислород. Можно пролететь ещё тысячи световых лет, но так и не обнаружить мир, похожий на Землю. Могу повторить ещё раз: пусть будет так, как хотят люди.
Питт последовал совету Броссена, хоть в душе остался с ним не согласен. Новый Ротор строился на орбите возле Эритро, остальные два тоже. Однако проекты поселений в поясе астероидов уже были готовы и прорисованы на чертежах, но общественное мнение не торопилось давать санкцию на их сооружение.
Из всего, что произошло после открытия Немезиды, самой большой ошибкой Питт считал то, что Ротор остался возле Эритро. Этого не должно было случиться. И всё же… всё же… могли он переубедить роториан? Может, стоило нажать посильнее? А что, если тогда дошло бы до новых выборов и его смещения?
Причина была в ностальгии. Люди хотели иметь возможность обернуться лицом к былому — нельзя же заставлять их смотреть только вперёд. Даже Броссена.
…Он умер семь лет назад. Питт сидел у смертного одра старика и слышал его последние слова. Броссен поманил к себе Питта, тот нагнулся к умирающему. Слабой рукой, покрытой иссохшей кожей, старик коснулся руки Питта и едва слышно шепнул:
— Каким же ярким было Солнце Земли, — и умер.
Роториане помнили своё родное Солнце и зелёную Землю, а потому они решительно отвергли все аргументы Питта, всё-таки настояв на том, чтобы Ротор остался на орбите у совсем не зелёного мира, обращавшегося вокруг тусклой звезды.
Так было напрасно потеряно целых десять лет. Останься они в поясе астероидов, работы уже ушли бы вперёд на целое десятилетие — Питт не сомневался в этом.
Одного этого хватило, чтобы испортить отношение Питта к Эритро; однако с ней были связаны и обстоятельства худшие… куда более худшие.
Глава 12
ГНЕВ
Так уж случилось, что Крайл Фишер дал землянам понять, что Ротор следует искать в неожиданном месте, а позже сумел и уточнить свой намек.
Он пробыл на Земле уже два года, и Ротор постепенно уходил из его памяти. Воспоминания о Эугении Инсигне изредка посещали его — но что она теперь для него? — а вот Марлена… В памяти своей он не мог отделить её от Розанны… Годовалая дочь и семнадцатилетняя сестра в его воспоминаниях упорно сливались в одну личность.
Жилось ему легко. Пенсии хватало с избытком. Ему даже подыскали работу — некую административную должность, в которой он мог принимать решения, заведомо не затрагивавшие ничего существенного. Крайл полагал, что его простили, — во всяком случае частично, — лишь потому, что он сумел вовремя припомнить слова Эугении: «Если бы ты знал, куда мы летим».
И всё же он чувствовал, что за ним следят, и был этим весьма огорчен.
Время от времени в гости захаживал Гаранд Уайлер, всегда дружелюбный и дотошный, и всякий раз так или иначе вспоминал про Ротор. Так случилось и на сей раз. Разговор, как и ожидал Фишер, вновь зашёл о Роторе.
— Два года прошло, — хмуро проворчал Фишер. — Чего вам ещё от меня нужно?
Уайлер покачал головой.
— Признаюсь честно, Крайл, я не знаю. Мы располагаем только фразой твоей жены. Как ты понимаешь, этого мало. Не могла же она так и не проговориться за все годы, что вы были вместе. Постарайся вспомнить. Может быть, наедине… между собой. Ничего не припоминается?
— Гаранд, ты меня в пятый раз спрашиваешь об этом. Меня допрашивали. Меня гипнотизировали. Меня подвергали психокодированию. Меня выжали досуха, и сказать мне больше нечего. Оставьте меня в покое, найдите себе другую забаву. Или верните меня на работу. Там, наверху, сотня поселений, в каждом живут друзья и недоброжелатели — и все следят друг за другом. О том, что могут знать в одном из поселений, остальные могут даже не подозревать.
— Честно скажу, старина, — ответил Уайлер, — мы уже работаем в этом направлении. Особенный интерес для нас представляет Дальний Зонд. Получается, что он помог Ротору обнаружить нечто неизвестное всем остальным. Земля ведь не посылала космические аппараты в дальний космос. И другие поселения тоже. А Ротор сумел сделать это. Всё, что Зонд обнаружил в космосе, должно быть в материалах Ротора.
— Вот и отлично. Займитесь ими. Работы там хватит на годы и годы. А меня оставьте в покое. Навсегда.
Но Уайлер продолжал:
— Действительно, там столько наворочено, что хватит не на один год. В соответствии с соглашением о результатах научных исследований Ротор передал нам целую гору информации. В частности фотографии звездного неба во всех спектральных диапазонах. Камеры Зонда обследовали почти всё небо, мы тщательно изучаем снимки, но ничего интересного пока не обнаружили.
— Ничего?
— Пока ничего. Но ведь ты сам сказал, что работы у нас на многие годы. Конечно, нашлось много такого, от чего астрономы наши в полном восторге. Находки поддерживают в них рвение и интерес к делу. Однако мы пока не получили от них ни намека, ни даже тени намека на то, куда подевался Ротор. Пока, во всяком случае. Насколько я понимаю, у нас нет никаких оснований предполагать, что у всех трех солнц альфы Центавра могут оказаться планеты. Других подобных альфе Центавра звезд неподалеку от Солнца может не оказаться. Но я и не ожидаю, что обнаружится что-то существенное. Что мог заметить Дальний Зонд такого, чего нельзя было увидеть из Солнечной системы? Он ведь отходил всего на пару световых месяцев. Вроде бы никакой разницы, но у нас полагают, что Ротор всё-таки успел заметить нечто, причем достаточно быстро. Потому-то мы вновь обращаемся к тебе.
— Почему ко мне?
— Потому что твоя бывшая жена возглавляла работы по Дальнему Зонду.
— Не совсем. Она была назначена главным астрономом, когда все данные уже были получены.
— Да, работами она руководила с самого начала, но тогда выходит, что её назначение неспроста. Неужели она так и не проговорилась о том, что именно обнаружил Дальний Зонд?
— Ни словом. Погоди, ты сказал, что камеры Дальнего Зонда сумели снять почти всё небо?
— Да.
— Что значит «почти»?
— Ну, не могу сказать точно. Кажется, не менее девяноста процентов.
— Или больше?
— Может быть, больше.
— Интересно…
— Что тут интересного?
— На Роторе распоряжался один тип по имени Питт…
— Нам это известно.
— Мне кажется, я знаю, как он поступил бы. Питт передавал бы результаты, полученные Дальним Зондом, понемногу — так сказать, в порядке исполнения соглашения по науке, и всё прочее. И ко времени исчезновения Ротора оказалось бы, что часть информации они нам так и не успели передать. Ну процентов десять, может, даже меньше. Только это очень важные проценты.
— Именно та часть неба, куда ушёл Ротор?
— Возможно.
— Но у нас же её нет.
— Она у нас есть.
— Как это?
— Ты же сам только что удивлялся, что такого мог обнаружить Дальний Зонд, о чём не знали бы в Солнечной системе. Зачем тратить время на то, что они передали нам? Нужно выяснить, снимки какого участка неба они не передали, и подробно изучить его по собственным звездным картам. Потом спросить себя, нет ли там таких объектов, которые выглядели бы иначе для Дальнего Зонда, и почему. Вот что я сделал бы. — Помолчав, Фишер вдруг крикнул: — Ступай же! Пусть там хорошенько просмотрят ту часть неба, которой мы не получили.
— Ерунда какая-то, — задумчиво пробормотал Уайлер.
— Ни в коем случае. Всё просто. Если только в Конторе есть ещё парни, которые не сидят на собственных мозгах.
— Посмотрим, — отозвался Уайлер и протянул Фишеру руку.
Внезапно нахмурившись, Фишер сделал вид, что не заметил её.
Прошло несколько месяцев, прежде чем Уайлер появился вновь. Фишер не ждал его. Был выходной день, Фишер пребывал в добром расположении духа и даже читал книгу.
Фишер был не из тех, кто считал книги проклятием двадцатого столетия, полагая, что лишь варианты телевидения соответствуют высокому уровню цивилизации. Есть нечто, думал он, перелистывая страницы, в этом приятном ощущении, когда держишь в руке тяжелую книгу, в этой возможности задуматься, отыскать нужное место без всякой суеты с обратной перемоткой. Фишер был убеждён, что книга является более цивилизованным средством хранения информации.
И каждое нарушение приятного оцепенения возмущало его.
— Ну что там, Гаранд? — спросил он нелюбезно.
Благородная улыбка не покидала лица Уайлера. Он процедил сквозь зубы:
— Мы нашли её как раз там, где ты и сказал.
— Что нашли? — переспросил уже позабывший обо всём Фишер. Но, сообразив, о чём толкует Уайлер, торопливо проговорил: — Только не говори того, чего мне не положено знать. Больше я не желаю иметь дела с Конторой.
— Поздно, Крайл. Ты нам нужен. Сам Танаяма желает тебя видеть.
— Когда?
— Как только я смогу тебя доставить к нему.
— Тогда хоть объясни мне, о чём речь. Я не хочу предстать перед ним дурак дураком.
— Это я и собираюсь сделать. Изучен каждый участок неба, отсутствовавший в материалах, полученных Дальним Зондом. И те, кто это делал, — как ты и советовал, — спросили себя, что здесь могло выглядеть для Дальнего Зонда иначе, чем для Солнечной системы. Ответ был очевиден — смещение ближайших звезд. Тут-то астрономы и обнаружили удивительную штуковину, о существовании которой никто и не подозревал.
— Ну?
— Очень тусклую звездочку, с параллаксом, превышающим одну угловую секунду дуги.
— Я не астроном. Это много или мало?
— Это значит, что звезда вполовину ближе к нам, чем альфа Центавра.
— Ты сказал «очень тусклую»?
— Мне объяснили, что она расположена за пылевым облаком. Слушай, ты, конечно, не звездочет, но жена твоя была на Роторе астрономом. Не исключено, что она-то её и обнаружила. Она тебе ничего не говорила об этой звезде?
Фишер покачал головой:
— Ни слова. Правда…
— Ну-ну?
— Последние несколько месяцев она казалась мне какой-то взволнованной, словно что-то переполняло её.
— И ты не спрашивал почему?
— Я полагал, что это связано с отбытием Ротора. Она радовалась, а я психовал.
— Из-за дочери?
Фишер кивнул.
— Но её волнение могло быть связано и с новой звездой. Сходится. Конечно, они полетели к этой звезде. А если её открыла твоя жена, значит, они полетели к её собственной звезде. Отсюда и её прыть. Разумное предположение?
— Вполне. Во всяком случае, не противоречивое.
— Вот и отлично. За этим ты и понадобился Танаяме. Он кипит от гнева. Не из-за тебя, конечно, — вообще кипит.
* * *
В этот же день — ибо задержек в подобных вопросах не допускали — Крайл Фишер оказался в здании Всеземного бюро расследований, которое сотрудники этого учреждения предпочитали именовать Конторой.
Каттиморо Танаяма, руководивший ею уже более тридцати лет, заметно состарился. Его немногочисленные голографические портреты были сделаны довольно давно, когда гладкие волосы Танаямы были ещё чёрными, спина прямой, а взгляд энергичным.
С тех пор он успел поседеть и сгорбиться. Не собирается ли Танаяма подать в отставку? — подумал Фишер. Впрочем, не исключено, что старик решил умереть на работе. Однако он успел подметить, что взгляд Танаямы остался острым и проницательным.
Фишер понимал его с некоторым трудом. Английский давно стал универсальным языком на Земле, однако в нём успели образоваться диалекты, поэтому произношение Танаямы было непривычно для североамериканца.
— Ну, Фишер, — холодно промолвил Танаяма, — дело на Роторе вы провалили.
Спорить было не о чём, тем более с Танаямой.
— Да, директор, — ровным голосом ответил Фишер.
— Но вы, возможно, ещё владеете кое-какой полезной информацией.
Фишер вздохнул и ответил:
— Меня допрашивали вдоль и поперек.
— Я знаю, мне докладывали, только вас спросили не обо всём. Лично у меня к вам вопрос, на который я хочу получить ответ.
— Да, директор?
— За время пребывания на Роторе имели ли вы какие-нибудь основания заподозрить тамошнее руководство в ненависти к Земле?
Брови Фишера поползли вверх.
— Ненависти? Мне казалось очевидным, что люди на Роторе, да, наверное, и на всех остальных поселениях смотрят на Землю свысока, считают её отсталой, убогой и варварской планетой. Но ненависть… Откровенно говоря, сомневаюсь, что нас ценили достаточно высоко, чтобы возненавидеть.
— Я говорю о руководстве, не о населении.
— Я тоже, директор. Ненависти не было.
— Тогда я ничем не могу этого объяснить.
— Чего объяснить, директор?
Танаяма бросил на Фишера проницательный взгляд (сила личности этого японца была такова, что редко кто замечал, что он невелик ростом).
— Вы знаете, что эта звезда движется к нам? Прямиком к Солнечной системе!
Фишер вздрогнул и попытался отыскать взглядом Уайлера, но тот сидел в углу, прячась от света, падавшего из окна, и, судя по его виду, думал о чём-то своем.
— Хорошо, Фишер, садитесь, может быть, это поможет вам освежить память. Я тоже сяду. — Танаяма присел на край своего стола, свесив короткие ножки. — Вам было известно о направлении движения звезды?
— Нет, директор. Я даже не знал о её существовании, пока агент Уайлер не просветил меня.
— Вы не знали? На Роторе такое не могло остаться неизвестным.
— Мне об этом не говорили.
— Но как раз перед стартом Ротора ваша жена стала радостной и возбуждённой. Так вы сказали агенту Уайлеру. По какой причине?
— Агент Уайлер полагает, что именно она открыла эту звезду.
— Быть может, ей уже было известно о направлении её движения, и она радовалась тому, что должно произойти с нами?
— Не знаю, директор, почему подобные мысли должны были доставлять ей радость. Уверяю вас, что действительно понятия не имею, было ли ей известно о направлении движения звезды и даже о самом её существовании.
Танаяма задумчиво взглянул на Фишера, легонько почесывая пальцем подбородок.
— На Роторе все были евро? — вдруг спросил он. — Правильно?
Фишер широко открыл удивленные глаза. Ему давно не приходилось слышать этот вульгаризм — тем более из уст правительственного чиновника. Он вспомнил, что и Уайлер говорил о «белоснежках» на Роторе, когда Крайл только что возвратился. Тогда Фишер отнесся к его речам с легким сарказмом — и не обратил на них внимания.
— Не знаю, директор, — ответил он с сожалением. — Я не изучал их досье и ничего не могу сказать об их происхождении.
— Ну, Фишер, для этого не обязательно изучать анкеты. Можно судить по внешнему виду. Приходилось ли вам встречать на Роторе людей с лицами афро, монго или хиндо? Темнокожих? С эпикантусом?
Фишер взорвался:
— Знаете, директор, сейчас не двадцатый век! — Если бы он знал, как это сделать, то выразился бы покрепче. — Я просто не обращаю внимания на подобные вещи, как, впрочем, и все на Земле. Удивлен, что слышу от вас такие слова, и полагаю, что они могли бы скомпрометировать вас, если бы о них стало известно…
— Агент Фишер, не дурите мне голову, — ответил директор, с укоризной водя из стороны в сторону корявым указательным пальцем. — Я говорю о том, что есть. Конечно, мне известно, что сейчас на Земле расовым различиям, по крайней мере внешне, внимания не уделяется.
— Только внешне? — возмутился Фишер.
— Только внешне, — холодно ответил Танаяма. — Когда земляне отправляются в поселения, они сами собой сортируются. Почему так получается, если различия между людьми не существенны? В любом поселении все жители едва ли не на одно лицо, а если обнаруживаются не такие, как все, они оказываются в меньшинстве, чувствуют себя неуютно или их заставляют чувствовать себя неуютно, а лучше всего перекочевывать в другие поселения, где таких, как они, большинство. Разве не так?
Фишер понимал, что возразить нечего. Так оно и было, внутренне он принимал всё это как данность.
— Что поделаешь, — ответил он. — Человеческая природа, каждый тянется к себе подобным… К соседям.
— Каждый, бесспорно, тянется к подобным себе. Потому что люди ненавидят и презирают тех, кто не похож на них.
— Существуют и поселения м-монго. — Фишер запнулся, понимая, что может смертельно обидеть директора — человека, оскорбить которого нетрудно и очень опасно.
Танаяма и бровью не повёл.
— Я знаю, но евро ещё совсем недавно доминировали на планете и до сих пор не могут этого позабыть.
— Остальные, возможно, тоже не могут забыть этого, и причин для ненависти у них не меньше.
— Но ведь это Ротор бежал из Солнечной системы.
— Это случилось потому, что они первыми изобрели гиперпривод.
— И отправились к ближней звезде, о которой было известно только им, звезде, которая мчится прямо к Солнечной системе и может её погубить.
— Нам неизвестно, что знали на Роторе об этой звезде.
— Вздор, они знали обо всём, — проворчал Танаяма, — и бежали, не предупредив нас.
— Директор, почтительно обращаю ваше внимание на то, что такое предположение нелогично. Если они собираются обосноваться возле звезды, которая может погубить Солнечную систему, то ведь пострадает и их собственная планетная система.
— Ну им-то будет легко спастись, стоит только понастроить достаточное количество поселений. А у нас целый мир — восемь миллиардов человек, которых придётся эвакуировать. Задача куда более трудная.
— Сколько же времени у нас остаётся?
Танаяма пожал плечами:
— Несколько тысяч лет, так мне сказали.
— Немало. Возможно, поэтому им и в голову не пришло предупреждать нас. Когда звезда приблизится, её заметят без всяких предупреждений.
— И тогда на эвакуацию останется меньше времени. Они случайно обнаружили эту звезду. Мы бы тоже не смогли её заметить, если бы не слова вашей жены и не ваша догадка — хорошая, кстати, — что искать нужно в той части неба, снимки которой отсутствуют в материалах Ротора. Они преднамеренно так поступили, чтобы мы узнали обо всём как можно позднее.
— Но, директор, зачем им было затевать всё это? Из одной только беспричинной ненависти?
— Не беспричинной. Пусть гибнет Солнечная система со всеми её многочисленными неёвро. А человечество всё начнет заново, руками одних евро. Ну? Что вы об этом думаете?
— Немыслимо… невозможно, — качнул головой Фишер.
— А почему тогда нас не предупредили?
— Что, если поначалу им самим не было известно о движении этой звезды?
— Немыслимо, невозможно, — с иронией возразил Танаяма. — Нет и не может быть другой причины — только желание видеть нашу погибель. Но мы разгадаем загадку гиперпривода, отправимся к этой новой звезде и тогда сведем с ними счёты.
Глава 13
КУПОЛ
Эугения Инсигна выслушала дочь и недоверчиво усмехнулась. Одно из двух: либо девчонка не в своем уме, либо ей послышалось.
— Что ты сказала, Марлена? Меня посылают на Эритро?
— Я попросила комиссара Питта, и он согласился всё устроить.
Инсигна с недоумением взглянула на дочь.
— Но почему?
Начиная раздражаться, Марлена ответила:
— Ты ведь сама сказала, что хотела бы провести точные астрономические наблюдения, а на Роторе это невозможно. Теперь можешь сделать их на Эритро. Но я уже вижу — ты ждёшь другого ответа.
— Правильно. Я хотела бы знать, почему комиссар Питт вдруг взялся за это. Я ведь неоднократно просилась туда, и всякий раз он отказывал. Ведь он никого не отпускал, кроме нескольких специалистов.
— Я просто изложила ему это дело иначе. — Марлена чуть помедлила. — Я сказала ему, что он может таким образом избавиться от тебя, — и он использовал эту возможность.
У Инсигны перехватило дыхание, и она закашлялась до слез. Наконец, переведя дух, она спросила:
— Как ты могла сказать такое?
— Потому что это правда, мама. Иначе я не стала бы этого говорить. Я слышала, что он тебе говорил, я слышала, что ты говорила о нём. Всё яснее ясного. По-моему, и ты это видишь. Ты его раздражаешь, и он не хочет ни видеть тебя, ни думать о тебе. Ты сама это знаешь.
Инсигна поджала губы.
— Знаешь что, дорогая, отныне я все свои тайны сразу буду поверять тебе. Это нелегко, но всё же лучше, чем позволять тебе копаться во мне.
Марлена опустила глаза.
— Извини, мама.
— Но я всё-таки не понимаю. Конечно, тебе не пришлось объяснять ему, что я его раздражаю. Он это и так знает. Но почему он раньше не разрешал мне отправиться на Эритро, когда я просила его об этом?
— Потому что он не желает иметь дело с Эритро и неприязнь к этому миру перевешивает нежелание видеть тебя. Но ты полетишь туда не одна. Мы полетим вместе. Ты и я.
Инсигна подалась вперёд и уперлась ладонями в стол, разделявший их.
— Нет, Молли… Марлена. Эритро — место не для тебя. И я лечу туда не навсегда. Закончу измерения и вернусь, а ты будешь ждать меня здесь.
— Я не боюсь её, мама. Неужели не ясно, что он отпускает тебя лишь потому, что заодно хочет избавиться и от меня? Поэтому-то он и согласился. Понимаешь?
Инсигна нахмурилась.
— Не понимаю, в самом деле не понимаю. Ты-то какое отношение имеешь ко всему этому?
— Когда я сказала ему, что знаю о его неприязни к нам обеим, лицо его застыло — ты знаешь, как он умеет стереть с него всякое выражение. Он знал, что я понимаю жесты и всё такое прочее, и не захотел, чтобы я прочла его мысли. Но и отсутствие всякого выражения говорит мне о многом. Видишь ли, невозможно сделать лицо абсолютно непроницаемым. Человек сам не замечает, как у него бегают глаза.
— Короче говоря, ты поняла, что он хочет отделаться и от тебя?
— Хуже — я поняла, что он боится меня.
— Почему же он тебя боится?
— Потому что не хочет, чтобы я узнала то, что он хотел бы скрыть. — Марлена вздохнула и добавила: — На меня всегда сердятся за это.
Инсигна кивнула:
— И я понимаю почему. Ты заставляешь людей ощущать себя голыми — умственно, так сказать. Словно холодный ветер, пронизываешь их мозг. — Она пристально взглянула на дочь. — Иногда я тоже так себя чувствую. Теперь мне уже кажется, что ты смущала меня, когда была ещё совсем маленькой. Тогда я уверяла себя, что это потому, что ты у меня просто чрезвычайно ум…
— Так и есть, — перебила её Марлена.
— Да, конечно, но в тебе кроется нечто большее — только тогда я этого не замечала. Скажи мне, эта тема разговора тебя не смущает?
— Мы же вдвоем, мама, — осторожно произнесла Марлена.
— Хорошо, тогда объясни мне, почему, когда ты была меньше и уже знала, на что способна — что не под силу не только другим детям, но и взрослым тоже, — почему ты не пришла ко мне и не рассказала обо всём?
— Однажды я пыталась, но ты не захотела слушать. То есть ты мне ничего не сказала, но я видела, что ты занята и не желаешь тратить время на детскую болтовню.
Глаза Инсигны округлились.
— Неужели я так и сказала: «на детскую болтовню»?
— Нет, ты молчала, но смотрела и руки держала так, что всё было ясно.
— Надо было настоять и всё равно рассказать.
— Я была слишком мала, а ты всё время нервничала — из-за комиссара Питта и из-за отца.
— Ладно, не думай больше об этом. Что ещё скажешь?
— Только одно, — проговорила Марлена. — Когда комиссар Питт сказал, что согласен и мы можем отправляться на Эритро, мне почудилось, что он чего-то недоговаривает.
— И что же это было, Марлена?
— Не знаю, мама. Я же не умею читать мысли. Только внешне… да и то не всегда можно понять. Однако…
— Ну-ну?
— По-моему, он думал о чём-то неприятном, пожалуй, даже ужасном.
* * *
Подготовка к полёту на Эритро заняла много времени. На Роторе у Инсигны были дела, которые нельзя было бросить. Нужно было переговорить в департаменте астрономии, отдать распоряжения, назначить первого заместителя исполняющим обязанности главного астронома, наконец проконсультироваться у Питта, ставшего непривычно неразговорчивым.
Во время последней беседы Инсигна сообщила:
— Знаешь, завтра я лечу на Эритро.
— Прости? — Он поднял глаза от её отчета, который старательно листал, не читая, — она была убеждена в этом.
Неужели она, сама того не ведая, поднабралась Марлениных штучек? Не надо бы девочке думать, что она может видеть то, что скрывается под поверхностью, это не так.
— Ты знаешь, завтра я улетаю на Эритро, — терпеливо повторила она.
— Завтра. Но ты же будешь к нам наведываться, так что я не прощаюсь. Береги себя. Рассматривай поездку как отпуск.
— Я намереваюсь заняться исследованиями движения Немезиды в пространстве.
— Ах это, ну… — Он пренебрежительно махнул рукой. — Как хочешь, И всё-таки, даже если ты продолжаешь работать, смена обстановки всегда отпуск.
— Янус, я хочу поблагодарить тебя, что ты предоставил мне такую возможность.
— Твоя дочь просила меня. Ты знаешь об этом?
— Знаю, она мне в тот же день всё и рассказала. Я ругала её, что она тебя побеспокоила. Ты отнесся к ней с таким вниманием.
— Необычная девочка, — пробормотал Питт. — Рад был ей помочь. всё равно это дело временное. Закончишь расчёты и вернешься.
Инсигна заметила: Питт дважды упомянул о возвращении. Что на её месте сказала бы Марлена? «Ужасное», — говорила она. Но что?
— Ну, до возвращения с приятными новостями, пусть Немезида будет безопасной и через пять тысяч лет, — произнес Питт.
— Ну это уж как наблюдения покажут, — сухо отрезала она и встала.
* * *
Странно это, размышляла Эугения Инсигна, жить в космосе в двух световых годах от планеты, где ты родилась, и только дважды летать на космическом корабле, и то недолго: с Ротора на Землю и обратно.
Путешествия в космосе не привлекали её. Это Марлене всё было интересно. Она сама пробилась к Питту и шантажом, пусть и необычным, заставила его уступить. Именно Марлена стремилась на Эритро, подчиняясь странной власти планеты над нею. Причин такой власти Инсигна понять не могла и предпочитала усматривать в этом ещё одно проявление уникальных эмоциональных и ментальных способностей дочери. И хотя её угнетала мысль о том, что придётся оставить маленький и уютный Ротор, променять его на пустынную огромную Эритро, грозные и загадочные равнины которой лежали в шестистах пятидесяти километрах от поселения — вдвое дальше, чем некогда находилась Земля, — волнение Марлены воодушевляло её.
Корабль, которому предстояло отвезти их на Эритро, нельзя было назвать красавцем. Это было просто рабочее судно — небольшая ракета-паром, преодолевавшая крепкую гравитационную хватку Эритро и без приключений спускавшаяся вниз, под пухлое атмосферное одеяло своенравной планеты-дикарки.
Инсигна знала, что путешествие будет не из приятных. Большую часть времени им предстояло провести в невесомости, а как она уже убедилась, двух дней в подобных условиях ей хватит с избытком.
Голос Марлены нарушил ход её мыслей:
— Эй, мама, пошли, нас ждут. Багаж уже погружен.
Инсигна шагнула вперёд и, проходя через воздушный люк, ещё раз подумала: так почему же Янус Питт всё-таки отпустил их?
* * *
Сивер Генарр правил миром столь же обширным, как и Земля. Впрочем, если быть точнее, правил он тремя квадратными километрами суши, укрытыми Куполом. Пространство это медленно увеличивалось. Остальные же без малого пять сотен миллионов квадратных километров не знали ни человека, ни других живых существ — кроме микроорганизмов. Но поскольку считается, что миром правят населяющие его многоклеточные организмы, то несколько сотен людей, которые жили и работали под Куполом, были правителями Эритро, а он, Сивер Генарр, командовал ими.
Ростом Генарр не выдался, но мужественные черты придавали ему впечатляющий вид. Когда он был помоложе, то казался старичком среди ровесников, теперь же — к пятидесяти — положение поправилось. Длинный нос и глаза слегка навыкате, волосы едва тронула седина. Звучный и музыкальный баритон прежде даже позволял ему подумывать о сценической карьере, но рост неминуемо обрек бы его на исполнение редких в операх характерных ролей, — и таланты администратора в конце концов возобладали.
Благодаря этим талантам — отчасти — он десять лет провёл под Куполом на Эритро. На его глазах на месте сооруженьица из трех крохотных комнатушек выросла просторная горнодобывающая и исследовательская станция.
У Купола были свои недостатки. Редко кто жил в нём долго. То и дело происходили перемены: всякий, кто попадал на Эритро, полагал, что его сослали, и всеми силами стремился вернуться на Ротор. Большинству жителей красноватый свет Немезиды казался тревожным и угрюмым, хотя освещение под Куполом было точно таким же, как на Роторе.
Но были и преимущества. Генарр мог держаться подальше от бурлящего на Роторе водоворота политических страстей, с каждым годом казавшихся ему всё более мелкими и вздорными. Ещё важнее было то, что здесь он мог держаться подальше от Януса Питта, с которым постоянно — и безрезультатно — спорил.
Питт с самого начала был решительно против заселения Эритро. Он не хотел даже, чтобы Ротор находился возле планеты. Однако общественное мнение возобладало, и тогда он позаботился о том, чтобы на Купол вечно не хватало средств, чтобы он рос помедленнее. Если бы Генарру не удалось сделать Купол источником воды для Ротора, что обходилось поселению дешевле, чем доставка её из пояса астероидов, — комиссар давно сокрушил бы маленькую колонию.
Впрочем, проповедовавшийся Питтом принцип «игнорирования» с самого рождения Купола в общих чертах означал невмешательство в предпринимаемые Генарром административные меры, что устраивало того от не собиравшейся редеть шевелюры до пяток, упиравшихся во влажную почву Эритро.
Поэтому Генарр был удивлен, когда Питт лично известил его о прибытии пары новичков, вместо того чтобы воспользоваться обычными в подобном случае бумагами. Питт подробно изложил ему всё дело — в своей обычной манере говорить отрывисто и властно, не допускавшей не только возражений, но и обсуждения. Весь разговор шёл за экраном.
Ещё более удивительно было то, что одной из двоих прибывших оказалась Эугения Инсигна.
Некогда, ещё до Исхода, они были друзьями, но потом, после блаженных студенческих дней — Генарр не без сожаления вспоминал о романтической юности, — Эугения отправилась делать дипломную работу на Землю и возвратилась на Ротор, прихватив с Земли мужчину. С тех пор как она вышла замуж за Крайла Фишера, Генарру не приходилось встречаться с ней — разве что просто видел раза два или три, да и то издали. Когда перед самым Исходом они с Фишером расстались, Генарр был занят работой — как, впрочем, и она, — и никому из них в голову не пришло возобновить прежнее знакомство.
Генарр, пожалуй, временами об этом подумывал, но Эугения была поглощена заботами и воспитанием малолетней дочери, и он не решался подступиться к ней. А потом его послали на Эритро, тем самым со всеми надеждами на возобновление отношений было покончено. Время от времени ему случалось проводить отпуск на Роторе, но теперь он уже не чувствовал себя там привольно. Кое-какие друзья в поселении у него ещё водились, но вот отношения еле теплились.
И вдруг Эугения вместе с почти взрослой дочерью оказывается на Эритро. Генарр поначалу даже не мог припомнить имя девушки — если только и знал его когда-нибудь.
Но уж видеть он её точно не видел. Теперь ей уже пятнадцать, и он со странным внутренним трепетом думал: что, если она окажется похожей на молодую Эугению?
Генарр время от времени выглядывал из окошка кабинета. Он уже настолько привык к своему эритрийскому Куполу, что не мог видеть его со стороны критическим взором. Здесь жили рабочие обоих полов — взрослые, детей не было. Подрядившиеся на несколько недель или месяцев сменные рабочие иногда возвращались, иногда нет. Кроме него самого, на Эритро постоянно обитали ещё четыре человека, по тем или иным причинам предпочитавшие жить под Куполом. Так что домом Купол считать было практически некому, как и гордиться своим обиталищем. Под Куполом поддерживалась неизменная чистота и порядок. Вокруг царил дух рукотворности. Слишком уж много было здесь прямых дуг, плоскостей и кругов. Под Куполом не было места беспорядку, хаосу, настоящей жизни, умеющей подогнать стол — или комнату — под зыбкую неопределённость личности.
Так было и с ним, конечно. И стол, и кабинет в равной мере выражали его собственную персону, состоящую лишь из плоскостей и углов. Быть может, именно поэтому он считал себя дома под Куполом на Эритро. Очертания собственного внутреннего облика, как полагал Генарр, отвечали примитивным геометрическим очертаниям Купола.
Но что-то подумает об этом Эугения Инсигна? (Она взяла девичью фамилию — это его, пожалуй, обрадовало.) Если Эугения осталась такой, какой он её помнил, то она по-прежнему взбалмошна и непредсказуема — что довольно странно для астронома. Переменилась ли она? Меняются ли в людях их основные черты? Не ожесточило ли её дезертирство Крайла Фишера, не согнуло ли…
Генарр почесал висок — там, где седина была особенно заметна, — и подумал: всякие рассуждения на подобные темы бесполезны, на них только попусту расходуешь время. Скоро он сам увидит Эугению — Генарр уже распорядился, чтобы её сразу же с места посадки привезли сюда.
Или лучше встретить её самому?
Нет! Он уже дюжину раз повторял себе это. Нельзя проявлять поспешность, иначе он потеряет лицо.
И тут Генарр подумал, что подобные соображения неуместны. Зачем ставить её в неловкое положение? Она может снова увидеть в нём прежнего неловкого и простодушного обожателя, покорно отступившего перед рослым задумчивым землянином. После знакомства с Крайлом Эугения ни разу не встречалась с Генарром — и не хотела встречаться.
Генарр вновь прокрутил послание Януса Питта — тот был сух и краток, как обычно, он словно излучал властность, не допускавшую не только возражений, но и мысли о них.
Только сейчас он заметил, что о дочери Питт говорил с большим чувством, чем о матери. В особенности он подчеркивал, что дочь выказала глубокий интерес к Эритро и чтобы ей не препятствовали, если она пожелает исследовать её поверхность. Что всё это значит?
* * *
И вот Эугения наконец перед ним. На четырнадцать лет старше, чем во время Исхода. И на двадцать, чем в те дни, ещё до знакомства с Крайлом… Тогда они, помнится, ходили на фермы «С» — туда, где тяготение было поменьше. Как она смеялась, когда он попробовал сделать перед нею сальто, но перестарался и упал на живот! Он легко мог что-нибудь повредить себе, потому что хотя вес там становился меньше, но масса и инерция тела сохранялись. Просто повезло: большего унижения, чем это, ему тогда не пришлось испытать.
Конечно, Эугения стала старше, но всё-таки не расплылась, и волосы её, короткие, прямые — незамысловатая прическа, остались тёмно-каштановыми.
Эугения только сделала шаг к Генарру, а он уже почувствовал, как заторопилось в груди сердце-предатель. Она протянула вперёд обе руки, и он взял их.
— Сивер, — сказала Эугения, — я тебя предала, и мне стыдно.
— Предала, Эугения? О чём ты?
Что значат эти слова? Уж не о своем ли замужестве она говорит?
— Мне следовало бы каждый день вспоминать о тебе, — ответила она. — Я должна была бы писать тебе, сообщать новости, просто напроситься в гости.
— И вместо этого ты ни разу не вспомнила обо мне!
— Не думай обо мне плохо. Я всё время о тебе вспоминала. Правда-правда, я о тебе всегда помнила, даже не думай. Просто все мои мысли так и не вызвали ни одного поступка.
Генарр кивнул. Что тут скажешь?
— Я знаю, ты всё время была занята, — проговорил он. — Ну и я тоже… с глаз долой, сама знаешь, — из сердца вон.
— Не из сердца. А ты совсем не переменился, Сивер.
— Ну вот, значит, если в двадцать лет выглядишь взрослым, это не так уж плохо. А ты, Эугения, почти не изменилась. Ни чуточки не постарела, разве что несколько морщинок появилось. Просто нет слов.
— Вижу, ты по-прежнему ругаешь себя в расчёте на женское милосердие. Всё как прежде.
— А где твоя дочь, Эугения? Мне сказали, что она будет с тобой.
— Придёт. Не волнуйся. В её представлении Эритро — истинный рай, только я не могу понять, почему она так решила. Она пошла в нашу квартиру, чтобы прибрать и распаковать вещи. Такая уж она у меня девушка. Серьёзная, ответственная, практичная, исполнительная. Именно те качества, которые не вызывают любви, — так, кажется, говорил кто-то.
Генарр расхохотался.
— Знакомые качества. Если бы ты только знала, сколько трудов я положил, чтобы обзавестись каким-нибудь очаровательным пороком. И всегда напрасно.
— Ну, мы стареем, и я уже начинаю подозревать, что с возрастом унылые добродетели кажутся более нужными, чем обворожительные пороки. Но почему же ты, Сивер, так и застрял на Эритро? Я понимаю, нужно, чтобы в Куполе кто-то распоряжался, — но ведь на Роторе не ты один мог бы справиться с такой работой.
— Мне хотелось бы, чтобы ты в этом ошиблась, — ответил Генарр. — Я люблю жить здесь и на Роторе бываю лишь во время отпусков.
— И ни разу не зашёл ко мне.
— Если у меня отпуск, это не значит, что и у тебя тоже. Наверное, у тебя всегда было дел куда больше, чем у меня, особенно после открытия Немезиды. Однако я разочарован: мне хотелось увидеть твою дочь.
— Увидишь. Её зовут Марленой. В сердце-то моём она Молли, но она слышать не хочет этого имени. Ей пятнадцать, она стала совершенно несносной и требует, чтобы её звали Марленой. Но вы встретитесь, не волнуйся. Просто я не хотела, чтобы она присутствовала при нашей первой встрече. Разве можно было при ней вспомнить прошлое?
— А тебе хочется вспоминать, Эугения?
— Кое о чём.
Генарр помедлил.
— Жаль, что Крайл не принял участия в Исходе.
Улыбка застыла на лице Эугении.
— Кое о чём, Сивер, — не обо всём. — Она отвернулась, подошла к окну и посмотрела наружу. — Ну и замысловатое у вас сооружение. Я, правда, не всё видела, но впечатляет. Яркий свет, улицы, настоящие дома. А на Роторе о Куполе ничего не говорят, даже не упоминают. Сколько людей живёт и работает здесь?
— Число их меняется. У нас бывают разные времена: иногда работаем, иногда спим. Случалось принимать до девяти сотен человек. Сейчас нас пятьсот шестнадцать. Мы знаем друг друга в лицо. Это нелегко. Каждый день одни прилетают, другие возвращаются на Ротор.
— Кроме тебя.
— И ещё нескольких.
— Но зачем нужен Купол, Сивер? Ведь воздухом Эритро можно дышать.
Выпятив нижнюю губу, Генарр в первый раз опустил глаза.
— Можно, да не очень приятно. И свет не тот. Купол снаружи залит красным светом, он становится оранжевым, когда Немезида поднимается выше. Да, свет достаточно ярок. Читать можно. Но людям он кажется неёстественным. Вид самой Немезиды тоже. Диск её велик, даже слишком, она кажется людям угрожающей, а красный свет делает её гневной — и человек впадает в депрессию. Кроме того, Немезида действительно опасна, по крайней мере, в одном. Свет её не слепит, и все стремятся разглядеть её лучше, заметить пятна на её диске. Инфракрасные лучи могут вызвать ожог сетчатки. Поэтому все, кто выходит наружу, носят специальные шлемы — но не только поэтому.
— Значит, Купол нужен только для того, чтобы удерживать нормальный свет, а не Оттораживаться от чего-то?
— Мы и воздух не выпускаем. И воздух, и вода, циркулирующие под Куполом, извлечены из местных минералов. Однако мы всё-таки Оттородились кое от чего, — заметил Генарр. — От прокариотов. Сине-зелёных водорослей.
Эугения задумчиво покачала головой. Они-то и были причиной изобилия кислорода в атмосфере планеты. На Эритро была жизнь, она была повсюду, но… она оказалась микроскопической по своей природе, эквивалентной простейшим жизненным формам Земли.
— А это действительно прокариоты? — спросила она. — Я знаю, что их так называют, но ведь так называются и земные бактерии. Это действительно бактерии?
— Если они действительно эквивалентны чему-то известному нам по Солнечной системе, так это цианобактериям — они тоже используют фотосинтез. Но это не наши цианобактерии. По структуре нуклеопротеинов они фундаментально отличаются от тех, что известны на Земле. Они содержат нечто вроде хлорофилла, только без магния, который поглощает инфракрасное излучение, и клетки кажутся бесцветными, а не зелёными. У них другие энзимы, другие соотношения примесей минералов. Но всё-таки они достаточно похожи на известные на Земле организмы, и их можно назвать прокариотами. Я знаю, что наши биологи старательно пропихивают название «эритриоты», но для нас, небиологов, сойдут и прокариоты.
— Значит, весь кислород в атмосфере Эритро выделяется в результате их жизнедеятельности.
— Верно. Других объяснений наличия здесь в атмосфере свободного кислорода просто не существует. Кстати, Эугения, ты астроном — каковы последние представления о возрасте Немезиды?
Инсигна пожала плечами:
— Красные карлики едва ли не вечны. Немезида может оказаться древней, как Вселенная, и протянуть ещё сотню миллиардов лет без видимых изменений. Мы можем только ограничиться оценками по содержанию примесей в её составе. Если это звезда первого поколения, начинавшая с гелия и водорода, ей чуть больше десяти миллиардов лет — она примерно в два раза старше Солнца.
— Значит, и Эритро десять миллиардов лет?
— Правильно. Звездная система формируется сразу, а не по кусочкам. А почему тебя это заинтересовало?
— Просто странно, что за десять миллиардов лет жизнь так и не смогла шагнуть здесь дальше прокариотов.
— Едва ли это удивительно, Сивер. На Земле через два-три миллиарда лет после возникновения жизни обитали одни прокариоты, а здесь, на Эритро, поток энергии от Немезиды куда слабее. Нужна энергия, чтобы образовались более сложные жизненные формы. На Роторе эти вопросы широко обсуждались.
— Я слыхал об этом, — отозвался Генарр, — только до нас на Эритро многое не доходит. Должно быть, мы слишком закопались во всякие местные дела и проблемы — хотя ты наверняка скажешь, что и прокариотов следует считать таковыми.
— Если на то пошло, — ответила Инсигна, — и нам на Роторе немногое известно о Куполе.
— Да, каждый занимается делом в собственной клетушке. Только, Эугения, о Куполе и говорить нечего. Это же просто мастерская, и я не удивлен, что её новости тонут в потоке более важных событий. Всё внимание, конечно же, уделяется новым поселениям. Ты не собираешься перебраться на новое место?
— Нет, я роторианка и не собираюсь изменять своему дому. Я бы и здесь не оказалась — прости, пожалуйста, — если бы не необходимость. Мне нужно провести измерения на более солидной базе, чем Ротор.
— Так мне и Питт сказал. Он велел оказывать тебе всяческое содействие.
— Хорошо. Я не сомневаюсь в твоей поддержке. Кстати, ты только что упомянул, что на Эритро стараются не пропускать под Купол прокариоты. Как вам это удаётся? Воду пить можно?
— Конечно, мы и сами её пьем, — ответил Генарр. — Под Куполом прокариотов нет. А воду — как и всё, что вносится под Купол, — облучают сине-фиолетовым светом, за какие-то секунды разрушающим здешние прокариоты. Коротковолновые фотоны для них чересчур горячи, они разрушают ключевые компоненты в этих маленьких клетках. Но даже если некоторым удаётся уцелеть, они, насколько нам известно, не токсичны и безвредны — проверено на животных.
— Приятно слышать.
— Только это имеет и обратную сторону. Под лучами Немезиды земные микроорганизмы не могут конкурировать с местными. Во всяком случае, когда мы вносили в почву Эритро наши бактерии, никакого роста и размножения не наблюдалось.
— А как насчёт многоклеточных растений?
— Мы пробовали их сажать, но практически без результата. Наверное, виной всему свет Немезиды — под Куполом эти же растения прекрасно растут на почве Эритро. Обо всём мы, конечно, докладывали на Ротор, только едва ли этой информации давали ход. Я уже говорил, на Роторе не интересуются Куполом. Этому жуткому Питту мы не нужны, а он-то и определяет интересы Ротора.
Генарр говорил с улыбкой — несколько напряженной. «Что бы сказала Марлена?» — подумала Инсигна.
— Питт вовсе не жуткий, — ответила она. — Иногда он просто утомляет, но это другое дело. Знаешь, Сивер, когда мы были молодыми, я всегда думала, что однажды ты станешь комиссаром. Ты был таким умным.
— Был?
— Ну и остался, я в этом не сомневаюсь, только в те дни ты был поглощен политикой, у тебя были такие изумительные идеи. Я тебя слушала как завороженная. Из тебя мог бы получиться комиссар получше, чем из Януса. Ты бы прислушивался к мнению людей, ты не стал бы слепо настаивать на своем.
— Вот потому-то я и был бы очень плохим комиссаром. Видишь ли, у меня нет цели в жизни. Только стремление во всём поступать по правде и надеяться, что всё закончится благополучно. А вот Питт знает, чего хочет, и добивается этого любыми методами.
— Сивер, ты не понимаешь его. У него сильная воля, и он человек разума.
— Конечно, Эугения. Такая рассудочность — великий дар. К чему бы он ни стремился, цель его всегда идеально правильна, логична и основана на весьма человеческих мотивах. Но изобрести новую причину он умеет в любой момент, причем с такой непосредственностью, что убедит заодно и себя самого. Если тебе приходилось иметь с ним дело, ты, конечно, знаешь, как он может уговорить тебя сделать то, чего ты не собираешься делать, и добивается этого не приказами, не угрозами, а весьма разумными и вескими аргументами.
— Но… — попыталась возразить Инсигна.
— Вижу, и ты успела уже в полной мере пострадать от его рассудочности, — язвительно заметил Генарр. — Вот, значит, видишь сама, какой он прекрасный комиссар. Не человек, а комиссар.
— Ну, я бы не стала утверждать, что он плохой человек — здесь ты, Сивер, пожалуй, далеко зашёл. — Инсигна покачала головой.
— Что ж, не будем спорить. Я хочу видеть твою дочь. — Он поднялся. — Ты не станешь возражать, если я зайду к вам сразу после обеда?
— Это будет прекрасно, — согласилась Инсигна.
Генарр глядел ей вслед, и улыбка медленно гасла на его лице. Эугения хотела вспомнить прошлое, но он ляпнул про мужа — и всё.
Он тяжело вздохнул. Удивительная способность — портить жизнь самому себе — так и не оставляла его.
* * *
Эугения Инсигна втолковывала дочери:
— Его зовут Сивер Генарр, к нему следует обращаться «командир», потому что он распоряжается в Куполе.
— Конечно, мама, я буду называть его так, как положено.
— И я не хочу, чтобы ты смущала его.
— Не буду.
— Марлена, это тебе удаётся слишком легко. Ты сама знаешь. Отвечай ему без всяких поправок на твои знания языка жестов и выражений лица. Я прошу тебя! Мы с ним дружили в колледже и некоторое время после его окончания. Потом он десять лет провёл здесь, под Куполом, и, хотя я не видела его всё это время, он остался моим другом.
— Значит, это был твой парень.
— Именно это я и хотела тебе сказать, — подтвердила Инсигна, — и я не хочу, чтобы ты следила за ним и объявляла, что он имеет в виду, что думает или ощущает. Собственно, он не был моим парнем, как это принято понимать, он не был моим любовником. Мы с ним дружили, нравились друг другу — и только. Но после того как отец… — Она качнула головой и махнула рукой. — Следи за тем, что говоришь о комиссаре Питте — если о нём зайдёт речь. Мне кажется, что командир Генарр не доверяет комиссару Питту.
Марлена одарила мать одной из редких улыбок.
— Уж не наблюдала ли ты за поведением командира Сивера? Значит, это тебе не кажется.
Инсигна покачала головой.
— Ты и это видишь? Разве трудно перестать хоть на минутку? Хорошо, это мне не кажется — он сам сказал, что не верит комиссару. И знаешь что, — добавила она скорее для себя, — у него могут быть на это веские причины. — И, взглянув на Марлену, она внезапно опомнилась: — Давай-ка ещё раз повторю, Марлена. Можешь смотреть на командира, сколько тебе угодно, и делать любые выводы, но не говори об этом ему. Только мне. Поняла?
— Ты думаешь, это опасно?
— Не знаю.
— Это опасно, — деловито проговорила Марлена. — Про опасность мне стало понятно, едва комиссар Питт отпустил нас на Эритро. Только я не знаю, в чём она заключается.
* * *
Первая встреча с Марленой явилась для Сивера Генарра тяжелым испытанием, к тому же девочка угрюмо поглядывала на него, словно давала понять, что прекрасно видит его потрясение и понимает его причины.
Дело было в том, что ей ничего не передалось от Эугении: ни красоты, ни изящества, ни обаяния. Только большие ясные глаза так и буравили его… Но они были унаследованы не от Эугении. Глаза были лучше, чем у матери, и только.
Впрочем, понемногу первое впечатление стало рассеиваться. Подали чай и десерт, Марлена вела себя идеально. Просто леди и умница. Как это говорила Эугения? Не внушающие любви добродетели? Неплохо. Ему казалось, что она просто жаждала любви, как это часто бывает среди дурнушек. Как жаждал и он сам. Внезапный поток дружеских чувств охватил его.
— Эугения, можно я переговорю с Марленой с глазу на глаз? — спросил он.
— Сивер, для этого есть какие-нибудь особые причины? — с деланой непринуждённостью поинтересовалась Инсигна.
— Видишь ли, — ответил тот, — Марлена разговаривала с комиссаром Питтом и уговорила его отпустить вас обеих в Купол. Как командир Эритро, я вынужден считаться со словами и поступками комиссара Питта, и мне важно знать, что скажет об этой встрече Марлена. Но с глазу на глаз, мне кажется, она будет откровеннее.
Проводив взглядом выходившую Инсигну, Генарр обернулся к Марлене, почти утонувшей в громадном кресле, которое стояло в углу. Руки её свободно лежали на коленях, а прекрасные тёмные глаза серьёзно смотрели на командира.
— Твоя мама, кажется, опасалась оставлять нас вдвоем, а ты сама не боишься? — с легкой усмешкой произнес Генарр.
— Ни в коей мере, — ответила Марлена, — и мама опасалась за вас, а не за меня.
— За меня? Почему же?
— Она думает, что я могу чем-нибудь обидеть вас.
— Неужели, Марлена?
— Не нарочно, командир. Я буду стараться.
— Ну, будем надеяться, что тебе это удастся. Ты знаешь, почему я хотел поговорить с тобой наедине?
— Вы сказали маме, что желаете узнать подробности моего разговора с комиссаром Питтом. Это так, но ещё вы хотите лучше познакомиться со мной.
Брови Генарра удивленно приподнялись.
— Естественно, я же должен иметь представление о тебе.
— Не так, — вырвалось у Марлены.
— Что «не так»?
Марлена отвернулась.
— Прошу прощения, командир.
— За что?
По лицу Марлены пробежала тень, она молчала.
— Ну, в чём дело, Марлена? — тихо спросил Генарр. — Скажи мне. Важно, чтобы разговор наш был откровенным. Если мама велела тебе придержать язык — не надо этого делать. Если она говорила, что я человек чувствительный и легкоранимый, — забудь про это. Вот что, я приказываю тебе говорить откровенно и не беспокоиться о том, что можешь меня задеть. Я приказываю, и ты должна повиноваться командиру Купола.
Марлена вдруг рассмеялась.
— Значит, вам и в самом деле интересно побольше узнать обо мне?
— Конечно.
— Во-первых, вы недоумеваете, как могло случиться, что я вовсе не похожа на мать.
Генарр широко открыл глаза.
— Я не говорил этого.
— А мне и говорить не надо. Вы друг моей матери. Она мне рассказала об этом. Вы любили её и до сих пор ещё не забыли, и вы ждали, что я окажусь на неё похожей, а когда увидели меня, то не сумели скрыть разочарования.
— Неужели? Это было заметно?
— Легкий жест, вы человек вежливый и пытались его скрыть, но я заметила. А потом вы всё время смотрели то на маму, то на меня. И ещё тон, каким вы обратились ко мне. Всё было ясно. Вы думали о том, что я не похожа на маму, и это вас расстроило.
Генарр откинулся на спинку кресла.
— Восхитительно.
Марлена засияла.
— Вы действительно так думаете, командир? Вы и в самом деле не обиделись? Вы рады, не ощущаете никакой неловкости? Вы первый. Даже моей маме это не нравится.
— Нравится, не нравится — другой вопрос. Совершенно неуместный, когда речь идёт о необычайном. И как давно ты научилась читать по жестам, Марлена?
— Я всегда умела делать это. Только теперь научилась лучше понимать людей. По-моему, на это каждый способен — надо только внимательно посмотреть и подумать.
— Нет, Марлена. Ты ошибаешься. Люди этого не умеют. Так, значит, ты говоришь, что я люблю твою маму?
— Даже не сомневайтесь, командир. Когда она рядом, вас выдаёт каждый взгляд, каждое слово, каждый жест.
— А как ты полагаешь, она это замечает?
— Она догадывается, но не хочет замечать.
Генарр отвернулся.
— И никогда не хотела.
— Дело в моём отце.
— Я знаю.
Поколебавшись, Марлена проговорила:
— По-моему, она поняла бы, что ошибается, если бы умела видеть вас так, как я…
— К несчастью, она не умеет. Впрочем, мне приятно услышать это от тебя. Знаешь, а ведь ты красавица.
Марлена зарделась.
— Вы и в самом деле так думаете?
— Конечно!
— Но…
— Я ведь не могу солгать тебе и не буду пытаться. Лицо твоё некрасиво, тело тоже, но ты красавица — остальное неважно. Ты же видишь, я говорю то, что думаю.
— Да, — ответила Марлена с внезапной радостью. На миг лицо её действительно стало красивым.
Генарр улыбнулся в ответ.
— А теперь давай-ка потолкуем о комиссаре Питте. Теперь, когда я узнал, какая ты у нас проницательная юная дама, разговор этот для меня стал ещё более важным. Не возражаешь?
Сложив руки на коленках, Марлена скромно улыбнулась и проговорила:
— Да, дядя Сивер. Вы не возражаете, если я так стану называть вас?
— Ни в коем случае. Я просто польщен. А теперь — расскажи мне о комиссаре Питте. Он распорядился, чтобы я всячески помогал твоей матери и предоставил ей все имеющиеся здесь астрономические приборы. Почему он это сделал?
— Мама хочет провести точные измерения траектории Немезиды среди звезд, а Ротор не может предоставить для этого надёжную базу. Эритро больше подходит для таких наблюдений.
— А она недавно заинтересовалась этим?
— Нет, дядя Сивер. Она говорила мне, что давно уже собиралась заняться этим.
— Но почему же она только теперь прилетела сюда?
— Она давно просила, но комиссар Питт всякий раз отказывал.
— А почему он согласился сейчас?
— Потому что решил избавиться от неё.
— В этом я не сомневаюсь — она вечно досаждала ему своими астрономическими проблемами. Твоя мама могла давно уже надоесть ему. Но почему он решил отослать её сюда именно сейчас?
— Потому что ещё больше он хотел отделаться от меня, — тихо ответила Марлена.
Глава 14
РЫБАЛКА
После Исхода миновало только пять лет, но Крайлу Фишеру казалось, что всё было невообразимо давно. Ротор остался в прошлом, в другой жизни, и Фишер уже стал сомневаться в собственной памяти. Действительно ли жил он на искусственной планете? В самом ли деле оставил на ней жену?
Отчетливо он помнил одну только дочь, иногда она представлялась ему уже не ребенком, а девушкой.
В последние три года его жизнь стала сумасшедшей: после того как земляне обнаружили Звезду-Соседку, ему пришлось посетить семь поселений.
Эти космические города были населены людьми с тем же цветом кожи, что у него, они говорили на родном ему языке и принадлежали к близким культурам. (Так уж богата Земля. Род людской многолик, и на планете-матери нетрудно подобрать агента, внешне похожего на жителя любого из поселений.)
Конечно же, абсолютно сойти за местного жителя он не мог. Одного внешнего сходства оказывалось мало, всегда его выдавал акцент и неуклюжесть, ведь в поселениях была разная сила тяжести. Он не умел, как поселенцы, плавно скользить там, где тяжесть была мала. Так что, где бы ни случалось бывать Фишеру, он всегда чем-нибудь выдавал себя, и поселенцы его сторонились — а ведь ему всякий раз приходилось проходить и карантин, и установленную медобработку, чтобы попасть внутрь очередного поселения.
В поселениях он гостил недолго — несколько дней, самое большее — недель. Оставаться там надолго, а тем более заводить семейство, как это было на Роторе, необходимости не было. Ведь гиперпривод улетел вместе с Ротором, и других важных заданий не было, а может быть, Крайлу просто их не поручали.
Он сидел дома уже три месяца. О новом задании его не извещали, а Крайл и не стремился торопить события. Он так устал от вечных скитаний, устал чувствовать себя чужаком среди поселенцев, устал изображать туриста.
Старый друг и коллега Гаранд Уайлер тоже вернулся из очередной командировки и теперь сидел у Крайла дома и смотрел на него усталыми глазами. Свет лампы отразился от его тёмной кисти, когда он на миг поднес рукав к носу и опустил руку.
Фишер усмехнулся краешком рта. Жест этот успел стать привычным и для него. В каждом поселении был собственный запах: всюду выращивали свои растения, использовали свои приправы, свои духи, свои масла для машин. К запаху агент привыкал быстро, но когда возвращался на Землю, то обнаруживал, что весь пропитался запахом поселения. И можно было мыться, отдать в стирку всю одежду — запах назойливо преследовал, и от него нельзя было отделаться.
— С возвращением, — произнес Фишер. — И как твоё новое поселение?
— Жуть — как всегда! Прав старик Танаяма. В любом поселении более всего страшатся разнообразия: жители космоса просто ненавидят его. Они не признают различий — ни во внешности, ни во вкусах, ни в образе жизни. Как подберётся компания типов под одну масть — так и начинают презирать всех на свете.
— Ты прав, — ответил Фишер, — это неприятно.
— Неприятно? — удивился Уайлер. — Чересчур мягко сказано. Неприятно, когда тарелку уронил или вилка выскочила из розетки, а тут речь идёт обо всём человечестве, о Земле и долгих попытках её людей научиться жить вместе, невзирая на различия во внешности или культуре. Конечно, жизнь у нас не сахар, но, если сравнить с той, что была сто лет назад, — это же сущий рай. И стоило нам нос высунуть в космос, как мы сразу обо всём забыли и вернулись в Средневековье. А ты говоришь «неприятно» — это слово ни на волос не отражает глубины трагедии.
— Верно, — согласился Фишер, — но скажи, чем лично я могу поправить дело, а потом я начну выбирать слова. Ты, кажется, был на Акруме?
— Да, — ответил Уайлер.
— Они знают о Звезде-Соседке?
— Конечно. Насколько мне известно, новость эта успела дойти до каждого поселения.
— Они озабочены?
— Ничуть. С чего им тревожиться? Впереди целые тысячелетия. Поселения смогут отправиться в путь задолго до того, как звезда подойдёт близко и станет опасной — кстати, это ещё тоже бабушка надвое сказала. Они все успеют смыться. А Ротором они восхищаются и ждут момента, чтобы последовать его примеру. — Уайлер нахмурился, в голосе его послышалась горечь. — А потом все сбегут, а мы останемся. Потому что не сможем настроить поселений на восемь миллиардов человек и отправить их в разные стороны Галактики.
— Ты прямо как Танаяма. Ну зачем нам разыскивать их, травить, тем более пытаться уничтожить? Мы всё равно останемся около Солнца и никуда не сумеем стронуться. Есть ли смысл в том, чтобы поселения, как послушные дети, торчали возле Земли и вместе с нами дожидались конца? Нам от этого будет легче?
— Крайл, ты слишком невозмутим, а вот Танаяма злится, и я его понимаю. Он так злится, что охотно разодрал бы всю Галактику пополам, чтобы только найти свой гиперпривод. Он хочет отыскать Ротор, вывернуть его наизнанку — пусть в этом нет особого смысла, — но гиперпривод нужен Земле, чтобы эвакуировать людей с планеты, когда это окажется необходимым. Так что Танаяма прав, несмотря на то что действует, возможно, неправильно.
— Положим, мы получим гиперпривод, но ресурсов и времени у нас хватит, только чтобы вывезти один миллиард людей. Кого будем спасать? А что, если те, кто будет заниматься отправкой, бросятся спасать свою родню?
— Зачем ты так? — буркнул Уайлер.
— Незачем, — согласился Фишер. — Давай-ка лучше порадуемся, что нас давно уже не будет на свете, когда людям придётся заняться этим делом.
— Ну разве что, — сказал Уайлер. И, понизив голос, вдруг произнес: — Не исключено, что начало уже положено. Я подозреваю, что гиперпривод у нас есть или вот-вот будет.
Лицо Фишера выразило крайнее удивление.
— Почему ты так решил? Приснилось или догадался?
— Нет. Видишь ли, я знаком с женщиной, сестра которой знается с кем-то из окружения Старика. Тебя это устраивает?
— Конечно, нет. Выкладывай всё, что знаешь.
— Что-то не хочется, Крайл. Видишь ли — я твой друг. Ты же помнишь, что я помог тебе восстановить репутацию в Конторе.
Крайл кивнул.
— Знаю и благодарен тебе за это. И при каждой возможности пытаюсь вернуть тебе долг.
— И я благодарен тебе за это. Могу поделиться с тобой некоторой конфиденциальной информацией. Полагаю, что ты найдешь её важной и полезной для себя. Готов ли ты выслушать и снять бремя с моей души?
— Всегда готов.
— Не сомневаюсь. Ты знаешь, чем мы сейчас заняты?
— Да, — односложно ответил Фишер. Риторический вопрос не заслуживал иного ответа.
Целых пять лет агенты Конторы, среди которых три года числился и Фишер, рылись во всех свалках Солнечной системы, где поселения сваливали информационный мусор. Они искали.
Поселения пытались заново разработать гиперпривод, Земля тоже. О гиперприводе все успели узнать, когда Ротор ещё находился в Солнечной системе, окончательное доказательство его существования искусственный мирок представил, покинув её.
Многие, а возможно, и все поселения знали кое-что о том, что делалось на Роторе. По соглашению об обмене научной информацией каждый обязан был выкладывать на стол всё, что ему было известно. Если бы все так поступали, то из частей головоломки, возможно, и сложилось бы нечто целое — один гиперпривод на Солнечную систему. Но в данном вопросе на откровенность рассчитывать не приходилось. Трудно было знать заранее все возможности нового двигателя, и ни одно поселение не оставило надежды опередить остальных и тем или иным способом добиться преимущества. И всяк таил, что имел — если имел, конечно, — таким образом, общее знание было неполным.
Земля, в лице своего усердного и неутомимого Всеземного бюро расследований, тщательнейшим образом принюхивалась к поселениям. Крючок забросили на крупную рыбину, и Фишер (что означает «рыбак») был среди рыболовов.
— Мы уже сложили воедино всё, что сумели добыть, — медленно произнес Уайлер. — Я слыхал, что этого довольно. Земля сделает гиперпривод. Я думаю, мы отправимся к Звезде-Соседке. А не хочется ли и тебе слетать туда, если до этого дойдёт дело?
— Зачем мне это, Гаранд? Вряд ли такое путешествие состоится, я всё-таки сомневаюсь в этом.
— А я нет. Не могу тебе сказать, почему я так уверен, просто поверь на слово. Не сомневаюсь, что ты захочешь лететь. Подумай только — повидаешься с женой… дочерью.
Фишер беспокойно пошевелился. Ему казалось, что половину дней своих он старался не вспоминать об этих глазах. Марлене сейчас уже шесть, говорит, конечно, спокойно и рассудительно, как Розанна. И видит людей насквозь, как Розанна.
Он ответил:
— Гаранд, это ерунда. Даже если такой полёт уже намечен, зачем нужен я? Там небось потребуются разные специалисты. И уж кого-кого, а меня Старик и близко туда не подпустит. Да, он принял меня обратно в Контору, опять давал поручения. Но ты же знаешь, как он относится к неудачникам, а на Роторе я его подвел.
— Да, но в том-то и дело. Твоё пребывание на Роторе и сделало тебя специалистом. Если Старик вознамерился разыскать беглое поселение — разве может он не включить в экипаж поискового корабля тебя — землянина, прожившего на Роторе целых четыре года? Кто может знать роториан лучше, кто может лучше вести с ними дела? Попросись к нему на приём. Скажи ему всё это, но заруби себе на носу — о нашем гиперприводе ты ничего не знаешь. Так только, в сослагательном наклонении, если бы да кабы. И не вздумай проболтаться обо мне. Считается, что я тоже ни о чём таком не знаю.
Фишер задумчиво нахмурил брови. Возможно ли? Он не смел надеяться.
* * *
На следующий день, пока Фишер всё ещё взвешивал, стоит ли дерзнуть, попросившись на приём к самому Танаяме, инициатива уплыла из его рук. Его вызвали…
Директор редко вызывал к себе простого агента. Для этого существовали его многочисленные заместители. Но если к себе вызывал сам Старик, хорошего ждать не приходилось. И Крайл Фишер заранее был готов к новому назначению — скажем, инспектором на фабрику удобрений.
Танаяма смотрел на него из-за стола. За три года, что прошли после того, как земляне обнаружили Звезду-Соседку, Фишеру редко приходилось видеть директора, да и то мельком. Старик давно настолько усох и покрылся морщинами, что новые физические изменения были уже невозможны. Но острый взгляд не притупился, узкие губы всё так же строго сжаты. Возможно, на нём был тот же самый костюм, что и три года назад.
Резкий голос остался прежним, но тон разговора оказался неожиданным. Как ни странно, Старик вызвал его, чтобы похвалить.
На своем неправильном, но с приятным акцентом всепланетном английском Танаяма сказал:
— Фишер, вы хорошо проявили себя. Я хочу, чтобы вы услышали это от меня.
Стоя — присесть его не приглашали — Фишер с трудом подавил изумление.
Директор продолжал:
— Публичных торжеств по этому поводу не ждите, шествий с лазерами и голографических представлений — тоже. Это не принято. Просто я хочу сказать, что доволен вами.
— Этого вполне достаточно, — ответил Фишер, — благодарю вас.
Танаяма пристально посмотрел на Фишера своими узкими глазами.
— И это всё, что вы хотите сказать? Вопросов у вас нет?
— Я думаю, директор, что вы сами скажете всё, что мне следует знать.
— Вы агент. Вы способный человек. Что вам удалось найти для себя самого?
— Ничего, директор. Я искал только то, что мне предписывалось найти.
Танаяма слегка наклонил голову.
— Хороший ответ, но я говорю не об этом. О чём вы сумели догадаться?
— Вы довольны мной, директор, значит, я сумел отыскать информацию, оказавшуюся полезной для вас.
— Какого рода?
— Я думаю, ничто сейчас не интересует вас больше, чем гиперпривод.
Танаяма изумленно открыл рот.
— И что дальше? Допустим, он у нас есть — каким будет наш следующий шаг?
— Путешествие к Звезде-Соседке, поиски Ротора.
— Только-то? И ничего больше? Больше вы ни до чего не додумались?
Тут Фишер понял, что не рискнуть глупо. Возможно, другого шанса ему не представится.
— Хорошо. Мне хотелось бы оказаться на том земном корабле с гипердвигателем, который полетит за пределы Солнечной системы.
Выпалив всё это, Фишер понял, что проиграл или, по крайней мере, не выиграл. Лицо Танаямы потемнело.
— Сядьте! — резко бросил он.
После слов Танаямы позади Фишера мягко зашуршало кресло: сервомотор был настроен на голос Танаямы.
Фишер опустился, не проверяя, стоит ли сзади кресло: подобное недоверие могло показаться обидным, а сейчас не время сердить Танаяму.
— Почему вы хотите оказаться на этом корабле?
Стараясь говорить ровно, Фишер ответил:
— Директор, у меня на Роторе осталась жена.
— Которую вы оставили пять лет назад. Вы полагаете, она дожидается вас?
— Директор, там моя дочь.
— Ей был год, когда вы расстались. Вы уверены, что она знает о своем отце? Что вы нужны ей?
Фишер молчал. Он и сам время от времени думал об этом.
Недолго помедлив, Танаяма продолжил:
— Но полёта к Звезде-Соседке не будет. Такого корабля ещё не существует.
И вновь Фишер вынужден был подавить любопытство.
— Простите, директор; вы сказали: «Допустим, он у нас есть», — или я неточно понял смысл ваших слов?
— Вы поняли меня так, как должны были понять. И как понимали всегда. Да, у нас есть гиперпривод. Мы можем передвигаться в пространстве, как Ротор, — точнее, сможем, когда соорудим этот корабль и убедимся в том, что он работоспособен, — через год или два. Но что потом? Вы действительно предлагаете лететь на нём к Звезде-Соседке?
— Это оптимальный вариант, директор, — осторожно проговорил Фишер.
— Это бессмысленный вариант. Подумайте сами. До Звезды-Соседки больше двух световых лет. И как бы виртуозно мы ни владели гиперприводом, на путешествие уйдёт два года. Наши теоретики уверяют меня, что гиперпривод позволяет кораблю превышать скорость света на весьма короткое время — чем больше скорость, тем меньше движется с нею корабль, так что в итоге корабль не может достичь любой точки в космосе быстрее, чем это сделает световой луч, стартовавший из той же точки одновременно с ним.
— Но если так…
— Если так, вам придётся провести два года в тесном корабле с несколькими спутниками. Вы считаете себя способным на это? Вам известно, что маленькие корабли не пригодны для длительных переходов? Нам необходимо поселение, сооружение, подобное Ротору, способное обеспечить экипажу необходимые условия. Вы знаете, сколько времени потребуется, чтобы построить его?
— Не могу сказать, директор.
— Лет десять, если всё сложится благополучно и не случится аварий. Имейте в виду — Земля не строила поселений почти целое столетие. Новостройками в космосе теперь занимаются старые поселения. И как только мы затеем такое строительство, то сразу привлечем к себе внимание поселений, а этого не следует делать. И потом, если построить такое поселение, оснастить гиперприводом, отослать к Звезде-Соседке, два световых года — что оно там будет делать? Если у Ротора есть военные корабли — а они не могли не позаботиться об этом, — наше поселение окажется уязвимым, его нетрудно будет уничтожить. Возможно, Ротор уже настроил боевых кораблей больше, чем мы способны прихватить с собой. В конце концов, они провели в космосе целых три года, и не исключено, что они смогут спокойно заниматься своими делами ещё лет двенадцать, прежде чем мы подоспеем туда. Так что наше поселение они разнесут в клочки.
— В этом случае, директор…
— Хватит догадок, агент Фишер. Нам следует по-настоящему овладеть гиперприводом, так, чтобы мы были в состоянии перемещаться в пространстве на любое расстояние за любое время.
— Простите меня, директор. Неужели это возможно? Даже теоретически?
— Этот вопрос не для нас с вами. Ответить на него должны учёные, а их у нас нет. Целое столетие лучшие умы покидали Землю, перебираясь в поселения. Теперь этот процесс следует повернуть вспять. В известной мере, следует некоторым образом устроить набег на поселения и каким угодно путем заманить на Землю лучших физиков и инженеров. Предлагать можно многое, но осторожно. Нельзя открывать все карты — иначе поселения сумеют обойти нас…
Танаяма умолк и внимательно посмотрел на Фишера.
Тот неловко пошевелился.
— Да, директор?
— Т. А. Уэндел, вот на кого я положил глаз. Говорят, что в Солнечной системе нет лучшего физика-гиперпространственника.
— Гиперпривод изобрели физики Ротора. — Фишер не сумел сдержать сухого укора.
Танаяма не обратил внимания на выпад и продолжил:
— Иногда открытия делаются случайно, бывает, что мелкий ум, семеня, забегает вперёд, пока мудрец возводит прочное основание. В истории такое часто случалось. А Ротор показал, что, обладая гиперприводом, способен перемещаться только со скоростью света. Мне нужен сверхсветовой полёт, скорость, далеко опережающая скорость света. Мне требуется Уэндел.
— Вы хотите, чтобы я доставил его на Землю?
— Её. Это женщина. Тесса Анита Уэндел с Аделии.
— О!..
— Потому-то вы нам и понадобились. Видите ли, — Танаяма словно излучал сияние, хотя ни одна чёрточка его лица не выражала оживления, — говорят, что с женской точки зрения вы неотразимы.
Лицо Фишера окаменело.
— Прошу прощения, директор, но я так не считаю. Совершенно не согласен с этим.
— У меня другие сведения. Уэндел — женщина средних лет, около сорока, дважды разведена. По-моему, нетрудно будет её уговорить.
— Честно говоря, сэр, я считаю это поручение неприличным, и если в данных обстоятельствах возможно обратиться к услугам другого агента, в большей степени пригодного для выполнения подобного…
— Но я выбрал вас. И если вы, агент Фишер, опасаетесь, что не сумеете проявить в полной мере своё обаяние, если станете подходить к Уэндел отвернувшись и при этом воротить нос, я постараюсь облегчить вашу задачу. Вы провалились на Роторе, но сумели частично загладить свою вину. Теперь вы можете реабилитироваться. Но если вы не сумеете привезти сюда эту даму, это будет куда более серьёзный провал и ваша репутация погибнет безвозвратно. Правда, я не хочу, чтобы вы действовали лишь из страха перед неприятностями. Хочу кое-что предложить вам. Вы доставляете Уэндел, мы строим сверхсветовой звездолёт, он летит к Звезде-Соседке, и вы на нём — если не передумали.
— Сделаю всё, что в моих силах, — ответил Фишер, — и не потому, что ожидаю награды или боюсь наказания.
— Великолепный ответ. — Лицо Танаямы изобразило некое подобие улыбки. — И, вне сомнения, я хорошо запомню его.
И Фишер ушёл, прекрасно понимая, что его ждет новая рыбалка, куда более серьёзная, чем предыдущие.
Глава 15
ЛИХОМАНКА
За десертом Эугения Инсигна улыбнулась Генарру.
— Похоже, вы здесь прекрасно живёте.
— Прекрасно, но несколько замкнуто, — улыбнулся в ответ Генарр. — Мы живем в огромном мире, но Купол нас ограничивает. Люди здесь не приживаются. Появляется интересный человек и самое позднее через два месяца исчезает. Поэтому здесь, под Куполом, живут скучные люди, впрочем, сам я кажусь всем, наверное, ещё более скучным. Так что ваше с дочерью появление представляет интерес для головидения — даже если на вашем месте был бы кто-нибудь другой…
— Льстец, — грустно промолвила Инсигна, Генарр откашлялся.
— Марлена предупреждала меня, чтобы я… ну ты понимаешь, что ты не…
Инсигна вдруг перебила его:
— Я бы не сказала, что заметила особое внимание головизорщиков.
Генарр сдался.
— Ладно, — сказал он. — Просто у меня такая манера разговаривать. На завтрашний день назначена маленькая вечеринка, там я тебя официально представлю и познакомлю со всеми.
— Чтобы все могли обсудить мою внешность, костюм и перемыть мне все косточки.
— Трудно сомневаться, что они откажут себе в этом удовольствии. Но Марлена тоже приглашена, и я уверен, что от неё ты узнаешь о нас больше, чем мы о тебе. Источник самый надёжный.
Инсигна вздохнула.
— Значит, Марлена всё-таки дала представление?
— Ты хочешь сказать, усвоила ли она «язык» моего тела? Да, мэм.
— Я не велела ей делать это.
— По-моему, она просто не в состоянии удержаться.
— Ты прав. Это так. Но я просила её не рассказывать об этом тебе. И вижу, что она ослушалась меня.
— Нет. Я приказал ей. Просто приказал, как командир Купола.
— Ну тогда извини — это такая докука.
— Да нет же, не для меня. Эугения, понимаешь, твоя дочь мне понравилась. Очень. Мне кажется, что она несчастна — всё понимает и никому не нравится. Все не вызывающие любви добродетели отпущены ей в полной мере. А это несладко.
— Хочу тебя предупредить. Она надоедлива — ей всего пятнадцать.
— По-видимому, существует некий закон, согласно которому ни одна мать не в состоянии вспомнить, какой сама была в пятнадцать, — сказал Генарр. — Марлена тут говорила о мальчике — должна же ты всё-таки понимать, что неразделенная любовь в пятнадцать бывает горше, чем в двадцать пять. Впрочем, ты красива, и девичьи годы были для тебя лучезарными. Не забывай, что Марлене очень нелегко. Она знает, что некрасива, и понимает, что умна. Девочка знает, что интеллект должен более чем компенсировать внешность, и в то же время видит, что на деле это не так, и в результате сердится от бессилия что-либо изменить, прекрасно понимая, что в подобной реакции нет ничего хорошего.
— Ну, Сивер, — произнесла Инсигна, стараясь говорить непринуждённо, — ты у нас настоящий психолог.
— Вовсе нет. Просто я её понимаю. Я сам прошёл через это.
— Ох… — Инсигна немного растерялась.
— Ничего-ничего, Эугения, я не пытаюсь жалеть себя и не прошу у тебя сострадания к бедной разбитой душе. Эугения, мне сорок девять, а не пятнадцать, и я давно примирился с самим собой. Если бы в пятнадцать или в двадцать один я был красив, но глуп — а мне этого так хотелось тогда, — я бы уже не был сейчас красавцем, но глупым остался. Так что в конце концов выиграл-то я — выиграет и Марлена, если ей позволят.
— Что гы хочешь этим сказать, Сивер?
— Марлена рассказала мне про разговор с нашим приятелем Питтом. Она нарочно рассердила его, чтобы тебя послали сюда, а заодно и её.
— Этого я не одобряю, — сказала Эугения. — Не того, что она сумела справиться с Питтом — с ним едва ли можно справиться вообще. Я не одобряю того, что она решилась на это. Марлене кажется, что она может тянуть за ниточки, шевелить ручки и ножки марионеток, — такое легкомыслие может повлечь за собой серьёзные неприятности.
— Эугения, не хочу тебя напрасно пугать, но, по-моему, неприятности уже начались. По крайней мере, так полагает Питт.
— Нет, Сивер, это невозможно. Да, Питт самоуверен и властен, но он не злодей. Он не будет наказывать девочку лишь потому, что она затеяла с ним дурацкие игры.
Обед закончился, свет в элегантно обставленной квартире Сивера был неярким. Слегка нахмурившись, Инсигна посмотрела на Сивера — тот протянул руку, чтобы включить экран.
— Что за секреты, Сивер? — делано улыбнувшись, спросила она.
— Я снова хочу изобразить перед тобой психолога. Ты не знаешь Питта, как я. Я посмел спорить с ним — и очутился здесь, потому что он решил избавиться от меня. В моём случае этого оказалось достаточно, но вот как будет с Марленой — не знаю.
Снова натянутая улыбка.
— Да ну тебя, Сивер, — о чём ты говоришь?
— Послушай — поймешь. Питт скрытен. Он не любит, когда о его намерениях узнают. Он словно крадется по тайной тропе, увлекая за собой остальных, — это создаёт в нём ощущение собственного могущества.
— Возможно, ты прав. Он держал открытие Немезиды в секрете и меня заставил молчать о нём.
— У него много секретов, мы с тобой и малой части их не знаем. Я в этом не сомневаюсь. И вот перед ним Марлена, для которой мысли и движения ясны как день. Кому это понравится? Менее всего Питту. Вот поэтому он и отправил её на Эритро и тебя вместе с ней, потому что одну девочку сюда не пошлешь.
— Ну хорошо. И что же из этого следует?
— А тебе не кажется, что он надеется больше её не увидеть никогда?
— Сивер, у тебя мания преследования. Неужели ты считаешь, что Питт решится обречь Марлену на вечную ссылку?
— Конечно, только он будет действовать изощренно. Видишь ли, Эугения, ты мало знаешь о том, как начиналась история Купола, в отличие от нас с Питтом. Скорее всего, кроме нас двоих, об этом вообще никто не знает. Ты знаешь скрытность Питта, он всегда извлекает из неё пользу — в том числе и здесь. Я тебе расскажу, почему мы остаемся под Куполом и не пытаемся заселить Эритро.
— Ты ведь уже рассказал. Освещенность не поз…
— Эугения, это официальная версия. Питт выбрал в качестве причины освещенность, но к ней можно привыкнуть. Итак, мы располагаем миром, обладающим той же гравитацией, что и Земля, пригодной для дыхания атмосферой, примерно теми же сезонными циклами, что и дома. Миром, не породившим сложных форм жизни, где нет ничего сложнее прокариотов, причем неопасных. Каковы же, по-твоему, причины того, что мы не только не заселяем этот мир, но даже не пытаемся этого сделать?
— Ну и почему же?
— А вот почему: вначале люди свободно выходили из Купола. Дышали воздухом, пили воду — без всяких предосторожностей.
— Ну и?..
— Некоторые из них заболели какой-то душевной болезнью. В неизлечимой форме. Это не было буйное помешательство — просто какое-то отстранение от реальности. Потом кое-кому стало лучше, но, насколько мне известно, никто не поправился полностью. Болезнь эта не заразна, но на Роторе на всякий случай тайно приняли меры.
Эугения нахмурилась.
— Сивер, ты сочиняешь? Я ничего не слыхала об этом.
— Не забывай про скрытность Питта. Просто тебе не полагалось этого знать. Не твоя епархия. Мне, напротив, знать было положено, потому что именно меня послали сюда, чтобы ликвидировать эпидемию. И если бы я потерпел неудачу, мы бы навсегда оставили Эритро, невзирая на грозящие нам беды и недовольство роториан. — Помолчав нёмного, он добавил: — Я не имею права говорить тебе об этом, в известном смысле я нарушаю служебный долг. Но ради Марлены…
Лицо Эугении выразило глубочайшую озабоченность.
— Ты говоришь… ты утверждаешь, что Питт…
— Я утверждаю, что Питт наверняка рассчитывает, что Марлена подхватит «эритрийскую лихоманку», как мы её называем. Она не умрет. Даже больной в обычном смысле слова её нельзя будет назвать — просто ум её расстроится, и тогда этот странный дар, возможно, покинет её, чего и добивается Питт.
— Сивер, это ужасно! Подвергнуть ребенка…
— Эугения, возможно, всё будет иначе. Пусть Питт этого хочет — но что у него получится? Обосновавшись здесь, я завёл надёжные меры защиты. Купол мы покидаем только в специальных костюмах и не остаемся снаружи дольше, чем нужно. Фильтруем воздух и воду, я даже придумал кое-какие усовершенствования. И с тех пор было только два случая, довольно легких.
— Сивер, а что вызывает болезнь?
Генарр усмехнулся.
— Мы не знаем, в том-то и беда. А значит, не представляем, как совершенствовать свою оборону. Тщательные исследования подтверждают одно: ни в воздухе, ни в воде нет никакой заразы. В почве тоже — вот она здесь, под ногами, под Куполом от неё никуда не деться. Воздух и вода тщательно фильтруются. И вообще, многим случалось пить эритрийскую воду, дышать чистым воздухом планеты — и ничего… никаких последствий.
— Так, значит, всему виной прокариоты?
— Этого не может быть. Хочешь не хочешь, но мы поглощаем их с водой или воздухом, с ними экспериментировали на животных. И ничего. К тому же, будь то прокариоты, болезнь оказалась бы заразной, а это не так. Мы исследовали воздействие света Немезиды — и вновь ничего не обнаружили. Более того, один раз — один только раз — лихоманку подцепил человек, никогда не выходивший из Купола. Тайна, да и только.
— Даже предположений нет?
— У меня? Нет. Я могу только радоваться, что сумел остановить болезнь. Но раз мы не знаем ни природы, ни причин болезни, нельзя быть уверенным, что она не возникнет вновь. Правда, есть одно предположение…
— Какое?
— Это мне один из психологов доложил, я потом передал его докладную Питту. Так вот, он почему-то решил, что все заболевшие не принадлежали к числу средних умов, они выделялись из общей массы — более ярким воображением, например. Это были люди интеллигентные, с творческой жилкой, далеко не посредственности. Он предположил, что, каким бы ни был возбудитель болезни, он в первую очередь поражает более тонкий ум.
— И ты с ним согласен?
— Не знаю. Вся беда в том, что иных отличий не видно. Оба пола в равной мере поражались лихоманкой, других тенденций — возрастных или физических — тоже не было подмечено. Конечно, жертв лихоманки не так уж и много, так что на результаты статистического анализа полагаться нельзя. Питт удовлетворился заключением этого психиатра, а потому в последние годы он присылал сюда только людей посредственных — не тупиц, а просто середняков, вроде меня. Кстати, вот тебе и пример иммунитета: я с моим ординарным умом. Так ведь?
— Не надо, Сивер, ты не…
— С другой стороны, — продолжал Сивер, не дослушав Эугению, — разум Марлены весьма отличается от ординарного…
— Да-да, — начала Эугения, — теперь я поняла, куда ты клонишь.
— Не исключено, что, как только Марлена обнаружила перед Питтом свои способности, как только он услышал, что девочка просится на Эритро, наш комиссар мгновенно сообразил, что, дав согласие, он может избавиться от ума, в котором видел несомненную для себя опасность.
— Тогда… тогда нам нужно немедленно возвратиться на Ротор.
— Да, но я не сомневаюсь, что Питт уже обдумал, как подольше задержать вас здесь. Например, он, безусловно, будет настаивать, чтобы ты закончила все измерения. Заявит, что считает их результаты жизненно важными, и все твои упоминания о лихоманке ни к чему не приведут. А если ты уедешь самовольно, то он отправит тебя на ментальное обследование. Мне кажется, будет лучше, если ты просто постараешься побыстрей закончить работу. Ну а что касается Марлены — постараемся принять соответствующие меры предосторожности. Эпидемия лихоманки утихла, и предположение, что ей подвержены экстраординарные умы, никто ещё не подтвердил. Нет никаких оснований считать, что она обязательно заразится. И мы с тобой способны сохранить здоровье Марлены — это же всё равно что садануть Питта в глаз. Вот увидишь!
Инсигна смотрела на Генарра и не видела его. Где-то под ложечкой всё стянулось в тугой ком.
Глава 16
ГИПЕРПРОСТРАНСТВО
Аделия оказалась славным местечком, гораздо более славным, чем Ротор.
После Ротора Крайл Фишер успел побывать в шести поселениях, и все они были куда симпатичней.
Фишер мысленно перечислил их и вздохнул. Семь их было, не шесть. Ну вот, начинает сбиваться. Быть может, ему уже становится трудно работать?
Последняя в этом списке, Аделия оказалась самым симпатичным из всех поселений, которые посещал Фишер. Может быть, выражалось это не внешне. Ротор был чуть старше, там уже успели сложиться какие-то традиции. Там всё было собранно, деловито, каждый человек знал своё место, был им доволен и честно исполнял свой долг.
Конечно же, на Аделии находилась и Тесса Анита Уэндел. Крайл ещё не приступил к делу — быть может, потому, что сам Танаяма назвал его неотразимым для женщин и потрясение ещё не прошло. И чего бы ни было больше в словах Танаямы — насмешки или сарказма, только Крайл вынужден был теперь проявлять осторожность. Второе фиаско, без сомнения, было бы сочтено решительным провалом, ведь Танаяма положился, пусть и не совсем искренне, на его умение обходиться с женщинами.
Фишеру удалось встретиться с Уэндел недели через две после того, как он прибыл в поселение. Его не переставало удивлять, как быстро можно было встретить нужного человека в любом поселении. Ведь он вырос не в крошечном мирке, с немногочисленным по земным меркам населением, где каждый знал не только всех из ближайшего окружения, но и всех за его пределами.
Когда он увидел Тессу Уэндел, она сразу же произвела на него впечатление. Слова Танаямы, то легкое пренебрежение, с каким он говорил, что Тесса немолода и дважды разведена, оказали на Фишера определённое влияние — в его воображении успел сложиться образ женщины угрюмой и строгой, нервной, конечно, испытывающей по отношению к мужчинам либо озлобление, либо голодный цинизм.
В первый раз он увидел её издалека и был приятно удивлен. Ростом она оказалась чуть пониже его самого — высокая брюнетка с гладкими волосами, энергичная и улыбчивая, — уж это он смог заметить. Наряд её вдохновлял своей простотой — словно всякие излишества в одежде не шли ей. За собой Тесса явно следила, и стройная фигурка её казалась почти девичьей.
Тут уже Фишер призадумался над причинами её разводов. И предположил, что мужья ей надоедали, хотя здравый смысл говорил, что едва ли человек станет повторять одну и ту же ошибку дважды.
Теперь ему нужно было войти в здешнее общество и побывать там, где бывала Тесса. Земное происхождение Фишера несколько усложняло эту задачу. Однако в каждом поселении жили люди, которым Земля платила жалованье. Один из них и должен был обеспечить Фишеру успех в здешнем обществе — вывести его на орбиту, как это называлось среди поселенцев.
Так и случилось. Фишер и Уэндел оказались в одной компании, и она, задумчиво посмотрев на него, опустила ресницы, потом вновь взглянула на Крайла и вымолвила неизбежное:
— Я слыхала, вы прибыли к нам с Земли, мистер Фишер?
— Совершенно верно, доктор Уэндел. И весьма сожалею об этом — похоже, вас это смущает.
— Напротив. Ведь вы прошли карантин.
— И чуть не умер, если говорить честно.
— Почему же вы решили подвергнуться этому кошмарному процессу?
Глядя в сторону и в то же время стараясь видеть эффект, который произведут его слова, Фишер ответил:
— На Земле поговаривают, что на Аделии женщины невероятно красивы.
— Полагаю, теперь вы решили вернуться, чтобы опровергнуть эти слухи.
— Напротив, я нашёл, что они подтвердились.
— Ну вы и ходок, — произнесла она.
Что означает на местном сленге «ходок», Фишер не знал, но Уэндел улыбалась, и Крайл решил, что для первого раза всё прошло удовлетворительно.
Неужели он действительно неотразим? Крайл вдруг вспомнил, что, живя с Эугенией, он даже не пробовал быть неотразимым, а был озабочен только тем, чтобы стать допущенным в чопорное роторианское общество.
На Аделии, решил Фишер, общество явно попроще — и всё-таки не стоит слишком полагаться на свою неотразимость.
* * *
Через месяц Фишер и Уэндел были знакомы достаточно близко, чтобы вместе заниматься гимнастикой. Упражнения при пониженном тяготении могли бы, пожалуй, доставить Фишеру некоторое удовольствие, если бы не одно «но»: он так и не сумел приспособиться к подобного рода занятиям, и пониженная гравитация неизменно вызывала у него легкую дурноту. На Роторе такой физкультуре уделялось меньше внимания. К тому же Крайл мог не участвовать в ней, поскольку не был природным роторианином. (Законом это не предусматривалось, однако обычай зачастую сильнее закона.)
Как-то раз, после очередной тренировки спускаясь на лифте вместе с Тессой, где ускорение силы тяжести было несколько больше, Фишер, как всегда, ощутил, как успокаивается его желудок. Одежды на обоих почти не было, и Крайл почувствовал, что его тело привлекает Уэндел и его самого тоже тянет к ней.
После душа — порознь — они оделись и направились перекусить.
— Для землянина вы неплохо справляетесь с пониженным тяготением, — заметила Уэндел. — Вам нравится на Аделии, Крайл?
— Тесса, вы знаете, как я себя здесь чувствую. Землянину никогда не привыкнуть к такому крошечному мирку, но ваше общество способно компенсировать любые неудобства.
— Вот-вот. Слова истинного ходока. Ну а как вам показалась Аделия в сравнении с Ротором?
— С Ротором?
— Если хотите, с любым поселением из тех, на которых вы побывали. Крайл, я могу их перечислить…
Немного ошарашенный, Фишер спросил:
— Что это? Неужели вы наводили обо мне справки?
— Конечно!
— Ну и как, интересно?
— Нетрудно заинтересоваться человеком, заинтересовавшимся мною в такой дали от родного дома. Я хочу знать причины вашего внимания ко мне. Конечно, я не исключаю и сексуального интереса. Даже не сомневаюсь.
— Так почему же я вами заинтересовался?
— А может, вы сами расскажете? Что вы делали на Роторе? Вы ведь пробыли там достаточно долго, обзавелись женой и ребенком и всё-таки оставили поселение перед самым отлётом. Побоялись застрять на Роторе на всю оставшуюся жизнь? Значит, вам там не нравилось?
Некоторое смущение сменилось откровенным замешательством.
— По совести говоря, — пробормотал Фишер, — Ротор не нравился мне, но и нас, землян, там не любили. К тому же вы правы. Я не хотел остаться на всю жизнь гражданином второго сорта. В этом смысле в прочих поселениях законы помягче, на Аделии в том числе.
— А ведь у Ротора был свой секрет, и они старались скрыть его от Земли, — сказала Уэндел. Её глаза взволнованно заблестели.
— Секрет? Вы, наверное, имеете в виду гиперпривод?
— Да, я именно это и хотела сказать. По-моему, на Роторе вы пытались проникнуть именно в этот секрет.
— Я?
— Конечно. Вам удалось его раскрыть? Зачем вам понадобилось жениться на этой ученой с Ротора? — Подперев подбородок ладонями и поставив локти на стол, она наклонилась вперёд.
Покачав головой, Фишер осторожно произнес:
— Мы с ней о гиперприводе даже не разговаривали. Вы ошибаетесь.
Не обратив внимания на его слова, Уэндел спросила:
— Что вы собрались выведать у меня? И каким образом? Вы хотите жениться на мне?
— А тогда вы откроете мне свой секрет?
— Нет.
— Тогда о женитьбе не может быть и речи!
— А жаль, — улыбнулась Уэндел.
— Вас интересует всё это как специалиста по гиперпространству? — спросил Фишер.
— А как вы узнали, кто я? Вам сказали на Земле, когда посылали сюда?
— Извините, ваша фамилия значится в Аделийском реестре.
— Значит, и вы наводили обо мне справки. Забавная подобралась парочка. Только вы не обратили внимания, что там я значусь физиком-теоретиком.
— Ваша фамилия стоит под рядом статей, в заголовках которых попадается слово «гиперпространственный». Сомнений нет.
— Конечно, но тем не менее я физик-теоретик и просто изучаю теоретические аспекты, связанные с гиперпространством. Я никогда не пыталась воплотить свои знания на практике.
— А на Роторе это сумели сделать. Это вас не волнует? Странно, ведь они вас обошли.
— Ну и что? Теория куда интереснее, чем прикладные вопросы. Если вы прочли в моих статьях что-нибудь, кроме заголовков, то должны помнить — я писала, что гиперпривод не стоит затраченных на него усилий.
— Роториане отправили лабораторию к звездам и…
— Вы о Дальнем Зонде? Да, они измерили параллаксы нескольких относительно удаленных звезд — но разве это оправдало затраты? И как далеко залетел Дальний Зонд? Да всего лишь на несколько световых месяцев! Это же совсем рядом. Линия, соединяющая Зонд с Землей в крайнем его удалении, стягивается в точку в масштабах Галактики.
— Но ведь они не ограничились Дальним Зондом, — напомнил Фишер. — Они увели в космос целое поселение.
— Правильно. Это было в двадцать втором, с тех пор прошло шесть лет, и мы знаем только, что они оставили Солнечную систему.
— Разве этого мало?
— Конечно. Куда они улетели? Живы ли они? Возможно ли вообще, чтобы они выжили? Людям ещё не доводилось обитать в обособленном поселении. Рядом всегда была Земля, другие поселения. Способны ли выжить в космосе несколько десятков тысяч человек? Мы даже не знаем, возможно ли это просто психологически. Я полагаю, что нет.
— По-моему, они намеревались подыскать в космосе мир, пригодный для заселения. Они не останутся в поселении.
— Э, да какой там мир могут они отыскать? Они же улетели шесть лет назад. Значит, смогли добраться только до одной из двух звезд — ведь гиперпривод обеспечивает передвижение со средней скоростью, равной скорости света. Первая из них — альфа Центавра, тройная звезда, расположенная в 4,3 светового года отсюда, одна из её звезд — красный карлик. Другая — звезда Барнарда, одинокий красный карлик, до которого 5,9 светового года. Значит, всего четыре звезды: две такие, как Солнце, ещё две — красные карлики. Обе желтых звезды расположены неподалеку. Они образуют умеренно тесную двойную систему — едва ли возле них может обнаружиться подобная Земле планета, да ещё на сколько-нибудь устойчивой орбите. Куда им лететь дальше? Некуда, Крайл! Мне не хочется расстраивать вас, я знаю, что там у вас остались жена и ребенок, — но Ротор взялся за непосильное дело.
Фишер молчал. Уэндел не знала всего: он не рассказывал ей о существовании Звезды-Соседки, впрочем, и она была красным карликом.
— Значит, вы считаете, что межзвездные перелеты невозможны, — сказал он.
— С практической точки зрения да, если ограничиваться применением гиперпривода.
— У вас получается, Тесса, что одним гиперприводом дело может и не ограничиться?
— Конечно. Что тут такого? Совсем недавно мы и мечтать не могли о гиперприводе — почему бы теперь не пойти дальше? Почему не помечтать о настоящем гиперпространственном переходе, о сверхсветовых скоростях? Если мы овладеем ими, если научимся летать с этими скоростями столько, сколько потребуется, то вся Галактика, а быть может, и вся Вселенная станут для людей такими же крохотными, как Солнечная система, и человек будет владеть всем пространством.
— Неплохая мечта, но едва ли возможная.
— После отлёта Ротора все поселения трижды собирались на конференции, посвященные этому вопросу.
— Поселения поселениями, а как насчёт Земли?
— Наблюдатели были, но в наши дни на Земле хорошего физика не сыщешь.
— И чем же закончились эти конференции?
— Вы же не физик, — улыбнулась Уэндел.
— Исключите технические подробности. Просто интересно.
Она лишь улыбнулась в ответ.
Фишер сжал перед собой на столе кулак.
— Для начала давайте-ка забудем эту вашу гипотезу о том, что я тайный агент Земли, вынюхивающий разные тайны. У меня дочь где-то в космосе, Тесса. Вы утверждаете, что, скорей всего, её нет в живых. Ну а если вы ошибаетесь? Могла ли она…
Улыбка исчезла с лица Уэндел.
— Извините, я забыла об этом. Давайте ограничимся практическими соображениями: нечего и надеяться отыскать поселение внутри объёма, образуемого сферой радиусом в шесть световых лет, а со временем её радиус будет расти. На поиски десятой планеты ушло более ста лет, а она ведь куда больше Ротора, и объём пространства намного меньше.
— Надежда вечна, — отозвался Фишер. — Ну так возможен ли этот ваш настоящий гиперпространственный перелет? Можете сказать только «да» или «нет».
— Если хотите знать правду — большинство специалистов отрицают такую возможность. Некоторые, правда, колеблются, но эти просто бормочут.
— Ну а громко никто не высказывается?
— Есть и такие. Я, например.
— Значит, вы считаете, что это возможно? — Фишер был искренне удивлен. — И вы уже действительно можете во всеуслышание объявить об открытии или просто нашептываете себе под нос?
— У меня есть публикация на эту тему. Одна из тех статей, с заглавиями которых вы ознакомились. Пока ещё никто не рискнул согласиться со мной. Конечно, мне случалось ошибаться, но на сей раз я уверена.
— А почему же другие физики считают, что вы ошибаетесь?
— Это трудно объяснить. Но я постараюсь. Роторианский гиперпривод, о котором болтают во всех поселениях, основывается на том, что произведение отношения скорости корабля к скорости света на время постоянно, причем отношение скорости корабля к скорости света равно единице.
— Что это значит?
— Это значит, что когда летишь быстрее света, то чем больше скорость, тем меньше времени удаётся её поддерживать. И тем дольше приходится передвигаться с досветовой скоростью перед следующим импульсом. И в итоге средняя скорость перелета оказывается равна скорости света.
— Ну и?..
— Положение моё незыблемо, если здесь использован принцип неопределённости, а с ним, как известно, шутить не приходится. Но если допустить, что принцип неопределённости на самом деле здесь ни при чем, то гиперпространственный перелет окажется теоретически невозможным. Большинство физиков на этом и останавливаются, меньшая часть колеблются. Сама я полагаю, что в данном случае мы имеем дело только с подобием принципа неопределённости, поэтому настоящий гиперпространственный перелет возможен без всяких ограничений.
— Ну а как понять, кто из вас прав?
— Не знаю. — Уэндел покачала головой. — Поселения не очень-то рвутся в просторы Галактики, даже с помощью гипердвигателя. Никто не желает следовать примеру Ротора, лететь годы и годы… на верную смерть.
Кроме того, ни одно поселение не способно вложить в это предприятие немыслимые деньги, если к тому же подавляющее большинство экспертов считают его теоретически невозможным.
— И вам всё равно? — Фишер подался вперёд.
— Конечно, нет. Я — физик, мне интересно доказать, что верен именно мой взгляд на Вселенную. Однако приходится считаться с пределами возможного. Деньги нужны громадные, поселения ничего не дадут мне.
— Тесса, плюньте на поселения — эта работа нужна Земле, она готова платить сколько потребуется.
— В самом деле? — удивилась Тесса и медленно протянула руку, чтобы коснуться волос Фишера. — Кажется, придётся нам перебираться на Землю.
* * *
Взяв руку Уэндел, Фишер бережно отвел её от своей головы.
— Если я вас правильно понял, вы действительно считаете возможным создание настоящего гиперпространственного звездолёта?
— Абсолютно уверена.
— Тогда Земля ждет вас.
— Почему?
— Потому что Земле нужен гиперпространственный звездолёт, а из всех крупных физиков только вы уверены, что его можно создать.
— Крайл, раз вы всё знали, зачем потребовался этот допрос?
— Я ничего не знал — вы сами обо всём сейчас мне рассказали. Перед отлётом мне лишь объяснили, что вы самый блестящий физик из ныне живущих.
— Ну как же, как же, — усмехнулась Уэндел. — Значит, вам велели похитить меня?
— Уговорить.
— Уговорить? Чтобы я улетела на Землю? Жить среди этих толп, в грязи, бедности, среди вечной непогоды. Нечего сказать, заманчивая идея.
— Послушайте меня, Тесса. На Земле всё бывает по-разному. Не исключено, что она и в самом деле обладает всеми этими недостатками, но даже они — часть прекрасного мира. Такой следует видеть Землю. Вы ведь ни разу там не были?
— Ни разу, я — аделийка по рождению и воспитанию. В других поселениях мне бывать случалось, но чтобы на Землю… благодарю вас.
— Значит, вы не знаете, что такое Земля? Не представляете себе, что такое настоящий мир. Она не похожа на вашу тесную конуру с несколькими квадратными километрами поверхности, с горсткой соседей. Это же пустяк, игрушка, здесь даже не на что посмотреть. Земля иная — только поверхность её составляет больше шестисот миллионов квадратных километров. На ней живут восемь миллиардов людей. Она бесконечна, разнообразна. Да, на ней много плохого, но столько хорошего!
— Сплошная бедность… Науки у вас тоже нет.
— Потому что учёные вместе со своей наукой перебрались в поселения. Поэтому вы и нужны нам, прилетайте на Землю.
— Но я не понимаю зачем.
— Потому что у Земли есть цели, устремления, амбиции. У поселений же осталось только самодовольство.
— Ну и что вам в этих целях, устремлениях и амбициях? Физика — дело дорогостоящее.
— Должен признать, доход среднего землянина относительно невелик. По отдельности все мы бедны, но восемь миллиардов людей, скинувшись по грошу, соберут огромную сумму. И ресурсы планеты до сих пор огромны, хоть их расходовали и расходуют на пустяки. Земля может дать вам средств и рабочих рук больше, чем все поселения, вместе взятые, — но лишь в том случае, когда это действительно необходимо. Уверяю вас, Земля нуждается в гиперпространственном звездолёте. Тесса, летите на Землю, там вас будут считать редкостной драгоценностью — всё-таки и на нашей планете не всё есть.
— Но я не уверена, что Аделия согласится меня отпустить. Самодовольство самодовольством, но цену своим умам она знает.
— Они не будут против поездки на Землю… на научную конференцию.
— И тогда, вы хотите сказать, я смогу не возвращаться.
— Вам не на что будет жаловаться. Вас устроят с наилучшим комфортом. Выполнят все ваши прихоти и желания. Более того, вас поставят во главе проекта, дадут неограниченные кредиты, вы сможете проводить любые испытания, задумывать всевозможные эксперименты, делать наблюдения…
— Королевские обещания…
— Разве вам ещё что-то нужно? — простодушно ляпнул Фишер.
— Хотелось бы знать, — задумчиво проговорила Уэндел, — почему послали именно вас? Такого привлекательного мужчину. Или они рассчитывали, что виды видавшая ученая дама — ну, конечно одинокая, ну, конечно разочарованная, — словно рыбка клюнет на эту наживку?
— Тесса, я не знаю, о чём думали те, кто меня отправлял, только сам я об этом не думал. Но когда увидел вас… И не наговаривайте на себя — какая вы виды видавшая? Разве вас можно назвать разочарованной или одинокой? Земля предлагает осуществить мечту физика, и для неё неважно, кто вы: молодая или пожилая, мужчина или женщина.
— Какая досада! Ну а если я проявлю непреклонность и откажусь лететь на Землю? Какие ещё аргументы у вас? Вы обязаны подавить отвращение и вступить со мной в связь?
Сложив руки на великолепной груди, Уэндел загадочно смотрела на Фишера.
Тщательно подбирая слова, он ответил:
— Знаете, что там замышляли наверху, я не имею понятия. Обольщать вас мне не приказывали, но, уверяю вас, если до этого дойдёт, об отвращении не может быть и речи. Просто я решил сначала переговорить с вами как с физиком, не унижая прочими соображениями.
— Напротив, — возразила Уэндел, — как физик я вижу все достоинства вашего предложения и охотно согласилась бы побегать за этой яркой бабочкой — за гиперпространственным звездолётом — везде, где возможно, но мне кажется, вы не совсем убедили меня. Я хочу, чтобы вы выложили все аргументы.
— Но…
— Короче, если я нужна вам — платите. Убеждайте меня изо всех сил, словно я проявила самое твёрдокаменное упорство, иначе я останусь. Как по-вашему, зачем мы здесь и для чего служат эти кабинеты? Мы размялись, приняли душ, поели, немного выпили, поговорили, получили от всего этого известное удовольствие, теперь можно обратиться к иным радостям. Я требую. Убедите меня, что на Земле мне будет хорошо.
И, повинуясь прикосновению её пальца к выключателю, свет внутри кабинета призывно померк.
Глава 17
В БЕЗОПАСНОСТИ?
Эугения была растеряна. Сивер Генарр настаивал на том, чтобы Марлену посвятили во всё.
— Эугения, ты — мать, и тебе Марлена всегда будет казаться маленькой. Но в конце концов любой матери приходится понять: и она — не царица, и дочь — не её личная собственность.
Эугения Инсигна опустила глаза под его мягким взором.
— Не читай мне лекций, Сивер, — сказала она. — И нечего затевать всю эту суету вокруг чужого тебе ребенка.
— Суету? Ну, извини. Давай тогда так. Моё отношение к ней эмоционально не сковано памятью о её детстве. Девочка нравится мне, как распускающийся бутон, как юная женщина, обладающая редким умом. Эугения, она необыкновенный человек. Тебе, может быть, это покажется странным, но, по-моему, она личность куда более значительная, чем ты или я. И уже поэтому с ней следует посоветоваться.
— Её следует поберечь, — возразила Инсигна.
— Согласен, но давай спросим у неё, как её лучше беречь. Она молода, неопытна, но может лучше нас сообразить, что следует предпринять. Давай обговорим всё втроем, как трое взрослых. И обещай мне, Эугения, не прибегать к родительской власти.
— Как я могу это обещать? — горько произнесла Инсигна. — Ну хорошо, поговорим.
Они собрались втроем в кабинете Генарра. Экран был включен. Окинув быстрым взглядом взрослых, Марлена поджала губы и грустно сказала:
— Мне это не нравится.
— Боюсь, что у меня плохие новости, — начала Инсигна. — Неладно здесь. Придётся подумать о возвращении на Ротор.
Марлена казалась удивленной.
— Но, мама, а как же твоя работа? Это же важно, измерения следует закончить. Но я вижу, ты решила даже не браться за них. Не понимаю.
— Марлена, — Инсигна говорила медленно, разделяя слова, — мы считаем, что тебе следует вернуться на Ротор. Тебе одной.
Наступило недолгое молчание. Марлена вглядывалась в лица взрослых. Потом спросила почти шёпотом:
— Ты говоришь серьёзно? Ушам не верю. Я не вернусь на Ротор. Никогда. Я не хочу этого. Эритро — моя планета, и здесь я намереваюсь остаться.
— Марлена… — Голос Инсигны сорвался.
Подняв руку, Генарр укоризненно качнул головой.
Эугения умолкла.
— Почему ты так хочешь остаться здесь, Марлена? — спросил Генарр.
— Потому что хочу, — ровным голосом ответила девочка. — Как иногда тянет съесть что-нибудь — просто хочется, и всё тут. И почему — понять невозможно. Хочется. Меня просто влечет к Эритро. Не знаю почему, но я хочу быть здесь. Не знаю, как это объяснить.
— Хорошо, пусть тогда мать расскажет тебе всё, что мы знаем.
Взяв в свои руки прохладные и вялые ладони Марлены, Инсигна проговорила:
— Помнишь, Марлена, перед отлётом на Эритро ты говорила мне о своем разговоре с комиссаром Питтом.
— Да.
— Ты говорила тогда, что он скрыл что-то, о чём-то умолчал, когда разрешил нам отправиться на планету. И ты не знала, что это было, — но явно нечто плохое и зловещее.
— Да, помню.
Инсигна медлила, и пронизывающий взгляд Марлены сделался жестким.
— Отсвет на волосах, — шепнула девочка словно себе самой, не замечая, что говорит вслух. — Рука у виска. Отодвигается. — Голос её утих, но губы продолжали шевелиться. И вдруг она громко и дерзко выкрикнула: — С чего ты решила, что у меня с головой не в порядке?
— Нет, — быстро ответила Инсигна, — совсем наоборот, дорогая. Мы прекрасно знаем, что у тебя ясная головка, и хотим, чтобы так оно и осталось. Слушай…
Рассказу об эритрийской лихоманке Марлена внимала с огромным недоверием и наконец сказала:
— Мама, я вижу, ты сама веришь тому, что говоришь, но, по-моему, тебе могли солгать.
— Обо всём этом она узнала от меня, — вмешался Генарр, — а я знаю, что говорю. А теперь скажи, не солгал ли я. Не возражаешь?
Марлена молча покачала головой.
— Почему тогда вы решили, что мне грозит опасность? Почему она грозит именно мне, а не вам или маме?
— Она же сказала, Марлена. Предполагают, что лихоманка поражает людей с развитой фантазией, воображением. Считается, что чем выше твой ум над обыденностью, тем более подвержен он лихоманке. И поскольку твой разум является самым необычным из всех, с которыми мне приходилось иметь дело, я опасаюсь, что ты окажешься необычайно восприимчивой к ней. Комиссар распорядился, чтобы я не ограничивал твою свободу действий на Эритро, чтобы ты увидела и испытала всё, что пожелаешь. Мы даже обязаны обеспечить твоё передвижение вне Купола — если ты захочешь. Ты думаешь, что он был просто добр к тебе, — но разве не может статься, что, разрешив тебе выходить из Купола, он просто надеялся, что ты подхватишь лихоманку?
Марлена слушала, не проявляя эмоций.
— Разве ты не поняла, Марлена? — спросила Инсигна. — Комиссар желает тебе не смерти. Уж в этом-то мы его не можем обвинить. Он просто стремится погубить твой ум, хочет, чтобы ты заразилась.
Марлена невозмутимо слушала.
— Но если комиссар Питт пытается меня погубить, — наконец заговорила она, — почему вы хотите отослать меня прямо к нему в лапы?
Генарр поднял брови.
— Мы уже объяснили. Здесь тебе опасно оставаться.
— Но разве рядом с ним я буду в безопасности? На что он может решиться в следующий раз — если он действительно хочет погубить меня? А так он будет ждать, когда я заболею, ждать, ждать — и в конце концов забудет обо мне, не так ли? Но только если я останусь здесь!
— Но здесь тебе грозит лихоманка, Марлена, лихоманка! — Инсигна протянула руки, чтобы обнять дочь.
Марлена уклонилась от объятий.
— Она меня не волнует.
— Но мы же объяснили…
— Это неважно. Здесь мне ничего не грозит. Совсем ничего. Я знаю себя. Всю жизнь я училась понимать собственный разум. Теперь я знаю его. Ему здесь ничего не грозит.
— Марлена, посуди сама, — сказал Генарр. — Каким бы уравновешенным ни казался тебе собственный ум, с ним может случиться всё что угодно. Ты можешь заболеть менингитом, эпилепсией, у тебя может появиться опухоль мозга, в конце концов, ты постареешь когда-нибудь. И ты не сумеешь этого предотвратить, лишь убеждая себя, что с тобой такого случиться не может.
— Обо всём этом я не говорю, речь идёт о лихоманке. Для меня она не заразна.
— Дорогая, разве можно знать это наперед? Нам даже неизвестно, что её вызывает.
— Что бы ни вызывало — мне она не грозит.
— Откуда ты это знаешь, Марлена? — спросил Генарр.
— Просто знаю.
Терпение Эугении лопнуло. Она схватила Марлену за локоть.
— Марлена, ты сделаешь так, как я велю!
— Нет, мама. Ты не понимаешь. На Роторе меня всё время тянуло на Эритро. Здесь это чувство только усилилось. Я хочу здесь остаться. Я уверена — мне ничто не грозит. Я не хочу возвращаться.
Инсигна открыла было рот, но Генарр поднял руку: молчи!
— Я предлагаю компромисс, Марлена. Твоя мать должна провести здесь астрономические наблюдения. Для этого потребуется какое-то время. Обещай, что, пока она занята ими, ты не будешь покидать Купол, станешь выполнять любые мои указания, которые покажутся мне разумными, и регулярно проходить обследование. Если мы ничего у тебя не обнаружим, то можешь оставаться под Куполом, пока мать не покончит с делами. Потом мы снова всё обсудим. Согласна?
Марлена задумчиво склонила голову. Наконец она сказала:
— Хорошо. Только прошу тебя, мама, не пытайся изобразить досрочное окончание работы. Я всё пойму. И не торопись — всё должно быть сделано хорошо. Я замечу и это.
Инсигна нахмурилась.
— Марлена, я не привыкла легкомысленно относиться к работе. Не думай, что я способна халтурить — даже ради тебя.
— Извини, мама, я понимаю, что временами раздражаю тебя.
Инсигна тяжело вздохнула.
— Не стану этого отрицать, но в любом случае ты остаешься моей дочерью. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была в безопасности. Ну как, я не солгала?
— Нет, мама, только, пожалуйста, поверь мне — я не напрасно говорю, что здесь мне ничего не грозит. Я впервые чувствую себя счастливой. На Роторе я не знала, что это такое.
* * *
— У тебя усталый вид, Эугения, — заметил Генарр.
— Сивер, я устала. Так, накопилось кое-что за два месяца непрерывных расчётов. Уж и не знаю, как обходились астрономы Земли своими примитивными средствами до выхода человека в космос. Кеплер, например, сформулировал законы движения планет, ограничиваясь такими простыми вещами, как логарифмы, да ещё радовался, что ему повезло — потому что их только что придумали.
— Прости меня за невежество, но я полагал, что в наши дни астроном должен только повернуть свои приборы в нужную сторону, а потом может отправляться спать, а утром ему останется лишь забрать аккуратные распечатки и снимки.
— Хорошо бы. Но сейчас у меня другая работа. Ты знаешь, мне нужно было с максимальной точностью измерить вектор скорости Немезиды относительно Солнца, а потом правильно рассчитать взаимное положение звезд и планет в момент наибольшего сближения. Достаточно малейшей неточности — и получится, что Земля погибнет, тогда как на самом деле уцелеет, и наоборот. Представляешь? — Не дождавшись ответа, Инсигна продолжала: — Задача достаточно сложная, даже если бы, кроме Солнца и Немезиды, во Вселенной не было других тел — но поблизости расположены звёзды, и они тоже движутся. И по крайней мере дюжина их способна своим тяготением внести возмущения в движение обеих звезд, пусть и небольшие. Отклонения крошечные, но, если ими пренебречь, ошибка вырастет на миллионы километров. И чтобы не ошибиться, приходится определять массы всех этих звезд, их положение, скорость — причем со значительной точностью. В итоге, Сивер, я имею задачу пятнадцати тел. Невероятно сложная штука. Немезида пройдёт прямо через Солнечную систему и окажет заметное воздействие на целый ряд планет. Многое, конечно, зависит от расположения планет во время прохождения Немезиды, от того, насколько изменятся их орбиты под её влиянием. Влияние Мегаса, кстати, тоже приходится учитывать.
Генарр внимательно слушал. Его лицо было серьёзным.
— Ну и что вышло, Эугения?
— Пока я могу предположить, что орбита Земли сделается более эксцентрической, а большая полуось слегка уменьшится.
— А что это значит?
— Это значит, что на Земле станет слишком жарко, чтобы жить.
— И что будет с Мегасом и Эритро?
— Ничего особенного. Планетная система Немезиды мала и куда тесней, чем Солнечная, поскольку сильнее удерживается своей звездой. Здесь-то почти ничего не изменится, а вот на Земле…
— Когда это случится?
— Через пять тысяч двадцать четыре года плюс-минус пятнадцать лет Немезида подойдёт к точке наибольшего сближения. Процесс растянется лет на двадцать или тридцать, пока обе звезды будут располагаться поблизости.
— А столкновение или что-нибудь в этом роде может произойти?
— Вероятность значительной катастрофы почти нулевая. Крупные небесные тела сталкиваться не будут. Разумеется, принадлежащий Солнцу астероид может упасть на Эритро или немезидийский на Землю. Возможность такого события невелика, но последствия могут оказаться катастрофическими, однако пока этого рассчитать нельзя — разве что потом, когда звёзды сойдутся поближе.
— Значит, в любом случае людей с Земли придётся эвакуировать. Так ведь?
— Увы, да.
— Но у них есть в запасе пять тысяч лет.
— Для того чтобы вывезти восемь миллиардов людей, этого мало. Их следует предупредить.
— А сами они могут разобраться, без нашего предупреждения?
— Кто знает? Но даже если они быстро обнаружат Немезиду, придётся передать им сведения о гиперприводе. Теперь он необходим всему человечеству.
— А я не сомневаюсь, что люди вновь обретут его, и, может быть, очень скоро.
— Ну а если нет?
— Я считаю, что сообщение между Землей и Ротором установится через какое-то столетие. В конце концов, у нас есть гиперпривод, мы в любой момент можем им воспользоваться. Можно даже отправить к Земле одно из строящихся поселений, времени хватит.
— Ты говоришь словами Питта.
— Ну знаешь, — усмехнулся Генарр, — не может же он заблуждаться во всём.
— Но я уверена, что он не захочет извещать Землю.
— Питт не может бесконечно настаивать на своем. Он возражал уже против сооружения Купола — однако мы здесь, на Эритро. Но даже если мы не сможем его убедить — он же умрет когда-нибудь. Право, Эугения, ты слишком уж рано начала опасаться за Землю. А Марлене известно, что ты уже кончаешь работу?
— Разве от неё можно что-нибудь скрыть? Она узнает о состоянии моих работ по тому, как я отряхиваю рукав или причесываюсь.
— Она становится всё более восприимчивой, не так ли?
— Да. И ты тоже заметил?
— Тоже, и это за то короткое время, что я знаю её.
— Отчасти, по-моему, всё можно объяснить тем, что она становится старше. Эта способность растет… ну как грудь. С другой стороны, прежде ей всё время приходилось скрывать свой дар, она не знала, что с ним делать, и всегда имела из-за него неприятности. Теперь она перестала таиться, и всё, так сказать, сразу пошло в рост.
— Или тем, что, как она утверждает, ей нравится Эритро: удовлетворение тоже может способствовать усилению восприимчивости.
— Я думала об этом, Сивер, — проговорила Инсигна. — И не хочу взваливать на тебя собственные проблемы. Я уже просто привыкла бояться: за Марлену, за Землю, за всех вокруг. А тебе не кажется, что Эритро воздействует на неё? В отрицательном смысле. Как ты полагаешь, не может оказаться, что подобная восприимчивость свидетельствует о начале болезни?
— Не знаю, что и ответить, Эугения, но если вдруг лихоманка обострила её восприимчивость, то душевное равновесие пока не нарушено. Могу только заверить тебя, что ни у кого из переболевших ею не обнаруживалось ничего похожего на дар Марлены.
Инсигна грустно вздохнула.
— Спасибо тебе, утешил. И ещё: я рада, что ты так внимателен к Марлене.
Губы Генарра чуть искривились в улыбке.
— Это несложно. Она мне нравится.
— В твоих устах это звучит вполне естественно. Увы, она у меня не красотка. Уж я-то как мать понимаю это.
— На мой взгляд, ты не права. Я всегда предпочитал в женщинах ум красоте — если эти качества не сливались воедино, как в тебе, Эугения…
— Это было лет двадцать назад, — вздохнула Инсигна.
— Эугения, глаза мои старятся вместе с телом. Они не замечают в тебе изменений. И меня не волнует, что Марлена некрасива. У неё потрясающий интеллект, даже если забыть про её восприимчивость.
— Не спорю. Это лишь и утешает меня, когда я нахожу её особенно несносной.
— Кстати, Эугения, боюсь, что Марлена остаётся несносной.
— Что ты хочешь сказать? — Эугения вскинула глаза.
— Она намекнула мне, что уже сыта Куполом. Ей хочется выйти наружу, под небо планеты — сразу, как только ты закончишь с работой. Она настаивает.
Инсигна с ужасом смотрела на Генарра.
Глава 18
СВЕРХСВЕТОВИК
Три года, проведенные на Земле, состарили Тессу Уэндел. Фигура её слегка погрузнела; она немного набрала вес. Под глазами появились тени. Груди обвисли — чуть-чуть, а живот округлился.
Крайл Фишер помнил, что не за горами пятидесятилетие Тессы, помнил, что она на пять лет старше его. Но она выглядела моложе своих лет. Фигура её оставалась великолепной — это замечал не только Фишер, — но всё-таки Тесса уже не казалась тридцатилетней, как тогда, на Аделии.
Тесса тоже это знала, но решилась заговорить об этом с Фишером только неделю назад.
— А всё ты, Крайл, — сказала она, когда они лежали в постели: возраст чаще всего заботил её ночами. — Ты виноват. Это ты продал меня Земле. «Великолепная планета, — говорил ты. — Огромная. Многообразная. Всегда что-то новое. Богатая планета».
— Разве не так? — спросил он, зная, чем именно она недовольна, но давая ей возможность излить свои чувства.
— А о тяготении ведь умолчал. На всем этом колоссальном шаре одна и та же сила тяжести. Над землей, под землей, здесь, там — повсюду g, одно g, только g. Умрешь со скуки.
— Тесса, мы не знаем ничего лучше.
— Знаешь. Ведь ты же жил в поселениях. Там человек всегда может выбрать подходящий уровень гравитации. Можно порезвиться в невесомости, дать мышцам возможность расслабиться… Как можно жить без всего этого?
— Спортом можно заниматься и на Земле.
— Ну а что делать с тяготением, этим вечным прессом, который постоянно давит на тебя? И всё время ты тратишь только на то, чтобы не поддаться ему — где уж тут просто расслабиться! Ни попрыгать, ни полетать. Нельзя даже найти такое место, где меньше давит. Ведь давит всюду, давит так, что сгибаешься, покрываешься морщинами, стареешь. Ты только посмотри на меня!
— Я смотрю — и стараюсь делать это как можно чаще, — с грустью ответил Фишер.
— Тогда перестань смотреть. А то присмотришься и бросишь меня. Тогда знай — я вернусь на Аделию.
— Не стоит. Ну порадуешься низкому тяготению — а что потом? Твоя работа, подчиненные, лаборатория — всё останется здесь.
— Начну заново, наберу новых людей…
— И найдешь на Аделии ту же поддержку, что и на Земле? О чём ты говоришь? Ведь на Земле ты ни в чём не знаешь отказа. Разве я не прав?
— И ты считаешь себя правым? Предатель! Ты не сказал мне, что у Земли уже есть гиперпривод, ты даже не сказал мне, что земляне обнаружили Звезду-Соседку! Ты сказал, что полёт Дальнего Зонда не дал полезных результатов — дескать, измерили парочку параллаксов. Ты издевался надо мной, бессердечный.
— Тесса, я мог тебе обо всём рассказать, но вдруг тогда ты не полетела бы на Землю? К тому же это была не моя тайна.
— Но потом-то, здесь, на Земле?
— Как только ты начала работать — по-настоящему, — тебе всё рассказали.
— Да-да, мне рассказывали, а я сидела и хлопала глазами, как дура. А ведь ты мог хоть намекнуть мне, чтобы я не выглядела такой идиоткой. Ох, просто убить тебя хочется — вот только что делать потом? Я к тебе так привязалась. И ты знал, что так и будет, а потому бессовестно соблазнял меня, чтобы увезти на Землю.
Тесса сама выбрала эту роль, и Фишер прекрасно знал своё место в игре.
— Я тебя соблазнил? Ты сама этого хотела. И ни на что иное не соглашалась.
— Врешь. Ты заставил меня. Да-да, это было насилие — гадкое и изощрённое. А сейчас ты опять добиваешься от меня того же. Я всё вижу по твоим похотливым глазам.
Она играла в эту игру уже несколько месяцев. Фишер знал, что подобное желание приходило к ней в те дни, когда она ощущала профессиональное удовлетворение от работы.
— Как твои успехи? — спросил он.
— Успехи? Хм, можно назвать это и так. — Она ещё не пришла в себя. — Завтра мы проводим демонстрационный эксперимент для вашего дряхлого Танаямы. Он всё время безжалостно меня подгонял.
— Он безжалостный человек.
— Он глупый человек. Если ты ничего не смыслишь в науке, то должен хотя бы иметь представление, что это такое. Нельзя утром выдать на исследования миллион и вечером потребовать результатов. Надо подождать хотя бы до утра, чтобы хоть ночь можно было поработать. Знаешь, что он сказал мне, когда я сообщила ему, что могу кое-что показать?
— Нет, ты мне не говорила об этом. И что же?
— Наверное, думаешь, он выдал что-нибудь вроде: «Просто удивительно, как всего за три года вам удалось добиться таких потрясающих результатов. Земля перед вами в неоплатном долгу». По-твоему, так он сказал?
— Что ты, от Танаямы таких слов не услышать и за миллион лет. Так что же он сказал?
— Он сказал: «Значит, у вас наконец получилось что-то. Три года я надеялся. Уж не думал, что доживу. Или вы решили, что я оплачиваю ваши расходы, кормлю, пою и одеваю целую армию ваших сотрудников, чтобы вы добились хоть каких-то результатов после моей смерти?» Вот что он сказал. Честное слово, я с удовольствием дождалась бы его смерти. Но, увы, работа есть работа.
— Значит, тебе уже есть чем похвастаться?
— Мы создали первый сверхсветовой двигатель, настоящий — не какой-то там гиперпривод. Мы открыли человечеству дверь во Вселенную.
* * *
Городок, где команда Тессы Уэндел старалась потрясти Вселенную, построили ещё до того, как она появилась на Земле. Он находился высоко в горах, так высоко, что никто чужой туда не мог добраться.
Теперь его посетил Танаяма. Он неподвижно сидел в инвалидном кресле с мотором, и только глаза в узких щелках глазниц были живыми.
Уэндел выглядела невозмутимой.
— Ну и что мне сейчас покажут? — прошелестел старческий голос. — Где корабль?
Естественно, корабля не было и в помине.
— Корабля нет, директор. И не будет много лет. Я могу лишь смоделировать полёт. Это тоже захватывающее зрелище — вы увидите первый сверхсветовой перелет, который нельзя даже сравнивать с действием гиперпривода.
— И каким образом я его увижу?
— Я думала, директор, что вам уже всё известно.
Танаяма отчаянно закашлялся. Наступила пауза. Наконец, отдышавшись, он произнес:
— Мне пытались рассказать, но я хочу обо всём услышать от вас. — Он не сводил с Тессы суровых и жестких глаз. — Вы здесь главная. Идея ваша — вам и объяснять.
— Но я не могу опустить теорию: разговор будет слишком долгим, директор. Он утомит вас.
— Не нужно теории. Просто объясните, что я увижу.
— Вы увидите два кубических стеклянных контейнера, внутри которых вакуум…
— Почему вакуум?
— Сверхсветовой полёт возможен только в вакууме, директор. В противном случае объект, летящий со сверхсветовой скоростью, увлекает за собой материю, теряет управляемость и расходует на передвижение огромную энергию. Завершиться полёт тоже должен в вакууме, в противном случае результаты окажутся катастрофическими, так как…
— Можете не продолжать. Если ваш сверхсветовой полёт должен и начинаться и оканчиваться в вакууме, каким образом его можно осуществить?
— Сперва мы обычным образом выходим в космос, потом переходим в гиперпространство. Выход из гиперпространства осуществляется возле места назначения, но добираться до него придётся тоже обычным путем. Конечно, на это необходимо время. Сверхсветовой перелет происходит не мгновенно, но до какой-нибудь звезды в сорока световых годах от Солнечной системы можно будет добраться не за сорок лет, а, скажем, за сорок дней. Так что жаловаться не на что.
— Ну хорошо. Эти ваши кубические стеклянные емкости — где они?
— Перед вами их голографические изображения. На самом деле каждая из них размещена в горах. Между ними три тысячи километров. В вакууме свет преодолевает такое расстояние за тысячную долю секунды, иначе миллисекунду. Но мы сделаем это ещё быстрее. В центре левого куба в сильном магнитном поле подвешена маленькая сфера — крошечный гиператомный двигатель. Вы её видите, директор?
— Что-то такое вижу, — ответил Танаяма. — И что же?
— Если вы будете внимательно следить за нею, вы увидите, как она исчезнет. Отсчёт времени начат.
В наушниках присутствовавших раздался голос, ведущий предстартовый отсчёт времени, и на слове «ноль» сфера действительно исчезла из одного куба и появилась в другом.
— Не забудьте, — напомнила Уэндел, — их разделяет три тысячи километров. Хронометры показали, что между исчезновением и появлением прошло десять микросекунд, значит, скорость перелета в сто раз больше скорости света.
Танаяма поднял глаза.
— Как знать? Что, если вы просто придумали фокус, что-бы одурачить доверчивого, на ваш взгляд, старикана?
— Директор, — строго сказала Уэндел, — здесь сотни честных учёных, многие из них земляне. Они покажут вам все материалы и дадут самые подробные объяснения. Никаких фальсификаций — всё честно.
— Хорошо, пусть так — но что это значит? Маленький шарик, мячик для настольного тенниса пролетел несколько тысяч километров. Чтобы добиться этого, вы потратили три года?
— При всем моём уважении к вам, директор, должна заметить, что мы сейчас показали больше, чем вы могли ждать от нас. Да, наш двигатель размером с теннисный мячик, и пролетел он всего несколько тысяч километров — но вы были свидетелем сверхсветового перелета, а это всё равно что увидеть звездолёт, летящий к Арктуру со скоростью, в сто раз превышающей скорость света.
— Но я предпочел бы увидеть звездолёт.
— Увы, придётся немного подождать.
— Времени нет. Времени нет, — хриплым шёпотом проскрипел Танаяма. И вновь зашёлся в приступе кашля.
Негромко, так, чтобы услышал он один, Уэндел ответила:
— Одного вашего желания мало, чтобы одолеть природу.
* * *
Прошло три дня, до отказа заполненных официальными мероприятиями, и городок, неофициально именовавшийся Гипер-Сити, мог вздохнуть с облегчением — гости наконец-то отбыли восвояси.
— Ну вот, — сказала Тесса Уэндел Крайлу Фишеру, — теперь два-три дня на отдых, и с новыми силами за работу. — Выглядела она утомленной и недовольной. — Какой гадкий старик!
Фишер без труда понял, кого она имела в виду.
— Танаяма болен и стар.
Уэндел метнула в него свирепый взгляд.
— И ты его ещё защищаешь!
— Просто констатирую факт, Тесса.
Она укоризненно подняла палец.
— Сомневаюсь, что в молодые годы этот несчастный старец был умнее… Как же он мог столько лет руководить Конторой?
— Это его место. Он командует Конторой больше тридцати лет. А до этого почти столько же проработал первым заместителем — и волок дела за трех-четырех директоров. И каким бы дряхлым и больным он тебе ни казался — директором он останется до самой смерти и даже дня три после неё, пока люди не убедятся, что он не восстанет из гроба.
— Тебе это кажется забавным?
— Нет, но что ещё делать, как не смеяться: ведь этот человек, не обладая официальной властью и даже не будучи известным широкой публике, держал в страхе и повиновении правительство за правительством в течение почти половины столетия. А всё потому, что знал о каждом всю неприглядную правду и без колебаний этим пользовался.
— И его терпели?
— Конечно же. Ни в одном правительстве не нашлось желающего рискнуть своей карьерой ради сомнительной возможности свергнуть Танаяму.
— Даже сейчас, когда его хватка не могла не ослабнуть?
— Ты зря так считаешь — его кулак разожмет только смерть, но до последнего момента воля не позволит пальцам расслабиться. Сперва остановится сердце — лишь потом разожмется рука.
— Зачем ему это? — неприязненно произнесла Уэндел. — Ему давно пора на покой.
— Отдых не для Танаямы. Это невозможно. Не могу сказать, что я когда-нибудь был близок к нему, однако последние пятнадцать лет мне время от времени приходилось иметь с ним дело — мне всегда доставались от него синяки. Я помню его ещё полным сил и энергии, и уже тогда мне казалось, что он просто не может остановиться. Вообще людьми руководят разные причины, но Танаямой всегда владела ненависть.
— Нетрудно догадаться, — проговорила Уэндел, — видно невооруженным глазом. Тот, кто хоть раз ненавидел, уже не в силах стать благостным. Кого же ненавидит Танаяма?
— Поселения.
— Неужели? — Уэндел вдруг вспомнила, что она уроженка Аделии. — Мне тоже не приходилось слышать от поселенцев доброго слова о Земле. И ты прекрасно знаешь моё мнение о таких местах, где сила тяжести постоянна.
— Тесса, я говорю не о неприязни, антипатии или презрении. Я говорю о слепой ненависти. Поселенцев не любит едва ли не каждый землянин. У них там всё самое новое. У них тишина, покой и удобства. Им неплохо живётся: сплошной отдых, изобилие пищи, там не бывает плохой погоды, там забыли про бедность. Там всё делают роботы, которых прячут от посторонних глаз. И вполне естественно, что люди, считающие себя обездоленными, начинают ненавидеть тех, у кого всё есть — с их точки зрения. Но Танаяма одержим пламенной ненавистью. Он с удовольствием наблюдал бы за гибелью поселений, всех до одного. Видишь ли, я не сказал о его личном пунктике. Для него невыносима культурная однородность Вселенной. Ты понимаешь, о чём я говорю?
— Нет.
— Дело в том, что в каждом поселении живут люди, так сказать, одной породы и принимают туда только тех, кто похож на них. Каждое поселение обладает в известной мере своей культурой, жители даже внешне похожи. На Земле же, напротив, культуры веками перемешивались, обогащали друг друга, соперничали, опасались соседей. Как и многие земляне, Танаяма — сам я, кстати, тоже — видит в этом залог жизнестойкости. Нам кажется, что культурная однородность ослабляет поселения и в конечном счёте сокращает отпущенный им срок жизни.
— Хорошо, но зачем же тогда ненавидеть, раз у поселений тоже не всё ладно? Неужели Танаяма ненавидит нас за то, что нам живётся хуже и лучше одновременно? Это же безумие.
— Согласен. Благоразумный человек этого себе не позволит. Быть может — только быть может, — Танаяма опасается, что поселения ожидает расцвет и культурная однородность в конце концов окажется достоинством, а не недостатком. А может быть, он боится, что поселения решат общими силами уничтожить Землю, — а потому мечтает опередить их. И вся эта история с открытием Звезды-Соседки только ещё больше разъярила его.
— Ты о том, что, открыв эту звезду, Ротор и не подумал известить человечество?
— Хуже то, что они не предупредили нас о том, что звезда движется к Солнечной системе.
— Они могли и не знать об этом.
— Танаяма никогда этому не поверит. Не сомневаюсь: он убеждён, что они знали всё и нарочно промолчали, чтобы Земля погибла.
— По-моему, никто не знает, подойдёт ли Звезда-Соседка настолько близко, чтобы вызвать какой-нибудь вред. Я лично тоже не знаю. Астрономы полагают, что звезда без всяких проблем пройдёт мимо Солнечной системы. Или ты слыхал что-нибудь другое?
Фишер пожал плечами:
— Я — нет. Но ненависть заставляет Танаяму видеть в этой звезде источник беды. Отсюда логически следует, что Земле необходим сверхсветовой звездолёт — надо же искать мир, подобный Земле, куда можно будет переселиться, если дело дойдёт до худшего. Согласись — это разумно.
— Безусловно, но начинать переселяться в космос можно и не со страху. Все и так знают, что человечество уйдёт в космос, даже если Земле ничего не будет грозить. Сначала люди перебрались в поселения, следующий логический шаг — дорога к звездам, а чтобы сделать его, нам нужен сверхсветовой звездолёт.
— Да, но Танаяму интересует не это. Колонизацию Галактики, не сомневаюсь, он предпочтет оставить следующим поколениям. Он стремится лишь отыскать Ротор и покарать беглецов, дезертировавших из Солнечной системы, за пренебрежение интересами рода человеческого. Именно до этого он мечтает дожить — и потому-то и подгоняет тебя, Тесса.
— Пусть подгоняет, ему ничто не поможет. Он уже на ладан дышит.
— Сомневаюсь. Современная медицина подчас творит чудеса, а уж ради Танаямы врачи постараются.
— Даже современная медицина не всесильна. Я справлялась у врачей.
— И они рассказали? Мне казалось, что состояние здоровья Танаямы — государственная тайна.
— Не для меня, Крайл. Я наведалась к медикам, обслуживавшим здесь старика, и объяснила им, что хотела бы ещё при жизни Танаямы построить корабль, способный унести человека к звездам. Короче, я спросила у них, сколько ему осталось жить.
— И что тебе ответили?
— Год, не больше, и велели поторопиться.
— Неужели ты справишься за год?
— За год? Что ты, Крайл, я только рада. Просто приятно знать, что этот ядовитый тип ничего не увидит. Крайл, не кривись. Неужели ты считаешь, что я жестока?
— Ты не права, Тесса. Этот, как ты сказала, ядовитый старик в сущности и добился всего. Он сделал возможным создание Гипер-Сити.
— Верно, но старался он для себя. Не для меня, не для Земли, не для человечества. Конечно, я могу ошибаться. Только я уверена, что директор Танаяма ни разу не пожалел врага своего, ни разу не ослабил хватки на его горле. И я думаю, что он и сам не ждет ни от кого жалости или сострадания. Даже будет презирать как слабака любого, кто окажется способен на это.
Фишер по-прежнему казался печальным.
— Так сколько же времени на это уйдёт, Тесса?
— Кто знает? Может, целая вечность. Но даже если всё сложится наилучшим образом, едва ли меньше пяти лет.
— Но почему? Ведь сверхсветовой перелет уже состоялся.
Уэндел выпрямилась.
— Крайл, не будь наивным. Я сумела создать лабораторную установку. Я могу взять маленький шарик — мячик для настольного тенниса, — девяносто процентов массы которого составляет гиператомный двигатель, и перебросить его с места на место со сверхсветовой скоростью. Корабль же, да ещё с людьми на борту, — совсем другое дело. Сначала следует всё рассчитать, а для этого и пяти лет мало. Скажу тебе честно: до появления современных компьютеров и математических моделей даже о пяти годах нельзя было мечтать — разве что о пятидесяти.
Крайл Фишер покачал головой и ничего не ответил.
Внимательно посмотрев на него, Тесса Уэндел подозрительно спросила:
— Что с тобой? С чего это ты тоже заторопился?
— Я понимаю, что и тебе не терпится, но лично мне сверхсветовой звездолёт просто необходим, — примирительно ответил Фишер.
— Тебе больше, чем кому-либо?
— Да, для пустяка.
— А именно?
— Хочу слетать к Звезде-Соседке.
Тесса гневно поглядела на него.
— Зачем? Соскучился по жене?
Подробности своих отношений с Эугенией Фишер с Тессой не обсуждал и не намеревался этого делать.
— У меня там дочь, — ответил он. — Я думаю, Тесса, это нетрудно понять. У тебя ведь тоже есть сын.
Это была правда. Сыну Тессы было за двадцать, он учился в Аделийском университете и изредка писал матери.
Уэндел смягчилась.
— Крайл, — сказала она, — не обольщай себя напрасными надеждами. Не сомневаюсь: раз они открыли Звезду-Соседку, то к ней и отправились. С простым гиперприводом на путешествие должно уйти года два. Но кто может быть уверен, что Ротор выдержал путешествие? Но даже если так оно и есть, найти пригодную для жизни планету возле красного карлика практически невозможно. Даже если они прибыли благополучно, то наверняка отправились дальше — искать подходящую планету. Куда? Где их теперь искать?
— Я думаю, они и не рассчитывали найти подходящую для жизни планету возле Звезды-Соседки. Скорее всего, Ротор просто остался на её орбите.
— Допустим, они перенесли полёт, допустим, они кружат вокруг звезды, — но ведь это не жизнь, люди так жить не могут. Так что, Крайл, придётся тебе смириться. Если мы и доберёмся до Звезды-Соседки, то ничего не найдём, разве что обломки Ротора.
— Это лучше, чем ничего, — возразил Фишер, — но мне бы хотелось, чтобы они уцелели.
— Ты ещё надеешься отыскать своего ребенка? Дорогой Крайл, твои надежды призрачны. Ты оставил их в двадцать втором году, ей был только год. Даже если Ротор цел и твоя дочка жива, сейчас ей уже десять, а когда мы сможем отправиться к Звезде-Соседке, будет уже не меньше пятнадцати. Она тебя не узнает. Кстати, и ты её тоже.
— Тесса, я узнаю её и в десять лет, и в пятнадцать, и в пятьдесят, — ответил Фишер. — Я узнаю. Только бы её увидеть…
Глава 19
ОСТАЁМСЯ
Марлена робко улыбнулась Сиверу Генарру. Она уже привыкла попросту входить в его кабинет.
— Я не помешала, дядя Сивер?
— Нет, дорогая, особых дел у меня нет. Питт затеял всё это, чтобы избавиться от меня, а я не возражал — потому что хотел бы избавиться от него. В этом я признаюсь не каждому, но тебе вынужден говорить правду, чтобы ты не уличила меня во лжи.
— А вы не боитесь, дядя Сивер? Вот комиссар Питт испугался. И Ауринел испугался бы тоже — если бы я показала ему, на что способна.
— Нет, не боюсь, Марлена, потому что я смирился. При тебе я становлюсь прозрачным, как стекло. Это даже приятно — успокаивает. Лгать — дело нелегкое, приходится всё время делать усилия над собой. Вот потому-то ленивый человек никогда не лжет.
Марлена вновь улыбнулась.
— Поэтому я нравлюсь вам? Потому что позволяю быть ленивым?
— А сама ты как думаешь?
— Не знаю. Просто вижу, что нравлюсь, но почему — не понимаю. Вы ведёте себя так, что симпатию я ощущаю, а причины её уловить не могу. Правда, порой я как будто догадываюсь, но это ускользает. — Она помолчала. — А иногда хотелось бы знать.
— Радуйся, что не можешь. Чужой ум — грязное, вонючее и неуютное местечко.
— Почему вы так говорите, дядя Сивер?
— Знаю, вот и говорю. Твоих способностей у меня нет, однако мне пришлось повидать людей куда больше, чем тебе. Ну а тебе, Марлена, нравится изнанка собственных мыслей?
— Не знаю. — Марлена казалась удивленной. — А что в них может быть плохого?
— Неужели тебе нравится всё, что приходит в голову? Каждая мысль? Всякое побуждение? Только говори честно. Я этого не смогу заметить, но не криви душой.
— Ну конечно, иногда в голову лезут всякие глупости и пустяки. Вот когда я сержусь, в голову приходит такое, чего никогда не сделаю. Но это случается не так уж часто.
— Не так уж часто? Не забывай, что ты свыклась со своими мыслями и не ощущаешь их — ну как платье. Ты ведь не замечаешь одежды, потому что привыкла к ней. Твои волосы падают на шею, их ты тоже не замечаешь. А вот если чужой волосок коснется твоей шеи, кожа сразу же чешется. Мысли другого человека могут быть не хуже твоих собственных, но это чужие мысли, и они тебе не понравятся. Ну например, может не понравиться даже то, что я чувствую к тебе симпатию, могут не понравиться причины этого чувства. Так что куда лучше просто принимать мою привязанность как нечто данное, а не рыться в моих мыслях, пытаясь докопаться до истинных причин.
— Почему же? — спросила Марлена. — И что это за причины?
— Хорошо: ты мне нравишься потому, что когда-то я был тобой.
— Как это понимать?
— Я не хочу сказать, что был девушкой, одаренной утонченной проницательностью. Просто когда-то я тоже был молодым, считал себя скучным и полагал, что меня не любят за это. Я уже понимал тогда, что далеко не глуп, только не мог ещё догадаться, что именно за это меня и не любят. Мне казалось, что нельзя ценить недостаток и пренебрегать достоинством. Марлена, я сердился и расстраивался, а потом решил, что никогда не позволю себе относиться к людям так, как они относились ко мне, — только реализовать это благое намерение в жизни мне практически не удалось. И вот я встретил тебя. Ты не скучная, каким был я, ты умнее меня, и я думаю, что тебе повезёт больше, чем мне. — Он широко улыбнулся. — У меня такое чувство, словно мне представился новый шанс, ещё более выгодный. Впрочем, ты пришла ко мне не за тем, чтобы выслушивать мои разглагольствования. Уж это я способен понять, хоть и не наделен твоим даром.
— Я хотела поговорить о маме.
— О? — Генарр нахмурился. — А что с ней?
— Вы знаете, она уже заканчивает работу. А если она вернется на Ротор, то захочет взять меня с собой. Нужно ли мне возвращаться?
— Думаю, что да. А ты не хочешь?
— Не хочу, дядя Сивер. Я чувствую, что должна остаться. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали комиссару Питту, что мы задержимся. Ведь вы можете придумать какой-нибудь предлог. А комиссар — не сомневаюсь — охотно согласится, особенно когда вы доложите ему итоги маминой работы: Немезида действительно погубит Землю.
— Марлена, она так и сказала?
— Нет, но мне и не надо говорить. Можете напомнить комиссару, что теперь мама наверняка не даст ему покоя, она будет требовать, чтобы предупредили Солнечную систему.
— А тебе не приходит в голову, что Питт вовсе не склонен оказывать мне любезности? Если он подумает, что мне просто хочется задержать Эугению и тебя на Эритро, то может приказать вам возвращаться, только чтобы досадить мне.
— Я абсолютно уверена, — невозмутимо возразила Марлена, — что комиссару Питту доставит большое удовольствие оставить нас здесь, чтобы насолить вам. Кстати, вы и сами хотите, чтобы мама осталась, — она вам нравится.
— И даже очень. И нравилась всю жизнь. Да только я-то твоей маме не нравлюсь. Недавно ты говорила, что она ещё не забыла твоего отца.
— Дядя Сивер, вы нравитесь ей всё больше и больше. Правда.
— Марлена, симпатия — не любовь. Не сомневаюсь, что ты уже понимаешь это.
Марлена покраснела.
— Я же говорю о старых людях.
— Да-да, о таких, как я. — Откинув голову назад, Генарр расхохотался. Потом сказал: — Извини, Марлена. Нам, старикам, вечно кажется, что молодежь не умеет любить, а молодежь вечно считает, что старики уже обо всём позабыли. Почему же ты решила остаться под Куполом? Не ради же нашей с тобой дружбы?
— Вы мне нравитесь, дядя Сивер, — серьёзно ответила Марлена. — Очень нравитесь. Но я хочу остаться здесь потому, что мне нравится Эритро.
— Я же говорил тебе, что этот мир опасен.
— Не для меня.
— Ты всё ещё убеждена, что лихоманка к тебе не пристанет?
— Конечно.
— Но откуда ты знаешь?
— Просто знаю. И раньше знала — когда ещё не прилетела на Эритро. И нечего сомневаться.
— Это было тогда. Но теперь ты знаешь о лихоманке.
— Моё решение бесповоротно. Здесь я ощущаю себя в полной безопасности. Большей, чем на Роторе.
Генарр медленно покачал головой.
— Вынужден признать, что не понимаю тебя. — Он внимательно посмотрел в её лицо, тёмные глаза, полуприкрытые великолепными ресницами. — Что же, Марлена, позволь теперь мне прочитать твои мысли. Ты решила добиться своего и во что бы то ни стало остаться на Эритро.
— Да, — спокойно сказала Марлена. — И я надеюсь на вашу помощь.
* * *
Эугения Инсигна просто пылала от гнева. Однако говорила спокойно:
— Он не посмеет этого сделать, Сивер.
— Посмеет, Эугения, — ответил Генарр ровным тоном. — Он же у нас комиссар.
— Но не царь. И, как все роториане, я обладаю правами — в том числе и на свободу передвижения.
— Если комиссар считает необходимым установить чрезвычайное положение в отношении одного гражданина, последний лишается прав. Так это примерно звучит в Акте о полномочиях двадцать четвертого года.
— Но это же просто смешно: вопреки всем законам и традициям вспоминать кодекс времен основания Ротора.
— Не спорю.
— Но я подниму шум; Питту придётся…
— Эугения, пожалуйста, послушай меня. Пускай себе тешится. А пока — почему бы вам с Марленой не погостить здесь? Я вам очень рад…
— Ну что ты говоришь! Мы здесь словно в тюрьме — без обвинения, суда и приговора. И должны торчать на Эритро, повинуясь указу зарвавшегося…
— Пожалуйста, не спорь, а подпишись. Так будет лучше.
— Лучше? Почему? — спросила Инсигна, едва сдерживая негодование.
— Потому что твоя дочь Марлена уже кое-что предприняла.
Инсигна недоуменно поглядела на Генарра.
— Марлена?
— На прошлой неделе она приходила ко мне с целым ворохом предложений, как убедить комиссара оставить вас на Эритро.
Инсигна в негодовании вскочила.
— И ты это сделал?
Генарр энергично качнул головой:
— Нет. А теперь послушай меня. Я всего лишь сообщил Питту, что твоя работа окончена. Я не знаю, чего он хочет теперь: чтобы вы вернулись на Ротор или остались здесь. Эугения, я составил абсолютно нейтральное послание. Перед отправкой я показал его Марлене, она одобрила и сказала следующее — я цитирую: «Если предоставить ему выбор, он оставит нас здесь».
И видишь — он так и решил.
Эугения осела в кресле.
— Сивер, неужели ты действительно послушался совета пятнадцатилетней девочки?
— Я не могу считать Марлену обычной пятнадцатилетней девочкой. А теперь объясни мне, что гонит тебя на Ротор?
— Работа…
— Её нет и не будет, пока ты вновь не понадобишься Питту. Даже если он позволит тебе вернуться, ты окажешься не у дел. А здесь у тебя есть оборудование, которое тебе необходимо. Ведь ты и прибыла сюда, чтобы сделать то, чего не могла сделать на Роторе.
— При чем тут работа? — с явной непоследовательностью воскликнула Инсигна. — Разве ты не понимаешь, что я стремлюсь вернуться именно из-за того, из-за чего он держит нас здесь? Он хочет погубить Марлену! И если бы я только знала об эритрийской лихоманке, мы бы ни за что не приехали. Я не могу рисковать рассудком Марлены.
— Её рассудок — последнее, чем я решился бы рискнуть, — заметил Генарр. — Скорее я рискнул бы собственной жизнью.
— Но мы уже рискуем собственной жизнью.
— Марлена считает иначе.
— Марлена! Марлена! Прямо божок какой-то. Ну что она знает?
— Послушай-ка, Эугения. Давай порассуждаем спокойно. Если бы ей здесь что-то угрожало, я бы сумел найти способ переправить вас на Ротор. Только послушай сперва. Как по-твоему, у Марлены заметны какие-нибудь признаки мании величия?
Инсигна вздрогнула. Волнение ещё не отпустило её.
— Не понимаю, что ты хочешь сказать?
— Не случалось ли ей бывать нелепо претенциозной?
— Конечно, нет. Она очень разумная девочка… А почему ты спрашиваешь? Сам же знаешь, что она никогда ничего не попросит без…
— Веских на то оснований? Знаю. Она никогда не хвастала своим даром. По сути дела, только обстоятельства заставили её выдать себя.
— Да, но к чему ты клонишь?
Генарр невозмутимо продолжал:
— Случалось ли ей настаивать на исключительности своей правоты? Случалось ли ей утверждать, что нечто непременно случится — или не случится — лишь потому, что она уверена в этом?
— Нет, конечно, нет. Она очень благоразумна.
— А вот в одном — только в одном — она проявляет настойчивость. Марлена убеждена, что лихоманка её не коснется. Она заявляет, что была уверена в этом ещё на Роторе и убеждение это только усилилось, когда она оказалась под Куполом. И она без колебаний решила остаться.
Инсигна широко раскрыла глаза и прикрыла рукой рот. Выдавив какой-то неразборчивый звук, она проговорила:
— В таком случае… — И умолкла.
— Что? — спросил Генарр с внезапной тревогой.
— Ты не понял? Разве это не начало болезни? Личность её начала изменяться, уже страдает рассудок.
На миг Генарр застыл, погрузившись в раздумье, потом ответил:
— Нет, это невозможно. Во всех известных случаях ничего подобного не наблюдалось. Лихоманка здесь ни при чём.
— Но у неё же особый ум. Он и реагировать будет по-своему.
— Нет, — решительно отрезал Генарр. — Не верю этому и не хочу верить. По-моему, Марлена убеждена, что не заболеет, значит, так и будет. Возможно, она-то и поможет нам решить загадку лихоманки.
Инсигна побледнела.
— Так вот почему ты хочешь, чтобы она осталась на Эритро! Так, Сивер? Чтобы она подарила тебе оружие против этого врага?
— Нет. Я не хочу, чтобы она оставалась ради этого. Но раз уж она решила остаться, пусть поможет нам.
— Значит, она решила остаться на Эритро, и у тебя нет никаких возражений? Хочет остаться — и всё тут… По какой-то дурацкой прихоти, причин которой даже объяснить не может. А мы оба не способны найти основания подобного сумасбродства. Неужели ты всерьёз думаешь, что ей следует разрешить остаться здесь просто потому, что она этого хочет? Как ты смеешь говорить это мне?
— Видишь ли, я испытываю известное желание поступить именно так, — с усилием произнес Генарр.
— Тебе легко говорить. Она не твоя дочь. Это мой ребенок. Единственный…
— Знаю, — сказал Генарр, — единственная память о… Крайле. Не смотри на меня такими глазами. Я прекрасно знаю, что ты так и не смогла забыть его. Я понимаю твои чувства, — мягко закончил он, ощущая желание погладить склоненную голову Инсигны. — Знаешь, Эугения, если Марлена и в самом деле хочет заняться исследованием Эритро, то, по-моему, ничто её не остановит. И раз она абсолютно убеждена, что не заболеет, — такая убеждённость может сыграть здесь решающую роль. Активная уверенность в собственном душевном здоровье может способствовать образованию иммунитета.
Инсигна вскинула голову, глаза её сверкали.
— Ты несешь чушь! Нечего поддаваться романтическим настроениям ребенка! Она тебе чужая. Ты не любишь её.
— Она мне не чужая, я полюбил её. Более того, она восхищает меня. Мы можем рискнуть. Одна только любовь не дала бы мне подобной уверенности, а вот восхищение… Подумай об этом.
И они молча посмотрели друг на друга.
Глава 20
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Каттиморо Танаяма с привычным упорством дотянул отпущенный ему врачами год и даже одолел значительную часть следующего, когда долгая битва его жизни завершилась. Время пришло, и он покинул поле брани, не издав ни звука, ни вздоха — приборы засвидетельствовали его смерть раньше, чем кто-либо из окружающих успел это заметить.
Кончина его вызвала на Земле некоторую растерянность. Поселения же сохраняли полное спокойствие: Старик делал своё дело втайне от людей, и это было, пожалуй, к лучшему. Все, кто имел дело с Танаямой, знали его силу, поэтому наибольшее облегчение испытали именно те, чья судьба непосредственно зависела от его могущества и политических устремлений.
Новость быстро дошла до Тессы Уэндел — по специальному каналу, соединявшему её штаб-квартиру с Уорлд-Сити. И хотя это грустное событие ожидалось уже давно, весть о нём оказалась всё-таки неожиданной.
Что теперь будет? Кто сменит Танаяму и какие последуют перемены? Тесса давно уже думала об этом, но только сейчас эти вопросы обрели истинный смысл. Несмотря на официальное сообщение, Уэндел — как, быть может, и все, кто знал Танаяму, — так и не могла поверить в смерть Старика.
За утешением она обратилась к Крайлу Фишеру. Уэндел достаточно трезво относилась к себе и прекрасно понимала: Фишера привлекало не её стареющее тело (боже, через какие-то два месяца ей стукнет пятьдесят!). Ему было сорок пять. И хоть его молодость тоже прошла, для мужчины возраст совсем не то, что для женщины. Крайл не собирался бросать её, и она верила, что ещё способна соблазнять, особенно когда ей случалось делать это в буквальном смысле слова.
— Что же теперь будет? — спросила она у Фишера.
— Ничего удивительного, Тесса, — ответил он. — Всё могло случиться и раньше.
— Конечно, но случилось именно сейчас. А ведь благодаря ему наши работы шли. И что теперь с нами будет?
— Пока он был жив, ты ждала его смерти, а теперь встревожилась, — заметил Фишер. — Думаю, тебе незачем беспокоиться. Работы будут продолжены. Дела такого рода живут собственной жизнью. Их нельзя остановить.
— Крайл, а ты никогда не пробовал прикинуть, во что всё это обошлось Земле? Всеземное бюро расследований теперь получит нового директора, и Всемирный конгресс, естественно, постарается выбрать такого, с кем можно будет поладить. Новый Танаяма, перед которым бы все дрожали, в ближайшее время, надо думать, не объявится. И тогда они проверят бюджет, который старец Танаяма прикрывал собой, и обнаружат перерасход средств и, естественно, захотят урезать ассигнования.
— Это невозможно. Ведь столько уже потрачено. Кто рискнет взять и прекратить всё, не получив ощутимого результата? Это будет полное фиаско.
— Во всём обвинят Танаяму. Скажут, что он свихнулся на старости лет. И все, кто не замешан в этом деле, поспешат образумить Землю и забросят всю эту затею, раз она планете не по карману.
— Тесса, любовь моя, — улыбнулся Фишер, — глубины политического мышления столь же прозрачны для тебя, как и тайны гиперпространства. Директор Конторы — в теории и в представлении людей — является назначаемым чиновником, не обладающим значительным влиянием, к тому же находящимся под строгим контролем Генерального Президента и Всемирного конгресса. Следовательно, некие выборные и, по всеобщему мнению, могущественные государственные мужи не смогут признаться в том, что всем правил Танаяма, а они тем временем тряслись по углам и осмеливались вздохнуть лишь с его разрешения. В противном случае все увидят, что они — трусы, бездари и слабаки, — а это может стоить им места после очередных выборов. Так что работы придётся продолжать. Стрижка будет косметической.
— А почему ты в этом уверен? — пробормотала Уэндел.
— Потому что изучил всю их кухню, Тесса. Кроме того, если финансирование сократится, то поселения обгонят нас и первыми уйдут в глубокий космос, оставив нас с носом, как это сделал Ротор.
— И ты думаешь, что они способны на это?
— А как же, ведь им известно о существовании гиперпривода, и едва ли они откажутся продолжить исследования.
Уэндел насмешливо посмотрела на Крайла.
— Родной мой, твои познания в области физики гиперпространства сравнимы лишь со способностью выведывать тайны. Неужели ты думаешь, что моя работа столь проста? По-твоему, сверхсветовой полёт — логический итог теории гиперпривода? Разве ты ещё не понял, что гиперпривод является естественным следствием релятивистского мышления? Гиперпривод не позволяет передвигаться быстрее скорости света. Переход к сверхсветовым скоростям станет истинным переворотом как в мышлении, так и в технике. И это не придёт само собой. Я уже пыталась объяснить это кое-кому из правительства. Но они только сетовали на мои затраты, на медленный, на их взгляд, ход работы, и мне постоянно приходилось оправдываться. Они это и припомнят сейчас, когда бояться уже некого. То, что нас могут обогнать поселения, для них несущественно.
Фишер покачал головой:
— А ты им объясни. И они тебе поверят, потому что это истинная правда. Нас действительно могут опередить.
— Ты разве не слышал, что я тебе сказала?
— Слышал, но ты кое-что забыла. Предоставь мне право на чуточку здравого смысла, раз уж ты считаешь, что я умею выведывать секреты.
— О чём ты, Крайл?
— Переход от гиперпривода к сверхсветовому полёту долог, если начинаешь с самого начала — как ты. Но поселения-то начнут не с нуля. Неужели ты думаешь, что о нашем проекте им ничего не известно? Что никто слыхом не слыхивал о Гипер-Сити? Или ты решила, что, кроме меня и моих земных коллег, в Солнечной системе никого больше не интересуют чужие секреты? У поселенцев свои ищейки, они тоже усердно рыщут повсюду — не менее усердно, чем мы. Ведь как только ты прибыла на Землю, они сразу же об этом узнали.
— Ну И что из того?
— А ничего. Ты думаешь, что у них нет компьютеров, которые могут рассказать обо всех твоих публикациях? Ты думаешь, что они не сумели их раздобыть? Ты думаешь, они не прочли всё с первой до последней страницы и не обнаружили твои высказывания о возможности сверхсветовых скоростей?
Уэндел закусила губу.
— Ну…
— Да, подумай об этом. Когда ты писала о сверхсветовых скоростях, ты просто строила догадки. Ты была единственной, кто считал, что такое возможно. Никто не принимал твои писания всерьёз. Но вот ты прибываешь на Землю и остаешься. Потом внезапно исчезаешь и на Аделию не возвращаешься. Конечно, подробно они не знают, чем именно ты здесь занимаешься, потому что Танаяма навязал нам совершенно параноидальный режим секретности. Но факт твоего исчезновения, да ещё статейки твои даже сомнения не оставляют, над чем ты работаешь сейчас. Ну а городок, подобный Гипер-Сити, вообще нельзя утаить. В него вложены огромные деньги, такие суммы нельзя потратить тайно. Не сомневаюсь, что каждое поселение ищет концы и начала в этом клубке, пытается выудить какую-то информацию, и каждый новый бит позволит им идти вперёд быстрее, чем удавалось тебе. Тесса, не забудь сказать об этом, когда речь зайдёт о прекращении работ. Если мы остановимся, нас не просто могут обогнать — нас обязательно обойдут. И эта перспектива должна воодушевить новых людей, как Танаяму, поскольку она весьма реальна.
Уэндел долго молчала, а Фишер внимательно смотрел на неё.
— Ты прав, дорогой мой охотник за чужими секретами, — наконец проговорила она. — Я ошибалась, считая тебя в первую очередь любовником, а не советчиком.
— Одно другому не мешает, — сказал Фишер.
— Впрочем, — добавила Уэндел, — я прекрасно знаю, что и у тебя в этом деле есть собственный интерес.
— Ну и что? — отозвался Фишер. — всё равно мы с тобой бежим в одну сторону.
* * *
Наконец прибыла делегация конгрессменов во главе с Игорем Коропатским, новым директором Всеземного бюро расследований. Он уже давно служил в Конторе — правда, не на руководящих должностях, — и потому Тесса Уэндел знала его.
Это был человек спокойный, с гладкими редеющими седыми волосами, носом картошкой и мягким двойным подбородком, намекавшим на доброту и сытость натуры. В проницательности ему отказать было трудно, однако в нём не было болезненной сосредоточенности Танаямы — это замечали все.
С ним прибыли конгрессмены — конечно, чтобы показать, что новый директор — их собственность и находится под полным контролем. Безусловно, они надеялись, что так и останется впредь. Танаяма дал всем хороший и горький урок.
Прекратить работы никто не предлагал. Напротив, все выражали озабоченность и торопили — но не очень настойчиво. Осторожные намеки Уэндел на то, что поселения могут догнать Землю и уже наступают на пятки, не только не встретили возражений, но даже были сочтены почти очевидными.
Коропатский, которому позволили председательствовать и руководить собранием, заявил:
— Доктор Уэндел, я не прошу вас основательно и официально знакомить нас с Гипер-Сити. Мне уже приходилось бывать здесь, к тому же сейчас у меня много важных дел в части реорганизации Конторы. Я вовсе не хочу выразить неуважение к памяти своего выдающегося предшественника, однако переход столь внушительной административной системы из одних рук в другие требует крупной реорганизации, особенно если учесть, что мой предшественник пребывал на посту достаточно долго. Однако я по природе не формалист. Давайте говорить свободно и неофициально. Я хочу задать вам несколько вопросов, на которые рассчитываю получить ответы, понятные лицу, обладающему моими скромными научными познаниями. Итак, когда вы рассчитываете ввести в строй свой сверхсветовой звездолёт?
— Директор, вы должны понимать, что на такой вопрос я не могу дать точного ответа. Слишком многое зависит от всяких сложностей и непредвиденных неприятностей.
— Ну а если дело ограничится одними сложностями и особых неприятностей не возникнет?
— Поскольку мы уже закончили научные разработки и остались только инженерные задачи — если всё будет хорошо, — нам потребуется года три.
— Иными словами, вы завершите работы к 2236 году.
— Во всяком случае, не раньше.
— И сколько человек будет вмещать ваш звездолёт?
— Пять или семь.
— А как далеко он сможет летать?
— Куда угодно, директор. В этом-то и преимущество сверхсветовых скоростей. Звездолёт перемещается в гиперпространстве, где не действуют обычные законы физики, в том числе закон сохранения энергии. Переместиться на тысячу световых лет там не трудней, чем на световой год.
Директор неодобрительно покачал головой:
— Я не физик, но с отсутствием ограничений не могу примириться. Неужели для вас всё возможно?
— Ограничения существуют. Войти в гиперпространство и выйти из него можно только в вакууме при невысокой интенсивности гравитационного поля — ниже предельной величины. Конечно, по ходу дела обнаружатся новые препятствия, особенно когда начнутся полёты. Они могут послужить причиной новых задержек.
— Хорошо, предположим, что корабль готов, — куда вы предлагаете совершить первый полёт?
— Для первого полёта было бы логично ограничиться полётом к Плутону, однако в этом нетрудно усмотреть непроизводительную потерю времени. Если новая техника позволит нам посещать дальние звёзды — как можно устоять перед искушением отправиться к одной из них?
— Например, к Звезде-Соседке?
— Есть основания отдать предпочтение ей. Прежний директор Танаяма намеревался отправиться туда, но я должна заметить, что неподалеку от Солнца есть и более интересные звёзды. Сириус всего в четыре раза дальше, но возле него учёные смогли бы исследовать белый карлик.
— Доктор Уэндел, лично я тоже считаю, что целью первого полёта должна стать Звезда-Соседка, но руководствуюсь иными причинами, чем Танаяма. Представим себе, что вы совершили путешествие к далекой звезде… и вернулись. Каким образом вы сможете доказать, что побывали возле неё?
Уэндел казалась озадаченной.
— Доказать? Я вас не понимаю.
— Я хочу спросить, как вы сможете опровергнуть обвинения в фальсификации полёта, как вы докажете, что совершили его?
— В фальсификации? — Уэндел в негодовании вскочила. — Это оскорбление.
Голос Коропатского вдруг стал властным:
— Сядьте, доктор Уэндел! Вас ни в чём не обвиняют. Я просто моделирую ситуацию и стараюсь заранее предпринять необходимые меры. Человечество вышло в космос три века назад. История ещё не забыла обстоятельств этого события, на родной мне части земного шара его помнят особенно хорошо. В те туманные дни, когда первые искусственные аппараты покидали тесные земные пределы, находились люди, которые утверждали, что все результаты, полученные спутниками, подложны. Фотографии обратной стороны Луны тоже объявляли поддельными. Даже подлинность первых снимков Земли из космоса оспаривалась теми немногими, кто ещё считал Землю плоской. Так и теперь: если Земля объявит, что овладела сверхсветовым полётом, ситуация может повториться.
— Почему же, директор? Почему нас непременно заподозрят во лжи?
— Доктор Уэндел, дорогая моя, вы просто наивны. Целых три столетия Альберт Эйнштейн считался полубогом, сотворившим космологию. Сколько поколений заучивало эти слова: скорость света нельзя превысить. И его почитатели легко не сдадутся. Вы нарушаете принцип причинности — а что может быть фундаментальнее? — ведь у вас причина опережает следствие. Это с одной стороны. Ну а с другой, доктор Уэндел, политические соображения могут заставить поселения убедить свой народ, а заодно и землян в том, что мы лжем. Это может помешать нам — придётся ввязаться в полемику, потерять время — тем самым они получат шанс догнать нас. Повторяю, я хочу знать, возможно ли каким-нибудь образом доказать, что подобный перелет действительно совершен?
— Директор, после возвращения мы представим корабль на обследование учёным, — ледяным тоном ответила Уэндел. — Дадим некоторые пояснения относительно основных принципов…
— Нет-нет-нет. Пожалуйста, не продолжайте. Результаты осмотра могут быть убедительными лишь для учёных, обладающих вашей квалификацией.
— Хорошо, мы доставим обратно фотографию неба, на котором ближайшие звёзды расположены чуть иначе. По изменению относительных положений можно будет определить, где именно в окрестностях Солнца мы побывали.
— Этот аргумент может убедить только ученого — но с точки зрения обычного человека…
— Тогда сделаем точные снимки той звезды, возле которой побываем. Она совсем не похожа на Солнце.
— Подобные штучки давно научились делать в голофантастике. Можно позаимствовать прямо из сериала. Скажем, из «Галактического капитана».
— Ну что ж, — процедила Уэндел сквозь зубы, — другого способа я не знаю. Кто не верит — пусть не верит себе на здоровье. Вообще — это ваше дело. Наука здесь ни при чем.
— Ну-ну, доктор, не сердитесь, пожалуйста. Вспомните: когда семь с половиной веков назад Колумб возвратился из своего странствия за океан, его никто не заподозрил в мошенничестве. А почему? А потому, что он привез с собой туземцев, жителей островов, на которых побывали мореплаватели.
— Прекрасно, но с первого же раза отыскать обитаемый мир, да ещё привезти с собой образцы… На это почти нет надежды.
— Ну не совсем так. Как вы знаете, мы предполагаем, что с помощью Дальнего Зонда Ротор обнаружил Звезду-Соседку и только после этого оставил Солнечную систему. Ротор не вернулся, и не исключено, что они остались возле этой звезды. Там их и будем искать.
— Так считал и директор Танаяма. Однако путешествие с гиперприводом длилось не менее двух лет. Несчастный случай, технические сложности, психологические проблемы — что угодно могло помешать им. Может быть, они не вернулись именно поэтому.
— Тем не менее, — настойчиво продолжал Коропатский, — я не исключаю, что они там.
— Даже если они там, Ротор должен находиться на орбите звезды, поскольку пригодных для обитания планет там и быть не может. Если психологические неурядицы не остановили их ещё по дороге, они не замедлят появиться теперь. Кто знает, может быть, вокруг нашей ближайшей соседки кружит лишь мертвое поселение.
— Вот видите, значит, нужно лететь к ней, разыскать Ротор, живой или мертвый. В любом случае с Ротора можно привезти нечто такое, что заставит всех поверить, что вы побывали возле звезды и вернулись. — Он широко улыбнулся. — Тогда даже я поверю. Вот такую я ставлю перед вами цель, ради достижения которой Земля отыщет для вас и средства, и ресурсы, и людей.
А после обеда, на котором к техническим вопросам более не обращались, Коропатский по-дружески, но как будто с легкой ехидцей опять обратился к Уэндел:
— Кстати, не забудьте, мы даем вам всего три года на эту’ работу. Не более.
* * *
— Итак, мой хитроумный замысел оказался ненужным, — не без сожаления заметил Крайл Фишер.
— Увы. Они готовы продолжать без всяких угроз с моей стороны. Только их почему-то обеспокоило — Танаяме это и в голову не приходило, — как отвести возможные обвинения в мошенничестве. По-моему, Танаяма намеревался уничтожить Ротор. И пусть потом во всю глотку орали бы: «Неправда!»
— Вряд ли. Он приказал бы экипажу доставить ему доказательства того, что Ротор погиб. Такое свидетельство убедило бы и весь мир. А каков этот новый директор?
— Полная противоположность Танаяме. Мягкий такой, предупредительный, но мне кажется, что Всемирному конгрессу будет с ним не легче, чем с Танаямой. Вот только освоится на новом месте.
— Значит, в отличие от Танаямы, он собирается действовать более разумно.
— Да, но этот его намек… Я до сих пор киплю! Это же надо додуматься — сфальсифицировать результаты космического перелета. Возможно, такое могло прийти в голову потому, что земляне не ощущают пространства. Совсем. Вы слишком привыкли к своей громаде и редко её покидаете, да и то ненадолго.
Фишер улыбнулся.
— Но я-то её покидал. И нередко. А ты — вообще из поселения. Так что мы двое к этой планете не так уж и прикованы.
— Верно. — Уэндел искоса взглянула на него. — А мне иногда кажется: ты и вовсе забыл, что я не землянка.
— Я не забывал. Не буду же я всё время твердить себе под нос: «Тесса — поселенка! Тесса — поселенка!» И тем не менее я всё время помню об этом.
— Ну а ещё хоть кто-нибудь помнит? — Она неопределённо помахала рукой, очертив в воздухе непонятную фигуру. — Гипер-Сити находится под немыслимым покровом секретности. А почему? Чтобы поселения не пронюхали? Ведь надо овладеть сверхсветовым полётом, прежде чем поселения займутся этой же работой. А кто здесь распоряжается? Поселенка!
— За пять лет, что ты здесь провела, тебе это впервые пришло в голову?
— Нет, приходит время от времени. Понять не могу, почему они не опасаются доверять мне?
Фишер расхохотался.
— С тобой дело обстоит гораздо проще. Ты ведь ученая.
— Ну и что?
— Учёные, как наемники, не имеют прочной привязанности к какому бы то ни было обществу. Стоит поставить перед учёным интересную проблему, снабдить его всем необходимым, деньгами и оборудованием, и он даже не подумает, откуда берутся средства. Признайся — тебе дела нет ни до Земли, ни до Аделии, ни до поселений вообще — даже до человечества в делом. Ты просто хочешь создать сверхсветовой звездолёт, и более тебя ничего не волнует.
— Ну знаешь ли, в этот стереотип укладывается не каждый учёный, — пылко ответила Уэндел. — Я, например.
— Тесса, не сомневаюсь, что и они всё понимают, ведь ты, скорее всего, находишься под постоянным надзором. Наверняка кое-кто из твоих ближайших помощников следит за твоей деятельностью и доносит о ней правительству.
— Остаётся только надеяться, что это не ты.
— Только не говори, что ты никогда не думала, что, находясь рядом с тобой, я исполняю свои обязанности — охотника за секретами.
— Честно говоря, эта мысль время от времени приходит мне в голову.
— Понимаешь, я не гожусь для такого поручения. Во-первых, мы с тобой слишком близки, чтобы они мне доверяли. Не сомневаюсь, что за мной тоже следят и тщательно анализируют. Но пока я привязан к тебе…
— Крайл, какой ты бесчувственный! Неужели можно шутить такими вещами?
— Я не шучу, просто пытаюсь смотреть на вещи реально. Если я наскучу тебе, то выпаду из обоймы. Приунывшая Тесса будет уже не такой усердной, и тогда меня сразу уберут и на освободившееся место пристроят другого. В конце концов, им нужно, чтобы ты была довольна — мои чувства им безразличны. Другой причины я не вижу. Такая вот схема — логично, правда?
Уэндел вдруг потянулась к щеке Крайла:
— Не волнуйся. Я успела слишком привыкнуть к тебе, чтобы ты мне вдруг надоел. В молодости, когда кровь была горячей, мне, конечно, приходилось бросать мужчин, но теперь…
— Неохота?
— Думай как хочешь. По-твоему, я не могу любить?
— Отчего же. Хладнокровная любовь — своего рода отдых. Но, по-моему, сейчас не время говорить об этом. Давай-ка лучше побеседуем о Коропатском и его отношении к твоей работе.
— Это я уж как-нибудь переживу. Я хочу поговорить о другом. Только что я тебе сказала, что земляне не ощущают пространства.
— Да, помню.
— Вот и твой Коропатский совсем-совсем не ощущает его. Он сказал, что нам придётся лететь к Звезде-Соседке на поиски Ротора. А как? Часто, обнаружив астероид, мы тут же теряем его, не успев даже вычислить орбиту. А знаешь, сколько времени нужно, чтобы найти пропажу, — и это при нашей-то современной технике и приборах? Не один год. Пространство вокруг звезды огромно, а Ротор — такой маленький.
— Ты права, но астероид приходится искать среди сотен тысяч подобных ему — Ротор же должен быть единственным объектом возле Звезды-Соседки.
— Кто тебе сказал? Даже если она не обладает планетной системой в привычном смысле этого слова, крайне маловероятно, что вокруг неё не окажется каких-нибудь других объектов.
— Да, но это просто космический мусор — наподобие наших астероидов. Ну а Ротор — живое поселение, он будет испускать свет, который легко заметить.
— Если только они живы. А если нет? Тогда Ротор не отличишь от астероида, и обнаружить его будет невероятно сложно. Мы можем не справиться с этой задачей, сколько бы времени нам ни дали.
Фишер помрачнел.
Обняв его за плечи, Уэндел прижалась к нему и шепнула:
— Ну, дорогой, ты же всё понимаешь. Нельзя обманывать себя.
— Я знаю, — глухо ответил Фишер. — Но они всё-таки могли уцелеть. Ведь могли?
— Да, — ответила Уэндел несколько неёстественным тоном, — и дай бог, чтобы так и было. Конечно, их можно обнаружить. По излучению. Но это не всё.
— А что ещё?
— Коропатский требует, чтобы мы привезли ему какое-нибудь доказательство того, что побывали именно на Роторе, — а как иначе доказать, что, проведя несколько месяцев в космосе, мы вернулись, побывав за несколько световых лет от Земли? И что же такое можно привезти, чтобы ни у кого не возникло сомнений? Предположим, мы обнаружим в пространстве бетонные или металлические обломки. Так ведь подойдёт не любой из них. Просто металлический обломок не годится — ведь мы можем прихватить его с Земли. Предположим даже, что нам удастся отыскать что-нибудь особенное — ну, такое, что может быть только в поселениях, — так ведь и это смогут посчитать подлогом. А вот если Ротор жив, если он ещё существует, не исключено, что мы сумеем уговорить кого-нибудь из роториан вернуться с нами. Человека можно идентифицировать по отпечаткам пальцев, сетчатке, ДНК. Лучше выбрать такого, которого на Земле или других поселениях ещё хоть кто-нибудь помнит. Коропатский настаивает на этом. Дескать, так поступил Колумб, привезя из Америки туземцев… Конечно, — Уэндел глубоко вздохнула, — мы не много сможем привезти назад, будь то люди или материальные свидетельства. Когда-нибудь у нас появятся корабли величиной с поселение. Первый звездолёт будет небольшим и наверняка примитивным, с точки зрения потомков. И привезти назад мы сможем только одного роторианина — больше в корабль не поместится, — а значит, нельзя ошибиться в выборе.
— Мою дочь, Марлену, — сказал Фишер.
— А если она не захочет? Мы возьмём только добровольца. А им может оказаться один из тысячи, и не исключено, что такового вообще не окажется.
— Она захочет. Я поговорю с Марленой и наверняка смогу убедить.
— А если её мать будет не согласна?
— Я и с ней поговорю, — упрямо буркнул Фишер. — Уговорю как-нибудь.
Уэндел снова вздохнула.
— Крайл, прошу тебя, не фантазируй. Неужели ты не понимаешь, что твою дочь мы взять не сможем — даже если она захочет?
— Почему? Почему же?
— В момент отлёта ей был только год, и она не помнит Солнечной системы. Её никто не сможет узнать здесь. Едва ли в Солнечной системе сохранились хоть какие-то сведения о ней. Нет, нам придётся выбрать человека средних лет из тех, кто хоть раз бывал в другом поселении, а лучше всего — на Земле. — Помолчав, она твёрдым тоном продолжила: — Вот жена твоя могла бы подойти. Ты же говорил, что она училась на Земле! Об этом наверняка сохранились сведения, и её будет легко идентифицировать. Но, честно говоря, я бы предпочла не её.
Фишер молчал.
— Крайл, извини, я не хотела тебя задеть, — робко сказала Уэндел.
— Только бы моя Марлена была жива, — медленно произнес Фишер. — Тогда посмотрим, что делать дальше.
Глава 21
СКАНИРОВАНИЕ МОЗГА
— Прошу прощения, — произнес Сивер Генарр, обращаясь к матери и дочери. Его длинноносое лицо выглядело виноватым. — Не успел я сказать Марлене, что у меня здесь не бывает особенных дел, как тут же начались неприятности с энергоустановкой и мне пришлось отложить нашу беседу. Думаю, теперь нашей невольной размолвке пришёл конец, и мы не будем уделять ей большого внимания. Надеюсь, что всё можно уже позабыть? Ну как, я прощен?
— Конечно, Сивер, — ответила Эугения Инсигна. Она была заметно встревожена. — Не скажу, что эти три дня были легкими для меня. Мне кажется, что с каждым днём опасность для здоровья Марлены увеличивается.
— А я совсем не боюсь Эритро, дядя Сивер, — возразила девочка.
Инсигна продолжала:
— Я не думаю, что Питт может предпринять какие-то действия против нас на Роторе. И он сам это знает, иначе зачем ему было посылать нас на Эритро?
— Попробую быть честным посредником и удовлетворить обе стороны, — проговорил Генарр. — Помимо того, что Питт может сделать открыто, он прекрасно умеет действовать чужими руками. Эугения, жди беды, если страх перед Эритро заставит тебя забыть об изобретательности и решительности Питта. Начнем с того, что, если ты возвратишься на Ротор вопреки его закону о чрезвычайном положении, он может либо засадить тебя в тюрьму, либо сослать на Новый Ротор, либо просто вернуть назад. Ну а если вы останетесь на Эритро, я, конечно, не стану преуменьшать опасность — лихоманка вещь неприятная, даже если её вирулентная форма уже исчезла. Эугения, я так же, как ты, не желаю подвергать Марлену риску.
— Да нет же никакого риска’. — возбуждённо прошептала Марлена.
— Сивер, наверное, нет необходимости разговаривать о Марлене в её присутствии.
— Ты ошибаешься. Я хочу поговорить именно при ней. Мне кажется, она лучше нас с тобой знает, что надо делать. Её рассудок принадлежит ей, она привыкла к себе самой, нам с тобой остаётся просто не вмешиваться.
Инсигна издала нечленораздельный звук, но Генарр непреклонно продолжал:
— Я хочу, чтобы она присутствовала, потому что хочу знать её мнение.
— Но ты ведь уже знаешь её мнение, — возразила Инсигна, — она хочет выйти из-под Купола, а ты заявляешь, что мы должны с этим смириться, будто она волшебница какая.
— Ни о волшебстве, ни о том, чтобы выйти, речи не было. Мне бы хотелось предложить вам один эксперимент — естественно, со всеми необходимыми предосторожностями.
— Какой же?
— Начнем с того, что я хотел бы провести сканирование мозга. — Он обернулся к Марлене: — Ты понимаешь, что это необходимо? У тебя есть возражения?
Марлена слегка нахмурилась.
— Я уже проходила сканирование. Все проходят. Без этого в школу не принимают. И при каждом медицинском обследовании…
— Знаю, — мягко перебил её Генарр. — Эти три дня я не бездельничал. Вот. — Рука его легла на стопку листов компьютерной бумаги в левом углу стола. — Вот результаты всех сканирований твоего мозга.
— Дядя Сивер, ты не всё сказал, — спокойно проговорила Марлена.
— Ага, — с удовлетворением проговорила Инсигна. — Что же он от нас скрывает, Марлена?
— Он беспокоится обо мне. Он не может полностью поверить, что мне ничего не грозит. Он испытывает неуверенность.
— Почему ты так решила, Марлена? — удивился Сивер. — По-моему, я вполне убеждён в твоей безопасности.
Словно вдруг о чём-то догадавшись, Марлена продолжила:
— Мне кажется, что вы протянули три дня именно поэтому. Вы пытались проникнуться уверенностью — чтобы я не заметила вашего беспокойства. Но у вас ничего не вышло. Я это вижу.
— Ну если это и заметно, Марлена, — ответил Сивер, — то лишь потому, что я дорожу тобой настолько, что не могу допустить даже малейшего риска.
— Если уж ты не можешь допустить малейшего риска, то каково мне — матери? — раздраженным тоном заметила Инсигна. — К тому же ты настолько не уверен, что запрашиваешь результаты сканирования, нарушая медицинскую тайну.
— Пришлось. Что ж поделаешь? Но этих результатов недостаточно.
— В каком смысле?
— Когда Купол ещё строился, а лихоманка свирепствовала вовсю, мы пытались разработать более совершенный сканер и точную программу интерпретации данных. На Роторе об этом так и не узнали. Питт отчаянно стремился скрыть лихоманку и поэтому противился проведению подобных работ на Роторе. Они могли бы возбудить ненужные вопросы, послужить причиной для возникновения слухов. На мой взгляд, это просто смешно, но у Питта ко всему свой подход. Вот почему тебе ещё не приходилось проходить настоящее сканирование, Марлена, и я хочу, чтобы ты прошла его здесь.
Марлена отодвинулась:
— Нет.
Лучик надежды озарил лицо Инсигны.
— Почему, Марлена?
— Потому что, когда дядя Сивер сказал это, он вдруг почувствовал ещё большую неуверенность.
— Нет, это же не… — произнес Генарр и умолк. Потом беспомощно всплеснул руками. — Ты хочешь знать, чем я обеспокоен? Марлена, дорогая, нам нужны результаты подробного сканирования твоего мозга в качестве образца здравого рассудка. И если, после того как ты выйдешь на поверхность Эритро, возникнут какие-то отклонения, повторное сканирование моментально выявит отличия, когда ещё никто не сможет этого заметить — ни по твоему внешнему виду, ни по разговору. Когда я заговорил о сканировании, мне представилось, что оно покажет отклонения, которые нельзя обнаружить другим способом, — и эта мысль вызвала тревогу. И ты её заметила. Ну, Марлена, как теперь моя неуверенность? Сильнее? Ты можешь это заметить?
— Стала меньше, но ещё осталась, — ответила Марлена. — Вся беда в том, что я замечаю лишь вашу нерешительность, а не причины её. А сканирование не опасно?
— С чего ты взяла? Мы же постоянно пользуемся… Марлена, тебе известно, что Эритро не причинит тебе вреда. А почему ты считаешь, что сканирование мозга окажется небезопасным?
— Я это чувствую.
— А чем оно может повредить тебе?
Марлена помолчала и нерешительно ответила:
— Не знаю.
— Как же это получается: в Эритро ты уверена, а тут не знаешь?
— Не знаю. Я знаю, что Эритро не причинит мне вреда, но в результатах воздействия сканера не уверена: может быть, да, а может — нет.
На лице Генарра появилась улыбка. Он испытывал облегчение. На сей раз, чтобы заметить это, не нужно было обладать особой проницательностью.
— Почему вы так обрадовались, дядя Сивер? — спросила Марлена.
— Потому что, если бы ты придумывала себе интуицию — из желания казаться значительной, для романтичности или просто по непониманию, — ты бы прибегала к ней постоянно. Но ты поступаешь иначе. Выбираешь и отклоняешь. Что-то знаешь, а о чём-то представления не имеешь. Это лишь укрепляет мою уверенность в том, что, как ты уверяешь, Эритро тебе не страшна, и я теперь не опасаюсь, что сканирование обнаружит что-нибудь неладное.
Марлена повернулась к матери:
— Он прав, мама. Он успокоился, и я тоже. Всё ясно. Разве ты этого не видишь?
— Неважно, что я вижу, — ответила Инсигна. — Только пока мне не стало спокойней.
— Ах, мама… — пробормотала Марлена. И громко сказала Генарру: — Я согласна на сканирование.
* * *
— Неудивительно, — бормотал Сивер Генарр.
Он рассматривал компьютерные графики. Они появлялись на экране один за другим и были похожи на цветы. Эугения тоже вглядывалась в экран, однако ничего не понимала.
— Что «неудивительно», Сивер?
— Не могу тебе объяснить, поскольку не совсем владею терминологией. Вот будь здесь Рене Д’Обиссон, здешняя гуру, она бы живо всё растолковала — но ни ты, ни я ничего не поняли бы. Она показала мне вот это.
— Похоже на улитку.
— Да, разноцветная такая. Она характеризует скорее сложность мозга, а не его физические параметры, так утверждает Рене. Весьма необычная область. У обыкновенного человека её нет.
Губы Инсигны дрогнули.
— Ты хочешь сказать, что она уже больна?
— Да нет же. Я сказал — необычная, а не ненормальная. Впрочем, я не должен объяснять это наблюдателю-непрофессионалу. Согласись, что Марлена — существо, не похожее на всех нас. Пожалуй, я даже рад, что здесь обнаружилась эта «улитка». Если бы её мозг ничем не отличался от нашего, оставалось бы только гадать, почему она такая, откуда берётся подобная восприимчивость. Можно было бы даже заподозрить, что она дурачит нас.
— Но откуда ты знаешь, что это не признак… не признак…
— Болезни? Этого не может быть. У нас есть результаты всех сканирований её мозга, начиная с детства. И эта особенность везде.
— А мне об этом не говорили. Никто даже не заикнулся.
— Конечно. Ваши примитивные сканеры и не могли ничего показать — да так, чтобы в глаза бросалось. Но теперь, имея последние снимки, на которых эта деталь представлена во всей красе, мы можем обратиться к предшествующим и всё выяснить. Рене уже всё сделала. Наш метод сканирования мог бы стать для Ротора привычным, если бы не Питт. Но он просчитался. Конечно, такое психосканирование обходится дороже.
— Я заплачу, — пробормотала Инсигна.
— Не глупи. Я отнесу расходы на счёт Купола. В конце концов, быть может, Марлена поможет разгадать загадку лихоманки. Во всяком случае, я на это сошлюсь, если возникнут вопросы. Ну вот. Теперь мы получили более полную информацию о мозге Марлены. И если есть какие-либо аномалии, они немедленно обнаружатся на экране.
— Ты не представляешь себе, как я боюсь, — проговорила Инсигна.
— Не могу тебя в этом упрекнуть. Но Марлена настолько уверена в себе, что я просто не могу не подчиниться ей. Не сомневаюсь, что подобная убеждённость в собственной безопасности имеет под собой основу.
— Какую?
Генарр указал на «улитку».
— У тебя её нет, у меня тоже, — и никто из нас не знает, откуда она берёт уверенность в своей безопасности. Но раз она уверена — пусть выходит.
— Зачем нам рисковать? Можешь ты наконец объяснить, зачем нам этот риск?
— Причины две. Во-первых, её настойчивость — я считаю, что рано или поздно она всё равно добьётся своего. И тогда нам останется только сделать весёлые лица и выпустить её — всё равно ты её не удержишь. Во-вторых, не исключено, что таким образом мы сумеем узнать что-нибудь о лихоманке. Что именно — не представляю, но и любые знания о ней могут оказаться бесценными.
— Не дороже рассудка моей дочери.
— До этого не дойдёт. Но всё же, хоть я и полагаюсь на Марлену и не вижу особого риска, всё-таки постараюсь ради тебя свести его к минимуму. Для начала мы не сразу выпустим её на поверхность планеты. Я могу показать ей Эритро с воздуха. Пусть увидит озера, равнины, холмы, ущелья. Можно даже слетать подальше — к морю. Потрясающее зрелище — я сам видел однажды, — но никаких следов жизни. Ни единого живого существа — одни прокариоты в своей воде, но их глазом не увидишь. Не исключено, что эта безжизненная планета покажется ей непривлекательной и до выхода на поверхность дело не дойдёт. Ну а если она будет настаивать, если захочет ощутить под ногами почву Эритро, пусть выходит в э-комбинезоне.
— Что это за штука?
— Это эритрийский костюм. Несложная вещь — нечто вроде космического скафандра, только атмосферного, не для вакуума. Представляет собой непроницаемую оболочку из ткани и пластика — очень легкую, не мешающую движениям. Шлем с инфракрасными фильтрами будет потяжелее: в нём запас воздуха и система вентиляции. Всё сделано для того, чтобы в э-комбинезоне человек не подвергался воздействию атмосферы Эритро. Ну а кроме того, она будет не одна.
— Кто же пойдёт с ней? Кроме меня, некому. Я её ни с кем не отпущу.
Генарр улыбнулся.
— Не могу представить себе менее подходящего спутника для Марлены. Мало того, что ты ничего не знаешь об Эритро, так ещё и боишься её. Вот тебя-то мне выпускать страшно. Видишь ли, единственная персона, которой мы можем довериться, это я.
— Ты? — Инсигна открыла рот и уставилась на Сивера.
— А почему бы и нет? Никто не знает Эритро лучше меня. И если мы считаем, что у Марлены может быть иммунитет к лихоманке, — то почему бы ему не оказаться и у меня? ещё я умею водить самолёт — значит, пилот нам не потребуется. К тому же я буду рядом с Марленой и смогу приглядеть за нею. И как только она сделает что-нибудь не так — что-нибудь несуразное, — немедленно летим назад, к сканеру.
— Знаешь, можно и опоздать.
— Нет, не обязательно. Не думай, что лихоманка одинакова: всё или ничего. Были и легкие случаи, даже очень легкие: такие люди продолжают вести нормальную жизнь. Ничего не случится. Я уверен.
Инсигна, молча сидевшая в кресле, вдруг стала маленькой и беззащитной.
Повинуясь порыву, Генарр обнял её.
— Эугения, на недельку обо всём можно забыть. Обещаю тебе, что раньше чем через неделю она не запросится на поверхность — а пока покажу ей планету с воздуха. Летать в самолёте — всё равно что сидеть здесь. Ну а пока я хочу тебе кое-что показать… Ты ведь астроном, не так ли?
Она посмотрела на него отсутствующим взглядом и проговорила:
— Ты это знаешь.
— Значит, ты никогда не смотришь на звёзды. Астрономы никогда этого не делают. Они работают только с приборами. Сейчас над Куполом ночь, можно выйти на обзорную палубу и посмотреть. Небо сегодня абсолютно ясное. Ничто так не успокаивает, как вид звездного неба. Пошли.
* * *
Генарр был прав. Астрономы не видели звезд своими глазами. Не было необходимости. Они давали инструкции компьютерам, а те командовали телескопами, камерами, спектроскопами.
Приборы делали всю работу, анализировали, изображали. Астроном задавал вопросы, а потом изучал ответы. Для этого не обязательно видеть звёзды.
Но зачем праздно разглядывать звездное небо? Вид его мог только вывести астронома из равновесия, напоминая о работе, которую ещё предстоит сделать, о вопросах, которые необходимо решить, о тайнах, которые предстоит раскрыть. Значит, потом придётся бежать в обсерваторию, включать приборы, а после, чтобы скоротать время, листать какую-нибудь книгу или смотреть голоспектакль.
Всё это она выкладывала Генарру, пока тот, прежде чем уйти, наводил порядок в кабинете. Педант, аккуратист — в юности это раздражало Инсигну, а, наверное, следовало бы восхищаться. У Сивера было так много достоинств, что Крайл…
Ухватив за шиворот череду собственных мыслей, она направила их в другую сторону.
— Видишь ли, я и сам нечасто бываю на обзорной палубе, — сказал Генарр. — Всё дела, дела. Ну а когда наконец выбираюсь, всегда оказываюсь там в одиночестве. Хорошо, когда кто-то может составить тебе компанию. Пошли!
Он подвел её к небольшому лифту. Инсигна ещё не видела лифтов в Куполе и на миг почувствовала себя как дома, на Роторе. Правда, здесь тяготение было постоянным.
— Вот мы и пришли, — сказал Генарр.
Инсигна с любопытством шагнула в пустынный зал и тут же отпрянула.
— Мы под открытым небом? — спросила она.
— Под открытым небом? — удивился Генарр. — А ты боишься оказаться в атмосфере Эритро? Нет-нет. Не бойся. Над нами полусфера из алмазного стекла. Поверхность его даже не поцарапать. Конечно, солидный метеорит мог бы разбить его, но в небе Эритро таких практически нет. Такие стекла используются и на Роторе, ты знаешь, но там, — в его голосе послышалась гордость, — и качество ниже, и размеры не те.
— Ну вы тут и роскошествуете! — восхитилась Инсигна, прикасаясь к стеклу, чтобы убедиться в его существовании.
— Приходится — иначе людей сюда не заманишь. — Он вновь обернулся к прозрачному пузырю. — Конечно, временами идут дожди. А когда небо проясняется, стекло быстро просыхает. Пыль смывается днём специальным детергентом. Присядь, Эугения.
Спинка мягкого и уютного кресла немедленно откинулась назад, едва Эугения села. Рядом тихо вздохнуло под тяжестью Генарра второе кресло. Сразу погасли крохотные светильники на других креслах и столиках. И на распахнувшемся сверху чёрном бархате сверкнули искры.
Эугения охнула. В принципе, она знала, что представляет собой звездное небо — по картам и схемам, моделям и фотографиям, — и знала во всех подробностях, но ни разу не видела своими глазами. Она обнаружила, что не ищет в нём интересные объекты, головоломные загадки, тайны, над которыми было бы интересно поработать. Она не пыталась разглядеть звёзды, а любовалась узорами, в которые они складывались.
Давным-давно, думала она, когда люди вот так же рассматривали созвездия, и появилась астрономия.
Генарр был прав. Покой легкой, невесомой паутинкой окутал её душу.
— Спасибо тебе, Генарр, — каким-то сонным голосом произнесла Эугения.
— За что?
— За то, что ты вызвался сопровождать Марлену. За то, что рискуешь собой ради моей дочери.
— Я ничем не рискую. С нами ничего не случится. К тому же я испытываю к ней отцовские чувства. В конце концов, Эугения, мы с тобой давно знаем друг друга, и я к тебе очень хорошо отношусь.
— Знаю, — почему-то чувствуя себя виноватой, ответила Инсигна.
Она знала про чувства Сивера — тот никогда не умел их скрывать. Поначалу Эугения хотела покориться, но вскоре она встретилась с Крайлом и любовь Сивера стала её раздражать.
— Прости меня, Сивер, если я когда-то чем-нибудь задела твои чувства, — сказала она.
— Ничего, — тихо ответил Генарр, и вновь воцарилась тишина.
Инсигне захотелось, чтобы никто не вошёл и не нарушил это странное ощущение ясности. Наконец Генарр заговорил:
— Я знаю, почему люди не ходят на обзорную палубу ни здесь, ни на Роторе. Ты замечала, что там никогда никого не бывает?
— Марлена любит ходить туда, — ответила Инсигна. — Она говорила, что палуба почти всегда безлюдна. Целый год она разглядывала оттуда Эритро. Надо было мне повнимательнее отнестись к ней…
— Марлена не такая, как все. По-моему, люди не ходят сюда вот из-за чего.
— Из-за чего же?
— Смотри сюда. — Генарр показал куда-то в небо, но в темноте Инсигна не увидела его руки. — Видишь яркую звезду? Самую яркую на всем небе?
— Ты имеешь в виду Солнце, наше Солнце, центр Солнечной системы?
— Вот именно. Если бы не эта звезда, небо Немезиды было бы таким же, как земное. Ну, правда, альфа Центавра не совсем на месте, и Сириус чуть сдвинулся, но это мелочи. В целом точно такое же небо видели шумеры пять тысяч лет назад. Только Солнце выглядело иначе.
— И ты думаешь, что люди не ходят на палубу из-за Солнца?
— Да. Наверное, вид его вселяет в сердце тоску. Отсюда Солнце кажется далеким, недостижимым — словно находится в какой-то далекой Вселенной. Вот оно, яркое, зовущее, напоминающее беглецам об их вине перед ним.
— Почему же тогда сюда не ходят подростки и дети? Ведь они мало знают о Солнце и Солнечной системе.
— Наверное, следуют примеру старших. Вот когда все мы покинем этот мир, когда на Роторе не останется тех, для кого Солнечная система не просто два слова, — небо, думаю, вернется на Ротор, и здесь тоже будет полно народу. Если, конечно, к тому времени Купол не перестроят.
— Ты думаешь, могут перестроить?
— Как знать, Эугения, как знать?
— Но пока мы процветаем.
— Да. Верно. Но эта яркая звезда, эта знакомая незнакомка тревожит меня.
— Старое доброе Солнце… Что оно может сделать? Сюда ему не дотянуться.
— Дотянется. — Генарр не отводил глаз от яркой звезды на западе. — Люди, оставшиеся в поселениях и на Земле, непременно найдут Немезиду. Возможно, уже нашли. И не исключено, что заново изобрели гиперпривод. Может быть, вскоре после того, как мы улетели. Это событие не могло не подхлестнуть их.
— Это было четырнадцать лет назад. Почему их ещё нет здесь?
— Быть может, они побоялись двухлетнего полёта. Им известно, что Ротор рискнул, но не ясно, преуспел ли он в своем намерении. Может, они думают, что наши останки рассеялись между Солнцем и Немезидой.
— Да, в отсутствии смелости нас не упрекнуть.
— Конечно. Как ты думаешь, предпринял бы Ротор эту попытку, если б не Питт? Ведь он и увлек всех за собой. Сомневаюсь, что в других поселениях найдётся хоть один такой Питт… и на Земле тоже. Ты знаешь — я не люблю Питта. Я не одобряю его методы, его мораль — точнее, её отсутствие, — неискренность, хладнокровие, с которым он послал Марлену на верную, как он полагал, погибель. Но если судить по одним результатам его деятельности, он может войти в историю как великий человек.
— Как великий вождь, — проговорила Инсигна, — а великий человек — это ты, Сивер. Разница очевидна.
Сивер надолго замолчал.
— Я жду тех, кто последует за нами. Всякий раз, когда я смотрю на эту яркую звезду, я опасаюсь всё сильнее. Четырнадцать лет назад мы оставили Солнечную систему. Что-то они делали всё это время? Ты об этом не размышляла, Эугения?
— Некогда было, — сквозь дремоту отозвалась Инсигна. — Меня беспокоят более прозаические дела.
Глава 22
АСТЕРОИД
22 августа 2235 года! Эту дату Крайл Фишер помнил хорошо. День рождения Тессы Уэндел. Точнее — пятьдесят третий день рождения. Она помалкивала об этом: отчасти потому, что ещё на Аделии привыкла гордиться тем, что молодо выглядит; отчасти потому, что не забывала: Фишер на пять лет моложе её. Но разница в возрасте не беспокоила Фишера. Даже если бы интеллект и сексуальная энергия Тессы не привлекали его, ключ к Ротору был в её руках, и он помнил об этом.
Несмотря на то что вокруг глаз у неё появились морщинки и кожа рук немного увяла, сегодняшний день стал для неё днём триумфа. Влетев в апартаменты, которые с каждым годом становились всё шикарнее, она плюхнулась в низкое мягкое кресло и удовлетворенно улыбнулась.
— Все прошло как по маслу. Великолепно!
— Жаль, что меня там не было, — отозвался Крайл.
— Мне тоже, но мы решили не допускать посторонних, к тому же ты и так знаешь больше, чем положено.
Целью была Гипермнестра, ничем не примечательный астероид, который в необходимый момент оказался вдалеке от других астероидов и, что ещё важнее, вдалеке от Юпитера. Кроме того, на этот астероид не претендовало ни одно из поселений, ничей корабль ни разу не посетил его. И наконец — каким бы тривиальным это ни показалось — два первых слога его названия словно символизировали цель первого сверхсветового полёта.
— Значит, ты привела корабль точно туда.
— В пределах десяти тысяч километров. Мы могли бы подвести его поближе, но решили не рисковать — всё-таки там уже ощущается гравитационное поле, хотя это всего лишь астероид. А потом мы вернули корабль в заранее намеченную точку. И за ним тотчас увязались какие-то два корабля.
— Думаешь, что поселения навострили уши?
— Несомненно. Но одно дело — заметить мгновенное исчезновение корабля, а другое — определить, куда он направился. Да с какой скоростью летел — околосветовой или во много раз большей, — а уж тем более понять, как это было достигнуто.
— Вблизи Гипермнестры у них, кажется, нет кораблей?
— Они не могли узнать пункт назначения — разве что кто-нибудь из наших проболтался, но такое едва ли возможно. Но даже если бы они узнали, куда летел сверхсветовик, или догадались об этом — что из того? В общем, Крайл, всё прошло превосходно.
— Конечно, это гигантское достижение.
— А сколько ещё предстоит сделать! Ведь это только первый корабль, способный нести человека со сверхсветовой скоростью, но пока, как ты знаешь, его экипаж — если это слово уместно — состоял только из одного робота.
— Он не сломался?
— Нет. Но это неважно. Ведь мы доказали, что можем перемещать в пространстве со сверхсветовой скоростью значительную массу — макроскопический объект, не нарушив его целостности при этом. Теперь несколько недель уйдёт на разного рода проверки, чтобы убедиться в отсутствии серьёзных повреждений. И, конечно же, перед нами остаётся прежняя задача — сооружение большого корабля. Необходимо наладить работу систем жизнеобеспечения, предусмотреть различные меры безопасности. Робот способен выдержать такие нагрузки, которые человек не перенесет.
— Работа идёт в соответствии с графиком?
— Пока. Ещё годик-полтора, и — если не случится ничего непредвиденного — мы сможем своим появлением изумить роториан, если они ещё живы.
Фишер вздрогнул, и Уэндел виновато сказала:
— Извини, я всё время запрещаю себе говорить подобные вещи, но иногда забываюсь.
— Ничего, — ответил Фишер. — А уже решено, что я полечу на Ротор первым же рейсом?
— Если что-то и решено, до осуществления полёта всё равно пройдёт год или более. Заранее ничего предусмотреть не удаётся.
— А пока?
— Танаяма оставил записку, где говорится, что тебе это было обещано. Я даже и подумать не могла, что он так великодушен. Коропатский проявил любезность и сегодня рассказал мне об этой записке после успешного завершения полёта, а я сочла необходимым сообщить тебе.
— Хорошо! Танаяма обещал мне на словах. Я рад, что он и записал своё обещание.
— А ты не хочешь рассказать мне, почему он это сделал? Танаяма всегда казался мне человеком, не склонным обещать что-то просто так.
— Ты права. Он пообещал мне это путешествие, если я привезу тебя на Землю для работы над сверхсветовым звездолётом. И если я скажу, что прекрасно справился с заданием, по-моему, ты не станешь возражать.
Уэндел фыркнула.
— Сомневаюсь, что ваше руководство можно было растрогать эмоциями. Коропатский сказал мне, что не считал бы себя обязанным выполнять обещание Танаямы, но ты несколько лет прожил на Роторе и приобрел там определённые знания, которые могут оказаться полезными. Я могла бы возразить, что твои знания за тринадцать лет порядком забылись, но промолчала, потому что после испытаний была в прекрасном расположении духа и решила, что люблю тебя.
Фишер улыбнулся.
— Тесса, ты меня успокаиваешь. Надеюсь, и ты полетишь со мной. Ты уже уладила этот вопрос?
Откинув назад голову, словно хотела лучше видеть Фишера, Уэндел проговорила:
— С этим, мой мальчик, будет труднее. Тебя-то они охотно подвергнут опасности, а вот меня им поначалу было жалко. Мне сказали: «Кто будет руководить работами, если с вами что-нибудь случится?» Я ответила: «Любой из двадцати моих подчиненных, знающих физику сверхсветового полёта не хуже, чем я, но обладающих более молодым и гибким умом». Соврала, конечно, — ведь мне нет равных, — но моё заявление произвело впечатление.
— А знаешь, в их словах что-то есть. Нужен ли тебе этот риск?
— Да, — ответила Уэндел. — Во-первых, я имею почетное право занять должность капитана первого сверхсветового корабля. Во-вторых, мне хочется повидать другую звезду, повозмущаться, что роториане сумели первыми к ней добраться, если… — Она запнулась. — И наконец — и это самое важное, — я просто хочу убраться с Земли. — Последние слова она произнесла смущенно.
Потом, уже лежа с Фишером в постели, Уэндел сказала:
— Когда наконец всё кончится и мы улетим, как чудесно это будет.
Фишер не ответил. Он думал о девочке со странными огромными глазами и своей сестре… Они слились в единый образ, и дремота охватила его.
Глава 23
ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Долгие полёты в атмосфере планеты не пользовались популярностью среди поселенцев. Космические городки были маленькими: лифтов, своих двоих и — изредка — электрокара хватало вполне. А из поселения в поселение летали на ракетах.
Многим поселенцам — по крайней мере дома, в Солнечной системе, — в космосе приходилось бывать так часто, что летать для них сделалось так же привычно, как ходить. Но мало кто из поселенцев бывал на Земле, единственном месте, где летали на самолётах.
Поселенцы, чувствовавшие себя в космической пустоте как дома, ощущали дикий ужас, заслышав свист воздуха за стенкой летательного аппарата, лишенного наземной опоры.
Оказалось, что и на Эритро без воздушного транспорта обойтись немыслимо. Огромная, как Земля, планета обладала такой же плотной, пригодной для дыхания атмосферой.
На Роторе держали книги по воздухоплаванию и жили земляне-эмигранты, знавшие толк в авиации.
В результате у Купола появились два самолёта, несколько неуклюжие и примитивные, не способные к высоким скоростям и не обладавшие большой маневренностью, однако вполне пригодные для использования. Невежество роториан в технике воздушного полёта сослужило им хорошую службу. Самолёты Купола оказались лучше компьютеризованными, чем их земные собратья. Сиверу Генарру они представлялись скорее сложными роботами в виде самолётов. Погода на Эритро была куда мягче, чем на Земле, возможно, потому, что тусклая Немезида не способна была возбудить в атмосфере мощные бури, и самолёт-робот в полёте почти не сталкивался с неожиданностями.
Таким образом, на скверных и несовершенных самолётиках Купола летать мог практически всякий. Нужно было только сообщить самолёту, что от него требуется, и всё исполнялось. Если сообщение оказывалось неконкретным или управлявший самолётом электронный мозг усматривал какие-либо опасности, робот запрашивал дополнительные пояснения.
За тем, как Марлена карабкалась в кабину самолёта, Генарр следил с беспокойством, но без страха, как Эугения, которая, закусив губу, стояла вдалеке. («И не смей подходить близко, — строгим тоном велел он Инсигне, — особенно если собираешься глядеть на неё так, словно провожаешь на смерть. Девочка испугается».)
Но Инсигне казалось, что у неё есть основания для паники. Марлена не помнила тот мир, где полёты на самолётах были делом обыденным. Перелет в ракете до Эритро она перенесла спокойно, а вот как отнесется к ещё не изведанному ощущению полёта по воздуху…
Но Марлена уже поднялась в кабину и уселась с безмятежным выражением на лице.
Или она не поняла ещё, что её ждет?
— Марлена, золотко, ты понимаешь, что сейчас будет? — спросил Генарр.
— Да, дядя Сивер, вы покажете мне Эритро.
— С воздуха, ты не забыла? Мы сейчас полетим по воздуху.
— Да, вы мне это уже сказали.
— И тебе не страшно?
— Мне-то нет, дядя Сивер, а вот вам…
— Я боюсь только за тебя, моя хорошая.
— Со мной всё будет в порядке. — Она обернулась к поднявшемуся в кабину Генарру. Когда тот занял своё место, Марлена проговорила: — Я понимаю, что мама волнуется, но вы беспокоитесь больше. Правда, вы ухитряетесь меньше обнаруживать это, но если бы вы только увидели, как облизываете губы, то смутились бы. Я вижу, вы полагаете, что, если что-то случится плохое, вина ляжет на вас. Эта мысль не даёт вам покоя. Повторяю — ничего не случится.
— Ты уверена, Марлена?
— Абсолютно. На Эритро мне ничего не может причинить вред.
— Ты говорила это о лихоманке, но сейчас речь о другом.
— Неважно, о чём мы говорили. На Эритро мне ничто не может повредить.
Генарр недоверчиво качнул головой и тут же пожалел об этом, понимая, что все его чувства видны, как на экране компьютера, выведенные крупными буквами. Но ничего не поделаешь — ведь он не из бронзы, и, как ни старайся, она всё равно догадается.
— Сейчас перейдём в воздушный шлюз и побудем гам, чтобы проверить реакции электронного мозга. Потом войдём опять, и самолёт взлетит. Ты почувствуешь, как увеличивается скорость, тебя прижмет к спинке сиденья. Потом мы окажемся в воздухе. Надеюсь, ты понимаешь это?
— Я не боюсь, — спокойно ответила Марлена.
* * *
Самолёт ровным курсом летел над холмистой поверхностью пустыни. Генарр знал, что геологическая жизнь планеты продолжается: проведенные исследования обнаружили, что в истории её были периоды горообразования. Горы до сих пор высились в цисмеганском — обращенном к Мегасу — полушарии, над которым неподвижно висел диск Мегаса.
Но здесь, на трансмеганской стороне, два больших континента были покрыты равнинами и холмами.
Марлена никогда не видела гор, и даже эти холмы произвели на неё впечатление.
С высоты, на которой они летели, реки Эритро ничем не отличались от роторианских ручейков.
Генарр подумал: вот Марлена удивится, когда увидит их поближе.
Марлена с любопытством поглядывала на Немезиду, которая как раз миновала полуденный меридиан и уже начинала клониться к западу.
— Она не двигается, дядюшка Сивер? — спросила девочка.
— Двигается, — ответил Генарр. — То есть это Эритро вращается вокруг Немезиды, но она совершает в день только один оборот, тогда как Ротору на это требуется две минуты. Если смотреть с Эритро, Немезида движется в семьсот раз медленнее, чем нам кажется на Роторе. Она как будто стоит на месте — но на самом деле это не так. — Бросив взгляд на Немезиду, он произнес: — Тебе не приходилось видеть земное Солнце, светило Солнечной системы. Ну а если и видела, то забыла — тогда ты была ещё совсем крохой. С орбиты Ротора в Солнечной системе Солнце казалось гораздо меньшим.
— Меньшим? — удивилась Марлена. — Ведь компьютер говорит, что Немезида намного меньше Солнца.
— Это так, но к Немезиде Ротор подошёл гораздо ближе, чем в своё время к Солнцу. Поэтому Немезида нам и кажется больше.
— От нас до Немезиды четыре миллиона километров, да?
— А до Солнца — целых сто пятьдесят миллионов. Если бы Ротор находился на таком же расстоянии от Немезиды, мы бы получали всего процент того света и тепла, что получаем здесь. Но если бы мы приблизились к Солнцу так же, как к Немезиде, то превратились бы в пар. Солнце больше, ярче и горячее, чем Немезида.
Марлена не взглянула на Генарра — должно быть, ограничилась интонациями его голоса.
— Судя по вашим словам, дядя Сивер, вам бы хотелось оказаться опять возле Солнца?
— Я там родился и порой тоскую по дому.
— Но если Солнце такое яркое и горячее, то оно, наверное, опасно?
— Мы не смотрели на него. Между прочим, и на Немезиду не следует смотреть долго. Отвернись-ка лучше, дорогуша.
Однако сам Генарр украдкой взглянул в сторону Немезиды. Красный громадный диск её висел на западе… четыре угловых градуса, в восемь раз больше, чем Солнце, если смотреть с прежней орбиты Ротора. Этакий тусклый круг света — но Генарр знал, что изредка он вспыхивал, и тогда на ровной поверхности появлялось раскаленное пятно, на которое больно было смотреть. Менее яркие пятна появлялись чаще, но их было труднее заметить.
Он что-то приказал самолёту, и тот немедленно повернул так, чтобы Немезида была сбоку и люди не могли смотреть на неё в упор.
Марлена задумчиво посмотрела на Немезиду, потом вновь стала рассматривать просторы Эритро, проплывавшие внизу.
— А знаете, постепенно привыкаешь к этому цвету, и он уже не кажется таким кроваво-красным, — сказала она.
Генарр и сам это заметил. Глаза его начали улавливать оттенки и тени, мир внизу становился не таким одноцветным. Реки и небольшие озера были темнее суши. Небо казалось чёрным: атмосфера Эритро почти не рассеивала свет Немезиды.
Самой унылой особенностью ландшафта Эритро была его нагота и пустынность. На крохотном Роторе зеленели и желтели поля, пестрели фруктовые сады, галдели птицы — всё было полно цветов и звуков.
Здесь же царило безжизненное молчание.
Марлена нахмурилась.
— А на Эритро есть жизнь, дядя Сивер?
Генарр не понял, утверждает ли Марлена, задаёт вопрос или читает его мысли.
— Конечно, — отозвался он. — Жизнь здесь повсюду. И не только в воде. Некоторые прокариоты обитают в водяной пленке, которая покрывает частицы почвы.
Вскоре на горизонте показался край моря — сначала чёрная линия, потом полоска, — воздушный кораблик приближался к нему.
Генарр искоса наблюдал за Марленой. Конечно, она читала об океанах Земли и видела их по головизору, но к этому зрелищу всё равно невозможно подготовиться. Генарр однажды (однажды!) посетил Землю как турист и видел океан. Но ему не приходилось бывать в открытом море, и теперь он не был уверен в себе.
И вот берег откатился назад, суша превратилась в тонкую линию и наконец исчезла. Генарр смотрел вниз, ощущая в желудке комок. Ему вспомнились слова из древней эпической поэмы: «Море цвета тёмного вина». Внизу катились валы, цветом напоминавшие красное вино, то тут, то там розовели пенные гребни.
В бескрайнем водном просторе внизу не было ничего, на чем мог бы остановиться взгляд. Суша исчезла. Кануло неизвестно куда и ощущение направления. Конечно, Генарр знал, что стоит лишь приказать, и самолёт немедленно повернет обратно. Бортовой компьютер следил за скоростью и направлением, определял положение самолёта и прекрасно знал, где находится суша и далекий уже Купол.
Они вошли в плотное облако, и океан внизу почернел. Повинуясь приказу, самолёт поднялся выше. Путешественники вновь увидели Немезиду, но океана больше не было. Внизу клубились розовые облака, клочья тумана пролетали мимо иллюминатора.
А потом облака поредели, и в разрывах вновь показалось «море цвета тёмного вина».
Марлена смотрела во все глаза, приоткрыв рот и едва дыша.
— Неужели всё это вода, дядя Сивер? — прошептала она.
— На тысячи километров во все стороны и на десять километров в глубину — кое-где.
— Значит, если туда упадешь — утонешь?
— Не думай об этом. Этот самолёт не может упасть в океан.
— Я знаю, — деловито сказала Марлена.
«Покажу-ка я ей ещё кое-что», — подумал Генарр.
Марлена нарушила ход его мыслей:
— А вы опять стали нервничать, дядя Сивер.
Генарр удивился, как быстро он успел привыкнуть к таким замечаниям.
— Ты ещё не видела Мегас, — сказал он, — и я думаю, не показать ли тебе его. Ты знаешь, что Эритро обращена к Мегасу одной стороной, а Купол построили на противоположной, где Мегас никогда не виден. Если мы полетим в эту сторону, то скоро начнется цисмеганское полушарие и мы увидим, как он встает над горизонтом.
— Мне бы хотелось посмотреть.
— Хорошо, посмотрим, только знай — Мегас огромен, в два раза больше Немезиды, и кажется, что он рушится на тебя. Некоторые не в силах вынести этого зрелища. Но он не упадет, конечно. Не сможет. Постарайся это запомнить.
И они полетели дальше, но уже на большей высоте и намного быстрее. Внизу дыбились те же океанские волны, кое-где по ним бежали тени облаков.
Наконец Генарр произнес:
— Посмотри вперёд, чуть вправо — видишь? — вон Мегас выглядывает из-за горизонта. Сейчас подлетим поближе.
Сперва было видно просто яркое пятнышко, постепенно оно превратилось в огромный пылающий полукруг, встававший из-за моря. Мегас оказался гораздо ярче Немезиды, оставшейся позади и уже заметно опустившейся к горизонту.
Когда Мегас поднялся повыше, стало заметно, что ярко освещено чуть больше половины его диска.
— Вот это и называется «фазой», дядя Сивер? — поинтересовалась Марлена.
— Совершенно верно. Эту часть Мегаса освещает Немезида. По мере движения Эритро вокруг Мегаса Немезида приближается к нему, и мы видим освещенной всё меньшую и меньшую часть планеты. Потом, когда Немезида проходит над или под Мегасом, мы уже видим тонкую полоску света на краю Мегаса — освещенного полушария нам просто не видно. Иногда Немезида проходит за Мегасом. В этом случае она вообще исчезает из поля зрения и на небе становятся видны сразу все звёзды, а не только самые яркие, которые заметны и при Немезиде. Во время затмения виден огромный тёмный диск, вокруг которого нет ни одной звезды, — это Мегас. Когда Немезида появляется с другой стороны, мы снова можем видеть узкую полоску света.
— Удивительно, — проговорила Марлена. — Просто целое представление в небе. Взгляните на Мегас — какие полосы. Они движутся!
Полосы пересекали освещенную поверхность диска — бурые, красновато-коричневые, местами оранжевые — и медленно шевелились.
— Это бури, — объяснил Генарр. — Там жуткие ветры. Если приглядеться внимательнее, можно заметить, как появляются пятна, как они растут, ползут по диску, тускнеют и исчезают.
— Как в головизоре, — подхватила Марлена. — Неужели никто не наблюдает это постоянно?
— Астрономы наблюдают. С помощью компьютеров, расположенных в этом полушарии. Я тоже наблюдал — из нашей обсерватории. Знаешь, в Солнечной системе есть похожая планета. Её зовут Юпитер. Она даже больше Мегаса.
Наконец гигантская планета заметно поднялась над горизонтом. Она была похожа на воздушный шар, приспущенный с одного бока.
— Как красиво! — воскликнула Марлена. — Вот построили бы Купол в этом полушарии, тогда каждый мог бы любоваться этим зрелищем.
— Ты ошибаешься, Марлена. Это не так. Люди не любят Мегас. Я уже говорил тебе: некоторым начинает казаться, что Мегас рушится на них, они боятся его.
— Такие дурацкие мысли могут прийти в голову не многим, — раздраженно сказала Марлена.
— Верно, немногим, но дурацкие мысли заразительны: страхи распространяются, и тот, кто не испугался бы, впадает в панику, потому что испугался сосед. Ты никогда не замечала такого?
— Замечала, — печально отозвалась она, — если одному мальчику какая-то дуреха кажется хорошенькой, то и другим это начинает казаться. И они начинают соперничать… — Она смущенно умолкла.
— Вот чтобы избежать такой цепной реакции, мы и выстроили Купол в другом полушарии. Ну а другая причина — ведь Мегас всегда на небе, и проводить астрономические наблюдения в этом полушарии затруднительно. Но, я думаю, пора домой. Ты знаешь свою маму. Она, наверное, уже в панике.
— Надо связаться с ней и сказать, что всё в порядке.
— Нет необходимости. Самолёт постоянно посылает сигналы. Так что она в курсе, что с нами всё в порядке… физически. А беспокоит её вот что… — Он многозначительно постучал себя по виску.
Марлена осела в кресле, и лицо её выразило крайнее неудовольствие.
— Какая мука! Знаю, каждый скажет: «Ведь она любит тебя», но это такая докука. Почему она не может поверить мне, что всё будет в порядке?
— Ведь она любит тебя, — ответил Генарр, как только закончил инструктировать самолёт относительно обратного пути. — Не меньше, чем ты любишь Эритро.
Лицо Марлены просветлело.
— Действительно, люблю.
— Да-да, это видно по тому, как ты относишься к этому миру.
«А вот как отнесется к этому Эугения Инсигна?» — подумал Генарр.
* * *
Она отнеслась к этому плохо. Она пришла в ярость.
— Что это вообще такое: «она любит Эритро»? Как можно любить безжизненный мир? Это ты забил ей голову таким вздором! Зачем тебе нужно, чтобы она любила Эритро?
— Эугения, будь умницей. Неужели ты считаешь, что Марлене чем-то можно забить голову? Разве ты сама не пыталась Оттоваривать её?
— Ну так что же случилось?
— Видишь ли, в полёте я всё время старался показать ей такое, что должно было отпугнуть её, заставить почувствовать неприязнь к Эритро. По собственному опыту я знаю, что выросшие в своем тесном мирке роториане ненавидят бесконечные просторы Эритро. Им не нравится этот свет, им не нравится кроваво-красная вода океана. Им не нравятся мрачные облака, но более всего они страшатся Мегаса. И всё прочее только угнетает и волнует их. Всё это я показал Марлене. Мы летели над океаном… далеко — так далеко, что увидели, как Мегас встает над горизонтом.
— Ну и?..
— Её ничто не испугало. Она сказала, что привыкла к красному свету и он перестал казаться ей ужасным. Океан не внушил ей страха, а Мегас даже заинтересовал.
— Не могу поверить.
— Придётся. Я не лгу.
Инсигна погрузилась в раздумье, потом нерешительно проговорила:
— Что, если она уже заразилась?
— Лихоманкой? Сразу по возвращении я отправил её на повторное сканирование. Окончательный результат ещё не готов, но предварительные данные свидетельствуют, что изменений нет. При лихоманке, даже легкой, рассудок немедленно испытывает заметные и весьма конкретные изменения. Так что Марлена здорова. Однако мне только что пришла в голову интересная мысль. Мы знаем, насколько впечатлительна Марлена, как умеет она замечать всякие подробности. Чувства людей словно перетекают к ней. А обратного ты не замечала? Чтобы ощущения переходили от неё к людям?
— Я не понимаю, что ты хочешь сказать.
— Она видит, когда я чувствую неуверенность или беспокойство, как бы ни пытался я скрыть это. Знает, когда я спокоен и ничего не опасаюсь. А может быть, она сама вызывает во мне неуверенность и легкую тревогу — или же наоборот — приводит в безмятежное настроение? её собственные чувства другим не передаются?
Инсигна не отводила от него глаз.
— Это просто безумная мысль, — недоверчиво ответила она.
— Возможно. Но ты не замечала такого у Марлены? Подумай.
— И думать нечего — никогда я не замечала ничего подобного.
— Значит — нет, — пробормотал Генарр. — Скорее всего, так. Впрочем… Она очень хочет, чтобы ты поменьше о ней беспокоилась, но не может этого сделать. Кстати, тебе не кажется, что на Эритро восприимчивость Марлены усилилась? А?
— Да, пожалуй.
— И не только. Здесь твоя дочь научилась предвидеть. Она знает, что обладает иммунитетом к лихоманке. Она уверена, что на Эритро ничто не причинит ей вреда. Она смотрела на океан и знала, что самолёт не упадет и не утонет. А на Роторе ты ничего не замечала? Разве не была она там неуверенной и робкой, как обычный подросток?
— Да. Конечно.
— А здесь она стала другой. Полностью уверенной в себе. Почему?
— Я не знаю.
— Не влияет ли на неё Эритро? Нет-нет, я имею в виду не лихоманку. Нет ли здесь какого-либо иного эффекта? Совершенно иного? Я скажу тебе, почему спрашиваю об этом. Я сам ощутил его.
— Ощутил… что?
— Какое-то доброе чувство к Эритро. Собственно, эта пустыня никогда меня не пугала. Не хочу сказать, что прежде планета меня отталкивала, что на Эритро мне было неуютно, но любить я её никогда не любил. А во время нашего путешествия вдруг почувствовал симпатию к планете, чего ни разу не чувствовал за все десять лет пребывания здесь. И я подумал: а что, если восхищение Марлены так заразительно, что, если она каким-то образом передаёт мне своё состояние? Или в её присутствии я так же, как она, ощущаю воздействие Эритро?
— Знаешь что, Сивер, — язвительно сказала Инсигна, — по-моему, тебе тоже следует пройти сканирование.
Тот удивленно поднял брови.
— А ты думаешь, что я не прохожу его? Мы здесь проверяемся периодически. Изменений нет, кроме тех, что вызваны старением.
— А ты проверялся после вашего воздушного путешествия?
— Ещё бы. Сразу же. Я не дурак. Окончательные результаты ещё не готовы, но, на первый взгляд, изменений нет.
— И что ты собираешься делать дальше?
— Следующий логический шаг: мы с Марленой выйдём из Купола на поверхность Эритро.
— Нет.
— Со всеми предосторожностями. Я там бывал.
— Иди, если хочешь, — упрямо сказала Инсигна, — но без Марлены. Я её не пущу.
Генарр вздохнул. Он повернулся вместе с креслом к окну и стал вглядываться в красную даль; затем снова посмотрел на Инсигну.
— Там, за стеной, огромный девственный мир, — заговорил он, — ничей мир — у него нет хозяев, кроме нас. Мы можем заселить его и освоить, помня уроки, полученные от собственного неумелого хозяйничанья на родной планете. Мы сделаем его добрым, чистым, достойным. А к здешнему красному свету привыкнем. Мы заполним его земными растениями и животными. Пусть процветают здесь суша и море, пусть начнется новый виток эволюции.
— А лихоманка? Как же она?
— Справимся с ней, и Эритро станет родной для нас.
— Что же, если не принимать во внимание тяготение, жару и некоторые химические составляющие в атмосфере, то и Мегас можно сделать своим домом…
— Эугения, согласись, что с болезнью справиться проще, чем с жарой, гравитацией и химическим составом атмосферы.
— Но ведь лихоманка по-своему смертельна.
— Эугения, я уже говорил тебе, что мы дорожим Марленой, как никем.
— И я ею дорожу.
— Потому что она тебе дочь. А нам она дорога потому, что может сделать то, на что способна только она.
— И что же она будет для вас делать? Читать ваши телодвижения? Фокусы показывать?
— Она убеждена, что обладает иммунитетом к лихоманке. Если это так, то она может научить нас…
— А если не так? Это же просто детская фантазия, ты сам знаешь. Почему ты пытаешься ухватиться за соломинку?
— Вот он вокруг, этот мир, и он мне нужен.
— Ну знаешь, ты прямо как Питт. И ради этого мира ты готов рисковать моей дочерью?
— В истории человечества, случалось, шли на куда больший риск ради менее важной цели.
— Тем хуже для истории. В любом случае решать мне: она моя дочь!
Глубоко опечаленный Генарр негромко сказал:
— Эугения, я люблю тебя и один раз уже потерял тебя. И вдруг вновь этот сон, мечта — ещё одна возможность добиться тебя. Но я боюсь, что опять потеряю тебя — уже навсегда. Видишь ли, я обязан сказать: решать не тебе. И не мне. Всё решит сама Марлена. А что она решит, то и сделает. И потому, что, быть может, она способна подарить человечеству целый мир, я намереваюсь помогать ей во всём — как бы ты ни возражала. Прошу тебя, примирись с этим, Эугения.
Глава 24
ДЕТЕКТОР
Крайл Фишер пораженно разглядывал «Сверхсветовой», который видел впервые. Рядом стояла Тесса Уэндел и улыбалась. Её лицо выражало законную родительскую гордость.
Корабль был спрятан в огромной пещере за тройным ограждением. Кое-где работали люди, но в основном здесь трудились механизмы — компьютеризованные негуманоидные роботы.
В своё время Фишеру довелось повидать множество космических кораблей — самые разнообразные модели широкого назначения, — но столь нелепого сооружения ему видеть не приходилось.
О том, что это космический корабль, не зная заранее, догадаться было невозможно. Что же сказать? С одной стороны, не стоит сердить попусту Тессу: стоя рядом, она ждала его заключения — естественно, похвалы, — но с другой…
И он негромко произнес:
— А в нём есть какое-то странное изящество… что-то от осы.
При словах «странное изящество» Тесса улыбнулась, и Фишер понял, что угадал слово. Но она вдруг спросила:
— Крайл, а что такое «оса»?
— Это насекомое, — пояснил Крайл. — Ах да, ведь у вас на Аделии нет насекомых…
— Есть, — возразила Уэндел, — только не в таком изобилии…
— Значит, у вас нет ос. Это такие кусачие насекомые, похожие на него… — Он показал на «Сверхсветовой». — У них тоже большая передняя часть, такая же задняя, и между ними тонкая перемычка.
— В самом деле? — Уэндел с новым интересом поглядела на «Сверхсветовой». — Найди-ка мне изображение осы. Насекомое может навести меня на какие-то идеи в отношении корабля — или корабль поможет разобраться в природе ос.
— Откуда же ты взяла эту форму, — спросил Фишер, — если никогда не видела осы?
— Пришлось подобрать геометрию, наилучшим образом обеспечивающую движение корабля как единого целого. Цилиндрическое гиперполе от корабля устремляется в бесконечность, и этого нельзя избежать. Но, с другой стороны, мы не можем исходить исключительно из этого факта. А потому эти выпуклые части изолируют его. Поле находится в корпусе, его создаёт и удерживает сильное переменное электромагнитное поле… Тебе не интересно?
— Не очень, — грустно улыбнулся Фишер. — Я уже достаточно обо всём наслышан. Но раз мне позволили наконец увидеть корабль…
— Не обижайся, — попросила Уэндел, обнимая его за плечи. — Приходилось ограничиваться теми, кто не мог не знать. Иногда, по-моему, я сама им мешала. А они небось судачили о подозрительной поселенке, которая любит повсюду совать длинный нос… Да если бы не я изобрела корабль, они бы выставили меня отсюда. Теперь требования секретности ослабли, и мне удалось тебя сюда привести. В конце концов, тебе придётся лететь, и я хотела, чтобы ты мог восхититься кораблем… — Она запнулась и нерешительно добавила: — И мной.
Фишер искоса посмотрел на неё.
— Знаешь, Тесса, чтобы восхищаться тобой, мне не нужно было приходить. — И он положил ей руку на плечо.
— Крайл, я старею, — пожаловалась Тесса, — и ничего тут не поделаешь. Как ни странно, ты устраиваешь меня. Мы пробыли вместе семь лет, пошёл уже восьмой, а мне и в голову не приходит, как прежде, интересоваться другими мужчинами.
— Это не повод для печали, — сказал Фишер. — Должно быть, ты просто слишком занята и устала. Но теперь корабль готов, и ты можешь снова взяться за охоту.
— Увы, нет желания. Нет, и всё тут. Ну а как твои дела? Я всё-таки иногда пренебрегаю тобой.
— Все в порядке. Я знаю: ты забываешь обо мне ради корабля, но это меня не беспокоит. Мне так же, как тебе, хочется полететь на нём, и я опасаюсь лишь, что, когда ты достроишь его, мы с тобой окажемся слишком стары, чтобы нам разрешили лететь. — Он вновь улыбнулся, на сей раз веселее. — Ты говоришь, что стареешь. Тесса, не забывай, и я уже не юноша. Ещё два года, и мне тоже стукнет пятьдесят. Кстати, у меня к тебе вопрос; боюсь, он тебя разочарует, однако я вынужден задать его.
— Давай.
— Ты привела меня в эту святая святых, чтобы я мог взглянуть на корабль. Не думаю, что Коропатский согласился бы на это, если бы работы не были близки к завершению. Как верный последователь Танаямы, он тоже помешан на секретности.
— Основные работы полностью закончены.
— И корабль уже летал?
— Нет ещё. Надо кое-что доделать, но это уже мелочи.
— Значит, теперь испытательные полёты?
— С экипажем на борту. Иначе мы не сможем убедиться в работоспособности систем жизнеобеспечения. Животные для этого не годятся.
— И кто же полетит первым?
— Добровольцы из числа наших сотрудников.
— А ты?
— Я доброволец, Крайл, — я должна лететь. Кому ещё я могу доверить принятие решений в критических ситуациях?
— Значит, и я полечу? — спросил Крайл.
— Нет.
Лицо Фишера потемнело от гнева.
— Мы же договорились.
— Но не об испытательных полётах.
— А когда они закончатся?
— Трудно сказать. Всё будет зависеть от результатов испытаний. Если всё сложится гладко, то хватит двух или трех полётов, на них уйдут какие-то месяцы.
— И когда же состоится первое испытание?
— Этого, Крайл, я не знаю. Работы над кораблем ещё не окончены.
— Но ты же только что говорила другое.
— Я говорила о гиперполе. Но сейчас мы устанавливаем нейродетекторы.
— Это ещё что такое? Ты об этом ничего не говорила.
Уэндел не ответила. Спокойно и внимательно оглядевшись, она проговорила:
— Знаешь, Крайл, похоже, мы привлекаем внимание. Я думаю, твоё присутствие здесь настораживает людей. Пойдём-ка домой.
Фишер не пошевелился.
— Выходит, ты не желаешь говорить со мной, хотя знаешь, как это для меня важно.
— Мы обо всём ещё переговорим. Дома.
* * *
Крайл Фишер был взбешен и не мог успокоиться. Он не захотел сесть и теперь стоял перед Тессой Уэндел, съежившейся на белой кушетке. Она взглянула на него и нахмурилась.
— Ну что ты сердишься, Крайл?
Губы Фишера дрожали. Он плотно сжал их и постарался успокоиться.
Наконец он сказал:
— Если звездолёт хоть раз уйдёт без меня, создастся прецедент. Потом меня уже не примут в экипаж. Неужели не ясно: я должен быть на корабле с самого начала и до тех пор, пока мы не доберёмся до Звезды-Соседки и не найдём Ротор. Я не хочу, чтобы меня оставили на Земле.
— Почему ты так решил? — удивилась Уэндел. — Когда придёт время, о тебе не забудут. А пока корабль ещё не совсем готов.
— Но ты же сказала, что он готов! — воскликнул Фишер. — И что это ещё за нейронные детекторы? Новый приём, чтобы заморочить мне голову? А корабль тем временем уйдёт без меня? Придумываешь бог знает что — даже возразить нечего!
— Крайл, ты сошёл с ума. Да, нейронный детектор — моя идея. — Уэндел не мигая воззрилась на него, дожидаясь реакции.
— Твоя идея? — взорвался он. — Но…
Она успокаивающим жестом протянула руку.
— Над этой штукой мы работаем с тех пор, как начали строить корабль. Я плохо в этом разбираюсь, и мне пришлось безжалостно гонять нейрофизиков, чтобы успеть вовремя. А знаешь почему? Только потому, что я хочу видеть тебя рядом с собой на корабле, когда он полетит к Звезде-Соседке. Ты понял?
Крайл покачал головой.
— А ты подумай. Давно бы уже догадался, если бы не бесился попусту. Всё очень просто. Этот прибор называется «нейронный детектор» и обнаруживает нервную деятельность на расстоянии. Высшую нервную деятельность. Короче говоря, присутствие разума.
Фишер уставился на Уэндел.
— Ты имеешь в виду штуковины, которые врачи применяют в больницах?
— Конечно. В медицине и психологии подобные приборы используются для ранней диагностики душевных расстройств. Но они действуют на расстоянии не более метра.
А у нас астрономические расстояния. Так что принципиально новым этот прибор не назовешь, просто мы колоссально увеличили его дальность действия. Крайл, если твоя Марлена жива, она наверняка на Роторе, который, скорее всего, кружит вокруг Звезды-Соседки. Я уже говорила тебе, что найти поселение в космосе не так-то просто. Мы можем случайно разминуться с Ротором, как с кораблем в океане или с астероидом в космосе. Как долго придётся искать — месяц или год, — чтобы убедиться в том, что Ротора там действительно нет?
— Значит, нейронный детектор…
— Нужен, чтобы обнаружить Ротор.
— А не возникнут ли при этом такие же сложно…
— Нет. Во Вселенной полным-полно излучений, радиоволн и тому подобного. Нам надо отыскать один источник среди тысячи, миллиона других. На это потребуется немало времени. Однако электромагнитное излучение, возникающее в мозгу во время функционирования нейронов, — вещь особенная. Нам придётся иметь дело лишь с одним источником — если Ротор не успел соорудить дочернее поселение. Вот и всё. Я хочу отыскать твою дочь не меньше, чем ты сам. А зачем мне эти хлопоты, если я не возьму тебя с собой? Ты обязательно полетишь.
Фишер казался побеждённым.
— И ты заставила разработчиков заниматься этим?
— Да, Крайл, кое-какая власть у меня есть. Но не такая большая, как хотелось бы. Знаешь, мне кое о чём не хотелось говорить с тобой у корабля.
— Да? И о чём же?
— Крайл, я думаю о тебе гораздо больше, — ласково ответила Уэндел. — Ты просто не представляешь, как я опасаюсь, что твои надежды окажутся обманутыми. А если у Звезды-Соседки мы ничего не найдём? Вообще ничего живого, тем более разумных существ. Просто вернёмся домой и доложим, что не обнаружили следов Ротора? Нет, Крайл, не падай духом. Я не хочу сказать, что, если возле Звезды-Соседки не обнаружится признаков разумной жизни, значит, Ротор погиб со всем населением.
— А что же?
— Что, если звезда надоела им и они решили отправиться дальше? Они могли побыть возле неё какое-то время, добыть из астероидов необходимые материалы, пополнить запасы топлива для микроатомных двигателей. А потом уйти.
— И как узнать, куда они делись?
— Они улетели с Земли много лет назад. С помощью гиперпривода они не могут передвигаться быстрее скорости света. Значит, до другой звезды не больше четырнадцати световых лет. Таких звезд совсем немного. И со сверхсветовой скоростью нетрудно облететь все. А нейродетекторы помогут нам быстро отыскать Ротор.
— А если они ещё в пути — тогда как их обнаружить?
— В этом случае мы бессильны. Но наши шансы всё равно высоки: ведь мы не будем болтаться возле одной звезды и пялиться в телескоп. За шесть месяцев с помощью нейродетектора мы обследуем дюжину звезд. Даже если мы их не найдём — а такой вариант не исключен, — мы вернёмся со сведениями о дюжине звезд, о солнцеподобном светиле, о тесной двойной системе и так далее. Больше одного путешествия к звездам нам с тобой совершить не удастся — так почему бы не потешить себя, не хлопнуть хорошенько дверью, открывающей нам путь в историю?
Крайл задумался.
— Наверное, ты права, Тесса. Плохо, конечно, если, обшарив дюжину звезд, мы никого не найдём. Но хуже, если мы проторчим у одной звезды и вернёмся, зная, что Ротор мог быть рядом, а нам не хватило времени его отыскать.
— Совершенно верно.
— Попытаюсь не забывать об этом, — грустно проговорил Крайл.
— Да, вот ещё что, — сказала Уэндел. — Нейронный детектор способен обнаружить и признаки существования интеллекта внеземного происхождения. Такую возможность нельзя не учитывать.
— Вряд ли такое случится, — засомневался Фишер.
— Маловероятно, но если нам повезёт, то этот шанс нельзя будет упустить. Тем более если разумная жизнь обнаружится меньше чем в четырнадцати световых годах от Земли. Во Вселенной не может быть ничего интереснее встречи с внеземным разумом — и ничего опаснее. Но так или иначе, нам придётся заняться исследованиями.
— А как велики шансы обнаружить его? — спросил Фишер. — Ведь нейродетекторы разработаны на основе человеческого разума. Я думаю, что, если нам попадется нечто странное, мы не только разума, но и самой жизни не распознаем.
— Да, признаков жизни можно и не заметить, — ответила Уэндел, — но разум мы едва ли пропустим. В конце концов, мы ищем именно интеллект, а не просто жизнь. А любой, даже самый странный разум обязательно связан с какой-то сложной структурой, по крайней мере, не менее простой, чем человеческий мозг. Более того, его элементы должны взаимодействовать с помощью электромагнитных волн. Гравитация слишком слаба, сильное и слабое ядерное взаимодействие осуществляется на чересчур маленьком расстоянии. А открытое нами гиперполе в природе не существует; мы создали его для сверхсветового полёта, оно существует лишь там, где его создаёт разум. Нейронный детектор позволит нам обнаружить исключительно сложное электромагнитное поле, создаваемое любым разумом, какие бы химические воздействия ни обеспечивали его существование. Нам придётся быть готовыми как общаться, так и удирать. Что же касается низших форм жизни, то едва ли они могут оказаться опасными для технологической цивилизации. Однако всякий образец чужой жизни, даже вирус, безусловно, будет интересен.
— А почему это нужно держать в секрете?
— Видишь ли, я подозреваю — пожалуй, даже уверена, — что Всемирный конгресс будет настаивать на нашем скорейшем возвращении, чтобы — если полёт пройдёт благополучно — немедленно приступить к постройке более совершенных кораблей. А мне хочется повидать Вселенную. А они подождут — ничего с ними не случится. Не то чтобы я уже решила, просто пока считаю вопрос открытым. Но если они догадаются, что я задумала, то, скорее всего, тут же заменят экипаж на более послушный.
Фишер вяло улыбнулся.
— А что? Представь себе, Крайл, что мы не обнаружим ни Ротор, ни роториан. Возвращаться на Землю с пустыми руками? Вселенная рядом, только протяни руку, а мы…
— Нет. Я только подумал, сколько времени ещё уйдёт на установку детекторов и прочее воплощение твоей мечты. Ещё два года — и мне пятьдесят. А в этом возрасте агентов Конторы обычно освобождают от внешней работы. Они получают места на Земле и уже не допускаются до полётов.
— Ну и что?
— Через два года я уже не смогу летать. Мне скажут, что я не подхожу по возрасту — и тогда Вселенной мне не видать как своих ушей.
— Ерунда! Ведь меня отпускают, а мне уже за пятьдесят.
— Ты другое дело. Это твой корабль.
— Ты — тоже другое дело, раз я настаиваю на твоём участии. К тому же не так-то просто подобрать для «Сверхсветового» квалифицированный экипаж. Придётся искать желающих. Кстати, весь экипаж должен состоять из волонтеров — разве можно доверить дело тем, кто вынужден лететь против своего желания?
— А почему нет желающих?
— Крайл, дорогой мой, да они же все родом с Земли. В обычного землянина пространство вселяет ужас. А уж гиперпространство тем более. Так что надеяться не на кого. Полетим мы с тобой, потребуется ещё трое желающих, и, уверяю тебя, найти их будет не просто. Я уже прощупала кое-кого — пока у меня две надёжные кандидатуры: Сяо Ли By и Генри Ярлоу. Они почти согласны, а третьего пока нет. Но даже если наберётся целая дюжина желающих, тебя здесь не оставят. Я потребую, чтобы тебя взяли в качестве посла к роторианам, — если до этого дойдёт. Ну а кроме этих гарантий, даю слово, что полёт состоится до твоего пятидесятилетия.
Тут Фишер улыбнулся с искренним облегчением и проговорил:
— Тесса, я люблю тебя. Ты знаешь, что это действительно так.
— Сомневаюсь, — ответила Уэндел, — особенно когда слышу недоверие в твоём голосе. Странно, Крайл. Мы уже восемь лет знакомы, восемь лет занимаемся любовью, а ты ещё ни разу не говорил мне этих слов.
— Разве?
— А я ждала их, поверь мне. И знаешь, что странно? Я тоже ещё не говорила тебе о своей любви, но я люблю тебя. А сначала было иначе. Что с нами произошло?
— Значит, влюбились понемножку, так что и сами не заметили, — негромко ответил Фишер. — Выходит, и такое возможно, а?
И они застенчиво улыбнулись друг другу, словно не знали, что теперь делать.
Глава 25
ПОВЕРХНОСТЬ
Эугения Инсигна была озадачена. Даже более того.
— Говорю тебе, Сивер, после вашего полёта я и ночи не спала спокойно. — Эти слова в устах женщины менее волевой прозвучали бы как жалоба. — Разве ей не довольно этого полёта: до океана и обратно, по воздуху, прилетели после заката — разве ей этого мало? Почему ты не остановишь её?
— Почему я не остановлю её? — медленно и отчетливо повторил Сивер Генарр. — Почему я не остановлю её? Эугения, мы теперь не в силах остановить Марлену.
— Просто смешно, Сивер! Неужели ты трусишь? Прячешься за спину девочки, воображаешь, что она всё может.
— А разве не так? Ты её мать. Прикажи Марлене оставаться в Куполе.
Инсигна поджала губы.
— Знаешь ли, ей пятнадцать, и я не хочу давить на неё родительским авторитетом.
— Наоборот. Только это ты и делаешь. Но всякий раз она смотрит вот так на тебя своими чистыми невероятными глазами и говорит что-нибудь вроде: «Мама, ты чувствуешь себя виноватой в том, что у меня нет отца, а потому решила, что Вселенная хочет покарать тебя за это и отнять меня. Всё это — глупое суеверие».
Инсигна нахмурилась.
— Сивер, мне ещё не приходилось слышать подобной ерунды. Я ничего такого не чувствую и не почувствую.
— Конечно же, нет. Я просто предполагаю. А вот Марлена ничего не предполагает. Она всегда знает, что тебя беспокоит, — по движению большого пальца, или правой лопатки, или чего угодно, — и откровенно всё тебе выложит. Да так, что ты не будешь знать, куда деваться от стыда, и в порядке самообороны согласишься на всё, лишь бы она не разбирала тебя по кусочкам.
— Только не рассказывай мне, что она уже проделывала подобное с тобой.
— Только потому, что я ей нравлюсь и стараюсь держаться дипломатично. Я просто боюсь рассердить её, ведь страшно подумать, на что она способна в гневе. Ты хоть понимаешь, что я удерживал её? Уж оцени хотя бы это. Она собиралась выйти на Эритро на следующий день после полёта, а я продержал её здесь целый месяц.
— И как же тебе это удалось?
— Чистой софистикой. Сейчас декабрь. Я сказал ей, что через три недели Новый год — по земному стандартному времени — и открыть новую эру в истории Эритро лучше всего с начала года, А знаешь, ведь она так и воспринимает свой приезд на планету — как начало нового века. Что делает всё только хуже.
— Почему?
— Потому что для неё это не личный каприз, а дело жизненно важное, и не только для Ротора — для всего человечества. Что ещё можно сравнить с тем ощущением, когда и сам получаешь удовольствие, и можешь назвать этот процесс жизненно важным вкладом в процветание рода людского. Тут всё себе простишь. Я сам так поступал, и ты тоже, да и любой человек. Насколько мне известно, даже Питт обнаруживает естественную склонность к этому занятию. Наверняка уже успел убедить себя в том, что и дышит лишь ради того, чтобы растениям Ротора хватало углекислоты.
— Значит, сыграв на честолюбии, ты уговорил её подождать?
— Да, и у нас останется неделя на поиски средства, чтобы остановить её. Должен признаться, что я не смог одурачить её. Подождать она согласилась, но сказала: «Вам, дядя Сивер, кажется, что, задерживая меня, вы можете добиться капельки симпатии у моей мамы, так ведь? Весь ваш облик говорит, что наступление Нового года на самом деле не имеет никакого значения».
— Сивер, какая невероятная бестактность!
— Просто невероятная точность, Эугения. Наверное, это одно и то же.
Инсигна отвернулась.
— Моей симпатии? Ну что мне сказать…
— Зачем говорить? — немедленно перебил её Генарр. — Я объяснил, что в молодости любил тебя и, постарев — или старея, — нахожу, что чувства мои не переменились. Но это мои сложности. Ты всегда была честна со мной и никогда не давала оснований для надежды. И если по собственной глупости я предпочитаю не считать «нет» окончательным ответом, это опять-таки тебя не должно волновать.
— Меня волнует, когда ты расстраиваешься…
— Ну вот, уже хорошо. — Генарр вымученно улыбнулся. — Гораздо лучше, чем вовсе ничего.
Инсигна с видимым облегчением возвратилась к прежней теме:
— Но, Сивер, если Марлена всё поняла, почему же она согласилась подождать?
— Возможно, тебе это не понравится, но лучше всё-таки знать правду. Марлена сказала мне: «Дядя Сивер, я подожду до Нового года, потому что и маме будет приятно, и вам я хочу помочь».
— Так и сказала?
— Пожалуйста, не сердись на неё. Наверное, мой ум и обаяние сделали своё дело, и она старается ради тебя.
— Прямо сваха, — проговорила Инсигна, не то недовольная, не то удивленная.
— А вот мне подумалось, что, если ты сумеешь заставить себя обнаружить ко мне какой-нибудь интерес, нам, возможно, удастся подтолкнуть её к поступкам, которые способны, на её взгляд, этот интерес укрепить… Правда, твоя заинтересованность должна выглядеть достаточно правдоподобной, иначе она всё поймет. Ну а если интерес будет реальным, ей не придётся идти на жертвы ради его укрепления. Ты поняла меня?
— Понимаю, — ответила Инсигна, — мало мне проницательности Марлены — так тут ещё ты со своими приёмами истинного макиавеллиста.
— Прямо в сердце, Эугения.
— Ну а почему не сделать попросту? Почему не отправить её наконец обратно на Ротор?
— Связав по рукам и ногам? От безрассудства можно пойти и на это. Однако мне удалось понять, о чём она мечтает. И следом за Марленой я начинаю подумывать об освоении Эритро… Подумай, целый огромный мир…
— Дышать этими бактериями, пить их и есть? — Инсигна скривилась.
— Ну и что? Мы и так каждый день поглощаем их в неимоверном количестве. Нельзя же совершенно очистить от них Купол. Кстати, и на Роторе тоже есть бактерии. Их тоже пьют, едят и вдыхают.
— Но там знакомые бактерии, а здесь они инопланетного происхождения.
— Тем проще. Раз мы к ним не приспособлены, значит, и они к нам тоже. А посему они не могут сделаться паразитами, можешь считать их частью здешней пыли.
— А лихоманка?
— Безусловно, она и создаёт все сложности, когда речь заходит о таком простом деле, как выход Марлены из Купола. Но мы примем все меры предосторожности.
— Какие же?
— Во-первых, на Марлене будет защитный комбинезон, во-вторых, я сам пойду с ней. Буду при ней за канарейку.
— Как это — за канарейку?
— Так делали на Земле несколько столетий назад. Шахтеры брали с собой под землю канареек — знаешь, такие желтенькие птички. Если в воздухе появлялся газ, канарейка умирала первой, а люди, заметив опасность, успевали оставить шахту. Иными словами, если я странно себя поведу, мы оба немедленно окажемся здесь.
— А что, если сперва это произойдёт с ней?
— Сомневаюсь. Марлена считает себя иммунной. Она повторяла это уже столько раз, что я начал ей верить.
* * *
Никогда прежде не случалось Эугении Инсигне с таким страхом следить за календарем, ожидая наступления Нового года. Ведь календарь был пережитком прошлого, к тому же дважды измененным.
На Земле он отмечал времена года и даты, связанные с ними, — осеннего и весеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния — впрочем, повсюду они назывались по-разному.
Инсигна не забыла, как Крайл объяснял ей все хитросплетения календаря, мрачно и торжественно, как бывало всегда, когда речь заходила о чём-то, напоминавшем ему Землю. Она усердно, но с опаской вслушивалась: усердно — потому, что всегда стремилась разделить его интересы, ведь это могло ещё больше сблизить их; с опаской — потому, что память о Земле могла разлучить их, что в конце концов и произошло.
Странно, но Инсигну до сих пор мучили угрызения совести — правда, уже не так сильно. Ей казалось, что она уже плохо представляет себе Крайла, что помнит лишь воспоминания. Неужели только память о памяти разделяет теперь её и Сивера Генарра?
Именно такая память о памяти заставляла Ротор по-прежнему придерживаться календаря. Времен года на Роторе не было, годы исчислялись по-земному, как и во всех поселениях в системе Земли и Луны, вращавшихся вокруг Солнца. Исключение составляли немногочисленные поселения около Марса и в поясе астероидов. Само понятие времени года становится бессмысленным, когда этого времени нет. И тем не менее люди считали годы, а также месяцы и недели.
Дни на Роторе были частью искусственных двадцатичетырехчасовых суток. Половину суток поселение обеспечивали солнечным светом, другая половина считалась ночью. Можно было использовать любой временной интервал, но сутки постановили считать равными земным и делили на двадцать четыре часа по шестьдесят минут в каждом, которые, в свою очередь, по-прежнему состояли из шестидесяти секунд. Итак, день и ночь примерно составляли по двенадцать часов.
Обжившись в космосе, начали предлагать просто нумеровать дни, исчислять их десятками, сотнями и так далее: декадни, гектодни, килодни — а если в обратном направлении — децидни, сантидни, миллидни. Однако предложения были признаны абсолютно негодными.
Ни одно поселение не могло установить собственной системы исчисления времени, иначе торговля и сообщение погибли бы в наступившем хаосе. Единую основу по-прежнему могла предложить лишь Земля, на которой всё ещё обитало девяносто девять процентов всего человечества и к которой неразрывные узы традиций всё ещё приковывали оставшийся процент. Память заставляла Ротор, как и все поселения, придерживаться календаря, в общем-то бессмысленного для них.
Но теперь Ротор оставил Солнечную систему и превратился в обособленный мир. Дни, месяцы и годы в земном смысле слова перестали для него существовать. Но хотя солнечный свет уже не отделял день от ночи, дневное искусственное освещение по-прежнему сменялось тьмой — и наоборот — каждые двенадцать часов. Резкий переход не смягчали искусственными сумерками. Не было необходимости. Каждый поселенец был волен включать свет в своем доме по прихоти и по необходимости. Но дни отсчитывались по времени поселения, то есть земному.
Даже здесь, под Куполом на Эритро, где естественный день сменялся естественной ночью — хоть их продолжительность не вполне соответствовала таковой в поселении, — счёт времени вели по-земному (снова память о памяти).
Правда, некоторые уже ратовали за отход от патриархальных тенденций. Инсигна знала, что Питт был сторонником перехода к десятичной системе, однако опасался объявлять об этом открыто, чтобы не вызвать яростного сопротивления.
Однако ничто не вечно. Традиционная вереница месяцев и недель постепенно теряла значение, привычные некогда праздники забывались всё чаще. Инсигна в своей работе пользовалась сутками лишь в качестве единиц измерения. Настанет время, и старый календарь умрет; появятся новые, лучшие способы измерения времени — галактический календарь, например.
Но сейчас она с трепетом ждала приближения этой совершенно ничего не значившей даты — Нового года. На Земле Новый год отмечали во время солнцестояния: в Северном полушарии — зимнего, в Южном — летнего. Такое положение дел было как-то связано с вращением Земли вокруг Солнца, но лишь астрономы Ротора помнили теперь, как именно.
Для Инсигны Новый год означал выход Марлены на поверхность Эритро. Дату назначил Сивер Генарр, стараясь потянуть время. Инсигна согласилась с ним лишь потому, что надеялась, что девочка передумает.
Инсигна вынырнула из глубин памяти и обнаружила прямо перед собой Марлену, серьёзно смотревшую на мать. Когда она вошла в комнату? Неужели Инсигна так задумалась, что не услышала её шагов?
— Привет, Марлена, — тихо, почти шёпотом сказала Инсигна.
— Мама, ты грустишь.
— Марлена, чтобы это заметить, не нужно обладать сверхъестественной проницательностью. Ты ещё не передумала выходить на поверхность Эритро?
— Нет.
— Ну почему, Марлена, ну почему? Ты можешь объяснить мне это так, чтобы я наконец поняла?
— Не могу, потому что ты не хочешь понять. Она зовет меня.
— Кто зовет?
— Эритро. Она ждет меня. — Обычно серьёзное лицо Марлены озарила легкая улыбка.
Инсигна фыркнула.
— Когда я слышу от тебя такие слова, мне кажется, что ты уже схватила эту самую…
— Лихоманку? Нет, мама. Дядя Сивер только что сделал мне очередное сканирование. Я хотела отказаться, но он сказал, что это нужно для сравнения. Я совершенно нормальна.
— Сканирование тут не поможет, — нахмурилась Инсигна.
— Материнские опасения тоже, — ответила Марлена и, смягчившись, добавила: — Мама, я знаю, что ты тянешь время, но я не хочу ждать. Дядя Сивер мне обещал. Хоть в дождь, хоть в бурю — я выйду. Впрочем, в это время года здесь не бывает сильных ветров и температурных перепадов. Здесь вообще редко бывает плохая погода. Это просто чудесный мир.
— Но он же мертв, безжизнен. Какие-то бациллы не в счёт, — недобро заметила Инсигна.
— Дай время, и мы заживем здесь привычной жизнью, — Марлена мечтательно посмотрела вдаль. — Я уверена.
* * *
— Э-комбинезон — вещь простая, — пояснил Сивер Генарр. — в нём не почувствуешь перепада давления. Это не водолазный или космический скафандр. У него есть шлем, запас сжатого воздуха с регенератором и небольшой теплообменник, чтобы поддерживать необходимую температуру. Конечно же, он герметичен.
— А он подойдёт мне? — поинтересовалась Марлена, без особого энтузиазма глядя на толстую псевдоткань.
— Не слишком модный, — продолжал Генарр, поблескивая глазами, — но делали его для удобства, а не для красоты.
— Дядя Сивер, — строго сказала Марлена, — мне всё равно, как я буду в нём выглядеть. Но мне бы не хотелось, чтобы он оказался мне велик. Мне будет неудобно в нём ходить.
Тут в разговор вмешалась Эугения Инсигна. Побледнев и сжав губы, она стояла в стороне и наблюдала за ходом событий.
— Марлена, костюм нужен для безопасности. Тут уж не до жиру — быть бы живу.
— Но он не должен быть неудобным, мама. Пусть его подгонят по мне.
— Этот должен быть впору, — проговорил Генарр. — Лучшего мы не сумели найти. Всё-таки у нас в основном большие размеры. — Он повернулся к Инсигне. — Последние годы мы редко пользуемся ими. Когда лихоманка поутихла, мы провели кое-какие исследования и теперь знаем окрестности достаточно хорошо. А в тех редких случаях, когда нужно выйти наружу, используем крытые э-кары.
— Надо было и нам так сделать.
— Нет, — недовольно возразила Марлена, — я уже летала, а теперь хочу прогуляться пешком.
— Ты просто с ума сошла! — воскликнула Инсигна.
Марлена вспылила:
— Если ты не перестанешь…
— Где же твоя проницательность? Ведь я не про лихоманку, а про то, что ты и в самом деле сошла с ума — самым обычным образом. Ах, Марлена, ты меня с ума сведёшь. — Инсигна повернулась к Генарру: — Сивер, если ваши э-комбинезоны старые, можно быть уверенным, что они не прохудились?
— Эугения, мы всё проверили. Уверяю тебя, они в полном порядке. И не забывай, что я тоже пойду — в таком же комбинезоне, как и Марлена.
Инсигна лихорадочно искала повод, чтобы задержать их.
— Ну хорошо, а если вдруг понадобится… — И она многозначительно махнула рукой.
— По нужде? Ты про это? Можно, только не слишком удобно. Но об этом не должно быть и речи. Мы должны выдержать несколько часов. К тому же далеко мы не пойдём — чтобы при необходимости можно было немедленно вернуться. Ну, нам пора. Погода хорошая — следует воспользоваться случаем. Эй, Марлена, дай-ка я помогу тебе застегнуть.
— Похоже, у тебя прекрасное настроение, — раздраженно бросила Инсигна.
— А почему бы и нет? Сказать по правде, я с удовольствием пройдусь. Под Куполом иногда кажется, что сидишь в тюрьме. Быть может, если бы мы время от времени предпринимали такие вылазки, люди выдерживали бы здесь гораздо дольше. Ага, Марлена, осталось только надеть шлем.
Марлена заколебалась.
— Минутку, дядя Сивер. — Она направилась к матери, протянув руку, такую толстую в комбинезоне.
Инсигна с отчаянием смотрела на дочь.
— Мама, — сказала Марлена, — ещё раз прошу, успокойся, пожалуйста. Я люблю тебя и не стала бы затевать этого ради собственного удовольствия. Я делаю так потому, что уверена — всё будет в порядке. Держу пари, тебе хочется влезть в э-комбинезон и самой приглядывать за мной. Только не нужно этого делать.
— Почему, Марлена? Если с тобой что-нибудь случится, а я не смогу помочь — ведь я никогда себе этого не прощу.
— Со мной ничего не случится, но даже если бы и случилось — что ты сможешь сделать? К тому же ты гак страшишься Эритро, что, боюсь, лихоманка прицепится скорее к тебе. Что тогда будем делать?
— Эугения, она права, — вмешался Генарр. — Я буду рядом с ней. А тебе лучше остаться и постараться успокоиться. Все э-комбинезоны радиофицированы. Мы с Марленой сможем переговариваться между собой и с Куполом. Обещаю тебе: если она поведёт себя не так, как надо, — я сразу же приведу её назад.
Качая головой, Инсигна обреченно следила, как шлем закрыл сначала голову Марлены, а потом и Генарра. Они подошли к главному воздушному шлюзу Купола, и Инсигна проводила их взглядом. Процедуру эту она знала наизусть — как и положено поселенке.
Хитроумно организованное управление перепадом давления обеспечивало воздухообмен только в одном направлении — из Купола в атмосферу Эритро. За ходом процесса следил компьютер: возможность проникновения воздуха в обратном направлении таким образом была исключена.
Когда открылась внутренняя дверь, Генарр шагнул в шлюз и поманил за собой Марлену. Она вошла, и дверь закрылась за нею. В груди Инсигны что-то оборвалось. Она впилась взглядом в приборы — по их показаниям она знала, когда отвалилась наружная дверь, когда она медленно вернулась на место. Ожил голоэкран — и перед Инсигной появились две фигуры в костюмах, стоявшие на бесплодной почве Эритро.
Один из инженеров передал Инсигне маленький наушник, она вставила его в правое ухо. Под подбородком был такой же крохотный микрофон. В ухе её раздался голос:
— Включаю радиоконтакт…
И тут же Инсигна услышала знакомый голос Марлены:
— Мама, ты меня слышишь?
— Да, дорогая, — ответила Эугения и сама не узнала своего голоса.
— Мы вышли, здесь просто великолепно! Прекраснее и быть не может.
— Да, дорогая, — упавшим голосом сказала Инсигна, не зная, увидит ли родную дочь в здравом уме и памяти.
* * *
Сивер Генарр с облегчением ступил на поверхность Эритро. За спиной его уходила вверх стена Купола, но Генарр даже не оглянулся, чтобы сразу насладиться ароматом этого мира.
Ароматом… Это слово не имело никакого смысла здесь, на поверхности Эритро. За надёжной стенкой шлема Генарр дышал воздухом, очищенным и обработанным внутри Купола. И запаха планеты чувствовать не мог.
Его охватило ощущение странного счастья. Под ногами похрустывали камешки: поверхность Эритро была покрыта гравием. Между частицами гравия было то, что Генарр назвал про себя почвой. Конечно же, вода и воздух давно разрушили первородные скалы на поверхности планеты, да и вездесущие прокариоты во всём своем несчётном множестве миллиарды лет усердно трудились над ними.
Почва пружинила под ногами. Вчера весь день шёл дождь — мелкий, моросящий, такой, каким он мог быть только здесь, на Эритро.
Почва до сих пор была влажной, и Генарр представлял себе частички почвы — крошечные песчинки, частички суглинка и глины, покрытые водяной пленкой. В этой пленке блаженствовали прокариоты, нежились в лучах Немезиды, строили сложные протеины из простых. Тем временем другие прокариоты, нечувствительные к свету своего солнца, поглощали энергию, заключенную в многочисленных останках маленьких клеток, триллионами и триллионами погибавших ежесекундно повсюду.
Марлена стояла рядом и смотрела.
— Не смотри на Немезиду, Марлена, — негромко сказал Генарр.
Голос Марлены раздался прямо в его ухе. В нём не чувствовалось ни страха, ни неуверенности. Наоборот, её голос был полон тихой радости.
— Я смотрю на облака, дядя Сивер.
Генарр, щурясь, взглянул в тёмное небо и увидел зеленовато-желтые облака, которые закрывали Немезиду и рассеивали оранжевое сияние.
Вокруг царил покой: ни звука, ни шороха. Ничто не чирикало, не визжало, не ревело, не стрекотало, не ворчало и не скрипело. Не было листьев, чтобы шелестеть, насекомых — чтобы жужжать. Во время редкой здесь грозы можно было услышать раскаты грома, да ветер, случалось, вздыхал среди валунов. Но в спокойный и ясный день вокруг царило безмолвие.
Генарр заговорил, чтобы убедиться, что он не оглох, что кругом действительно так тихо. Впрочем, сомневаться вряд ли стоило — ведь он слышал в скафандре собственное дыхание.
— С тобой всё в порядке, Марлена?
— Просто великолепно. Ой, а вон ручей! — И она косолапо побежала в своем неуклюжем э-комбинезоне.
— Осторожнее, Марлена, не поскользнись, — сказал Генарр.
— Я буду внимательной.
Ее голос отчетливо звучал в наушниках Сивера, а сама она была уже далеко.
Внезапно в ухе Генарра взорвался голос Эугении Инсигны:
— Сивер, почему Марлена бегает? — Она немедленно добавила: — Марлена, почему ты бежишь?
Ответа не последовало. Пришлось отозваться Сиверу:
— Эугения, она хочет взглянуть на какой-то ручеек.
— С ней всё в порядке?
— Конечно. Здесь просто невероятно красиво. Когда привыкаешь, начинаешь даже забывать, что вокруг ни былинки… Как на абстрактной картине.
— Сивер, мне не до искусства. Не отпускай её от себя.
— Не беспокойся. Мы с ней поддерживаем постоянную связь. Вот сейчас она слышит, что мы с тобой говорим, но не отвечает — не хочет, чтобы ей мешали. Эугения, расслабься. Марлена просто наслаждается. Не порти ей удовольствие.
Генарр действительно был убеждён, что Марлене приятно. Почему-то он и сам был доволен.
Марлена бежала вдоль ручья, вверх по течению. Генарр неторопливо следовал за ней. Пусть себе радуется, думал он.
Купол стоял на небольшом возвышении, и повсюду вокруг него змеились неторопливые ручейки, километрах в тридцати отсюда сливавшиеся в довольно большую реку, которая, в свою очередь, впадала в море.
Ручьи были, конечно, здешней достопримечательностью. Они обеспечивали Купол водой. Прежде чем использовать, в ней уничтожали прокариотов. Когда Купол строили, некоторые биологи возражали против уничтожения прокариотов… Экая нелепость! Эти маленькие искорки жизни изобилуют повсюду, ничто не мешает им размножаться, чтобы скомпенсировать любые утраты, а значит, и обеззараживание воды не могло повредить здешней жизни как таковой. Но потом началась лихоманка, у поселенцев появилась враждебность к Эритро, и о судьбе прокариотов в Куполе беспокоиться перестали.
Конечно, теперь, когда лихоманка уже не казалась такой опасной, гуманные — или биогуманные — чувства могли пробудиться снова. В принципе, Генарр тоже не стал бы возражать — но где тогда брать воду для Купола?
Он задумался и уже не глядел за Марленой. Внезапно оглушительный вопль в ухе вернул его к реальности.
— Марлена! Марлена! Сивер, что она делает?
Он хотел привычно успокоить Инсигну, но тут увидел Марлену.
Какое-то время он даже не мог понять, чем она занята. Он стал вглядываться в фигурку девушки, освещенную розовым светом Эритро.
И наконец он понял: она отстегнула шлем, потом сняла его… потом взялась за э-комбинезон. Нужно немедленно остановить её!
Генарр хотел окликнуть Марлену, но от ужаса и неожиданности словно онемел. Он попробовал бежать, но ноги вдруг стали свинцовыми и не реагировали на приказы мозга.
Он словно очутился в страшном сне: вокруг творился кошмар, а он никак не мог изменить ход событий. Или от неожиданности он лишился разума?
«Неужели лихоманка всё-таки поразила меня? — промелькнуло в голове Генарра. — А если так — что будет с Марленой, беззащитной перед светом Немезиды и воздухом Эритро?»
Глава 26
ПЛАНЕТА
За те три года, что, сменив Танаяму, Игорь Коропатский был руководителем — хоть и номинальным — работ по проекту, Крайл Фишер видел его всего два раза.
Впрочем, когда фотовход показал на экране лицо Коропатского, Фишер сразу же узнал его. Тот не изменился: всё такой же дородный и добродушный — внешне, — хорошо одет, с большим новомодным галстуком.
Что касается Фишера, то он был с утра не в форме, — однако Коропатского ждать не заставишь, даже если он нагрянул без предупреждения.
Будучи человеком вежливым, Фишер подал на входной экран изображение хозяина (в некоторых, особо важных случаях использовалось изображение хозяйки), приподнявшего руку в традиционном жесте, призывающем повременить, что позволит избежать необходимости самому приносить объяснения, которые могли бы оказаться неудачными. Фишер быстро причесался и привёл в порядок одежду. Надо было бы побриться, но такую задержку Коропатский, скорее всего, счел бы уже оскорбительной.
Дверь поползла в сторону, Коропатский вошёл. Приятно улыбнувшись, он проговорил:
— Доброе утро, Фишер. Я понимаю, что помешал.
— Что вы, директор, — ответил Фишер, стараясь, чтобы голос его звучал искренне. — Но если вам нужна доктор Уэндел, боюсь, что она сейчас уже на корабле.
— Так я и думал, — проворчал Коропатский. — Значит, мне придётся переговорить с вами. Разрешите присесть?
— Конечно же, конечно же, директор, — пробормотал Фишер, устыдившись собственной нерасторопности; ему следовало самому предложить Коропатскому сесть. — Не желаете ли чем-нибудь освежиться?
— Нет, — Коропатский похлопал себя по животу. — Я взвешиваюсь каждое утро, и этой процедуры достаточно, чтобы отбить всякий аппетит — почти всегда. Фишер, мне ещё не представлялось возможности поговорить с вами с глазу на глаз, как мужчине с мужчиной. А я всегда хотел этого.
— С удовольствием, директор, — пробормотал Фишер, начиная беспокоиться. Что-то сейчас будет?
— Наша планета в долгу перед вами.
— Ну что вы, директор, — ответил Фишер.
— Вы жили на Роторе до того, как он улетел.
— Это было четырнадцать лет назад, директор.
— Я знаю. Вы были женаты, и у вас там остался ребенок.
— Да, директор, — негромко ответил Фишер.
— Но вы вернулись на Землю перед самым отлётом Ротора из Солнечной системы.
— Да, директор.
— Благодаря услышанным вами и здесь повторенным словам и вашей удачной догадке Земля обнаружила Звезду-Соседку.
— Да, директор.
— Потом вы сумели привезти Тессу Уэндел на Землю.
— Да, директор.
— И уже восемь лет обеспечиваете её пребывание здесь, составляя её счастье, хе-хе…
Он усмехнулся, и Фишер подумал, что, стой они рядом, Коропатский ткнул бы его локтем в бок — как это принято у мужиков.
— Мы в хороших отношениях, директор, — осторожно ответил он.
— Но вы так и не женились.
— Официально я ещё женат, директор.
— Но вы же расстались четырнадцать лет назад. Развод было бы несложно оформить.
— У меня ещё есть дочь.
— Она останется вашей дочерью, женитесь вы вторично или нет.
— Развод в известной степени пустая формальность.
— Может быть. — Коропатский кивнул. — Наверное, так лучше. Вы знаете, что сверхсветовой звездолёт готов к полёту. Мы предполагаем, что старт состоится в начале 2237 года.
— Это же мне говорила и доктор Уэндел, директор.
— Нейронные детекторы установлены и прекрасно работают.
— Мне говорили и это, директор.
Сложив руки на груди, Коропатский многозначительно кивнул. Потом быстро взглянул на Фишера и спросил:
— А вы знаете, как эта штука работает?
Фишер покачал головой:
— Нет, сэр, об этом я ничего не знаю.
Коропатский вновь кивнул.
— Я тоже. Придётся положиться на доктора Уэндел и наших инженеров. Впрочем, кое-чего не хватает.
— Что? — Фишера словно холодом обдало. Новая задержка! — Чего же не хватает, директор?
— Связи. Мне лично кажется, что, если можно заставить корабль нестись быстрее света, можно и придумать устройство, которое будет посылать волны — или что-нибудь ещё — тоже быстрее света. Мне кажется, это куда проще, чем создать сверхсветовой звездолёт.
— Не могу сказать, директор.
— А доктор Уэндел уверяет меня в обратном, что эффективного способа сверхсветовой связи не существует. Когда-нибудь, мол… Но когда? Ожидать, по её мнению, нет смысла — поскольку на это может уйти много времени.
— Я тоже не хочу больше ждать, директор.
— Да-да, это и меня беспокоит. Мы и так ждем уже много лет, мне тоже не терпится увидеть, как стартует корабль. Но как только это свершится, мы потеряем с ним связь.
Он задумчиво кивнул. Фишер постарался сохранить на лице внимательное выражение. (В чём дело? Что обеспокоило этого старого медведя?)
Коропатский взглянул на Фишера.
— Значит, вы знаете, что Звезда-Соседка приближается к нам?
— Да, директор, я слыхал об этом, однако все полагают, что звёзды разойдутся на значительном расстоянии без всяких последствий.
— Да, мы хотим, чтобы люди так думали. Но дело в том, Фишер, что Звезда-Соседка пройдёт так близко, что вызовет возмущение орбитального движения Земли.
Фишер потрясенно замер.
— Неужели она погубит нашу планету?
— Не физически. Просто резко переменится климат, и Земля сделается необитаемой.
— Это точно? — Фишер не мог поверить своим ушам.
— Не знаю, что у этих учёных бывает точно. Однако они убеждены, что нам пора начинать подготовку. Впереди ещё пять тысяч лет, а мы уже имеем сверхсветовой звездолёт — если он полетит, конечно.
— Доктор Уэндел убеждена в этом, директор, и я тоже не сомневаюсь…
— Надеюсь, что ваша уверенность имеет под собой достаточные основания. Тем не менее, хоть у нас впереди ещё пять тысяч лет и Земля получила сверхсветовой звездолёт, наше положение всё равно скверное. Чтобы вывезти население в подходящие для обитания миры, нам потребуется сто тридцать тысяч подобных Ротору поселений — необходимо вывезти восемь миллиардов человек, к тому же надо прихватить достаточно растений и животных, чтобы начать новую жизнь. То есть нам придётся отправлять к звездам двадцать шесть Ноевых ковчегов в год, начиная прямо с сегодняшнего дня. И то, если население за это время не увеличится.
— Ну уж двадцать шесть-то в год мы одолеем, — осторожно заметил Фишер. — За столетия накопим опыт, да и контроль за численностью населения уже действует не первое десятилетие.
— Отлично. Тогда скажите мне вот что. Мы поднимем в космос всё население Земли в ста тридцати тысячах поселений, используем на это все ресурсы Земли, Луны, Марса и астероидов, оставим Солнечную систему на милость гравитационного поля Звезды-Соседки — и куда же мы отправимся?
— Не знаю, директор, — ответил Фишер.
— Нам придётся отыскать планету, достаточно похожую на Землю, чтобы обойтись без лишних расходов по её преобразованию. Об этом следует подумать, и сейчас, а не через пять тысяч лет.
— Но если пригодных планет вблизи не окажется, можно оставить поселения на орбитах возле какой-нибудь звезды. — Фишер описал пальцем кружок.
— Дорогой вы мой, это невозможно.
— При всем уважении к вам, директор, здесь, в Солнечной системе, это возможно.
— Увы! Сколько бы ни строилось поселений, девяносто девять процентов человечества живут на одной планете. Так что человечество — это мы, а поселения — так, легкий пушок на нашей шкуре. Может шерсть существовать сама по себе? Пока ничто не свидетельствует об этом, и я тоже не допускаю подобной возможности.
— Возможно, вы правы, — проговорил Фишер.
— Возможно? Что вы, здесь не может быть и тени сомнения! — с жаром возразил Коропатский. — Поселенцам угодно нас презирать, но им никуда не деться от нас. Мы их история. Мы модель их бытия. Мы живительный источник, к которому они вновь и вновь будут припадать, чтобы почерпнуть новые силы. Без нас они погибнут.
— Возможно, вы правы, директор, но никто ещё не проверял этого. Не было случая, чтобы поселение пыталось прожить без планеты.
— Такие попытки были. В начале земной истории люди заселяли острова, изолированные от материка. Ирландцы заселили Исландию, норвежцы — Гренландию, мятежники — остров Питкэрн, полинезийцы — остров Пасхи. Колонии иногда хирели, иногда исчезали полностью. Вдалеке от континента не образовалась ни одна цивилизация, в лучшем случае это происходило на прибрежных островах. Человечеству нужно пространство, просторы, разнообразие, горизонт… и граница. Вы меня поняли?
— Да, директор, — ответил Фишер. — Если и не совсем, всё равно спорить не о чём.
— Итак, — Коропатский постучал указательным пальцем правой руки по левой ладони, — нам необходимо отыскать планету, по крайней мере такую, с которой можно начать. А это заставляет нас вновь обратиться к Ротору.
Фишер удивленно поднял брови:
— К Ротору, директор?
— Да, четырнадцать лет миновало с тех пор, как они улетели. Интересно, что с ними случилось?
— Доктор Уэндел полагает, что они, скорее всего, погибли.
Фишер говорил, преодолевая себя. Мысль эта всегда доставляла ему боль.
— Знаю, я говорил с нею и не стал оспаривать её мнение. Но мне хотелось бы узнать, что обо всём этом думаете вы.
— Ничего, директор. Просто надеюсь, что они выжили. У меня ведь дочь на Роторе.
— Быть может, она жива и до сих пор. Подумайте. Что могло бы погубить их? Поломка, неисправность? Ротор не корабль, и он проработал исправно в течение пятидесяти лет. Он просто перебрался отсюда к Звезде-Соседке через пустое пространство — а что может быть безопаснее пустоты?
— Но карликовая чёрная дыра, случайный астероид…
— Сомнительные перспективы… Почти невероятные — так уверяют меня астрономы. Или, может быть, гиперпространство обладает какими-то характерными особенностями, способными погубить Ротор? Но мы уже не первый год экспериментируем с ним и пока ничего страшного не обнаружили. Остаётся только предположить, что Ротор благополучно добрался до ближайшей к Солнцу звезды — если только он действительно летел к ней, а все дружно сходятся на том, что лететь в другое место не имело никакого смысла.
— Мне было бы приятно узнать, что их перелет окончился благополучно.
— Но тогда возникает следующий вопрос: если Ротор застрял у этой звезды, что они там делают?
— Живут… — Фишер не то спросил, не то сказал утвердительно.
— Но как? Они на орбите этой звезды? И одинокое поселение совершает свой бесконечный путь вокруг красного карлика? Не верю. Деградация неминуема, и признаки её сразу же станут очевидными. Не сомневаюсь, их ждет быстрый упадок.
— Они умрут? Вы так считаете, директор?
— Нет. Сдадутся и вернутся домой. Признают своё поражение и возвратятся домой, в безопасность. Однако до сих пор они не сделали этого. А знаете почему? Я полагаю, что они отыскали возле Звезды-Соседки пригодную для обитания планету.
— Но, директор, около красного карлика не может быть планет, пригодных для жизни. Или там не хватает энергии, или огромный приливный эффект… — Помолчав, он сокрушенно добавил: — Доктор Уэндел объясняла мне…
— Да, астрономы объясняли это и мне, но, — Коропатский покачал головой, — мой собственный опыт свидетельствует, что, какую бы самоуверенность ни проявляли учёные, природа всегда найдёт, чем их удивить. Кстати, вы не задумывались, почему мы отпускаем вас в это путешествие?
— Да, директор… потому, наверное, что ваш предшественник обещал мне такое вознаграждение.
— У меня для этого есть куда более веские основания. Мой предшественник был великим человеком, достойным восхищения, но, в конце концов, он был просто больным стариком. Врачи считали его параноиком. Он решил, что Ротор знал о том, что грозит Земле, и бежал, не предупредив нас, в надежде на то, что Земля погибнет; и что Ротор следует покарать за это. Однако он умер, а распоряжаюсь теперь я: человек я не старый, не больной, не параноик. И если Ротор цел и находится возле Звезды-Соседки, я не намереваюсь причинять ему вред.
— Я рад это слышать, директор, но не следовало ли обсудить всё это и с доктором Уэндел, ведь она капитан корабля?
— Фишер, доктор Уэндел — поселенка, а вы лояльный землянин.
— Доктор Уэндел верой и правдой многие годы служила Земле, строя звездолёт.
— В том, что она верна своей работе, сомневаться не приходится. Но верна ли она Земле? Можем ли мы рассчитывать, что в отношениях с Ротором она будет придерживаться намерений Земли?
— А можно поинтересоваться, директор, каковы эти намерения? Я понимаю, что теперь никто уже не стремится наказать поселение за сокрытие сведений от Земли.
— Вы правы. Нам необходимо добиться сотрудничества, напомнить о кровном братстве, пробудить самые теплые чувства. Установите дружеские отношения и немедленно возвращайтесь — с информацией о Роторе и этой планете.
— Если всё это рассказать доктору Уэндел, если объяснить ей — она, конечно, согласится с вами.
Коропатский усмехнулся.
— Естественно, но вы ведь понимаете, как обстоит дело. Она отличная женщина, я не вижу в ней ни одного недостатка — но ей уже за пятьдесят.
— Ну и что? — Фишер как будто обиделся.
— Она должна понимать, что, вернувшись с жизненно важной информацией об успешном сверхсветовом полёте, она немедленно приобретет в наших глазах ещё большую ценность, мы будем требовать от неё новых, более совершенных сверхсветовых судов, попросим, чтобы она подготовила молодых пилотов таких звездолётов. Конечно же, она уверена, что её никто не отпустит в гиперпространство второй раз — ведь такими ценными специалистами не рискуют. Поэтому, прежде чем вернуться домой, у неё может возникнуть желание попутешествовать. Трудно противиться искушению — новые звёзды, новые горизонты. Но мы-то согласны рискнуть только раз — она должна долететь до Ротора, собрать нужную информацию и вернуться. Мы не можем позволить себе тратить время впустую. Вы меня поняли? — Голос Коропатского сделался жестким.
Фишер сглотнул.
— Но у вас же не может быть причины…
— У меня есть все причины. Положение доктора Уэндел здесь всегда в известной мере было неопределённым. Она же поселенка. Вы меня понимаете, я надеюсь. Ни от кого из жителей Земли мы так не зависим, как от неё, поселенки. Мы детально изучали её психологию — она об этом и знать не знала — и теперь убеждены: если представится возможность, она отправится дальше. А ведь связи с Землей не будет. Мы не будем знать, где она, что делает, жива ли она, наконец.
— Почему вы говорите всё это мне, директор?
— Потому что знаем, какое влияние на неё вы имеете. И она подчинится вам — если вы проявите твёрдость.
— Мне кажется, директор, что вы переоцениваете мои возможности.
— Уверен, что это не так. Вас мы тоже изучили и прекрасно знаем, насколько наш милый доктор привязана к вам. Возможно, вы даже сами не догадываетесь — насколько. Кроме того, мы знаем, что вы верный сын Земли. Вы могли улететь вместе с Ротором, но вернулись, оставив жену и дочь. Более того, вы сделали это, прекрасно понимая, что мой предшественник, директор Танаяма, обвинит вас в провале — ведь вы вернулись без информации о гиперприводе — и ваша карьера окажется под большим вопросом. Я удовлетворен этим и считаю, что могу на вас положиться, что доктор Уэндел окажется под строгим присмотром, что вы немедленно доставите её обратно и на этот раз — на этот раз — вернетесь со всей необходимой информацией.
— Попытаюсь, директор, — проговорил Фишер.
— Я слышу сомнение в вашем голосе, — сказал Коропатский. — Поймите, как важно то, о чём я вас прошу. Мы должны знать, что они делают, что успели сделать и на что похожа планета. Обладая такими сведениями, мы сообразим, что и как нам делать дальше. Фишер, нам нужна планета, и нужна немедленно. Поэтому нам ничего другого не остаётся, как отобрать её у Ротора.
— Если она существует, — хриплым голосом отозвался Фишер.
— Лучше бы ей существовать, — сказал Коропатский. — От этого зависит судьба человечества.
Глава 27
ЖИЗНЬ
Сивер Генарр медленно открыл глаза и заморгал от яркого света. Всё казалось расплывчатым, и он не мог понять, где находится.
Постепенно всё вокруг приобрело чёткие очертания, и Генарр узнал Рене Д’Обиссон, главного невролога Купола.
— Что с Марленой? — слабым голосом спросил Генарр.
— С ней всё в порядке, — угрюмо ответила Д’Обиссон. — Сейчас меня беспокоите вы.
Где-то внутри шевельнулась тревога, и Генарр попытался утопить её в чёрном юморе:
— Если бы ангел лихоманки уже распростер надо мною крылья, мне было бы, наверное, гораздо хуже.
Д’Обиссон не ответила, и Генарр резко спросил:
— Я здоров?
Врач словно ожила. Высокая и угловатая, она склонилась над Генарром, в уголках проницательных голубых глаз собрались тонкие морщинки.
— Как вы себя чувствуете? — спросила она, опять не отвечая на вопрос.
— Устал. Очень устал. Но ведь всё в порядке? Да?
— Вы проспали пять часов, — упорно не отвечая на его вопросы, сообщила она.
Генарр застонал.
— Но я чувствую себя усталым. И вообще — мне нужно в ванную… — И он попытался сесть.
Повинуясь знаку Д’Обиссон, к нему приблизился молодой человек и почтительно поддержал за локоть. Генарр с негодованием отмахнулся.
— Пожалуйста, не сопротивляйтесь, пусть он поможет, — проговорила Д’Обиссон. — Диагноз ещё не поставлен.
Через десять минут Генарр снова оказался в постели.
— Значит, нет диагноза. А сканирование проводили? — с тревогой спросил он.
— Естественно, сразу же.
— Ну и как?
Д’Обиссон пожала плечами.
— Ничего существенного — но вы же спали. Придётся повторить. И вообще — надо понаблюдать за вами.
— Зачем? Разве результатов сканирования мало?
Она подняла брови.
— А вы как полагаете?
— Не морочьте мне голову. Куда вы клоните? Говорите прямо. Я не младенец.
Д’Обиссон вздохнула.
— В известных нам случаях лихоманки сканирование мозга выявило интересные подробности, но мы не смогли сравнить их с тем, что было до заболевания, поскольку никого из больных не обследовали непосредственно перед началом болезни. После того как мы разработали подробную программу универсального сканирования всего персонала Купола, явных случаев лихоманки не обнаружено. Разве вы этого не знаете?
— Не пытайтесь подловить меня, — возмутился Генарр. — Конечно, знаю — или вы думаете, что я всё забыл? Могу заключить — могу, понимаете? — что, сравнив прежние результаты с сегодняшними, вы не обнаружили никаких различий. Разве не так?
— Конечно, ничего плохого у вас нет, но ваш случай может иметь клиническое значение.
— А если вы ничего не найдёте?
— Небольшие изменения легко прозевать, если не искать их специально. В конце концов, командир, вы упали в обморок. Раньше такой склонности за вами не замечалось.
— Тогда давайте ещё раз проведем сканирование, раз я проснулся, и, если опять пропустим что-нибудь несущественное, я, пожалуй, переживу. Но что с Марленой? С ней всё в порядке?
— Внешне — да. Её поведение, в отличие от вашего, оставалось нормальным. Она не падала в обморок.
— Значит, она в безопасности, под Куполом?
— Да, ведь она привела вас, прежде чем вы потеряли сознание. Разве вы не помните?
Генарр вспыхнул и что-то неразборчиво пробурчал.
Д’Обиссон одарила его саркастическим взглядом.
— Будем надеяться, командир, что вы расскажете нам всё, что помните. Постарайтесь. Это может оказаться важным.
Генарр попытался вспомнить, но это оказалось нелегко. Всё, что случилось, было затянуто какой-то дымкой, как во сне.
— Марлена сняла э-комбинезон… — вяло выговорил он. — Так?
— Так. В Купол она вошла без костюма, и нам пришлось за ним посылать.
— Хорошо. Заметив, что она делает, я попытался остановить её. Помню крик доктора Инсигны — она-то и переполошила меня. Марлена стояла вдалеке — у ручья. Я пытался окликнуть её, но почему-то не мог произнести даже звука. Я хотел… хотел…
— Бежать, — помогла ему Д’Обиссон.
— Да, но… но…
— Вы обнаружили, что не в состоянии бежать, словно вас парализовало. Я не ошибаюсь?
Генарр кивнул:
— Да. Именно так. Я хотел бежать, и ощущение было таким, как в кошмарном сне, когда за тобой кто-то гонится, а ты хочешь убежать — и не можешь…
— Да. Такое снится обычно тогда, когда рука или нога запуталась в простыне.
— Всё было как во сне. Наконец голос вернулся ко мне, и я закричал, но без э-комбинезона она наверняка не могла меня услышать.
— А вы чувствовали, что теряете сознание?
— Нет. Я ощущал такую слабость, что мог бы, пожалуй, даже не стараться бежать. А потом Марлена меня увидела и побежала навстречу. И больше — если честно, Рене, — я ничего не помню.
— Вы вместе пришли в Купол, — спокойно сказала Д’Обиссон. — Она помогала вам, поддерживала. Оказавшись внутри, вы потеряли сознание, и вот вы здесь.
— Вы полагаете, что я схватил лихоманку?
— С вами произошло что-то непонятное, но сканирование мозга ничего не показывает. Я озадачена. Вот так.
— Наверное, я был потрясен, увидев, что Марлене грозит опасность. Почему она решила снять э-комбинезон, если… — Генарр умолк.
— Если у неё не началась лихоманка. Так?
— Именно об этом я и подумал.
— Но она выглядит просто прекрасно. Может быть, вы поспите ещё?
— Нет. Я окончательно проснулся. Приступим лучше к сканированию — хочу убедиться, что всё в порядке. Словно гора с плеч свалилась. И я немедленно займусь делами, невзирая на ваше сопротивление, кровопийца.
— Командир, даже если сканирование ничего не покажет, по крайней мере двадцать четыре часа вы проведёте в постели. Для надёжности — вы же понимаете.
Генарр театрально застонал.
— Не посмеете. Значит, мне придётся все двадцать четыре часа разглядывать здесь потолок?
— Зачем? Мы поставим для вас экран, можете книжку почитать, посмотреть головизор. Даже гостей принять — одного или двух.
— Предполагаю, что гости будут наблюдать за мной?
— Конечно, их мнение о вашем состоянии может заинтересовать нас. А теперь приступим к сканированию. — Она одарила Генарра лучезарной улыбкой. — Не исключено, что вы здоровы. Ваши поступки, командир, кажутся мне адекватными, и мы должны убедиться в этом, не правда ли?
Генарр что-то буркнул в ответ и, когда Д’Обиссон повернулась к нему спиной, скорчил рожу. Что было, на его взгляд, совершенно адекватным поступком в подобной ситуации.
* * *
Вновь открыв глаза, Генарр увидел перед собою грустное лицо Эугении Инсигны.
Удивленный, он попытался сесть.
— Эугения!
Она печально улыбнулась в ответ.
— Мне сказали, что к тебе можно зайти, Сивер. Говорят, что с тобой всё в порядке.
Генарр почувствовал облегчение. Он-то знал это. Но всё-таки приятно лишний раз убедиться, что не ошибаешься.
И, немного рисуясь, он сказал:
— Конечно. Сканирование во сне — норма. Сканирование после сна — норма. Вообще — норма. А как Марлена?
— И у неё сканирование ничего не показало.
Похоже, даже это не могло развеять уныния Инсигны.
— Вот видишь, — проговорил Генарр. — Я и сработал за канарейку, как обещал. На меня подействовало, а на неё нет. — Он вдруг умолк, сообразив, что пошутил не вовремя. — Эугения, не знаю, как теперь просить у тебя прощения. Начну с того, что сперва я вовсе не следил за ней, а потом ужас словно парализовал меня. Я подвел тебя, — несмотря на то что с такой уверенностью пообещал, что пригляжу за ней. Нет мне прощения.
Инсигна покачала головой:
— Нет, Сивер, ты не виноват. Я рада, что она привела тебя в Купол.
— Не виноват? — Генарр остолбенел. А кто виноват, если не он?
— Нет. Произошло что-то очень плохое. И это не выходка Марлены и не то, что случилось с тобой. Произошло что-то гораздо худшее. Я в этом уверена.
Генарр ощутил, как его охватывает холод. «Что может быть хуже?» — подумал он.
— Что ты хочешь этим сказать?
Он сел на кровати. Из-под чересчур короткого халата торчали его голые ноги. Он поспешно прикрыл их легким одеялом.
— Пожалуйста, сядь и расскажи, — попросил он. — Марлена действительно здорова или ты что-то скрываешь?
Инсигна скорбно взглянула на Генарра.
— Мне сообщили, что всё в порядке. Результаты сканирования это подтвердили. Знающие люди говорят, что у неё нет никаких симптомов болезни.
— Так что же ты сидишь, словно пришёл конец мира?
— Я думаю — ты прав, Сивер. Этого мира.
— Что это значит?
— Не могу объяснить. Не могу понять. Тебе нужно поговорить с Марленой. Сивер, она делает то, что считает нужным. И её не беспокоит то, что она натворила. Она уверена, что не сумеет по-настоящему исследовать Эритро — испытать планету, как она выражается, — если на ней будет э-комбинезон. И она не намерена его надевать.
— В таком случае её нельзя больше выпускать.
— А она категорически заявляет, что будет выходить. И когда захочет… Одна… Она просто простить себе не может, что взяла с собой тебя. Видишь, она не осталась безразличной к тому, что случилось с тобой. Это её расстраивает. Марлена рада, что вовремя вернулась к тебе. Она со слезами на глазах говорила мне, что неизвестно, чем бы закончилась для тебя эта вылазка, если бы она не успела вовремя тебе помочь.
— Ну а уверенности в себе она не потеряла?
— Нет. И это самое странное. Она уверена, что не ей, а тебе грозила опасность, как, впрочем, и любому на твоём месте. Только не ей. В этом она уверена, так уверена, Сивер, что я… — Инсигна покачала головой, — и не знаю, что теперь делать.
— Она же такая послушная девушка, Эугения. И ты это знаешь лучше, чем я.
— Уже не такая: она уверена, что мы не сможем остановить её.
— А мы попробуем. Я поговорю с ней, и если она станет настаивать, то я просто отошлю её на Ротор. Прежде я был на её стороне, но, после того что случилось, буду строг.
— Тебе не удастся.
— Как это? Или Питт помешает?
— Нет, просто не сможешь.
Генарр невесело усмехнулся.
— Ну-ну, не настолько уж я поддался её влиянию. С виду-то я могу казаться добрым дядюшкой, Эугения, но, если речь идёт о том, что Марлене грозит опасность, — я забуду про доброту. Всему есть предел, вот увидишь — я умею и заставить. — Помолчав, он грустно добавил. — Кажется, мы поменялись ролями. Вчера ты требовала, чтобы я остановил её, а я уверял, что это невозможно. Теперь наоборот.
— Это потому, что тебя испугало то, что случилось с вами там, а меня — то, что произошло здесь, внутри Купола.
— А что здесь случилось, Эугения?
— Я попыталась поставить её на место. Я сказала ей: «А теперь, юная леди, не смей даже заикаться о том, что хочешь выйти из Купола, иначе даже из комнаты своей не выйдешь. Запрём, свяжем, если понадобится, и отправим на Ротор с первой же ракетой». Видишь, я вышла из себя настолько, что стала ей угрожать.
— Ну и что же она сделала? Готов прозаложить всю зарплату, что не ударилась в слезы, а стиснула зубы и сделала вид, что ничего не слышала, — так?
— Нет. Я ещё и половины не сказала, как мои зубы застучали, да так, что я не смогла продолжать. А потом накатила дурнота.
Генарр нахмурился.
— Ты хочешь сказать, что Марлена обладает ещё и странной гипнотической силой и способна справиться с любым противодействием? Но это же невозможно. А раньше ты ничего такого не замечала?
— Нет, конечно же, нет. И сейчас тоже. Она здесь ни при чем. Должно быть, я выглядела очень скверно в тот самый момент, когда принялась угрожать ей, может быть, даже испугала её. Марлена очень расстроилась. Если бы дело было в ней, она так не отреагировала бы на последствия собственного поступка. Когда вы были с ней снаружи и она принялась снимать э-комбинезон, она же на тебя не смотрела. Она стояла к тебе спиной. Я это помню. И, увидев, что тебе плохо, она сразу бросилась на помощь. Не могла же она наслать на тебя эту порчу и тут же кинуться помогать.
— Но тогда…
— Подожди, я не окончила. Значит, так. Я пыталась ей угрожать, но всё кончилось тем, что я и рта не смогла открыть. Однако я стала за ней следить, глаз с неё не спускала, но так, чтобы она не заметила. И увидела, как она говорила с кем-то из твоих часовых, что стоят здесь повсюду.
— Так положено. — пробормотал Генарр. — Вообще-то Купол — военный объект. Но часовые просто поддерживают порядок, помогают сделать то, сё.
— Знаешь что, — с укоризной бросила Инсигна, — по-моему, таким образом Янус Питт обеспечивает контроль за всеми твоими действиями — но дело не в этом. Марлена долго разговаривала с часовым, они даже поспорили. Потом, когда Марлена ушла, я спросила его, о чём они беседовали. Он не хотел говорить, но я заставила. Так вот, она интересовалась, нельзя ли получить пропуск, чтобы беспрепятственно уходить из Купола и таким же образом возвращаться. Я спросила его: «И что вы ей ответили?» А он сказал: «Что всё можно уладить у командира, и я сам возьмусь посодействовать». Я возмутилась: что это ещё за содействие, разве можно оказывать такую помощь? Он отвечал: «А что ещё мне оставалось, мэм? Всякий раз, когда я пытался объяснить ей, что это невозможно, мне тут же становилось плохо».
Генарр, окаменев, слушал.
— То есть ты утверждаешь, что Марлена бессознательно делает это? Всякий, кто пытается ей противоречить, немедленно ощущает дурноту, а она даже не подозревает об этом?
— Нет, конечно, нет. Я просто не понимаю, что происходит. Если бы такая способность проявлялась у неё бессознательно, об этом было бы известно ещё на Роторе, но там я ничего такого не замечала. Однако такой эффект проявляется не всякий раз. Вчера за обедом она попросила добавку десерта, и я, забывшись, в резкой форме отказала ей. Она надулась, но подчинилась, и я не почувствовала ничего плохого, уверяю тебя. Мне кажется, что ей нельзя противоречить лишь в том, что связано с Эритро.
— Но почему ты так решила? По-моему, ты о чём-то умалчиваешь, у тебя должны быть основания для такого вывода. Будь я Марленой, то прочитал бы обо всём на твоём лице, но поскольку я это я — выкладывай.
— Я думаю, что это делает не Марлена. Это… это — сама планета.
— Планета?!
— Да, планета. Эритро. Она управляет Марленой. Иначе откуда у девочки уверенность в том, что ей не страшна лихоманка, что планета не причинит ей вреда? Эритро управляет и всеми нами. Ты попробовал помешать Марлене, и тебе стало плохо. И мне. И часовому. Когда вы начали заселять Купол, людям было плохо, потому что планета ощутила вторжение и напустила на вас эту лихоманку. Но когда колонисты решили оставаться в Куполе, болезнь прекратилась. Видишь, всё сходится.
— Значит, планета хочет, чтобы Марлена выходила на её поверхность?
— Совершенно верно.
— Но почему?
— Не знаю и знать не хочу. Я просто пытаюсь объяснить тебе суть происходящего.
Голос Генарра вдруг стал ласковым:
— Эугения, ты же прекрасно понимаешь, что планета не может делать ничего подобного. Это шар… из металлов и камня. Ты впала в какую-то мистику.
— Сивер, не делай из меня дурочку. Я — профессиональный учёный и не верю в чудеса. Говоря о планете, я имею в виду не скалы и камни. Я хочу сказать, что на ней обитает что-то очень могущественное.
— И невидимое. Но это же мертвый мир, без малейших признаков жизни — прокариоты не в счёт, — не говоря уже о разуме.
— А что ты знаешь об этом мертвом, по-твоему, мире? Разве его исследовали? Обыскали каждый уголок?
Генарр медленно покачал головой и сказал умоляющим тоном:
— Эугения, не надо, это истерика.
— Нет, Сивер. Подумай обо всём сам. Если сумеешь что-то придумать, скажи. Я тебе говорю: эта планета — чем бы она ни была — не признает нас. Мы обречены. Ну а зачем ей нужна Марлена, — голос Инсигны дрогнул, — не могу даже представить.
Глава 28
СТАРТ
Официально у неё было очень сложное наименование, но те немногие из землян, кто знал о её существовании, называли её просто Четвертой станцией. Из названия следовало, что прежде существовало три подобных объекта, по очереди сменявших друг друга. Существовала и пятая станция, однако её забросили, не достроив.
Теперь земляне мало интересовались Четвертой станцией, медленно кружившей вокруг Земли за орбитой Луны.
Прежние станции использовались в качестве баз для создания первых поселений, ну а когда поселенцы сами принялись строить космические города, Четвертую станцию решили сделать перевалочным пунктом на пути с Земли на Марс.
Впрочем, дальше первого полёта дело не пошло: оказалось, что поселенцы куда более психологически пригодны для долгих перелетов, ведь они жили, по сути дела, в огромных космических кораблях, — и Земля со вздохом облегчения оставила это занятие.
Теперь Четвертую станцию почти не использовали, а держали в качестве космического плацдарма Земли, желая этим показать, что безграничный простор за пределами земной атмосферы принадлежит не одним поселенцам.
Но теперь нашлось дело и для Четвертой станции.
К ней причалил огромный грузовой корабль. Слух о том, что впервые в двадцать третьем столетии Земля решила высадить экспедицию на Марс, быстро распространился среди поселений. Некоторые говорили, что это изыскатели; другие утверждали, что на поверхности Марса будет создана земная колония, что ущемит интересы немногочисленных поселений, находящихся возле него; третьи предполагали, что Земля попытается занять плацдарм на каком-нибудь крупном астероиде, ещё не облюбованном поселенцами.
На самом же деле в трюме транспорта покоился «Сверхсветовой». С ним прибыл и экипаж, который должен был повести корабль к звездам.
Тесса Уэндел, родившаяся в космосе, несмотря на проведенные на Земле восемь лет, чувствовала себя уверенно, как и подобает поселенке. Но Крайл Фишер, который тоже не был новичком в космосе, ощущал некоторое беспокойство.
Напряженность на борту транспортного корабля создавал не только окружающий космос.
— Тесса, я уже не могу больше ждать, — как-то раз сказал Фишер. — Столько лет прошло. «Сверхсветовой» наконец готов, а мы всё ещё здесь.
Уэндел задумчиво смотрела на него. Нет, не этого она ждала. Ей хотелось покоя, отдыха для мозга, переутомленного сложной работой, — чтобы вернуться к работе с новыми силами. Она надеялась, что Фишер поймет её, — но, как оказалось, напрасно.
Она поняла, что привязалась к нему и его проблемы стали и её проблемами. Крайл ждал годы, но это ожидание, несомненно, окажется напрасным. Потому-то она и пыталась время от времени окатывать его ледяной водой, пыталась охладить его желание встретиться с дочерью, но ничего не добилась. Мало того, за последний год Фишер ещё более утвердился в своем оптимизме, но о причинах такого воодушевления не мог сказать ей ничего убедительного.
Приходилось утешаться тем, что Крайл тосковал не о жене, а о дочери. По правде сказать, Тесса не могла понять тоски о ребенке, которого в последний раз Фишер видел младенцем, — но он ничего не хотел ей объяснять, а она не стремилась испытывать его терпение. Зачем? Тесса была уверена, что ни дочери Крайла, ни Ротора давно нет на свете и если возле Звезды-Соседки им по чистой случайности удастся обнаружить беглое поселение, то оно окажется гигантской гробницей, космическим летучим голландцем.
Уэндел захотелось успокоить Крайла.
— Знаешь, — ласково сказала она, — осталось подождать ещё месяца два — не больше. Мы ждали годы — уж два-то месяца как-нибудь переживем.
— Я столько ждал, что эти месяцы просто не выдержу, — буркнул Фишер.
— Крайл, нужно держать себя в руках, — проговорила Уэндел. — Придётся смириться. Всемирный конгресс просто не позволит нам отправиться раньше. Поселения следят за каждым нашим шагом. Они уверены, что мы летим именно на Марс. Было бы странно, если бы они думали по-другому. Ведь им известно, что Земля не преуспела в области космических исследований. Если за два месяца они не заметят ничего особенного, то с удовольствием сделают вывод, что у нас какие-то сложности, — и перестанут одаривать нас своим вниманием.
Фишер сердито покачал головой.
— Кого волнует, что они знают о нас? Мы улетим и вернёмся, а им на разработку сверхсветового звездолёта потребуются годы… Да к тому времени у нас будет целый флот таких кораблей, вся Галактика будет открыта для нас.
— Не обязательно. Копировать легче, чем создавать заново. А правительству Земли, утерявшей инициативу в космосе после создания поселений, необходим безоговорочный приоритет — по психологическим соображениям. — Она пожала плечами. — К тому же нам нужно время, чтобы провести кое-какие испытания «Сверхсветового» в условиях невесомости.
— Неужели когда-нибудь настанет конец этим испытаниям?
— Не будь таким нетерпеливым. Техника новая, неопробованная, настолько не похожая на всё, чем прежде располагало человечество, что от новых проверок не следует отказываться, тем более что мы точно не знаем, как именно будет влиять интенсивность гравитационного поля на вход в гиперпространство и выход из него. Серьёзно, Крайл, не стоит обвинять нас в излишней осторожности. В конце концов, только десятилетие назад сверхсветовой полёт считался теоретически невозможным.
— Даже осторожность может оказаться чрезмерной.
— Возможно. Кстати, мне решать, когда можно заканчивать подготовку, и уверяю тебя, Крайл, тянуть время мы не будем. Я не сторонница промедления.
— Надеюсь.
Уэндел с сомнением поглядела на него. Придётся всё же спросить.
— Крайл, в последнее время ты сам не свой, уже два месяца тебя словно сжигает нетерпение. Мне казалось, что ты уже успокоился, а ты снова места себе не находишь. Что-нибудь случилось? Такое, о чём я не знаю.
Фишер разом притих.
— Ничего не случилось. Что вообще могло случиться?
Уэндел показалось, что он успокоился слишком быстро.
Его невозмутимость выглядела неискренней.
— Я спрашиваю тебя как раз о том, что могло случиться, — сказала Уэндел. — Крайл, я предупреждала тебя, что мы или найдём мертвый Ротор, или не найдём его вовсе. Мы не найдём тво… не найдём там никаких обитателей. — Он не ответил. — Или я не предупреждала тебя об этом?
— Часто предупреждала, — отозвался Фишер.
— Но теперь при одном лишь взгляде на тебя сразу чувствуется — ты предвкушаешь счастливую встречу с семьей. Крайл, подобные надежды опасны, особенно когда они необоснованны. Почему вдруг ты пришёл в такое настроение? Если ты с кем-то говорил об этом, то знай: в тебя вселили напрасный оптимизм.
Фишер вспыхнул.
— С чего бы это мне у кого-то набираться ума? Разве не могу я иметь своё мнение — и по любому вопросу? То, что я не понимаю всей этой твоей теоретической физики, ещё не значит, что у меня не хватает мозгов и знаний.
— Крайл, — сказала Уэндел, — такое мне даже в голову не приходило. Я вовсе не это хотела сказать. Как по-твоему, в каком состоянии мы обнаружим Ротор?
— С ним ничего страшного не произошло. Я считаю, что в космической пустоте ничто не могло ему повредить. Ты пытаешься убедить меня, что от Ротора остался один остов, что они едва ли вообще добрались до Звезды-Соседки. Объясни мне, что именно могло погубить их? Ну скажи. Столкновение с астероидами, нападение инопланетян? Что?
— Не знаю, Крайл, — честно призналась Уэндел, — никаких вещих снов я не видела. Всё дело в самом гиперприводе. Поверь мне. С ним летишь не в пространстве, не в гиперпространстве, а просто дёргаешься по линии раздела: из пространства в гиперпространство, потом обратно и снова туда — и так несколько раз в минуту. По пути отсюда к Звезде-Соседке роторианам пришлось совершить такой переход не менее миллиона раз.
— Ну и что?
— А то, что такой переход более опасен, чем полёт в пространстве или гиперпространстве. Я не знаю, каковы представления роториан о теории гиперпространства, однако, скорее всего, они только начали свои работы — иначе соорудили бы настоящий сверхсветовой корабль. Мы же, разрабатывая все подробности теории гиперпространства, изучали, как воздействует переход на материальные объекты. Если объект является точечным, то во время перехода он не испытывает напряжений. Но если речь идёт не о точке, если мы имеем дело с протяженным объектом, таким как корабль, всегда будет существовать такой отрезок времени, когда одна его часть будет находиться в пространстве, а другая — уже в гиперпространстве. При этом в конструкции возникают напряжения — величина их зависит от размера объекта, его конфигурации, скорости перехода и прочего. Для объекта размером с Ротор лишь ограниченное количество переходов — допустим, дюжина — не представляет значительной опасности. При перелете на «Сверхсветовом» мы можем сделать дюжину переходов, а можем ограничиться двумя. Полёт не сулит нам опасности. А вот на гиперприводе приходится делать миллион переходов. Видишь, как растет угроза опасного разрушения?
Фишер явно приуныл.
— А как быстро могут создаться опасные напряжения?
— Трудно сказать. Корабль может выдержать миллион переходов, даже миллиард — и ничего не случится. А может разлететься на первом же. И вероятность такого исхода растет вместе с числом переходов. Таким образом, Ротор отправился в путь, не подозревая, чем грозят ему переходы. Знай они это, полёт, возможно, и не состоялся бы. Может быть, напряжения не оказались чрезмерными, и Ротор сумел «дохромать» до места, а может быть, он по дороге разлетелся на куски. Вот и получается: или пустой остов, или вообще ничего.
— Или поселение, которое живёт и процветает, — сердито добавил Фишер.
— Я-то не против, — ответила Уэндел. — Только лучше настраиваться на худшее — больше обрадуешься, если всё окажется в порядке. Прошу тебя, не надейся на удачу, будь готов к любому исходу. Помни, что всякий, кто суется в гиперпространство, не зная его, едва ли может прийти к здравым выводам.
Вконец расстроенный, Фишер молчал. Уэндел смотрела на него, и на сердце у неё было тяжело.
* * *
Тесса Уэндел находила Четвертую станцию странной. Некто, взявшись строить небольшое поселение, ограничился лабораторией, обсерваторией и пусковым причалом. Ни ферм, ни домов, ничего, что подобает приличному поселению. Даже псевдогравитационное поле не создали толком.
Это был пораженный манией величия корабль, где даже один человек не мог бы пробыть долго без постоянного пополнения извне запасов пищи, воздуха и воды. Последняя бродила по замкнутому циклу, однако система была не особенно эффективной.
Крайл Фишер заметил, что Четвертая станция похожа на допотопную внеземную станцию первых дней освоения космоса, чудом сохранившуюся до двадцать третьего столетия.
Впрочем, в одном она действительно была уникальной. Со станции открывался превосходный вид на двойную систему Земля — Луна. С окружавших Землю поселений редко можно было видеть оба небесных тела в их истинном соотношении. По отношению к Четвертой станции Земля и Луна редко расходились больше чем на пятнадцать градусов, и, поскольку Четвертая станция обращалась вокруг того же центра, что и обе планеты, с неё можно было бесконечно любоваться замечательным зрелищем двух миров.
Солнечный свет автоматически отсекался устройством «Изат» (Уэндел поинтересовалась, что означает такое название, оказалось — «искусственное затмение»), и только когда Солнце близко подходило к Луне или Земле, разглядеть планеты было невозможно.
Уэндел с удовольствием любовалась танцем Земли и Луны и радовалась, что ей наконец удалось вырваться с Земли.
Как-то раз она сказала об этом Крайлу. Тот усмехнулся, заметив, как та быстро оглянулась по сторонам.
— Вижу, тебя не смущает, что я землянин. И мне могут не понравиться такие слова. Ничего, не бойся — я промолчу.
— Крайл, я же тебе доверяю. — Уэндел счастливо улыбнулась.
Фишер изменился к лучшему после того серьёзного разговора, когда они прибыли на станцию. Помрачнел, правда, но это лучше, чем лихорадочное ожидание того, что никогда не произойдёт.
— Неужели ты думаешь, что их до сих пор смущает твоё происхождение? — спросил он.
— Конечно. Они никогда не забудут, что я поселенка. У них те же предрассудки, что и у меня, и я тоже никогда не прощу им, что они земляне.
— Кажется, ты забываешь, что и я землянин.
— Нет, ты просто Крайл, а я — просто Тесса. И всё.
— А тебе никогда не было жаль, Тесса, что ты построила свой звездолёт для Земли, а не для родной Аделии?
— Крайл, я делала это не для Земли, а сложись всё иначе, делала бы и не для Аделии. В обоих случаях я делала бы это для себя. Передо мной поставили задачу — я её решила. Буду числиться в истории как изобретатель сверхсветового звездолёта — но я создавала его для себя. А уж потом — пусть это покажется претенциозным — для всего человечества. Видишь ли, абсолютно неважно, в каком из миров состоялось открытие. Кто-то на Роторе — он, она или целая группа — изобрел гиперпривод — значит, он есть и у нас, и у поселений. В конце концов все получат сверхсветовые звездолёты. Где бы ни был сделан решающий шаг — это значит, что всё человечество шагнуло вперёд.
— Но Земле твой звездолёт нужен больше, чем поселениям.
— Потому что приближается Звезда-Соседка и поселения запросто могут разлететься во все стороны, а Земля не может? На мой взгляд — это проблема правительства Земли. Я дала им инструмент, пусть уж они сами решают, как его лучше использовать.
— Похоже, мы уже вплотную подошли к проблеме завтрашнего дня, — заметил Крайл.
— Да, наконец. Уже есть голографическая запись. Впрочем, трудно сказать, когда они покажут её землянам и поселениям.
— Скорее всего, после нашего возвращения, — сказал Крайл. — Нет смысла рассказывать всем о нашей работе, если мы не вернёмся. Ожидание будет мучительным — ведь с нами никак не свяжешься. Когда астронавты впервые высадились на Луну, Земля весь день была на связи.
— Правильно, — подтвердила Уэндел, — а вот когда Колумб отправился под парусами через Атлантику, испанские монархи ничего не слышали о нём несколько месяцев, пока он не вернулся.
— Земле есть что терять — семь с половиной столетий назад испанцы рисковали меньшим, — возразил Фишер. — Действительно жаль, что сверхсветовой звездолёт не оснащен сверхсветовой связью.
— Не спорю. Коропатский без конца твердил мне о связи, но я сказала, что не чародейка и не могу немедленно сотворить всё, что ему угодно пожелать. Одно дело — перебросить через гиперпространство массу, но излучение — совсем другое. Даже в обычном пространстве оно подчиняется другим законам. Свои уравнения электромагнетизма Максвелл вывел через два столетия после того, как Ньютон открыл закон тяготения. А о распространении излучения в гиперпространстве нам ещё ничего не известно. Когда-нибудь мы сумеем создать устройство для сверхсветовой связи, но пока…
— Плохо, — задумчиво сказал Фишер. — Возможно, что без сверхсветовой связи сверхсветовые полёты окажутся невозможными.
— Почему?
— Я же говорю — отсутствие связи. Смогут ли поселения жить вдали от Земли, от человечества — и выжить?
Уэндел нахмурилась.
— Что это ещё за новое направление в твоих мыслях?
— Да так, просто подумалось. Ты поселенка, ты привыкла, и тебе даже в голову не может прийти, насколько противоестественный образ жизни ведёте вы в поселениях.
— Неужели? Я не вижу в нём ничего противоестественного.
— Это потому, что, по сути дела, тебе не приходилось жить абсолютно обособленно. Ваша Аделия — одно из многих поселений, находящихся возле планеты, на которой живут миллиарды людей. Разве не могло случиться, что, оказавшись возле Звезды-Соседки, роториане поняли, что не выживут одни? Но тогда они уже вернулись бы на Землю, а этого не случилось. Значит, они обнаружили там пригодную для жизни планету.
— Пригодную для жизни планету у красного карлика? Едва ли.
— Природа умеет обманывать человека. Предположим, что там оказалась обитаемая планета. Не следует ли её как следует изучить?
— Теперь я понимаю, к чему ты клонишь, — сказала Уэндел. — Ты думаешь, что возле Звезды-Соседки есть такая планета. И ты хочешь, чтобы мы полетели туда и попытались отыскать твою дочь. Но если наш нейродетектор может засвидетельствовать отсутствие разума во всей планетной системе, зачем же нам обыскивать каждую планету?
Фишер задумался.
— Да. Но если признаки жизни всё же обнаружатся, думаю, это не стоит оставлять без внимания. Всё-таки планету надо исследовать. Ведь нам предстоит начать эвакуацию населения с Земли — надо же знать, куда можно переселить людей. Впрочем, тебя это, конечно, не волнует: ведь поселения могут просто разлететься…
— Крайл! Зачем ты хочешь видеть во мне врага? Почему ты вдруг вспомнил, что я поселенка? Для тебя я просто Тесса. Но если твоя планета найдётся, мы постараемся узнать о ней всё, что возможно, — я обещаю тебе. Кстати, а что мы будем делать, если она существует и роториане уже начали заселять её? Крайл, ты прожил на Роторе несколько лет и знаешь Януса Питта.
— Да, я слыхал о нём кое-что. Правда, никогда с ним не встречался, однако моя жена… моя бывшая жена с ним работала. По её словам, это человек способный, умный и сильный.
— Очень сильный. В поселениях его знали. И не любили. И если уж он решил спрятать Ротор от человечества, то лучшего места, чем Звезда-Соседка, ему не найти. И близко, и люди не знают. Но, облюбовав эту систему, он тотчас же начнет опасаться, что за Ротором последуют другие, способные покуситься на его добычу. И тогда он будет весьма недоволен нашим появлением.
— К чему ты клонишь? — тревожно спросил Фишер, но, судя по выражению её лица, он прекрасно знал — к чему.
— Завтра мы вылетаем и довольно скоро окажемся возле Звезды-Соседки. И если мы, как ты предполагаешь, обнаружим там планету, если окажется, что роториане уже поселились на ней, то одним «ой, здрасьте» дело не ограничится. Боюсь, что, едва увидев нас, Питт в качестве приветствия без предупреждения отправит нас на тот свет.
Глава 29
ВРАГ
Как и все обитатели Купола, Рене Д’Обиссон время от времени наведывалась на Ротор. Это было необходимо — возвратиться домой, прикоснуться к корням, набраться новых сил.
Но на сей раз Д’Обиссон отправилась «наверх» — как говорили о путешествии с Эритро на Ротор — чуть раньше, чем было предусмотрено графиком. Дело в том, что её вызвал комиссар Питт.
И теперь она сидела в его кабинете, опытным взглядом подмечая, как комиссар постарел за последние несколько лет. Конечно, ведь по работе ей незачем было часто видеться с ним.
Однако голос комиссара был по-прежнему сильным, взгляд — острым, движения — энергичными.
— Я получил ваш отчет о том, что произошло вне Купола, — начал Питт, — и одобряю осторожность, проявленную вами при анализе ситуации. Но теперь — не для протокола, между нами — скажите, что там случилось с Генарром? Комната заэкранирована, можете говорить без опаски.
— Боюсь, что мой отчет при всей его осторожности всё-таки правдив и точен, — сухо ответила Д’Обиссон. — Мы не знаем, что произошло с командиром Генарром. Сканирование мозга выявило некоторые изменения — незначительные и ранее не замеченные нами. К счастью, они оказались обратимыми — всё быстро пришло в норму.
— Но ведь что-то с ним всё же случилось?
— Именно — что-то. В этом вся беда: мы так и не поняли, что это было.
— А не лихоманка ли это в какой-то новой форме?
— Ни одного из наблюдавшихся прежде симптомов нами не обнаружено.
— Но когда лихоманка только начиналась, сканирование осуществлялось весьма примитивным способом. Раньше вы могли просто не заметить такие симптомы. К тому же это может быть новая форма лихоманки.
— Не исключено, однако ничто не свидетельствует об этом, да и Генарр, совершенно очевидно, находится в здравом уме.
— Точнее, вам кажется, что это так, но нельзя гарантировать, что приступ не повторится.
— У нас нет причины допускать возможность повторения.
Легкое нетерпение пробежало по лицу комиссара.
— Не спорьте со мной, Д’Обиссон. Вам прекрасно известно, что Генарр занимает весьма важный пост. Ситуация в Куполе постоянно внушает опасения: мы не знаем, когда может произойти рецидив лихоманки. Мы считали, что Генарр невосприимчив к ней — теперь в этом нет уверенности.
Раз такое случилось, следует приготовиться к тому, что ему придётся уйти.
— Решать вам, комиссар. Лично я считаю, что такой необходимости нет.
— Но, я надеюсь, вы внимательно следите за ним и учитываете подобную перспективу?
— Это входит в мои врачебные обязанности.
— Хорошо. Имейте в виду: если отставка Генарра состоится, то на его место я пока наметил вас.
— Меня? — Легкая радость промелькнула на её лице и исчезла.
— А почему бы и нет? Все знают, я никогда не одобрял заселения Эритро. Я всегда считал, что люди должны быть мобильными и нельзя привязывать себя к большой планете. С другой стороны, она нужна нам как богатый источник ресурсов — как Луна в нашей Солнечной системе. Но что делать, если угроза лихоманки постоянно висит над нашей головой?
— Проблема, комиссар.
— Значит, необходимо решить эту проблему. А мы ведь так и не справились с болезнью. Лихоманка утихла сама собой, и мы примирились с этим — хотя последний случай явно свидетельствует, что опасность не миновала. Схватил Генарр лихоманку или не схватил, что-то с ним всё-таки произошло, и я хочу, чтобы этот вопрос был прояснен в первую очередь. Кому как не вам возглавить работы?
— Охотно возьму на себя всю ответственность. Мне ведь придётся в этом случае делать лишь то, что я и так стараюсь делать, — но уже обладая большей властью. Но я не уверена, что мне следует принимать на себя обязанности командира Купола.
— Как вы уже сказали, решать мне. Полагаю, что вы не откажетесь от назначения, если вам предложат?
— Нет, комиссар, это большая честь.
— Не сомневаюсь, — сухо сказал Питт. — А что там случилось с девушкой?
Внезапное изменение темы разговора застигло Д’Обиссон врасплох. Дрогнувшим голосом она переспросила:
— С какой девушкой?
— Той, что выходила из Купола с Генарром и сняла защитный комбинезон.
— Марленой Фишер?
— Да, так её зовут. Что с ней случилось?
Д’Обиссон помедлила.
— Ничего особенного, комиссар.
— Так написано в отчете. Но я вновь спрашиваю: действительно ничего?
— Ничего такого, что можно было бы обнаружить сканированием мозга или любым другим способом.
— Вы хотите сказать, что Генарр в комбинезоне упал как подкошенный, а девица, эта Марлена Фишер, и ухом не повела?
Д’Обиссон пожала плечами:
— Насколько мне известно, с ней действительно ничего не произошло.
— Вам это не кажется странным?
— Она странная девушка, её сканирование…
— Я знаю, что показывает сканирование. Мне известно и то, что она одарена необычными способностями. Вы этого не замечали?
— Случалось, конечно.
— И как она вам показалась? Вам не кажется, что она умеет читать мысли?
— Нет, комиссар. Такого не бывает. Вся эта телепатия — пустые выдумки. Уж лучше бы она читала мысли. Это не так опасно — за мыслями можно следить.
— А что же вам кажется в ней опасным?
— Она явно читает по движениям тела, а за ними не углядишь. Каждый жест что-нибудь да выдаёт, — огорченно закончила она, что не скрылось от проницательного Питта.
— Вы успели столкнуться с этими проявлениями её способностей? — поинтересовался он.
— Куда денешься, — мрачно буркнула Д’Обиссон. — С ней даже рядом нельзя стоять, чтобы она чего-нибудь не высмотрела:
— И что же с вами случилось?
— Ничего особенного, просто досадно. — Д’Обиссон покраснела и поджала губы, так что Питту показалось, что больше она ничего не скажет. Но она прошептала: — После того как я обследовала командира Купола, Марлена поинтересовалась, как у него дела. Я сказала, что ничего серьёзного не обнаружила и считаю, что Генарр полностью оправится. А она спросила: «Почему это вас расстраивает?» Я с недоумением переспросила: «Расстраивает? Я рада!» Но она сказала: «Вы разочарованы, это очевидно. Вам не терпится». Так я впервые столкнулась с её штучками, хотя уже слыхала о них. Мне оставалось только возмутиться: «Почему мне не терпится? О чём ты?» Она скорбно взглянула на меня своими огромными, тёмными, вечно бегающими глазами и ответила: «Дело в дяде Сивере…»
Питт перебил Рене:
— Дядя Сивер? Разве они родственники?
— Нет, я думаю, что это просто знак симпатии. Она сказала тогда: «Все дело в дяде Сивере, и, по-моему, вы метите на его место». Тут я повернулась и ушла.
— А что вы почувствовали, услышав такое? — спросил Питт.
— Как что? Рассердилась, конечно!
— Потому что она сказала неправду? Или же наоборот — оказалась права?
— Ну, если хотите…
— Нет-нет, не надо вилять, доктор. Она ошиблась или была права? Вы действительно обнаружили разочарование, поняв, что Генарр здоров, так что девчонка смогла это заметить, или она всё просто придумала?
Д’Обиссон ответила с явной неохотой:
— Она действительно подметила кое-что. — Врач с негодованием взглянула на Питта. — Я всего лишь человек и, как все, подвластна чувствам. Вы сами сейчас сказали, что я могу надеяться на этот пост, следовательно, я подхожу для него.
— Значит, она не ошиблась… — без малейших признаков усмешки произнес Питт. — А теперь давайте подумаем: эта девушка — особенная, странная девушка, о чём свидетельствует и её поведение, и сканирование мозга… Даже лихоманка её не берёт. А что, если её устойчивость к лихоманке определяется строением мозга? Разве она не может послужить нам средством для изучения лихоманки?
— Не знаю. Впрочем — сомневаюсь.
— Может, попробовать?
— Быть может — но как?
— Пусть она как можно чаще бывает на поверхности Эритро, — невозмутимо ответил Питт.
Д’Обиссон задумалась.
— Дело в том, что она сама к этому стремится и командир Генарр её поддерживает.
— Вот и отлично. А вы обеспечьте им медицинскую поддержку.
— Понимаю. А если девушка схватит лихоманку?
— Не следует забывать, что решение всей проблемы гораздо важнее, чем здоровье индивида. Нам завоевывать этот мир, и необходимо быть готовыми к вынужденным потерям.
— Ну а если Марлена погибнет, но так и не поможет нам понять или победить лихоманку?
— И всё-таки следует рискнуть, — ответил Питт. — В конце концов, с ней может ничего не случиться, и тогда, тщательно выяснив все причины, мы сумеем справиться с болезнью. Пусть будет так. Нельзя выигрывать без потерь.
Только потом, когда Д’Обиссон отправилась в свою квартиру на Роторе, железная решимость Питта ослабла, и он понял, что стал кровным врагом Марлены Фишер. Но победа будет истинной, только если Марлена погибнет, а причины лихоманки останутся неизвестными. Тогда он избавится и от странной девицы, и от никчемной планеты, на которой со временем может появиться население — неповоротливое и бестолковое, — как на Земле.
* * *
Они сидели под Куполом втроем. Сивер Генарр наблюдал, Эугения Инсигна тревожилась, а Марлене Фишер не терпелось.
— Помни, Марлена, — внушала Инсигна, — нельзя смотреть на Немезиду. Я знаю, тебе говорили про инфракрасный свет, но, кроме того, время от времени на её поверхности происходят взрывы, и она вспыхивает белым огнем. Вспышка длится минуту-другую, но этого вполне хватит, чтобы обжечь сетчатку, а заранее не угадаешь, когда это может случиться.
— Значит, астрономы не умеют предсказывать вспышки? — поинтересовался Генарр.
— Пока нет. В природе многое подчиняется случаю. Мы ещё не знаем законов турбулентности в звездах, некоторые из нас полагают, что люди вообще не сумеют разобраться в них — слишком они сложны.
— Интересно, — произнес Генарр.
— Но мы должны быть благодарны Немезиде за эти вспышки. Как-никак, а всё же целых три процента энергии, которую Эритро получает от Немезиды.
— Не слишком-то много…
— Уж сколько есть. Но без этого Эритро оледенела бы и здесь было бы труднее жить. Но Ротору вспышки мешают — приходится быстро реагировать на изменение освещенности, немедленно включать защитные поля.
Марлена слушала и то и дело переводила взгляд с одного на другого и наконец не выдержала:
— Ну сколько вы ещё будете вот так разговаривать? Вам нужно, чтобы я здесь сидела? Я же вижу.
— А куда ты там пойдешь? — поспешно спросила Инсигна.
— Погуляю. Схожу к речке, то есть к ручью.
— Зачем?
— Интересно. Течёт вода, течёт под открытым небом. Непонятно, где начинается, неизвестно, где кончается, и нигде не видно насосов, которые перекачивали бы её обратно.
— На самом деле, — начала объяснять Инсигна, — это происходит в результате воздействия тепла Немезиды…
— Я не об этом. Я хочу сказать, что ручей не сделан людьми. Просто хочется постоять у воды, посмотреть на неё.
— Только не пей, — приказала Инсигна.
— И не собираюсь. Неужели я час без питья не обойдусь? Если захочется есть-пить — или ещё чего-нибудь, — сразу вернусь. И не надо, как всегда, устраивать столько шума из ничего.
— Тебе, наверное, уже хотелось бы нарушить установленный порядок в Куполе? — улыбнулся Генарр.
— Конечно. Любому бы хотелось.
Улыбка Генарра стала ещё шире.
— Знаешь что, Эугения, я успел убедиться, что жизнь на поселениях переделывает людей. Теперь мы уже не представляем себе, как можно жить вне замкнутых циклов. А на Земле, ты знаешь, люди привыкли всё выбрасывать: дескать, любые отбросы переработаются естественным путем, но, увы, иногда этого не случается.
— Генарр, ты мечтатель. Необходимость заставляет людей научиться хорошим манерам, но исчезнет необходимость — и всё вернется на круги своя. С горки ехать легче, чем в горку. Так гласит второй закон термодинамики, и, если людям суждено жить на Эритро, не сомневаюсь, человечество моментально загадит её от полюса до полюса.
— Этого не произойдёт, — возразила Марлена.
— Почему же, дорогая? — вежливо осведомился Генарр.
— Не произойдёт, потому что не произойдёт, — нетерпеливо ответила Марлена. — Ну теперь я могу наконец идти?
Генарр взглянул на Инсигну.
— Что ж, Эугения, пусть идёт. Её же не удержишь. Кстати, рад тебе сообщить, что недавно с Ротора вернулась Рене Д’Обиссон и проверила результаты её сканирования, начиная с первого. Она утверждает, что параметры мозга Марлены устойчивы настолько, что на Эритро ей ничто не сможет причинить вред.
Эти слова услышала Марлена, уже было собравшаяся уходить.
— Да, дядя Сивер, чуть не забыла. Будь поосторожнее с доктором Д’Обиссон.
— Почему? Она — великолепный нейропсихолог.
— Я не об этом. Когда после нашей прогулки вам было плохо, она обрадовалась, а когда вы пришли в себя — огорчилась.
— Откуда ты знаешь? — привычно спросила Инсигна.
— Знаю.
— Не понимаю. Сивер, ты ведь прекрасно ладил с Д’Обиссон.
— Конечно. И до сих пор лажу. И мы ни разу не ссорились. Но если Марлена говорит…
— А не может ли твоя Марлена ошибаться?
— Я не ошиблась, — проговорила Марлена.
— Не сомневаюсь в этом. — Сивер обратился к Инсигне: — Доктор Д’Обиссон — женщина честолюбивая. И случись что со мной, именно она станет моим преемником. Д’Обиссон много времени провела на Эритро, только ей по плечу справиться с лихоманкой, если та вновь появится. И что самое главное — она старше меня, и времени у неё ещё меньше. Так что не могу винить Д’Обиссон, если при виде меня больного сердце у неё вдруг екнуло. Не исключено, что она сама не подозревала об этом.
— Нет, она знает, — многозначительно сказала Марлена. — Всё знает. Последите за ней, дядя Сивер.
— Хорошо. Ты готова?
— Конечно.
— Тогда пошли в шлюз. Эугения, иди сюда и постарайся не мучиться так откровенно.
Так впервые Марлена выходила на поверхность Эритро одна, без защитной одежды. Было это по земному стандартному времени в 9.20 пополудни 15 января 2237 года. А по-эритрийски — ближе к полудню.
Глава 30
ПЕРЕХОД
Крайл Фишер старался выглядеть таким же невозмутимым, как и остальные члены экипажа.
Он не знал, куда подевалась Тесса. Впрочем, заблудиться она не могла — «Сверхсветовой» был невелик.
Крайл украдкой поглядывал на своих спутников. Он уже успел поговорить с ними — и не раз. Все были сравнительно молоды. Старшему, Сяо Ли By, специалисту по гиперпространству, было тридцать восемь, Генри Ярлоу — тридцать пять. Самой младшей была Мерри Бланковиц двадцати семи лет. Чернила ещё не успели просохнуть на её докторском дипломе.
Рядом с ними Уэндел в свои пятьдесят пять выглядела старухой — однако именно она изобрела, спроектировала — словом, сотворила этот звездолёт.
Не на месте оказался только Фишер. В следующий день рождения ему исполнится пятьдесят, и ждать оставалось уже недолго. Специальной подготовки у него не было, и ни возраст, ни знания не давали ему права находиться на корабле.
Но на Роторе бывал он один. И это ему помогло. Не лишним, конечно, оказалось ходатайство Уэндел. Но главное — этого хотели Танаяма и Коропатский.
Корабль двигался в пространстве. Фишер чувствовал это движение, хотя внешне оно никак не проявлялось. Но он чувствовал — всеми своими кишками. И подумал: «Я провёл в космосе больше, чем эти трое, вместе взятые, и летал чаще. А уж сколько кораблей повидал…
Потому-то я чувствую, как он трудно идёт, — нутром чувствую. А они не могут».
«Сверхсветовой» действительно шёл с трудом. Количество энергоустановок, обеспечивавших движение обычных кораблей в обычном пространстве, на нём было сведено до минимума. Иначе и не могло быть — основную часть корабля занимали гиперпространственные двигатели.
И теперь «Сверхсветовой» был похож на неуклюжую чайку, которая топчется у кромки воды, ожидая дуновения ветра, чтобы взмыть.
Откуда-то появилась Уэндел, слегка растрепанная и вспотевшая.
— Тесса, всё в порядке? — спросил Фишер.
— Конечно, всё превосходно. — Она уселась в одно из углублений в стене — очень полезных, поскольку искусственная гравитация на корабле была незначительной. — Нет проблем.
— И когда мы перейдём в гиперпространство?
— Через несколько часов. Надо добраться до точки с выбранными координатами, чтобы все гравитационные источники искривляли пространство расчётным образом.
— Значит, мы можем всё точно учесть?
— Совершенно верно. — И, улыбнувшись Фишеру, Уэндел добавила: — А ты никогда об этом не спрашивал. С чего вдруг решил спросить?
— Мне же ещё не приходилось летать в гиперпространстве. По-моему, вполне уместное любопытство.
— Этими вопросами я занималась много лет. Так что присоединяйся.
— Но ответь мне.
— Охотно. Во-первых, мы измерили полную интенсивность гравитационного поля в разных точках пространства, вне зависимости от того, знаем ли мы их окрестности или нет. Результат получается менее точным, чем при тщательном измерении всех компонентов и точном сложении воздействия всех источников тяготения, но этого достаточно — ведь нужно торопиться. Когда время дорого, нажимаешь, так сказать, на гиперпространственную кнопку в расчёте на то, что гравитационное поле здесь не слишком сильно, и, конечно, ошибаешься, пусть и немного, — тогда переход будет сопровождаться чем-то вроде толчка — словно о порог споткнулся. Удастся этого избежать — отлично; нет — скорее всего, ничего страшного не случится. Но всё же первый переход спокойствия ради хочется выполнить как можно более гладко.
— А если ты второпях подумаешь, что тяготение незначительно, а на самом деле это не так?
— Будем надеяться, что такого не случится.
— Ты говорила, что при переходе возникают напряжения, — значит, и первый вход в гиперпространство может оказаться роковым, даже если учтено тяготение?
— Это возможно, однако шансы на подобный исход минимальны, сколько бы ни было переходов.
— Ну а если до плохого не дойдёт, могут ли всё-таки возникнуть какие-то неприятные ощущения?
— Трудно сказать, здесь всё субъективно. Видишь ли, ускорения не будет. Это с гиперприводом приходится разгоняться до скорости света и ненадолго превышать её в слабом гиперпространственном поле. КПД низок, скорость высока, риск велик — не хочу даже гадать, какие здесь могут быть варианты. Но у нас — в сильном гиперпространственном поле — переход совершается на умеренной скорости. Только что мы делали тысячу километров в секунду, а через мгновение — уже тысячу миллионов, но без ускорения. А раз ускорения нет, мы ничего не почувствуем.
— Как это нет ускорения, если ты за какое-то мгновение в миллион раз увеличила скорость?
— В нашем случае переход является математическим эквивалентом ускорения. А твоё тело способно прореагировать только на ускорение, а не на гиперпереход.
— Откуда ты знаешь?
— Мы проводили опыты с животными. В самом гиперпространстве они находились какую-то долю микросекунды, но для нас главное — переход, а даже при самом краткосрочном полёте через гиперпространство его приходится совершать дважды.
— Значит, животные…
— А как же? Конечно, они нам ничего не могли рассказать, однако все вернулись целыми и невредимыми. И даже совершенно спокойными. Мы повторяли опыт на дюжине различных видов. Посылали даже мартышек. Все остались целыми. Кроме одной.
— А! Что же с ней случилось?
— Погибла. Морда животного была странным образом искажена, но причиной — мы выяснили — оказалась ошибка программирования. Подобное может случиться и с нами. Шанс невелик, но он есть. Ну как если, переходя через порог, ты спотыкаешься, падаешь и ломаешь себе шею. Случается ведь и такое — но люди всё-таки ходят через пороги. Понял?
— Полагаю, выбора у меня нет, — сурово ответил Фишер. — Понял.
Через двадцать семь минут после этого разговора «Сверхсветовой» благополучно перешёл в гиперпространство, да так, что никто из находившихся на борту этого не заметил. Начался первый сверхсветовой полёт…
В момент перехода на часах значилось: 9.20 пополудни 15 января 2237 года по земному стандартному времени.
Глава 31
ИМЯ
Тишина!
Марлена погрузилась в безмолвие, понимая, что может нарушить его в любой момент. Наклонилась, подобрала голыш, запустила в скалу. С легким стуком он упал на землю.
Здесь, за пределами Купола, в своей обычной роторианской одежде Марлена ощущала полную свободу.
Она направилась прямо к ручью, даже не глядя по сторонам.
Вспомнились напутственные слова матери. Она умоляла: «Пожалуйста, Марлена, не забудь, что ты обещала держаться возле Купола».
Девушка усмехнулась. Ну и что? Захочет — останется рядом, не захочет — отойдёт. Она вовсе не собиралась выполнять обещания, которые давала матери, только чтобы та оставила её в покое. В конце концов, у неё с собой излучатель. По сигналу прибора её найдут где угодно — стоит только направить приёмный конец на установленный в Куполе излучатель.
Если с ней что-либо случится — упадет или поранится, — её, безусловно, найдут.
Вот если её поразит метеорит — дело другое. Тогда уж она погибнет наверняка, где бы это ни случилось — рядом с Куполом или нет. Впрочем, не стоит думать о метеоритах — ведь на Эритро так тихо и спокойно. А вот на Роторе всегда шумно. Куда ни сунься — везде шум и гам терзают уставший слух. Должно быть, на Земле ещё хуже, с её восемью миллиардами жителей, и триллионами животных, и грозами, и свирепыми потоками воды — и с неба, и на море. Однажды она попробовала послушать запись «Земной шум», но не выдержала до конца.
Но здесь, на Эритро, — восхитительная тишина. Марлена подошла к ручью. Вода бежала по узкому руслу с тихим журчанием. Взяла камешек, бросила в воду, послышался всплеск. Тишина Эритро не была гробовой, просто здесь звуков было так мало, что они не нарушали торжественный покой.
Марлена топнула по мягкой глине у воды. Раздался глухой стук, а в глине остался отпечаток подошвы. Марлена нагнулась, зачерпнула пригоршню воды, плеснула на берег. На почве выступили пятна — пурпурные на розовом фоне. Она ещё побрызгала, потом поставила ногу на влажное пятно и надавила. Подняв ногу, обнаружила глубокий след.
Кое-где из воды выступали большие камни, и Марлена перешла по ним на другой берег.
Она энергично зашагала вперёд, размахивая руками и дыша полной грудью. Она знала, что в атмосфере планеты кислорода меньше, чем на Роторе. И если побежать, то быстро устанешь — но бежать не хотелось. Стоит сорваться с места — и мир начнет разворачиваться перед глазами более торопливо. А хотелось всё разглядеть.
Она обернулась — Купол был ещё виден, и особенно ясно — пузырь с астрономическими приборами на самом верху. Она рассердилась. Ей хотелось оказаться далеко-далеко отсюда, чтобы признаки существования рода людского остались за тонкой, чуть неровной линией горизонта.
Может быть, вызвать Купол? Предупредить мать, что какое-то время она будет вне видимости? Нет, не стоит — они начнут ругаться. Но ведь они принимают сигнал её излучателя, значит, знают, что с ней всё в порядке. И Марлена решила, что, если её будут вызывать, она не станет обращать внимания. Ну в самом деле! Почему они не оставят её в покое?
Глаза её приспосабливались к розоватому свету Немезиды и розовой почве вокруг. Поверхность была розовой не везде, местами она становилась темнее, местами светлела — пурпурная, оранжевая, кое-где желтоватая. Цвета создавали новую палитру, не менее богатую, чем на Роторе, только более однородную.
Что же будет, если однажды люди поселятся на Эритро, обживутся, настроят городов? Они погубят и эту планету? Или печальный опыт Земли заставит их поступить иначе с нетронутым миром, сотворить из него нечто более милое сердцу человека?
Сердцу какого человека? Любого?
В том-то и дело. Сколько людей — столько и идеалов. Каждый стремится к своей цели. Они снова начнут ссориться и тянуть в разные стороны. Не лучше ли оставить Эритро такой, какая она сейчас?
Да и нужно ли людям здесь появляться? Марлена отлично знала, что не собирается покидать эту планету. Ей было хорошо здесь, это был её мир. Она ещё не поняла почему, но планета — не Ротор — стала её домом.
Может быть, в ней жила смутная память о Земле? Может быть, рядом с воспоминаниями о крохотном рукотворном космическом городке гнездились воспоминания о громадном беспредельном мире? Неужели такое возможно? Ведь Земля совершенно не похожа на Эритро, разве что размерами. И если даже в ней живёт генетическая память о Земле — то что же сказать о землянах?
Нет, здесь, должно быть, что-то другое. Марлена потрясла головой — и крутанулась на месте, потом ещё и ещё — как в бесконечном пространстве. Странно, но Эритро не кажется пустынной. Там, на Роторе, просто глаза разбегаются: сады, поля, зелень, желтизна, прямолинейная иррегулярность рукотворных сооружений. Здесь же, на Эритро, повсюду только почва и глыбы камней, словно брошенных чьей-то гигантской рукой: странные силуэты, молчаливые и задумчивые; тут и там ручейки извиваясь пробираются между камнями. И ничего, кроме мириад крохотных клеток, наполняющих атмосферу кислородом под красными лучами Немезиды.
Как и подобает красному карлику, Немезида будет скупо светить ещё две сотни миллиардов лет, даря энергию Эритро, чтобы крохам-прокариотам жилось тепло и уютно. Умрет земное Солнце, умрут и другие яркие планеты, родившиеся позднее его, а Немезида даже не изменится, и так же будет кружить Эритро вокруг Мегаса, и будут прокариоты жить, умирать, не ведая, что происходит вокруг.
Нет у человека права приходить в этот вечный мир и пытаться его изменить. Но если она останется на Эритро, ей нужна будет пища — и общение с себе подобными.
Конечно, время от времени она будет возвращаться в Купол, чтобы пополнить припасы, повидаться с близкими, но всё остальное время она будет проводить с Эритро. А если кто-нибудь за ней увяжется? Как от них отделаться?
Ведь если сюда придут другие — неважно, сколько их будет, — этот рай погибнет. Он погибнет, даже если только она одна будет обитать в нём. Только она одна…
— Нет! — крикнула она. Крикнула громко: ей вдруг захотелось разорвать неподвижный воздух незнакомой планеты своим криком.
Крик прозвучал, и сразу стало тихо: на плоской равнине неоткуда было взяться эху.
Она снова крутанулась на месте. На горизонте виднелись очертания Купола. Но Марлене не хотелось его замечать. Лучше бы его совсем не было. Она хотела видеть только Эритро.
Тихо вздохнул ветер. Но Марлена не ощутила ни дуновения, ни холодка. Только этот тихий вздох: «А-а-а…»
И она весело повторила:
— А-а-а…
Марлена с любопытством посмотрела на небо. Синоптики обещали ясный день. Неужели на Эритро бывают внезапные бури? Значит, задует ветер, станет холодно, по небу помчатся облака, и начнется дождь, прежде чем она успеет вернуться в Купол?
Мысль показалась ей глупой, такой же глупой, как мысль о метеоритах. Конечно, на Эритро бывают дожди, но сейчас по небу медленно плыли редкие облака. Ленивые, неторопливые розовые облачка на тёмном куполе неба. И ничто не свидетельствовало о приближении бури.
— А-а-а… — снова прошептал ветер. — А-а-а-е-е…
Это был уже двойной звук, и Марлена нахмурилась. Откуда он взялся? Конечно, ветер сам не может родить такой звук. Может быть, у него на пути встретилось какое-то препятствие? Но ничего похожего поблизости не оказалось.
— А-а-а… е-е-е… а-а-а…
Теперь звук стал тройным с ударением на «е».
Марлена удивленно оглянулась. Она не могла понять, откуда взялся этот звук. Его должно было что-то произнести — но она ничего не ощущала.
Эритро казалась пустой и безмолвной. Она не могла породить этот звук.
— А-а-а… е-е-е… а-а-а…
Вот опять, уже яснее. Звук словно раздался в мозгу — сердце екнуло, и по спине побежали мурашки. Марлена почувствовала, как руки покрылись гусиной кожей. Но с головой ничего не могло случиться. Ничего! Она ждала, что звук повторится, и он повторился. Ещё громче и ещё яснее. Вдруг в нём послышалась какая-то сила, словно кто-то после долгих попыток чего-то достиг.
Долгих попыток? В чём?
Неожиданно ей в голову пришла мысль: «Словно кто-то, не знающий согласных, пытается произнести моё имя».
И тут, словно в подтверждение своей странной мысли, она услыхала:
— Ма-а-а-ле-е-е-на-а-а…
Машинально она зажала уши руками. «Марлена», — подумала она.
И голос словно передразнил:
— Ма-ар-ле-е-на-а.
И вдруг непринуждённо, почти естественно:
— Марлена.
Она вздрогнула и узнала голос. Это Ауринел, Ауринел с Ротора, которого она не видела с того самого дня, когда рассказала ему, что Земля погибнет. С тех пор она редко о нём вспоминала, но всякий раз с грустью.
Почему же она слышит его голос там, где его не может быть, там, где не может быть других голосов?
— Марлена.
И она сдалась. Значит, эритрийская лихоманка, несмотря ни на что, всё-таки одолела её.
Она бросилась к Куполу — не разбирая дороги, ничего не видя перед собой.
Марлена даже не знала, что кричит.
* * *
Её ждали. Заметив, что она возвращается бегом, двое часовых в э-комбинезонах немедленно вышли наружу и тут услышали её крики.
Но прежде, чем они успели приблизиться, Марлена замолчала. И пошла шагом.
Спокойно взглянув на встречавших, Марлена ошеломила их вопросом:
— Что случилось?
Оба молчали. Один попытался взять её за локоть, но она увернулась.
— Не трогайте меня, — заявила Марлена. — Если вам угодно — я пойду в Купол, но пойду сама.
И невозмутимо зашагала рядом с ними. Она была совершенно спокойна.
* * *
Эугения Инсигна, бледная, с дрожащими губами, тщетно пыталась взять себя в руки.
— Что случилось, Марлена?
Марлена посмотрела на мать своими тёмными бездонными глазами и ответила:
— Ничего, совершенно ничего.
— Не говори так. Ты бежала и кричала.
— Так получилось. Видишь ли, там было тихо, так тихо, что мне вдруг показалось, что я оглохла. Знаешь, такое безмолвие. И я затопала ногами и побежала — просто чтобы слышать шум — и закричала…
— Чтобы слышать какой-то звук и голос? — хмурясь переспросила Инсигна.
— Да, мама.
— Марлена, и ты думаешь, что я тебе поверю? Не надейся. Мы слышали твой голос: чтобы нашуметь, так не кричат. Ты кричала от ужаса. Кто тебя испугал?
— Я же сказала. Тишина. Внезапная глухота. — Марлена обернулась к Д’Обиссон: — Как по-вашему, доктор, может случиться, что если ты какое-то время совсем ничего не слышишь, но уши твои привыкли к шуму, то вдруг померещится, что до слуха донеслось нечто осмысленное?
Д’Обиссон слабо улыбнулась.
— Витиевато сказано, однако сенсорный голод действительно может вызвать галлюцинации.
— Да, именно так и случилось. Сначала я испугалась. Но как только услыхала собственный голос и звук шагов, то сразу успокоилась. Спросите у часовых, которые вышли навстречу. Они видели, что я спокойна. Спросите их, дядя Сивер.
Генарр кивнул:
— Они мне об этом уже сообщили. Кстати, нам приходилось сталкиваться с подобным явлением. Хорошо. Пусть будет так.
— Нет, вовсе не хорошо, — возразила Инсигна, всё ещё бледная от страха, или от гнева, или от того и другого сразу. — Больше она никуда не пойдёт. Все эксперименты окончены.
— Знаешь, мама!.. — в ярости выкрикнула Марлена. Чтобы предотвратить начинающуюся ссору, Д’Обиссон громко сказала:
— Доктор Инсигна, эксперимент не закончен. Сейчас неважно, пойдёт она или нет. Сначала надо выяснить, что случилось.
— Что вы имеете в виду? — забеспокоилась Инсигна.
— Я хочу сказать, что в тишине, конечно, могут послышаться любые голоса. Однако не исключено, что у Марлены начались некоторые нарушения умственной деятельности.
Инсигна вздрогнула, словно её ударили.
— Это вы про эритрийскую лихоманку? — спросила Марлена.
— Не совсем, — ответила Д’Обиссон. — На неё ничего не указывает — просто я допускаю такую возможность. Значит, необходимо сканирование. Для твоего же блага.
— Нет, — сказала Марлена.
— Что значит нет? — спросила Д’Обиссон. — Ты должна подчиниться. Мы не можем иначе. Сканирование в таких случаях обязательно.
Марлена задумчиво посмотрела на Д’Обиссон.
— Вам хочется, чтобы я заболела лихоманкой. Вы надеетесь на это.
Д’Обиссон на мгновение застыла, потом сказала дрогнувшим голосом:
— Ну знаете ли, это просто смешно. Как вы смеете утверждать подобное?
Генарр тоже посмотрел на Д’Обиссон.
— Рене, вспомните, что мы говорили вам о Марлене: если она утверждает, что вы хотите видеть в ней больную, значит, так оно и есть — вы чем-то себя выдали. Конечно, если Марлена говорит серьёзно, а не от испуга или обиды.
— Серьёзно, — подтвердила Марлена. — Она живёт этой надеждой.
— Итак, Рене, — холодно произнес Генарр, — что скажете?
— Мне лично понятно, что имеет в виду эта девица. Уже много лет мне не приходилось наблюдать лихоманки. В прежнее время, когда Купол только строился, у меня практически не было подходящих средств для её изучения. Да, как профессионал я приветствовала бы такую возможность. Изучив заболевшего лихоманкой с помощью новых методов, я, возможно, сумела бы обнаружить причину болезни, найти подходящие лекарства, предложить профилактические меры. Вот вам и причины моих надежд. Чисто профессиональная заинтересованность. Но этой девице, не умеющей читать мысли и не знающей людей, она кажется просто злорадством. Милая моя, уверяю вас, это не так.
— Просто или не просто, — упрямилась Марлена, — но мне вы желаете зла. В этом я не ошибаюсь.
— Ошибаетесь, милочка. Сканирование в таких случаях обязательно, и оно будет проведено.
— Этому не бывать! — Марлена сорвалась на крик. — Вам придётся вести меня силой или накачивать снотворными, а тогда результаты окажутся недостоверными.
Дрожащим голосом Инсигна вставила:
— Я не позволю этого, если она против.
— В данном случае неважно, хочет она или нет… — начала Д’Обиссон и пошатнулась, схватившись за живот.
— В чём дело? — без интереса спросил Генарр. И, не дожидаясь, пока Инсигна доведёт Д’Обиссон до ближайшей кушетки и уложит её, обратился к Марлене: — Почему ты не хочешь согласиться на обследование?
— Не хочу. Она скажет, что я заболела.
— Не скажет. Я обещаю. Разве что ты на самом деле больна.
— Я не больна.
— Я уверен в этом, и сканирование подтвердит. Поверь мне, Марлена. Пожалуйста.
Марлена взглянула на Д’Обиссон, потом на Генарра.
— И я смогу снова выйти на Эритро?
— Конечно. Сколько захочешь. Если с тобой всё в порядке — а ведь ты в этом не сомневаешься, так ведь?
— Не сомневаюсь.
— Значит, сканирование всё покажет.
— Да, но вдруг она скажет, что я не могу выходить?
— Твоя мама?
— И доктор.
— Нет, они не посмеют тебя остановить. А теперь — скажи, что согласна на сканирование.
— Хорошо. Пусть будет так, как она хочет.
Рене Д’Обиссон медленно поднялась с кровати.
* * *
Д’Обиссон внимательно разглядывала распечатки с результатами сканирования. Сивер Генарр следил за ней.
— Интересная картинка, — пробормотала Д’Обиссон.
— Это было известно ещё давным-давно, — сказал Генарр. — Она — странная девушка. Главное — нет ли перемен?
— Никаких, — ответила Д’Обиссон.
— Вы как будто разочарованы.
— Командир, не будем повторяться. Да, как профессионал я ощущаю известное разочарование. Я предпочла бы новый случай, чтобы изучить его.
— А как вы себя чувствуете?
— Я уже вам сказала…
— Физически, я имею в виду. Такой странный обморок…
— Это был не обморок. Просто нервы. Мне ещё не приходилось слышать обвинений в желании видеть кого-то больным. Да ещё таких безапелляционных.
— А что же с вами случилось? Живот заболел?
— Возможно. Во всяком случае, я ощутила боли в области желудка. И голова тоже кружилась.
— С вами часто такое случается, Рене?
— Нет, — резко ответила она, — и в нарушении профессиональной этики меня обвиняли не чаще.
— Какая вы, однако, возбудимая. Почему вы приняли эти слова так близко к сердцу?
— Давайте сменим тему разговора. Сканирование не показало никаких перемен. Если прежде она считалась нормальной, значит, нормальна и сейчас.
— Значит, как врач вы считаете, что она может продолжать изучение Эритро?
— Раз с ней ничего не случилось, у меня нет никаких оснований запрещать.
— Итак, вы намереваетесь всё забыть и вновь отправить её туда?
В голосе Д’Обиссон послышалась враждебность:
— Вы знаете, что я недавно встречалась с комиссаром Питтом. — Это был не вопрос.
— Да, знаю, — невозмутимо подтвердил Генарр.
— Он попросил, чтобы я взяла на себя руководство новыми работами по исследованию эритрийской лихоманки, и обещал хорошее финансирование.
— Прекрасная идея. Едва ли он мог найти лучшего руководителя.
— Благодарю вас. Однако командиром вместо вас он меня не назначил. Поэтому вам решать, выходить Марлене Фишер наружу или нет. Своё участие в этом деле я ограничиваю сканированием её мозга — когда оно потребуется.
— Я намереваюсь разрешить Марлене исследовать Эритро и не чинить ей никаких препятствий. У вас возражений не будет?
— Как врач я уверена, что лихоманки у неё нет, и не стану вас останавливать, но право приказывать принадлежит вам и останется только вашим. И все бумаги вы будете подписывать без меня.
— Но вы не станете оказывать мне противодействие?
— На это у меня нет причин.
* * *
Обед закончился, тихо играла музыка. Сивер Генарр, тщательно выбиравший выражения в разговоре со встревоженной Эугенией Инсигной, наконец проговорил:
— Так сказала мне Рене Д’Обиссон, однако во всём этом чувствуется влияние Януса Питта.
Эугения выглядела очень встревоженной.
— Ты действительно так думаешь?
— И ты, наверное, тоже. Януса ты, должно быть, знаешь лучше меня. Плохо. Рене — компетентный врач, умница и человек неплохой, но она честолюбива — как и все мы, впрочем, — и потому её легко совратить. Она действительно мечтает войти в историю как победительница эритрийской лихоманки.
— И ради этого она хочет рискнуть Марленой?
— Не то чтобы хочет, но она всё-таки стремится… Хорошо, в общем, ты права.
— Должен быть другой выход. Посылать Марлену в такое опасное место, экспериментировать с нею, как с прибором, — это же ужасно.
— Но она так не считает, а уж Питт — тем более. Пусть погибнет один чей-то разум, но человечество приобретет планету, где смогут жить миллионы. Жесткий подход, однако не исключено, что грядущие поколения увидят в Рене суровую героиню и поблагодарят её за одну жертву, даже за тысячу, если одной не хватит.
— Почему бы и нет, если речь идёт не об их разуме.
— Конечно. Люди охотно принимают жертвы от ближних. Уж Питта подобное не смутит. Или ты не согласна со мной?
— Ты о Питте? Полностью согласна, — сказала Инсигна. — Надо же, я столько лет с ним проработала.
— Тогда ты должна знать, что он из всего извлечет мораль. «Наибольшая выгода для наибольшего числа людей», — так он сказал бы. Рене говорила, что виделась с ним на Роторе. Не сомневаюсь: ей он говорил то же самое, что и я тебе, разве что иными словами.
— Ну а что он будет говорить, — с горечью сказала Инсигна, — когда окажется, что Марлена заболела и не удалось ничего выяснить насчёт лихоманки? Что он скажет, угробив мою дочь? И что будет говорить эта Рене Д’Обиссон?
— Она-то расстроится, я уверен.
— Потому что ей не удастся добиться славы?
— Конечно, но перед Марленой она, я думаю, будет чувствовать вину. Она не чудовище. А вот Питт…
— Уж он-то истинное чудовище.
— Я бы сказал иначе — просто у него «туннельное зрение». Он видит перед собой лишь то, что, по его мнению, должно происходить с Ротором. Для нас с тобой болезнь Марлены будет несчастьем, а он просто скажет себе, что Марлена помешала бы ему править Ротором, ведь приходится учитывать столько факторов, заставляя их служить на благо поселению. Её болезнь не отяготит его совесть.
Инсигна легонько качнула головой.
— Хотелось бы ошибиться, лучше бы Питт и Д’Обиссон были вне подозрений.
— Я тоже так думаю, но предпочитаю верить Марлене. Она говорила, что заметила в Рене радость. Может быть, это чувство и вправду относилось к открывшейся научной возможности, но всё-таки я доверяю Марлене.
— Да, Д’Обиссон уверяла, что такой случай мог бы обрадовать её как профессионала, — сказала Инсигна. — Могу поверить, в конце концов, я и сама ученая.
— Конечно же, — ответил Генарр. Его добродушное лицо озарилось улыбкой. — Ты решилась оставить Солнечную систему, чтобы лететь неведомо куда за световые годы, к новым астрономическим знаниям, прекрасно понимая, что этим, возможно, обрекаешь на смерть обитателей Ротора…
— Мне казалось, что шансы на неудачный исход невелики.
— Настолько невелики, чтобы рискнуть годовалой девчонкой? Ты ведь могла оставить её с домоседом мужем, в безопасности — но тогда с ней пришлось бы расстаться навсегда. И ты рискнула её жизнью, даже не ради блага Ротора, просто для собственного спокойствия.
— Прекрати, Сивер! — приказала Инсигна. — Это жестоко.
— Я просто хочу доказать тебе, что на всё можно смотреть с разных точек зрения — стоит лишь слегка задуматься. Да, Д’Обиссон находит профессиональное удовольствие в изучении заболеваний, но вот Марлена решила, что врач не хочет ей добра, и я доверяю её словам.
— Тогда можно не сомневаться, — сказала Инсигна, презрительно скривив губы, — что она постарается снова выставить Марлену на поверхность Эритро.
— Предполагаю, что так и будет, однако она осторожна и настаивает, чтобы я отдал приказ, и лучше в письменном виде. Хочет подстраховаться на случай неудачи. Мысль, достойная Питта. Вот кто истинная зараза — наш общий друг.
— В таком случае, Сивер, тебе нельзя больше выпускать Марлену. Зачем нам помогать Питту?
— Напротив, Эугения. Всё не так просто. Мы должны будем посылать её.
— Что?
— У нас нет выбора, Эугения. А ей ничего не грозит. Видишь ли, теперь я считаю, что ты была права и на планете действительно скрывается какая-то жизненная форма, способная воздействовать на нас. Ты же сама знаешь, что и со мной произошёл странный приступ, и с тобой, и с часовым тоже было такое — именно тогда, когда мы возражали Марлене. Я сам видел, как это случилось с Рене. Едва она попробовала настоять на своем, ей сразу же стало плохо. Но стоило мне успокоить Марлену, как Рене тут же полегчало.
— Ну вот, Сивер, всё стало ясно. Если это нечто на планете хочет нам зла…
— Погоди-ка, Эугения. Я не говорил этого. Даже если причины лихоманки кроются в воздействии этой местной жизни, теперь болезнь прекратилась. Ты скажешь: это потому, что мы решили держаться под Куполом и, если бы нам действительно желали зла, мы погибли бы. Однако налицо цивилизованный компромисс: нам позволили поселиться здесь.
— Сомневаюсь, что действия совершенно чуждой нам жизни можно рассматривать с позиций её намерений и эмоций. На самом деле истинная суть её мыслей может выходить за пределы нашего понимания.
— Согласен, Эугения, но она же не причиняет Марлене вреда. Напротив, словно защищает, делает так, чтобы мы не мешали.
— Но если так, — проговорила Инсигна, — почему же она испугалась, почему с криком бросилась к Куполу? Я не верю ни единому её слову; ни тому, что она занервничала от тишины, ни тому, что шумом пыталась нарушить её…
— Да, в это поверить сложно. Она запаниковала, потом успокоилась. Спасатели застали её в полном спокойствии. Могу предположить, что эта загадочная жизненная форма чем-то испугала Марлену — наверное, в наших эмоциях она разбирается не больше, чем мы в её собственных, — но потом заметила, что натворила, и постаралась успокоить девочку. По-моему, это удовлетворительное объяснение — в него укладываются все факты, заодно оно подтверждает гуманную природу местной жизни.
Инсигна нахмурилась.
— Трудно с тобой, Сивер, ты вечно во всём видишь только хорошее. Не могу я поверить этому объяснению.
— Верь не верь, всё равно нам с тобой нечего возразить Марлене. Пусть она делает что хочет, иначе все её противники будут валяться без сознания или корчиться от боли.
— Но какие существа могут обитать здесь?
— Не знаю, Эугения.
— Больше всего меня пугает другое — что нужно им от Марлены?
— Не знаю, Эугения. — Генарр качнул головой.
И они беспомощно посмотрели друг на друга.
Глава 32
ПОТЕРЯЛИСЬ
Крайл Фишер задумчиво смотрел на яркую звезду.
Но она была слишком яркой, чтобы на неё можно было смотреть, как обычно смотрят на что-то. Он бросал на неё быстрый взгляд, а потом разглядывал запечатлевшееся на сетчатке изображение. Тесса Уэндел всё время напоминала ему, что он может получить ожог сетчатки. Но, убедившись, что слова бесполезны, приказала затемнить иллюминатор. Звезда потускнела, а остальные звёзды почти исчезли, превратившись в еле заметные мерцающие точки.
Этой яркой звездой, конечно же, было Солнце.
Оно было невероятно далеко, человеческий глаз ещё не видел его на таком расстоянии — если не считать роториан. Солнце находилось теперь в два раза дальше от корабля, чем от самой крайней точки орбиты Плутона, и его диск уже не был виден. Но, став звездой, Солнце всё-таки светило в сто раз ярче, чем полная Луна в небе Земли, только теперь его яркость сконденсировалась в точку. Поэтому нетрудно было сообразить, зачем нужны светофильтры.
Все изменилось. Обычно человеку и в голову не приходит удивиться Солнцу. Оно такое яркое, что его просто не с чем сравнивать. Той малой доли его света, что рассеивается в атмосфере, хватает, чтобы затмить на небе все звёзды. И даже те звёзды, которые не меркнут рядом с Солнцем, всё равно не могут с ним сравниться.
Но здесь, в глубоком космосе, свет Солнца казался ослабевшим настолько, что подобное сравнение вот-вот станет возможным. Уэндел говорила, что в этой точке яркость Солнца в сто шестьдесят раз больше, чем у Сириуса, самого яркого после Солнца объекта на небе Земли. И миллионов в двадцать раз ярче тех звезд, которые ещё можно было видеть невооруженным глазом. Поэтому здесь Солнце выглядело совсем не таким, как в земном небе.
Кроме разглядывания звездного неба, Фишеру оказалось нечем заняться. «Сверхсветовой» дрейфовал в пространстве с обычной для ракеты скоростью.
На такой скорости до Звезды-Соседки им лететь тридцать пять тысяч лет — если только корабль летит в нужную сторону. Но оказалось, что это не так.
Вот почему уже два дня Уэндел не находила себе места от отчаяния. До сих пор причин для беспокойства не было. Перед входом в гиперпространство Фишер напрягся, ожидая боли, неприятных ощущений. Но ничего не было. Корабль мгновенно вошёл в него и тут же вышел обратно. Только картина звездного неба вдруг разом изменилась.
Крайл ощутил какое-то двойное чувство. С одной стороны, он был жив, а с другой — если что-то произойдёт, то смерть придёт так быстро, что он не успеет этого осознать. Умрет, ничего не ощутив.
Это чувство так поглотило его, что он даже не обратил внимания на тревожный возглас, с которым Тесса Уэндел бросилась в машинный зал.
Вернулась она какая-то растрепанная — нет, её прическа была в порядке, однако при взгляде на неё возникала такая мысль. Она взглянула на Фишера круглыми глазами, словно не узнавая, и сказала:
— А созвездия не должны были измениться.
— Неужели?
— Мы ведь ещё недалеко отлетели. Не должны были отлететь далеко. Один миллисветогод с третью. Этого мало, чтобы очертания созвездий изменились для невооруженного глаза. Правда, — она судорожно вздохнула, — всё не так уж и плохо. Я боялась, что мы промахнулись на несколько тысяч световых лет.
— Тесса, разве это возможно?
— Конечно, возможно. Вот и приходится контролировать движение в гиперпространстве, потому что для него тысяча световых лет что один год.
— Значит, мы спокойно можем…
Уэндел знала, что скажет Фишер.
— Нет, вернуться не так просто. Если нас подвело управление, каждый новый этап путешествия будет заканчиваться неизвестно где, в какой-то случайной точке, и мы никогда не вернёмся назад.
Фишер нахмурился. Эйфория, охватившая его оттого, что он побывал в гиперпространстве и благополучно вернулся, исчезла.
— Но во время экспериментов вы же благополучно возвращали объекты?
— Они были не такими массивными, и мы перебрасывали их не так далеко. Впрочем, пока всё не так уж плохо. Мы прошли столько, сколько планировали. Расположение звезд такое, каким должно быть.
— Как это? Ведь оно изменилось. Я сам видел.
— Изменилась ориентация корабля. Его нос отклонился почти на двадцать восемь градусов. То есть мы летели по кривой, а не по прямой.
Звёзды в иллюминаторе медленно двигались.
— Сейчас мы разворачиваемся носом к Звезде-Соседке, — сказала Уэндел, — из психологических соображений: чтобы понимать, куда летим. Прежде чем лететь дальше, придётся выяснить, почему траектория корабля изменилась.
В иллюминаторе ослепительным маяком вспыхнула яркая звезда, медленно проплыла и исчезла. Фишер моргнул.
— Солнце, — пояснила Уэндел, отвечая на удивленный взгляд Фишера.
— Есть ли разумное объяснение того, почему наш курс изменился? — спросил Фишер. — Если Ротор тоже сбился с курса, то кто знает, чем всё это кончилось?
— И чем кончится у нас. Пока у меня нет объяснений. — Уэндел встревоженно посмотрела на него. — Будь наши предположения точны, изменилось бы лишь положение корабля, а не его ориентация. То есть мы переместились бы по Эвклидовой прямой, невзирая на неэвклидово пространственно-временное искривление. Двигались-то мы не в нём. Скорее всего, мы ошиблись при программировании или напутали в исходных параметрах. Лучше бы это было программирование — такую ошибку проще исправить.
Прошло пять часов. Уэндел вошла, потирая глаза. Фишер вопросительно взглянул на неё. Он пытался посмотреть фильм, но не мог сосредоточиться. Тогда он стал рассматривать созвездия, надеясь, что вид в иллюминаторе успокоит его.
— Ну, Тесса? — спросил он.
— С программированием, Крайл, всё в порядке.
— Значит, врут исходные данные?
— Да — но как это определить? Мы же использовали едва ли не бесконечное множество допущений. Как найти среди них ошибочное? Нельзя же перебирать по одному — и до конца не доберёмся, и потеряемся окончательно.
Воцарилась тишина. Наконец Уэндел сказала:
— Если бы ошибка была в программировании, мы исправили бы её шутя и всё было бы в порядке. Но теперь придётся обратиться к основам. Тут уж мы наверняка обнаружим что-то серьёзное и если не справимся, то, возможно, пути домой уже не найдём. — Она прикоснулась к руке Фишера. — Ты понял меня, Крайл? Если мы не сможем найти ошибку, только случай поможет нам вернуться домой. С каждой новой попыткой мы будем попадать всё дальше и дальше от нужного места. А когда надоест прыгать, когда иссякнет энергия или глубокое отчаяние лишит нас желания жить — нас ждет смерть. И всем этим ты будешь обязан мне. Но главное не это — погибнет мечта. Если мы не вернёмся, на Земле ничего не узнают о нашей судьбе. Скорее всего, решат, что мы погибли при переходе, и откажутся от новых сверхсветовых полётов.
— Но необходимо пробовать — ведь нужно спасать человечество…
— Не обязательно. Они могут опустить руки и так дожидаться Звезды-Соседки, а потом просто погибнуть по одному. — Уэндел подняла глаза и поморгала. Лицо её казалось ужасно усталым.
Крайл хотел что-то сказать, но промолчал.
— Крайл, мы уже столько лет вместе, — нерешительно начала Уэндел. — Если твоей мечты о дочери больше нет — хватит ли тебе только меня?
— Я тоже могу спросить: удовольствуешься ли ты мной одним, когда у тебя уже не будет твоего сверхсветового полёта?
Оба задумались над ответом. Наконец Уэндел проговорила:
— Крайл, ты у меня на втором месте, но с внушительным отрывом от всего прочего. Спасибо тебе.
Фишер поежился.
— Тесса, то же самое я хотел сказать тебе. Но перед стартом я бы ни за что в это не поверил. Кроме дочери, у меня есть только ты. И мне подчас хочется…
— Не надо. Второе место тоже почетно.
И они взялись за руки. Крепко. И стали смотреть на звёзды.
В дверь просунулась головка Мерри Бланковиц.
— Капитан Уэндел, у By есть идея. Он говорит, что уже давно думает об этом, но не решается сказать.
— Почему? — Уэндел вскочила.
— Он сказал, что однажды попробовал, а вы велели ему не быть дураком.
— Неужели? А почему он решил, что я никогда не ошибаюсь? Конечно, я его выслушаю и, если окажется, что идея недурна, сломаю шею за то, что не сказал раньше…
И она торопливо вышла.
* * *
Весь день и половину следующего Фишер ждал. Больше ему ничего не оставалось. Ели все вместе, как обычно, но молча. Фишер не знал, удалось ли учёным поспать. Сам он дремал иногда, просыпаясь, чтоб в очередной раз прийти в отчаяние.
«Сколько лет мы можем здесь выдержать?» — подумал он на второй день, глядя на прекрасную и недостижимую точку в небе, которая недавно согревала его и освещала дни его жизни.
Рано или поздно все они умрут. Да, современная космическая техника может существенно продлить их жизнь. Установки замкнутого цикла достаточно эффективны. Даже пищи хватит надолго, если они будут довольствоваться пресными и безвкусными пирожками из водорослей. Микроатомные двигатели в состоянии надолго обеспечить их энергией. Но едва ли кому-нибудь захочется дожить до тех пор, когда система жизнеобеспечения придёт в негодность.
Когда у тебя нет никакого выхода — не разумнее ли прибегнуть к регулируемым деметаболизаторам?
Этот способ самоубийства был принят на Земле. Можно было отмерить себе дозу на целый день и, зная, что этот день будет последним, прожить его по возможности счастливо. К вечеру человека охватывала дремота. Зевая, он погружался в спокойные и мирные сновидения, которые становились всё глубже, потом сны исчезали — и человек не просыпался. Более гуманной смерти ещё не придумали.
Однако в пять часов вечера, на следующий день после неудачного перехода, совершившегося по кривой, а не по прямой, запыхавшаяся Тесса ворвалась в каюту и круглыми глазами взглянула на Крайла. Её тёмные волосы, в которых за последний год прибавилось седины, были взлохмачены.
Фишер испуганно вскочил.
— Плохо?
— Нет, хорошо! — ответила она и рухнула в кресло. Фишер не поверил своим ушам. К тому же он не был уверен, что Тесса не пошутила. А потому он молча наблюдал, как она приходила в себя.
— Все хорошо, — наконец повторила она. — Отлично! Великолепно! Крайл, ты видишь перед собой дуру. И мне уже не оправдаться.
— Но что же случилось?
— Сяо Ли By знал, в чём дело, знал с самого начала. И я даже помню, как он говорил мне об этом. Несколько месяцев, может, год назад. Я тогда не обратила внимания, отмахнулась… — Она умолкла, чтобы перевести дыхание. Возбуждение мешало ей говорить. — Вся беда в том, что я думала, что одна разбираюсь в физике сверхсветового полёта и никто не может зайти дальше меня. И если кто-то высказывал идею, которая казалась мне странной, значит, эта идея — просто глупость. Ты понял, что я хочу сказать?
— Случалось мне встречаться с такими людьми… — мрачно ответил Фишер.
— На это всякий способен, — сказала Уэндел, — при определённых обстоятельствах. Наверное, особенно легко этому поддаются стареющие учёные. Потому-то былые смелые революционеры в науке через несколько десятилетий превращаются в живых ископаемых. Как только воображение покроется корочкой самообожания — конец. И мне тоже… Но хватит об этом. За один день мы всё кончили, подправили уравнения, перепрограммировали компьютер, провели модельные расчёты. Прошли по всем тёмным дорожкам и ухватили себя за уши. В обычных условиях на это ушло бы не менее недели, но мы работали как одержимые.
Уэндел опять умолкла, чтобы перевести дух. Фишер кивнул и нетерпеливо прикоснулся к её руке.
— Всё это сложно, — продолжала она, — но попробую объяснить. Смотри: мы переходим в гиперпространство из одной его точки в другую за нулевое время. Но переход совершается по определённой траектории, каждый раз по новой, обладающей определённой начальной и конечной точками. Мы не ощущаем её, не контролируем, вообще не движемся по ней, как это бывает в пространстве-времени. Она существует весьма малопонятным образом. Такую траекторию мы называем виртуальной. Я сама придумала этот термин.
— Но если мы не ощущаем её и не движемся по ней — откуда известно, что она действительно существует?
— Виртуальная траектория определяется уравнениями, описывающими наше движение в гиперпространстве.
— А ты уверена, что уравнения действительно описывают реальный объект? Не может ли случиться, что твоя траектория представляет собой всего лишь математическую абстракцию?
— Возможно. Я и сама так считала. А By ещё год назад заподозрил, что траектория реально существует. А я, словно абсолютная идиотка, походя отвергла такую возможность. Я сказала ему тогда, что виртуальная траектория существует лишь виртуально. Раз её нельзя измерить, она находится за пределами науки. Какая близорукость! Стыдно даже вспоминать об этом.
— Ну хорошо. Пусть виртуальная траектория каким-то образом существует. Что из того?
— В таком случае, если она пролегает возле массивного тела, на корабль действует гравитация. Вот и первое ошеломляющее и полезное открытие: оказывается, тяготение способно влиять на виртуальную траекторию. — Уэндел сердито погрозила себе кулаком. — Я сама думала об этом, но решила, что если корабль будет двигаться во много раз быстрее скорости света, то гравитация не успеет оказать существенного воздействия и что перемещаться мы должны по Эвклидовой прямой.
— Но случилось иначе?
— Конечно. И By всё объяснил. Представь себе, что скорость света — просто точка отсчёта. Все скорости, которые меньше её, имеют отрицательную величину, а больше — положительную. В той обычной Вселенной, где мы живем, все скорости будут отрицательными — обязаны быть по этому допущению. Но Вселенная равновесна. Если один фундаментальный параметр, как скорость движения, остаётся отрицательным, значит, другой параметр, не менее фундаментальный, обязан всегда быть положительным… Так вот, By предположил, что это тяготение. В обычной Вселенной оно означает притяжение. Каждый обладающий массой объект притягивает к себе все прочие, также наделенные массой. Однако если нечто движется со сверхсветовой скоростью, то есть быстрее света, то эта скорость становится положительной и тогда тот, другой параметр, прежде бывший положительным, должен сделаться отрицательным. Иными словами, при сверхсветовых скоростях гравитационное воздействие делается отрицательным. Каждый наделенный массой объект отталкивает все другие. By давно уже говорил мне об этом, а я не слушала. Его слова отскакивали от меня как от стенки горох.
— Но в чём же дело, Тесса? Ведь мы движемся с колоссальной сверхсветовой скоростью, а значит, гравитационное притяжение, как и отталкивание, не способно повлиять на наш путь.
— Ах, Крайл, это совсем не так. В том-то и дело. Здесь тоже существует обратимость. В обычной Вселенной отрицательных скоростей чем быстрее движешься мимо притягивающего тела, тем меньше гравитационное притяжение способно повлиять на направление движения. Во Вселенной положительных скоростей, в гиперпространстве, чем быстрее движемся мы относительно отталкивающего тела, тем сильнее воздействует оно на направление движения. Для нас это безумие, мы привыкли к правилам нашей Вселенной. Но, как только поменяли минус на плюс и наоборот, всё встает на свои места.
— Математически. Но насколько можно верить уравнениям?
— Наши расчёты мы сравниваем с фактами. Гравитационное притяжение, как и отталкивание, является самой слабой из всех сил на всей виртуальной траектории. И внутри корабля, и внутри нас самих, пока мы остаемся в гиперпространстве, все частицы отталкиваются друг от друга, но подобное отталкивание не в состоянии преодолеть совместного действия прочих сил, не поменявших своего знака. Однако на пути от Четвертой станции сюда мы пролетали неподалеку от Юпитера. И воздействие его массы на виртуальной траектории оказалось не слабей, чем притяжение на обычной орбите. Мы рассчитали, насколько гравитационное отталкивание Юпитера способно было повлиять на наш путь в гиперпространстве, и получили именно то, что наблюдаем. Другими словами, By не только упростил мои уравнения — он заставил их работать.
— Выходит, ты сломала его шею, как и обещала? — спросил Фишер.
Уэндел вспомнила своё обещание и рассмеялась:
— Что ты! Признаюсь, я его даже поцеловала.
— Прощаю тебя.
— Конечно. Теперь, Крайл, мы обязаны вернуться, просто обязаны. Новые сведения о гиперпространстве должны быть зафиксированы. By должен получить свою награду. Конечно, он воспользовался моими трудами, но сумел сделать такое, что мне и в голову не приходило: он учел следствия.
— Понимаю, — отозвался Фишер.
— Нет, не понимаешь, — сказала Уэндел. — А теперь слушай меня. У Ротора не было проблем с гравитацией. Они держались скорости света — чуть больше, чуть меньше, — так что гравитационные эффекты, положительные и отрицательные, отталкивание и притяжение, для них не имели значения. Только наш полёт на истинных сверхсветовых скоростях требует учета воздействия гравитации. Мои уравнения здесь бесполезны. Они описывают переход в гиперпространство, а не передвижение в нём. И это не всё. Мне всегда казалось, что вторая часть перехода — выход из гиперпространства — чревата неизбежной опасностью. Ведь можно врезаться в уже существующий объект: произойдёт фантастический взрыв, и корабль, и всё в нём вдребезги разлетится за триллионную долю триллионной части секунды. Конечно, в звезду не врежешься — нам известно, где расположены звёзды, их легко обойти. Со временем мы будем знать местоположение и планет каждой звезды, учтем и их воздействие. Но в окрестностях каждой звезды десятки тысяч астероидов и десятки миллионов комет. И столкнуться с ними не менее опасно. До сегодняшнего дня единственное спасение я видела в законах случайности. Пространство огромно, и вероятность столкнуться в нём с объектом больше атома, хотя бы с песчинку, чрезвычайно мала. Но в таком случае каждый новый скачок через гиперпространство только приближал бы катастрофу.
Теперь можно надеяться, что столкновения невозможны. Наш корабль и любое массивное тело в пространстве будут отталкиваться друг от друга. Так что мы даже на булыжник не налетим. Все препятствия будут сами собой устраняться с нашей дороги.
Фишер почесал лоб.
— А мы-то сами не уклонимся от неё? Препятствия могут полностью изменить наш путь.
— Нет, маленькие объекты не смогут существенно повлиять на траекторию; маленькие отклонения — небольшая плата за безопасность. — Уэндел глубоко вздохнула и блаженно потянулась. — У меня великолепное настроение. На Земле это открытие произведёт сенсацию.
Фишер усмехнулся.
— А знаешь, Тесса, перед тем как ты влетела сюда, мне уже представлялись всякие жуткие сцены: и как мы навек здесь застряли, и как наш корабль скитается в пространстве с пятью мертвецами на борту, как когда-нибудь его обнаружат разумные существа и оплачут гибель космических скитальцев…
— Не думай об этом, дорогой мой, ничего такого не случится, — улыбаясь, ответила Тесса. И они обнялись.
Глава 33
РАЗУМ
Эугения Инсигна выглядела мрачной.
— Марлена, неужели ты опять собралась выходить?
— Мама, — устало, но терпеливо сказала Марлена, — ты говоришь так, словно я решилась на это минут пять назад. А я давно уже тебе говорю, что там — на Эритро — и собираюсь остаться. Я не передумала и не буду менять своё решение.
— Да, ты уверена в своей безопасности, конечно, пока ничего с тобой не случилось, но…
— На Эритро я в безопасности. Меня тянет к ней. Дядя Сивер это понимает.
Эугения посмотрела на дочь, хотела возразить, но лишь покачала головой. Если Марлена решила, её не остановить.
* * *
На Эритро потеплело, подумала Марлена, немножко потеплело, и ветерок стал таким приятным. Серые облака шествовали по небу, пожалуй, немного быстрее и, похоже, стали гуще.
Дождь предсказывали только на завтра, и Марлена подумала, что неплохо будет выйти под дождь и посмотреть, как покроется рябью ручей, как станут мокрыми камни, как раскиснет земля под ногами.
Она остановилась у плоской скалы возле ручья. Погладила камень рукой и осторожно села, глядя, как между валунами, выступающими со дна, бурлит вода. Наверное, дождь похож на душ, решила Марлена.
Такой здоровенный душ со всего неба, от которого нигде не спрятаться. Интересно, а не захлебнешься ли?
Нет, едва ли. На Земле дожди шли часто, и она что-то не слышала, чтобы люди тонули. Нет, это должно быть похоже на душ. А под душем можно дышать.
Правда, дождь будет прохладным, а она предпочитала горячий душ. Марлена лениво задумалась. Здесь, снаружи, было так спокойно, мирно, никто не смотрел на неё, не нужно было толковать жесты, гримасы и телодвижения. Как хорошо, что можно этого не делать.
Интересно, какой будет вода? То есть дождь. Наверное, такой же теплой, как сама Немезида. Конечно, она промокнет, а когда выходишь из душа, то сразу делается холодно. Кстати, дождь промочит и её одежду.
Но это же глупо: одетой стоять под дождем. Ведь в душ входишь без всякой одежды. Значит, когда пойдёт дождь, можно будет раздеться. Пожалуй, это разумно.
Только куда девать одежду? Когда идешь в душ, то оставляешь одежду под присмотром уборщицы. На Эритро её можно спрятать под валун или сложить из камней маленький домик, чтобы в дождь оставлять в нём одежду. В конце концов, зачем вообще одеваться, если идёт дождь?
А когда солнечно?
Конечно, в холод одеваться придётся — а когда тепло?
А почему люди носят одежду на Роторе, где всегда тепло и сухо? Правда, в бассейнах все ходят раздетыми. Марлена вспомнила, как молодые ребята охотно скидывают с себя почти всё и не спешат одеваться.
А такие, как она, не любили раздеваться на глазах у всех. Быть может, поэтому люди и носят одежду? Чтобы скрывать тело?
Почему у разума нет формы, которую можно выставить напоказ? Только поступки, которые не нравятся людям. Им приятно смотреть на красивые тела, а от красивой души все воротят носы. Почему?
Но здесь на Эритро, где никого нет, она может раздеться, освободиться — и никто не станет тыкать в неё пальцем и посмеиваться.
Она может сделать что угодно — ведь перед ней целый мир, пустынный, спокойный, он словно мягким одеялом накрывал её своим безмолвием. Она чувствовала, что расслабляется. Какая тишина.
Тишина.
Она выпрямилась. Тишина?
Она готова была снова услышать голос. Больше она не будет кричать, не будет пугаться. Так где же этот голос?
И словно в ответ на её безмолвный зов:
— Марлена!
Сердце её подпрыгнуло.
Но она сразу взяла себя в руки. Нельзя обнаруживать испуга. И, оглядевшись вокруг, Марлена очень спокойно спросила:
— Где ты, скажи?
— Не нужно… нужно… тря-трясти воздух… говорить…
Голос принадлежал Ауринелу, но он не говорил, как Ауринел. Казалось, что невидимому собеседнику слова даются с трудом, но вот-вот дело пойдёт на лад.
— Пойдёт на лад, — подтвердил голос.
Марлена ничего не сказала. Просто подумала:
— Можно не говорить. Я должна только думать.
— Тебе нужно лишь приспособиться. У тебя получается.
— Но я слышу твои слова.
— Я тебе помогаю — и тебе кажется, что ты меня слышишь.
Марлена осторожно лизнула губы. Нельзя бояться, нужно оставаться спокойной.
— Бояться нечего… некого, — произнес голос, но он уже не был совершенно похожим на голос Ауринела.
— Ты ведь всё слышишь, не так ли? — мысленно спросила Марлена.
— Это смущает тебя?
— Да, смущает.
— Почему?
— Я не хочу, чтобы ты всё знал. Я бы хотела кое-что оставить для себя.
Она попыталась не думать, что такую же реакцию сама вызывала у окружающих. Но она знала, что мысль нельзя спрятать, и попыталась просто ни о чём не думать.
— Но ты устроена не так, как другие.
— Не так?
— Твой разум. Другие… перепуганные… кривые. А твой… великолепен.
Снова облизнув губы, Марлена улыбнулась. Если здесь видят её разум, значит, он и вправду великолепен. Она немножко загордилась и с сожалением подумала о девицах, в которых нет ничего красивого, кроме внешности.
Голос внутри её произнес:
— Эту мысль следует отнести к личным?
У Марлены едва не вырвалось:
— Да-да, конечно.
— Я могу уловить разницу и на личные мысли не стану реагировать.
Марлена жаждала похвалы.
— А много умов ты встречал?
— После вашего появления здесь, лю-ди, я ощутил многие умы.
Голос не уверен, то ли слово произнес, подумала Марлена. Голос не реагировал — Марлена удивилась. Удивление — чувство личное, но она его сейчас не считала таковым. Значит, личное остаётся личным независимо от того, что она об этом думает. Разум сказал ей, что чувствует разницу. Она сказывалась в облике мыслей.
Голос не отреагировал и на это. Придётся спросить, показать, что это не личная мысль.
— Пожалуйста, а на облике мыслей это сказывается?
Пояснять не пришлось. Голос знал, о чём она спрашивает.
— Видно по облику, всё видно по облику — так хорошо устроен твой разум.
Марлена замурлыкала про себя. Свою похвалу она получила. Значит, следует вернуть комплимент.
— Выходит, твой разум тоже превосходно устроен?
— Он отличен от твоего. Он протяженный. Он простой в каждой точке, но, если точки собрать вместе, он становится сложным. Твой разум — сложный от начала. В нём нет простоты, но ты отличаешься от подобных тебе. Другие умы такие искривленные, с ними нельзя войти в перекрестное соприкосновение, нельзя общаться. А если попробовать их изменить, они гибнут — такой уж хрупкий ваш разум. Я об этом не знал. Я не хрупок.
— А мой разум хрупкий?
— Нет, он приспосабливается.
— Ты пытался вступить в общение с другими?
— Да.
— Эритрийская лихоманка.
Ответа не было — личная мысль.
Она закрыла глаза, пытаясь дотянуться до этого разума, извне общавшегося с ней. Она не понимала, как делает это, и, быть может, поступала неправильно — может, вообще ничего не могла сделать. Разум будет смеяться над её неловкостью — если способен смеяться.
Ответа не было.
— Подумай что-нибудь, — попросила Марлена.
Он сразу вернулся.
— О чём мне думать?
Он пришёл ниоткуда. Ни с той стороны, ни с этой — он звучал внутри её головы.
Марлена подумала, досадуя на собственную нескладность:
— А где ты ощутил мой разум?
— В новом контейнере с человеческими существами.
— На Роторе?
— На Роторе.
Тут её осенило.
— Я нужна тебе, ты звал меня?
— Да.
Конечно же, зачем ей ещё понадобилась Эритро? Почему она с такой тоской разглядывала планету в тот день, когда посланный её матерью Ауринел явился разыскивать её.
Она стиснула зубы. Надо спрашивать дальше.
— Где ты?
— Повсюду.
— Ты и есть планета?
— Нет.
— Покажись мне.
— Я здесь, — и голос вдруг обрел направление.
Она взглянула на ручей и вдруг поняла, что, пока общалась с голосом внутри себя, видела перед собой только ручей. Всё другое словно исчезло. Разум её словно замкнулся в себе, вбирая то, что в него вливалось.
А теперь словно вуаль поднялась. Вода бежала между камнями, бурлила, образовывала воронки. Пузырьки лопались, появлялись новые — в сущности, те же самые и в то же время другие. И тут один за другим пузырьки бесшумно полопались, и поверхность ручья стала гладкой, словно течение исчезло.
В воде отражался свет Немезиды. Да, течение исчезло, и Марлена видела это. Блики на поверхности ручья вдруг стали складываться в изображение поначалу карикатурное: две тёмные дыры на месте глазниц, щель вместо рта.
Она смотрела и удивлялась, а черты лица становились всё отчетливее.
И вдруг лицо сделалось знакомым и взглянуло на неё пустыми глазницами.
Это было лицо Ауринела Пампаса.
* * *
— И тогда ты убежала, — медленно и задумчиво проговорил Сивер Генарр, стараясь выглядеть невозмутимым.
Марлена кивнула.
— В первый раз я убежала, когда услышала его голос, а теперь — когда увидела лицо Ауринела.
— Я тебя не осуждаю…
— Не смейтесь надо мной, дядя Сивер.
— А что мне делать? Шлёпнуть тебя? Давай лучше посмеемся вместе. Значит, разум, как ты его называешь, сумел воссоздать лицо и голос Ауринела по твоим собственным воспоминаниям. А насколько ты была близка с Ауринелом?
Она подозрительно посмотрела на Генарра:
— Что значит «насколько близка»?
— Я не имею в виду ничего предосудительного. Вы дружили?
— Конечно.
— Итак, ты в него втюрилась?
Марлена помолчала, поджав губы. Потом проговорила:
— Наверное, так и было.
— Ты говоришь в прошедшем времени — это прошло?
— Безнадёжно. Ведь я для него — маленькая девочка. Сестричка.
— Вполне естественное чувство в подобной ситуации, но ты ещё вспоминаешь о нём, поэтому планета смогла вызвать из памяти его голос, а потом и лицо.
— Что значит «вызвать из памяти»? Это были настоящие голос и лицо.
— Ты уверена?
— Конечно.
— Ты сказала об этом матери?
— Нет. Ни единого слова.
— Почему?
— Ох, дядя Сивер. Вы же знаете её. Я терпеть не могу её вечных страданий. Я знаю, вы сейчас скажете, что она меня любит, но мне от этого не легче.
— Марлена, но ты же всё рассказала мне, а я тоже люблю тебя.
— Я знаю, дядя Сивер, но вы не такой нервный. Вы смотрите на вещи логически.
— Должен ли я считать это комплиментом?
— Да, я хотела сказать вам приятное.
— В таком случае давай самым логическим образом проанализируем всё, что ты обнаружила.
— Хорошо, дядя Сивер.
— Прекрасно. Итак, получается, что на этой планете обитает нечто живое.
— Да.
— Но это не сама планета?
— Нет, определённо нет. Он отрицал это.
— Но он один.
— Да, мне кажется, что он один. Беда в том, дядя Сивер, что мы с ним общаемся с помощью телепатии, какой её представляют люди. Я не читаю ни мыслей, ни снов. Просто сразу приходят какие-то впечатления — ну словно глядишь на картинку, которая состоит из крошечных кусочков света и тени.
— Значит, тебе кажется, что он живой.
— Да.
— И разумный.
— Очень.
— И не знает техники. Мы не обнаружили на планете ничего рукотворного. Это живое невидимо, таится, мыслит, ничего другого не делает, только рассуждает. Так?
Марлена помолчала.
— Я ещё не вполне уверена, но, похоже, вы правы.
— И тут появляемся мы. Как ты считаешь, когда он обнаружил наше появление?
Марлена качнула головой:
— Не знаю.
— Наверное, золотко, он обнаружил тебя ещё на Роторе. Значит, вторжение чуждого разума он мог заметить, уже когда мы приближались к системе Немезиды. Как по-твоему?
— Нет, дядя Сивер. Мне кажется, он не догадывался о нас, пока мы не высадились на Эритро. Это привлекло его внимание — вот он и обнаружил Ротор.
— Возможно, ты права. Значит, потом он принялся экспериментировать с чужими умами — на Эритро такого ещё не водилось. Впервые он встретил другой разум, кроме своего. Сколько же ему лет, Марлена, как по-твоему?
— Не знаю, но мне кажется, что он живёт уже очень долго… Быть может, столько, сколько сама планета.
— Возможно. И, значит, сколько бы лет ему ни было, он впервые обнаружил рядом с собой столько интеллектов, не похожих на себя самого. Так, Марлена?
— Да.
— Значит, он принялся экспериментировать с чужими умами, а поскольку ничего не знал об их строении — повредил их. Вот и причина эритрийской лихоманки.
— Да, — с внезапной живостью откликнулась Марлена. — Правда, о лихоманке он ничего не сказал, но мне показалось, что причинами её и были его первоначальные эксперименты.
— А когда он заметил, к чему привела его деятельность, то прекратил её.
— Да, поэтому сейчас эритрийская лихоманка уже не наблюдается.
— Отсюда следует, что разум этот благожелательно настроен к людям, обладает этическими критериями, похожими на наши, и не желает вредить другим разумам.
— Да! — восторженно воскликнула Марлена. — В этом уж я уверена.
— Но что он представляет собой? Это дух? Нечто нематериальное? Находящееся за пределами чувств?
— Не могу сказать, дядя Сивер, — вздохнула Марлена.
— Хорошо, — продолжал Генарр, — давай повторим, что он тебе говорил. Останови меня, если я ошибусь. Значит, он сообщил, что интеллект его обладает протяженностью, что разум его прост в каждой точке и сложен лишь в общем и что он не хрупок. Так?
— Так.
— Но единственными живыми созданиями, обнаруженными людьми на Эритро, являются прокариоты, крошечные клетки, подобные бактериям. Возможно ли, чтобы отдельные крохотные клетки сложились в единый организм величиной с целый мир? Такой интеллект поистине можно назвать протяженным, простым в каждой точке и сложным в их единении. И он не будет хрупким, ведь если уничтожить даже большие его части, весь общемировой организм не претерпит никаких изменений.
Марлена взглянула на Генарра:
— Значит, я разговаривала с микробами?
— Я ещё не уверен, Марлена. Пока это только гипотеза, но она прекрасно со всем согласуется, всё объясняет — лучшей я не могу придумать. Кстати, Марлена, если выбрать любую из сотни миллиардов клеток твоего мозга — она окажется такой же маленькой. Дело в том, что ты — целый организм, а твой мозг — отдельная колония клеток. Так велика ли разница между тобой и другим организмом, клетки мозга которого рассеяны… с помощью каких-нибудь радиоволн?
— Ну, не знаю, — задумчиво пробормотала Марлена.
— Давай обдумаем ещё один важный вопрос. Что ему от тебя нужно?
Марлена удивилась:
— Дядя Сивер, он же может разговаривать со мной, передавать мне свои мысли.
— Ты хочешь сказать, что ему нужен собеседник? И, значит, как только мы, люди, здесь оказались, он почувствовал своё одиночество?
— Не знаю.
— И ничего не можешь предположить?
— Нет.
— Он же мог погубить всех нас, — вслух размышлял Генарр. — Он же способен сделать это, если мы наскучим ему или чем-нибудь раздосадуем.
— Нет, дядя Сивер!
— Но меня-то он приголубил — едва я попытался помешать тебе общаться с мозгом планеты. И не одного: так было и с Д’Обиссон, твоей матерью и часовым.
— Да, но ведь от этого не осталось никаких последствий — он просто не позволил вам помешать мне.
— И всё это затем, чтобы ты выходила на поверхность планеты, чтобы было с кем поговорить… Не слишком основательные причины.
— Быть может, истинных причин мы просто не в силах понять, — сказала Марлена. — Быть может, его разум настолько отличается от нашего, что мы просто не поймем объяснений.
— Но если он может с тобой говорить, значит, не слишком отличается. Он ведь воспринимает твои мысли и передаёт тебе собственные. Так вы общаетесь?
— Да.
— И он понимает тебя настолько, что говорит голосом Ауринела и принимает его облик — чтобы доставить тебе удовольствие.
Нагнув голову, Марлена изучала пол перед собою.
Генарр мягко сказал:
— Значит, если он понимает тебя, то и мы способны понять его, ну а раз так — следует выяснить, чего он от тебя хочет? Это очень важно — кто может знать, что он там замыслил? И, кроме тебя, этого никто не сумеет сделать.
Марлена поежилась.
— Я не знаю, как этого добиться, дядя Сивер.
— Делай всё, как и прежде. Разум этот дружески настроен к тебе, возможно, он сам и даст необходимые объяснения.
Подняв голову, Марлена внимательно посмотрела на Генарра и проговорила:
— Дядя Сивер, вы испуганы.
— Конечно. Ведь мы имеем дело с разумом, возможности которого намного превосходят наши собственные. Он же способен — если мы не устроим его, — непринуждённо разделаться со всеми нами.
— Я не об этом, дядя Сивер. Вы боитесь за меня.
Генарр помедлил.
— Ты до сих пор полагаешь, Марлена, что на поверхности Эритро тебе ничего не грозит? И что с этим разумом не опасно общаться?
Марлена вскочила и возмущенно заговорила:
— Конечно. Риска нет никакого. Он не станет вредить мне.
В её голосе слышалась уверенность, но у Генарра оборвалось сердце. Неважно, что она говорит — ведь ум её уже изменён воздействием интеллекта планеты. Можно ли теперь доверять ей? — раздумывал Генарр. Неужели у этого разума, состоящего из триллионов триллионов прокариотов, нет каких-то собственных целей? Ну, скажем, как у Питта. Что, если ради этих целей он способен проявить не меньшее, чем Питт, двуличие? И, наконец, что, если этот разум обманул Марлену? Имеет ли он, Генарр, право снова выпускать её наружу? Однако прав он или не прав — другого выхода нет.
Глава 34
БЛИЗКО
— Идеально, — сказала Тесса Уэндел. — Идеально, идеально, идеально. — И взмахнула рукой, словно вбивала гвоздь в стену. — Идеально.
Крайл Фишер знал, о чём она говорит. Дважды они проходили через гиперпространство в обе стороны. Дважды на глазах Крайла чуть-чуть сдвигались звёзды. Дважды отыскивал он взглядом Солнце. В первый раз оно показалось тусклым, во второй — немного ярче. Он уже начинал чувствовать себя старым космическим и гиперпространственным волком.
— Значит, Солнце нам не мешает, — заметил он.
— Мешает, только его влияние мы сможем точно учесть при расчёте.
— Солнце далеко, и его воздействие здесь должно быть почти нулевым.
— Безусловно, — согласилась Уэндел. — Только почти — это ещё не ноль. Влияние Солнца здесь ещё поддаётся измерению. Мы дважды проходили через гиперпространство. Сперва по виртуальной касательной чуть приблизились к Солнцу, потом удалились, немного повернув в другую сторону. By заранее проделал все вычисления, и наша траектория совпала с расчётной во всех десятичных знаках, которые есть смысл учитывать. Этот человек просто гений. Он так легко манипулирует с программами, что ты не поверишь.
— Не сомневаюсь, — проворчал Фишер.
— Всё, Крайл, вопросов больше нет. Уже завтра мы можем оказаться возле Звезды-Соседки. А хочешь — сегодня, если ты очень торопишься. Конечно, на всякий случай выйдём подальше от неё. И нам придётся приближаться к ней какое-то время. Масса этой звезды ещё точно не известна нам, и мы не можем рисковать, выйдя из гиперпространства поближе. Иначе нас может отбросить неведомо куда, и тогда снова придётся начинать сначала. — Она с восхищением покачала головой. — Ах, этот By! Я так им восхищена, что не в силах и описать.
— А ты уверена, что не чувствуешь досады? — осторожно спросил Фишер.
— Досады? Какой досады? — Тесса удивленно взглянула на Фишера. — Ты считаешь, что я должна ревновать?
— Не знаю. А вдруг потомки решат, что именно Сяо Ли By является отцом сверхсветового полёта, а тебя забудут или запомнят только как предтечу?
— Нет-нет, Крайл. Очень мило, что ты заботишься обо мне, но всё в порядке. Мои работы останутся моими. Основные уравнения сверхсветового полёта выведены мной. Я участвовала и в инженерных работах, хотя аплодисменты здесь сорвали другие люди. Заслуга By состоит только в введении поправки в основные закономерности. Конечно, очень важной поправки — без неё мы беспомощны в космосе, — но это же как глазурь на пироге. Который пекла я!
— Ну и отлично. Рад, что ты в этом уверена.
— Видишь ли, Крайл, я надеюсь, что By теперь возглавит дальнейшие исследования в области сверхсветового полёта. Лучшие годы мои позади — в науке, конечно. Только в науке, Крайл.
— Знаю-знаю, — ухмыльнулся Фишер.
— В науке я уже качусь под гору. Основы я заложила едва ли не аспиранткой. А потом двадцать пять лет разрабатывала следствия и уже сделала всё, что могла. Теперь нужны новые идеи, свежий взгляд, прорыв на необследованную территорию. А я уже не способна на это.
— Тесса, по-моему, ты скромничаешь.
— Увы, Крайл, в скромности меня никогда нельзя было обвинить. Новые мысли приходят в молодости. У молодежи не просто молодые мозги — у неё новые мозги. Вот By — его тип ещё незнаком человечеству, его опыт — это его собственный опыт — и ничей больше. У него могут быть новые идеи. Конечно же, он основывается на том, что я сделала до него, и многим обязан мне как учительнице. Крайл, он мой ученик, мой последователь. И в его достижениях есть и моя заслуга. Как же я могу ревновать? Да я горжусь им! В чём дело, Крайл? Ты не выглядишь радостным?
— Тесса, ты рада, значит, счастлив и я — неважно, как я выгляжу. Мне кажется, что ты потчуешь меня теорией научного прогресса. Но разве не было случаев в истории науки — да и не только в ней, — когда учителя ненавидели превзошедших их учеников?
— Бывало, конечно. Я сама могу привести с полдюжины довольно гадких примеров, но это исключения, к тому же я ничего подобного не ощущаю. Конечно, я не могу поручиться, что однажды By или Вселенная не выведут меня из терпения, но пока… Пока я намерена… Ой, что это такое?
Она нажала на кнопку «приём», и на экране появилось изображение юной мордашки Мерри Бланковиц.
— Капитан, — с обычной нерешительностью заговорила она, — у нас тут вышел спор, и я бы хотела узнать ваше мнение.
— Что-нибудь с кораблем?
— Нет, капитан, мы обсуждали стратегию.
— Хорошо, только лучше не здесь. Сейчас я спущусь в машинный зал. — Уэндел выключила приёмник.
— Чтобы у Бланковиц было такое серьёзное выражение лица… — пробормотал Фишер. — Что-то не так.
— Не будем гадать. Пойдём и посмотрим. — И она махнула рукой, приглашая Фишера следовать за ней.
* * *
Трое остальных членов экипажа уже сидели в машинном зале — на полу. Впрочем, поскольку корабль пребывал в невесомости, сидеть можно было и на стенах, и на потолке — но это не соответствовало бы серьёзности ситуации и, безусловно, было бы расценено как проявление неуважения к капитану. Ведь для невесомости был разработан достаточно сложный этикет.
Уэндел не любила невесомости и, если бы хотела пользоваться привилегиями капитана, в первую очередь приказала бы раскрутить корабль, чтобы создать ощущение гравитационного поля. Но она прекрасно знала, что рассчитывать траекторию легче, если корабль покоится относительно Вселенной, не совершая в ней ни поступательного, ни вращательного движений — впрочем, вращение с постоянной скоростью не вызывало особых проблем.
Однако настаивать на этом значило бы проявить неуважение к сидящему за компьютером. Опять этикет.
Уэндел не сразу уселась прямиком в кресло, и Крайл Фишер ехидно усмехнулся — про себя. Несмотря на то что Тесса почти всю жизнь провела в космосе, она не могла полностью освоиться в невесомости, а он, природный землянин, передвигался по кораблю так лихо, словно всю жизнь провёл при нулевом тяготении.
Сяо Ли By глубоко вздохнул. Он был широколиц и сидя казался невысоким — однако на самом деле его рост был выше среднего. У него были тёмные прямые волосы и узкие глаза.
— Капитан, — тихо сказал он.
— Что случилось, Сяо Ли? — спросила Уэндел. — Если опять что-нибудь с программированием, я вас задушу!
— Нет проблем, капитан. Нет проблем. И полное их отсутствие настолько удивляет меня, что, похоже, пора поворачивать к Земле. Я хочу вам это предложить.
— К Земле? — Уэндел изобразила на лице удивление. — Почему? Мы ещё не выполнили задания.
— По-моему, наоборот, — ответил By с абсолютно бесстрастным лицом. — Начнем с того, что мы даже не знали, в чём именно оно будет состоять. По ходу дела нам пришлось разработать новый способ сверхсветовой навигации — мы улетали с Земли, не располагая им.
— Я это знаю — ну и что?
— У нас нет связи с Землей. Если мы сейчас отправимся к Звезде-Соседке и там с нами что-нибудь случится, Земля останется без системы сверхсветовой навигации и неизвестно когда сумеет снова ею овладеть. Существенный фактор — к тому же Звезда-Соседка приближается к нам. По-моему, нам следует вернуться, чтобы сообщить Земле всё то, что мы сумели узнать.
Уэндел серьёзно слушала.
— Понимаю. А что вы, Ярлоу, думаете об этом?
Светловолосый Генри Ярлоу был высок и уныл. Меланхолическое выражение его лица абсолютно не соответствовало характеру. Его длинные пальцы — на вид совершенно неизящные — просто волшебным образом манипулировали всеми блоками компьютеров и едва ли не любым прибором на борту.
— По-моему, By говорит дело, — отозвался он. — Имей мы связь, можно было бы передать всё на Землю и катить дальше. Что с нами будет потом, волнует лишь нас самих. Мы не имеем права спокойно усесться на гравитационные поправки.
— А вы, Бланковиц? — спокойно спросила Уэндел.
Мерри Бланковиц поежилась — невысокая, длинные тёмные волосы, начинающиеся почти над бровями, расчесаны надвое. Изящным сложением и нервными быстрыми движениями она напоминала миниатюрную Клеопатру.
— Не знаю, — ответила она, — у меня определённое мнение ещё не сложилось, однако они почти уговорили меня. Разве не следует нам в первую очередь известить обо всём Землю? Мы обнаружили важный эффект, и в компьютеры новых кораблей необходимо ввести гравитационные поправки. Теперь мы в состоянии за один переход одолеть расстояние от Солнечной системы до Звезды-Соседки, причем в более сильных гравитационных полях, поэтому можно будет и стартовать ближе к ней, а не плестись несколько недель, подбираясь к её планетам. Мне кажется, сначала следует известить Землю.
— Ясно, — сказала Уэндел. — Как я понимаю, вы предлагаете немедленно вернуться на Землю с информацией о гравитационной коррекции. By, по-моему, это не так важно, как вам кажется. Мысль о том, что нужна коррекция, посетила вас не на борту — по-моему, мы обсуждали её несколько месяцев… — Она подумала. — Да нет же — почти год назад.
— Но тогда мы ни к чему не пришли, капитан. Вы потеряли, как я помню, терпение и не стали даже слушать меня.
— Да, признаю свою ошибку. Но вы же всё написали. Я велела вам написать отчет, чтобы почитать его на досуге. — Она шевельнула пальцами. — Надо сказать, времени у меня не нашлось. Правда, я не помню, чтобы вы приносили мне отчет. Но вы же наверняка всё сделали как надо — подробно, со всеми аргументами и уравнениями. Так ведь, By? Ваш отчет можно будет отыскать в нашем архиве?
У By на скулах заходили желваки, но голос был спокойным:
— Да, я подготовил отчет, но это только мои наблюдения, которым на Земле едва ли уделят внимание… Впрочем, как и вы, капитан.
— Почему? Не все же так невнимательны, как я.
— Хорошо, внимание обратят, но сочтут пустыми домыслами. А если мы вернёмся и привезём доказательства…
— Если есть идея, доказательства может представить кто угодно. Вы же знаете, как это бывает в науке.
— Кто угодно, — негромко, но многозначительно повторил By.
— By, вы заботитесь о себе. Вас в первую очередь беспокоит не Земля с её проблемами, а то, что слава достанется не вам. Так ведь?
— Капитан, в этом нет ничего плохого. Проблемы приоритета заботят любого ученого.
Уэндел начала закипать.
— Вы, кажется, забываете, что капитан здесь я и решать мне.
— Я помню об этом, — ответил By, — но это не парусник восемнадцатого столетия. Все мы — учёные, и решения следует принимать демократическим путем. И если большинство экипажа настаивает на возвращении…
— Ну-ка, — резко вмешался Фишер, — прежде чем продолжать, позвольте-ка мне вставить слово. Пока только я ещё не высказался, а раз мы решили быть демократичными, сейчас мой черед. Разрешите, капитан?
— Прошу, — сказала Уэндел, сжимая и разжимая пальцы правой руки, словно стискивала чье-то горло.
— Примерно семь с половиной столетий назад, — начал Фишер, — из Испании на запад отправился Христофор Колумб, который случайно открыл Америку. По пути он обнаружил, что отклонение показаний магнитного компаса от истинного севера — магнитная девиация — меняется с долготой. Важное открытие, если угодно, первый научный факт, обнаруженный в морском путешествии. Но многим ли известно теперь, что именно Колумб обнаружил изменение девиации компаса? Практически никому. А кто знает, что Колумб открыл Америку? Практически всё. Предположим, что, открыв отклонение магнитной стрелки, Колумб вернулся бы домой с половины пути, дабы сохранить за собой приоритет, и сообщил о своем открытии королю Фердинанду и королеве Изабелле? Наверняка монархи с интересом выслушали бы его и послали за океан новую экспедицию, во главе, скажем, с Америго Веспуччи. И кто бы тогда знал о Колумбе с его компасом? Никто. А кто помнил бы про Веспуччи — открывателе Америки? Все! Итак, вы собираетесь возвращаться? Уверяю вас, гравитационную поправку будут вспоминать как малый побочный эффект, существенный при передвижении на сверхсветовых скоростях. А экипаж следующей экспедиции, которая доберётся до Звезды-Соседки, прославится как первый совершивший сверхсветовое межзвездное путешествие. Ну а вас троих, и вас, By, в том числе, даже в примечаниях не упомянут. Быть может, вы полагаете, что в награду за сделанное великое открытие вас пошлют и в следующую экспедицию? Сомневаюсь. Видите ли, Игорь Коропатский, директор Всеземного бюро расследований, ждет нас на Земле с информацией о Звезде-Соседке и её планетной системе. И если он узнает, что вы побывали с ней рядом и вернулись, то взорвётся, как Кракатау. Конечно же, капитану Уэндел придётся признать, что на борту произошёл бунт — а это весьма серьёзно, хоть мы и не на паруснике восемнадцатого столетия. И вы не только следующей экспедиции — собственной лаборатории более не увидите. Уверяю вас. Невзирая на все ваши научные заслуги, вас посадят. Не следует дразнить Коропатского. Так что думайте. Куда правит тройка — к Звезде-Соседке или домой?
Наступило молчание, длившееся довольно долго.
— Вот так, — резко проговорила наконец Уэндел. — По-моему, Фишер всё объяснил очень понятно. Будут ещё вопросы?
— Но ведь я так и не высказала своего мнения, — негромко сказала Бланковиц. — По-моему, надо лететь дальше.
— Согласен, — буркнул Ярлоу.
— Ну а вы, Сяо Ли By? — спросила Уэндел.
By пожал плечами:
— Я не могу пойти против всех.
— Рада слышать. Итак, ничего не случилось — по крайней мере, так должны думать на Земле. Однако постарайтесь не предпринимать впредь никаких действий, которые можно было бы истолковать как враждебные.
* * *
Вернувшись с Тессой в свою комнату, Фишер проговорил:
— Надеюсь, ты не сердишься, что я вмешался. Мне показалось, что ты вот-вот взорвешься…
— Ну что ты. История с Колумбом мне и в голову не пришла бы. Спасибо, Крайл. — Она благодарно пожала ему руку.
Он улыбнулся.
— Должен же я как-то оправдывать своё пребывание на корабле.
— Ты более чем оправдал его. И надо же было By устроить такое именно в тот момент, когда я радовалась его успехам. И это за моё благородство, готовность поделиться, уважение к научной этике, желание, чтобы каждому досталось по вкладу его…
— Все мы люди, Тесса.
— Понимаю. Однако, если у кого-то этические воззрения разъезжаются, как двери, это не может отменить ни остроты ума, ни научной проницательности.
— Если честно, я боюсь, что руководствовался личными интересами, а не стремлением к общественному благу… Я-то лечу по личному делу.
— Понимаю, но всё-таки спасибо тебе.
В глазах Тессы проступили слезы. Она их быстро смахнула, и Фишер смутился.
А потом поцеловал её.
* * *
Это была просто звезда, пока ещё тусклая и ничем не выделявшаяся. Фишер потерял бы её, если бы не сетка, расчерченная радиусами и концентрическими окружностями.
— Ничего особенного, звезда как звезда, — проговорил Фишер, и лицо его приняло привычное уже озабоченное выражение.
Мерри Бланковиц, составлявшая ему компанию возле обзорного иллюминатора, отозвалась:
— Крайл, так ведь это и есть просто звезда.
— Я хотел сказать, что теперь она так близко, но не изменилась.
— Близко — это только так говорится. На самом деле до неё ещё одна десятая светового года, а это немало. Капитан осторожничает. Я бы подвела «Сверхсветовой» поближе. Хотелось бы долететь побыстрее. Мне уже не терпится.
— А ведь вы, Мерри, кажется, собирались домой?
— Да нет. Меня просто уговорили. А после вашей речи я показалась себе законченной дурой. Я действительно думала, что нас обязательно отправят в следующую экспедицию. Но вы, спасибо, просветили меня. И мне очень хочется опробовать НД.
Что означают эти буквы, Фишер знал — нейронный детектор. Ему тоже было интересно. Если прибор что-то обнаружит, то этим «что-то» будут не металлы, не скалы, не лёд, не какие-нибудь газовые облака…
— А отсюда нельзя попробовать? — нерешительно спросил он.
Она качнула головой:
— Нет, надо подойти поближе. До звезды нам ещё шлёпать и шлёпать. Около года. Но как только капитан удовлетворится сведениями о Звезде-Соседке, которые можно собрать здесь, мы сделаем ещё один переход. Так что я надеюсь, что самое большее через пару дней мы окажемся примерно в двух астрономических единицах от Звезды-Соседки. Там я наконец-то смогу приступить к работе. Надоело чувствовать себя балластом.
— Да, понимаю, — сухо отозвался Фишер.
По лицу Мерри пробежало смятение.
— Извините, Крайл. Я имела в виду только себя.
— Ничего. От меня всё равно толку не будет, на каком бы расстоянии от неё мы ни находились.
— Ваша работа начнется, когда мы обнаружим разум. Вы наверняка сумеете договориться с роторианами — всё-таки вы немного и поселенец.
— Я был роторианином всего несколько лет, — грустно улыбнулся Фишер.
— Но этого достаточно — так ведь?
— Посмотрим… — Он изменил тему разговора: — А вы уверены, что нейродетектор сработает?
— Безусловно. Любое поселение можно будет обнаружить по испускаемым им плексонам.
— Мерри, что такое плексоны?
— Я так назвала комплексы, излучаемые мозгом млекопитающих. С небольшого расстояния мы можем обнаружить даже лошадей, а уж скопление человеческих существ будет заметно даже на астрономических расстояниях.
— Значит, плексоны…
— От слова «комплексы». Когда-нибудь — вот увидите — исследованием плексонов займутся, чтобы не только обнаруживать жизнь, но и изучать глубинное строение мозга. У меня уже и термин придуман — «плексофизиология», а может быть, «плексонейроника».
— Какая разница?
— Действительно. Однако термин позволяет говорить кратко и обходиться без фраз типа «наука, которая исследует связь между тем-то и тем-то». А сказал: «плексонейроника» — пожалуй, так лучше, короче — и всё понятно. И сэкономлено время для более важных вопросов. Ну и… — Она смолкла.
— Что «ну и»?..
Мерри быстро заговорила:
— Если я придумаю название и оно окажется удачным, то одного этого мне хватит, чтобы попасть в историю науки. Все будут знать, что слово «плексон» было изобретено Меррили Огиной Бланковиц в 2237 году во время первого сверхсветового полёта звездолёта «Сверхсветовой». Иначе в историю мне не попасть.
— Мерри, а что, если вы обнаружите свои плексоны, а людей там не окажется и в помине? — осведомился Фишер.
— Вы имеете в виду чужаков? О, это будет ещё интереснее. Только шансов немного. До сих пор нас преследовали неудачи. Люди надеялись найти примитивные формы жизни уже на Луне, потом на Марсе, на Каллисто, на Титане. И всякий раз безрезультатно. Мы начали даже выдумывать уже просто невозможные варианты: живые галактики, пылевые облака, жизнь на поверхности нейтронной звезды… И всё такое прочее. Но нигде жизни не обнаружено. Нет, если мы что-нибудь найдём возле этой звезды, так только людей — я в этом нисколько не сомневаюсь.
— Но ведь плексоны излучаем и мы — все пять членов экипажа? Разве наше собственное излучение не перебьет сигнал, который может обнаружиться в нескольких миллионах километров от звезды?
— Конечно. И это усложняет дело. Поэтому нам приходится тщательно настраивать НД, экранировать его от нашего собственного излучения. Даже крохотная помеха не позволит нам ничего обнаружить. А знаете, Крайл, автоматические НД когда-нибудь станут посылать во все стороны через гиперпространство. Людей в таких автоматических аппаратах, конечно, не будет — одно это позволит производить измерения с точностью на два порядка выше, чем сейчас. Мы обнаружим внеземной разум издалека — не приближаясь к нему.
Появился Сяо Ли By. Он неприязненно покосился на Фишера и безразлично спросил:
— Как там Звезда-Соседка?
— Ничего ещё не видно — слишком далеко, — ответила Бланковиц.
— Что же, скорей всего, завтра или послезавтра совершим последний переход — тогда и посмотрим.
— Интересно, правда? — спросила Бланковиц.
— Будет интересно… если найдём роториан. — By посмотрел на Фишера. — Только найдём ли?
Вопрос был явно обращен к Фишеру, но он не стал отвечать. А только невозмутимо взглянул на By.
«Действительно… найдём ли?» — терзался Фишер.
Долгое ожидание подходило к концу.
Глава 35
СБЛИЖЕНИЕ
Как уже говорилось, Янус Питт не часто позволял себе роскошь от души пожалеть самого себя. В любом другом человеке подобную черту он бы назвал несомненным признаком слабости и эгоцентризма. Время от времени его охватывало чувство возмущения от того, с какой готовностью роториане предоставляли ему право принимать неприятные решения.
Да, конечно, существовал ещё и Совет, его регулярно избирали, члены его занимались законотворчеством, обсуждали какие-то несущественные вопросы. Но право решать всякий раз предоставляли ему. Вряд ли это делалось сознательно. Просто они с завидным постоянством пропускали именно важные вопросы, по всеобщему молчаливому соглашению считая их не заслуживающими внимания.
Здесь, в этой пустынной планетной системе, они неспешно строили новые поселения, полагая, что перед ними вечность. Потом было решено, что следует заселить пояс астероидов — а поскольку занятия этого хватит многим поколениям, гиперпривод тем временем усовершенствуется настолько, что легко можно будет найти и заселить новую планету.
Времени было много. Вечность.
И только Питт понимал, что его мало, что всё может кончиться в любой момент.
Как скоро оставшиеся возле Солнца обнаружат Немезиду? Когда хотя бы ещё одно поселение решит последовать примеру Ротора?
Однажды это непременно случится. Ведь Немезида неумолимо приближается к Солнцу и рано или поздно подойдёт так близко, что только слепой этого не увидит.
С помощью программиста, предполагавшего, что интерес комиссара к данной проблеме чисто академический, Питт выяснил у компьютера, что открытие Немезиды Землей состоится через тысячу лет — тогда-то поселения и начнут рассеиваться по Вселенной.
Питт задал следующий вопрос: ждать ли появления поселений у Немезиды?
Ответ оказался отрицательным. Гиперпривод со временем должен стать более эффективным и экономичным. Поселения к тому времени будут обладать новыми сведениями о ближних звездах: их внешнем виде, количестве спутников. Краевые карлики людям не понадобятся — все будут стремиться к звездам, подобным Солнцу. Земля же будет предоставлена собственной судьбе, положение её станет отчаянным. Деградирующее человечество, боящееся пространства, погружающееся в разруху и нищету, — что сможет сделать оно, узнав через тысячу лет о грозящей погибели? На длительные межпланетные путешествия земляне едва ли способны. Жалкие людишки обречены ползать по земной поверхности и ждать, когда придёт Немезида. Покинуть Землю у них просто не хватит духа.
И Питту привиделась сотрясаемая катастрофой Земля, жители которой пытаются найти спасение в тесной планетной системе Немезиды, ищут убежища на планете звезды, несущей смерть уютному миру возле Солнца.
Перспектива жуткая, но неизбежная. Жаль, что Немезида не удаляется от Солнца — тогда всё было бы гораздо проще. В этом случае открытие Немезиды становилось бы всё менее и менее вероятным, ну а если бы такое всё-таки случилось, карликовая звезда вряд ли заинтересовала бы землян, тем более в качестве последнего убежища. Однако если бы она удалялась, землянам не пришлось бы искать последнего приюта.
Но всё обстоит по-другому. Приходится ожидать землян — это вырождающееся отребье, это пестрое скопище немыслимо разнообразных культур. И что же тогда делать роторианам? Выход один — уничтожать незваных гостей прямо в космосе. Правда, принять такое решение способен только другой Янус Питт, чётко понимающий, что иначе нельзя. Но найдутся ли к тому времени другие Питты, которые обеспечат Ротор необходимым количеством оружия и научат роториан, как поступить, когда настанет срок?
Однако результаты компьютерного анализа всё-таки внушали обманчивый оптимизм. В Солнечной системе узнают про Немезиду ещё до исхода этого тысячелетия — так следовало понимать компьютер. Но когда? Что, если её обнаружат уже завтра? Что, если открытие уже состоялось три года назад? Может быть, по следу Ротора уже отправилось какое-нибудь из поселений?
И каждый день Питт просыпался с мыслью: не сегодня ли?
За что ему эта напасть? Почему всякий может спокойно наслаждаться выделенным ему куском вечности и лишь он один должен ежедневно размышлять о грядущей всеобщей гибели?
Конечно, кое-что Питт уже успел предпринять. Свою наблюдательную службу он разместил по всему периметру пояса астероидов, чтобы по колоссальному энергоизлучению ещё на предельном удалении заметить приближающееся поселение, и автоматические датчики службы неустанно прощупывали небо.
На её создание ушло много времени, однако уже с дюжину лет наблюдатели не пропускали ни одного подозрительного объекта и немедленно предупреждали Питта. И всякий раз в голове его тревожно звякал колокольчик.
Тем не менее до сих пор — до сих пор — ничего не случилось, и постепенно первоначальное чувство облегчения сменилось привычным раздражением по отношению к наблюдателям. Они старались умыть руки при малейшем подозрении, вновь перекладывая всю ответственность на Питта — пусть-де он берёт всё на себя: думает, решает, страдает.
Здесь жалость Питта к себе становилась всепоглощающей, на глазах выступали слезы… — и он начинал беспокоиться, как бы не обнаружить свою слабость.
Вот и теперь Питт опустил руку на отчет, расшифрованный компьютером, и погрузился в горестные размышления о том, что роториане недооценивают его преданного и бескорыстного служения общему благу.
Таких отчетов не поступало уже месяца четыре, и этот наверняка будет столь же никчемным, как и предыдущие. Обнаружен приближающийся источник энергии, мощность его теплового излучения на четыре порядка слабее, чем та, что могла бы быть у поселения. Пустяковый источник, лишь едва выделяющийся на общем фоне.
Уж от этого его могли бы избавить. В комментариях было отмечено, что длина волн излучения допускает возможность его искусственного происхождения. Вздор! Что можно сказать о столь слабом источнике, кроме того, что это не поселение? Ну а если так, то объект просто не может быть делом рук человека.
Наблюдатели… идиоты, а не наблюдатели, думал Питт, вечно досаждают неизвестно чем.
С негодованием отбросив отчет в сторону, он взял последнее сообщение Рене Д’Обиссон. Дура Марлена всё ещё не подцепила лихоманку. Настойчиво лезла туда, где опасно, старалась как могла — и ничего.
Питт вздохнул. Быть может, это и к лучшему. Девица хочет находиться на Эритро, ну и пусть там сидит — лихоманка не могла бы дать лучшего результата. Эугения Инсигна тоже останется на Эритро, и он разом избавится от обеих. Было бы неплохо, на всякий случай, чтобы не Генарр распоряжался в Куполе, а Д’Обиссон. Она лучше приглядит за матерью и дочерью. Надо бы устроить это, не откладывая в долгий ящик, — да так, чтобы заодно не сделать Генарра мучеником.
Может быть, назначить его комиссаром Нового Ротора? Конечно же, это повышение, едва ли Генарр откажется от должности, ставящей его вровень с самим Питтом. А вдруг Генарр получит настоящую власть, а не видимость её? Но есть ли альтернатива? Надо подумать.
Даже смешно! Насколько проще было бы всё, если бы эта девица, эта Марлена, сделала сущий пустяк — подхватила лихоманку.
Обнаружив, что вновь с раздражением думает о своевольной особе, он опять взял отчет о приближающемся источнике энергии.
Надо же! Какой ерундой его беспокоят. Нет, больше он не станет терпеть. И Питт немедленно ввел в компьютер: «По пустякам не беспокоить! Наблюдатели должны искать в небе поселения».
* * *
Тем временем на борту «Сверхсветового» одно за другим делались открытия. Ещё издалека обнаружилось, что рядом со Звездой-Соседкой находится планета.
— Планета! — воскликнул Крайл, не сдерживая буйной радости. — Я знал…
— Нет, — торопливо вмешалась Тесса Уэндел, — она не такая, как ты думаешь. Знаешь, Крайл, есть планеты и планеты. Чуть ли не любую звезду окружает нечто вроде планетной системы. В конце концов, больше половины звезд в Галактике являются кратными, а планеты — те же звёзды, только слишком маленькие. Эта планета непригодна для жизни. Если бы было наоборот, мы бы не увидели её на таком расстоянии, тем более в тусклом свете Звезды-Соседки.
— Ты хочешь сказать, что это газовый гигант?
— Конечно. И я была бы удивлена, если бы такового здесь не обнаружилось.
— Но мы нашли одну большую планету, значит, могут найтись и поменьше.
— Могут, — не стала возражать Уэндел, — но едва ли и они пригодны для обитания. На них может быть слишком холодно, или они не вращаются и обращены к звезде только одной стороною: таким образом, в одном полушарии будет слишком жарко, а в другом чересчур холодно. Конечно, Ротор — если он здесь — может находиться на орбите звезды или газового гиганта.
— Так оно, наверное, и есть.
— Столько лет? — Уэндел пожшга плечами. — Не исключено. Но ты, Крайл, лучше не надейся на это.
* * *
Следующие открытия оказались ещё более ошеломляющими.
— Спутник? — произнесла Тесса Уэндел. — А почему бы и нет? У Юпитера целых четыре крупных спутника. И ничего удивительного, что у здешнего газового гиганта есть по крайней мере один.
— Но в Солнечной системе таких нет, — возразил Генри Ярлоу. — Он величиной едва ли не с Землю — судя по моим данным.
— Ну и что же из этого следует? — невозмутимо осведомилась Уэндел.
— Ничего особенного, — ответил Ярлоу, — однако спутник обладает некоторыми особенностями. Жаль, что я не астроном.
— В данной ситуации, — проговорила Уэндел, — я тоже хотела бы, чтобы среди нас оказался хотя бы один астроном.
Однако, — продолжала она, — вы ведь не полный профан в астрономии.
— Дело в том, что спутник обращен одной стороной к газовому гиганту, а это значит, что другая его сторона повернута к Звезде-Соседке. Орбита его такова, что вода, насколько я могу судить, находится там в жидком состоянии. И у него есть атмосфера. Я же говорю, что не знаю всех тонкостей. Я не астроном. Но мне кажется, что спутник наверняка пригоден для жизни.
Эту новость Крайл Фишер выслушал с широкой улыбкой.
— А я не удивлен, — сказал он. — Игорь Коропатский предполагал, что мы обнаружим здесь обитаемую планету. Заметьте, без всякой предварительной информации. Своего рода дедукция.
— Значит, Коропатский? И когда же вы с ним говорили?
— Перед отлётом. Он был уверен, что с Ротором ничего не случилось и они не вернулись лишь потому, что обнаружили пригодную для колонизации планету. Вот она, пожалуйста.
— А почему он сказал это именно тебе, Крайл?
Фишер помолчал.
— Он попросил, чтобы мы исследовали эту планету на предмет возможного заселения её землянами — когда придёт время эвакуировать население.
— А почему он не сказал этого мне? Как ты считаешь?
— Видишь ли, Тесса, — осторожно ответил Крайл, — скорее всего, он решил, что из нас двоих я более заинтересован в исследовании планеты.
— Из-за дочери…
— Он же обо всём знает, Тесса.
— А почему ты мне этого не сказал?
— Просто не знал, стоит ли говорить. Я думал, что лучше подождать, убедиться, что Коропатский прав. Ну а раз он не ошибся, вот я тебе и говорю. Как он и предполагал, планета пригодна для обитания.
— Но это же спутник, — с явным раздражением проговорила Уэндел.
— В данном случае подобное различие не существенно.
— Вот что, Крайл, — сказала Уэндел. — Похоже, что моим мнением никто не интересуется. Коропатский пичкает тебя всякими небылицами ради того, чтобы мы взялись за исследование этой системы, а потом скорее возвращались на Землю. By тоже не терпится: он решил возвращаться, даже не приблизившись к цели, — а у тебя идефикс — во что бы то ни стало воссоединиться со своей семьей. Кажется, все позабыли, что капитан здесь я и я принимаю решения.
Голос Фишера стал умиротворяюшим:
— Тесса, ну будь умницей. Что здесь решать? Из чего выбирать? Ты утверждаешь, что Коропатский наговорил небылиц, а ведь это не так. Существует планета. Ну спутник — если тебе так больше нравится. Его же нужно исследовать. Мы открыли его, и это может сохранить жизнь человечеству. Возможно, перед нами будущий дом его. И человечество, скорее всего, уже приступило к его исследованию.
— Это тебе, Крайл, следует наконец прислушаться к голосу разума. Пусть этот мир подходит нам по размерам и температуре — есть же ещё бездна причин, по которым его нельзя будет заселить. Атмосфера его может оказаться ядовитой, или чересчур велика вулканическая активность, или там радиоактивность. Этот мирок освещает красный карлик, он обращается вокруг огромного газового гиганта. Разве такие условия приемлемы для землян? Кто знает, как они могли воздействовать на население Ротора?
— Но исследования следует провести даже для того, чтобы установить, что планета непригодна для жизни.
— Возможно, для этого не придётся даже садиться, — мрачно произнесла Уэндел. — Подойдём поближе и решим. Только, Крайл, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Видеть тебя разочарованным мне будет чересчур тяжело.
Фишер кивнул:
— Постараюсь. Однако Коропатский сделал точный вывод, когда все вокруг говорили, что такое невозможно. Ты, Тесса, тоже так говорила. Причем неоднократно. Однако планета нашлась — и, может быть, действительно подходящая. Так что позволь мне надеяться, что на ней отыщутся и люди Ротора, в том числе и моя дочь.
* * *
Стараясь выглядеть невозмутимым, Сяо Ли By сказал:
— Капитан в ярости. Что она совсем не рассчитывала найти, так это мир, пригодный для обитания, — она не позволяет нам называть это планетой. Значит, его придётся исследовать, а потом возвращаться домой. Вы же знаете, она мечтала о другом. Другого шанса уйти в дальний космос ей не представится. Иначе можно считать, что жизнь кончилась. Другие будут разрабатывать сверхсветовую технику, другие полетят к звездам. А она… она сможет рассчитывать разве что на роль консультанта. Эта мысль ей ненавистна.
— Ну а вы, Сяо Ли? Полетите снова, если представится возможность? — спросила Бланковиц.
By не колебался.
— Не уверен, скитания в космосе меня не соблазняют. Нет, знаете ли, жилки первопроходца. Но прошлой ночью я вдруг подумал, что неплохо было бы здесь поселиться, — конечно, если этот мир пригоден для жизни. А вы?
— Остаться здесь? Конечно, нет. Не хочу сказать, что мечтаю провести всю жизнь на Земле, но мне хотелось бы вернуться домой, побыть там, а потом, быть может, снова куда-нибудь полететь.
— Я тоже думал об этом. Найти такой спутник — это же один шанс из… из десяти тысяч? Кто мог надеяться, что мы обнаружим подобный мир в системе красного карлика? Нет, его просто необходимо исследовать. Я даже согласился бы остаться там на какое-то время, пока кто-нибудь другой доставит на Землю известие о моём приоритете. Как, Мерри, вы согласитесь защищать мои интересы?
— Конечно же, Сяо Ли. Я думаю, и капитан Уэндел тоже. Все данные у неё, всё зарегистрировано и подписано.
— Вот-вот. Мне кажется, капитан напрасно стремится в Галактику. Она может облететь сотню звезд, но так и не найти второй такой же. Зачем гнаться за количеством, когда качество под рукой?
— Мне лично кажется, — сказала Бланковиц, — что её больше волнует ребенок Фишера. Что, если он отыщет здесь свою дочь?
— Как что? Возьмет с собой на Землю. Но что тогда делать капитану?
— Там ведь ещё и жена была…
— А вы слыхали, чтобы он вспоминал о ней?
— Но это же не значит, что…
Заслышав снаружи шум, она мгновенно умолкла — и вовремя: вошёл Фишер и кивнул им обоим.
Смешавшись, Бланковиц торопливо спросила:
— Генри завершил спектроскопические измерения?
Фишер качнул головой:
— Не знаю. Он почему-то нервничает. Должно быть, опасается ошибиться.
— Ну да! — не согласился By. — Расшифровку производит компьютер. Генри-то тут при чем?
— Как это при чем? — возмутилась Бланковиц. — Вот это мне нравится! Вам, теоретикам, кажется, что нам, наблюдателям, достаточно включить компьютер, погладить его, сказать: «Ах ты, собаченька» — и прочитать результаты. Это не так. Компьютер скажет тебе то, что ты заложишь в него. Я ещё не знаю случая, чтобы теоретик не обвинял экспериментатора, когда тот обнаруживал не укладывающийся в теорию факт. Что-то не помню, чтобы в таких случаях говорили: «Это у вас, наверное, компьютер наврал…»
— Остановитесь, — прервал её By. — Ваши выпады неуместны. Вы хоть раз слышали от меня обвинения в адрес экспериментаторов?
— Но если вам не понравятся результаты, полученные Генри…
— В любом случае я приму их, поскольку никаких собственных теорий об этом мире не имею.
— Только потому вы и примете их.
Тут вошёл Генри Ярлоу, за ним следовала Тесса Уэндел. Лицо Генри напоминало тучу, собирающуюся разразиться дождем.
— Ну вот, Ярлоу, мы все собрались, — сказала Уэндел. — Теперь вы можете сообщить, что нас ждет.
— Беда в том, — начал Ярлоу, — что в спектре этой дохлой звезды ультрафиолета не хватит даже на то, чтобы чуточку обжечь альбиноса на пляже. Приходится использовать микроволны, а сей факт свидетельствует, что в атмосфере этого мира присутствуют водяные пары.
Уэндел нетерпеливо пожала плечами:
— Об этом можно было не говорить. Если на планете размером с Землю уровень температур поверхности допускает существование жидкой воды, наверняка там найдутся и водоемы, и водяные пары. Сделан ещё один шаг: мир действительно может оказаться пригодным для жизни, теперь такое предположение делается оправданным.
— Нет же, — неохотно сказал Ярлоу, — этот мир подходит нам вне всяких сомнений.
— Вы заключили это потому, что в атмосфере присутствуют водяные пары?
— Нет, я располагаю более весомыми доказательствами.
— А именно?
Мрачным взглядом окинув всех четверых, Ярлоу проговорил:
— Стоит ли говорить, что мир пригоден для обитания, если он населён?
— Едва ли, — согласился By.
— Значит, вы утверждаете, что уже на расстоянии можете определить, что на нём существует жизнь? — резким тоном спросила Уэндел.
— Именно это я и хотел сказать, капитан. В атмосфере спутника присутствует значительное количество свободного кислорода. Вы можете объяснить мне его присутствие чем-нибудь, кроме фотосинтеза? Или вы способны назвать планету необитаемой, когда на поверхности её существует жизнь, производящая кислород?
На миг воцарилось мертвое молчание, потом Уэндел проговорила:
— Ярлоу, это просто нереально. Вы уверены, что не напутали с программой…
Глядя на By, Бланковиц двинула бровями — вот видите?
Всё так же сурово Ярлоу проговорил:
— Мне ещё не случалось, как вы сказали, что-либо путать в программах, но я, безусловно, с охотой выслушаю любые замечания от всякого, кто лучше меня владеет методикой инфракрасного спектрального анализа. Я не знаток в этой области, однако прилежно следовал рекомендациям Бланка и Нкрумы.
Крайл Фишер, восстановивший известную уверенность в себе после инцидента с By, не колеблясь, выступил с собственным мнением:
— Конечно, когда мы окажемся ближе, то сумеем подтвердить этот факт или опровергнуть, но пока можно предположить, что доктор Ярлоу прав. Однако, если в атмосфере этого мира существует свободный кислород, разве не может он иметь искусственное происхождение?
Все взоры обратились к Фишеру.
— Как это? — невозмутимо произнес Ярлоу.
— Да-да, весь этот кислород может оказаться искусственным. Или это невозможно? Вот мир, пригодный для жизни во всём, кроме атмосферы, состоящей из окиси углерода и азота, как во всех безжизненных мирах, таких как Марс и Венера. Стоит бросить в океан водоросли, и всё: прощай, окись углерода, — привет тебе, кислород. Ну или что-нибудь в этом роде. Я здесь не эксперт.
Все по-прежнему молча смотрели на Фишера.
— Я говорю об этом потому, — продолжал он, — что на фермах Ротора поговаривали о создании на планетах земных условий. Я работал на этих фермах. Роториане проводили семинары по преобразованию планет, и я посещал их потому, что мне казалось, эти разговоры обнаруживают явную связь с разработками гиперпривода. Вышло иначе: вместо гиперпривода мне удалось кое-что узнать о преобразовании планет.
— А вы, Фишер, случайно не помните, сколько времени должно было уйти на всё это, по их расчётам? — спросил наконец Ярлоу.
Фишер развел руками:
— Увы, доктор Ярлоу. Просветите меня, чтобы сберечь время.
— Хорошо. Ротор добрался сюда за два года — если он действительно где-то здесь. Значит, роториане провели тут уже около тринадцати лет. Если бы весь Ротор состоял только из одноклеточных водорослей, и их бросили бы в океан, и если бы все они выжили и принялись расти, выделяя кислород, то, чтобы достичь нынешнего уровня — а кислорода в атмосфере планеты восемнадцать процентов, а окиси углерода только следы, — на всё, наверное, потребовалось не менее нескольких тысяч лет. Ну сотен — если условия необыкновенно благоприятны. Но уж, безусловно, гораздо больше тринадцати лет. Между прочим, земные водоросли приспособлены к земным условиям. И другой мир, скорее всего, совсем не подойдёт им, или же рост их окажется очень медленным… Пока ещё земные организмы сумеют приспособиться к новым условиям. За тринадцать лет такие перемены невозможны.
Фишер невозмутимо слушал.
— Ага, значит, если там изобилует кислород, а окись углерода отсутствует и роториане здесь ни при чем — то что отсюда следует? Выходит, мы обязаны предположить, что мир этот населён жизнью внеземного происхождения?
— Именно к такому выводу я и пришёл, — заключил Ярлоу.
— Придётся согласиться, — мгновенно отозвалась Уэндел. — Фотосинтез обеспечивает местная растительность. Но это ни в коей мере не означает, что роториане высадились туда или вообще добрались до этой системы.
На лице Фишера отразилась досада.
— Видите ли, капитан, — подчеркнуто официально проговорил он, — вынужден заметить, что это и не значит, что роториан там нет и что они не добрались сюда. Если планета обладает собственной растительностью, значит, роторианам не пришлось её преобразовывать — они могли просто приступить к её использованию.
— Не знаю, — проговорила Бланковиц. — Нет никаких оснований предполагать, что растительность чуждого мира годится в пищу людям. Скорее всего, мы не способны переварить её или как-то использовать. Можно с достаточной уверенностью предположить, что она окажется ядовитой. Но если существует растительный мир, должен быть и животный, а чем это чревато — нам трудно судить.
— В таком случае, — сказал Фишер, — роториане вполне могли выгородить себе кусок земли, уничтожить там всю местную жизнь и насадить собственные растения. И эти плантации с годами должны были только увеличиваться.
— Предположения и предположения, — пробормотала Уэндел.
— Во всяком случае, — отозвался Фишер, — сидеть здесь и сочинять всевозможные варианты — дело бесперспективное. Придётся исследовать этот мир самым тщательным образом, с самого близкого расстояния — с поверхности, если понадобится.
— Я целиком с вами согласен! — воскликнул By.
— Я биофизик, — заметила Бланковиц, — и если на планете действительно окажется жизнь, то её необходимо исследовать во что бы то ни стало.
Уэндел оглядела всех и, слегка покраснев, вдруг согласилась:
— Я полагаю, что все вы правы.
* * *
— Чем ближе мы подлетаем, — сказала Тесса Уэндел, — и чем больше узнаем о планете, тем больше в ней непонятного. Мир этот мертв. Есть ли у кого-нибудь сомнения? На ночной стороне мы не заметили вспышек света, ничто не доказывает существования растительности или других форм жизни.
— Прямых признаков нет, — согласился By, — но ведь что-то должно поддерживать содержание кислорода. Правда, я не химик, но что-то не помню такого химического процесса. Может быть, кто подскажет? — Никто не ответил, да By и не ждал ответа. — Сомневаюсь, что даже химик сможет предложить рациональное объяснение. Если в атмосфере есть кислород, значит, в ней идут биологические процессы, поддерживающие его наличие. Мы ничего другого не знаем.
— Справедливость ваших слов доказывается существованием единственной планетной атмосферы, содержащей кислород, — сказала Уэндел. — Других, кроме Земли, мы не знаем. Возможно, в будущем над нами ещё посмеются, если выяснится, что Галактика полным-полна планет, кислород в атмосфере которых не имеет ничего общего с жизнью. Нас будут упрекать, как, дескать, по одному-единственному примеру можно было решить, что кислород в атмосфере обязательно имеет биологическую природу.
— Нет, — раздраженно ответил Ярлоу, — так, капитан, в науке проблемы не решают. Можно придумать бездну гипотез, только не следует полагать, что законы природы будут меняться ради нашего удобства. Если вы хотите обнаружить небиологический источник атмосферного кислорода, будьте добры предложить подходящий механизм.
— Но в отражённом свете, — возразила Уэндел, — мы не видим признаков существования хлорофилла.
— А почему он там должен быть? — спросил Ярлоу. — Вполне возможно, что возле красного карлика эту роль исполняет другая молекула. Могу я высказать предположение?
— Будьте любезны, — ответила Уэндел, — мне кажется, что ничего другого от вас я уже давно не слыхала.
— Великолепно! Пока мы можем сказать только, что суша этого мира полностью лишена жизни. Но это ничего не значит — лишь четыреста миллионов лет назад континенты Земли были столь же безжизненными, однако планета уже имела кислородную атмосферу, даже изобиловала жизнью.
— Её водными формами.
— Да, капитан. В этом нет ничего плохого. Возможно, и там существуют какие-то водоросли — нечто вроде микроскопических растений, выполняющих роль поставщиков кислорода. Водоросли земных морей выделяют восемьдесят процентов кислорода, каждый год поступающего в атмосферу. Это объясняет всё: и наличие в атмосфере кислорода, и отсутствие жизни на суше. А значит, нам никто не помешает исследовать планету: мы опустимся на безжизненном материке и изучим море с помощью доступных средств, а все подробности оставим следующей экспедиции.
— Да, но человек — животное сухопутное. Если бы Ротор находился в этой системе, то роториане наверняка уже приступили бы к колонизации планеты, но признаков этого мы не обнаружили. Неужели вы всё ещё считаете, что дальнейшие исследования необходимы?
— Конечно же, — торопливо вмешался By. — Нельзя возвращаться назад с одними наблюдениями. Нам необходимы факты. Не исключено, что обнаружатся и некоторые сюрпризы.
— А вы их ждете? — с раздражением спросила Уэндел.
— Неважно, чего именно я жду. Но разве можно вернуться на Землю, даже не побывав на планете, и заверить всех, что там ничего нет? Едва ли это разумно.
— По-моему, — проговорила Уэндел, — вы изменили мнение на противоположное, а ведь совсем недавно не собирались даже приближаться к этой звезде.
— Помнится, — произнес By, — мне пришлось подчиниться мнению большинства. Но в нынешних обстоятельствах мы обязаны провести исследование. Понимаю, капитан, вы испытываете сильное искушение, вам хочется обследовать ещё несколько звездных систем, но раз перед нами пригодный для жизни человека мир, мы обязаны привезти на Землю максимум информации о нём, для человечества куда более важной, чем любой каталог характеристик нескольких ближайших звезд. К тому же, — он показал на иллюминатор, — я хочу увидеть этот мир. Мне кажется, что нам нечего там опасаться.
— Кажется… — язвительно повторила Уэндел.
— И у меня есть право на интуицию, капитан.
— У меня тоже, капитан, и это меня беспокоит, — сказала Мерри Бланковиц и всхлипнула.
Уэндел с удивлением посмотрела на молодую женщину.
— Бланковиц, вы плачете?
— Нет, капитан, просто я очень расстроена.
— Почему?
— Я включала НД.
— Нейродетектор? Изучали этот безжизненный мир? Зачем?
— Потому что для этого я и прилетела сюда, — ответила Бланковиц. — Я должна была.
— Конечно, результат отрицательный, — проговорила Уэндел. — Очень жаль, Бланковиц, но другой шанс вам представится лишь в другой звездной системе.
— Все не так, капитан. Результат не отрицательный. Прибор свидетельствует о наличии жизни в этом мире, и это меня беспокоит. Результат такой неожиданный, и я не понимаю, в чём дело.
— Быть может, какая-то неисправность? — вмешался Ярлоу. — Прибор новый, и неудивительно, что он барахлит.
— Нет, он работает. Но, может быть, фиксирует наше собственное излучение? Или ошибается? Я проверила — экранировка в порядке, любую системную ошибку я обнаружила бы. Газовый гигант не даёт положительного сигнала, звезда тоже, от точек, наугад выбранных в космосе, его тоже нет, но стоит навести на спутник газового гиганта — и пожалуйста.
— Вы хотите сказать, — промолвила Уэндел, — что обнаружили разум там, где мы не в состоянии уловить признаков жизни?
— Очень слабый сигнал, он едва выделялся.
— Ну, капитан, — сказал Фишер, — что вы думаете о предложении Ярлоу? Что, если жизнь кроется в глубине океана и поэтому доктор Бланковиц получает столь слабый сигнал?
— Хорошая мысль, — согласился By. — В конце концов, жители моря — пусть и разумные — могут не иметь техники. В воде костер не разжечь. Внешние проявления жизни моря для людей малозаметны. Каким бы разумом ни обладали эти существа, без техники они не опасны, особенно если они не могут покинуть море: ведь мы будем на суше. Значит, вопрос становится ещё более интересным, и мы просто не имеем права не прояснить его.
— Вы все так тарахтите, что я не могу вставить слово, — раздраженно заметила Бланковиц. — Все вы не правы. Если бы носители разума обитали лишь в океане, положительный сигнал я получала бы только оттуда. А я получаю его отовсюду — и причем равномерно. И с суши, и с моря. Я этого не понимаю.
— Значит, и с суши тоже, — с явным недоверием повторила Уэндел. — Тогда здесь, конечно, что-то не так.
— Но я не могу понять, что именно, — сказала Бланковиц. Это меня и беспокоит. Я ничего не понимаю. — И, словно извиняясь, добавила: — Конечно, сигнал очень слабый, но тем не менее он существует.
— Мне кажется, я могу дать объяснение, — проговорил Фишер.
Присутствующие немедленно воззрились на него.
— Я не учёный, — начал он, — однако это не значит, что я ничего не понимаю. Итак, в море присутствует разум, но под водой. Поэтому нам трудно его заметить. Здесь всё понятно. Но интеллект существует и на суше. Значит, и тут он скрыт. Он — под землей!
— Под землей? — воскликнул Ярлоу. — Что ему там делать? И состав воздуха, и температура планеты, по нашим сведениям, вполне нормальны. От чего ему прятаться?
— Например, от света, — рассудительно ответил Фишер. — Возьмём тех же роториан. Предположим, что они уже освоили планету. Кто захочет обитать на её поверхности, в свете красного солнца, угнетающего растительный мир и психику человека? Под землей можно устроить электрическое освещение, там будет лучше и самим роторианам, и их растениям. К тому же… — Он замолчал.
— Ну что же ты? Продолжай! — сказала Уэндел.
— Ну хорошо. Постарайтесь понять роториан: они живут внутри Ротора. Они привыкли к этому и считают такую жизнь нормальной. Перебираться на поверхность планеты им просто не хочется. И в конце концов они зароются.
— Значит, ты предполагаешь, что нейродетектор Бланковиц обнаружил присутствие людей под поверхностью планеты?
— Да. Почему бы и нет? А кора планеты ослабляет излучение до уровня, принимаемого детектором.
— Но ведь Бланковиц утверждает, что на суше и на море реакция одинакова.
— По всей планете… и совершенно однородная, — подтвердила Бланковиц.
— Ну хорошо, — согласился Фишер, — туземцы в море, роториане под поверхностью суши. Разве такого не может быть?
— Постойте, — проговорил вдруг Ярлоу. — Значит, реакция одинакова повсюду — так, Бланковиц?
— На поверхности существует несколько незначительных положительных и отрицательных экстремумов, но они настолько невелики, что в их существовании легко усомниться. Словом, разум как будто целиком охватывает планету.
— Ну хорошо, в море это возможно, — сказал Ярлоу. — Но на суше-то? Разве можно предполагать, что за тринадцать лет — всего за тринадцать лет — роториане нарыли туннелей повсюду под поверхностью этого мира? Если бы вы обнаружили внизу одно, даже два небольших пятна, дающих такую реакцию и занимающих очень малую долю поверхности планеты, я бы согласился с такой перспективой. Но чтобы вся поверхность… Знаете, этому разве что моя тетушка Тилли поверит.
— Генри, значит, ваши слова следует понимать в том смысле, что вы предполагаете существование чуждого интеллекта под всей поверхностью этой планеты? — спросил By.
— Иного вывода мы, по-моему, сделать не можем, — ответил Ярлоу, — иначе остаётся считать, что показания прибора Бланковиц — сущий вздор.
— Знаете что, — заметила Уэндел, — похоже, что в таком случае лучше не спускаться на поверхность планеты, ведь чуждый нам разум не обязательно окажется дружелюбным, а «Сверхсветовой» — не военный корабль.
— Зачем же сдаваться? — возразил By. — Мы обязаны выявить носителей разума и определить, способны ли они помешать землянам переселиться сюда.
— В одном месте, кажется, есть крохотный максимум — больше, чем повсюду, — сказала Бланковиц. — Впрочем, тоже небольшой. Отыскать его?
— Давайте, — проговорила Уэндел. — Надо тщательно исследовать окрестности, после чего и будем решать — спускаться нам или нет.
By невозмутимо улыбнулся.
— Уверяю вас — на планете нам ничего не грозит.
Уэндел сердито нахмурилась.
* * *
Странной чертой Салтаде Леверетта — с точки зрения Януса Питта — было его желание обитать в поясе астероидов. Очевидно, некоторым людям действительно нравятся пустота и одиночество.
— Нет, я не презираю людей, — уверял Леверетт. — Просто мою потребность в общении удовлетворяет головизор — и поговорю, и выслушаю, и посмеюсь. Разве что пощупать не могу и обнюхать — но среди людей это не принято. К тому же в поясе астероидов уже строятся пять поселений, и при желании я могу там досыта пообщаться с людьми.
Приезжая на Ротор — в метрополию, как он называл, — Леверетт всё время опасливо оглядывался по сторонам, словно боялся, что его начнут толкать.
К стульям он тоже относился подозрительно и, усевшись, ерзал, словно хотел стереть отпечаток того, кто сидел на нём раньше.
Янус Питт всегда считал, что лучшего кандидата на должность исполняющего обязанности комиссара пояса астероидов ему не найти. Такой пост давал Леверетту власть над всей внешней областью системы Немезиды. А следовательно, не только над строящимися поселениями, но и над службой наблюдения.
Они как раз заканчивали завтракать в личных апартаментах Питта — Салтаде, наверное, скорее умер бы с голоду, чем согласился есть в общей столовой, куда пускали кого попало (кем попало он считал всех незнакомых людей). Питта вообще удивляло, что Леверетт соглашается есть даже в его присутствии.
Питт внимательно приглядывался к нему. Сухой и морщинистый, Леверетт напоминал хлыст, казалось, что он никогда не был молодым и не станет старым. У него были блеклые голубые глаза и выцветшие желтые волосы.
— Салтаде, когда вы в последний раз были на Роторе?
— Всего два года назад. И, по-моему, Янус, с вашей стороны непорядочно вновь подвергать меня таким испытаниям.
— Я здесь ни при чем. Я не вызывал вас, но если уж вы здесь — милости просим.
— Могли бы и вызвать. В своем последнем послании вы объявили, что не желаете, чтобы вас беспокоили по пустякам. Наверное, вы, Питт, уже считаете себя настолько крупной фигурой, что желаете иметь дело лишь с себе подобными.
Улыбка Питта стала напряженной.
— Не понимаю, о чём вы, Салтаде?
— Вам послали отчет. Наблюдатели обнаружили источник излучения, приближающийся извне. Материал отослали вам, но в ответ получили меморандум, где указано, в каких случаях вас следует беспокоить.
— Ах, это! — Питт вспомнил: то был момент жалости к себе и раздражения. Ведь и он имеет право на раздражение, хотя бы изредка… — Вашим людям приказано ждать появления поселения. С вопросами менее важными ко мне обращаться необязательно.
— Прекрасно, что вы так решили. Но что делать, если наблюдатели обнаружили не поселение и опасаются докладывать вам? Они направили мне новый отчет, чтобы я передал его вам, невзирая на то что вы считаете такие случаи пустяковыми. Наблюдатели полагают, что мне легче справиться с Питтом, хотя я не испытываю ни малейшего желания общаться с вами. Под старость лет вы становитесь брюзгой, Янус.
— Хватит болтать, Салтаде. Так что они у вас там обнаружили? — по-прежнему брюзгливо спросил Питт.
— Они обнаружили корабль.
— Что значит «корабль»? Не поселение?
Леверетт поднял руку с узловатыми пальцами.
— Я не говорил «поселение», я сказал — «корабль».
— Не понимаю.
— А что тут понимать? Или компьютер нужен? Если так — вот он. Корабль — это транспортное средство, перемещающееся в космосе с экипажем на борту.
— Большой?
— Я предполагаю, что он вряд ли вмещает больше шести человек.
— Один из наших, наверное…
— Нет. Мы проверили. Этот был сделан не на Роторе. Служба наблюдения по собственной инициативе кое-что предприняла, однако они побоялись доложить вам. Ни один компьютер нашей системы не принимал участия в сооружении этого корабля, а такого судна, не обратившись к компьютеру на той или иной стадии, не соорудить.
— И что вы решили?
— Это не роторианское судно. Оно идёт издалека. И пока ещё оставалась надежда, что корабль окажется нашим, мои ребята сидели тихо и не беспокоили вас, согласно полученным указаниям. Ну а когда оказалось, что нам он не принадлежит, они обо всём доложили и просили сообщить вам, но сами делать это отказались. Знаете, Янус, в пренебрежении людьми не следует заходить слишком далеко — в конце концов это может плохо кончиться.
— Да помолчите же! — раздраженно выкрикнул Питт. — Как это — не роторианский корабль? Откуда он может здесь взяться?
— Скорее всего, он прибыл из Солнечной системы.
— Невероятно! Чтобы такой крошечный кораблик, с полудюжиной человек на борту, мог осилить путь от Солнечной системы? Даже если земляне изобрели гиперпривод — а в этом теперь едва ли можно сомневаться, — в таком тесном корабле шестерым не выдержать целых два года. Разве что удалось подобрать прекрасно обученный образцовый экипаж, приспособленный к межзвездным перелетам. Впрочем, в Солнечной системе никто на это не решится. Только поселение, замкнутый мир, населённый людьми, с детства привычными к такому образу жизни, может совершить межзвездное путешествие и уцелеть.
— Тем не менее, — сказал Леверетт, — сюда летит небольшой корабль, который сделали не роториане. Это факт, и вам остаётся только смириться с ним. Откуда он? Ближайшая к нам звезда — Солнце. С этим тоже не поспоришь. И если корабль не из Солнечной системы, значит, он летит от какой-то другой звезды, и тогда его путь длился дольше, чем два года. Впрочем, если уж два года, по-вашему, чересчур много — что уж думать о другом?
— А если этот корабль сделан не людьми? — спросил Питт. — Предположим, что существуют иные формы жизни, с психологией, отличающейся от человеческой. Возможно, они способны к долгим путешествиям в тесном помещении.
— Если они вот такого роста, — Леверетт развел большой и указательный пальцы на четверть дюйма, — тогда корабль для них поселение. Но это не так. Это не чужаки. И не какие-то гномы. Корабль сделали люди — но не роториане. Мы считаем, что чужаки во всём отличаются от людей, а значит, и корабли их должны быть совершенно не похожи на наши. А этот имеет вполне земной внешний вид, вплоть до серийного обозначения, выведенного земными буквами.
— Вы не сказали об этом!
— Полагал, что и так понятно!
— Но если корабль земной, он может оказаться автоматическим. На борту его могут быть только роботы.
— Возможно, — согласился Леверетт, — а раз так, нам следует взорвать его. Раз людей на борту нет, то и этических проблем не возникнет. Мы уничтожим чью-то собственность, но ведь они нарушили границы наших владений.
— Вот и я об этом думаю, — сказал Питт.
Леверетт широко улыбнулся.
— Пожалуй, не стоит. Этот корабль провёл в космосе меньше двух лет.
— О чём вы?
— А вы забыли, каким был Ротор, когда мы сами здесь появились? Мы летели больше двух лет. И половину этого времени провели в нормальном пространстве при скорости чуть меньше световой. У нас вся поверхность была побита, исцарапана атомами, молекулами и частицами пыли. Пришлось полировать и чинить, насколько я помню. Вы-то не забыли?
— А этот корабль? — спросил Питт, не потрудившись ответить на вопрос.
— Блестит, словно прошёл всего каких-нибудь несколько миллионов километров с обычной скоростью.
— Но это невозможно! Что вы опять несете?
— Вовсе не невозможно. Несколько миллионов километров они и прошли с обычной скоростью — остальной путь проделали в гиперпространстве.
— О чём вы говорите? — Терпение Питта явно истощалось.
— О сверхсветовом полёте. Они освоили гиперпространство.
— Но это теоретически невозможно.
— Да? Соглашусь, если вы найдёте другое объяснение.
Питт открыл рот:
— Но…
— Я знаю. Физики будут утверждать, что такое немыслимо, — однако же корабль здесь. А теперь позвольте сказать вам следующее. Если они уже умеют путешествовать со скоростью света, значит, обладают и сверхсветовой связью. И Солнечная система знает, где они находятся и что здесь происходит. И если мы взорвем судно, об этом станет известно на Земле и через некоторое время сюда явится целый флот таких кораблей и примется за нас.
— Что же делать-то, а? — Питт на время даже потерял способность соображать.
— Остаётся принять их как друзей, выяснить, кто они, откуда и зачем явились сюда. Я предполагаю, что они собираются высадиться на Эритро. Нам тоже придётся полететь туда, чтобы вступить в переговоры.
— На поверхности Эритро?
— Янус, если они опустятся на Эритро, где ещё мы сможем с ними переговорить? Придётся встретиться там. Рискнем.
Питт почувствовал, как в голове вновь начали двигаться колесики.
— Раз вы полагаете, что это необходимо, быть может, вы и займетесь? Возьмете корабль с экипажем и…
— А вы, значит, не собираетесь?
— Разве комиссар обязан встречать неизвестные корабли?
— Понимаю, это унижает ваше достоинство. Значит, с этими инопланетянами, гномами, роботами — чем там ещё? — придётся разговаривать мне одному?
— Салтаде, я, конечно, буду на связи. Голос, изображение…
— Но издалека.
— Да, однако успех вашей миссии будет отмечен наградой.
— Если так, то… — и Леверетт многозначительно взглянул на Питта.
Тот помолчал.
— Вы собираетесь назвать цену?
— Я собираюсь предложить вам свои условия. Если вы хотите, чтобы я встретил корабль на Эритро, — отдайте мне планету.
— Что это значит?
— Я хочу там жить. Я устал от астероидов. Я устал от чужих глаз. Я устал от людей. С меня довольно. Мне нужен пустой мир. Я хочу соорудить себе дом на Эритро, получать всё необходимое из Купола, завести там животноводческую ферму — если мне это удастся.
— И давно вам этого хочется?
— Не знаю. Но чем дальше, тем больше. И сейчас, когда я снова здесь, на Роторе, с его шумом и столпотворением, Эритро кажется мне ещё более привлекательной.
Питт нахмурился.
— С вами — уже двое. Вы прямо как эта свихнувшаяся девица.
— Что за свихнувшаяся девица?
— Дочь Эугении Инсигны. Вы же знаете её — она астроном.
— Астронома-то знаю, но с дочерью не встречался.
— Совершенно сошла с ума. Ей хочется жить на Эритро.
— Подобное желание считать безумным я не могу, по-моему — это весьма здравая мысль. Кстати, если она желает жить на Эритро, с присутствием женщины я ещё могу смириться.
Питт поднял палец:
— Девушки, я сказал.
— Сколько ей?
— Пятнадцать.
— Ага. Ну ничего, повзрослеет. Правда, я, к сожалению, состарюсь.
— Она не из красавиц.
— Янус, — сказал Леверетт, — и я тоже — поглядите внимательнее. Итак, мои условия вы знаете.
— И вы хотите официально ввести их в компьютер?
— Обычная формальность, Янус, не более…
Питт не улыбнулся.
— Очень хорошо. Попробуем проследить, куда сядет корабль, — и отправляйтесь к нему на Эритро.
Глава 36
ВСТРЕЧА
В голосе Эугении Инсигны слышались удивление и досада.
— А Марлена пела сегодня. Что-то о «доме, доме в небесах, где плывут свободные миры».
— Знаю, — кивнул Сивер Генарр, — я бы напел мотив — да слуха нет.
Они только что покончили с завтраком. Теперь они каждый день завтракали вместе, и Генарру это нравилось, хотя всякий раз приходилось разговаривать только о Марлене. Инсигна прибегала к его обществу от отчаяния — поскольку больше ни с кем не могла свободно говорить о дочери.
— Неважно. Каковы бы ни были причины…
— Я ещё не слыхала, чтобы она пела, — сказала Инсигна. — И уж думала, что она не умеет — но оказывается, у Марлены приятное контральто.
— Это значит, что она рада… или возбуждена… или удовлетворена… словом, у неё всё хорошо, Эугения. Мне лично кажется, что она нашла своё место под солнцем, поняла, зачем живёт. Это дано не каждому. Люди, Эугения, по большей части влачатся по жизни, пытаются отыскать её смысл, не находят его и умирают в отчаянии или полном безразличии. Лично я принадлежу к последнему типу.
Инсигна попробовала улыбнуться.
— Подозреваю, что обо мне ты так не думаешь.
— Нет, Эугения, ты не отчаялась, ты продолжаешь сражаться, хотя битва давно проиграна.
— Ты про Крайла? — Она опустила глаза.
— Если ты об этом подумала, пусть так оно и будет. Но, если честно, я думал о Марлене. Она уже много раз выходила наружу. Ей там хорошо. Она счастлива, а ты всё сидишь здесь и не можешь преодолеть ужаса. Что же ещё тебя беспокоит?
Инсигна прожевала, положила вилку на тарелку и сказала:
— Чувство потери. Несправедливости. Крайл сделал свой выбор — и я его потеряла. Теперь Марлена — я теряю её. И это уже не лихоманка, а Эритро.
— Понимаю. — Он протянул ей руку, и она рассеянно пожала её.
— Теперь Марлена всякий раз уходит всё дальше, ей неинтересно с нами. Когда-нибудь она останется там и будет возвращаться всё реже и реже, а потом и вовсе исчезнет.
— Возможно, ты права, но ведь жизнь — это цепь потерь. Ты теряешь молодость, родителей, любимых, друзей, удовольствия, здоровье и, наконец, саму жизнь. Ты можешь не принимать этого — и всё равно будешь терять. Да ещё потеряешь спокойствие и душевное равновесие.
— Сивер, она никогда не была счастливым ребенком.
— И ты винишь в этом себя?
— Я могла бы проявить больше понимания.
— Начать никогда не поздно. Марлена хотела этот мир — и получила его. Она стремилась научиться общаться с чужим разумом с помощью своих необыкновенных способностей — и добилась этого. И ты хочешь заставить её отказаться от достигнутого? Ради твоего спокойствия она должна пожертвовать тем, чего ни я, ни ты даже представить себе не можем?
Инсигна рассмеялась, хотя в глазах её стояли слезы.
— Сивер, ты, наверное, и кролика сумеешь уговорить вылезти из норки.
— Ты думаешь? И всё-таки моё красноречие оказалось бессильным перед молчанием Крайла.
— Тут были другие причины. — Инсигна нахмурилась. — Теперь уже это ничего не значит. Сивер, ты рядом, и это меня поддерживает.
— Это самый верный признак того, что я действительно состарился, — грустно сказал Генарр, — но я рад, что тебе спокойно со мной. С годами мы начинаем искать не чего-нибудь эдакого, а покоя.
— Но в этом нет ничего плохого.
— В мире вообще нет ничего плохого. Должно быть, многие пары, испытавшие экстаз и страсть, но так и не нашедшие утешения друг в друге, в конце концов охотно согласились бы отдать всё это за минуту покоя. Не знаю. Незаметный человек всегда незаметен, но и он умеет любить.
— Как ты, мой бедный Сивер?
— Эугения, я всю жизнь старался избежать этой ловушки, которая зовется жалостью к себе самому, и не надо вновь искушать меня ею, просто чтобы посмотреть, как я корчусь.
— Ах, Сивер, я хочу вовсе не этого.
— Ну вот, именно этих слов я и ждал от тебя. Видишь, какой я умный. И учти, когда тебе потребуется утешение, я буду рядом с тобой вместо Марлены. Конечно, если ты не станешь возражать против моего присутствия.
— Сивер, я этого не заслужила. — Инсигна пожала ему руку.
— Не старайся отказаться от моего общества под этим предлогом. Я намереваюсь посвятить тебе всю жизнь, и не пытайся остановить меня — я хочу принести тебе эту высшую жертву.
— Неужели ты не нашёл никого достойнее?
— Я и не искал. Впрочем, женщины на Роторе и не обнаруживали особого интереса ко мне. К тому же что бы я делал с этой более достойной? Какая тоска — быть заслуженной наградой. Куда романтичнее оказаться незаслуженным даром, благодеянием небес.
— И в божественном облике спуститься ко мне, недостойной.
Генарр энергично кивнул:
— Вот-вот, именно так. Эта перспектива и вдохновляет меня.
Инсигна вновь рассмеялась — уже непринуждённей.
— А ты тоже свихнулся. Знаешь, я этого как-то не замечала.
— О, во мне таятся неизведанные глубины. И когда ты узнаешь… конечно, в должное время…
Слова его прервал резкий звонок приёмника новостей.
Генарр нахмурился.
— Ну вот, Эугения, только мы с тобой подошли к нужному месту — даже не понимаю, как это мне удалось, — и ты уже готова упасть в мои объятия, как нас сразу же перебивают. Ух ты, вот так-так! — Голос его изменился. — Это от Салтаде Леверетта.
— Кто это?
— Ты не знаешь его. Его вообще почти никто не знает. Я ещё не встречал человека, более соответствующего понятию «отшельник». Леверетт работает в поясе астероидов — потому что ему нравится там. Когда же это я в последний раз видел старикашку?.. Впрочем, почему старикашку — ведь мы с ним ровесники… Видишь, печать — под мои отпечатки пальцев. Вообще-то, прежде чем это вскрыть, я должен попросить тебя выйти.
Инсигна немедленно встала, но Генарр жестом велел ей сесть.
— Эугения, не глупи. Склонностью к секретности пусть маются официальные инстанции. Я предпочитаю пренебрегать ею. — Он приложил к бумаге большой палец, потом другой — и на бумаге стали проступать буквы. — Хотелось бы знать, что бы мы делали без больших пальцев? — пробормотал Генарр и замолчал.
Потом, ни слова не говоря, передал Инсигне послание.
— А мне можно его читать?
Генарр отрицательно качнул головой:
— Конечно, нет, но я не возражаю.
Она пробежала его глазами и взглянула на Генарра:
— Чужой корабль? Собирается здесь сесть?
Генарр кивнул:
— Так здесь написано.
Инсигна встрепенулась.
— А что будет с Марленой? Она же там.
— Эритро защитит её.
— Откуда ты знаешь? Может быть, это корабль инопланетян. Настоящих. Не людей. И Эритро не властна над ними.
— Для Эритро мы и есть инопланетяне, но планета прекрасно с нами справляется.
— Мне надо быть там.
— Но зачем?
— Я должна быть с ней. Идём со мной. Ты поможешь. Мы приведём её в Купол.
— Но если пришельцы всесильны и злы, здесь будет небезопасно.
— Сивер, не время рассуждать! Прошу тебя. Я должна быть рядом с дочерью!
* * *
Они провели фотосъёмку и теперь изучали снимки. Тесса Уэндел качала головой:
— Глазам не верю. Кругом пустыня. Кроме одного уголка.
— А разум повсюду, — нахмурилась Мерри Бланковиц. — Теперь, когда мы рядом, в этом сомнений нет. Пустыня здесь или нет, но разум присутствует всюду.
— Но интенсивнее всего под этим куполом? Так?
— Да, капитан. Там сигнал сильнее и даже имеет привычный вид. Снаружи — вне купола — он немного другой. Я не понимаю, что это значит.
В разговор вмешался By:
— Нам ещё не приходилось иметь дело с разумом, отличающимся от человеческого, так что…
Уэндел повернулась к нему:
— Значит, вы считаете, что разум, обретающийся за пределами купола, имеет нечеловеческую природу?
— Раз все мы согласны, что за тринадцать лет люди просто не могли источить ходами планету, ничего другого нам просто не остаётся.
— А как же купол? Это дело рук человека?
— Ну, здесь дело другое, — ответил By, — и можно обойтись без плексонов Бланковиц. Я заметил там астрономические приборы. Купол, по крайней мере часть его, является астрономической обсерваторией.
— Неужели инопланетяне не способны овладеть астрономией? — с легким скептицизмом осведомился Ярлоу.
— В их способностях я не сомневаюсь, — ответил By, — однако тогда они должны были создать собственные приборы. А если я вижу инфракрасный сканер с компьютером точно того же типа, который используется на Земле… Скажем проще. Нам незачем рассуждать о природе разума. Приборы обсерватории изготовлены в Солнечной системе или здесь, по чертежам, привезенным оттуда. В этом можно не сомневаться. Едва ли существа с другой планеты способны сделать точно такие приборы без участия землян.
— Очень хорошо, — отозвалась Уэндел. — By, я согласна с вами. Что бы ни обитало на этой планете, под куполом живут или жили человеческие существа.
— Что ещё за человеческие существа, капитан? — резко произнес Крайл Фишер. — Люди, роториане. Кроме них и нас, здесь не может быть никого.
— На это возразить нечего, — согласился By.
— Купол-то небольшой, — заметила Бланковиц, — а на Роторе было несколько десятков тысяч человек.
— Шестьдесят тысяч, — уточнил Фишер.
— Все они под куполом не поместятся.
— Это ничего не значит, — сказал Фишер. — Купол здесь, скорее всего, не один. Можно тысячу раз облететь вокруг планеты и всего не заметить.
— Но вид плексонов меняется только здесь. Если у них есть ещё куполы, подобные этому, не сомневаюсь, я бы заметила их, — проговорила Бланковиц.
— Или же, — продолжал Фишер, — мы видим только макушку сооружения, находящегося под землей.
By возразил:
— Сюда прилетело поселение. Ротор наверняка ещё цел. Возможно, он уже не один. Так что перед нами просто форпост роториан на этой планете.
— Но мы не обнаружили поселения, — заметил Ярлоу.
— Мы не искали его, — возразил By. — Мы глаз не отводили от планеты.
— И я тоже нигде больше не нашла разума, — добавила Бланковиц.
— И вы тоже не искали, — сказал By. — Надо было исследовать всё здешнее небо, но, обнаружив свои плексоны, испускаемые этим миром, вы ни на что более не смотрели.
— Я проверю теперь, если необходимо.
Уэндел подняла руку:
— Если поселения существуют, почему нас никто не заметил? Ведь мы не пытались экранировать собственное излучение корабля. В конце концов, мы же практически не сомневались, что окажемся в необитаемой системе.
— Капитан, они могут проявить такую же самоуверенность, как и мы, — заметил By. — Они не ждут нас, а потому не заметили. Или же, если заметили, то ещё не поняли, кто мы, и не знают, что предпринять. И я хочу сказать: раз мы уверены, что люди обитают в одном месте на поверхности этого большого спутника, значит, следует спуститься и вступить с ними в контакт.
— А вы уверены, что это не опасно? — спросила Бланковиц.
— Полагаю, что нет, — бодро ответил By. — С ходу по нас стрелять не будут. В конце концов, прежде чем нас убить, следует узнать о нас поподробнее. И к тому же, если мы не проявим смелости, проболтаемся на орбите, ничего толком не выяснив, и вернёмся домой, Земля непременно вышлет сюда целый флот сверхсветовых кораблей. И дома никто не скажет спасибо, если мы не привезём информации. А в истории Земли нас назовут трусами. — Он улыбнулся. — Видите, капитан, я уже усваиваю уроки Фишера.
— Значит, вы полагаете, что нам следует спуститься и вступить с ними в контакт?
— Именно так, — проговорил By.
— Ну а вы как считаете, Бланковиц?
— Мне интересно. Не то, что нас ожидает под куполом, а то, что вокруг него. Хотелось бы выяснить, что там такое.
— Ярлоу?
— Хотелось бы располагать сейчас связью или надёжным оружием. Если нас уничтожат, Земля ничего, абсолютно ничего не узнает о нашем путешествии. И тогда кто-нибудь ещё явится сюда такой же неуверенный в себе, как мы. Но если контакт пройдёт благополучно и мы останемся живы, то повезём назад важную информацию. По-моему, стоит рискнуть.
— А моё мнение, капитан, вас не интересует? — тихо спросил Фишер.
— Ты, естественно, рвешься навстречу роторианам.
— Совершенно верно, и я хочу предложить опуститься без особого шума — сколько это возможно, — потом я пойду на разведку. Если что-нибудь случится — возвращайтесь на Землю, я останусь. Меня-то можно оставить здесь, — но корабль должен вернуться.
С внезапно окаменевшим лицом Уэндел спросила:
— А почему тебя?
— Потому что я знаю роториан, — ответил Фишер, — ну и потому, что я добровольно иду на это.
— Я тоже пойду с вами, — сказал By.
— Зачем нам обоим рисковать? — возразил Фишер.
— Потому что вдвоем безопаснее. Потому что в случае чего мы будем прикрывать друг друга. Но более всего потому, что вы знаете роториан и ваши суждения могут оказаться предвзятыми.
— Что ж, спускаемся, — решила Уэндел. — Фишер и By покидают корабль. В случае разногласий решение принимает By.
— Почему? — возмутился Фишер.
— By сказал, что ты знаешь роториан и твоё решение может оказаться необъективным. — Уэндел строго посмотрела на Фишера. — И я с ним согласна.
* * *
Марлена была счастлива. Её словно обнимали ласковые руки, покоили, защищали. Красным огоньком горела над головой Немезида, ветерок прикасался к щеке. Время от времени облака закрывали диск звезды, и тогда свет тускнел и становился сероватым.
Но Марлена привыкла к сиянию звезды, и в сером свете не хуже, чем в красном, различала все тени и оттенки, складывавшиеся в причудливый рисунок. Когда облака заслоняли Немезиду, становилось прохладнее — но Марлена не чувствовала холода. Эритро словно согревала её, заботливо следила за каждым её шагом.
С Эритро можно было поговорить. Марлена решила называть крошечные клеточки, слагающиеся в жизнь на Эритро, именем планеты. А почему бы нет? Как же иначе? Конечно, эти клетки были весьма примитивными организмами, куда более примитивными, чем те, из которых состояло её собственное тело. Все эти бесчисленные миллиарды триллионов крошечных частиц жизни соединялись друг с другом в единую сущность, окружающую планету, пронизывавшую и наполнявшую её, — и трудно было придумать им другое имя.
Как странно, думала Марлена. Эта гигантская разумная форма жизни до появления Ротора даже не знала, что на свете существует ещё что-то живое.
Ощущения Марлены были не только мысленными. Иногда перед ней возникало нечто подобное серой дымке, которое сливалось в призрачную человеческую фигуру с нечёткими очертаниями. Она всегда казалась какой-то текучей. Марлена не видела, а скорее ощущала, как миллионы невидимых клеток ежесекундно покидали призрачный силуэт и на их месте появлялись новые. Клетки прокариотов не могли существовать вне водяной пленки, и каждая из них вселялась в странную фигуру лишь на миг.
Облик Ауринела Эритро больше не принимала. Она без всяких слов поняла, как пугает этим Марлену. Теперь лицо было незнакомым. Оно лишь иногда менялось, потому что так хотелось Марлене. Эритро научилась следовать за мыслями Марлены — и фигура вдруг начинала казаться знакомой, а едва Марлена пробовала приглядеться, сразу изменялась. Иногда она успевала рассмотреть то знакомый изгиб щеки матери, то крупный нос дяди Сивера, а то и лица девчонок и мальчишек, с которыми когда-то вместе ходила в школу.
Это была какая-то гармония взаимодействия. Не разговор, а какой-то балет мыслей, не поддающийся описанию, яркий и умиротворяющий, бесконечные превращения образов, голосов, мыслей.
Разговор этот велся в столь многих измерениях, что возвращаться к обычной форме общения, с помощью слов, было просто немыслимо. Способность Марлены воспринимать телесный язык превратилась в нечто такое, о чём она даже мечтать не могла. Мысленный разговор был таким стремительным и богатым — куда уж там убогим, примитивным словам!
Эритро наполняла сознание Марлены тем потрясением, которое испытала, обнаружив такое количество разумов. Разумы. Их было так много. Один разум ещё можно было понять, охватить. Другой мир. Другой разум. Но когда их много, таких разных, в одном месте… Невероятно.
Мысли, которыми Эритро наполняла сознание Марлены, можно было кое-как объяснить словами. Но слова тонули в могучем потоке эмоций, ощущений, нейронных вибраций Эритро.
Планета экспериментировала с умами, исследовала их — но не в том смысле, как это делают люди, ибо человеческое понятие лишь отдаленно передаёт смысл этого явления. И некоторые из них не выдержали — испортились, разбились. Эритро перестала их исследовать и начала искать такие, которые были бы способны к контакту.
— И тогда ты нашёл меня? — спросила Марлена.
— Я нашёл тебя.
— Но почему? Зачем это тебе понадобилось?
Фигура задрожала и расплылась.
— Чтобы найти тебя.
Это был не ответ.
— Почему ты хочешь, чтобы я была с тобой?
Фигура начала таять, и до Марлены еле донеслось:
— Чтобы ты была со мной.
И она исчезла.
Но пропал только силуэт. Марлена по-прежнему ощущала теплое объятие. Почему он исчез? Или она задала неудачный вопрос?
И тут она услышала звук.
В здешней пустыне все звуки были ей знакомы — ведь их не так много: журчание воды, шум ветра. И ещё шаги, шелест одежды, дыхание.
Но сейчас Марлена услышала нечто другое и обернулась на звук. За невысокой скалой слева от неё появилась голова мужчины.
Она решила, что за ней пришли из Купола, и рассердилась. Зачем она им понадобилась? Придётся больше не брать с собой излучатель.
Но лицо человека оказалось незнакомым — а ведь Марлена видела, пожалуй, всех обитателей Купола. Память на лица у неё была отменной. Увидев хоть раз человека, Марлена уже не забывала его лица.
Мужчина смотрел на Марлену, не отрывая глаз и слегка приоткрыв рот. Потом вдруг соскочил со скалы и бросился к ней.
Марлена не испугалась. Она была под надёжной защитой Эритро.
Не добежав до девочки футов десяти, он остановился как вкопанный, словно наткнулся на какое-то препятствие.
И сдавленным голосом произнес:
— Розанна!
* * *
Марлена внимательно разглядывала его. Малейшие движения его тела выражали нетерпение и… какое-то чувство принадлежности к ней.
Она сделала шаг назад. Неужели? Это…
В памяти всплыло смутное изображение на голокарточке, которое она видела в детстве…
Да, сомнений быть не может. Но это невозможно, немыслимо.
Она съежилась под своим защитным покровом и произнесла:
— Отец?
Он рванулся вперёд, словно хотел схватить её, но она опять сделала шаг назад. Он замер, покачнулся, поднес ладонь ко лбу, словно ощутил головокружение, и сказал:
— Марлен. Я хотел сказать — Марлена.
Неправильно говорит, отметила про себя Марлена — в два слога. Ничего. Откуда ему знать?
Подошёл второй мужчина. И остановился рядом с первым. У него были прямые чёрные волосы, широкое желтоватое лицо, узкие глаза. Марлене ещё не доводилось видеть таких людей. Она даже открыла от удивления рот и не сразу сумела его закрыть.
— Так это и есть ваша дочь, Фишер? — тихо спросил второй мужчина.
Глаза Марлены расширились. Фишер! Это был её отец.
Он даже не посмотрел на второго.
— Да.
— Вот это да, — сказал второй ещё тише. — Спуститься сюда — и сразу нос к носу столкнуться с собственной дочерью.
Фишер попытался отвести глаза от лица дочери, но не смог.
— Похоже на то, By. Марлена, твоя фамилия Фишер — так? А мать зовут Эугения Инсигна. Я не ошибся? Меня зовут Крайл Фишер. Я твой отец. — Он протянул к ней руки.
Марлена видела, что радость отца неподдельна, но отступила ещё на шаг и холодно спросила:
— А как ты здесь оказался?
— Я прилетел с Земли, чтобы найти тебя. Чтобы найти тебя. Через столько лет!
— Зачем я тебе понадобилась? Ведь ты бросил меня, когда я была совсем маленькой.
— Да, я бросил тебя, но никогда не терял надежды снова найти.
— Значит, ты приехал за Марленой? — вдруг раздался чей-то голос. — А больше тебе ничего не нужно?
Рядом стояла Эугения Инсигна: лицо бледное, бесцветные губы, руки дрожат. В стороне стоял Сивер Генарр. Он выглядел смущенным. На обоих не было защитных комбинезонов.
Инсигна торопливо заговорила:
— Я думала, что это люди с какого-нибудь поселения, из Солнечной системы. Я предполагала, что это могут оказаться чужаки. Я предусмотрела всё, кроме одного — что сюда пожалует сам Крайл Фишер. Да ещё за Марленой!
— Я прибыл сюда по важному делу. Это — Сяо Ли By, мой спутник. И… и…
— И мы встретились. А тебе не приходило в голову, что ты можешь встретиться и со мной? Или ты только о Марлене думал? И какое поручение тебе дали? Разыскать Марлену?
— Нет. Это не поручение, это моё страстное желание.
— А я?
Фишер опустил глаза.
— Я прилетел за Марлен.
— За Марленой? Чтобы взять с собой?
— Я думал… — начал Фишер и умолк.
By удивленно посмотрел на него. Генарр задумчиво нахмурился.
Инсигна резко повернулась к дочери:
— Марлена, ты полетишь куда-нибудь с этим человеком?
— Я не собираюсь улетать отсюда никуда, мама, — спокойно ответила Марлена.
— Слышал, Крайл? — спросила Инсигна. — Ты бросил меня с годовалой крохой на руках и явился через пятнадцать лет. «Я хочу взять Марлену с собой». Обо мне ты даже не подумал. Конечно, она твоя дочь — по крови. Но пятнадцать лет любви и заботы дают мне право считать её только моей.
— Мама, не нужно ссориться из-за меня, — сказала Марлена.
Сяо Ли By шагнул вперёд:
— Простите. Меня-то представили, но вот мне никто не представился. Кто вы, мадам?
— Эугения Инсигна Фишер. — Она ткнула пальцем в сторону Фишера: — Его бывшая жена.
— А это ваша дочь, мадам?
— Да, это Марлена Фишер.
By поклонился.
— А кто этот джентльмен?
— Я Сивер Генарр, — ответил тот, — командир того самого Купола, который вы видите за моей спиной.
— Хорошо. Командир, мне хотелось бы поговорить с вами. Очень жаль, что мы вынуждены присутствовать при семейной ссоре, однако она не имеет никакого отношения к нашей миссии.
— И в чём же состоит ваша миссия? — пророкотал чей-то голос.
К ним приближался седой человек, в руке он держал какой-то предмет, напоминавший оружие.
— Привет, Сивер, — сказал он, поравнявшись с Генарром.
— Салтаде, какими судьбами? — удивился тот.
— Я представитель Януса Питта, комиссара Ротора. Я повторяю свой вопрос, сэр. В чём состоит ваша миссия? И как вас зовут?
— Ну свое-то имя мне назвать нетрудно, — ответил By. — Я доктор Сяо Ли By. А как ваше имя, сэр?
— Салтаде Леверетт.
— Приветствую вас. Мы прибыли с миром, — сказал By, разглядывая оружие.
— Надеюсь, — мрачно промолвил Леверетт. — У меня здесь шесть кораблей, и все они следят за вашим.
— В самом деле? — спросил By. — А зачем такой мощный флот крошечному сооружению?
— Это крошечное сооружение — аванпост, — ответил Леверетт. — Флот здесь — не думайте, что я блефую.
— Верю, — сказал By. — А наш крохотный кораблик прилетел с Земли. Мы добрались сюда потому, что научились передвигаться быстрее света. Вот так. Понимаете? Быстрее света.
— Понятно.
— Доктор By говорит правду, Марлена? — вдруг спросил Генарр.
— Да, дядя Сивер, — ответила она.
— Интересно, — пробормотал Генарр.
— Я восхищен, что юная леди подтвердила истинность моих слов, — хладнокровно заметил By. — Должен ли я предположить, что она является здешним специалистом по сверхсветовому полёту?
— Нечего предполагать, — раздраженно произнес Леверетт. — Зачем вы прилетели? Мы вас не звали.
— Не звали. А мы просто не знали, что здесь найдётся кто-то, кому будет не по душе наше появление. Однако прошу вас не нервничать. Малейшее проявление недоброжелательства с вашей стороны — и наш корабль уйдёт в гиперпространство.
— Он в этом не совсем уверен, — быстро вставила Марлена.
By нахмурился.
— Я в достаточной степени уверен в этом, а если вы попытаетесь уничтожить корабль — дома, на Земле, немедленно узнают, что произошло. Мы постоянно поддерживаем связь с базой. И если с нами что-то случится, следующая экспедиция будет состоять уже из пятидесяти сверхсветовых крейсеров. Так что не стоит рисковать, сэр.
— Это не так, — произнесла Марлена.
— Что не так? — спросил Генарр.
— Он говорит, что они поддерживают связь с Землей, а это не так, и сам он это знает.
— Понятно, — сказал Генарр. — Салтаде, гиперсвязи у них нет.
Выражение на лице By не переменилось.
— Стоит ли верить догадке подростка?
— Это не догадка, а факт. Салтаде, потом я всё объясню вам. А пока поверьте на слово.
— Спросите отца, — вдруг сказала Марлена. — Он подтвердит.
Она не понимала, как отец узнал о её даре, ведь он оставил её годовалой — однако… Марлена видела, что он всё понимает, это было так ясно — но другие ничего не замечали.
— Бесполезно, By, — произнес Фишер. — Марлена видит нас насквозь.
Тут самообладание впервые изменило By. Нахмурившись, он огрызнулся:
— Откуда вы можете что-то вообще знать об этой девушке, хоть она и ваша дочь? Вы же так давно не видели её.
— У меня была младшая сестра, — негромко пояснил Фишер.
Генарра вдруг осенило:
— Это передаётся по наследству! Интересно. Видите, доктор By, мы здесь можем отличить правду от блефа. Давайте говорить в открытую. Зачем вы прибыли сюда?
— Чтобы спасти Солнечную систему. Спросите у молодой леди — ведь она у вас абсолютный авторитет, — правду ли говорю я на этот раз.
— Конечно, на этот раз, доктор By, вы говорите правду, — подтвердила Марлена. — Мы знаем об опасности. Моя мать обнаружила её.
— А мы, юная леди, обнаружили её без всякой помощи вашей матери, — сказал By.
Недоуменно оглядев всех, Салтаде Леверетт спросил:
— Могу ли я поинтересоваться, о чём идёт речь?
— Поверьте мне, Салтаде, — ответил Генарр, — Янус Питт прекрасно знает обо всём. К сожалению, вас он не проинформировал. Однако теперь всё расскажет, если вы свяжетесь с ним. Скажите ему, что мы имеем дело с людьми, освоившими сверхсветовой полёт, и можем с ними договориться.
* * *
Четверо человек сидели в личных апартаментах Сивера Генарра внутри Купола. Генарр пытался подавить в себе ощущение исторической важности события. Шли первые в истории человечества межзвездные переговоры. И даже если их участники ничего примечательного в жизни не совершали, их имена навечно останутся в истории Галактики.
Двое и двое.
Солнечную систему — подумать только! — представляла гибнущая Земля, невесть как сумевшая обойти передовые энергичные поселения, в лице своих уполномоченных Сяо Ли By и Крайла Фишера.
Разговорчивый By говорил обвинительным тоном — математик явно обладал практической жилкой. Фишер же — Генарр до сих пор не мог поверить своим глазам — сидел, погрузившись в глубокую задумчивость, и редко вступал в разговор.
Столь же невозмутимо держался и сам Генарр. Он ждал, когда они уладят дело, — он знал нечто такое, что не было известно остальным.
Шли часы, настал вечер. Подали обед. Генарр отправился навестить Эугению Инсигну и Марлену.
— Пока ничего, — сказал Генарр. — Обеим сторонам есть о чём поторговаться.
— А что Крайл? — нервно спросила Инсигна. — Вопрос о Марлене он не поднимал?
— Поверь мне, Эугения, об этом не было и речи, он молчит и, по-моему, очень расстроен.
— Ещё бы, — сердито сказала Инсигна.
Поколебавшись, Генарр спросил:
— А что ты об этом думаешь, Марлена?
Та посмотрела на него тёмными, бездонными глазами.
— Я далека от этого, дядя Сивер.
— Немного жестоко, — пробормотал Генарр.
— Почему? — воскликнула Инсигна. — В конце концов, он бросил её совсем маленькой.
— Я не жестокая, — задумчиво сказала Марлена. — Если смогу, постараюсь сделать так, чтобы ему стало легче. Но я уже не принадлежу ему. И тебе тоже, мама. Прости меня, но теперь я принадлежу Эритро. Дядя Сивер, вы ведь скажете мне, какое решение будет принято?
— Обещаю.
— Это важно.
— Я знаю.
— Вообще-то я должна была бы представлять Эритро.
— Полагаю, что Эритро уже здесь, так что ты будешь участвовать в переговорах, прежде чем они закончатся. Даже если бы я возражал, полагаю, Эритро заставила бы меня передумать.
И он вернулся продолжать обсуждение.
Сяо Ли By сидел, откинувшись на спинку кресла, проницательное лицо его не обнаруживало признаков усталости.
— Давайте подведем итоги, — сказал он. — Эта звезда — я буду называть её Немезидой, как вы, — является ближайшей к Солнечной системе, и любой уходящий к звездам корабль должен сделать первую остановку возле неё. Но раз теперь человечество освоило сверхсветовой полёт, расстояния уже не будут его ограничивать, и люди станут искать не ближайшие, а самые удобные звёзды. Нам нужны светила, подобные Солнцу, и планеты, схожие с Землей. Немезида сразу же окажется ненужной. Ротору больше нет смысла прятаться. Немезида перестанет представлять интерес не только для других поселений, но и для самого Ротора. И Ротор займется поиском звезды, подобной Солнцу. В спиральных рукавах нашей Галактики их миллиарды.
Вам может показаться, что для того, чтобы у Ротора появились сверхсветовые корабли, достаточно приставить к моей груди оружие и потребовать, чтобы я выложил всё, что знаю. Я математик, занимаюсь теоретическими вопросами и обладаю ограниченным объёмом информации. Даже если вы сумеете захватить наш корабль, то не многое сумеете узнать. Проще послать на Землю учёных и инженеров, где мы всему их научим. Взамен мы просим у вас планету, которую вы зовете Эритро. Насколько я понимаю, вы не используете её. Здесь лишь маленький купол, пригодный для астрономических и прочих наблюдений. Вы сами живёте в поселении. Поселения Солнечной системы могут отправиться на поиски подходящих звезд и планет. А вот земляне… Нас восемь миллиардов, и всех придётся эвакуировать за несколько тысяч лет. Пока Немезида приближается к Солнцу, Эритро может стать удобной пересадочной станцией, откуда землян можно будет переправлять к мирам, подобным Земле.
Мы должны вернуться на Землю с роторианином, чтобы доказать, что мы действительно здесь побывали. Мы построим новые корабли, и они возвратятся сюда, не сомневайтесь, — Эритро нужна человечеству. Мы привезём ваших учёных, овладевших техникой сверхсветового перелета, мы передадим её другим поселениям. По-моему, я подвел итог всему, что мы решили.
— Дело это гораздо труднее, — сказал Леверетт. — Чтобы земляне могли жить на Эритро, необходимо как следует над ней поработать.
— Конечно, я опустил детали, — ответил By. — Но их можно будет обсудить потом, и уже не нам.
— Конечно, комиссар Питт и Совет будут принимать решения от имени Ротора.
— А Землю будет представлять Всемирный конгресс, ведь дело настолько важное, что неудачи не должно быть.
— Нельзя забывать о безопасности. Можем ли мы доверять Земле?
— А может ли Земля верить Ротору? На выработку мер предосторожности уйдёт год… или пять… или десять. Кроме того, потребуются годы, чтобы построить необходимое количество кораблей, на которых человечество могло бы оставить Землю и заселить Галактику.
— Если в ней некому будет конкурировать с нами, — проворчал Леверетт.
— Будем исходить из этого предположения, пока нас не вынудят отказаться от него. Но это в будущем. Вы будете обращаться к комиссару? Надо поскорее выбрать роторианина, который отправится с нами.
Фишер подался вперёд.
— Могу ли я предложить, чтобы им была моя…
Но Генарр не позволил ему окончить:
— Извините, Крайл. Я беседовал с ней — она не покинет этот мир.
— Но если её мать тоже полетит…
— Нет, Крайл. Её мать здесь ни при чем. Даже если бы вы хотели, чтобы Эугения вернулась, и уговорили её — Марлена осталась бы на Эритро. Ну а вам тоже ни к чему оставаться с ней. Она потеряна и для вас, и для её матери.
— Но ведь она совсем ребенок! — рассердился Фишер. — Ей ещё рано принимать подобные решения.
— К сожалению — вашему, Эугении, нашему, быть может, даже всего человечества, — она вправе принять такое решение. Мало того, я обещал ознакомить её с нашим решением.
— В этом нет необходимости, — возразил By.
— Что вы, Сивер, — проговорил Леверетт, — зачем нам спрашивать разрешения у маленькой девочки?
— Пожалуйста, выслушайте меня, — произнес Генарр. — Это необходимо, нам следует посоветоваться с ней. Давайте попробуем. Я предлагаю пригласить Марлену сюда и рассказать о наших выводах. А если кто-нибудь из вас не согласен со мной — пусть сейчас же уйдёт. Просто встанет и уйдёт.
— По-моему, Сивер, вы сошли с ума, — заявил Леверетт. — Я не намерен играть с подростками. Мне нужно переговорить с Питтом. Где тут у вас передатчик?
Он поднялся, но вдруг пошатнулся и упал.
— Мистер Леверетт… — By в тревоге привстал.
Леверетт перекатился на бок и простонал:
— Помогите мне кто-нибудь.
Генарр помог ему встать и усадил в кресло.
— Что с вами? — спросил он.
— Не знаю, — отозвался Леверетт. — Вдруг так заболела голова, что я даже ослеп.
— Значит, вы не сумели выйти из комнаты. — Генарр повернулся к By: — Вы тоже полагаете, что Марлена нам не нужна? Быть может, вы попробуете выйти?
Осторожно, не отводя глаз от Генарра, By медленно встал с кресла, но пошатнулся и снова сел.
— Кажется, нам следует переговорить с юной леди, — вежливо произнес он.
— Необходимо, — добавил Генарр. — По крайней мере, на этой планете её желание — закон.
* * *
— Нет! — Марлена едва не сорвалась на крик. — Этого нельзя делать!
— Чего нельзя делать? — спросил Леверетт, нахмурив седые брови.
— Нельзя использовать Эритро ни в качестве пересадочной станции, ни для чего-то другого.
Леверетт сердито посмотрел на неё и открыл рот, собираясь что-то сказать, но By опередил его:
— Почему же, сударыня? Это же пустой, безжизненный мир.
— Он не пустой — он обитаемый. Дядя Сивер, объясните им.
— Марлена хотела сказать, что Эритро населена бесчисленным множеством клеток-прокариотов, способных к фотосинтезу. Они обеспечивают кислородом атмосферу Эритро.
— Великолепно, — сказал By. — И что же?
Генарр откашлялся.
— Каждая клетка весьма примитивна — где-то на уровне вируса, однако их нельзя рассматривать по отдельности. Все вместе они образуют чрезвычайно сложный организм, охватывающий всю планету.
— Организм? — By сохранял учтивость.
— Да, единый организм, который Марлена называет именем планеты, поскольку он однороден.
— Вы серьёзно? — спросил By. — Откуда вам это известно?
— Главным образом от Марлены.
— Молодые женщины, — проговорил By, — иногда обнаруживают истерические…
Генарр поднял вверх палец.
— Не пытайтесь ей возражать. Я не уверен, что Эритро — этот самый организм — обладает чувством юмора. Все сведения мы получаем главным образом от Марлены, но не только от неё. Не успел Салтаде Леверетт подняться, чтобы выйти, как сразу упал. Вот и вы привстали — наверное, тоже хотели уйти — и вам стало нехорошо. Это Эритро. Она защищает Марлену, воздействуя на наш разум. После нашего появления здесь Эритро вызвала целую эпидемию душевных расстройств, названных нами эритрийской лихоманкой. Боюсь, что при желании она способна вызвать необратимые изменения рассудка — даже убить. И прошу вас не проверять справедливость моих слов.
— Вы хотите сказать, что это не Марлена… — начал Фишер.
— Нет, Крайл. У Марлены есть определённые способности, но она не в силах причинить вред. Опасна Эритро.
— И как же мы можем избежать опасности? — спросил Фишер.
— Для начала прислушайтесь к мнению Марлены. И позвольте мне разговаривать с ней от лица всех. Меня Эритро, по крайней мере, знает. И поверьте, я тоже хочу спасти Землю. Я не хочу, чтобы погибли миллиарды людей. — Он повернулся к Марлене: — А ты понимаешь, что Земля в опасности? Твоя мать объясняла тебе, что близость Немезиды может погубить Землю.
— Я знаю, дядя Сивер, — грустно ответила Марлена, — но Эритро принадлежит лишь себе.
— Она может поделиться с тобой, Марлена. Ведь она же разрешила построить Купол. И мы вроде бы не мешаем ей.
— Но в Куполе меньше тысячи человек, и они никуда не выходят. Эритро не возражает против существования Купола, потому что там она может изучать человеческий разум.
— Тем больше у неё будет возможностей, когда сюда прилетят земляне.
— Все восемь миллиардов?
— Нет, конечно, не все. Они будут временно останавливаться здесь, а потом снова улетят. Я думаю, постоянно здесь будет находиться только часть населения Земли.
— Всё равно это миллионы. Я уверена. Такое количество людей нельзя посадить под Купол и обеспечить едой, питьем и всем необходимым. Придётся расселять их по Эритро, преобразовывать её поверхность. Эритро не вынесет этого. Она будет защищаться.
— Ты уверена?
— Да. А как бы вы поступили?
— Но тогда погибнут миллиарды людей.
— Я ничем не могу помочь. — Марлена сжала губы, потом сказала: — Есть другой способ.
— О чём говорит эта девица? — буркнул Леверетт. — Какой ещё другой способ?
Марлена покосилась на него и повернулась к Генарру:
— Я не знаю. Эритро знает. По крайней мере, она утверждает, что знает, но не может объяснить.
Генарр поднял руки, предупреждая вопросы.
— Говорить буду я. — И спокойно сказал: — Марлена, не волнуйся. Не бойся за Эритро. Ты же понимаешь, что она в состоянии справиться с чем угодно. Скажи, как понимать твои слова, что Эритро не может объяснить?
Марлена судорожно вздохнула.
— Эритро известно, что знание присутствует здесь, однако у неё нет разума и опыта людей, она не умеет думать, как мы. Она не понимает.
— И это знание содержится в умах, присутствующих здесь?
— Да, дядя Сивер.
— И она умеет зондировать человеческие умы?
— Она может причинить им вред. Только мой мозг она в состоянии зондировать без риска.
— Надеюсь, что так, — сказал Генарр, — а ты обладаешь этим знанием?
— Нет, конечно, нет. Но она может использовать меня как инструмент для зондирования других разумов. Вашего. Моего отца. Всех.
— А это не опасно?
— Эритро полагает, что нет, но… ой, дядя Сивер, я боюсь.
— Безумие какое-то, — прошептал By, но Генарр торопливо приложил палец к губам.
Фишер вскочил:
— Марлена, нельзя…
Генарр махнул рукой.
— Ну что же делать, Крайл? Под угрозой жизнь миллиардов людей. Мы без конца говорим об этом. Пусть этот организм сделает то, что может. Марлена!
Глаза девушки закатились. Казалось, что она впала в транс.
— Дядя Сивер, — шепнула она, — поддержите меня…
Нетвёрдой походкой она подошла к Генарру — тот подхватил её.
— Марлена… расслабься… всё будет в порядке…
И он осторожно опустился в кресло, поддерживая её напрягшееся тело.
* * *
Это было похоже на бесшумную вспышку света, которая уничтожила мир. Всё исчезло.
И Генарр уже не был прежним Генарром. Его личность словно перестала существовать. Только светящаяся сложная туманная сеть, состоявшая из нитей, которые увеличивались, росли и обнаруживали не меньшую сложность.
Они приближались и удалялись — и снова наплывали, как нечто, что было всегда и вечно пребудет. И движению этому не было конца.
И осыпались в отверстие, что ширилось им навстречу, но шире не становилось. Изменяясь без изменения. Маленькие клочья тумана, обнаруживающие в себе новую сложность.
А потом с болью — если Вселенная чувствовала боль, — с рыданием — если Вселенная ведала звук, — они начали тускнеть, перепутались, закружились, всё быстрее и быстрее, стягиваясь в яркую точку, которая брызнула ослепительным светом и исчезла.
* * *
Вселенная навязчиво лезла в глаза.
By потянулся и спросил:
— Кто-нибудь ещё ощутил это?
Фишер кивнул.
— Хорошо, я уверовал, — сказал Леверетт. — Но если это безумие, то мы все одновременно сошли с ума.
Генарр всё ещё держал Марлену, тревожно склоняясь над ней. Она прерывисто дышала.
— Марлена. Марлена…
Фишер с трудом поднялся.
— С ней всё в порядке?
— Не могу сказать, — пробормотал Генарр. — Она жива, довольно и этого.
Глаза её открылись. Отсутствующие, пустые, они смотрели на Генарра.
— Марлена! — в отчаянии прошептал Генарр.
— Дядя Сивер, — еле слышно ответила она.
Генарр позволил себе вздохнуть. По крайней мере, она узнала его.
— Не шевелись, — велел он. — Пусть всё пройдёт.
— Всё прошло. Я так рада.
— Но с тобой всё в порядке?
Она помолчала.
— Да, я чувствую, что всё в порядке, и Эритро говорит мне то же самое.
— Вы обнаружили то самое скрытое знание, которым мы обладаем? — осведомился By.
— Да, доктор By. — Она провела ладонью по взмокшему лбу. — Это знание обнаружилось у вас.
— У меня? — изумился By. — И что же я скрывал?
— Я не поняла, — ответила Марлена. — Быть может, поймете вы, если я опишу это?
— Что опишете?
— Что-то, когда гравитация отталкивает тела, вместо того чтобы притягивать.
— Гравитационное отталкивание… — пробормотал By. — Физика сверхсветовых скоростей… — Он вдруг глубоко вздохнул и выпрямился. — Это же моё открытие.
— Ну вот, — сказала Марлена. — Если пролететь на сверхсветовой скорости мимо Немезиды, возникнет гравитационное отталкивание. И чем быстрее летишь, тем оно сильнее.
— И корабль отбросит в сторону.
— Но и Немезида отодвинется в противоположном направлении.
— Да, пропорционально отношению масс… Только Немезида сместится на ничтожно малое расстояние.
— А что, если так делать в течение сотен лет?
— Движение Немезиды всё равно не намного изменится.
— Да, но через несколько световых лет траектория слегка отклонится, Немезида сможет пройти мимо Земли на значительном расстоянии, и планета уцелеет.
— Разумно, — согласился By.
— Можно ли здесь что-то придумать? — спросил Леверетт.
— Надо попробовать. Можно использовать астероиды, которые будут входить с нормальной скоростью в гиперпространство на триллионную долю секунды и выскакивать из него уже в миллионе миль. Пусть астероиды вращаются вокруг Немезиды и входят в гиперпространство с одной стороны. — By на секунду задумался и воскликнул: — Я и сам догадался бы об этом, если бы было время посоображать!
— Можете считать, что честь открытия принадлежит вам, — сказал Генарр. — В конце концов, Марлена извлекла это из вашей же головы. — Он оглядел присутствующих. — Что же, джентльмены, придётся позабыть о транзитных пунктах на Эритро — если только не произойдёт ничего из ряда вон выходящего. Население Земли теперь эвакуировать незачем — следует лишь в полной мере воспользоваться возможностями гравитационного отталкивания. Мне кажется, что ситуация разом переменилась к лучшему — и только потому, что мы пригласили Марлену.
— Дядя Сивер, — вдруг сказала Марлена.
— Да, дорогая?
— Спать хочется.
* * *
Тесса Уэндел нерешительно взглянула на Крайла Фишера.
— Я всё время твержу себе: «Он вернулся». Я почему-то не думала, что ты вернешься, особенно после того, как стало ясно, что ты разыскал роториан.
— Марлена оказалась первой… первой, кого я увидел на этой планете.
Он смотрел в никуда. И Уэндел оставила его. Пусть обдумает всё. У неё и без того хватало забот.
Они везли с собой роторианку Д’Обиссон, нейропсихолога. Двадцать лет назад она работала в госпитале на Земле. Там должны были остаться люди, которые могли бы вспомнить её и узнать. И в архиве должно было сохраниться её личное дело. Словом, она была живым доказательством того, что они сделали.
By преобразился. У него было множество планов, как использовать гравитационное отталкивание, чтобы изменить движение Звезды-Соседки. Теперь он тоже звал её Немезидой — однако, если ему удастся добиться успеха, звезда уже не будет угрожать Земле.
И ещё он стал скромнее. Он больше не требовал себе почестей за новое открытие, чему Уэндел не могла нарадоваться. Он говорил, что проект разработан коллективно, и не желал вдаваться в подробности.
Более того, он хотел вернуться в систему Немезиды — и не только для того, чтобы руководить проектом. Ему просто хотелось быть там. «Пешком уйду», — говорил By.
…Уэндел заметила, что Фишер, нахмурившись, смотрит на неё.
— Почему ты подумала, что я не вернусь, Тесса?
Она решила говорить начистоту.
— Крайл, твоя жена моложе меня, и дочь она никуда не отпустила бы. Я в этом не сомневалась. К тому же ты так рвался к дочери, что я подумала…
— Что я останусь с Эугенией?
— Да, что-то в этом роде.
— Этого просто не могло бы случиться. Сперва мне показалось, что я вижу Розанну — мою сестру. В основном, конечно, глаза, но и вообще она была похожа на Розанну. Но это оказалась не Розанна. Тесса, она не была человеком, она не человек. Я тебе потом всё объясню. Я… — Он опять покачал головой.
— Не беспокойся, Крайл, — сказала Уэндел. — Когда-нибудь потом расскажешь.
— В общем, потери-то нет. Я видел её. Она жива. Ей хорошо. В конце концов, на большее едва ли можно рассчитывать. Марлена стала для меня просто Марленой. И до конца дней моих, Тесса, кроме тебя, мне никого не надо.
— Значит, мы используем эти годы самым лучшим образом, Крайл?
— Лучшим из лучших. Я оформлю развод. Мы поженимся. Пусть Ротором и Немезидой занимается By, а мы с тобой останемся на Земле — или в каком-нибудь поселении, если захочешь. Будем получать пенсию, и пусть с этой Галактикой и всеми её проблемами имеют дело другие. А с нас хватит, Тесса. Ну как, ты не против?
— Крайл, не могу дождаться.
Прошёл час, а они всё держались за руки.
* * *
— Я так рада, что меня там не было, — сказала Эугения Инсигна. — Я всё думаю об этом. Бедняжка Марлена. Наверное, ей было очень страшно.
— Да, было. И пошла она на это, чтобы спасти Землю. Теперь даже Питт ничего поделать не сможет. В некотором смысле все труды его жизни потеряли значение. Даже речи не может быть о том, чтобы продолжать тайком от Земли строить новую цивилизацию. Мало того, теперь он вынужден поддерживать проект по её спасению. Придётся. Земля знает, где находится Ротор, и всегда может до него добраться. И человечество, будь то на Земле или вне её, не поддержит нас, если мы не возвратимся к людям. Без Марлены этого бы не случилось.
Инсигна размышляла о материях менее высоких.
— Значит, когда она испугалась, по-настоящему испугалась, то обратилась к тебе, а не к Крайлу? — спросила она.
— Да.
— И не Крайл, а ты держал её?
— Да. Только, Эугения, не усматривай здесь ничего таинственного: просто меня она знает, а Крайла — нет.
— Сивер, я понимаю, что ты хочешь всё объяснить рационально. Но я рада, что она искала помощи у тебя. Он не заслужил этого.
— Согласен. Он не заслужил. Но давай забудем об этом. Крайл улетел и уже не вернётся. Он видел свою дочь. Видел, как она сумела спасти Землю. Я не жалею об этом, и тебе тоже не следует. Ну а раз так, лучше сменим тему разговора. Ты знаешь, что Рене Д’Обиссон улетела с ними?
— Да, все об этом говорят. Однако я скучать не буду. Всё-таки Марлене она была не симпатична.
— И тебе, Эугения, тоже — иногда. Рене выпал крупный шанс. Как только обнаружилось, что эритрийской лихоманки не существует, ей стало нечего делать здесь, а на Земле она со своим передовым методом сканирования мозга будет иметь огромный профессиональный успех.
— Ну и прекрасно. Удачи ей.
— А вот By вернется. На редкость умный человек. Ведь именно в его голове оказалась эта идея. Знаешь, я уверен, что он не столько хочет поработать над эффектом отталкивания, сколько остаться на Эритро. Организм планеты выделил его — как Марлену. Но ещё более забавно, что, кажется, и Леверетт…
— Как ты полагаешь, Сивер, чем руководствуется этот разум?
— Тебя интересует, почему Эритро нужен By, а не Крайл? Почему ей подходит Леверетт, а не я?
— Ну, конечно, я понимаю, что By человек более яркий, чем Крайл, но ведь ты во всём превосходишь Леверетта. Естественно, мне не хотелось бы тебя потерять.
— Благодарю. Мне кажется, что у эритрийского организма собственные критерии. И похоже, я догадываюсь какие.
— В самом деле?
— Да. Когда эритрийский организм зондировал наши умы, он входил в нас через разум Марлены. И кажется, я уловил кое-что из его мыслей. Конечно же, не сознательно. Но после зондирования я узнал такое, чего не знал раньше. Странный дар Марлены позволяет ей общаться с организмом и предоставлять ему свой разум в качестве зонда для сканирования других умов. Впрочем, это чисто практическая сторона. Он выбрал её по более неожиданной причине.
— По какой же?
— Эугения, представь себе, что ты — кусок верёвки. Что бы ты почувствовала, ни с того ни с сего обнаружив кружево? Или же ты — круг… Что ты будешь ощущать, увидев сферу? Эритро обладает познаниями одного сорта — своими собственными. Разум её колоссален, но неповоротлив. Он такой потому, что состоит из триллионов триллионов весьма свободно связанных отдельных клеток. И вот он встречается с человеческим разумом, в котором клеток немного, однако взаимосвязи их невероятно сложны. Кружево, а не верёвка. Его привлекла красота. То есть разум Марлены показался Эритро прекрасным. Потому-то она и понадобилась планете. А ты отказалась бы от подлинного Рембрандта или Ван Гога? Потому Эритро и защищала Марлену. Разве ты не стала бы защищать шедевр? Но всё же планета рискнула ею ради всего человечества. Марлене пришлось тяжело, но планета совершила благородный поступок. Я думаю, что Эритро собирает красивые разумы.
Инсигна расхохоталась.
— Значит, у By и Леверетта тоже красивые умы?
— Для Эритро они, вероятно, прекрасны. У неё ещё будет возможность пополнить коллекцию, когда прибудут учёные с Земли. И знаешь, чем дело закончится? Она подберёт группу людей, отличающихся от породы. Так сказать, эритрийскую разновидность. Поможет им разыскивать в пространстве новые места для обитания, и, быть может, в конце концов Галактику заселят два вида разумных организмов — простые земляне и более смышленые эритрийцы — истинные пионеры, жители пространства. Интересно, на что это будет похоже? Будущее, скорее всего, принадлежит не нам. Жаль, конечно.
— Не надо об этом думать, — взволнованно проговорила Инсигна. — Пусть люди будущего сами улаживают свои дела. Но мы с тобой живем сегодня и судим друг друга по человеческим стандартам.
Генарр радостно улыбнулся, его добродушное лицо просияло.
— Я рад — по-моему, твой разум тоже прекрасен. И, быть может, ты наконец заметишь, что и мой неплох.
— Ах, Сивер. Я всегда так думала. Всегда.
Улыбка исчезла с лица Генарра.
— Но ведь бывает красота и другого рода.
— Только не для меня. Для меня в тебе довольно красоты — и той и этой. Сивер, мы с тобой потеряли утро. Но у нас есть вечер.
— В таком случае, Эугения, мне нечего больше желать. Бог с ним, с утром… мы вместе скоротаем вечер.
Их руки соприкоснулись.
Эпилог
И опять Янус Питт сидел в одиночестве. Красная карликовая звезда больше не грозила смертью. Это была теперь просто красная звездочка, которую человечество, поднабравшись сил, собиралось отодвинуть в сторону.
Но Немезида — возмездие — существовала, хоть и перестала быть звездой.
Миллиарды лет жизнь на Земле развивалась обособленно. На смену пышному цветению приходил полный упадок. Быть может, где-то были и иные миры, где миллиарды лет жизнь существовала в такой же изоляции.
Все эксперименты — или почти все — долгое время кончались неудачей. Но одна или две попытки оказались успешными.
Если бы Вселенная оказалась достаточно большой для всех экспериментов… Если бы Ротор — его Ковчег — мог существовать обособленно, как Земля и Солнце, — возможно, и удался бы его собственный эксперимент.
Но теперь…
В ярости и отчаянии он сжимал кулаки. Он знал, что скоро человечество начнет кочевать от звезды к звезде, как некогда путешествовало от материка к материку. И обособленности больше не будет. Его великий эксперимент провалился — их нашли.
И то же безвластие, то же вырождение, та же недальновидность, то же культурное и социальное неравенство охватят ныне всю Галактику.
Что же теперь будет? Галактические империи? Грехи и безумства из одного мира разлетятся по миллионам таких же миров? И горестей и невзгод станет во сто крат больше?
У кого же хватит сил образумить целую Галактику, если никто не сумел образумить один мир? Кому удастся заглянуть в будущее Галактики, населённой людьми?
Воистину пришло Возмездие. Немезида.
КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙНДЖЕР (цикл)
Дэвид Старр ещё в детстве лишился родителей, ставших жертвами космических пиратов. Он уцелел и получил лучшее образование в Галактике, став стройным красавцем-спортсменом со стальными мышцами и аналитическим умом первоклассного учёного. К тому же Дэвид стал самым молодым членом Совета Науки, организации, обладающей неограниченными полномочиями. Но при всех своих выдающихся качествах Дэвид Старр, прозванный Счастливчиком, одержим жаждой приключений, несколько склонен к авантюризму и к тому же обладает недюжинным чувством юмора. А это значит, что Айзек Азимов приготовил нам встречу не со скучным среднестатистическим суперменом, методично спасающим мир, а с настоящим фантастическим героем, следить за историей которого одно удовольствие!
Книга I. ДЭВИД СТАРР, КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙНДЖЕР
От автора
Эта книга была впервые опубликована в 1952 году, и описание поверхности и атмосферы Марса соответствует астрономическим представлениям того времени.
Однако с 1952 года знания астрономов о Солнечной системе необыкновенно расширились благодаря использованию радаров и ракет.
28 ноября 1964 года космический аппарат, известный как «Маринер IV», вылетел в направлении Марса. 15 июля 1965 года «Маринер IV» обогнул Марс на расстоянии немного менее 6000 миль, записал данные и сделал фотографии, которые были по радио отправлены на Землю.
Оказалось, что плотность марсианской атмосферы равна лишь одной десятой того, что считали раньше. Вдобавок фотографии показали, что поверхность Марса усеяна кратерами, похожими на лунные. С другой стороны, не было обнаружено никаких признаков каналов.
Последующие космические аппараты, направленные в сторону Марса, показали, что на Марсе меньше воды, чем думали раньше, и что его ледяные шапки, видимые с Земли, состоят из замерзшей двуокиси углерода, а не из воды.
Это значит, что жизнь в любой форме гораздо менее вероятна на Марсе, чем считали астрономы в 1952 году.
Надеюсь, что читателям тем не менее книга понравится, но я не хотел бы, чтобы их ввел в заблуждение материал, считавшийся «точным» в 1952 году, но с тех пор устаревший.
Айзек АЗИМОВ. Ноябрь 1970 г.Глава 1
СЛИВЫ С МАРСА
Дэвид Старр в тот момент как раз смотрел на этого человека и поэтому видел, как всё произошло. Он видел, как этот человек умер.
Дэвид терпеливо дожидался доктора Хенри, наслаждаясь при этом атмосферой новейшего ресторана Интернационального Города. Наконец-то он мог по-настоящему отпраздновать свой диплом и статус полноправного члена Совета Науки.
Ожидание не вызывало у него раздражения. Кафе «Верховное» всё ещё блестело от свежей хромосиликоновой краски. Приглушенный свет, ровно разливавшийся по всему залу, не имел видимого источника. На столе Дэвида, у стены, стоял маленький блестящий куб, в котором виднелась крошечная трёхмерная копия оркестра, чья негромкая музыка доносилась из глубины зала. Палочка дирижера представляла собой полудюймовую движущуюся вспышку. Поверхность стола была самой современной модификацией силового поля и, если бы не специальное мерцание, оставалась бы совершенно невидимой.
Спокойные карие глаза Дэвида внимательно изучали соседние столики, полускрытые в нишах; Дэвид занимался этим не со скуки, а потому, что люди интересовали его гораздо больше новейших технологических побрякушек, которые были собраны в кафе «Верховное». Трёхмерное телевидение и силовые поля были чудом десять лет назад, но с тех пор к ним привыкли. Люди же не меняются, и даже теперь, через десять тысяч лет после постройки пирамид и пяти тысяч лет после взрыва первой атомной бомбы, в них кроется неразрешимая загадка и нечто удивительное.
Девушка в красивом платье негромко смеялась, глядя на сидевшего напротив неё мужчину; человек средних лет в неудобном выходном костюме набирал номера меню робота-официанта, а его жена и двое детей внимательно следили за ним; два бизнесмена оживленно разговаривали за десертом.
Именно тогда, когда взгляд Дэвида упал на бизнесменов, это и произошло. Один из них, с налитым кровью лицом, конвульсивно дернулся и попытался встать. Второй, слабо вскрикнув, протянул к нему руку в тщетной попытке помочь, но первый уже упал в кресло и начал медленно сползать под стол.
Дэвид вскочил и в три шага преодолел расстояние между столиками. Прикосновением пальца к сенсору рядом с телевизором он опустил фиолетовый занавес с флюоресцирующим рисунком на открытую сторону ниши: теперь сцена не привлечет внимания. Многие посетители вообще предпочитали такое уединение.
Второй бизнесмен, потрясенный всем происшедшим, наконец обрел голос. Он сказал:
— С Мэннингом что-то случилось. Какой-то припадок. Вы врач?
Голос Дэвида был спокойным и ровным. В нём звучала уверенность:
— Сидите спокойно и не шумите. Сейчас здесь будет управляющий, и всё, что возможно, будет сделано.
Он поднял упавшего, как куклу, хотя тот был плотного телосложения. Потом отодвинул как можно дальше стол; пальцы его при этом сверхъестественным образом задержались в дюйме над поверхностью силового поля стола. Затем он положил человека в кресло, расстегнул магнитный зажим его куртки и начал делать искусственное дыхание.
У Дэвида не было иллюзий. Он знал эти симптомы: неожиданный прилив крови к лицу, утрата голоса и дыхания, несколько минут борьбы за жизнь — и конец.
Занавес отлетел в сторону. Управляющий удивительно быстро отозвался на сигнал тревоги, который Дэвид нажал перед тем, как покинул свой столик. Управляющий был низенький, полный, в чёрном тесном костюме консервативного кроя. Он явно был взволнован.
— Здесь что-то… — Он, казалось, съежился при виде неподвижно лежащего человека.
Оставшийся в живых посетитель говорил с истерической поспешностью:
— Мы обедали, когда у моего друга произошёл приступ. А кто этот человек, я не знаю.
Дэвид оставил свои тщетные попытки. Отбросив густые каштановые волосы со лба, он спросил:
— Вы управляющий?
— Я Оливер Гаспер, управляющий кафе «Верховное», — с удивлением ответил толстяк. — Кто-то со столика 87 подал сигнал тревоги, но столик пуст. Мне сказали, что молодой человек только что вбежал в нишу столика 94, и вот я здесь. — Он повернулся. — Пойду за врачом.
Дэвид сказал:
— Не торопитесь. Бесполезно. Этот человек мертв.
— Что?! — воскликнул второй и бросился к приятелю с криком: — Мэннинг!
Дэвид удержал его, прижав к столу.
— Спокойней. Помочь ему нельзя, а шуметь не нужно.
— Да, да! — быстро согласился Гаспер. — Нельзя расстраивать других посетителей. Но послушайте, сэр, всё же врач должен осмотреть этого беднягу, чтобы установить причину смерти. Я не могу допустить нарушений закона в своём ресторане.
— Мне жаль, мистер Гаспер, но в данный момент я запрещаю осмотр этого человека кем бы то ни было.
— О чём это вы говорите? Если человек умер от сердечного приступа…
— Давайте не устраивать бесполезных дискуссий. Как вас зовут, сэр?
Оставшийся в живых посетитель покорно ответил:
— Эжен Форестер.
— Ну что ж, мистер Форестер, мне нужно точно знать, что ели вы и ваш спутник.
— Сэр! — Маленький управляющий смотрел на Дэвида выпученными глазами. — Вы полагаете, что причина в пище?
— Я ничего не полагаю. Я задаю вопросы.
— У вас нет права расспрашивать. Кто вы такой? Я требую, чтобы этого беднягу осмотрел врач.
— Мистер Гаспер, это дело Совета Науки.
Дэвид обнажил внутреннюю поверхность запястья, загнув гибкий металлитовый рукав. В первое мгновение была видна только кожа, потом она потемнела и появился чёрный овал, внутри которого блеснули и заплясали желтые огоньки, образуя знакомый рисунок Большой Медведицы и Ориона.
Губы управляющего задрожали. Совет Науки — не официальный правительственный орган, но его члены зачастую значили больше, чем правительство.
Он сказал:
— Простите, сэр.
— Не нужно извиняться. Мистер Форестер, ответьте, пожалуйста, на мой первый вопрос.
Форестер пробормотал:
— Мы заказали обед номер три.
— Оба?
— Да.
— Были ли какие-нибудь замены?
Дэвид углубился в лежащее на столике меню. Кафе «Верховное» предлагало внеземные деликатесы, но обед номер три был одним из наиболее обычных на Земле: овощной суп, телячьи отбивные, жареный картофель, горошек, мороженое и кофе.
— Да, замена была. — Форестер нахмурился. — Мэннинг заказал на десерт марсливы.
— А вы нет?
— Нет.
— А где эти марсливы сейчас? — Дэвид когда-то пробовал их. Сливы, растущие в обширных теплицах Марса, сочные и бескосточковые, со слабым ароматом корицы, дополняющим фруктовый вкус.
Форестер сказал:
— Он их съел. А что, вы считаете?..
— За какое время до приступа?
— Примерно за пять минут, мне кажется. Мы даже не закончили кофе. — Он болезненно побледнел. — Они отравлены?
Дэвид не ответил. Он повернулся к управляющему:
— Что вы скажете о марсливах?
— В них не было ничего ненормального. Ничего. — Гаспер в волнении схватил занавес и лихорадочно скомкал, но при этом продолжал бормотать еле слышным шёпотом: — Свежая поставка с Марса, проверенная и одобренная правительством. Только за последние три вечера мы продали несколько сотен порций. Ничего подобного не случалось.
— Всё равно, прикажите исключить марсливы из меню, пока мы не проверим их вторично. А теперь, на случай, если дело не в них, пожалуйста, принесите какой-нибудь пакет, чтобы мы смогли забрать остатки обеда для проверки.
— Сейчас. Сейчас.
— И, конечно, никому об этом не рассказывайте.
Управляющий вернулся через несколько секунд, вытирая вспотевший лоб носовым платком. Он сказал:
— Никак не могу этого понять. Никак не могу.
Дэвид сложил в пакет пластиковые тарелки с остатками пищи, добавил то, что осталось от поджаренных булочек, закрыл вощеные чашки, в которых подавали кофе, и отставил их в сторону. Гаспер перестал непрерывно потирать руки и потянулся к контакту на краю стола.
Но Дэвид опередил его, и, вздрогнув от неожиданности, управляющий обнаружил, что его запястье крепко стиснуто сильными пальцами.
— Сэр, но крошки!
— Я их тоже заберу.
С помощью карманного ножа Дэвид собрал все крошки, острое лезвие легко скользило по невидимой поверхности силового поля. Самому Дэвиду не нравились подобные столешницы. Их абсолютная прозрачность вовсе не способствовала расслаблению. Обедающие, видя висящие в пустоте тарелки и чашки, испытывали напряжение. Приходилось слегка выводить поле из фазы, что вызывало непрерывное мерцание и создавало впечатление твёрдой поверхности.
В ресторанах же такие столы пользовались популярностью, поскольку нужно было лишь слегка, на долю дюйма, приподнять поле, чтобы уничтожить все прилипшие крошки и капли. Только закончив собирать остатки пищи, Дэвид позволил Гасперу проделать эту операцию, вначале отключив предохранитель, а затем используя специальный ключ. Поверхность стола в момент стала совершенно чистой.
— Ещё минутку. — Дэвид взглянул на циферблат своих часов, потом слегка отогнул занавес. — Доктор Хенри! — позвал он негромко.
Долговязый мужчина средних лет, сидевший за тем самым столом, за которым пятнадцать минут назад сидел Дэвид, вздрогнул и удивленно оглянулся.
Дэвид улыбнулся.
— Я здесь! — И прижал палец к губам.
Доктор Хенри встал. Костюм висел на нём, редеющие седые волосы были тщательно зачесаны на лысину.
— Мой дорогой Дэвид, ты уже здесь? — спросил он, подходя к нише. — А я думал, что ты опаздываешь. Но что случилось?
Улыбка исчезла с лица Дэвида. Он ответил:
— Ещё один.
Доктор Хенри зашёл за занавес, взглянул на мертвого и пробормотал:
— Надо же!
— Никак не ожидал увидеть такое прямо здесь, — заметил Дэвид.
— Я думаю, — доктор Хенри снял очки и прочистил их слабым силовым полем своего карманного очистителя, — я думаю, лучше закрыть ресторан.
Гаспер беззвучно, как рыба, глотнул воздух и сдавленно произнес:
— Закрыть ресторан?! Он открыт всего неделю. Это катастрофа. Настоящая катастрофа!
— Всего лишь на час или около того. Нужно убрать тело и осмотреть вашу кухню. Вы ведь хотите, чтобы мы раскрыли загадку пищевого отравления, и для вас будет гораздо менее удобно, если мы будем заниматься всем этим в присутствии обедающих.
— Очень хорошо. Ресторан будет в вашем распоряжении, но мне нужен час, чтобы все посетители кончили обедать. Надеюсь, огласки не будет.
— Никакой, уверяю вас. — Морщинистое лицо доктора Хенри было очень серьёзно. — Дэвид, позвони в Зал Совета и попроси Конвея. У нас для таких случаев разработана процедура. Он знает, что нужно делать.
— А я должен оставаться? — неожиданно вмешался Форестер. — Я плохо себя чувствую…
— Кто это, Дэвид? — спросил доктор Хенри.
— Он обедал вместе с умершим. Его зовут Форестер.
— Ага. Боюсь, мистер Форестер, вам придётся поболеть здесь.
В ресторане было холодно, и он производил неприятное впечатление своей пустотой. Пришли и ушли молчаливые оперативники. Они тщательно, атом за атомом, проверили кухню. Теперь в зале остались только доктор Хенри и Дэвид. Они сидели в пустой нише. Света не было, а кубики трёхмерного телевидения на каждом столе ничем не отличались от простых стекол.
Доктор Хенри покачал головой.
— Мы ничего не выясним. Я это знаю по опыту. Прости, Дэвид. Не так мы хотели отметить твой выпуск.
— Для этого ещё будет время. Вы в своих письмах упоминали случаи пищевого отравления, так что я был подготовлен. И всё же я не думал, что нужна такая абсолютная секретность. Если бы я об этом знал, постарался бы быть осторожнее.
— Бесполезно. Нельзя вечно скрывать это дело. Мало-помалу информация просачивается. Люди видят, как человек умирает за едой, потом слышат об аналогичных случаях. И всегда за едой. Плохо дело, а будет ещё хуже. Ну, поговорим об этом подробнее завтра, когда будешь у Конвея.
— Подождите! — Дэвид пристально посмотрел в глаза старшему собеседнику. — Что-то беспокоит вас больше, чем смерть одного человека или даже смерть тысячи. Что-то, чего я не знаю. Что это?
Доктор Хенри вздохнул.
— Боюсь, Дэвид, что Земля в большой опасности. Большинство Совета в это не верит, Конвей убеждён лишь наполовину, но я уверен, что эти преднамеренные пищевые отравления есть хитрая и жестокая попытка захватить контроль над экономической жизнью Земли и над парламентом. И до сих пор, Дэвид, совершенно неизвестно, кто за этим стоит и как это осуществляется. Совет Науки совершенно беспомощен!
Глава 2
ЖИТНИЦА В НЕБЕ
Гектор Конвей, глава Совета Науки, стоял у окна своего кабинета на последнем этаже Башни Науки, стройного сооружения, возвышающегося над северными пригородами Интернационального Города. Город сверкал в ранних сумерках. Скоро вспыхнут белые огни вдоль оживленных пешеходных дорог. Как жемчуга, будут переливаться здания, когда оживут окна. Центральное место в пейзаже, открывающемся из окна, занимали отдаленные купола Залов Конгресса и среди них здание Исполнительной Власти.
Он был один, никто не мог его потревожить, кроме доктора Хенри, — автоматический замок кабинета был настроен на его отпечатки пальцев. Конвей чувствовал, что его напряжение начало спадать. Скоро здесь будет Дэвид Старр, неожиданно и чудесным образом выросший и готовый к исполнению своего первого поручения в качестве члена Совета. Конвей ждал его, будто собственного сына. Впрочем, в некотором смысле так оно и было. Дэвид Старр — его сын: его и Августаса Хенри.
Вначале их было трое: он сам, Гус Хенри и Лоуренс Старр. Они вместе учились, вместе поступили в Совет Науки и вместе проводили первые расследования; а затем Лоуренс Старр получил повышение. Этого следовало ожидать: из них троих он был самым талантливым.
Он получил должность на Венере, и впервые за всё время они взялись за новую работу не вместе. Лоуренс улетел с женой и сыном. Жену звали Барбара. Прекрасная Барбара Старр! Ни Хенри, ни сам Конвей так и не женились: ни одна девушка не могла сравниться с Барбарой в их памяти. Когда родился Дэвид, они стали дядей Гусом и дядей Гектором, так что ребенок в конце концов стал путаться и называть отца дядей Лоуренсом.
А потом на корабль, в котором семья Лоуренса летела на Венеру, напали пираты. Это было массовое убийство. Пираты не берут в космосе пленных, и через два часа свыше ста человек были мертвы. Среди них — Лоуренс и Барбара.
Конвей помнил день, помнил даже минуту, когда эта новость достигла Башни Науки. Патрульные корабли ринулись в космос, выслеживая пиратов; они атаковали пиратские логова в астероидах с беспрецедентной яростью. Поймали ли они того самого пирата, который взорвал идущий на Венеру корабль, так и осталось неизвестным, но с этого года силы пиратов были значительно подорваны.
Патрульные корабли обнаружили кое-что ещё: крошечную спасательную шлюпку, летящую по опасной орбите между Венерой и Землей и издающую по радио холодные автоматические призывы о помощи. Внутри нашли ребенка, испуганного четырёхлетнего мальчика, который много часов отказывался говорить, повторяя только:
— Мама сказала, чтобы я не плакал.
Это был Дэвид Старр. События, рассказанные им, были увидены детскими глазами, но представить случившееся было нетрудно. Конвей и по сей день ясно видел эти последние минуты на погибающем корабле: Лоуренс Старр умирает в контрольной рубке, куда врываются пираты; Барбара с бластером в руке с отчаянной торопливостью усаживает Дэвида в шлюпку, стараясь как можно лучше настроить приборы, и выпускает шлюпку в космос. А потом?
У неё в руках было оружие. До последнего мгновения она использовала его против врагов, а когда это стало невозможно, — против себя.
Конвею было больно думать об этом. Больно было и тогда, и он хотел сопровождать патрульные корабли, чтобы своими руками превращать пиратские пещеры в пылающие океаны атомного уничтожения. Но члены Совета Науки, сказали ему, слишком ценны, чтобы рисковать ими в полицейских акциях, — поэтому он остался дома и читал бюллетени новостей, едва они появлялись на ленте телепроектора.
Вместе с Августасом Хенри они усыновили Дэвида и посвятили свои жизни тому, чтобы стереть ужасные воспоминания из его памяти. Они стали для Дэвида отцом и матерью, лично присматривали за его воспитанием, растили его с одной мыслью: сделать его таким, каким был Лоуренс Старр.
Он превзошёл их ожидания. Ростом с Лоуренса, шести футов в высоту, длинноногий, жесткий, с холодными нервами и мышцами атлета, с чётким, точным умом первоклассного учёного. И кроме того, в его каштановых, чуть волнистых волосах, в ясных, широко расставленных карих глазах, в ямочке на подбородке, которая исчезала, когда он улыбался, — во всем этом было что-то, неуловимо напоминавшее Барбару.
Он пронесся сквозь годы обучения, оставляя за собой след искр и пепла от прежних рекордов как на игровых полях, так и в аудиториях.
Конвей был обеспокоен.
— Это неестественно, Гус. Он превосходит отца.
А Хенри, который не верил в праздные речи, попыхивал трубкой и гордо улыбался.
— Мне не хочется этого говорить, — продолжал Конвей, — потому что ты будешь надо мной смеяться, но есть в этом что-то не вполне нормальное. Вспомни, ребенок двое суток находился в космосе, от солнечной радиации его защищал лишь тонкий корпус шлюпки. Он находился всего лишь в семидесяти миллионах миль от Солнца в период максимальной активности.
— По-твоему, Дэвид должен был сгореть? — спрашивал Хенри.
— Не знаю, — пробормотал Конвей. — Воздействие радиации на живую ткань, на человеческую живую ткань имеет свои загадки.
— Естественно. Это не та область, в которой можно проводить эксперименты.
Дэвид окончил колледж с высочайшими баллами. На дипломной работе он умудрился выполнить оригинальную работу по биофизике. Затем, несмотря на молодость, стал полноправным членом Совета Науки.
Четыре года назад Конвея избрали главой Совета. За подобную честь он отдал бы жизнь, но он хорошо понимал, что, если бы Лоуренс Старр жил, избран был бы более достойный.
После этого его контакты с Дэвидом стали редкими и случайными, потому что быть главой Совета Науки означает посвятить себя проблемам всей Галактики. Даже на выпускных экзаменах Конвей видел Дэвида лишь мельком. За последние четыре года они и разговаривали-то едва ли четыре раза.
Поэтому его сердце так забилось, когда он услышал, как открывается дверь. Он повернулся и быстро пошёл навстречу вошедшим.
— Гус, старина, — Конвей протянул руку. — Дэвид, мальчик!
Прошёл час. Была уже ночь, когда они смогли перестать говорить о себе и обратились к делам Вселенной.
Начал Дэвид. Он сказал:
— Я сегодня впервые был свидетелем смерти от отравления, дядя Гектор. Я знал достаточно, чтобы предотвратить панику. Но хотел бы знать больше, чтобы помешать самому отравлению.
Конвей мрачно кивнул.
— Столько не знает никто. Я полагаю, Гус, это был опять марсианский продукт?
— Не могу отрицать это, Гектор. В деле фигурируют марсианские сливы.
— Было бы хорошо, — опять заговорил Дэвид Старр, — если бы вы рассказали мне всё, что мне дозволено знать.
— Всё очень просто, — горько усмехнулся Конвей. — Ужасно просто. За последние четыре месяца около двухсот человек умерло сразу после употребления в пищу выращенных на Марсе продуктов. Яд неизвестен, и симптомы не указывают ни на какую болезнь. Быстрый полный паралич нервов, контролирующих работу диафрагмы и мышц груди. Вследствие этого паралич лёгких и смерть через пять минут.
Дело даже хуже. В нескольких случаях жертвы были обнаружены вовремя, к ним применяли искусственное дыхание, как сделал и ты, и даже искусственные лёгкие. Всё равно смерть через пять минут. Останавливается сердце. Вскрытие же не показывает ничего, кроме невероятно быстро развивающегося поражения нервов.
— А сама отравленная пища? — спросил Дэвид.
— Тупик, — ответил Конвей. — Отравленный кусок или порция полностью усваиваются. Другие образцы того же сорта на столе и в кухне абсолютно безвредны. Мы скармливали их животным и даже добровольцам. Исследование содержимого желудка мертвых не даёт никаких результатов.
— Откуда же вы тогда знаете, что пища отравлена?
— Потому что смерть во всех случаях наступает после приёма в пищу марсианских продуктов — это не просто совпадение.
— И, по-видимому, болезнь не заразна, — задумчиво сказал Дэвид.
— Нет. Хвала звёздам за это. Но и без того положение тяжелое. Пока нам удаётся сохранять всё в полной тайне, спасибо Планетарной полиции. Двести смертельных случаев за четыре месяца для населения Земли — всё ещё ничтожное число, но оно может увеличиться. И если люди Земли будут считать, что любой кусок марсианской пищи может оказаться их последним, — последствия будут ужасны. Даже если будет умирать по-прежнему пятьдесят человек в месяц из пяти миллиардов жителей Земли, каждый сочтет, что он может оказаться в числе этих пятидесяти.
— Да, — согласился Дэвид, — а это значит, что рынок марсианской пищи перестанет существовать. Огромные убытки для марсианских фермерских синдикатов.
— Это ещё что! — Конвей пожал плечами, отбрасывая проблему фермерских синдикатов, как нечто незначительное. — А больше ты ничего не видишь?
— Вижу, что сельское хозяйство Земли не сможет прокормить пять миллиардов человек.
— Точно. Мы не можем прожить без продуктов с колониальных планет. Через шесть недель на Земле начнут умирать с голода. И если люди будут бояться марсианской пищи, предотвратить голод не удастся. Я не знаю, сколько мы ещё продержимся. Каждая новая смерть — это новый кризис. Разнесут ли об этом последнем случае теленовости по всему свету? Всплывет ли правда? И к тому же существует ещё теория Гуса.
Доктор Хенри откинулся, утрамбовывая табак в трубке.
— Я уверен, Дэвид, что эпидемия пищевых отравлений — не естественный феномен. Он слишком широко распространен. Сегодня в Бенгалии, на следующий день в Нью-Йорке, потом на Занзибаре. За этим кроется чей-то разум.
— Говорю тебе… — начал Конвей.
— Если какая-то группа пытается захватить контроль над Землей, что может быть лучше, чем ударить по нашему слабейшему месту — запасам продовольствия? Земля — наиболее населённая планета Галактики. Это естественно, поскольку она родина человечества. Но именно это делает нас слабыми, так как мы не можем прокормить себя. Наша житница в небе: на Марсе, на Ганимеде, на Европе. Если прекратить импорт любым способом — пиратскими нападениями или гораздо более тонко, как сейчас, — мы быстро станем беспомощны. Вот и всё.
— Но если это так, не должна ли такая группа связаться с правительством, хотя бы для того, чтобы предъявить ультиматум? — спросил Дэвид.
— Пожалуй, так, но, возможно, они ждут своего часа, ждут, чтобы мы созрели. Или они напрямую связаны с фермерами Марса. Колонисты себе на уме, они не доверяют Земле и, в сущности, если поймут, что их благополучие под угрозой, могут присоединиться к преступникам. Может быть, даже, — он яростно запыхтел трубкой, — они сами… Но я никого не обвиняю.
— А моя роль? Что, по-вашему, должен делать я? — спросил Дэвид.
— Позволь мне ему объяснить, — сказал Конвей. — Дэвид, мы хотим, чтобы ты отправился в Центральную лабораторию на Луне. Ты будешь членом группы, занимающейся расследованием этой проблемы. В настоящий момент там получают образцы всех продуктов, доставляемых с Марса. Мы обязаны найти там отравленную пищу. Половина всех образцов скармливается крысам, остальные исследуются всеми доступными нам способами.
— Понимаю. И если дядя Гус прав, у вас, вероятно, есть ещё одна команда на Марсе?
— Очень опытные люди. Ну а ты готов отправиться на Луну сегодня же?
— Конечно. В таком случае могу ли я уйти, чтобы подготовиться?
— Разумеется.
— Не будет ли возражений против того, чтобы я летел в своём корабле?
— Вовсе нет.
Оставшись одни в пустом кабинете, двое учёных долго молчали, глядя на сказочные огни города.
Наконец Конвей сказал:
— Как он похож на Лоуренса! Но ведь он так молод. Дело опасное.
Хенри спросил:
— Ты на самом деле считаешь, что это сработает?
— Несомненно, — Конвей рассмеялся. — Ты слышал его последний вопрос о Марсе. Он не собирается отправляться на Луну. Я хорошо его знаю. Это лучший способ защитить его. Официальные записи будут утверждать, что он на Луне; Центральной лаборатории приказано доложить о его прибытии. Когда он на самом деле окажется на Марсе, твои заговорщики, если они существуют, не заподозрят, что он член Совета, а он, конечно, сохранит инкогнито, думая, что дурачит нас. — И, помолчав, добавил: — Он умён. Он может сделать то, чего не можем мы. К счастью, он ещё молод и им можно управлять. Через несколько лет это будет невозможно. Он будет видеть нас насквозь.
Негромко звякнул коммуникатор. Конвей включил его.
— В чём дело?
— Личное сообщение для вас, сэр.
— Для меня? Передавайте, — он удивленно посмотрел на Хенри. — Может, заговорщики, о которых ты болтаешь?
— Открой, тогда и увидим, — предложил Хенри.
Конвей вскрыл конверт. В несколько мгновений он просмотрел послание, потом рассмеялся, бросил его Хенри и откинулся в кресле.
Хенри подобрал листок. На нём было лишь две строчки: «Пусть будет по-вашему. Лечу на Марс». И подпись: «Дэвид».
Хенри расхохотался.
— Всё в порядке, тебе пока удаётся управлять им.
И Конвей не мог не присоединиться к нему.
Глава 3
РАБОТНИКИ ДЛЯ МАРСИАНСКИХ ФЕРМ
Для прирождённого землянина Земля — это третья планета звезды, известной жителям всей Галактики как Солнце. Но в официальной географии понятие «Земля» включает нечто гораздо большее: Землей являются все тела Солнечной системы. Марс — такая же Земля, как сама Земля, и мужчины и женщины Марса — тоже земляне, хотя живут на другой планете. Во всяком случае по закону. Они принимают участие в голосовании за Всепланетный Конгресс и за Планетарного Президента.
Но это лишь постольку поскольку. Земляне Марса считают себя особой и лучшей породой, и новичку предстоит пройти долгий путь, прежде чем марсианские фермеры перестанут видеть в нём просто туриста, ничего из себя не представляющего.
Дэвид Старр почувствовал это почти сразу, как только вошёл в здание Бюро набора работников на фермы. Вслед за ним вошёл маленький человек. Настоящий малыш, не больше пяти футов двух дюймов. Если бы их с Дэвидом поставили лицом к лицу, то нос этого человечка как раз уперся бы Дэвиду в грудь. У вошедшего были светло-рыжие прямые волосы, зачесанные назад, и широкий рот. Одет он был в типичный для Марса двубортный комбинезон с открытым воротом и ярко раскрашенные, доходящие до щиколоток сапоги, столь популярные среди марсианских фермеров.
Дэвид направился к окну, над которым горела надпись «Наём на фермы». За ним послышались шаги, и высокий голос окликнул его:
— Погоди. Замедли шаги, приятель.
Маленький человек смотрел на него.
Дэвид спросил:
— Я могу быть вам полезен?
Окинув его взглядом с ног до головы, человечек протянул руку и небрежно уперся в талию землянина.
— Как давно со старых сходней?
— С каких сходней?
— Ты довольно массивен для землянина. Там у вас тесно?
— Да, я с Земли.
Руки коротышки одна за другой опустились вниз, ловко щелкнув о голенища его сапог. Это был фермерский жест самоуверенности.
— В таком случае, — сказал он, — может, ты подождёшь и позволишь местному уроженцу заняться делом?
— Пожалуйста, — ответил Дэвид.
— А если у тебя есть возражения, можем разобраться с ними, когда тебе будет удобно. Меня зовут Верзила. Я Джон Верзила Джонс, но можешь любого в городе просто спросить о Верзиле. — Он помолчал, потом добавил: — Это моё прозвище, землянин. Возражений нет?
Дэвид серьёзно ответил:
— Вовсе нет.
Верзила сказал:
— Хорошо, — и направился к окну, а Дэвид, чье лицо расплылось в улыбке, как только Верзила повернулся к нему спиной, сел и стал ждать.
Он всего двенадцать часов на Марсе. За это время Дэвид успел только зарегистрировать под вымышленным именем корабль в большом подземном гараже за пределами города, снять на ночь номер в одном из отелей и часа два побродить по городу под куполом.
На Марсе только три таких города, и это неудивительно, так как содержание огромных куполов и создание непрерывного потока энергии, поддерживающего в городах земную температуру и силу тяжести, обходятся очень дорого. Этот, Винград-сити, названный так в честь Роберта Кларка Винграда, первого человека, достигшего Марса, — самый большой.
Он почти не отличается от любого земного города, как кусочек Земли, вырезанный и пересаженный на другую планету; как будто жители Марса, в самой ближайшей точке орбиты отстоящие от родины на тридцать пять миллионов миль, пытались скрыть этот факт от самих себя. В центре города, где эллипсоидальный купол достигает четверти мили в высоту, есть даже двадцатиэтажные здания.
Не хватает только одного. Нет солнца и голубого неба. Купол прозрачен, и, когда светит солнце, его свет равномерно рассеивается на всех десяти квадратных милях. Но интенсивность света в любом месте купола невысока, и небо кажется бледно-бледно-желтым. Создаётся впечатление облачного дня на Земле.
Когда наступает ночь, купол постепенно бледнеет и растворяется в абсолютной беззвёздной черноте. Но тут вспыхивают уличные огни, и Винград-сити становится ещё больше похож на земные города. В зданиях искусственный свет используется круглосуточно.
Дэвид Старр поднял голову при громких звуках голосов, донесшихся со стороны окна.
— Говорю вам: это чёрный список! Клянусь Юпитером, меня занесли в чёрный список! — кричал Верзила.
Человек за окном, казалось, заволновался. У него были пушистые баки, которые он нервно перебирал пальцами.
— У нас нет никакого чёрного списка, мистер Джонс… — попытался он урезонить разошедшегося малыша.
— Меня зовут Верзила! В чём дело? Ты боишься быть дружелюбным? Несколько дней назад ты меня называл Верзилой.
— У нас нет чёрных списков, Верзила. На фермах просто не нужны работники.
— О чём это ты болтаешь? Тим Дженкинс позавчера получил работу в две минуты.
— У Тима Дженкинса опыт в управлении ракетами.
— Я не хуже Тима могу управлять ракетой.
— Да, но ты здесь обозначен как сеятель.
— И очень хороший. Что, сеятели не нужны?
— Послушай, Верзила, — уговаривал человек за окном. — Я внесу тебя в список. Это всё, что я могу сделать. Как только что-нибудь подвернётся, я дам тебе знать. — Он отвернулся и уставился в книгу записей, с деланой сосредоточенностью читая её страницы.
Верзила отошёл от окна, но потом через плечо бросил:
— Ну ладно, но я буду сидеть здесь, и, как только ты получишь запрос на работника, я туда отправлюсь. Если меня не захотят принять, я хочу, чтобы они сами мне об этом объявили. Мне, ты понял? Мне, Дж. Верзиле Дж., лично!
Человек в окне ничего не ответил. Что-то бормоча себе под нос, Верзила сел. Дэвид Старр встал и подошёл к окну: в здании никто не появился, и оспаривать его очередь было некому.
Он сказал:
— Мне нужна работа.
Человек поднял голову, взял бланк занятости и ручной принтер.
— Какая работа?
— Любая работа на ферме.
— Вы родились на Марсе? — спросил клерк, отложив принтер.
— Нет, сэр. Я с Земли.
— Извините. Никакой работы.
— Послушайте. Я могу работать и нуждаюсь в работе. Великая Галактика, здесь что, действует закон против приёма на работу землян? — воскликнул Дэвид.
— Нет, но вряд ли вы сможете работать на ферме, не имея никакого опыта.
— Но мне всё равно нужна работа.
— Легко найти работу в городе. Следующее окошко.
— Я не могу работать в городе.
Человек за окном задумчиво посмотрел на Дэвида, и тот без труда разгадал значение его взгляда. Люди прилетали на Марс по многим причинам, и одна из них — Земля для некоторых становилась слишком неудобным местом жительства. Когда объявлялся розыск беглеца, города Марса тщательно прочёсывали (в конце концов, они ведь часть Земли), но никто и никогда не находил разыскиваемого на марсианских фермах. Для фермерских синдикатов лучший фермер — тот, кому больше некуда деться. О таких беглецах заботились и защищали их от земных властей, признаваемых только наполовину и ещё больше презираемых.
— Имя? — сказал клерк, снова придвинув к себе бланк.
— Билл Уильямс, — ответил Дэвид, указав имя, под которым зарегистрировал корабль.
Клерк не спросил никакого удостоверения.
— Где я смогу вас отыскать?
— Отель «Лендис», номер 212.
— Есть опыт работы в условиях низкой гравитации?
Вопросы следовали один за другим, но большая часть граф в бланке осталась пустой. Клерк вздохнул, сунул бланк в щель для автоматического микрофильмирования, подшил его и добавил к постоянным документам бюро.
Он сказал:
— Я дам вам знать, — но голос его звучал не очень обнадеживающе.
Дэвид отвернулся. Он почти ничего не ждал от этого визита, но теперь, по крайней мере, у него есть законный статус искателя работы. Следующий шаг…
Он резко повернулся. В помещение входили три человека. Малыш Верзила гневно вскочил со своего места. Теперь он стоял лицом к вошедшим, руки его свободно свисали, но оружия в них не было.
Вошедшие остановились, и тот, что стоял позади, рассмеялся и сказал:
— Похоже, здесь могучий щенок Верзила. Может, работу ищет, босс?
У говорившего были широкие плечи и приплюснутый нос. Во рту — изжеванная сигара с зеленым марсианским табаком. Ему не мешало бы побриться.
— Тише, Гризволд, — остановил передний.
Это был полный, не очень высокий человек, кожа на щеках и затылке — гладкая и ровная. Одет он был в типичный марсианский комбинезон, но из гораздо более хорошего материала, чем у остальных фермеров. Высокие сапоги были украшены розовой спиралью.
Во время своих путешествий по Марсу Дэвид Старр ни разу не встречал сапог с одинаковым рисунком, и все были кричаще яркими. Это был признак индивидуальности среди фермеров.
Верзила приблизился к вошедшим, его маленькая грудь раздувалась, лицо гневно исказилось. Он сказал:
— Мне нужны мои документы, Хеннес. Я имею право их получить.
Хеннесом оказался полный человек впереди. Он спокойно ответил:
— Ты не заслуживаешь никаких документов, Верзила.
— Но я не могу получить никакую работу без приличных бумаг. Я работал на вас два года и выполнял своё дело.
— Ты делал больше, чем просто выполнял своё дело. Прочь с дороги! — Хеннес протопал мимо Верзилы, подошёл к окну и сказал: — Мне нужен опытный сеятель, хороший работник. И достаточно высокий, чтобы сменить этого малыша, от которого я избавился.
Верзила услышал это.
— Клянусь космосом, — завопил он, — ты прав, я делал больше, чем мне полагалось. Я замечал то, что не должен был замечать, вот что ты хочешь сказать. Я видел, как ты уезжаешь в пустыню ночью, а на следующее утро делаешь вид, что нигде не был. Вот меня и вышвырнули без всяких документов…
Хеннес раздраженно оглянулся через плечо.
— Гризволд, — приказал он, — убери этого придурка.
Верзила не отступил, хотя из Гризволда можно было бы сделать двух таких, как он.
— Ну, хорошо. Подходите по одному, — сказал он высоким голосом.
Но обманчиво медленной, ровной походкой к нему подошёл только Дэвид Старр.
Гризволд сказал:
— Приятель, ты стоишь у меня на дороге. Мне нужно выбросить отсюда кое-какой мусор.
— Всё в порядке, землянин. Пропусти его ко мне, — выкрикнул, высунувшись из-за Дэвида, Верзила.
Дэвид не обратил на это внимания. Гризволду он сказал:
— Ведь это общественное место, приятель. Мы все имеем право находиться здесь.
— Давай не спорить, приятель, — ответил Гризволд и грубо положил руку на плечо Дэвиду, намереваясь отбросить его в сторону.
Но левая рука Дэвида перехватила запястье Гризволда, а правая устремилась к плечу противника. Гризволд, вращаясь, отлетел назад и ударился о пластиковую перегородку, разделявшую помещение.
— Уж лучше я поспорю, приятель, — сказал Дэвид.
Клерк с криком вскочил из-за стола. Другие чиновники высунулись из своих окошек, но не пытались вмешаться. Верзила со смехом хлопнул Дэвида по спине:
— Неплохо для землянина.
На мгновение Хеннес, казалось, застыл. У третьего фермера, низкорослого и бородатого, с бледным лицом человека, явно проводящего слишком много времени под неярким солнцем Марса и слишком мало под искусственным освещением города, нелепо отвисла нижняя челюсть.
К Гризволду медленно возвращалось дыхание. Он потряс головой. Пнул упавшую на пол сигару. Потом поднял голову — в глазах его была ярость. Он оттолкнулся от стены, и в руке его сверкнула сталь.
Но Дэвид сделал шаг в сторону и поднял руку. Маленький изогнутый цилиндр, который обычно удобно лежал у него под правой рукой, выдвинулся из рукава в ладонь.
— Осторожнее, Гризволд. У него бластер, — крикнул Хеннес.
Дэвид приказал:
— Брось лезвие.
Гризволд выругался, но металл звякнул о пол. Верзила бросился вперёд и подобрал его, усмехаясь Гризволду в лицо.
Дэвид протянул руку за лезвием и бросил на него быстрый взгляд.
— Хорошая игрушка для фермера, — сказал он. — Разве на Марсе не действует закон о силовых полях?
Это было самое отвратительное оружие в Галактике. Внешне обычное лезвие из нержавеющей стали, чуть толще обычного ножа, удобно ложащееся в руку. Внутри находился крошечный генератор, создававший невидимое силовое поле, острое, как бритва, длиной не более девяти дюймов, способное разрезать любую материю. Броня против такого поля бесполезна, и, поскольку оно с одинаковой лёгкостью разрезает и мышцы, и кость, его удар почти неизбежно смертелен.
Хеннес встал между ними.
— А где твоё разрешение на бластер, землянин? Убери его, и будем квиты. Пошли отсюда, Гризволд.
— Минутку, — сказал Дэвид, когда Хеннес повернулся. — Вы ищете работника?
Хеннес снова повернулся к нему, брови его удивленно поднялись.
— Я ищу работника. Да.
— Отлично. А я ищу работу.
— Мне нужен опытный сеятель. У тебя есть опыт?
— Пожалуй, нет.
— Когда-нибудь убирал урожай? Пескоходом сможешь управлять? Короче, как я могу судить по твоему костюму, — он сделал шаг назад, чтобы получше разглядеть Дэвида, — ты землянин, который случайно неплохо обращается с бластером. Мне ты не нужен.
— Даже в том случае, — голос Дэвида опустился до шёпота, — если я скажу, что интересуюсь пищевыми отравлениями?
Лицо Хеннеса не изменилось, и он, не моргнув глазом, произнес:
— Не понимаю тебя.
— Подумайте получше. — Дэвид слегка улыбался, но в его улыбке не было веселья.
— Работать на марсианской ферме нелегко, — сказал Хеннес.
— Я привык к нелёгкой работе.
Фермер взглянул на крепкую фигуру Дэвида.
— Может, ты и прав. Ладно, мы тебя будем кормить, дадим три смены одежды и пару сапог. Пятьдесят долларов за первый год, выплата в конце года. Если весь год не проработаешь, никакой оплаты.
— Согласен. А что за работа?
— Единственная, на какую ты способен. Будешь помощником в столовой. Если хватит мозгов, сможешь продвинуться; если нет, там и проведёшь весь год.
— Договорились. А как насчёт Верзилы?
Верзила, во время разговора переводивший взгляд с одного на другого, пронзительно воскликнул:
— Нет, сэр, я на этот набитый песком мешок не работаю. И вам не советую.
Дэвид через плечо бросил:
— А небольшая работа в обмен на документы?
— Ну, разве что с месяц, — протянул Верзила.
— Он твой друг? — спросил Хеннес.
Дэвид кивнул.
— Да, я без него не поеду.
— Беру его тоже. Один месяц, и пусть он держит рот закрытым. Никакой платы, только документы. Пошли отсюда. Мой пескоход снаружи.
Впятером они вышли, Верзила и Дэвид шли сзади.
— Я у тебя в долгу, приятель, — сказал Верзила. — Если буду нужен — только свистни.
Пескоход был открытым, но Дэвид видел щели под боками, откуда выдвигались панели, и тогда машина служила хорошим укрытием от песчаных бурь Марса. Колеса широкие, чтобы не тонули в песке. Минимум стекла, да и то сливается с металлом, как будто они родились вместе.
Кругом было полно народу, но никто не обращал внимания на самое обычное зрелище — пескоход с фермерами.
Хеннес сказал:
— Мы сядем впереди. Ты с приятелем садись сзади, землянин.
Говоря это, он занял место водителя. Приборы управления располагались перед ним на щите, выше — ветровое стекло. Гризволд сел справа от Хеннеса.
Верзила устроился сзади. Дэвид собирался последовать за ним, когда Верзила неожиданно воскликнул:
— Берегись!
Кто-то подбирался сзади. Дэвид успел полуобернуться. У дверцы стоял второй спутник Хеннеса, с бледным бородатым лицом. Дэвид действовал быстро, но было уже поздно.
Последнее, что он увидел, — блеск оружия в руке этого человека, потом послышался какой-то мягкий звук. Чувства боли не было, далекий голос произнес:
— Хорошо, Зукис. Садись сзади и присматривай за ними.
Голос, казалось, доносился с конца длинного туннеля. Потом какое-то движение — и абсолютная пустота.
Дэвид Старр упал на сиденье без признаков жизни.
Глава 4
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ
Рваные полосы света проплывали мимо. Дэвид Старр ощутил сильное покалывание во всем теле и давление на спину. Последнее объяснялось тем, что он лежал лицом вверх на жестком матраце. А покалывание, как он знал, было последствием действия станнера, оружия, которое парализовало нервные окончания у основания мозга.
Прежде чем полосы света приобрели смысл, прежде чем он полностью осознал происходящее, Дэвид почувствовал, что его трясут за плечи и шлепают по щекам. Свет устремился в его открытые глаза, и он поднял ноющую руку, чтобы предотвратить следующий шлепок.
Над ним склонился Верзила, его маленькое кроличье личико с круглым вздернутым носом придвинулось совсем близко.
— Клянусь Ганимедом, я уже думал, что тебя прикончили, — сказал он.
Дэвид приподнялся на онемевшем локте.
— Я так себя чувствую, будто это почти правда. Где мы?
— В фермерской тюрьме. Бесполезно пытаться выбраться: двери закрыты, окна зарешечены. — Голос его звучал угнетенно.
Дэвид пощупал под рукой. Бластера не было. Естественно! Этого можно было ожидать.
— Тебе тоже досталось станнера, Верзила? — спросил он.
Верзила покачал головой.
— Зукис уложил меня рукоятью пистолета. — Малыш с отвращением осторожно потрогал голову. Потом выпалил: — Но я перед этим чуть не сломал ему руку.
За дверью послышались шаги. Дэвид сел. Вошёл Хеннес, с ним пожилой человек с вытянутым усталым лицом. Его бледно-голубые глаза под густыми седыми бровями, казалось, постоянно щурились. На нём был городской костюм, вполне земного типа. Даже марсианских сапог на нём не было.
Хеннес заговорил сначала с Верзилой.
— Убирайся в столовую и, если только выйдешь без разрешения, будешь разорван надвое.
Верзила скорчил рожу, махнул Дэвиду:
— Пока, землянин, — и вышел с громким топотом.
Хеннес, проводив его взглядом, закрыл дверь. Потом повернулся к человеку с седыми бровями.
— Это он, мистер Макиан. Называет себя Уильямсом.
— Вы рисковали, Хеннес. Если бы он умер, вместе с ним исчезла бы ценная нить.
Хеннес пожал плечами.
— Он был вооружен. Мы не могли иначе. Во всяком случае, он перед вами, сэр.
Дэвид отметил, что они говорят о нём так, будто его здесь нет или он — неодушевленная часть кровати.
Макиан повернулся к нему, взгляд его был жестким.
— Я хозяин этого ранчо. Свыше ста миль в любом направлении — всё это владения Макиана. Я указываю, кого освободить, а кого заключить в тюрьму. Я говорю, кто работает, а кто голодает, даже кто живёт и кто умирает. Ты меня понял?
— Да, — ответил Дэвид.
— Тогда отвечай откровенно, и тебе нечего бояться. Но, если попытаешься что-нибудь скрыть, мы всё равно узнаем. И тогда придётся тебя убить. Ты по-прежнему меня понимаешь?
— Понимаю.
— Тебя зовут Уильямс?
— Таково моё имя на Марсе.
— Ладно. Что ты знаешь о пищевых отравлениях?
Дэвид спустил ноги с кровати и начал рассказывать:
— Моя сестра умерла, когда поела хлеба с джемом. Ей было всего двенадцать лет, и она лежала мертвая, а на губах джем. Мы вызвали врача. Он сказал, что это пищевое отравление, и велел ничего не есть в доме, пока он не вернется со специальными инструментами. Но он так и не вернулся. Вместо него пришли другие. Пришёл большой начальник. С ним сыщики. Начальник велел нам описать всё происшедшее. И сказал, что это был сердечный приступ. Мы пытались спорить с ним. Это нелепо: у сестры было здоровое сердце. Но он нас не слушал. Сказал, что, если будем распространять глупые сплетни о пищевом отравлении, у нас будут неприятности. Банку джема он забрал с собой. Даже рассердился на нас за то, что мы вытерли джем с губ сестры. Я попытался связаться с врачом, но медсестра уверяла, что его нет. Я ворвался в кабинет — врач был там. Он сказал, что его диагноз неверен. Он, похоже, боялся разговаривать со мной. Я пошёл в полицию, но там меня не стали слушать. Джем из банки, которую забрал тот человек, был единственным, чего в этот день не ели остальные. Банку только что открыли, её привезли с Марса. Мы люди старомодные и предпочитаем обычную пищу. Джем был единственным марсианским продуктом в доме. Я рылся в газетах, пытаясь выяснить, были ли ещё случаи пищевых отравлений. Всё это казалось мне очень подозрительным. Я даже поехал в Интернациональный Город. ушёл с работы и решил так или иначе выяснить, кто убил мою сестру, кто за это отвечает. Но всюду натыкался на глухую стену, а потом появились полицейские с ордером на мой арест. Я почти ожидал этого и опередил их на шаг. Сюда, на Марс, я явился по двум причинам. Во-первых, это единственная возможность не попасть в тюрьму (хотя сейчас мне так уже не кажется), во-вторых, потому что кое-что я всё-таки узнал. В ресторанах Интернационального Города было несколько случаев подозрительных смертей, и во всех этих случаях к столу подавали марсианские деликатесы. Поэтому я решил, что найду ответ на Марсе.
Макиан тер пальцем подбородок. Он сказал:
— Звучит правдоподобно. Как вы считаете, Хеннес?
— Нужно взять у него имена и даты и всё проверить. Мы ведь не знаем, кто он на самом деле.
Голос Макиана звучал почти жалобно:
— Вы ведь понимаете, что мы не можем этого сделать. Я не хочу, чтобы поползли слухи. Это поставит под угрозу синдикат. — Он повернулся к Дэвиду. — С тобой поговорит Бенсон, наш агроном. — Потом снова повернулся к Хеннесу: — Оставайтесь здесь до прихода Бенсона.
Примерно через полчаса пришёл Бенсон. Всё это время Дэвид лежал на кровати, не обращая никакого внимания на Хеннеса, тот отвечал ему тем же.
Открылась дверь, и послышался голос:
— Я Бенсон.
Мягкий неуверенный голос принадлежал круглолицему человеку лет сорока, с редеющими волосами песочного цвета и в очках без оправы. Его маленький рот растянулся в улыбке, и он произнес:
— А вы, вероятно, Уильямс?
— Верно, — ответил Дэвид Старр.
Бенсон внимательно оглядел молодого землянина, как бы исследуя его взглядом. Потом спросил:
— Вы расположены к насилию?
— Я безоружен, — ответил Дэвид, — и нахожусь на ферме, полной людей, готовых убить меня, если я что-то сделаю не так.
— Верно. Не оставите ли нас, Хеннес?
Хеннес вскочил на ноги.
— Это опасно, Бенсон.
— Пожалуйста, Хеннес. — Бенсон кротким взглядом посмотрел сквозь очки.
Хеннес что-то проворчал, раздраженно шлепнул рукой по голенищу сапога и вышел. Бенсон закрыл за ним дверь.
— Видите ли, Уильямс, за последние полгода я стал тут важной шишкой. Даже Хеннес меня слушается. Но я всё ещё не привык к этому. — Он опять улыбнулся. — Скажите. Мистер Макиан говорит, что вы были свидетелем смерти в результате пищевого отравления.
— Умерла моя сестра.
— О! — Бенсон покраснел. — Извините. Я понимаю, это для вас болезненная тема, но не расскажете ли подробности? Это очень важно.
Дэвид повторил то, что рассказывал раньше Макиану.
Бенсон спросил:
— И всё произошло быстро?
— От пяти до десяти минут после еды.
— Ужасно. Ужасно. Вы даже не понимаете, как это ужасно. — Он нервно потирал руки. — Во всяком случае, я хочу кое-что объяснить вам, Уильямс. И хотя о многом вы догадались сами, я чувствую вину за смерть вашей сестры. Все мы на Марсе виноваты, пока не раскроем загадку. Видите ли, эти отравления продолжаются уже несколько месяцев. Кое-кто из нас начинает понимать суть происходящего.
Мы проследили путь всей отравленной пищи и уверены, что её нет ни на одной ферме. Но кое-что выяснилось: вся отравленная пища отправляется из Винград-сити; остальные два города ни при чем. Это, несомненно, указывает на источник инфекции в самом городе, и Хеннес занимается этим направлением. Он по ночам ездит в город в собственные разведывательные экспедиции, но пока ему ничего не удалось выяснить.
— Понятно. Это объясняет замечание Верзилы, — сказал Дэвид.
— Что? — Лицо Бенсона удивленно дернулось, потом прояснилось. — А, вы имеете в виду того малыша, который всё время кричит. Да, он однажды заметил отъезд Хеннеса, и Хеннес вышвырнул его с фермы. Хеннес очень вспыльчивый человек. Я думаю, он был не прав… Нет никакого сомнения, что весь яд проходит через Винград-сити. Это порт целого полушария.
Сам мистер Макиан считает, что инфекция сознательно распространяется какими-то людьми. Он и некоторые другие члены синдиката получили предложения продать фермы по смехотворно низким ценам. Но есть ли связь между предложением и этой ужасной историей?..
Дэвид внимательно слушал. Потом спросил:
— А кто сделал эти предложения?
— Откуда нам знать? Я видел письма. Там говорится, что, если предложения будут приняты, синдикат получит закодированное послание на определённой волне. В письмах также говорится, что с каждым месяцем цена будет понижаться на десять процентов.
— А нельзя проследить, откуда эти письма?
— Боюсь, что нет. Они пришли обычной почтой с пометкой «Астероиды». Можно ли отыскать кого-нибудь в астероидах?
— Поставили ли в известность Планетарную полицию?
Бенсон негромко рассмеялся.
— Думаете, мистер Макиан или любой другой член синдиката обратится по такому поводу в полицию? Для них это объявление войны. Вы не понимаете марсианский менталитет, мистер Уильямс. Здесь не обращаются к закону, если уверены, что справятся самостоятельно. Ни один фермер так не поступит. Я предложил, чтобы информацию довели до сведения Совета Науки, но мистер Макиан не согласился даже на это. Он сказал, что Совет и так этим занимается — без всякого успеха, и он постарается обойтись без него. И тут на сцене появляюсь я.
— Вы тоже этим занимаетесь?
— Да. Я ведь местный агроном.
— Так назвал вас мистер Макиан.
— Угу. Строго говоря, агроном должен заниматься сельскохозяйственной наукой. Меня учили поддерживать плодородность почвы, правильный севооборот и прочее. Агрономов немного, и тут можно выдвинуться, хотя фермеры иногда теряют терпение и считают нас, выпускников колледжей, слабоумными резонерами без всякого практического опыта. Но я прошёл дополнительную подготовку в области ботаники и бактериологии, поэтому мистер Макиан назначил меня старшим во всей программе по расследованию пищевых отравлений на Марсе. Остальные члены синдиката с этим согласились.
— И что же вы обнаружили, мистер Бенсон?
— Не больше, чем Совет Науки. Это неудивительно, учитывая, насколько меньше у меня оборудования и научной помощи сравнительно с Советом. Но я разработал некоторые теории. Отравление происходит слишком быстро и может вызываться только бактериальным ядом. Во всяком случае, об этом говорит поражение нервов и все остальные симптомы. Я подозреваю сугубо марсианские бактерии.
— Что?
— На Марсе есть жизнь, знаете ли. Когда на нём впервые появились земляне, здесь уже были простейшие формы жизни. Огромные водоросли, чей сине-зеленый цвет был замечен в телескопы ещё до начала космических путешествий. На водорослях были обнаружены бактериеподобные формы и даже маленькие насекомоподобные существа, которые свободно передвигались, но питались, как растения.
— Они по-прежнему существуют?
— Конечно. Мы очистили от них большие площади поверхности, прежде чем превратить их в фермы, и заселили почвы земными бактериями, необходимыми для растений. Но на неосвоенных землях марсианская жизнь по-прежнему процветает.
— Но как она может поражать наши растения?
— Хороший вопрос. Видите ли, марсианские фермы не похожи на земные, к которым вы привыкли. На Марсе фермы не открыты Солнцу и воздуху. Марсианское солнце не даёт достаточно тепла для земных растений, и тут нет дождей. Но зато есть хорошая плодородная почва и достаточно двуокиси углерода, которой в основном питаются растения. Поэтому растения на Марсе живут под огромными стеклянными плитами. Их высаживают, за ними ухаживают, их убирают почти полностью автоматически, так что наши фермеры — это прежде всего механизаторы. Фермы искусственно орошаются системой, берущей начало у ледяных шапок и охватывающей всю планету.
Я вам всё это рассказываю, чтобы вы поняли: трудно обычным путем заразить растения. Поля закрыты и охраняются со всех сторон, но только не снизу.
— А это что значит? — спросил Дэвид.
— Это значит, что внизу находятся марсианские пещеры, а в них могут жить разумные марсиане.
— Люди?
— Нет, не люди. Но разумные существа. У меня есть основания считать, что на Марсе живут разумные существа, заинтересованные в том, чтобы стереть землян с лица своей планеты.
Глава 5
ОБЕД
— Какие у вас есть основания?.. — начал Дэвид.
Бенсон выглядел смущенным. Он медленно провёл рукой по голове, приглаживая редкие волосы, почти не закрывающие лысину. Сказал:
— Не такие, чтобы я смог убедить Совет Науки. Не такие, которые смогли бы убедить мистера Макиана. Но я считаю, что я прав.
— Хотите поговорить об этом?
— Не знаю. Откровенно говоря, я давно не разговаривал ни с кем, кроме фермеров. А вы, очевидно, окончили колледж. По какому предмету вы специализировались?
— По истории, — быстро ответил Дэвид. — Моя тема — международная политика в раннеатомный период.
— Ага. — Бенсон выглядел разочарованным. — А были у вас какие-нибудь естественно-научные курсы?
— Несколько химических, один зоологический.
— Понятно. Мне пришло в голову, что я мог бы убедить мистера Макиана позволить вам помогать мне в лаборатории. Работы немного, учитывая, что у вас нет специальной подготовки, но это лучше того, что вам предложит Хеннес.
— Благодарю вас, мистер Бенсон. Но что же марсиане?
— А, да. Всё очень просто. Вы, должно быть, не знаете, но под поверхностью Марса, в нескольких милях под поверхностью, есть огромные пещеры. Это установлено наблюдениями за землетрясениями, вернее, за марсотрясениями. Некоторые исследователи считают, что пещеры появились естественным путем в результате действия воды, когда на Марсе ещё существовали океаны. Но недавно уловили излучение, идущее снизу. Источник его может быть только разумным. Сигналы слишком упорядочены.
Если подумать, всё станет ясным. На молодом Марсе было достаточно воды и кислорода для поддержания жизни, но сила тяжести здесь только две пятых земной, поэтому и вода, и кислород медленно улетучивались в космос. Если на планете существовала разумная жизнь, она должна была предвидеть это. Марсиане построили гигантские пещеры под поверхностью своей планеты и переселились туда с достаточным запасом воды и воздуха, чтобы жить бесконечно долго, если сохранять одинаковый уровень населения. Теперь предположим, что эти марсиане обнаруживают на поверхности своей планеты новый разум — жизнь с другой планеты. Предположим, они отвергают нас или боятся нашего неизбежного вмешательства. То, что мы называем пищевыми отравлениями, может быть бактериологической войной.
Дэвид задумчиво произнес:
— Да, я вас понимаю.
— Но поймет ли синдикат? Или Совет Науки? Ну, неважно. Вскоре вы будете работать со мной, и, может, вместе нам удастся убедить их.
Бенсон улыбнулся и протянул маленькую руку, которая потонула в большой руке Дэвида.
— Наверно, теперь вас выпустят, — сказал он.
Его действительно выпустили, и впервые за всё время Дэвид смог наблюдать жизнь марсианской фермы. Она, разумеется, была укрыта куполом, как и город. Дэвида это не удивило. На Марсе иначе нельзя: только купол даёт возможность свободно дышать и чувствовать привычную силу тяжести.
Естественно, купол был гораздо меньше городского. В самом высоком месте он едва достигал ста футов, его прозрачная поверхность видна была во всех подробностях. Полоски белого флюоресцирующего света перекрывали слабый свет солнца. Закрытая территория занимала около половины квадратной мили.
Впрочем, за исключением первого вечера, у Дэвида было мало времени для наблюдений. Ферма полна людей, и всех их нужно кормить трижды в день. По вечерам, когда работа заканчивалась, людям, казалось, не было конца. Дэвид стойко держался за раздаточным столом, а мимо него проходили фермеры с пластиковыми тарелками. Дэвид со временем узнал, что такие тарелки изготовляются специально для Марса. От тепла человеческой руки они размягчаются, их можно согнуть и запаковать пищу, если необходимо нести её в пустыню. Так они сохраняют тепло и не дают проникнуть песку. В куполе они снова распрямляются и используются как обычные тарелки.
Фермеры обращали на Дэвида мало внимания. Только Верзила изредка махал ему рукой. Его маленькая фигурка скользила среди столов, где он заменял бутылочки и баночки с соусами и пряностями. Для малыша это было значительное понижение в социальном статусе, но он отнесся к нему философски.
— Всего лишь на месяц, — объяснил он как-то, когда они на кухне готовились к обеду, а повар вышел по каким-то делам, — и большинство парней знают, в чём дело, и не пристают ко мне. Конечно, есть Гризволд, Зукис и вся их банда: крысы, которые лижут сапоги Хеннеса. Но во имя космоса, какое мне дело? Я здесь на несколько недель.
В другой раз он сказал:
— Не беспокойся, что парни не ладят с тобой. Они знают, что ты землянин, но не знают, что для землянина ты слишком хорош, как я это знаю. Хеннес постоянно за мной подглядывает, и Гризволд тоже; не хотят, чтобы я разговаривал с парнями, а то бы я им всё объяснил. Но они поймут.
Однако шло время, а для Дэвида всё оставалось по-прежнему: порция тушеной картошки, черпак гороха, маленький кусочек мяса (продуктов животноводства на фермах мало, их привозят с Земли). Затем фермер сам брал немного печенья и чашку кофе. За ним другой фермер с тарелкой — ещё порция тушеной картошки, ещё черпак гороха и так далее. Для всех, похоже, Дэвид Старр был всего лишь землянином с черпаком в одной руке и большой вилкой в другой. У него не было даже лица, только черпак и вилка.
Повар просунул голову в дверь, его свиные глазки смотрели поверх свисавших шек.
— Эй, Уильямс, бери ноги в руки и тащи еду в особую столовую.
Макиан, Бенсон, Хеннес и некоторые другие, занимавшие более высокое положение или долго прослужившие, обедали в отдельной комнате. Они сидели за столами, и пищу им приносили. Дэвиду уже приходилось их обслуживать. Он поставил подходящую для этого случая посуду на сервировочный столик и покатил его в столовую.
Начав со столика, за которым сидели Макиан, Хеннес и ещё двое, Дэвид ловко скользил между обедающими. Возле Бенсона он задержался. Агроном с улыбкой взял тарелку, сказал «Здравствуйте» и начал с аппетитом есть. Дэвид с добросовестным видом наклонился над его столиком, чтобы стряхнуть невидимые крошки. Губы его оказались возле уха Бенсона, и он едва слышно прошептал:
— Кто-нибудь здесь, на ферме, отравился?
Бенсон вздрогнул, услышав это, и удивленно взглянул на Дэвида. И тут же отвел глаза, стараясь выглядеть равнодушным. Он отрицательно покачал головой.
— А овощи ведь марсианские, — прошептал Дэвид.
Громкий голос прозвучал в комнате. Грубый крик с дальнего столика:
— Клянусь космосом, долго ли этот земной осел будет идти ко мне?
Это был Гризволд. Его лицо было так же покрыто щетиной, как и в день их знакомства. Вероятно, он всё же иногда бреется, подумал Дэвид, потому что щетина не становится длиннее, но и короче тоже не становится.
Гризволд сидел за последним столиком. Он продолжал что-то бормотать, кипя от гнева.
Рот его скривился.
— Тащи тарелку, жокей с подносом. Быстрее, быстрее.
Дэвид продолжал неторопливо двигаться, и, когда он наконец добрался до стола Гризволда, тот в бешенстве замахнулся на него вилкой. Но Дэвид реагировал быстро, и вилка ударилась о поднос.
Держа поднос в левой руке, правой Дэвид перехватил запястье Гризволда. Сжал. Трое приятелей задиры вскочили из-за столика, оттолкнув стулья.
Прозвучал голос Дэвида, негромкий, ледяной, смертельно ровный:
— Опусти вилку и попроси прилично, не то получишь всё сразу.
Гризволд вырывался, но Дэвид продолжал держать его. Коленом он прижимал стул Гризволда, не давая тому откинуть его.
— Проси прилично, — повторил Дэвид. Улыбка его была обманчиво мягкой. — Как воспитанный человек.
Гризволд тяжело дышал. Вилка выпала из его онемевших пальцев. Он проворчал:
— Дай мне поднос.
— И всё?
— Пожалуйста. — Он выплюнул это слово.
Дэвид поставил поднос на стол и выпустил побледневший кулак Гризволда, из которого отхлынула вся кровь. Растерев бесчувственную руку, Гризволд поднял вилку и в ярости оглядел столовую, но на лицах присутствующих было только равнодушие или насмешка. Фермеры Марса — суровые люди: каждый должен уметь постоять за себя.
Макиан встал.
— Уильямс, — позвал он.
Дэвид подошёл.
— Да, сэр.
Макиан ничего не сказал о происшествии, только внимательно оглядел Дэвида, как будто увидел его впервые. Потом спросил:
— Хотите участвовать в завтрашней проверке?
— В проверке, сэр? А что это такое? — Дэвид незаметно осмотрел столик. Бифштекс Макиана исчез, но горох оставался, картошка тоже почти не тронута. Очевидно, у Макиана не было аппетита Хеннеса: у того тарелка уже опустела.
— Проверка — это ежемесячный объезд фермы. Это старый фермерский обычай. Мы исследуем растительность, ищем случайные поломки, проверяем состояние и работу ирригационного оборудования и механизмов, выявляем случаи браконьерства. В проверке должно участвовать как можно больше людей.
— С радостью, сэр.
— Хорошо! Я думаю, вы справитесь. — Макиан повернулся к Хеннесу, который внимательно слушал с холодным, лишенным выражения взглядом. — Мне нравится этот парень, Хеннес. Может, из него выйдет толк. Да, Хеннес… — тут Макиан понизил голос, и Дэвид, отходя, не мог уловить ни слова, но по быстрому взгляду, который владелец фермы бросил в сторону столика Гризволда, он понял, что это было не слишком лестное замечание в адрес фермера.
Дэвид Старр сквозь сон услышал шаги и насторожился ещё до того, как проснулся. Он мгновенно соскользнул с кровати и забрался под неё. В свете тусклых флюоресцентных ламп появились чьи-то голые ноги. Во время сна лампы приглушались, но продолжали гореть, иначе было бы совершенно темно.
Дэвид выжидал. Он слышал, как шуршат простыни, потом голос:
— Землянин, землянин, где, во имя космоса…
Дэвид коснулся одной из ног и был вознаграждён: кто-то резко отпрыгнул и затаил дыхание.
Пауза, затем перед ним вырисовалась бесформенная в полутьме голова.
— Землянин, ты здесь?
— А где мне ещё спать, Верзила? Под кроватью лучше всего.
Малыш раздраженно и сварливо ответил:
— Я мог бы закричать и оказался бы по уши в дерьме. Мне нужно с тобой поговорить.
— Давай. — Дэвид неслышно рассмеялся и забрался обратно в кровать.
Верзила начал:
— Ты слишком подозрителен для землянина.
— Ещё бы, — ответил Дэвид. — Я намерен долго прожить.
— Не проживешь, если не будешь осторожен.
— Нет?
— Нет. Я дурак, что пришёл сюда. Если меня застукают, пропали мои бумаги. Но ты мне помог, и теперь моя очередь. Что ты сделал этой гниде Гризволду?
— Небольшая потасовка в столовой.
— Потасовка? Он вне себя от ярости. Хеннес с трудом его сдерживает.
— Ты мне это хотел сказать, Верзила?
— Отчасти. Я видел их за гаражом перед самым сном. Они не знали, что я там, а я помалкивал. Хеннес вынимал из Гризволда всю начинку: сначала за то, что тот начал ссору в присутствии Старика, потом за то, что не сумел кончить то, что начал. Гризволд ничего не желал слушать. Говорил только, что прикончит тебя. Хеннес сказал… — Верзила внезапно замолчал. — Ты разве не говорил, что, по-твоему, Хеннес чист?
— Похоже, так.
— А эти ночные поездки?
— Ты застукал его только раз.
— Этого достаточно. Если всё законно, почему не говорить об этом открыто?
— Не мне это объяснять, но мне кажется, что всё по закону.
— В таком случае что он имеет против тебя? Почему не отзовет своих псов?
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, когда Гризволд кончил говорить, Хеннес велел ему держаться поодаль. Он сказал, что ты будешь завтра на проверке, вот тогда настанет время. Поэтому я и решил предупредить тебя, землянин. Лучше воздержись от проверки.
Дэвид был по-прежнему спокоен.
— Для чего настанет время, Хеннес сказал?
— Я больше ничего не слышал. Они отошли, а я не мог за ними пойти, они бы меня увидели. Но мне всё кажется ясным.
— Может быть. Но лучше попробуем узнать, что они на самом деле имели в виду.
Верзила придвинулся, как будто хотел в полутьме получше разглядеть лицо Дэвида.
— Как это?
— А как ты думаешь? Поеду на проверку и дам им возможность попробовать, — ответил Дэвид.
— Не делай этого! — выдохнул Верзила. — Ты на проверке с ними не справишься. Ты ведь ничего не знаешь о Марсе, землянин.
— Тогда считай, что это самоубийство, — флегматично отозвался Дэвид. — Подождем и увидим. — Он потрепал Верзилу по плечу, повернулся и снова уснул.
Глава 6
«В ПЕСКИ!»
Предпроверочная суматоха под куполом фермы началась, как только включили основное освещение. Стоял страшный шум и дикая суета. Пескоходы строились в колонны, каждый фермер занимался своей машиной.
Макиан мелькал тут и там, нигде надолго не задерживаясь. Хеннес своим ровным энергичным голосом распределял задания и назначал маршруты по обширным просторам фермы. Проходя мимо Дэвида, он остановился.
— Уильямс, вы по-прежнему намерены участвовать в проверке?
— Не хотел бы пропустить её.
— Ладно. Поскольку своей машины у вас нет, даю вам из наших запасов. Это теперь ваш пескоход, и вы должны содержать его в рабочем состоянии. Любые поломки и повреждения, которых, как мы сочтем, можно было бы избежать, за ваш счёт. Понятно?
— Согласен.
— Я назначаю вас в отряд Гризволда. Я знаю, что вы с ним не ладите, но он наш лучший полевой работник, а вы землянин без всякого опыта. Поэтому вам нужен хороший руководитель. Пескоход сможете вести?
— Думаю, что после небольшой практики смогу вести любую машину.
— Да? Дадим вам возможность доказать это. — Он уже собрался уходить, когда кто-то заметил: — А ты куда это собрался?
В помещение сбора только что вошёл Верзила. На нём были новый комбинезон и сапоги, начищенные до зеркального блеска. Волосы тщательно прилизаны, а розовое лицо гладко выскоблено. Он протянул:
— На проверку, Хеннес… мистер Хеннес. Я не в заключении, и, как у всякого фермера с лицензией, у меня есть свои права, хоть вы и приставили меня к обедам. Это значит, что я могу участвовать в проверках. Это также значит, что у меня есть право на свою машину и на свой старый отряд.
Хеннес пожал плечами.
— Ты, наверно, начитался книг про всякие права, и я даже верю, там всё это есть. Но ещё неделя, Верзила, ещё одна неделя. Если после этого ты хоть раз покажешь нос на территории мистера Макиана, я попрошу настоящего человека наступить на тебя и раздавить.
Верзила угрожающе шагнул к Хеннесу, но тот уже отвернулся, и Верзила обратился к Дэвиду:
— Когда-нибудь надевал маску, землянин?
— Нет, никогда. Но, конечно, я о них слышал.
— Слышать — не значит пользоваться. Я проверил одну для тебя. Сейчас покажу тебе, как это делается. Нет, нет, убери пальцы отсюда. Смотри, как я держу. Вот так. Теперь на голову и проверь, чтоб постромки сзади не перепутались, не то получишь головную боль. Можешь что-нибудь видеть?
Лицо Дэвида превратилось в чудовищную пластиковую морду, а два шланга, идущих к цилиндрам с кислородом, ещё более увеличивали нечеловеческую уродливость его облика.
— Трудно дышать? — спросил Верзила.
Дэвид тщетно пытался вдохнуть воздух, но ему пришлось сорвать маску.
— Как ты её включаешь? Тут нет никакого клапана.
Верзила рассмеялся.
— Это тебе за то, что ты меня напугал прошлой ночью. Клапан не нужен. Цилиндры включаются автоматически под действием тепла твоего лица и испарений; и автоматически отключаются, как только снимаешь маску.
— Значит, в ней что-то не в порядке. Я…
— Всё в порядке. Она действует при давлении в одну пятую нормального, и, конечно, ты не можешь вдохнуть, когда находишься под куполом. Снаружи всё будет в порядке: хоть и одна пятая нормы, зато чистый кислород. У тебя будет столько же кислорода, сколько ты получаешь всегда. Помни только одно: вдыхать нужно через нос, а выдыхать через рот, иначе очки затуманятся, а это плохо.
Верзила с важным видом обошёл высокую стройную фигуру Дэвида и покачал головой.
— Не знаю, как быть с твоими сапогами. Чёрное и белое! Ни один марсианин такого не наденет.
И он с удовольствием посмотрел на собственные желто-зеленые сапоги.
— Ничего. Лучше иди к своему пескоходу. Кажется, всё готово к выезду, — посоветовал Дэвид.
— Ты прав. Ну ладно. Следи за изменением тяготения. Если не привык, это перенести труднее всего. И, землянин…
— Да?
— Держи глаза открытыми. Ты знаешь, о чём я.
— Спасибо. Постараюсь.
Пескоходы выстроились по девять в ряд. Всего было больше ста машин, в каждой сидел фермер и смотрел вперёд. Пескоходы были исписаны граффити — образцами местного юмора. Пескоход, переданный Дэвиду, пестрел подобными остротами, оставшимися от полудюжины предшествующих владельцев, начиная с «Берегитесь, девушки!» на пулеобразном носу машины до «Это не песчаная буря, это я» на заднем бампере.
Дэвид забрался в машину и закрыл дверцу. Она прилегала очень плотно. Не было ни малейшей щели. Прямо над головой помещался вентилятор, очищающий воздух и уравновешивающий давление внутри и вне машины. Лобовое стекло было не совсем прозрачным. Его покрывал лёгкий налёт — свидетельство множества песчаных бурь, выдержанных пескоходом.
Мимо прошёл, яростно жестикулируя, Гризволд. Дэвид открыл дверцу.
Гризволд крикнул:
— Опусти передний щиток, придурок. Никакой бури нет.
Дэвид поискал нужную кнопку и нашёл её на ручке рулевого управления. Ветровые щиты, которые, казалось, были сплавлены с металлом, скользнули вниз, в специальные щели. Видимость улучшилась. «Конечно, — подумал Дэвид, — в марсианской атмосфере вряд ли нас ждёт беспокоящий ветер. Сейчас лето. Не должно быть холодно».
Его окликнули:
— Эй, землянин!
Он оглянулся. Ему махал Верзила. Он тоже был в группе Гризволда. Дэвид помахал ему в ответ.
Начала подниматься секция купола. Девять машин неуклюже двинулись вперёд. Секция закрылась за ними. Прошло несколько минут, она снова открылась, за ней было пусто. Туда въехало ещё девять машин.
Неожиданно и громко прозвучал в ушах голос Гризволда. Дэвид повернулся и увидел маленький передатчик. Зарешеченное окошко над рулем оказалось микрофоном.
— Восьмой отряд, готовы?
Последовательно зазвучали голоса:
— Номер один готов; номер два готов; номер три готов.
После номера шесть наступила пауза. Всего на несколько секунд. Потом Дэвид отозвался:
— Номер семь готов.
Последовало:
— Номер восемь готов.
И последним откликнулся Верзила:
— Номер девять готов.
Секция купола снова поднялась, и машины рядом с Дэвидом двинулись. Он осторожно нажал на реостат, управляющий током, идущим через двигатель. Его пескоход дернулся, едва не уткнувшись в бампер передней машины. Дэвид отпустил реостат, чувствуя, как машина дрожит. Ещё осторожнее он повёл её. Секция закрылась за ними, как некий туннель.
Дэвид услышал резкий свист: из секции выкачивали воздух, должно быть, под основной купол. Он почувствовал, как ускоренно бьется сердце, но руки его ещё крепче сжали руль.
Одежда его раздулась, и воздух начал выходить сквозь щель между сапогами и бедром. В руках и на подбородке закололо, он почувствовал, как его распирает изнутри. Несколько раз Дэвид сглотнул, чтобы уменьшить боль в ушах. Через пять минут он почувствовал, что дышит с трудом: не хватало кислорода.
Другие надевали маски. Он сделал то же самое, и на этот раз кислород ровно потек в лёгкие. Дэвид глубоко дышал, выдыхая через рот. Руки и ноги у него по-прежнему покалывало, но уже меньше.
Теперь секция открылась прямо перед ним, и впереди блеснули в слабом свете солнца красноватые пески Марса. Из восьми глоток послышался единодушный крик:
— В пески!
И первая машина двинулась.
Традиционный фермерский клич высоко звучал в разреженной атмосфере Марса.
Дэвид отпустил реостат, и его пескоход медленно пополз к границе между металлом купола и песками Марса.
И тут его ударило!
Неожиданное изменение силы тяжести было подобно падению с тысячефутовой высоты. Сто двадцать фунтов веса Дэвида из двухсот исчезли, когда он пересек границу, и он почувствовал, будто его ударили в живот. Он крепче сжал руль, а ощущение падения, падения, падения продолжалось. Пескоход резко вильнул.
Послышался голос Гризволда. В нём сохранилась грубая хрипота, хотя разреженный воздух слабее передавал звуки:
— Номер семь! Назад в линию!
Дэвид боролся с рулем, боролся с собственными чувствами, пытался ясно видеть. Он лихорадочно вдыхал кислород. Постепенно становилось лучше.
Он видел, как Верзила беспокойно посматривает в его сторону. Снял руку с руля, чтобы помахать, потом опять сосредоточился на дороге.
Марсианская пустыня почти плоская; плоская и голая. Здесь нет ни кустика. В частности, этот район был мертв уже неизвестно сколько миллионов лет. Но тут Дэвиду пришло в голову, что, возможно, он ошибается. Возможно, пески ещё недавно были покрыты сине-зелеными микроорганизмами, пока не пришли земляне и не выжгли их, чтобы получить место для фермы.
Передние машины поднимали столбы пыли, которая тихо, как в замедленной съёмке, вздымалась и так же тихо падала.
Машина Дэвида двигалась с трудом. Он добавлял и добавлял скорости, но что-то было не в порядке. Другие пескоходы тяжело ползли по пустыне, а он прыгал, как заяц. При малейшей неровности поверхности, на каждом незначительном скальном выступе его машина взлетала. Она медленно поднималась в воздух на несколько дюймов, продолжая вертеть колесами в пустоте, и так же медленно опускалась, сильно дергаясь, когда колеса касались поверхности.
Дэвид отстал, а когда попытался прибавить скорость, прыжки стали ещё выше. Конечно, это результат уменьшившейся силы тяжести, но почему на других она не действует?
Становилось холодно. Даже летом температура на Марсе едва выше точки замерзания. Дэвид мог прямо смотреть на солнце. Карликовое солнце на бледном небе светило так слабо, что были видны три-четыре звезды. Атмосфера Марса слишком разреженная, чтобы они потерялись в рассеянном свете, как это происходит в голубом небе Земли.
Снова зазвучал голос Гризволда:
— Машины номер один, четыре и семь — налево. Машины номер два, пять и девять — направо. Машины два и три — старшие в своих подсекциях.
Машина Гризволда — номер один — начала поворачивать налево, и Дэвид, следя за ней взглядом, заметил тёмную линию на горизонте. Номер четыре следовал за первым, и Дэвид резко повернул руль налево, чтобы не отстать.
То, что произошло вслед за этим, захватило его врасплох. Его машину резко занесло, и он едва успел это понять. Отчаянно повернув руль в направлении поворота, Дэвид включил энергию на полную мощность, чувствуя, как колеса цепляются за почву. Пустыня вокруг закружилась, так что видна была сплошная краснота.
Высокий голос Верзилы прозвучал в передатчике:
— Нажми срочное торможение! Справа от реостата.
Дэввд отчаянно искал срочное торможение, что бы оно ни значило, и не находил. Тёмная линия снова появилась перед глазами и исчезла. На этот раз она была резче и шире. Даже при быстром вращении Дэвиду стала ужасающе ясна её природа. Это была одна из трещин Марса, длинная и прямая щель, подобная гораздо более многочисленным лунным трещинам. Такие расселины в поверхности планеты возникли много миллионов лет назад, когда планета ссыхалась. В ширину они достигали нескольких сотен футов, а глубину не испытывал ни один человек.
— Розовая плоская кнопка, — кричал Верзила. — Нажимай ногами повсюду!
Дэвид так и поступил, и что-то под его ногой поддалось. Раздался резкий скрежет, и быстрое вращение прекратилось. Поднялись облака пыли, Дэвид задыхался и ничего не видел.
Склонившись над рулем, он ждал. Машина определённо двигалась медленнее. И наконец остановилась.
Дэвид откинулся в кресле, чтобы перевести дух. Потом снял маску и стал протирать её внутреннюю поверхность. Холодный воздух жег нос и глаза. Снова надев маску, Дэвид огляделся. Одежда его стала красновато-серой от пыли, на подбородке застыла грязь. На губах он чувствовал пыль, всё внутри машины было покрыто грязью.
Две остальные машины из его подсекции остановились рядом. Из одной выбирался Гризволд, лицо его под маской было чудовищным. Он сказал:
— Землянин, ремонт машины за твой счёт. Хеннес тебя предупреждал.
Дэвид открыл дверцу и выбрался. Снаружи машина выглядела ещё хуже. Шины порваны, сквозь них торчат большие зубья — очевидно, это и есть экстренное торможение.
— Ни одного цента из моей платы. С машиной что-то не в порядке, — ответил Дэвид.
— Это точно. Водитель. Тупой, неповоротливый водитель — вот что неладно у этой машины.
Со скрежетом подошёл ещё один пескоход, и Гризволд повернулся к нему.
Щетина его взъерошилась.
— Убирайся отсюда, подпружная вошь! Берись за работу!
Из кабины выпрыгнул Верзила.
— Сначала взгляну на машину землянина.
Верзила весил на Марсе меньше пятидесяти фунтов. Один лёгкий прыжок — и он оказался рядом с Дэвидом. На мгновение склонился рядом с его пескоходом, потом выпрямился.
— А где прутья балласта, Гризволд?
— Что за прутья балласта, Верзила? — спросил Дэвид.
Коротышка быстро заговорил:
— Когда выводят эти машины в низкое тяготение, надевают по обе стороны оси тяжелые брусья. В высоком тяготении их снимают. Прости, приятель, но я и подумать не мог…
Дэвид остановил его. Губы его сжались. Теперь понятно, почему его машина прыгала, когда остальные спокойно двигались по поверхности. Он повернулся к Гризволду.
— Ты знал, что их нет?
Гризволд выругался.
— Каждый сам отвечает за свою машину. Если ты не заметил, что их нет, это твоя вина.
Постепенно подъехали все машины. Вокруг спорящих образовался кружок заросших мужчин, они спокойно и внимательно слушали и не вмешивались.
Верзила бушевал.
— Ты кусок кварца, а этот парень новичок. Он не мог знать…
— Тише, Верзила, — прервал его Дэвид. — Это моё дело. Вторично спрашиваю, Гризволд. Ты знал об этом заранее?
— А я тебе говорил, землянин. В пустыне каждый заботится о себе сам. Я тебе не мамочка.
— Ладно. В таком случае проявлю заботу прямо сейчас. — Дэвид осмотрелся. Они находились на самом краю пропасти. Ещё десять футов, и он был бы мертв. — Однако ты тоже позаботься о себе, потому что я беру твою машину. Можешь отвести мою назад на ферму или оставаться здесь — мне всё равно.
— Клянусь Марсом! — Рука Гризволда метнулась к бедру.
Из кружка зрителей послышался хриплый крик:
— Честная схватка! Честная схватка!
Законы марсианской пустыни суровы, но они не допускают, чтобы у одного из противников было преимущество. Все понимают необходимость этого, и все следят за соблюдением правил. Только такая взаимная договоренность спасает от внезапных ударов ножом в спину или выстрелов из бластера в живот.
Окинув взглядом жесткие лица окружающих, Гризволд сказал:
— Под куполом. За работу, парни.
Дэвид возразил:
— Встретимся и под куполом, если захочешь. А пока посторонись.
Он не спеша пошёл вперёд, и Гризволд отступил.
— Ты, тупой новичок! Честная схватка в масках невозможна. У тебя есть что-нибудь в голове?
— Тогда снимай маску, — предложил Дэвид, — а я сниму свою. Останови меня в честной схватке, если сможешь.
— Честная схватка! — одобрительно зашумели в толпе, а Верзила крикнул:
— Снимай маску или отступи, Гризволд!
Он прыгнул вперёд и сорвал с бедра Гризволда бластер.
Дэвид поднял руку к своей маске.
— Готов?
Верзила скомандовал:
— Считаю до трёх.
Фермеры возбуждённо кричали. В остром предвкушении они ждали поединка. Гризволд затравленно оглянулся.
— Один… — начал счёт Верзила.
При счёте «три» Дэвид спокойно снял свою маску и отбросил её вместе с цилиндрами в сторону. Он стоял, беззащитный, сдерживая дыхание в непригодной для человека атмосфере Марса.
Глава 7
ВЕРЗИЛА СОВЕРШАЕТ ОТКРЫТИЕ
Гризволд не шевельнулся, его маска оставалась на месте. Со стороны зрителей послышался угрожающий рёв.
Дэвид, быстро как мог, рассчитывая каждый прыжок в слабом тяготении, неуклюже подскочил к нему (казалось, будто он движется в воде, с трудом преодолевая её сопротивление) и схватил за плечо. Увернувшись от колена фермера, одной рукой он молниеносно схватил Гризволда за подбородок, а другой сорвал с него маску и отшвырнул в сторону.
Гризволд, пронзительно крича, метнулся было за ней, но вовремя остановился и плотно закрыл рот, чтобы не терять воздух. Он вырвался, слегка пошатываясь, и начал кружить вокруг Дэвида.
Прошла уже почти минута с того момента, как Дэвид сделал последний вдох. Лёгкие его были напряжены. Гризволд с налитыми кровью глазами продолжал кружить. Ноги его пружинили, движения были грациозны. Он привык к низкому тяготению и хорошо контролировал своё тело. Дэвид мрачно подумал, что сам он на это не может рассчитывать. Одно неосторожное движение — и он растянется.
Сдерживать дыхание становилось всё трудней. Дэвид старался держаться на расстоянии. Он видел, как болезненно исказилось лицо Гризволда. У Дэвида лёгкие спортсмена. А Гризволд слишком много ел и пил, чтобы быть в хорошей форме. Тут взгляд Дэвида упал на трещину. Она находилась всего в четырёх футах за ним — отвесная, вертикальная, крутая пропасть. Именно к ней Гризволд старался его оттеснить.
Дэвид перестал отступать. Через десять секунд Гризволд нападет. Должен напасть.
И Гризволд напал.
Дэвид увернулся и поймал его на плечо. Развернувшись от толчка, он ударил Гризволда в подбородок, добавив к силе кулака всю инерцию движения противника.
Гризволд слепо зашатался. Одним громким выдохом он выпустил весь воздух и набрал полные лёгкие смеси аргона, неона и двуокиси углерода. Медленно, ужасающе медленно он начал падать. Из последних сил Гризволд попытался подняться, почти встал, но снова начал падать, шагнул вперёд, пытаясь сохранить равновесие…
Дэвид услышал крики. На дрожащих ногах, слепой и глухой ко всему, кроме своей маски, он прошёл к машине. Заставляя своё измученное, жаждущее кислорода тело двигаться медленно и с достоинством, он надел цилиндры, а потом маску. Наконец он сделал гигантский вдох, и кислород полился в его лёгкие, как холодная вода в иссушенный желудок.
Целую минуту он мог только дышать, широкая грудь поднималась и опадала в быстрых и частых движениях. Наконец он открыл глаза.
— Где Гризволд?
Все собрались вокруг него, впереди стоял Верзила, который удивленно посмотрел на него.
— Ты разве не видел?
— Я сбил его с ног. — Дэвид осмотрелся. Гризволда нигде не было видно.
Верзила сделал ныряющий жест рукой.
— В трещине.
— Что? — Дэвид нахмурился под маской. — Дурацкая шутка.
— Вовсе нет.
— Через край, как прыгун в воду.
— Клянусь космосом, он сам виноват.
— Чистая самозащита с твоей стороны, землянин.
Фермеры говорили одновременно.
Дэвид остановил их:
— Подождите, что случилось? Я сбросил его туда?
— Нет, землянин, — звенел Верзила. — Это не ты. Ты его ударил, и этот червь упал. Потом попытался встать. Снова начал падать и тогда, чтобы сохранить равновесие, шагнул вперёд, не видя, что перед ним. Мы пытались удержать его, но было уже поздно — он упал вниз. Если бы он не пытался прижать тебя к краю пропасти, чтобы сбросить, этого бы не случилось.
Дэвид оглядел окружающих. Они смотрели на него.
Наконец один из фермеров протянул жесткую руку:
— Отличное шоу, фермер.
Слова прозвучали спокойно, но это означало признание. Всеобщее напряжение спало.
Верзила торжествующе закричал, подпрыгнул на шесть футов и медленно опустился, выделывая ногами такие па, какие не доступны ни одному танцору на Земле. Остальные ещё более сгрудились вокруг Дэвида. Люди, которые раньше называли его только «землянин» и «ты», теперь хлопали его по спине и говорили, что им может гордиться Марс.
Верзила закричал:
— Парни, продолжим осмотр. Разве нам нужен для этого Гризволд?
Все заревели:
— Нет!
— Ну так как? — Верзила запрыгнул в свой пескоход. — Пошли, фермер, — позвал он Дэвида, и тот занял место в машине, пятнадцать минут назад принадлежавшей Гризволду.
Снова над марсианской пустыней прокатился клич:
— В пески!
Новость быстро распространилась по всем уголкам фермы. Пока Дэвид маневрировал между стеклянными стенами, известие о конце Гризволда стало известно повсеместно. Вернувшись, Дэвид понял, что стал знаменитым.
Обычного ужина в этот день не было. Все поели в пустыне перед возвращением, поэтому через полчаса после возвращения фермеры собрались в умирающем свете марсианского дня перед главной конторой.
Несомненно, к этому времени Хеннес и сам Старик знали о происшествии. Среди собравшихся было немало из «банды Хеннеса» — людей, появившихся после того, как Хеннес стал управляющим. Их интересы были тесно связаны с его интересами, и уж они-то всё доложили начальству. Толпа гудела в предвкушении интересного шоу.
Дело было даже не в том, что многие ненавидели Хеннеса. Он был энергичен и не груб. Но его не любили. Он был холоден и всегда держался на расстоянии, у него не было умения легко сходиться с людьми, как у предыдущего управляющего.
На Марсе, с его минимальными социальными различиями, это серьёзный недостаток. Таких людей недолюбливают. Да и сам Гризволд был кем угодно, только не любимцем фермы.
Стояло такое оживление, какого ферма Макиана не видела за последние три марсианских года, а марсианский год лишь чуть-чуть короче двух земных.
Когда появился Дэвид, его встретили приветственными возгласами. Лишь небольшая группа в стороне выглядела мрачно и враждебно.
В конторе, должно быть, услышали приветственные возгласы, потому что Макиан, Хеннес, Бенсон и ещё несколько человек тут же вышли оттуда. Дэвид подошёл к основанию высокого крыльца конторы, на верхней ступеньке которого остановился Хеннес. Так они стояли с минуту, глядя друг на друга.
Дэвид сказал:
— Сэр, я пришёл объяснить сегодняшний инцидент.
Голос Хеннеса звучал спокойно:
— Ценный работник фермы Макиана погиб сегодня в результате вашей с ним ссоры. Твоё объяснение изменит этот факт?
— Нет, сэр, но Гризволд был побеждён в честной схватке.
Из толпы послышался голос:
— Гризволд хотел убить парня. Он забыл надеть на оси его машины прутья для балласта — случайно.
Саркастический тон последнего слова был поддержан сдержанным смешком.
Хеннес побледнел. Кулаки его сжались.
— Кто это сказал?
Наступило молчание, потом из глубины толпы послышался негромкий покорный голос:
— Учитель, это не я.
Там стоял Верзила, сцепив перед собой руки и скромно глядя под ноги.
Снова послышался смех, на этот раз громкий.
С видимым усилием подавив ярость, Хеннес обратился к Дэвиду:
— Вы утверждаете, что на вашу жизнь покушались?
— Нет, сэр, — ответил Дэвид. — Я утверждаю, что была честная схватка в присутствии семи свидетелей. Человек, участвующий в честной схватке, должен рассчитывать только на свои силы. Или вы хотите установить новые правила?
Из толпы послышались одобрительные возгласы. Бросив взгляд на фермеров, Хеннес закричал:
— Жаль, что вас втягивают в дело, о котором вы потом пожалеете. Вы заблуждаетесь. А теперь возвращайтесь к работе, вы все, и будьте уверены, что ваше поведение сегодня вечером не будет забыто. Что касается вас, Уильямс, то мы ещё обдумаем ваш случай. Это не конец.
Он с грохотом захлопнул за собой дверь в контору, и после некоторого колебания за ним последовали остальные.
В тот же день Дэвида вызвали к Бенсону. Праздничный вечер, традиционно последовавший за инспекцией, затянулся, и Дэвид был вынужден присутствовать на нём. Не было никакой возможности уйти к себе. Вечер был утомителен, к тому же за сегодняшний день Дэвид очень устал. Поэтому, входя в кабинет Бенсона и наклоняясь, чтобы не задеть притолоку, он громко зевнул.
— Входите, Уильямс, — пригласил Бенсон. На нём был белый халат, и в лаборатории стоял резкий запах животных, доносившийся от клеток с крысами и хомяками. — Вы выглядите сонным. Садитесь.
— Спасибо, — ответил Дэвид. — Я на самом деле хочу спать. Чем могу быть вам полезен?
— Это я могу быть вам полезен, Уильямс. Вы в опасности и можете оказаться в ещё большей опасности. Боюсь, что вы не очень хорошо представляете себе марсианские традиции. У мистера Макиана есть полное право расстрелять вас, так как смерть Гризволда можно считать убийством.
— Без суда?
— Нет, но Хеннес всегда найдёт двенадцать фермеров, которые засвидетельствуют всё, что он захочет.
— Но с остальными фермерами у него будут неприятности, если он попытается это сделать.
— Знаю. Я снова и снова повторял это ему весь сегодняшний вечер. Не думайте, что мы с Хеннесом так уж ладим. Для меня он слишком авторитарен, слишком склонен, кстати, к своим собственным идеям, таким, как его деятельность частного детектива, о которой я вам рассказывал. И мистер Макиан полностью со мной согласен. Он предоставил Хеннесу все прямые контакты с людьми, поэтому и не вмешался, но потом он прямо в лицо сказал Хеннесу, что не будет сидеть и смотреть сложа руки, как ферма погибает из-за какого-нибудь мошенника типа Гризволда. Хеннес пообещал дать вареву остыть, но всё равно он этого не забудет. А Хеннес — не лучший из врагов здесь.
— Придётся рискнуть.
— Мы можем свести риск к минимуму. Я попросил у Макиана вас в качестве помощника. Даже без специальной подготовки вы будете мне очень полезны. Будете кормить животных, чистить клетки. Я научу вас анестезировать и делать инъекции. Немного, но это удержит вас от встреч с Хеннесом и успокоит нравы на ферме. Мы не можем допустить конфликта, понимаете? Согласны?
С полной серьёзностью Дэвид ответил:
— Это будет падением моего социального статуса: меня сегодня признали настоящим фермером.
Учёный нахмурился.
— Оставьте, Уильямс. Не воспринимайте серьёзно, что вам говорят эти глупцы. Фермер! Ха! Просто название для полу-обученного сельскохозяйственного рабочего, больше ничего! Вы будете глупцом, если станете всерьёз воспринимать местные представления о социальном статусе. Послушайте, работая со мной, вы поможете раскрыть загадку пищевых отравлений, поможете отомстить за свою сестру. Ведь вы за этим прилетели на Марс, не так ли?
— Я буду работать с вами, — сказал Дэвид.
— Хорошо. — Круглое лицо Бенсона осветилось довольной улыбкой.
Верзила осторожно заглянул в дверь и прошептал:
— Эй!
Дэвид закрыл дверцу клетки и повернулся к нему.
— Привет, Верзила.
— Бенсон здесь?
— Нет. Уехал на весь день.
— Хорошо. — Верзила вошёл, ступая осторожно, как будто боялся даже случайно коснуться чего-нибудь в лаборатории.
— Не говори мне ничего против Бенсона.
— Кто, я? Он просто… ну, ты понимаешь, — Верзила повертел пальцем у виска. — Какой взрослый мужчина явится на Марс, чтобы возиться со зверьками? И он всегда объясняет нам, как выращивать растения, как убирать урожай. А что он знает? Нельзя этому научиться в земном колледже. Он думает, что он умнее нас, настоящих фермеров. Знаешь, к чему это приводит? Иногда приходится его шлёпнуть. — Он мрачно посмотрел на Дэвида. — А теперь взгляни на себя. В ночной рубашке играешь няньку для крыс. Зачем тебе это?
— Это ненадолго, — сказал Дэвид.
— Ладно, — Верзила на минуту задумался, потом неуклюже протянул руку. — Я пришёл попрощаться.
Дэвид пожал её.
— Попрощаться?
— Мой месяц кончился. Теперь у меня есть документы, и я могу получить работу в другом месте. Я рад, что встретился с тобой, землянин. Может, ещё увидимся. Ты недолго будешь оставаться под началом Хеннеса.
— Подожди. — Дэвид не отпускал руку малыша. — Ты ведь будешь в Винград-сити?
— Пока не найду работу. Да.
— Хорошо. Я уже с неделю жду такого случая. Сам я не могу оставить ферму, Верзила, поэтому не выполнишь ли ты моё поручение?
— Конечно. Ты только скажи.
— Дело немного рискованное. И тебе придётся вернуться.
— Ладно. Хеннеса я не боюсь. К тому же есть возможность встретиться так, что он даже знать не будет. Я на ферме Макиана гораздо дольше его.
Дэвид силой усадил Верзилу. Присел рядом и перешёл на шёпот.
— На углу улиц Канала и Фобоса в Винград-сити есть библиотека. Получи там для меня несколько книгофильмов и проектор. Какие именно книги — вот в этом запечатанном…
Внезапно Верзила схватил Дэвида за руку и задержал её ладонью наружу.
— Эй, что ты делаешь?
— Хочу кое-что увидеть, — от волнения Верзила тяжело дышал. Он загнул рукав, обнажил запястье Дэвида и внимательно изучал его.
Дэвид не пытался освободиться. Он спокойно смотрел на собственное запястье.
— Что за идея?
— Неправильная, — пробормотал Верзила.
— На самом деле? — Дэвид без усилий отнял руку и обнажил второе запястье. — Чего же ты ищешь?
— Ты знаешь, что я ищу. Твоё лицо с самого начала показалось мне знакомым. Но я не мог вспомнить… Кто из землян сможет явиться сюда и за месяц доказать, что он — прирождённый фермер? Мне пришлось ждать, чтобы ты послал меня в библиотеку Совета, чтобы утвердиться в своих догадках.
— Я тебя по-прежнему не понимаю, Верзила.
— А я думаю, понимаешь, Дэвид Старр. — Торжествуя, он чуть не выкрикнул это имя.
Глава 8
НОЧНАЯ ВСТРЕЧА
— Потише, приятель! — остановил его Дэвид.
Верзила перешёл на шёпот:
— Я часто видел тебя на видеолентах. Но почему нет знака на твоём запястье? Я слышал, все члены Совета так помечены.
— Где ты об этом слышал? И кто тебе сказал, что библиотека на углу Канала и Фобоса принадлежит Совету?
Верзила вспыхнул:
— Не смотрите на фермера свысока, мистер. Я жил в городе. Я даже учился в школе.
— Прошу прощения. Я не хотел тебя обидеть. Ты мне поможешь?
— После того, как пойму, что у тебя с запястьем.
— Это нетрудно. Бесцветная татуировка становится видна, только когда я захочу.
— Как это?
— Дело в эмоциях. Каждая человеческая эмоция сопровождается особыми гормональными изменениями, влияющими на состав крови. Под действием одной и только одной эмоции изменения в крови активируют татуировку. Я знаю, какие чувства в себе вызвать, чтобы это произошло.
Внешне Дэвид оставался спокойным, но на его правом запястье появилось и медленно потемнело пятно. На мгновение блеснули золотые точки Большой Медведицы и Ориона и тут же погасли.
Лицо Верзилы сияло, руки его автоматически начали опускаться для щелчка по голенищам — жеста одобрения у фермеров Марса, но Дэвид резко схватил его за руки.
— Эй! — сказал Верзила.
— Пожалуйста, никакого шума. Ты со мной?
— Конечно, я с тобой. Вернусь сегодня вечером с тем, что тебе требуется. А сейчас объясню, где мы встретимся. Снаружи есть место, возле Второй Секции… — И он шёпотом пустился в объяснения.
Дэвид кивнул.
— Хорошо. Вот конверт.
Верзила взял конверт, сунул за голенище и сказал:
— В сапогах самого высокого качества внутри есть специальный карман, мистер Старр. Знаешь об этом?
— Знаю. Не смотрите свысока на фермера и вы. Кстати, Верзила, меня всё ещё зовут Уильямс. И последнее. Только работники библиотеки сумеют безопасно для себя вскрыть конверт. Если попробует кто-то другой, будет ранен.
Верзила выпрямился.
— Никто его не откроет. Есть люди выше меня. Может, ты думаешь, что я этого не понимаю, но я понимаю. Но всё равно, выше или нет, никто, повторяю, никто не отберёт у меня конверт, предварительно не убив меня. Больше того, я и сам не буду его открывать, если ты подумал об этом.
— Подумал, — согласился Дэвид. — Я стараюсь просчитывать все варианты, так что на всякий случай подумал и об этом.
Верзила улыбнулся, шутливо погрозил Дэвиду кулаком и исчез.
Бенсон вернулся перед самым обедом. Выглядел он удручённым, его полные щеки обвисли.
Он равнодушно поздоровался.
Дэвид мыл руки. Это была особая процедура. Сначала руки погружали в специальный раствор, который использовался повсюду на Марсе для этой цели. Затем их сушили под потоком горячего воздуха, а вода между тем утекала обратно в резервуары, где подвергалась очистке, чтобы вернуться в общее пользование. Вода на Марсе дорога, и там, где можно, её использовали неоднократно.
— Вы выглядите уставшим, мистер Бенсон, — обратился к нему Дэвид.
Бенсон тщательно закрыл за собой дверь и выпалил:
— Шесть человек умерли вчера от пищевого отравления. Самое большое число жертв для одного дня. Положение становится всё хуже, а мы ничего не можем сделать. — Он сверкнул стеклами очков в сторону клеток. — Все животные живы, вероятно.
— Все живы, — подтвердил Дэвид.
— Что же мне делать? Ежедневно Макиан спрашивает, не обнаружил ли я что-нибудь. Он думает, что я могу найти ответ утром у себя под подушкой? Я сегодня был в хлебных амбарах, Уильямс. Океан пшеницы, тысячи и тысячи тонн, подготовлены к отправке на Землю. Взял сотни образцов. Пятьдесят зерен здесь, пятьдесят там. Проверил все углы в каждом амбаре. Брал образцы на глубине в двадцать футов. Но что с этого? При нынешних обстоятельствах было бы преувеличением считать, что заражено одно зерно на миллиард. — Он подтолкнул к нему чемоданчик, который принес с собой. — Думаете, среди пятидесяти тысяч зерен здесь есть одно из миллиарда? Один шанс из двадцати тысяч!
Дэвид сказал:
— Мистер Бенсон, вы говорили мне, что на ферме никто не умер, хотя едят здесь почти исключительно марсианскую пищу.
— Да.
— А во всем Марсе?
Бенсон нахмурился.
— Не знаю. Вероятно, смертей не было, иначе я бы знал об этом. Конечно, жизнь не так жестко контролируется на Марсе, как на Земле. Фермер умирает, и его обычно хоронят без всяких формальностей. И вопросов не задают. — Потом резко спросил: — Почему вы спрашиваете?
— Просто думаю, что, если это марсианская бактерия, люди на Марсе могли к ней привыкнуть. У них иммунитет.
— Гм. Неплохая идея для неспециалиста. Очень неплохая. Я подумаю над этим. — Он потянулся и потрепал Дэвида за плечо. — Идите поешьте. Новые образцы начнем испытывать завтра.
Когда Дэвид уходил, Бенсон осторожно доставал из чемоданчика тщательно упакованные и надписанные маленькие пакетики, в одном из которых могло находиться отравленное зернышко. К утру все зерна будут смолоты, каждая порция тщательно разделена на двадцать частей — одни пойдут на корм, другие — для испытаний.
К утру. Дэвид про себя улыбнулся. Где он будет к утру? И будет ли он вообще жив к утру?
Ферма под куполом спала, как гигантское доисторическое чудовище, свернувшееся на поверхности Марса. Бледно мерцала остаточная флюоресценция. В тишине стало слышно обычно незаметное низкое гудение атмосферных аппаратов: они сгущали марсианский воздух до нормального земного уровня и добавляли необходимое количество кислорода, который поступал из обширных теплиц.
Дэвид быстро перебегал от тени до тени с осторожностью, в которой не было особой необходимости. Никто не следил за ним. Когда он достиг выхода номер семнадцать, жесткая поверхность купола, находившаяся невысоко над ним, ещё более снизилась. Он задел её головой.
Дверь открылась, и Дэвид вошёл внутрь. Карманный фонарик осветил стены, контрольное табло. Никаких надписей на приборах не было, но объяснения Верзилы были достаточно точными. Дэвид нажал желтую кнопку. Слабый щелчок, пауза, затем шипение, гораздо более громкое, чем тогда, когда они выбирались на машинах. Поскольку выход был маленьким, рассчитанным на трёх-четырёх человек, а не на несколько машин, воздух уходил гораздо быстрее.
Дэвид надел маску и подождал, пока шипение совсем стихнет. Это означало, что давление снаружи и внутри уравновесилось. Тогда он нажал красную кнопку. Внешняя секция стены поднялась, и он вышел наружу.
На этот раз ему не нужно было управлять машиной. Он лег на жесткий холодный песок и подождал, пока выворачивающее наизнанку ощущение пройдёт и он привыкнет к изменению силы тяжести. На это потребовалось около двух минут. «Ещё несколько переходов, — мрачно подумал Дэвид, — и у меня будет то, что фермеры называют «гравитационными ногами».
Он встал, чтобы осмотреться, и невольно застыл в восхищении.
Впервые видел он ночное небо Марса. Звёзды те же, что видны и с Земли, и очертания созвездий привычны. Расстояние от Земли до Марса, само по себе очень большое, тем не менее совершенно незначительно по сравнению с расстояниями до ближайших звёзд. Но если положение звёзд и не изменилось, сильно изменилась их яркость.
Разреженная атмосфера Марса не затемняла их, они сверкали жестко и алмазно-ярко. Луны, конечно, не было, во всяком случае такой, как на Земле. Дэвид поискал глазами крошечные спутники Марса — Фобос и Деймос, пяти и десяти миль в диаметре — две огромных горы, летящие в космосе. Они настолько малы, что, несмотря на близость к планете, гораздо ближе к Марсу, чем Луна к Земле, — Фобос и Деймос видны не как диски, а как две ярких звезды, незнакомые земному небу. Дэвид думал, что сможет узнать их, но… вероятно, они находились по другую сторону планеты.
Низко на западном горизонте он заметил ещё кое-что и медленно повернулся в ту сторону. Это, безусловно, была самая яркая звезда в ночном небе, её сине-зеленое свечение было невыразимо прекрасно. Рядом находилась ещё одна звёздочка, желтоватая, яркая, но гораздо меньшая, чем её соседка.
Дэвиду не нужны были звёздные карты, чтобы узнать Землю и Луну — двойную «вечернюю звезду» Марса.
Он оторвал взгляд от небосвода, повернулся к невысокому скальному выступу, видневшемуся в свете фонарика, и пошёл. Верзила велел ему использовать этот выступ как ориентир. Марсианская ночь была холодна, и Дэвид с сожалением подумал о тепле марсианского солнца, находившегося в ста тридцати миллионах миль.
Пескоход в слабом свете звёзд был почти невидим, и Дэвид услышал негромкий гул двигателя раньше, чем увидел машину.
Он позвал:
— Верзила! — И тот выглянул.
— Великий космос! — сказал Верзила. — Я уже думал, ты заблудился.
— Почему двигатель работает?
— Легко объяснить. Как иначе мне не замерзнуть? Но его не услышат. Я знаю это место.
— Получил фильмы?
— Получил ли я? Не знаю, что было в твоей записке, но пять-шесть учёных кружили вокруг меня, как спутники. «Мистер Джонс то» и «Мистер Джонс это». Я говорю: «Меня зовут Верзила». Тогда: «Мистер Верзила, пожалуйста». Во всяком случае, — Верзила щелкнул пальцами, — до конца дня мне выдали четыре фильма, два проектора и ящик с меня размером, который я не открывал, а также дали на время (или в подарок, я не знаю) пескоход, чтобы отвезти всё это.
Дэвид улыбнулся, но не ответил. Он вошёл в приятную теплоту машины и быстро, торопясь обогнать приближающееся утро, установил проекторы и вставил в каждый из них фильм. Прямой просмотр, конечно, быстрее и удобнее, но даже в теплой кабине всё-таки нужна маска, и выпуклые прозрачные очки делали прямой просмотр невозможным.
Пескоход медленно двигался в ночи, почти точно повторяя маршрут колонны Гризволда в день проверки.
— Не понимаю, — сказал Верзила. В течение пятнадцати минут он что-то бормотал про себя, и теперь ему пришлось повторить дважды, прежде чем Дэвид ответил.
— Что не понимаешь?
— Что ты делаешь. Куда идешь. Думаю, это моё дело, потому что отныне я с тобой. Я сегодня весь день думаю, Ст… Уильямс. У мистера Макиана всего лишь несколько месяцев назад испортился характер, а до того он был совсем неплохим парнем. Появился Хеннес — новая метла. И Зубрила Бенсон вдруг оказался наверху. До того как всё это началось, он был никем, а сейчас он всегда среди шишек. Ко всему прочему ты здесь, и Совет Науки делает всё, что тебе нужно. Если происходит что-то важное, я должен знать, что именно.
— Ты видел карты, которые я просматривал? — спросил Дэвид.
— Конечно. Просто старые карты Марса. Я видел их миллион раз.
— А ту, с заштрихованными участками? Знаешь, что они означают?
— Любой фермер тебе скажет. Там должны быть внизу пещеры, хотя я в это не верю. Вот мои доказательства. Как, во имя космоса, можно сказать, что лежит под нами в двух милях, если никто никогда там не был? Ответь мне.
Дэвид не стал описывать Верзиле успехи сейсмографии. Он спросил:
— А о марсианах слышал?
Верзила начал:
— Конечно. Что за вопрос… — Тут пескоход накренился и заскрежетал, рука малыша судорожно вцепилась в руль. — Ты имеешь в виду настоящих марсиан? Марсианских марсиан, не людей-марсиан вроде нас? Марсиан, которые жили до прихода людей?
Его тонкий смех резко прозвучал в машине, а когда он восстановил дыхание (смеяться и дышать одновременно в маске невозможно), он сказал:
— Ты говоришь совсем как этот парень Бенсон.
Дэвид оставался серьёзным.
— Почему ты так говоришь?
— Однажды мы поймали его за чтением книги об этом и высмеяли. Летящие астероиды, как он рассердился! Называл нас невежественными крестьянами, я тогда посмотрел в словарь и объяснил парням, что это значит. Поговаривали даже о том, чтобы поколотить его, время от времени его случайно толкали после этого. Больше он никогда при нас не упоминал марсиан. Но, вероятно, решил, что ты как землянин поддашься этому кометному газу.
— Ты уверен, что это кометный газ?
— Конечно. А что ещё? Люди живут на Марсе сотни и сотни лет и никогда не видели ни одного марсианина.
— А если они в пещерах на глубине в две мили?
— И пещер никто не видел. К тому же как марсиане туда попали? Люди были на Марсе повсюду, но нигде нет лестницы, ведущей вниз. Или лифта.
— Ты уверен? А я видел.
— Что? — Верзила оглянулся через плечо. — Разыгрываешь?
— Пусть не лестницу, но вход. И он не менее двух миль глубиной.
— А, ты имеешь в виду трещину. Это ничего не значит. Марс полон трещинами.
— Точно, Верзила. И у меня подробная карта этих трещин. Вот здесь. Есть одно интересное обстоятельство, которое, как мне кажется, никто не заметил. Ни одна трещина не пересекает пещеры.
— А что это доказывает?
— Это имеет смысл. Если ты строишь герметически закрытую пещеру, нужна ли тебе дыра в крыше? Все трещины подходят близко к пещерам, но нигде не касаются их, как будто марсиане использовали их для входа при строительстве.
Пескоход неожиданно остановился. В тусклом свете проекторов, всё ещё установленных для просмотра карт на белом экране, лицо Верзилы показалось хмурым.
Он сказал:
— Минутку. Всего одну минутку. Куда мы едем?
— К трещине, Верзила. Примерно в двух милях от того места, где нашёл свой конец Гризволд. Это ближайший подход к пещерам в районе фермы Макиана.
— А потом?
— Как только доберёмся, я спущусь в неё, — спокойно ответил Дэвид.
Глава 9
В ТРЕЩИНЕ
— Ты серьёзно? — спросил Верзила. — Ты хочешь сказать, — он попытался улыбнуться, — что есть настоящие марсиане?
— А ты поверил бы мне, если бы я сказал, что они есть?
— Нет. — Верзила пришёл к внезапному решению. — Но это неважно. Я сказал, что участвую в этом деле и назад не подамся. — Машина снова двинулась.
Слабый марсианский рассвет осветил окрестности, когда пескоход приблизился к трещине. Последние полчаса он шёл медленно, разрезая тьму мощными фарами, иначе, как сказал Верзила, они могли бы найти трещину слишком быстро.
Дэвид выбрался из машины и приблизился к гигантскому разлому. Внутрь свет ещё не проник. Чёрная зловещая дыра тянулась в обоих направлениях сколько охватывал глаз, а противоположный её край казался неопределённым серым выступом. Дэвид посветил фонариком вниз, луч растаял в пустоте.
Сзади подошёл Верзила.
— Ты уверен, что это то самое место?
Дэвид осмотрелся.
— Согласно картам, тут ближайший подход к пещерам. Далеко ли мы от фермы?
— Около двух миль.
Землянин кивнул. Маловероятно, чтобы тут появились фермеры, особенно сразу после проверки.
Он сказал:
— Не будем откладывать.
— А как ты собираешься это сделать? — спросил Верзила.
Дэвид уже извлек из машины ящик, который Верзила привез из Винград-сити. Он открыл его и достал содержимое.
— Когда-нибудь видел такое? — спросил он.
Верзила покачал головой. Рукой в перчатке потрогал две длинные шелковистые верёвки, соединенные поперечинами на интервалах в двенадцать дюймов.
— Веревочная лестница?
— Да, лестница, но не веревочная. Это кручёный кремний, легче магния, прочнее стали, и температура Марса ему не страшна. Используется обычно на Луне, где сила тяжести низкая, а горы высокие. На Марсе для него особого применения нет — слишком плоская планета. Мне повезло, что Совет нашёл одну штуку в городе.
— А что она тебе даст? — Верзила оглядел лестницу до конца, на котором оказался металлический шар.
— Осторожнее, — предупредил Дэвид. — Если предохранитель отключен, можешь пораниться.
Осторожно взяв шар в свои сильные руки, он что-то повернул в нём. Послышался резкий щелчок, но шар, казалось, не изменился.
— Теперь смотри. — Почва Марса становилась всё тоньше и совсем исчезала у трещины, обнажая голую скальную поверхность. Дэвид наклонился и слегка прижал шар к скале, красноватой в утреннем свете. Отнял руку, и шар остался на месте, держась под непривычным углом.
— Подними.
Верзила взглянул на Дэвида, наклонился и попробовал поднять. Малыш выглядел очень удивленным, потому что шар остался на месте. Верзила дернул его изо всех сил, но тот даже не сдвинулся.
Верзила сердито спросил:
— Что ты сделал?
Дэвид улыбнулся.
— Когда предохранитель спущен, нажатие на шар высвобождает тонкое силовое поле длиной примерно в двенадцать дюймов, которое врезается в скалу. Конец поля расширяется в двух направлениях, образуя букву Т. Концы поля не острые, а тупые, так что, дергая в разные стороны, шар не высвободишь. Единственный способ — оторвать его вместе со скалой.
— А как его снять?
Дэвид пропустил в руках стофутовую лестницу, на противоположном конце оказался такой же шар. Он повернул его, прижал к скале. Шар остался на месте, а примерно через пятнадцать секунд первый шар отпал.
— Если активируешь один шар, второй автоматически отключается. Конечно, если включить предохранитель на активированном шаре, он тоже отключится, — Дэвид наклонился, проделал это и поднял шар, — а другой останется действующим.
Верзила присел на корточки. На месте шаров виднелась узкая щель примерно в четыре дюйма длиной. Он не мог бы вставить в неё даже ноготь.
А Дэвид Старр продолжал:
— У меня воды и пищи на неделю. Боюсь, кислорода хватит не больше чем на два дня. Но ты всё равно жди неделю. Если не вернусь, вот письмо, доставишь его в Совет.
— Подожди. Ты ведь не думаешь всерьез, что эти сказочные марсиане…
— Я думаю о многом. Я могу сорваться. Может подвести лестница. Могу случайно укрепить её в слабом месте. Всё, что угодно. Могу я на тебя рассчитывать?
Верзила выглядел разочарованным.
— Забавно. Я буду сидеть здесь, пока ты рискуешь.
— Так действует команда, Верзила. Тебе это должно быть известно.
Дэвид встал на самый край трещины. Перед ним на горизонте поднималось солнце, небо бледнело и из чёрного становилось фиолетовым. Трещина, однако, оставалась непроглядно тёмной бездной. Разреженная атмосфера Марса плохо рассеивает свет, и, только когда солнце будет в зените, вечная тьма в её глубине просветлеет. Дэвид аккуратно опустил лестницу в трещину. Она не издала ни звука, касаясь стены; шар прочно удерживал её на краю скалы. В ста футах внизу послышалось, как один или два раза ударился второй шар.
Дэвид дернул лестницу, чтобы проверить её прочность, затем, сжимая в руках верхнюю поперечину, опустился в бездну. Конечно, на Марсе человек испытывает чувство полёта, но не в этот раз: собственный вес Дэвида, включая два цилиндра с кислородом, самых больших, какие нашлись на ферме, был почти равен нормальному земному.
Голова его в последний раз показалась над поверхностью.
Верзила смотрел на землянина широко раскрытыми глазами. Дэвид сказал:
— Теперь уходи и уведи с собой машину. Верни в Совет фильмы и проекторы, а здесь оставь скутер.
— Ладно, — кивнул Верзила. На всех пескоходах есть четырёхколесные платформы, которые могут передвигаться со скоростью пятьдесят миль в час. Они неудобны и не дают никакой зашиты ни от холода, ни от песчаных бурь. Но когда пескоход выходит из строя в нескольких милях от дома, скутер лучше, чем ожидание, пока тебя найдут.
Дэвид Старр посмотрел вниз. Было слишком темно, чтобы видеть другой конец лестницы; она просто уходила во тьму. Свободно свесив ноги, он начал спускаться на руках, считая при этом перекладины. При счёте восемьдесят он протянул руку, поймал свободный конец лестницы и принялся раскачивать его, предварительно закрепив ноги и освободив обе руки.
Дотянувшись до второго шара, он прижал его к скале справа от себя. Тот остался на месте. Дэвид дернул, шар не поддался. Дэвид быстро переместился, захватив перекладину, так чтобы лестница снова могла свисать. Одной рукой он придерживал её, ожидая, когда она поддастся. Когда это произошло, он оттолкнул её от себя, чтобы шар сверху не задел его.
Он ощутил слабый маятниковый эффект, когда шар, тридцать секунд назад находившийся наверху, теперь раскачивался в ста восьмидесяти футах под поверхностью Марса. Дэвид посмотрел вверх. Видна была широкая полоса фиолетового неба, но он знал, что по мере его спуска она будет всё более сужаться.
Он спускался всё ниже, через каждые восемьдесят перекладин устанавливая новый якорь, вначале справа от себя, затем слева, но сохраняя общее вертикальное направление.
Прошло шесть часов, Дэвид вновь остановился, немного поел и глотнул воды из фляжки. Всё, что он мог сделать для отдыха, — зацепиться ногами и немного расслабить ноющие руки. Ни разу во время спуска не встретился горизонтальный уступ, достаточно широкий, чтобы на нём можно было перевести дыхание. Такого уступа не было видно на всем пространстве, освещенном фонариком.
Это было плохо и в другом отношении. Дорога наверх, если, конечно, она состоится, будет ещё более сложной. Придётся каждый раз переставлять шар, насколько сможет дотянуться рука. Конечно, это можно сделать, и это делалось не раз — но на Луне. На Марсе тяготение в два раза сильнее, и подъём будет ужасно медленным, гораздо медленнее спуска. Да и спуск, мрачно подумал Дэвид, достаточно медленный. Он спустился не более чем на милю.
Внизу только чернота. Вверху сузившаяся полоска неба посветлела. Дэвид решил подождать. Его часы показывали половину одиннадцатого по земному времени. На Марсе сутки лишь на полчаса больше земных. Скоро солнце будет над головой.
Он трезво размышлял, что карты марсианских пещер могут быть лишь приблизительными, так как составлены на основании отражения волн. При малейшей ошибке он может оказаться в нескольких милях от истинного входа в пещеры.
Да входа и вообще может не быть. Пещеры могут быть природным образованием, как Карлсбадская пещера на Земле. Правда, эти марсианские пещеры достигают сотен миль в длину.
Он почти сонно ждал, вися на лестнице в темноте и тишине. Сгибал и разгибал онемевшие пальцы. Даже в перчатках ощущался марсианский холод. Пока он спускался, движение давало тепло; но стоило на минуту остановиться, и сразу охватывал холод.
Он уже почти решил возобновить спуск, чтобы не замерзнуть, когда заметил тусклые проблески. Подняв голову, он увидел медленно опускающуюся полоску солнечного света. Солнце пришло в трещину. Потребовалось десять минут, чтобы свет достиг максимума и стал виден весь солнечный диск. Хотя и маленькое, на земной взгляд, солнце занимало четверть ширины трещины, Дэвид знал, что светло будет примерно с полчаса, а потом на двадцать четыре часа вернется тьма.
Раскачиваясь, он быстро огляделся. Стена трещины оставалась ровной. Шершавая, но тем не менее вертикальная. Как будто кто-то прорезал поверхность плохо заточенным ножом. Противоположная стена теперь была значительно ближе, чем на поверхности, но Дэвид решил, что понадобится спуститься ещё на милю, прежде чем он сможет её коснуться.
И пока он ещё ничего не обнаружил. Ничего!
И тут Дэвид увидел тёмное пятно. Дыхание со свистом вырывалось из его груди. В одном месте стена была значительно темнее. То ли особый выступ, то ли тень. Дело не в этом. А в том, что пятно прямоугольное. У него совершенно правильные прямые углы. Оно должно быть искусственным. Похоже на дверь в скале.
Дэвид быстро перехватил нижний шар лестницы, потянулся как можно дальше в направлении пятна, закрепил шар, потом второй в том же направлении, но дальше. Умоляя солнце продержаться ещё немного, он торопливо переставлял шары в надежде, что пятно — не оптическая иллюзия.
Солнце пересекло пропасть и коснулось её противоположного края. Желто-красная скала, лицом к которой он висел, снова становилась серой. Но противоположная стена пока была освещена, и он всё ещё мог видеть пятно. Теперь Дэвид находился от него в ста футах, и каждая перестановка шара приближала его ещё на ярд к цели.
Сверкая, солнечный свет скользил по противоположной стене, и, когда Дэвид достиг края пятна, трещина снова погрузилась во тьму. Пальцы в перчатках нащупали края углубления. Гладкая, безупречно ровная линия. Такое может создать только разум.
Солнечный свет ему больше не нужен. Достаточно фонарика. Он просунул лестницу в углубление и услышал, как сухо стукнул внизу шар. Горизонтальная поверхность!
Он быстро спустился и через несколько минут стоял на скале. Впервые более чем за шесть часов у него под ногами была прочная опора. Он подтянул лестницу, поставил шар на предохранитель и дезактивировал его. Оба конца лестницы были свободны.
Обмотав лестницу вокруг пояса и руки, Дэвид осмотрелся. Углубление в скале имело примерно десять футов в высоту и шесть в ширину. Освещая дорогу фонариком, он прошёл вглубь и оказался лицом к лицу с гладкой стеной, преграждавшей путь.
Это тоже работа разума. Иначе не может быть. Но всё же это прочный барьер, и дальше ему не пройти.
Вдруг Дэвид ощутил резкую боль в ушах и повернулся. Возможно только одно объяснение. Каким-то образом давление воздуха увеличивается. Вернувшись назад, Дэвид не удивился, обнаружив, что отверстия, через которое он прошёл, больше нет, его закрыла сплошная скала.
Сердце его забилось быстрее. Очевидно, он в чём-то вроде воздушного шлюза. Осторожно сняв маску, Дэвид вдохнул. Лёгким было приятно, и воздух не обжигал холодом.
Он подошёл к внутренней стене и стал уверенно ждать, пока она не отодвинется.
Она поднялась, но за минуту до этого Дэвид почувствовал, что его руки плотно прижаты к телу, как будто на него набросили и затянули лассо. Он удивленно вскрикнул, но и ноги оказались в таком же положении.
И вот, когда внутренняя стена поднялась и открылся вход в пещеру, Дэвид не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Глава 10
РОЖДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО РЕЙНДЖЕРА
Дэвид ждал. Не было смысла говорить в пустоту. Очевидно, существа, соорудившие пещеру и так сверхъестественно лишившие его способности двигаться, могут не только это.
Он почувствовал, как какая-то сила приподнимает его и медленно наклоняет назад. Его тело повисло параллельно полу. Он попытался выгнуть шею и посмотреть в глубь пещеры, но обнаружил, что сделать это почти невозможно. Правда, голову держали не так прочно, как руки и ноги. Создавалось впечатление, что голову обхватывает прокладка из упругой мягкой резины, которая поддавалась под натиском, но лишь немного.
Его плавно понесло через шлюз. Похоже, что плывешь в теплой ароматной воде, в которой можно дышать. Когда его голова — последняя часть тела — покинула шлюз, Дэвид провалился в глубокий и спокойный сон без сновидений.
Дэвид Старр открыл глаза. Он не мог определить, сколько прошло времени, но, придя в себя, сразу ощутил рядом с собой присутствие чужой жизни. Только вот откуда это чувство?
Было очень жарко, как в летний солнечный день на Земле. Тусклый красноватый свет окружал его, но едва ли был способен помочь что-либо увидеть. Поворачивая голову, Дэвид с трудом разглядел стены небольшой комнаты. Никакого движения, никаких видимых признаков жизни.
И всё-таки где-то рядом действовал мощный разум. Дэвид чувствовал это, но почему, объяснить не мог.
Он осторожно попробовал шевельнуть рукой, она поднялась без всяких помех. Удивленный, он сел и обнаружил, что сидит на мягкой поверхности, которая слегка пружинила под ним, но природу которой он в полутьме не мог определить.
Неожиданно послышался голос:
— Существо осознает своё окружение…
Последняя часть высказывания была мешаниной бессмысленных звуков. Дэвид не смог определить направление, откуда доносился голос. Казалось, он идёт отовсюду и ниоткуда.
Вновь раздался голос, но уже другой. Отличие было слабым. Второй голос был чуть мягче, ровнее, может быть, женственнее:
— Как ты себя чувствуешь, существо?
Дэвид сказал:
— Я вас не вижу.
Снова зазвучал первый голос (Дэвид думал о нём как о мужском):
— Как я и утверждал… — Опять бессмысленные звуки. — Ты не можешь видеть разум.
Последняя фраза была не вполне понятной.
— Я могу видеть материю, — ответил Дэвид, — но тут не хватает света.
Наступило молчание, будто эти двое совещались. Затем какой-то предмет мягко ткнулся в руку Дэвида. Его фонарик.
— Это имеет значение для твоего восприятия света? — спросил мужской голос.
— Конечно. Разве вы не видите?
Он зажег фонарик и осветил всё вокруг. Комната была пуста, и в ней не было ничего живого. Поверхность, на которой он сидел, была прозрачна для света и находилась примерно в четырёх футах над полом.
— Как я и говорила, — возбуждённо зазвенел женский голос. — Зрение существа активируется коротковолновым излучением.
— Но большая часть излучения этого инструмента в инфракрасной области. Я судил по этому, — возразил её собеседник.
Свет становился ярче. Вначале он был оранжевым, затем желтым и наконец стал белым.
Дэвид попросил:
— А нельзя ли сделать прохладнее?
— Температура помещения точно соответствует температуре твоего тела.
— Всё равно я предпочитаю прохладу.
Они сделали так, как он просил. Это уже хорошо. Прохладный ветер освежил Дэвида. Подождав, пока температура упадет до двадцати градусов, он остановил их.
— Я думаю, вы общаетесь прямо с моим мозгом. Почему же я слышу, как вы говорите на интернациональном английском? — мысленно обратился к своим невидимым собеседникам Дэвид.
Мужской голос ответил:
— Последняя фраза бессмысленна, но, конечно, мы общаемся. А как иначе это можно делать?
Дэвид кивнул самому себе. Это объясняло перерывы в восприятии. Когда использовалось слово, которому в сознании Дэвида не было эквивалента, он слышал бессмысленный шум. Умственные помехи.
Женский голос произнес:
— Существуют легенды, что в ранней истории нашей расы наш мозг был закрыт друг для друга и мы общались символами при помощи зрения и слуха. Из твоего вопроса я заключаю, что у вас и сейчас так, существо.
— Это так. Как давно я в пещере? — отозвался Дэвид.
Мужской голос:
— Меньше одного обращения планеты. Приносим извинения за те неудобства, что мы тебе причинили, но для нас это первая возможность исследовать живым одно из новых существ с поверхности. До этого к нам попадало несколько, одно совсем недавно, но все они не функционировали, и количество информации, полученной при их изучении, естественно, было ограниченно.
Дэвид подумал, не Гризволд ли был недавно полученным трупом, и осторожно спросил:
— Вы закончили меня осматривать?
Быстро ответил женский голос:
— Ты боишься вреда. В твоём мозгу есть отчетливая мысль, что мы можем быть настолько жестоки, что вмешаемся в функционирование твоего тела, чтобы получить информацию. Как ужасно!
— Простите, если я вас оскорбил. Просто я незнаком с вашими методами.
Мужской голос:
— Мы знаем всё необходимое. Мы вполне можем молекулу за молекулой рассмотреть твоё тело вообще без физического контакта. Сведений, которые дают наши психомеханизмы, вполне достаточно.
— А что это за психомеханизмы?
— Ты знаком с трансформацией материи в разум?
— Боюсь, что нет.
Последовала пауза, затем мужской голос коротко:
— Я исследовал твой мозг. Боюсь, судя по его строению, ты не в состоянии понять мои объяснения.
Дэвид почувствовал, что его поставили на место.
— Прошу прощения, — извинился он.
Снова мужской голос:
— Я задам тебе несколько вопросов.
— Пожалуйста, сэр.
— Что означает последняя часть твоего утверждения?
— Просто манера почтительного обращения.
Пауза.
— А, понятно. Вы усложняете свои коммуникационные символы в соответствии с лицом, с которым общаетесь. Странный обычай. Но не будем отвлекаться. Скажи мне, существо, ты излучаешь много тепла. Ты болеешь или это нормально?
— Вполне нормально. Мертвые тела, которые вы осматривали, имели температуру окружающей среды. Но пока мы живы, наши тела поддерживают нужную постоянную температуру.
— Значит, вы не аборигены этой планеты?
— Прежде чем ответить, могу ли я узнать, каким будет ваше отношение к такому существу, как я, если оно с другой планеты? — спросил Дэвид.
— Уверяю тебя, что ты и все другие такие же существа для нас совершенно безразличны, за исключением того, что удовлетворяет наше любопытство. Я вижу в твоём мозгу беспокойство по поводу наших мотивов. Ты боишься нашей враждебности? Отбрось эти мысли.
— А разве вы не можете прочесть в моем мозгу ответы на все вопросы? Зачем вы меня расспрашиваете?
— Без прямой коммуникации я могу прочесть только эмоции и общее отношение. Но ты существо и не поймешь. Для точной информации общение должно включать волевое усилие. Если это тебе поможет, я сообщу, что у нас есть все основания считать, что твоя раса происходит с другой планеты. Во-первых, структура ваших тканей совершенно отличается от структуры тел живых существ, когда бы то ни было существовавших на этой планете. Во-вторых, температура твоего тела показывает, что ты с другой, более теплой планеты.
— Вы правы. Мы с Земли.
— Последнего слова я не понимаю.
— С планеты, более близкой к Солнцу.
— Вот как! Очень интересно. Когда наша раса переселилась в пещеры, примерно полмиллиона оборотов планеты назад, мы знали, что на вашей планете есть жизнь, хотя и неразумная, вероятно. Была ли ваша раса тогда разумной?
— Вряд ли, — ответил Дэвид.
Значит, миллион лет прошёл с тех пор, как марсиане оставили поверхность своей планеты.
— Очень интересно. Я должен сообщить эту информацию непосредственно Центральному Разуму. Идём, ****.
— Позволь мне остаться, ****. Я хотела бы ещё пообщаться с этим существом.
— Как хочешь.
Женский голос:
— Расскажи мне о твоём мире.
Дэвид свободно заговорил. Он чувствовал приятную расслабленность. Все подозрения улетучились, и не было никаких причин, почему он не может отвечать правдиво и полностью. Эти существа добры и настроены дружески. Он выплескивал информацию.
А потом она освободила его мозг, и он внезапно замолк. Дэвид гневно спросил:
— Что я говорил?
— Ничего плохого, — заверил его женский голос. — Я просто сняла запреты с твоего мозга. Я не осмелилась бы на это, если бы **** был здесь. Но ты ведь только существо, а мне так интересно. Я знала, что твоя подозрительность слишком глубока, что ты не будешь говорить свободно без маленькой помощи с моей стороны. Твои подозрения совершенно безосновательны. Мы никогда не будем вредить вам, существа, пока вы не вторгнетесь к нам.
— Но ведь мы уже вторглись, — возразил Дэвид. — Мы заняли всю вашу планету.
— Ты по-прежнему испытываешь меня. Ты мне не веришь. Поверхность планеты не представляет для нас никакого интереса. Здесь наш дом. И всё же, — женский голос звучал почти взволнованно, — есть что-то возбуждающее в путешествиях с планеты на планету. Мы хорошо знаем, что существует множество планет и множество звёзд. Подумать, что существа, подобные тебе, наследуют всё это… Это так интересно, что я снова и снова благодарю за то, что мы вовремя почувствовали твои неуклюжие попытки добраться до нас и успели сделать отверстие.
— Что! — Дэвид не мог сдержать возгласа, хотя и знал, что звуковые волны, созданные его голосовыми связками, останутся незамеченными и только его мысли будут услышаны. — Вы сделали отверстие?
— Не я одна. **** помог. Поэтому нам и дали возможность исследовать тебя.
— Но как вы его сделали?
— Ну, пожелали.
— Не понимаю.
— Но это просто. Разве ты не видишь мой разум? Но я забыла. Ты существо. Видишь ли, уходя в пещеры, мы должны были уничтожить многие тысячи кубических миль материи, чтобы расчистить место для себя под поверхностью. Материю некуда было девать, и мы превратили её в энергию и ** ** ** ** **.
— Нет, нет, я не понимаю.
— Не понимаешь? В таком случае я могу только сказать, что энергия запасалась таким образом, что её можно извлечь усилием воли.
— Но если вся материя, из которой состояли огромные пещеры, превратилась в энергию…
— Её будет очень много. Конечно. Мы жили этой энергией полмиллиона вращений, и рассчитано, что её хватит ещё на двадцать миллионов вращений. Ещё до того, как мы ушли в пещеры, мы начали изучать соотношения разума и материи, а с тех пор мы так продвинулись в этой области, что совершенно оставили материю в том, что касается наших личных потребностей. Мы состоим из чистого разума и энергии, мы никогда не умираем и никогда не рождаемся. Я здесь с тобой, но так как ты не видишь разум, ты не можешь меня воспринимать иначе, как только своим мозгом.
— Но такие, как вы, могут овладеть всей Вселенной.
— Ты боишься, что мы будем соперничать во Вселенной с такими материальными существами, как ты сам? Что мы будем сражаться за место под звёздами? Глупо. С нами здесь вся Вселенная. Нам достаточно нас самих.
Дэвид молчал. Потом медленно поднял руки к голове, ощутив нежнейшее прикосновение каких-то невидимых пальцев к своему мозгу. Он впервые почувствовал это и отшатнулся.
— Опять прошу прощения, — зазвучал её голос, — но ты такое интересное существо. Твой мозг сообщил мне, что другие существа в большой опасности и ты подозреваешь, что мы можем быть её причиной. Уверяю тебя, существо, это не так.
Слова прозвучали очень просто, но Дэвид поверил.
Он спросил:
— Ваш товарищ говорил, что химия моих тканей совершенно отлична от любой жизненной формы на Марсе. Как это?
— Твои ткани состоят из азотного материала.
— Это белок! — воскликнул Дэвид.
— Я не понимаю этого слова.
— А из чего состояли ваши ткани?
— Из ** ** ** **. Это совершенно другое дело. В них практически не было азота.
— Значит, вы не можете предложить мне пищи?
— Боюсь, что нет. **** говорит, что любая органическая материя с нашей планеты для тебя ядовита. Мы можем составить только простейшие соединения для твоего пропитания, но сложных азотистых соединений без специального изучения — не можем. Ты голодно, существо? — В голосе её безошибочно распознавалось сочувствие и забота (Дэвид предпочитал об этих мыслях по-прежнему думать как о голосе).
— Пока у меня ещё есть своя пища, — ответил он.
Женский голос сказал:
— Мне неприятно думать о тебе просто как о существе. Как тебя зовут? — Потом, будто боясь, что он не понял, добавила: — Как другие существа опознают тебя?
— Меня зовут Дэвид Старр.
— Не понимаю. Есть отдаленная связь со Вселенной и звёздами. Тебя зовут так, потому что ты путешествуешь в космосе?
— Нет. Многие путешествуют в космосе. «Старр» не имеет особого значения. Это просто звук, чтобы отличить меня от других, как ваши имена тоже просто звуки. По крайней мере мне они такими кажутся, я их не понимаю.
— Жаль. У тебя должно быть имя, которое означало бы, что ты путешествуешь в космосе, летишь от одного мира к другому. Если бы я была таким существом, как ты, мне хотелось бы, чтобы меня называли Космическим Рейнджером.
Так из уст живого существа, которого он не видел и никогда не смог бы увидеть, Дэвид Старр впервые услышал имя, под которым буквально вся Галактика будет его знать.
Глава 11
БУРЯ
Более глубокий и размеренный голос сформировался в мозгу Дэвида. Он серьёзно произнес:
— Приветствую тебя, существо. **** дала тебе хорошее имя.
— Уступаю тебе место, ****, — попрощался женский голос.
И по тому, что мягкое прикосновение к его мозгу прекратилось, Дэвид безошибочно понял, что обладательница этого голоса больше не находится с ним в мысленном контакте. Он осторожно повернулся, всё ещё руководствуясь иллюзией, что у этих голосов есть направление, и обнаружил, что его земное сознание по-прежнему пытается в привычных образах представить то, с чем никогда раньше не сталкивалось. Голос, конечно, не имел направления. Он находился внутри его мозга.
Существо с глубоким голосом оценило его затруднения. Оно сказало:
— Ты встревожен тем, что твои чувства не дают тебе возможности воспринимать меня, а я не хочу, чтобы ты был обеспокоен. Я могу принять на себя некоторую физическую внешность, но это будет лишь плохой и неадекватный двойник. Тебе это поможет?
Тут же Дэвид Старр увидел в воздухе перед собой свечение. Полоса мягкого сине-зеленого света примерно в семь футов высотой и в фут шириной.
— Вполне достаточно, — удовлетворенно ответил он.
Глубокий голос продолжил:
— Хорошо! А теперь позволь объяснить, кто я такой. Я администратор ***** ***. Ко мне пришло сообщение о появлении живого образца новой поверхностной жизни. Я осмотрю твой мозг.
Название должности нового голоса для Дэвида было набором бессмысленных звуков, но он безошибочно уловил чувство достоинства и ответственности, сопровождавшие эту должность. Тем не менее он твёрдо сказал:
— Я предпочел бы, чтобы вы оставались вне моего мозга.
— Твоя скромность вполне понятна и достойна похвалы, — сказал глубокий голос. — Объясню, что я буду придерживаться только самой внешней поверхности. Я буду добросовестно избегать вторжения в твой внутренний мир.
Дэвид бесполезно напряг мышцы. Долгие минуты он ничего не ощущал, даже иллюзорного лёгкого прикосновения к мозгу, которое появлялось, когда в его мозг проникала обладательница женского голоса, на этот раз не было — им занимался более опытный исследователь. И всё же Дэвид знал, не понимая, как это можно знать, что участки его мозга один за другим осторожно раскрываются, потом закрываются, без боли и беспокойства.
Глубокий голос сказал:
— Благодарю тебя. Вскоре тебя отпустят и вернут на поверхность.
Дэвид вызывающе спросил:
— Что вы нашли в моем мозгу?
— Достаточно, чтобы пожалеть вас, существа. Мы, представители Внутренней Жизни, были когда-то подобны вам, поэтому можем понять вас. Вы лишены равновесия со Вселенной. У вас ищущий мозг, который стремится понять то, что смутно чувствует, но он не обладает истинными, более глубокими чувствами, которые одни могут открыть вам реальность. В тщетных попытках отыскать в потемках истину вы устремляетесь к краям Галактики. Я уже сказал, **** назвала тебя правильно. Ваша раса — раса космических рейнджеров.
Но какая в этом польза? Истинная победа внутри. Чтобы понять материальную вселенную, вы сначала должны развестись с ней. Мы отвернулись от звёзд, обратившись внутрь самих себя. Мы отступили в пещеры своего единственного мира и оставили свои тела. У нас больше нет смерти, за исключением случаев, когда мозг отдыхает; нет рождения, кроме случаев, когда ушедший отдыхать мозг должен быть заменён.
Дэвид возразил:
— Но вам не хватает самих себя для полноты ощущений. Некоторые из вас испытывают любопытство. Существо, говорившее со мною, хотело знать о Земле.
— **** недавно родилась. Её дни едва равны ста обращениям этой планеты вокруг Солнца. Её контроль над мыслями несовершенен. Мы, достигшие зрелости, можем легко постигнуть всё разнообразие путей, по которым могла бы развиваться ваша земная история. Из них лишь немногие доступны для вашего понимания, и не хватило бы бесконечности, чтобы исчерпать разумом все мыслимые модели возможного развития одного вашего мира, и каждая была бы не менее захватывающа, чем та, что соответствует реальности. Со временем **** узнает, что это так.
— Но вы сами побеспокоились осмотреть мой мозг.
— Чтобы удостовериться в том, что уже подозревал. Ваша раса имеет возможности для роста. При благоприятном стечении обстоятельств через миллион обращений вашей планеты вокруг Солнца она может достигнуть уровня Внутренней Жизни. Это было бы хорошо. У моей расы появится в вечности товарищ, и это товарищество будет взаимовыгодно.
— Вы говорите, мы можем достигнуть этого, — взволнованно спросил Дэвид.
— У вашей расы есть тенденции, которых никогда не было у нашей. Из твоего мозга я ясно вижу, что есть тенденции, направленные против блага всех.
— Если вы говорите о таких вещах, как преступление и война, то из моего мозга вы могли увидеть, что большинство человечества борется с антисоциальными тенденциями и что хотя прогресс медленный, но несомненный.
— Я вижу это. Я вижу больше. Я вижу, что ты сам хочешь блага для всех. У тебя здоровый сильный мозг, и его сущность я не прочь бы видеть среди нас. Я хотел бы помочь тебе в твоих стараниях.
— Как? — спросил Дэвид.
— Твой мозг опять полон подозрений. Расслабься. Моя помощь не подразумевает вмешательство в вашу жизнь, уверяю тебя. Такое вмешательство неприемлемо для вас и недостойно меня. Позволь мне вначале указать на два наиболее значительных ваших несоответствия.
Во-первых, поскольку вы состоите из нестабильных ингредиентов, вы краткоживущие существа. Ты сам распадешься и перестанешь существовать через несколько вращений вашей планеты. А если ты испытаешь хоть сколько-нибудь значительное давление — одно из тысячи возможных, — ты умрешь ещё раньше. Во-вторых, ты считаешь, что должен работать в тайне, однако недавно подобный тебе отгадал твою истинную сущность, хотя ты скрывал её. Правильно ли я говорю?
Дэвид ответил:
— Правильно. Но что с этим можно сделать?
— Это уже сделано и находится у тебя в руке, — послышалось в ответ.
Пальцы Дэвида ощутили что-то мягкое. Он едва не уронил его. Почти невесомый кусок… чего?
Глубокий голос спокойно предупредил его невысказанную мысль:
— Это не кисея, не волокно, не пластмасса, не металл. Это не материя вообще в том смысле, в каком вы понимаете материю. Это *****. Надень её на глаза.
Дэвид послушался, и ткань отделилась от его руки, будто обладала собственной примитивной жизнью, мягко и тепло обернулась вокруг каждой выпуклости его лба, глаз, носа; но она не мешала ему дышать и смотреть.
— А что это даёт? — спросил он.
Ещё до того, как прозвучали его слова, перед ним возникло зеркало — так же тихо и быстро, как возникает мысль. В нём он мог смутно разглядеть себя. Его фермерский костюм от сапог до широкого воротника казался слегка не в фокусе, за постоянно колеблющейся пеленой, как будто тонкий дым висел в воздухе и не исчезал. От верхней губы и выше всё терялось в сиянии, которое не ослепляло, но сквозь которое ничего не было видно. Тут же зеркало исчезло, вернувшись в обширный склад энергии, откуда было извлечено.
Дэвид удивленно спросил:
— Таким меня увидят другие?
— Да, если у них такой же сенсорный аппарат, как у тебя.
— Но я прекрасно вижу. Значит, лучи света проходят сквозь экран. Почему же тогда они не выходят, открывая моё лицо?
— Они выходят, как ты говоришь, но при этом меняются и позволяют видеть только то, что увидел ты. Чтобы объяснить полнее, мне нужны концепции, недоступные твоему восприятию.
— А остальное? — Дэвид медленно провёл руками над окружившей его дымкой. Он ничего не почувствовал.
Глубокий голос снова ответил на его невысказанную мысль:
— Ты ничего не чувствуешь. Но то, что кажется тебе дымкой, на самом деле барьер, который ослабляет коротковолновое излучение и непроницаем для любых материальных объектов размера молекулы и больше.
— Вы хотите сказать, что это персональное защитное поле?
— В грубом приближении да.
Дэвид воскликнул:
— Великая Галактика, это невозможно! Определённо доказано, что ни один механизм, который под силу унести человеку, не может создать маленькое силовое поле, способное отразить излучение и материальные объекты.
— Так и есть в той науке, которую вы, существа, способны развивать. Но маска, которая на тебе, не источник энергии. Наоборот, это запас энергии, который пополняется, например, от нескольких секунд пребывания на солнце, таком, как на нашей планете. Далее, это механизм, освобождающий энергию по мысленному приказу. Поскольку твой мозг не способен контролировать этот механизм, он сам улавливает сигналы твоего мозга и действует автоматически. Теперь сними маску.
Дэвид поднес руку к глазам, и опять, отвечая на его мысленный приказ, маска снялась и в руках его оказался кусочек кисеи.
Глубокий голос послышался в последний раз:
— А теперь ты должен оставить нас, Космический Рейнджер.
И мягко, как только можно себе представить, сознание покинуло Дэвида Старра.
Никакого переходного периода не было и при возвращении сознания. Оно вернулось сразу и полностью. Не было даже мгновенной неуверенности в местонахождении, никакого «Где это я?».
Дэвид точно знал, что его ноги стоят на поверхности Марса; что на нём опять обычная маска и он дышит через нее; что он точно на том месте, с которого начал спуск в трещину; что слева от него, полускрытый скалами, находится скутер, оставленный Верзилой.
Он даже знал, каким образом его вернули на поверхность.
Но это была не память — информация, сознательно помещенная в мозг, вероятно, чтобы ещё раз показать удивительные возможности переходов материи-энергии. Марсиане проделали для него туннель. Подняли его вопреки тяготению и пронесли с почти реактивной скоростью, превращая сплошную скалу перед ним в энергию и возвращая энергию в состояние материи за ним, пока он снова не встал на поверхность.
А ещё в его мозгу звучали слова, которых он реально никогда не слышал. Они звучали женским голосом, знакомым по пещере, их значение было просто: «Не бойся, Космический Рейнджер!»
Дэвид сделал шаг и понял, что теплого, земноподобного окружения, которое поддерживали для него марсиане, больше не существует. Холод по контрасту ощущался ещё болезненнее, а ветер был сильнее, чем когда-либо. Солнце стояло низко на востоке, как и тогда, когда он начинал спуск. Но сколько рассветов минуло с тех пор? Он не знал, сколько времени прошло, пока он был без сознания, но чувствовал, что его спуск происходил не более двух суток назад.
Небо изменилось, казалось, оно стало более голубым, а солнце покраснело. На мгновение задумавшись, Дэвид нахмурился, потом пожал плечами. Просто он привыкает к марсианскому ландшафту, вот и всё. Окружающее становится более знакомым, и по привычке он всё подгоняет под земные образцы.
Но пора возвращаться в купол. Скутер, конечно, не так быстр и удобен, как пескоход. Чем меньше времени он в нём проведет, тем лучше.
Дэвид осмотрел скальные образования и почувствовал себя старым жителем Марса. У местных фермеров в песках есть множество ориентиров. Надо двигаться к скале, похожей на «арбуз со шляпой», продолжать путь в этом направлении, пока не поравняешься с «космическим кораблем с двумя сбитыми двигателями», пройти между ним и скалой, «похожей на ящик без крышки»… Грубый метод, но он не требует специальных приборов, а только хорошей памяти и живого воображения, чего у фермеров всегда было в изобилии.
Дэвид двигался по курсу, который рекомендовал ему Верзила: так он скорее вернется к куполу и не заблудится среди бесконечных скал. Скутер продвигался вперёд, подпрыгивая на неровностях и поднимая тучи пыли. Ноги Дэвида прочно стояли в специальных углублениях, а руки крепко сжимали руль. Он не уменьшал скорость. Даже если скутер перевернется, вряд ли он сильно пострадает при низком марсианском тяготении.
Но было обстоятельство, которое заставило его остановиться: странный привкус во рту и жжение на подбородке и вдоль позвоночника. На зубах поскрипывало. Дэвид с отвращением посмотрел на хвост пыли, который тянулся за ним, как ракетный выхлоп. Странно, что пыль обогнала его, окружила, проникла вперёд и попала в рот.
Впереди и вокруг! Великая Галактика! От внезапной догадки что-то холодное сдавило его сердце и горло.
Он замедлил скорость скутера и направился к ближайшему скальному выступу, где машина не могла поднимать пыль. Тут он остановился и подождал, пока воздух прочистится. Но он не прочистился. Ощупав языком полость рта, Дэвид ужаснулся, обнаружив там огромные пыльные наросты. Он взглянул на покрасневшее солнце и голубое небо с новым пониманием. Увеличение количества пыли в воздухе вызвало рассеивание света, отняв синеву у солнца и добавив её к цвету неба. Губы Дэвида пересохли, тело всё сильнее зудело.
Сомнений больше не было. С мрачной решимостью он забрался в скутер и устремился на максимальной скорости по скалам, гравию и пыли.
Пыль!
Пыль!
Даже на Земле были хорошо известны пылевые бури Марса, которые только по названию напоминали песчаные бури земных пустынь. Это были самые смертоносные бури во всей Солнечной системе. Ни один человек в истории Марса, застигнутый, как Дэвид Старр, в милях от дома без защиты пес-кохода, ещё не перенес пылевую бурю. Люди в страшных муках умирали в пятидесяти футах от купола, а находившиеся внутри не осмеливались на вылазку без пескохода.
Дэвид Старр знал, что лишь минуты отделяют его от мучительной смерти. Пыль уже безжалостно набивалась в щели его маски. Он чувствовал, как от неё слезятся и слепнут его глаза.
Глава 12
НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Природа марсианских песчаных бурь известна недостаточно хорошо. Подобно Луне, поверхность Марса в основном покрыта тонкой пылью. Но, в отличие от Луны, Марс обладает атмосферой, способной приводить эту пыль в движение. Обычно это не причиняет неудобств. Марсианская атмосфера разрежена, и в ней не бывает сильных ветров.
Но иногда, по непонятным причинам, хотя возможна связь с электронной бомбардировкой из космоса, пыль становится электрически заряженной, и каждая пылинка начинает отталкиваться от соседних. Даже без ветра пылинки стремятся взлететь. Каждый шаг поднимает облако пыли, которая не оседает, но остаётся взвешенной в воздухе.
Когда к этому добавляется ветер, есть все условия для настоящей пыльной бури. Пыль никогда не бывает такой густой, чтобы препятствовать зрению; опасность не в этом. Убивает всепроницаемость пыли.
Частицы пыли так малы, что проникают повсюду. Одежда их не задерживает; укрытие в скалах от них не спасает; даже маска, плотно прилегающая к лицу, не может помешать отдельным пылинкам проникнуть внутрь.
В разгар бури достаточно двух минут, чтобы появился невыносимый зуд, пять минут буквально ослепляют человека, а пятнадцать убивают его. Даже небольшая буря, которую человек просто не заметит, способна вызвать покраснение кожи, которое называется «пылевым ожогом».
Дэвид Старр знал всё это и многое другое. Он чувствовал, что его кожа уже начала краснеть. Он непрерывно кашлял, но это не помогало ему прочистить горло. Он пытался держать рот плотно закрытым, выдыхая через самое маленькое отверстие, какое только мог создать, но пыль продолжала ползти внутрь, минуя губы. Скутер дергался, пыль подобралась и к его двигателю.
Глаза Дэвида вспухли и почти не открывались. Слезы собрались внутри маски и затуманили очки, впрочем, он всё равно не мог ничего видеть.
Ничто не могло остановить крошечные пылинки, кроме герметического купола или корпуса пескохода. Ничто.
Ничто?
Испытывая сводящий с ума зуд, разрываясь от кашля, Дэвид напряженно думал о марсианах. Знали ли они о приближающейся буре? Могли ли знать? Отправили бы они его на поверхность, если бы знали? Из его мозга они должны были извлечь информацию, что для возвращения назад у него есть только скутер. Они могли бы с лёгкостью перенести его к куполу, даже внутрь купола.
Они знали, что приближается буря. Дэвид вспомнил, как марсианин с глубоким голосом неожиданно принял решение вернуть его на поверхность, как будто торопился, чтобы буря застала Дэвида.
И всё же последние слова… Слова, произнесенные женским голосом, которые он не слышал и которые, следовательно, специально были закреплены в его сознании, пока его выносило сквозь скалу на поверхность, — эти слова были: «Не бойся, Космический Рейнджер».
Только подумав об этом, Дэвид уже знал ответ. Одной рукой роясь в кармане, другой он ухватился за маску. Как только он приподнял её, частично защищенные до тех пор нос и глаза получили свежую порцию обжигающей и раздражающей пыли.
Появилось непреодолимое желание чихнуть, но Дэвид подавил его. Невольный вдох наполнит лёгкие пылью. Само по себе это может быть смертельным.
Он достал из кармана полоску кисеи и, позволив ей обернуться вокруг его глаз и носа, снова надел маску.
Только теперь он чихнул. Это означало, что он вдохнул огромное количество бесполезных газов марсианской атмосферы, но пыль с ними не прошла. Часто и глубоко вдыхая, Дэвид старался захватить как можно больше кислорода, при выдохе выбрасывая изо рта пыль; время от времени он сознательно вдыхал через рот, чтобы предотвратить кислородное отравление.
Постепенно слезы вымыли пыль из глаз, новая не поступала, и Дэвид обнаружил, что может смотреть. Его тело было затянуто дымкой силового поля, и он знал, что верхняя часть его головы невидима в сиянии.
Молекулы воздуха свободно проходят через щит, но пылинки, как бы ни были они малы, всё же для щита велики и задерживаются им. Дэвид видел этот процесс невооруженным глазом. Пылинка, достигнув щита, останавливалась, а энергия её движения конвертировалась в свет, поэтому в каждом месте такого соприкосновения возникала крошечная вспышка. Всё тело Дэвида было окружено фейерверком таких вспышек, тем более ярких, что пробивавшееся сквозь пыль красное и дымное солнце Марса оставляло поверхность в полутьме.
Дэвид хлопками очистил от пыли одежду. Пыль поднималась клубами; она была слишком тонка, чтобы её можно было увидеть, хотя щит не препятствовал этому. Пыль свободно уходила, а вернуться не могла. Постепенно Дэвид почти очистился. Он с сомнением взглянул на скутер и попытался завести его. В ответ послышался лишь краткий скрежещущий звук, затем тишина. Этого и следовало ожидать. В отличие от пескоходов, у скутеров двигатели не закрыты герметически.
Придётся идти. Но эта мысль его уже не пугала. Купол фермы всего лишь в двух милях, а кислорода у него в изобилии. Об этом позаботились марсиане перед его возвращением.
Ему показалось, что теперь он понимает их. Они знали, что приближается буря. Может, даже сами её вызвали. Было бы странно, если бы они, хорошо изучившие марсианскую атмосферу, обладающие столь развитой наукой, не постигли бы причин и механизмов пыльных бурь. Но, посылая его в самый центр бури, они снабдили его совершеннейшей защитой. Его не предупредили о предстоящем испытании и не рассказали, как пользоваться вуалью. Если он заслуживает их дара — силового защитного экрана, он сам позаботится о себе. Если же нет, он недостоин подарка.
Дэвид мрачно усмехнулся, морщась при этом от боли. Боль вызывал каждый шаг, когда одежда соприкасалась с воспаленными участками кожи. Марсиане холодно и без всяких эмоций рисковали его жизнью, но он почти согласился с ними. Он сообразил достаточно быстро, чтобы спастись, но он этим нисколько не гордился. Следовало бы вспомнить об их подарке гораздо раньше.
Силовое поле, окружавшее его, делало передвижение более лёгким. Он заметил, что поле покрывает и подошвы его сапог, так что они не соприкасались с марсианской поверхностью, а останавливались примерно в четверти дюйма над нею. Отталкивание от поверхности становилось эластичным, как будто он передвигался на множестве мелких стальных пружин. Это вместе с низкой силой тяжести позволяло ему преодолевать расстояние, отделявшее его от купола, гигантскими прыжками.
Он торопился. Больше всего в эти минуты он мечтал о горячей ванне.
К тому времени, как Дэвид добрался до входа в купол, буря уже кончалась и огненные вспышки, окружавшие его, превратились в отдельные искорки. Теперь можно было без опасения снять маску с глаз.
Когда Дэвида впустили, вначале все смотрели на него молча, затем послышались возгласы: все находившиеся на дежурстве фермеры окружили его.
— Летящий Юпитер, это Уильямс!
— Где ты был, парень?
— Что случилось?
Смешанные возгласы и одновременные вопросы заглушил резкий крик:
— Как ты прошёл сквозь пыльную бурю?
Вопрос услышали все, наступило молчание.
Кто-то сказал:
— Посмотрите на его лицо. Оно похоже на очищенный помидор.
Конечно, это было преувеличением, но с достаточной долей правды, чтобы произвести впечатление на всех собравшихся. Дэвиду расстегнули воротник, плотно обхватывавший шею, чтобы предохранить от марсианского холода. Его усадили и вызвали Хеннеса.
Хеннес явился через десять минут, он соскочил со скутера и подошёл с видом одновременно раздраженным и сердитым. Никакого облегчения при виде благополучно вернувшегося работника у него не было.
Он выпалил:
— Что всё это значит, Уильямс?
Дэвид поднял глаза и холодно ответил:
— Я заблудился.
— Ты так это называешь? Исчез на два дня и просто заблудился? Как тебе это удалось?
— Я подумал, что немного пройдусь, но забрел слишком далеко.
— Ты решил глотнуть воздуха и две ночи бродил по Марсу? И хочешь, чтобы я этому поверил?
— Разве хоть один пескоход пропал?
Хеннес ещё больше покраснел, и один из фермеров торопливо вмешался:
— Он не в себе, мистер Хеннес. Он был в пыльной буре.
Хеннес ответил:
— Не будь дураком. Если бы он был в пыльной буре, то не сидел бы здесь живым.
— Я знаю, — ответил фермер, — но посмотрите на него.
Хеннес посмотрел внимательней. Краснота обожженной кожи была так очевидна, что он не мог с этим не считаться.
— Ты был в буре?
— Боюсь, что так.
— Как тебе удалось выжить?
— Мне встретился человек, — ответил Дэвид. — Человек в дыме и свете. Пыль ему не мешала. Он называл себя Космическим Рейнджером.
Все придвинулись ещё ближе. Хеннес яростно обернулся.
— Во имя космоса, убирайтесь отсюда! — взревел он. — За работу! А ты, Джоннитель, выведи пескоход.
Прошёл почти час, прежде чем Дэвид добрался до горячей ванны. Хеннес никому не позволял приблизиться к нему. Снова и снова, шагая по своему кабинету, он неожиданно останавливался, яростно поворачивался и спрашивал:
— Что это за Космический Рейнджер? Где ты с ним встретился? Что он говорил? Что он делал? Что это за дым и свет?
На всё это Дэвид лишь слегка качал головой и отвечал:
— Я решил пройтись. Заблудился. Человек, называющий себя Космическим Рейнджером, привел меня назад.
Наконец Хеннес сдался. Появился врач. Дэвид получил свою горячую ванну. Тело его смазали кремами, сделали инъекцию нужных гормонов. Он не мог избежать и укола сопорита. И уснул, прежде чем извлекли иглу.
Дэвид проснулся в лазарете на чистых прохладных простынях. Покраснение кожи заметно сошло. Он знал, что от него не отвяжутся, но теперь ждать оставалось уже недолго.
Он был уверен, что знает тайну пищевых отравлений, знает почти всё. Недоставало только одного-двух звеньев и, конечно, улик.
Дэвид услышал у изголовья лёгкие шаги и еле заметно напрягся. Неужели всё опять начинается? Так быстро? Но это оказался всего лишь Бенсон. С поджатыми пухлыми губами, с всклокоченными волосами, с обеспокоенным лицом он стоял над кроватью, держа в руках что-то похожее на старомодное ружье.
— Уильямс, вы не спите?
— Вы же видите, что нет.
Бенсон провёл ладонью по вспотевшему лбу.
— Никто не знает, что я здесь. Мне не следует тут быть.
— Почему?
— Хеннес убеждён, что вы связаны с пищевыми отравлениями. Он кричит об этом Макиану и мне. Утверждает, что вы были где-то и ничего не объясняете, выдумывая нелепые истории. Что бы я ни сделал, боюсь, вы в опасности.
— Что бы вы ни сделали? Вы не верите в мою виновность?
Бенсон наклонился, и Дэвид ощутил на своём лице его влажное дыхание:
— Не верю. Потому что считаю ваш рассказ правдой. Поэтому я и пришёл сюда. Я должен расспросить вас об этом покрытом светом и дымом существе. Вы уверены, что это была не галлюцинация, Уильямс?
— Я видел его.
— А откуда вы знаете, что он человек? Он говорил по-английски?
— Он вообще не говорил, а по фигуре похож на человека. Вы думаете, это марсианин?
— Ах, — губы Бенсона дернулись в судорожной усмешке, — вы помните мою теорию. Да, я считаю, это был марсианин. Думайте, думайте! Они выходят на поверхность, и любая информация теперь чрезвычайно ценна. У нас так мало времени.
— Почему? — Дэвид приподнялся на локте.
— Конечно, вы не знаете, что произошло после вашего ухода, но, откровенно говоря, Уильямс, мы все в отчаянии. — Он протянул похожий на ружье предмет и спросил: — Вы знаете, что это такое?
— Я видел его у вас раньше.
— Это мой гарпун для забора образцов, моё собственное изобретение. Я беру его с собой, отправляясь в продовольственные склады города. Он выбрасывает маленькую пустую пульку на проволоке в, скажем, амбар с зерном. Через некоторое время после выстрела в передней части пульки открывается отверстие и полость заполняется зерном. После этого отверстие закрывается. Я вытаскиваю пульку и забираю образец. Изменяя время открывания отверстия, я могу брать образцы с любой глубины.
Дэвид сказал:
— Очень изобретательно, но зачем вы его принесли с собой?
— Потому что думаю, не выбросить ли его в мусор, после того как уйду от вас. Это моё единственное оружие против отравителей. И ничего хорошего оно мне не дало и определённо не даст в будущем.
— Что случилось? — Дэвид схватил Бенсона за плечо и крепко сжал. — Расскажите.
Бенсон поморщился от боли и начал говорить:
— Все члены фермерских синдикатов получили новые письма. Несомненно, что письма и отравления исходят от одних и тех же людей, вернее, существ. В письмах это признается.
— И что же в этих письмах?
Бенсон пожал плечами.
— Зачем вам подробности? Главное: от нас требуется полная капитуляция, иначе пищевые отравления возрастут тысячекратно. Я верю, что это может быть и будет сделано. В таком случае Землю, и Марс, и вообще всю Систему охватит паника. — Он встал. — Я говорил Хеннесу и Макиану, что верю вам, что Космический Рейнджер — ключ ко всему делу, но они не слушают меня. Хеннес, мне кажется, даже подозревает, что я с вами.
Казалось, что он полностью поглощен своими несчастьями.
Дэвид спросил:
— Сколько у нас времени, Бенсон?
— Два дня. Нет, это было вчера. У нас тридцать шесть часов.
Тридцать шесть часов!
Придётся действовать быстро. Очень быстро. Но, может, он успеет. Сам не зная того, Бенсон дал Дэвиду недостающее звено для разгадки.
Глава 13
В ДЕЛО ВСТУПАЕТ СОВЕТ
Бенсон ушёл минут через десять. Ничто из сказанного Дэвидом относительно его теорий о марсианах и отравлениях не удовлетворило агронома, и его обеспокоенность росла.
Внезапно он засобирался:
— Не хочу, чтобы меня застал Хеннес. Мы… немного повздорили.
— А как же Макиан? Он ведь на нашей стороне?
— Не знаю. Через два дня он будет разорен. Думаю, что он не сможет противостоять Хеннесу. Мне лучше уйти. Если придумаете что-нибудь — что угодно, — дайте мне знать.
Он протянул руку. Дэвид быстро пожал её, и Бенсон исчез.
Дэвид сел в постели. С самого утра его тоже не отпускало, возрастая с каждой минутой, чувство острого беспокойства. Одежда его была брошена на стул в другом конце комнаты. Сапоги стояли у кровати. Он не решился осматривать их в присутствии Бенсона, не осмелился даже взглянуть на них.
«Может быть, — без всякой надежды подумал он, — их не стали обыскивать». Сапоги фермера священны. Украсть у фермера сапоги, как и украсть пескоход в пустыне, — непростительное преступление. Когда фермер умирал, сапоги погребали вместе с ним, и их содержимое не трогали.
Дэвид порылся во внутренних карманах каждого сапога по очереди, но пальцы его встретили пустоту. В одном из карманов перед уходом был носовой платок, в другом — несколько мелких монет; они исчезли. Несомненно, его одежду тоже обыскали; этого он ожидал. Но, может, шов на сапогах не стали проверять? С замиранием сердца Дэвид сунул пальцы в открывшуюся щель одного из сапог. Мягкая кожа достигла подмышки и смялась, когда Дэвид просунул руку до самого носка. Какое огромное облегчение испытал он, когда ощутил мягкое прикосновение кисеи марсианской маски!
Вчера он не предвидел укол сопорита, но на всякий случай перед ванной спрятал маску туда. Редкая удача, что его сапоги не осмотрели более тщательно. Придётся впоследствии быть осторожнее.
Он сунул маску в боковой карман сапога и застегнул его. Сапоги были начищены во время его сна, это хорошо само по себе и показывает то почти инстинктивное уважение, которое оказывают фермеры сапогам, кому бы они ни принадлежали.
Его одежда также была вычищена. Её блестящий пластик блестел, как новый. Карманы, конечно, были пусты, но всё их содержимое было свалено беспорядочной кучкой на стуле под одеждой. Дэвид разобрал эту кучку. Кажется, ничего не пропало. Даже носовой платок и монеты из карманов сапог здесь. Он надел белье, носки, комбинезон и наконец сапоги. Он уже застегивал пояс, когда в комнату вошёл рыжебородый фермер.
Дэвид поднял голову и холодно спросил:
— Что тебе нужно, Зукис?
— Куда это ты собрался, землянин? — бросил рыжебородый.
Его маленькие глаза злобно горели, и Дэвиду показалось, что выражение лица фермера было таким же, как в день их первой встречи. Дэвид вспомнил пескоход Хеннеса возле бюро, вспомнил, как садился в него, вспомнил бородатое сердитое лицо и оружие, выстрелившее прежде, чем он смог защититься.
— Туда, куда не требуется твоё разрешение, — ответил Дэвид.
— Неужели? Ошибаешься, мистер, придётся тебе остаться здесь. Приказ Хеннеса. — Зукис своим телом преграждал выход. Два бластера нарочито заметно свисали с его пояса по бокам.
Зукис ждал. Затем его неопрятная борода разделилась надвое, он улыбнулся, обнажив желтые зубы, и сказал:
— Подумай, может, изменишь своё решение?
— Может, — ответил Дэвид. И добавил: — Кое-кто заходил ко мне только что. Как это случилось? Разве ты не сторожил?
— Заткнись, — рявкнул Зукис.
— Или тебе заплатили, чтобы ты немного отвлекся? Хеннесу это не понравится.
Зукис плюнул, но промахнулся, на полдюйма не достав сапог Дэвида.
Дэвид спросил:
— Хочешь снять бластеры и попробовать снова?
— Следи за собой, если хочешь жить, — ответил Зукис и вышел, закрыв за собой дверь. Через несколько минут послышался звон металла и дверь снова открылась. Зукис принес поднос. На нём была желтая каша и что-то зеленое, растительное.
— Овощной салат, — сказал Зукис. — С тебя хватит.
Грязный большой палец придерживал край подноса. Другой край подноса помещался на тыльной стороне ладони, так что рука фермера не была видна.
Дэвид выпрямился, отпрыгнул в сторону и упал на матрац. Зукис, застигнутый врасплох, в тревоге обернулся, и Дэвид, используя пружины матраца как дополнительный ускоритель, прыгнул на него.
Они тяжело столкнулись, одной рукой Дэвид вырвал у противника поднос, а другой схватил его за бороду.
Зукис упал и хрипло заорал. Сапог Дэвида опустился ему на руку, ту самую, что скрывалась под подносом. Крик перешёл в вопль боли, пальцы разжались, выпустив взведенный бластер.
Отпустив бороду, Дэвид успел перехватить другую руку фермера, устремившуюся ко второму бластеру. Дэвид резко дернул её, повернул и прижал к груди Зукиса. Потом потянул.
— Тише, — сказал он, — иначе я вырву тебе руку.
Зукис подчинился. Глаза его выкатились из орбит, влажное дыхание вырывалось с шумом.
— Чего ты хочешь? — спросил он.
— Зачем ты прятал бластер под подносом?
— Чтобы защищаться. На тот случай, если ты набросишься на меня, а мои руки будут заняты.
— Почему же ты не попросил кого-нибудь войти с тобой и прикрыть тебя?
— Я об этом не подумал, — взвыл Зукис.
Дэвид чуть сильнее прижал его руку, и рот Зукиса скривился от боли.
— А не расскажешь ли правду, Зукис?
— Я… я должен был убить тебя.
— А что ты сказал бы Макиану?
— Что ты… пытался сбежать.
— Твоя собственная идея?
— Нет, Хеннеса. Это дело Хеннеса. Я только выполнял приказ.
Дэвид отпустил его руку, поднял с пола один бластер, второй достал из кобуры.
— Вставай.
Зукис перевалился на бок, застонал, прижав к груди руку, которую Дэвид чуть не вырвал из плеча.
— Что ты будешь делать? Ты ведь не станешь стрелять в невооруженного человека?
— А ты не стал бы?
Неожиданно раздался новый голос:
— Опустите оружие, Уильямс, — произнес он.
Дэвид быстро обернулся. В дверях стоял Хеннес, направив на него бластер. За ним Макиан, с бледным напряженным лицом. Глаза Хеннеса ясно показывали его намерения, бластер не дрожал.
Дэвид отбросил бластеры, которые только что отобрал у Зукиса.
— Подтолкните их ко мне.
Дэвид повиновался.
— Хорошо. Что случилось?
Дэвид ответил:
— Вы знаете, что случилось. Зукис пытался убить меня по вашему приказу, но я при этом не сидел спокойно.
Зукис затараторил:
— Нет, сэр, мистер Хеннес. Нет, сэр. Ничего подобного. Я принес ему еду, когда он прыгнул на меня. Мои руки были заняты подносом, я не мог защититься.
— Замолчи, — презрительно оборвал Хеннес. — Тобой мы займемся позже. Убирайся отсюда и через секунду возвращайся с наручниками.
Зукис поднялся.
— А зачем наручники? — спросил Макиан.
— Этот человек — опасный обманщик, мистер Макиан. Помните, я привел его, потому что он как будто знал о пищевых отравлениях?
— Да. Да, конечно.
— Он рассказал о своей младшей сестре, отравившейся марсианским джемом, помните? Я проверил его рассказ. Не слишком много людей умерло пока таким образом. Чуть меньше двухсот пятидесяти. Легко было проверить всех, и я это сделал. Среди них не было двенадцатилетней девочки, у которой был бы брат в возрасте Уильямса и которая умерла бы, поев марсианского джема.
Макиан удивился.
— И давно вы об этом знаете, Хеннес?
— Знал почти сразу после его появления. Но пока ничего не предпринимал. Хотел узнать, зачем он явился. Я приставил к нему Гризволда, чтобы тот за ним следил…
— Чтобы он меня убил, — прервал Дэвид.
— Да, вы будете так утверждать, потому что сами убили Гризволда, заподозрив его. — Хеннес повернулся к Макиану. — Потом он умудрился втереться в доверие к этому мягкоголовому простофиле Бенсону, чтобы следить за нашим продвижением в расследовании отравлений. И вот последнее. Три дня назад он исчез из купола и не объясняет зачем. Хотите знать зачем? Он докладывал нанявшим его людям — тем, что стоят за всем этим. Не может быть простым совпадением, что ультиматум пришёл как раз тогда, когда его не было.
— А где были вы? — вдруг спросил Дэвид — Перестали следить за мной после смерти Гризволда? Если знали, чем я занят, почему не послали на поиски отряд?
Макиан удивился и начал:
— Ну…
Но Дэвид прервал его:
— Позвольте мне закончить, мистер Макиан. Я думаю, Хеннеса тоже не было в куполе в ту ночь, когда я ушёл, и два последующих дня тоже. Где вы были, Хеннес?
Хеннес шагнул вперёд, рот его дергался. Дэвид поднес к лицу сжатую в руке маску. Он не верил, что Хеннес выстрелит, но готов был использовать её.
Макиан положил руку на плечо Хеннеса.
— Передадим его Совету.
Дэвид быстро спросил:
— При чем тут Совет?
— Не ваше дело! — рявкнул Хеннес.
Зукис вернулся с наручниками. Это были пластмассовые прутья, которые легко гнулись в любом направлении, а приняв нужную форму, застывали. Они были бесконечно прочнее веревок или даже обычных металлических наручников.
— Вытяните руки, — приказал Хеннес.
Дэвид молча повиновался. Наручники дважды обернули вокруг его рук. Зукис с усмешкой сильно затянул их, потом выдернул стержень, что вызывало мгновенную перегруппировку молекул и затвердение прутьев. При этом выделялось немало энергии, наручники нагрелись. Ещё один прут стянул ноги Дэвида.
Дэвид спокойно сел на кровать. В одной руке он по-прежнему сжимал свою маску. Замечание Макиана о Совете показало Дэвиду, что он недолго будет оставаться в заключении. А пока пусть события развиваются.
Он снова спросил:
— Так при чем тут Совет?
Но можно было и не спрашивать. Снаружи послышался шум, и в комнату с воплем стремительно влетел человек:
— Где Уильямс?
Это был сам Верзила, большой, как жизнь, которая, впрочем, не так уж и велика. Он не обратил внимания ни на кого, кроме сидящего Дэвида. Заговорил быстро, прерывисто:
— Я ничего не знал о пыльной буре, пока не оказался в куполе. Кипящий Церес, тебя должно было поджарить! Как ты выкарабкался? Я… я… — И тут вдруг он заметил положение Дэвида и в ярости обернулся: — Кто это, во имя космоса, его связал?
К этому моменту Хеннес пришёл в себя. Он схватил Верзилу за воротник комбинезона и грубо дернул, так что чуть не поднял его маленькое тело:
— Я говорил тебе, слизняк, что случится, если снова поймаю тебя здесь!
Верзила закричал:
— Отпусти, мягкоротый подонок! Я имею право находиться здесь. Даю тебе полторы секунды, или будешь отвечать перед Советом Науки.
— Ради Марса, Хеннес, отпустите его, — попросил Макиан.
Хеннес выпустил воротник:
— Убирайся отсюда!
— Ни за что в жизни. Я уполномоченный представитель Совета. Прибыл вместе с доктором Сильверсом. Спросите его.
И он указал на высокого худого человека, показавшегося в двери. Имя подходило ему[2] — волосы его были серебристо-белыми и усы — того же цвета.
— Если позволите, — сказал доктор Сильвере, — я принимаю на себя руководство. Правительство в Интернациональном Городе объявило чрезвычайное положение, и с этого момента все фермы находятся под контролем Совета Науки. Я сам буду контролировать ферму Макиана.
— Я ожидал чего-нибудь подобного, — с несчастным видом пробормотал Макиан.
— Снимите наручники с этого человека, — приказал доктор Сильвере.
— Он опасен, — возразил Хеннес.
— Ответственность беру на себя.
Верзила подскочил и щелкнул каблуками.
— С дороги, Хеннес.
Хеннес побледнел от гнева, но не сказал ни слова.
Спустя три часа доктор Сильвере снова встретился с Макианом и Хеннесом в личных помещениях Макиана. Он сказал:
— Мне нужны данные о продукции фермы за шесть последних месяцев. Я хочу встретиться с вашим доктором Бенсоном в связи с его попытками раскрыть тайну пищевых отравлений. У нас шесть недель для решения проблемы. Не больше.
— Шесть недель? — взорвался Хеннес. — Вы хотите сказать «один день».
— Нет, сэр. Если до окончания срока ультиматума у нас не будет ответа, весь экспорт продовольствия с Марса прекращается. Мы не сдадимся, пока остаётся хоть один шанс.
— Клянусь космосом! — сказал Хеннес. — Земля умрет с голода.
— Не за шесть недель, — ответил доктор Сильвере. — На это время с введением регулирования запасов хватит.
— Будет паника, бунты, — сказал Хеннес.
— Верно, — мрачно согласился доктор Сильвере. — Это будет не совсем приятно.
— Вы уничтожите фермерские синдикаты, — простонал Макиан.
— Они в любом случае будут уничтожены. Доктора Бенсона я хочу увидеть сегодня вечером. Завтра в полдень у нас будет четырёхстороннее совещание. Завтра в полночь, если к тому времени на Марсе и в Центральной лаборатории на Луне ничего не будет найдено, эмбарго вступает в силу, и начнутся приготовления к всемарсианской конференции представителей синдикатов.
— А это зачем? — спросил Хеннес.
— У нас есть основания полагать, что тот, кто скрывается за этим безумным преступлением, тесно связан с фермами, — ответил доктор Сильвере. — Преступники слишком много знают о фермах.
— А как насчёт Уильямса?
— Я допросил его. Он подтверждает свой рассказ. Согласен, достаточно странный. Я отправил его в город, там его будут допрашивать подробнее; если необходимо, под гипнозом.
Прозвучал входной сигнал.
— Откройте дверь, мистер Макиан, — сказал доктор Сильвере.
Макиан повиновался, как будто не был владельцем крупнейшей фермы на Марсе и тем самым одним из самых богатых и влиятельных людей Солнечной системы.
Вошёл Верзила. Он вызывающе посмотрел на Хеннеса. Потом доложил:
— Уильямс в пескоходе под охраной направляется в город.
— Хорошо, — ответил доктор Сильвере, поджав тонкие губы.
В миле от купола фермы пескоход остановился. Дэвид Старр, в обычной маске, вышел из него. Помахал водителю, который высунулся и сказал:
— Помните! Выход номер семь! Там вас впустят.
Дэвид улыбнулся и кивнул. Он посмотрел вслед пескоходу, направляющемуся в город, и повернул обратно на ферму.
Конечно, люди Совета здорово помогли ему. Они помогли ему в маскировке: он открыто уехал и тайком возвращается, но никто, даже доктор Сильвере, не знает, зачем ему это нужно.
Все звенья загадки на месте, но нужны ещё доказательства.
Глава 14
«Я КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙНДЖЕР!»
Усталый и злой, Хеннес вошёл в свою спальню. Усталость объяснялась просто: было уже три часа ночи. За последние двое суток он почти не спал, а последние шесть месяцев жил в постоянном напряжении. Но он считал необходимым присутствовать на встрече этого доктора Сильверса из Совета с Бенсоном.
Доктору Сильверсу это не понравилось. А вот и причина гнева, который охватил Хеннеса. Доктор Сильвере! Самоуверенный старик явился из города и считает, что за сутки доберётся до истины, тогда как наука всей Земли и всего Марса месяцами безрезультатно бьется над нею. Хеннес сердился и на Макиана, который размяк, как хорошо смазанные сапоги, и превратился в лакея этого белоголового дурака. Макиан! Два десятилетия он был легендой и самым жестким владельцем крупнейшей фермы Марса.
А тут ещё Бенсон с его вмешательством! Хеннес так хорошо придумал, как устранить этого новичка Уильямса самым быстрым и лёгким способом. Плюс Гризволд и Зукис, слишком тупые, чтобы выполнить всё необходимое и преодолеть мягкость Макиана и сентиментальность Бенсона.
Хеннес ненадолго задумался, не принять ли таблетку сопорита. Ему нужно выспаться, чтобы быть в форме на следующий день, а гнев может не дать ему уснуть.
Он покачал головой. Нет. Он не может рисковать: самые главные события могут произойти ночью, а он будет в одурманенном состоянии.
В качестве компромисса он защелкнул магнитный замок. И даже толкнул дверь, чтобы убедиться, что он действует. В мужской и неформальной атмосфере марсианских ферм двери почти никогда не запирались, и бывало, что изоляция протиралась и замки выходили из строя, но никто годами этого не замечал. Его собственная дверь, насколько он помнил, не запиралась ни разу с того времени, как он приступил к работе.
Замок в порядке. Дверь даже не дрогнула, когда он потянул её. С этим всё.
Он тяжело вздохнул, сел на кровать и снял сапоги, сначала один, потом другой. Устало потёр ноги, снова вздохнул и застыл от неожиданности, но тут же сунул руку под подушку, даже не осознавая своего движения.
На лице его застыло изумление. Не может быть. Не может быть! Значит, глупый рассказ Уильямса — правда? Значит, нелепые теории Бенсона о марсианах в конце концов не совсем…
Нет, он отказывается верить. Скорее кто-то решил подшутить над ним.
Но темнота комнаты была освещена холодным голубоватобелым сиянием без всякого блеска. В этом свете стали видны кровать, стены, кресло, шкаф и даже сапоги, которые он только что снял. И ещё — похожее на человека существо, голова которого была озарена свечением, скрывавшим черты лица; можно было различить лишь нечто вроде дымчатого облачка.
Хеннес почувствовал, что прижимается спиной к стене. Он и не заметил, что так отодвинулся.
Послышался глухой и гулкий голос:
— Я Космический Рейнджер!
Хеннес выпрямился. Преодолев оцепенение, он заставил себя успокоиться и спросил твёрдым голосом:
— Что тебе нужно?
Космический Рейнджер ничего не ответил и даже не пошевелился, а Хеннес не мог оторвать от него глаз.
Управляющий ждал, грудь его вздымалась, но существо из дыма и света было неподвижно. Вероятно, это робот, запрограммированный только на одну фразу. На мгновение Хеннес задумался над этой мыслью и тут же её отбросил. Он стоял рядом с ящиком бюро и, несмотря на своё состояние, не забыл об этом. Рука его медленно потянулась к ящику.
Его движения были хорошо различимы в свете, исходившем от призрака, но тот не обратил на него внимания. Рука Хеннеса в якобы невинном жесте опустилась на поверхность бюро. Робот, марсианин, человек, кто бы он ни был, не знает секрета бюро. Он спрятался в его комнате, но комнату не обыскивал. А если и сделал это, то чрезвычайно искусно, потому что взгляд Хеннеса не обнаружил в комнате ничего необычного; всё стоит на своих местах и нет ничего лишнего, кроме самого Космического Рейнджера.
Пальцы Хеннеса коснулись незаметного углубления в крышке бюро. Механизм самый обычный, и мало у кого из управляющих на Марсе его нет. Старомодный, как старомодно и само деревянное бюро — эта традиция восходит к далеким дням беззакония первых поселенцев Марса, но традиции умирают с трудом. Углубление чуть сдвинулось, и в стенке бюро открылся тайник. Хеннес был готов к этому, рука его метнулась к бластеру, лежащему в тайнике.
Теперь бластер был нацелен на существо, которое за всё это время так и не шевельнулось. Его руки, или то, что должно было ими служить, свисали неподвижно.
Хеннес чувствовал, как к нему возвращается уверенность. Робот, марсианин, человек — противостоять бластеру он не сможет. Оружие маленькое, и выбрасываемый им снаряд ничтожен по размеру. Металлические пули старых «ружей» по сравнению с ним настоящие скалы. Но выстрел из бластера гораздо смертоноснее. Как только его снаряд запущен, любое препятствие детонирует крохотный атомный взрыватель, который превращает часть его массы в энергию, и в этом превращении препятствие — скала, металл, человеческая плоть — исчезает в сопровождении негромкого звука, как будто потёрли пальцем о резину.
Хеннес тоном, в котором звучала угроза, не меньшая, чем в его грозном оружии, спросил:
— Кто ты? Что тебе нужно?
Привидение медленно повторило:
— Я Космический Рейнджер!
Губы Хеннеса изогнулись в жестокой ярости, и он выстрелил.
Снаряд покинул ствол, понесся к привидению, достиг его и был остановлен. Был остановлен мгновенно, не дойдя четверти дюйма до тела. Даже сотрясение от этого удара не прошло через барьер силового поля, которое поглотило всю энергию движения, превратив её в свет.
Но этот свет не был заметен. Его затмило яркое свечение взорвавшегося снаряда. Снаряд превратился в энергию, но так как при остановке не встретился с материальным препятствием, которое могло бы поглотить вспышку, на кратчайшую долю секунды в комнате как будто вспыхнуло солнце размером с булавочную головку.
Хеннес с громким криком закрыл глаза руками, будто пытался защитить их от физического удара. Но было слишком поздно. Несколько минут спустя, когда он решился отвести руки, его горящие, воспаленные глаза ничего не увидели. Он открывал и закрывал их, но перед ним плыла лишь чернота с мерцающими красными пятнами. Он не видел, как Космический Рейнджер мгновенно метнулся к его сапогам, обыскал их внутренние карманы, открыл магнитный замок двери и исчез за несколько секунд до того, как собралась неизбежная толпа и послышались тревожные возгласы.
Хеннес услышал голоса. Всё ещё закрывая рукой глаза, он закричал:
— Хватайте его! Хватайте! Он в комнате. Задержите его, проклятые марсианские трусы!
— В комнате никого нет, — отозвалось с полдюжины голосов, а кто-то добавил: — Пахнет выстрелом из бластера.
Твёрдый, более властный голос произнес:
— Что случилось, Хеннес?
Это был доктор Сильвере.
— Вторжение, — ответил Хеннес, дрожа от гнева и раздражения. — Никто его не видел? Что это с вами? Вы… — но не смог произнести больше ни слова. Мигающие глаза его слезились, смутный свет снова начал поступать в них. Он чуть не сказал: «Вы что, ослепли?»
Сильвере опять спросил:
— Кто вторгся? Можете его описать?
Но Хеннес лишь беспомощно покачал головой. Как он может объяснить? Рассказать о кошмаре из дыма, который говорил и которому бластер не причинил никакого вреда, а ослепил выстрелившего человека?
Доктор Сильвере вернулся в свою комнату в унылом настроении. Тревога, прогнавшая его из комнаты во время подготовки ко сну, бесцельная беготня людей, отсутствие объяснений со стороны Хеннеса — всё это лишь булавочные уколы. Он с беспокойством думал о завтрашнем дне.
Он не верил в победу, в эффективность эмбарго. Снабжение продовольствием прекратится. На Земле кое-кто узнает или, что ещё хуже, придумает для этого причину, и результаты будут ужаснее самого массового отравления.
Дэвид Старр полон уверенности, но пока его действия ничего не дали. Рассказ о Космическом Рейнджере — плохая выдумка, способная лишь возбудить подозрение таких людей, как Хеннес; она чуть не привела его к смерти. Молодому человеку повезло, что он, Сильвере, прибыл вовремя. Дэвид не потрудился объяснить, зачем ему понадобилась эта выдумка. Он только сказал, что должен уехать в город и тайно вернуться. Когда доктор Сильвере получил первое послание Старра — его доставил этот малыш, зовущий себя, вопреки очевидному, Верзилой, — он связался со штаб-квартирой Совета на Земле. И ему приказали выполнять все распоряжения Дэвида Старра.
Но как такой молодой человек…
Доктор Сильвере остановился. Странно! Дверь в его комнату, которую он в спешке оставил открытой, открыта по-прежнему, но внутри не горит свет. Однако он его не выключил уходя. Он хорошо помнит, что свет оставался гореть, когда он торопливо устремился по коридору к лестнице.
Неужели кто-то выключил свет в странном порыве экономии? Вряд ли.
Внутри тихо. Сильвере извлек бластер, распахнул шире дверь и твёрдо направился к тому месту, где находился выключатель.
Чья-то рука зажала ему рот.
Он попытался вырваться, но рука была большой и мускулистой, а голос показался ему знакомым.
— Всё в порядке, доктор Сильвере. Я просто не хотел, чтобы вы от удивления вскрикнули.
Руку отняли. Доктор Сильвере спросил:
— Старр?
— Да. Закройте дверь. Ваша комната будет для меня лучшим укрытием, пока идут поиски. Во всяком случае, я должен поговорить с вами. Хеннес рассказал, что случилось?
— В сущности, нет. Вы с этим связаны?
Улыбка Дэвида в темноте была не видна.
— Некоторым образом, доктор Сильвере. Хеннеса навестил Космический Рейнджер, и в суматохе я сумел незаметно пробраться в вашу комнату.
Вопреки самому себе старый учёный повысил голос:
— О чём это вы говорите? Я не в настроении шутить.
— Я не шучу. Космический Рейнджер существует.
— Этого не может быть. Ваш рассказ не произвел впечатления на Хеннеса, а я заслуживаю правды.
— Теперь, я уверен, на Хеннеса он подействовал, а завтра и вы узнаете истину. Тем временем послушайте. Космический Рейнджер, как я сказал, существует, и на него наша надежда. Мы участвуем в рискованной игре, и, хотя я знаю, кто стоит за отравлениями, это знание может оказаться бесполезным. Нам противостоят не один-два преступника, намеренных при помощи шантажа заработать несколько миллионов, а организованная группа, стремящаяся к захвату власти во всей Солнечной системе. Даже если мы арестуем лидеров, я уверен, деятельность группы будет продолжаться, если только мы не узнаем о ней все подробности.
— Укажите мне лидера, — мрачно сказал доктор Сильвере, — и Совет узнает все подробности.
— Не будем торопиться, — так же мрачно ответил Дэвид. — Мы должны получить ответ, окончательный ответ за двадцать четыре часа. После этого срока, даже если мы победим, победа не остановит смерти миллионов на Земле.
Доктор Сильвере спросил:
— Что в таком случае вы намерены делать?
— Теоретически, — ответил Дэвид, — я знаю отравителя и способ, которым производились отравления. Но для того, чтобы у преступника не было возможности отрицать свою вину, я должен иметь вещественные доказательства. Мы их получим до наступления вечера. Но даже тогда, чтобы получить от него полную информацию, мы должны совершенно сломить противника морально. Здесь мы используем Космического Рейнджера. Да, собственно, он уже начал действовать.
— Опять этот Космический Рейнджер. Вы околдованы им. Если он существует, если это не ваша выдумка, жертвой которой должен стать и я, кто он или что он? Откуда вы знаете, что он вас не обманет?
— Не могу объяснить подробностей. Знаю только, что он на стороне человечества. Верю ему, как самому себе, и принимаю на себя всю ответственность за него. Вы должны действовать в соответствии с моими указаниями, доктор Сильвере, иначе, вынужден сообщить, мы обойдемся без вас. Игра настолько важна, что даже вы не можете встать на моем пути.
Невозможно было ошибиться в его твёрдой решимости. Доктор Сильвере в темноте не видел выражения лица Дэвида, но ему этого и не было нужно.
— Что я должен сделать?
— Завтра в полдень вы встречаетесь с Макианом, Хеннесом и Бенсоном. В качестве личного телохранителя возьмите с собой Верзилу. Он мал ростом, но быстр и бесстрашен. Пусть центральное здание охраняют люди Совета, они должны быть вооружены магазинными бластерами и газовыми пулями — на всякий случай. Теперь запомните: между пятнадцатью минутами первого и половиной уберите охрану и наблюдение с заднего входа в здание. Я гарантирую безопасность. И не удивляйтесь, что бы потом ни произошло.
— Вы там будете?
— Нет. В моем присутствии нет необходимости.
— И что же?
— Вас посетит Космический Рейнджер. Он знает всё, что знаю я, а его обвинения для преступников прозвучат убедительнее.
Вопреки себе, доктор Сильвере почувствовал прилив надежды.
— Вы думаете, нам удастся?
Наступила длинная пауза. Потом Дэвид Старр сказал:
— Откуда мне знать? Я только надеюсь.
Ещё одна пауза. Доктор Сильвере почувствовал сквознячок: открылась дверь. Он повернул выключатель. Комнату залил свет, но Дэвида в ней уже не было.
Глава 15
В ДЕЛО ВСТУПАЕТ КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙНДЖЕР
Дэвид Старр действовал как мог быстро. От ночи осталось совсем немного. Напряжение и возбуждение отходили, и он начинал чувствовать усталость, которую отказывался признавать часами.
Его маленький карманный фонарик светил тут и там. Дэвид от всей души надеялся, что то, что он ищет, не находится под дополнительными запорами. Если же дело обстоит именно так, то он вынужден будет использовать силу, а ему не хотелось привлекать к себе внимания. Сейфа не видно, и ничего, что могло бы выполнять его роль, — тоже. Это и хорошо и плохо. Предмет его поисков должен быть легко досягаем, но в то же время его может совсем и не быть в комнате.
Жаль, особенно после того, как он с таким трудом раздобыл ключи от этой комнаты. Хеннес не скоро оправится после выстрела в Космического Рейнджера.
Дэвид улыбнулся. Вначале он удивился почти так же, как Хеннес. Слова «Я Космический Рейнджер» были первыми словами, которые он произнес сквозь силовой барьер со времени возвращения из марсианских пещер. Он не помнил, как там звучал его голос. Возможно, он вообще и не слышал его. Возможно, под влиянием марсиан он просто воспринимал свои мысли, как и их мысли.
Здесь, на поверхности, звук собственного голоса поразил его. Он совершенно не ожидал такой пустоты и гулкой глубины. Конечно, он тут же пришёл в себя и всё понял. Хотя его щит пропускал молекулы воздуха, вероятно, он снижал скорость их движения. И это вмешательство, естественно, отражалось на звуковых волнах.
Дэвид не сожалел об этом. Голос тоже помогал ему.
Щит хорошо сработал против бластера. Вспышка не была поглощена полностью: он ясно её видел. Но эффект по отношению к нему был ничтожен, если сравнить с Хеннесом. Методично, продолжая размышлять обо всех этих вещах, он осматривал полки и ящики.
Свет фонаря застыл. Дэвид отодвинул всё лишнее и извлек небольшой металлический предмет. Он поворачивал его, рассматривая в слабом свете. Нажимал небольшую кнопку, которая приводила объект в разные положения, и смотрел, что получается.
Сердце его билось учащенно.
Вот последнее доказательство. Доказательство правоты всех его рассуждений — рассуждений, которые казались такими основательными и полными, но под которыми не было ничего, кроме логики. Но теперь логику подтверждало нечто сделанное из молекул, нечто такое, что можно потрогать.
Он положил находку в карман сапога, рядом с марсианской маской и ключами, взятыми у Хеннеса. Закрыл за собой дверь и вышел. Купол над головой начал заметно сереть. Скоро вспыхнет главное освещение, и день официально начнется. Последний день — либо для отравителей, либо для всей земной цивилизации.
А пока у него есть возможность немного поспать.
Ферма Макиана застыла в морозном спокойствии. Мало кто из фермеров даже догадывался о разворачивающихся событиях. Было ясно, что происходит нечто серьёзное, но более ничего угадать было невозможно. Некоторые шептали, что Макиан был уличен в серьёзных финансовых злоупотреблениях, но никто в это не верил.
Зачем было бы по такому поводу посылать армию?
Сжимая в руках магазинные бластеры, жестколицые люди в мундирах окружили центральное здание фермы. На крыше установили два артиллерийских орудия. И всё вокруг здания опустело. Все фермеры, кроме тех, кто должен был поддерживать функционирование жизнеобеспечивающего оборудования, были удалены в казармы. Немногим оставшимся было строго приказано заниматься только своей работой.
Ровно в 12.15 два человека, охранявшие задний вход в здание, разделились, разошлись в разные стороны и исчезли, оставив вход без охраны. В 12.30 они вернулись и заняли свои посты. Один из артиллеристов впоследствии утверждал, что видел, как в этот интервал кто-то входил в здание. Он признавал, что видел входящего только мгновение, да и вообще его рассказ не имел смысла, так как он утверждал, что это был человек, охваченный огнем.
Ему никто не поверил.
Доктор Сильвере ни в чём не был уверен. Вообще ни в чём. Он не знал, с чего начать встречу. Взглянул на остальных четырёх сидевших за столом.
Макиан. Выглядит так, будто не спал целую неделю. Вероятно, так оно и есть. Пока что он не произнес ни слова. Сильвере засомневался, полностью ли Макиан осознает окружающее.
Хеннес. В тёмных очках. На мгновение он их снял, и глаза его оказались воспаленными и злыми. Теперь он сидит, что-то бормоча про себя.
Бенсон. Тихий и удручённый. Накануне доктор Сильвере провёл с ним несколько часов и не сомневался, что неудача в исследованиях для Бенсона — большое горе. Он рассуждал о марсианах, природных марсианах, как о причине отравлений, но Сильвере не воспринимал этого всерьез.
Верзила. Единственный человек, чувствующий себя вполне счастливым. Разумеется, он понимает суть кризиса лишь частично. Вот он откинулся в кресле, очевидно польщенный, что находится рядом с такими значительными лицами, и наслаждается своей ролью.
И ещё одно кресло поставил к столу Сильвере. Оно стояло пустое и ожидающее. Никто ничего не сказал по этому поводу.
Доктор Сильвере кое-как поддерживал разговор, делая какие-то незначительные замечания. Как и пустое кресло, он ждал.
В 12.16 Сильвере поднял голову и медленно встал не в состоянии произнести ни слова. Верзила оттолкнул свой стул назад и присел, как бы собираясь прыгнуть. Голова Хеннеса резко дернулась, побелевшие пальцы судорожно сжали край стола. Бенсон огляделся и всхлипнул. Но Макиан, казалось, вовсе не был потрясен. Он поднял голову и, очевидно, принял увиденное за ещё один странный элемент мира, который он вдруг перестал понимать.
Фигура у входа произнесла:
— Я Космический Рейнджер.
Яркий свет в комнате частично приглушил окружавшее его сияние, дым, окружающий его голову, стал более заметным, чем ночью, когда его видел Хеннес.
Космический Рейнджер вошёл. Почти автоматически все отодвинулись, так что пустое кресло оказалось в одиночестве. Космический Рейнджер сел, лицо его было невидимо, руки он вытянул вперёд и положил на стол, но они на него не легли. Между столом и руками сохранялось с четверть дюйма пустоты.
Космический Рейнджер сказал:
— Я пришёл поговорить с преступниками.
Последующее гнетущее молчание нарушил Хеннес. Его голос был полон яда:
— Вы имеете в виду воров?
Он поднял руку к тёмным очкам, но не снял их. Пальцы его заметно дрожали.
Ответ Космического Рейнджера прозвучал медленно и глухо.
— Да, я вор. Вот ключи, которые я взял из ваших сапог. Мне они больше не нужны.
Металлические ключи ударились о стол рядом с Хеннесом. Тот не взял их.
Космический Рейнджер продолжал:
— Но воровство должно было предотвратить гораздо большее преступление. Например, преступление доверенного управляющего, который проводил ночи в Винград-сити в поисках отравителей.
Лицо Верзилы радостно осветилось.
— Эй, Хеннес, — воскликнул он, — похоже, вас сопровождали.
Но Хеннес слышал и видел только привидение через стол от себя.
— В чём же здесь преступление? — спросил он.
— Преступление, — сказал Космический Рейнджер, — в быстром полёте в сторону астероидов.
— Почему? Зачем?
— Разве не из астероидов пришёл ультиматум отравителей?
— Вы обвиняете меня в том, что я стою за отравлениями? Я отрицаю это. Где ваши доказательства? Если, конечно, вы считаете, что нужны доказательства. Может, вы думаете, что ваш маскарад заставит меня согласиться на ложь?
— Где вы были двое суток до поступления ультиматума?
— Не буду отвечать. Я отрицаю ваше право допрашивать меня.
— Тогда я отвечу за вас. Механизм отравления находится в астероидах, на старой пиратской базе. А мозг всей организации здесь, на ферме Макиана.
Тут Макиан с трудом встал, рот его кривился.
Космический Рейнджер взмахом дымной руки усадил его и продолжал:
— Вы, Хеннес, связник.
Теперь Хеннес снял очки. Его пухлое гладкое лицо с воспаленными глазами застыло.
Он сказал:
— Вы мне наскучили, Космический Рейнджер, или как ещё вы себя называете. Это совещание, как я понимаю, было созвано, чтобы найти меры борьбы с отравителями. А теперь оно превратилось в глупое судилище с бездарным актером, и я ухожу.
Доктор Сильвере потянулся мимо Верзилы и схватил Хеннеса за руку:
— Пожалуйста, останьтесь, Хеннес, я хочу услышать больше. Никто не обвинит вас без доказательств.
Хеннес отбросил руку Сильверса и встал. Верзила спокойно произнес:
— Мне приятно будет видеть, как вас пристрелят, Хеннес. Именно это и произойдёт, если вы выйдете за дверь.
— Верзила прав, — подтвердил Сильвере. — Снаружи вооруженные люди, которым приказано никого не выпускать без моего разрешения.
Хеннес в бессильной ярости сжимал и разжимал кулаки. Наконец выдавил:
— Больше ни словом не участвую в этой незаконной процедуре. Вы все свидетели, что меня удержали силой.
Он сел и сложил руки на груди.
Снова заговорил Космический Рейнджер:
— И всё же Хеннес только связник. Он слишком большой злодей, чтобы быть истинным злодеем.
Бенсон слабым голосом прошептал:
— Вы говорите противоречиями.
— Только внешне. Подумайте о преступлении. Можно многое сказать о преступнике по тому преступлению, что он совершает. Во-первых, пока умерло сравнительно мало людей. По-видимому, преступники могли добиться своего гораздо быстрее, если бы начали широкомасштабное отравление, вместо того чтобы просто угрожать в течение шести месяцев, всё время рискуя быть пойманными и ничего не получая взамен. Что это означает? Кажется, их предводитель не решается убивать. Это не похоже на Хеннеса. Большую часть информации я получил от Уильямса, которого сейчас здесь нет и от которого я знаю, что после его появления на ферме Хеннес несколько раз пытался организовать его убийство.
Хеннес, забыв своё решение, закричал:
— Ложь!
Космический Рейнджер, не обращая на это внимания, продолжал:
— Итак, у Хеннеса убийство не вызывает никаких угрызений совести. Придётся поискать кого-то с более мягким характером. Но что может заставить по всей видимости мягкого человека убивать людей, которых он никогда не видел, которые не причинили ему никакого вреда? В конце концов, хотя отравлению подверглась ничтожная доля процента населения Земли, отравленных несколько сотен. Из них пятьдесят детей. Очевидно, за этим стоит сильнейшее стремление к богатству и власти, побеждающее мягкость. А что за этим стремлением? Возможно, жизнь, полная раздражения, рождающая болезненную ненависть ко всему человечеству, желание показать всем, кто презирает его, какой он на самом деле великий человек. Мы ищем человека, обладающего сильным комплексом неполноценности. И где мы его находим?
Теперь все напряженно следили за Космическим Рейнджером. Даже к Макиану вернулась отчасти его прежняя острота восприятия. Бенсон нахмурился в размышлении, а Верзила перестал улыбаться.
Космический Рейнджер продолжал:
— Самый главный ключ к разгадке в том, что последовало за прибытием Уильямса на ферму. Его сразу заподозрили в том, что он шпион. Легко было доказано, что его рассказ об отравлении сестры — ложь. Хеннес, как я сказал, был осуждён за убийство. Предводитель, с его более чувствительной совестью, избрал другой метод. Он постарался нейтрализовать опасного Уильямса, вступив с ним в дружеские отношения и изображая враждебные отношения с Хеннесом.
Подведем итоги. Что мы знаем о предводителе преступников? Он совестливый человек, который кажется дружелюбным по отношению к Уильямсу и враждебным к Хеннесу. Человек с сильным комплексом неполноценности, развившимся вследствие жизни, полной унижений, потому что он отличен от других, меньше…
Последовало резкое движение. Стул оттолкнули от стола, маленькая фигурка с бластером в руке быстро попятилась.
Бенсон вскочил и закричал:
— Великий космос, Верзила!
Доктор Сильвере хрипло воскликнул:
— Но… но я привел его с собою как телохранителя. Он вооружен.
Мгновение Верзила стоял с поднятым бластером, глядя на всех блестящими маленькими глазками.
Глава 16
РЕШЕНИЕ
Верзила сказал высоким твёрдым голосом:
— Не торопитесь с выводами. Может показаться, что Космический Рейнджер описывает меня, но он ещё не назвал имени.
Все смотрели на него и молчали.
Верзила неожиданно подбросил бластер, поймал его за ствол и бросил на стол, по которому оружие шумно проехалось в направлении Космического Рейнджера.
— Я говорю, что этот человек не я, и вот моё оружие в доказательство.
Затянутая дымом фигура потянулась за бластером.
— Я тоже говорю, что это не тот человек, — сказал Рейнджер, и бластер отправился обратно к Верзиле.
Верзила поймал его, сунул в кобуру и снова сел.
— А теперь продолжайте, Космический Рейнджер.
Космический Рейнджер сказал:
— Это мог бы быть Верзила, но слишком многое указывает, что это не он. Во-первых, вражда между Хеннесом и Верзилой началась задолго до появления Уильямса.
Доктор Сильвере возразил:
— Но послушайте. Если предводитель изображал враждебные отношения с Хеннесом, то это могло быть сделано не ради Уильямса. Просто часть заранее разработанного плана.
Космический Рейнджер ответил:
— Вы верно рассуждаете, доктор Сильвере. Предводитель, кем бы он ни был, должен сохранять полный контроль над деятельностью банды. Он должен суметь навязать собственное мнение относительно убийств группе наиболее отчаянных преступников в системе. Есть только одна возможность для этого: так организовать дело, чтобы без него они не могли продолжать. Как? Контролируя запасы яда и способ отравления. Разумеется, Верзила ни на то, ни на другое не способен.
— Откуда вы знаете? — спросил доктор Сильвере.
— У Верзилы нет подготовки, он не может придумать и изготовить яд, наиболее смертоносный из всех известных. У него нет ни лаборатории, ни ботанических и бактериологических знаний. У него нет доступа к продовольственным складам Винград-сити. Но всё это, однако, подходит к Бенсону.
Агроном, сильно вспотевший, слабо запротестовал:
— Что вы пытаетесь делать? Проверить меня, как проверили только что Верзилу?
— Я не проверял Верзилу, — ответил Космический Рейнджер. — Я никогда и не обвинял его. Я обвиняю вас, Бенсон. Вы мозг и предводитель заговора отравителей.
— Нет. Вы сошли с ума.
— Вовсе нет. Я в своём уме. Первым вас заподозрил Уильямс и передал мне свои подозрения.
— У него не было для этого причин. Я был откровенен с ним.
— Слишком откровенны. Вы допустили ошибку, сказав ему, что, по вашему мнению, источник яда — марсианская бактерия, питающаяся растительностью ферм. Как агроном, вы должны знать, что это невозможно. Марсианская жизнь не протеиновая в своей основе и может питаться земной растительностью не больше, чем мы скалами. Итак, вы сознательно солгали, и это сразу поставило вас под подозрение. Уильямс даже считает, что вы сами приготовили экстракт из марсианских бактерий. Этот экстракт — сильнейший яд. Как вы считаете?
Бенсон отчаянно воскликнул:
— Но как я могу распространять яд? Это бессмыслица.
— У вас есть доступ к подготовленному к отправке продовольствию. После первых отравлений вы получили доступ ко всем складам города. Вы рассказывали Уильямсу, что берёте образцы из разных амбаров, с разных уровней одного и того же амбара. Вы рассказали ему, что используете изобретенный вами гарпун.
— Но что в этом плохого?
— Очень много. Прошлой ночью я забрал у Хеннеса ключи и открыл ими единственное помещение на ферме, которое постоянно закрывают, — вашу лабораторию. И там я нашёл вот это. — Он показал маленький металлический предмет.
Доктор Сильвере спросил:
— Что это, Космический Рейнджер?
— Приспособление Бенсона для забора образцов. Оно крепится к концу его гарпуна. Смотрите, как оно действует.
Космический Рейнджер нажал кнопку на одном конце.
— Выстрел гарпуна, — сказал он, — взводит этот предохранитель. Вот так! Теперь смотрите.
Послышалось слабое жужжание. Оно кончилось через пять секунд, на переднем конце заборника появилось отверстие, которое через секунду закрылось.
— Так он и должен работать, — воскликнул Бенсон. — Я не скрывал этого.
— Да, не скрывали, — строго ответил Космический Рейнджер. — Вы с Хеннесом целыми днями спорили об Уильямсе. У вас не хватало духу убить его. Наконец вы захватили с собой гарпун и принесли его к постели Уильямса, чтобы проверить, удивится ли он и, может, чем-нибудь себя выдаст. Ничего не получилось. А Хеннес не соглашался ждать ещё. Так был послан для убийства Зукис.
— Но что плохого с заборником? — спросил Бенсон.
— Позвольте ещё раз продемонстрировать его действие. На этот раз, доктор Сильвере, следите за обращенной к вам стороной.
Доктор Сильвере склонился к столу, внимательно наблюдая. Верзила, опять обнаживший бластер, следил одновременно за Бенсоном и Хеннесом. Макиан встал, щеки его пылали. Снова был взведен предохранитель, снова открылось отверстие на конце, но на этот раз все увидели, как отошёл в сторону металлический щиток на нейтральной стороне заборника и за ним масляно блеснуло углубление.
— Теперь вы знаете, как всё происходило, — сказал Космический Рейнджер. — Всякий раз, как Бенсон брал образцы: несколько зерен пшеницы, фрукт или лист салата — продукт смазывался бесцветным резинообразным экстрактом марсианских бактерий. Яд, несомненно, простой, он не разлагается в ходе приготовления пищи, неизбежно оказываясь в куске хлеба, банке джема, в детских консервах. Хитрый дьявольский трюк.
Бенсон колотил по столу:
— Это ложь, гнусная ложь!
— Верзила, — попросил Космический Рейнджер, — заткните ему рот. Стойте рядом с ним и не давайте ему двигаться.
— Послушайте, — запротестовал доктор Сильвере, — вы предъявили обвинение, но надо дать ему возможность оправдаться.
— На это нет времени, — ответил Космический Рейнджер, — и вы скоро получите доказательство, которое удовлетворит и вас.
В качестве кляпа Верзила использовал носовой платок. Бенсон сопротивлялся, но после того, как Верзила стукнул его рукоятью бластера, сидел неподвижно.
— В следующий раз, — сказал Верзила, — ударю так, что у вас будет сотрясение мозга.
Космический Рейнджер встал.
— Вы все заподозрили или сделали вид, что подозреваете Верзилу, когда я говорил о комплексе неполноценности у человека, который мал. Но маленьким можно быть не только ростом. Верзила компенсирует недостаток роста воинственностью и громогласным выражением собственного мнения. И его за это уважают. Бенсон же, живя на Марсе среди людей действия, обнаружил, что его презирают как «фермера из колледжа», на него смотрят сверху вниз те, кого он считает гораздо ниже себя. Компенсировать это наиболее трусливым видом убийства — ещё одно проявление малости.
Но Бенсон — человек неуравновешенный. Вырвать у него признание трудно, если вообще возможно. Однако Хеннес не худший источник информации относительно замыслов отравителей. Он может сказать, где именно в астероидах располагается их база. Он расскажет, где хранится яд, который предполагалось начать использовать завтра. Он может рассказать многое.
Хеннес фыркнул.
— Я ничего не могу вам сказать и ничего не скажу. Если застрелите меня и Бенсона на месте, всё будет и без нас продолжаться точно так же. Поступайте как хотите.
— Будете ли вы говорить, — спросил Космический Рейнджер, — если я гарантирую вам личную безопасность?
— Кто поверит вашим гарантиям? Я по-прежнему утверждаю, что невиновен. Убив нас, вы ничего не добьетесь.
— Вы понимаете, что, если не будете говорить, могут умереть миллионы мужчин, женщин и детей?
Хеннес пожал плечами.
— Хорошо, — сказал Космический Рейнджер. — Я уже говорил о действии марсианского яда, изобретенного Бенсоном. Оказавшись в желудке, он быстро усваивается; парализуются мышцы груди; жертва не может дышать. Мучительная смерть от удушья затягивается на пять минут. Конечно, это происходит, когда яд попадает сразу в желудок.
Говоря это, Космический Рейнджер достал из кармана небольшую стеклянную пулю. Он открыл боковое углубление заборника и налил оттуда в пулю прозрачную вязкую жидкость.
— Теперь, — продолжил он, — если мы поместим яд в рот, дело пойдёт несколько по-другому. Яд будет поглощаться гораздо медленнее и действовать более постепенно. Макиан, — неожиданно окликнул он, — вот человек, который предал вас, использовал вашу ферму, чтобы организовать отравления и уничтожить фермерский синдикат. Свяжите ему руки.
И Космический Рейнджер бросил на стол наручники.
Макиан с криком долго сдерживаемого гнева бросился на Хеннеса. На мгновение гнев вернул ему утраченную юношескую силу, и сопротивление Хеннеса было тщетным.
Когда Макиан сделал шаг назад, Хеннес был привязан к стулу, руки его сведены сзади и закреплены наручниками.
Тяжело дыша, Макиан сказал:
— После разговора я с удовольствием разорву вас на куски собственными руками.
Космический Рейнджер обошёл стол и медленно приблизился к Хеннесу, держа перед собой в двух пальцах стеклянную пулю. Хеннес отпрянул. На другом конце стола отчаянно забился Бенсон, и Верзила пинком заставил его успокоиться.
Космический Рейнджер захватил нижнюю губу Хеннеса и оттянул её, обнажив зубы. Хеннес старался отвести голову, но Космический Рейнджер чуть сдавил пальцы, и Хеннес испустил сдавленный крик.
Космический Рейнджер опустил пульку в пространство между губой и зубами.
— Я думаю, пройдёт не менее десяти минут, прежде чем через полость рта вы усвоите достаточно яда, чтобы он начал действовать, — сказал он. — Если вы до того времени согласитесь говорить, я уберу яд, и вы сможете промыть рот. В противном случае яд начнет медленно действовать. Постепенно вам станет всё труднее и труднее дышать, и наконец, примерно через час, вы умрете от удушья. Но своей смертью вы ничего не добьетесь, потому что демонстрация будет очень наглядна для Бенсона, и мы получим от него всю правду.
На висках Хеннеса выступили капли пота. Он закашлялся.
Космический Рейнджер терпеливо ждал.
Хеннес закричал:
— Я буду говорить! Буду! Уберите его! Уберите!
Слова звучали неразборчиво, но его намерения и отчаянный ужас, исказивший лицо, были достаточно ясны.
— Хорошо! Вам лучше делать записи, доктор Сильвере.
Прошло три дня, прежде чем доктор Сильвере вновь увиделся с Дэвидом Старром. Он мало спал в эти дни и очень устал, но это не помешало ему с радостью приветствовать Дэвида. Верзила, всё это время не оставлявший доктора Сильверса, был также обрадован.
— Сработало, — сказал доктор Сильвере. — Вы, конечно, слышали об этом. Сработало удивительно хорошо.
— Знаю, — с улыбкой ответил Дэвид. — Космический Рейнджер мне всё рассказал.
— Значит, вы снова виделись с ним?
— Очень ненадолго.
— Он почти сразу исчез. Я упомянул о нём в своём докладе: мне пришлось это сделать. Но чувствую я себя дураком, хотя у меня есть свидетели: Верзила и старый Макиан.
— И я, — добавил Дэвид.
— Да, конечно. Ну, с этим покончено. Мы отыскали запасы яда и очистили астероиды. Не менее двух дюжин человек получат пожизненное заключение, и Бенсон в конце концов станет трудиться на общее благо. Его эксперименты над марсианской жизнью были в своём роде революционными. Может быть, результатом его открытия, при помощи которого он хотел захватить контроль над Землей, станет целая серия новых антибиотиков. Если бы несчастный глупец добивался научного признания, он был бы великим человеком. Хорошо, что признание Хеннеса остановило его.
Дэвид сказал:
— Это признание было заранее тщательно рассчитано. Космический Рейнджер всю предшествующую ночь работал над этим.
— Ну, я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь человек смог противостоять угрозе отравления, которая встала перед Хеннесом. Что бы случилось, если бы на самом деле Хеннес был не виноват? Космический Рейнджер сильно рисковал.
— Вовсе нет. Никакого яда не было. Бенсон это знал. Думаете, Бенсон бы оставил в своей лаборатории образец яда, как очевидное доказательство против себя? Думаете, мы могли бы случайно отыскать этот яд?
— Но яд в пульке?
— …простой бесцветный желатин. Бенсон догадался об этом. Поэтому Космический Рейнджер и не пытался вырвать у него признание. Поэтому он приказал заткнуть ему рот, чтобы Бенсон не смог говорить. Хеннес тоже мог бы догадаться, если бы не страх.
— Ну пусть меня выбросят в космос! — пораженно воскликнул доктор Сильвере.
Он ещё долго потирал подбородок, даже когда наконец попрощался и отправился спать.
Дэвид повернулся к Верзиле.
— А что ты теперь будешь делать, Верзила?
Верзила ответил:
— Доктор Сильвере предложил мне постоянную работу в Совете. Но не думаю, что соглашусь на это.
— Почему?
— По правде говоря, мистер Старр, я предпочел бы отправиться туда же, куда и ты.
— Я отправляюсь на Землю, — сказал Дэвид.
Они были одни, но Верзила осторожно оглянулся, прежде чем заговорил.
— Мне кажется, что ты ещё побываешь во многих местах… Космический Рейнджер.
— Что?
— Конечно. Я узнал тебя в первое же мгновение, как только ты вошёл в дыме и огне. Поэтому я и не воспринял серьёзно обвинение в отравлении. — Лицо его расплылось в широкой улыбке.
— Ты понимаешь, о чём говоришь?
— Конечно. Лица твоего я не видел, не видел деталей костюма, но на Рейнджере были твои сапоги, и совпадали рост и телосложение.
— Совпадение.
— Может быть. Подробностей я не видел, но цвет сапог различил ясно. Ты единственный из известных мне фермеров, который согласился носить чёрно-белые сапоги.
Дэвид Старр откинулся и захохотал.
— Ты выиграл. Ты на самом деле хочешь присоединиться ко мне?
— Сделал бы это с гордостью, — ответил Верзила.
Дэвид протянул руку, и они обменялись рукопожатием.
— Значит, отныне мы вместе, — сказал Дэвид.
Книга II. СЧАСТЛИВЧИК СТАРР И ПИРАТЫ АСТЕРОИДОВ
Глава 1
ОБРЕЧЕННЫЙ КОРАБЛЬ
Пятнадцать минут до старта. «Атлас» застыл в ожидании. Гладкие полированные борта космического корабля блестели в ярком земном свете, заполнившем небо Луны. Тупой нос глядел вверх, в пустое пространство. Вакуум окружал его, а под ним простиралась мертвая пемза лунной поверхности. Количество экипажа — ноль. На борту нет ни одного человека.
Доктор Гектор Конвей, глава Совета Науки, спросил:
— Который час, Гус?
Он чувствовал себя неудобно в помещении Совета на Луне. Ему было бы уютнее, находись он на Земле, на вершине иглы из камня и стали, которую называют Башней Науки. В окне открывался бы вид на Интернациональный Город. Конечно, на Луне пытались создать видимость комфорта. В помещениях — фальшивые окна, а за ними ярко освещенные картины земной жизни, естественно освещенные. Свет за окном в течение дня менялся, соответствуя утру, полудню и вечеру. А в периоды сна за окном всё темнело, и свет становился тёмно-синим. Но для землянина типа Конвея этого было недостаточно. Он знал, что, если разбить стекло, за ним окажутся только раскрашенные миниатюры, а дальше — другое помещение или, может быть, скальные породы Луны.
Доктор Августас Хенри, к которому обратился Конвей, взглянул на часы. Попыхивая трубкой, он проговорил:
— Ещё пятнадцать минут. Не о чем беспокоиться. «Атлас» в прекрасной форме. Я сам вчера проверил.
— Знаю. — У Конвея абсолютно седые волосы, и выглядит он старше худощавого Хенри, хотя они ровесники. Он сказал:
— Я беспокоюсь о Счастливчике.
— Счастливчике?
Конвей застенчиво улыбнулся.
— Боюсь, я перенял привычку. Я говорю о Дэвиде Старре. Сейчас все его так зовут. Ты разве не слышал?
— Счастливчик Старр? Счастливчик? Прозвище ему подходит. Но где он сам? В конце концов, это его идея.
— Совершенно верно. Такие идеи могут возникать только у него. Думаю, в следующий раз он возьмется за сирианский консулат на Луне.
— Хорошо бы.
— Не шути. Иногда мне кажется, что ты одобряешь его стремление всё делать в одиночку. Я потому и прилетел на Луну: присмотреть за ним, а не за кораблем.
— Если ты прилетел за этим, Гектор, ты отлыниваешь от работы.
— Ну не могу же я всюду ходить за ним, как курица за цыпленком. С ним Верзила. Я сказал малышу, что сниму с него кожу живьем, если Счастливчик решит в одиночку вторгнуться в сирианский консулат. — Хенри рассмеялся. — Говорю тебе, он это сделает, — проворчал Конвей. — И что всего хуже, выйдет, разумеется, сухим из воды.
— Ну и что?
— Это ещё больше подбодрит его, и однажды он чрезмерно рискнет, а он для нас слишком ценен, мы не должны его потерять!
Джон Верзила Джонс, покачиваясь, шёл по утоптанной глиняной поверхности и с величайшей осторожностью нес свою кружку пива. Псевдогравитация не распространялась за пределы города, поэтому в районе космопорта приходилось самому справляться с полем тяготения Луны. К счастью, Джон Верзила Джонс родился и вырос на Марсе, где тяготение составляет две пятых земного, так что ему не было особенно трудно. На Марсе он весил бы пятьдесят фунтов, а на Земле сто двадцать. Он подошёл к часовому, который, забавляясь, следил за ним. Часовой был в мундире Национальной лунной гвардии и привык к местному тяготению. Джон Верзила Джонс сказал:
— Эй! Не стой так мрачно. Я принес тебе пиво. Выпей!
Часовой удивился, потом с сожалением отказался:
— Не могу. На посту нельзя.
— Ну ладно. Справлюсь сам. Я Джон Верзила Джонс. Зови меня Верзила.
Он доходил часовому только до подбородка, а тот не был особенно высок, но когда Верзила протянул руку, он это делал как бы сверху вниз.
— Меня зовут Берт Уилсон. Ты с Марса? — Часовой взглянул на красно-зеленые полусапожки Верзилы. Только фермер с Марса может оказаться в таких сапогах в космосе.
Верзила с гордостью посмотрел на них.
— А как же. Сижу здесь уже неделю. Великий космос, что за скала эта Луна! Вы, парни, так и сидите, не выходя на поверхность?
— Иногда выходим. По делу. Там не на что смотреть.
— Хотел бы я выйти. Не люблю сидеть в курятнике.
— Вон там выход на поверхность.
Верзила взглянул туда, куда указывал палец сержанта. Коридор, тускло освещенный на удалении от Луна-сити, сужался и переходил в расщелину в стене. Верзила сказал:
— У меня нет костюма.
— Даже если бы захотел, ты не смог бы выйти. Без специального пропуска никому не разрешен выход — на время.
— А почему?
Уилсон зевнул.
— Там готовится к старту корабль. — Он взглянул на часы. — Минут через двенадцать. Может, после этого строгости отменят. Я не знаю, в чём дело.
Покачиваясь на пятках, часовой смотрел, как остатки пива исчезают в глотке Верзилы.
— А где брал пиво? В портовом баре Пэтси? Там много народу?
— Пусто. Слушай, что я тебе скажу. Тебе нужно пятнадцать секунд, чтобы туда добраться. Я постою за тебя и присмотрю, чтобы ничего не случилось.
Уилсон вожделенно посмотрел в направлении бара.
— Лучше не надо.
— Как хочешь.
Никто из них, похоже, не заметил фигуры, прокравшейся мимо по коридору и исчезнувшей в расселине, которая вела к прочной двери — выходу на поверхность. Ноги Уилсона сами пронесли его несколько шагов к бару. Потом он сказал:
— Нет! Не стоит!
Десять минут до старта. Это была идея Счастливчика Старра. Он находился в кабинете Конвея, когда пришло сообщение, что корабль земного регистра «Уолтхем Захари» был вскрыт пиратами, груз исчез, офицеры превратились в замороженные трупы, а большинство экипажа оказалось в плену. Сам корабль был слишком повреждён, чтобы пираты его захватили. Но всё, что можно было с него снять, они сняли, даже инструменты и двигатели. Дэвид сказал:
— Наш враг — пояс астероидов. Сто тысяч скал.
— Больше. — Конвей выплюнул сигарету. — Но что мы можем сделать? Даже когда Земная империя была полна сил, мы не смогли справиться с поясом астероидов. Десять раз отправлялись туда и очищали осиные гнезда, но оставляли достаточно, чтобы они возрождались и причиняли новые беды. Двадцать пять лет назад, когда…
Седовласый учёный замолчал. Двадцать пять лет назад родители Дэвида были убиты в космосе, а сам он, маленький мальчик, в одиночестве блуждал в пространстве. В спокойных карих глазах Счастливчика не отразилось никакого чувства.
— Беда в том, что мы даже не знаем, сколько астероидов и где они.
— Естественно. Нужно сто кораблей и сто лет, чтобы пометить все астероиды приличного размера. И даже тогда тяготение Юпитера не перестанет изменять их орбиты.
— Можно попробовать. Пусть до пиратов дойдёт слух о картографической экспедиции. Если мы пошлем один корабль, они не будут знать, что это немыслимая работа, и, побоявшись последствий картографирования, атакуют его.
— И что тогда?
— Допустим, мы пошлем автоматический корабль, полностью оборудованный, но без экипажа.
— Дорогое удовольствие.
— Оно может оправдаться. Корабль снабдим шлюпками, которые автоматически стартуют, когда приборы корабля зарегистрируют характерные колебания приближающегося гиператомного двигателя. Что сделают пираты?
— Расстреляют шлюпки, возьмут корабль на абордаж и отведут на свою базу.
— На одну из своих баз. Верно. Увидев шлюпки, они не удивятся, не найдя на борту экипажа. Ведь, в конце концов, это безоружный исследовательский корабль. От такого корабля не стоит ждать сопротивления.
— К чему ты ведешь?
— Предположим дальше, что корабль должен взорваться, если температура его корпуса поднимется выше двадцати градусов от абсолютного нуля, а так и будет, если его приведут в ангар на астероиде.
— Ты предлагаешь мину-ловушку?
— Огромную. Она расколет астероид на части и уничтожит десятки пиратских кораблей. Больше того, обсерватории на Церере, Весте, Юноне или Палладе зарегистрируют вспышку. Тогда мы сможем отыскать уцелевших пиратов и извлечь из них ценную информацию.
— Понятно.
Так началась работа над «Атласом».
Молчаливая фигура в расщелине, ведущей на поверхность, работала с уверенной быстротой. Запечатанные приборы, контролирующие доступ к шлюзу, подались под действием игольного теплового луча. Защитный металлический диск скользнул в сторону. Пальцы в чёрных перчатках стремительно работали несколько мгновений. Затем диск вернулся на своё место.
Дверь в шлюз раскрылась. Сигнал тревоги на этот раз не прозвучал, проводка за диском была выведена из строя. Фигура вошла в шлюз, дверь за нею закрылась. Перед тем как открыть дверь, ведущую из шлюза в вакуум, человек развернул принесенный с собой гибкий пластик. Он забрался в него. Материал полностью покрыл его тело, только перед глазами осталась прозрачная силиконовая пластина. К поясу был прикреплен маленький цилиндр с жидким кислородом, шланг от него шёл к капюшону. Это был полукосмический костюм, предназначенный для краткого пребывания в безвоздушном пространстве; он гарантировал безопасность только на полчаса.
Берт Уилсон, удивленный, покачал головой.
— Ты слышал?
Верзила раскрыл рот.
— Я ничего не слышал.
— Готов поклясться, что закрылась дверь шлюза. Но сигнала тревоги нет.
— А он должен быть?
— Конечно. Всегда следует знать, когда дверь открывается. Сигнал колоколом, когда есть воздух, и светом, когда его нет. Иначе кто-нибудь может оставить дверь открытой и весь воздух из корабля или коридора уйдёт.
— Ну хорошо. Но ведь тревоги нет, значит, не о чем и беспокоиться.
— Не уверен.
Низкими прыжками, каждый из которых покрывал двадцать футов в слабом лунном тяготении, часовой по коридору добрался до входа в шлюз. Остановившись на пути у стенной панели, он активировал три ряда флюоресцентных ламп, и всё вокруг залил дневной свет. Верзила следовал за ним более неуклюже, рискуя при каждом прыжке приземлиться носом.
Уилсон извлек бластер, осмотрел дверь, потом взглянул вдоль коридора.
— Ты уверен, что ничего не слышал?
— Ничего, — ответил Верзила. — Конечно, я не прислушивался.
Пять минут до нуля. Пемза разлеталась из-под ног человека в полукосмическом костюме, двигающегося к «Атласу». Космический корабль блестел в земном свете, но в безвоздушном пространстве Луны свет ни на миллиметр не проникал в тень хребта, частично скрывавшую корму. Тремя длинными прыжками фигура миновала освещенную часть и скрылась в тени корабля.
Человек на руках поднялся по лестнице, перелетая сразу через десять ступенек. Он добрался до корабельного шлюза. Через мгновение шлюз открылся. На «Атласе» появился пассажир. Один-единственный.
Часовой стоял перед шлюзом и с сомнением смотрел на него. Верзила продолжал болтать.
— Я здесь уже неделю. Должен ходить следом за приятелем и следить, чтобы он не попал в неприятности. Каково это для такого космического бродяги, как я? Даже возможности увильнуть не было…
Измученный часовой сказал:
— Отдохни, друг. Послушай, ты хороший малыш и всё такое, но давай в другой раз.
Ещё несколько мгновений он смотрел на приборы шлюза.
— Забавно.
Верзила начал зловеще потеть. Его лицо покраснело. Он схватил часового за локоть и развернул его, чуть не уронив при этом.
— Эй, приятель, ты кого это назвал малышом?
— Послушай, уходи!
— Минутку. Давай кое-что выясним. Не думай, что я позволю всякому насмехаться над собой только потому, что я не такой высокий, как сосед. Давай. Попробуем. Поднимай кулаки, иначе я расквашу тебе нос. — Он подпрыгивал и уворачивался.
Уилсон удивленно смотрел на него.
— Что в тебя вселилось? Перестань говорить глупости.
— Испугался?
— Я не могу драться на посту. К тому же я не хотел обидеть тебя. Я занят делом, и мне некогда с тобой возиться.
Верзила опустил кулаки.
— Эй, похоже, корабль стартует.
Звука, разумеется, не было: звук в вакууме не распространяется, но поверхность под их ногами слегка качнулась в ответ на удары ракетных выхлопов, поднимавших корабль.
— Всё в порядке. — Уилсон сморщил лоб. — Наверно, не стоит сообщать в рапорте. Во всяком случае, уже слишком поздно. — И он забыл о приборах шлюза.
Старт! Люк выложенной керамическими плитами стартовой шахты раскрылся над «Атласом», и главные двигатели выбросили в шахту свои газы. Медленно и величественно корабль начал подниматься. Скорость его росла. Он прорезал чёрное небо и превратился в звезду среди множества звёзд, а потом исчез совсем.
Доктор Хенри в пятый раз взглянул на часы и сказал:
— Ну, корабль ушёл. Должен был уже уйти. — И черенком трубки указал на циферблат.
Конвей предложил:
— Свяжемся с администрацией порта.
Пять секунд спустя они на экране увидели опустевший порт. Стартовая шахта всё ещё была открыта. Даже в страшном морозе лунной ночи она дымилась. Конвей покачал головой.
— Какой прекрасный был корабль.
— Он всё ещё прекрасен.
— Я думаю о нём в прошедшем времени. Через несколько дней он превратится в поток расплавленного металла. Это обреченный корабль.
— Будем надеяться, что база пиратов тоже обречена.
Хенри печально кивнул. Они оба повернулись на звук открывшейся двери. Но это был всего лишь Верзила. Он улыбался.
— О ребята, как хорошо в Луна-сити. С каждым шагом чувствуешь, как к тебе возвращается твой вес. — Он топнул и два или три раза подпрыгнул. — Попробуйте сами, — предложил он, — только не ударьтесь о потолок, глупо будете выглядеть.
Конвей нахмурился.
— Ты не знаешь, где Счастливчик?
— Да, знаю. Скажите, «Атлас» взлетел?
— Да, — ответил Конвей. — А где же всё-таки Счастливчик?
— На «Атласе», конечно. Где же ему ещё быть?
Глава 2
ПАРАЗИТЫ КОСМОСА
Доктор Хенри уронил трубку, она подпрыгнула на линолитовом покрытии пола, но он не обратил на это внимания.
— Что?
Конвей покраснел, и его лицо резко контрастировало с белоснежными волосами.
— Это шутка?
— Нет. Он забрался туда за пять минут до старта. Я разговаривал с часовым, парнем по имени Уилсон, и не дал ему вмешаться. Я уже готов был подраться с этим парнем и показал бы ему пару приёмов, — он проделал в воздухе один-два резких удара, — но тот струсил.
— Вы позволили ему? И не предупредили нас?
— Как я мог? Я во всем должен подчиняться Счастливчику. Он сказал, что должен сесть в последнюю минуту и так, чтобы никто не знал, иначе вы и доктор Хенри помешаете ему.
Конвей простонал:
— Он это сделал. Клянусь космосом, Гус, я должен был не доверять этому марсианину размером с пинту. Верзила, вы глупец! Вы знаете, что корабль — ловушка?
— Конечно. Счастливчик тоже знает. Он велел не посылать за ним корабль, иначе всё пойдёт насмарку.
— Пойдёт насмарку? Через час мы его догоним.
Хенри схватил своего друга за рукав.
— Может, не стоит, Гектор. Мы не знаем его планов, но можно доверять его способности выбираться из любого положения. Давай не вмешиваться.
Конвей откинулся, содрогаясь от гнева и беспокойства.
Верзила продолжал:
— Он добавил, что мы встретимся с ним на Церере, и ещё, доктор Конвей, он просил передать, чтобы вы не давали волю своему характеру.
— Вы… — начал Конвей, и Верзила торопливо покинул комнату.
Орбита Марса осталась позади, и солнце заметно уменьшилось. Дэвид Старр любил тишину космоса. После того как он окончил колледж и начал работать в Совете Науки, не поверхность планет, а скорее космос был его домом. «Атлас» — комфортабельный корабль. Он снабжен продовольствием в расчёте на полный экипаж, запас был не полон, но это должно было объясняться потреблением по дороге к астероидам. Во всех отношениях корабль должен выглядеть так, будто до самого появления пиратов имел полный экипаж. Счастливчик съел синтобифштекс с дрожжевых полей Венеры, марсианское печенье и бескостного цыпленка с Земли.
«Растолстею», — подумал он, наблюдая за небом. Он находился уже достаточно близко, чтобы рассмотреть крупные астероиды. Видна была Церера, самый большой из них, почти пятисот миль в диаметре. Веста находилась по другую сторону от Солнца, но Юнона и Паллада тоже были видны. С помощью корабельного телескопа он нашёл бы их больше — тысячи, может быть, десятки тысяч. Им нет числа.
Некогда считалось, что между орбитами Марса и Юпитера существовала планета, которая очень давно разорвалась на осколки, но на самом деле этого не было. Злодеем оказался Юпитер. Когда формировалась Солнечная система, гигантское гравитационное поле Юпитера искажало пространство на сотни миллионов миль. Под влиянием тяготения Юпитера космические частицы за орбитой Марса не смогли собраться в единую массу. Вместо этого образовались мириады малых миров. Из них четыре наибольших имеют свыше ста миль в диаметре. Полторы тысячи — от десяти до ста миль. Тысячи (никто точно не знает, сколько) — с диаметром от мили до десяти миль и десятки тысяч — менее мили; впрочем, эти малые астероиды всё равно гораздо больше великой пирамиды. Их так много, что астрономы прозвали их «паразитами космоса».
Астероиды разбросаны по всему району между Марсом и Юпитером, каждый движется по своей орбите. Ни одна известная человеку планетная система в Галактике не обладает подобным поясом. В некотором смысле это хорошо. Астероиды послужили промежуточными пунктами для достижения больших планет. Но в чём-то это и плохо. Любой преступник, оказавшийся в поясе астероидов, мог не опасаться быть пойманным, разве что по редчайшей случайности. Никакая полиция не смогла бы обыскать все эти летающие горы. Самые маленькие астероиды не принадлежали никому. На больших располагались обсерватории, самая известная из них — на Церере. На Палладе — бериллиевые шахты, а Юнона и Веста стали главными заправочными станциями. Но, помимо них, оставалось свыше пятидесяти тысяч астероидов значительных размеров, над которыми у Земной империи не было абсолютно никакого контроля. На некоторых из них мог размещаться целый флот, на других — один-единственный крейсер, и ещё оставалось место для запаса питания, воды и топлива на полгода. И их невозможно нанести на карту. Даже в древние доатомные времена, до космических полётов, когда было известно всего полторы тысячи астероидов, этого сделать не удавалось. Их орбиты тщательно рассчитывали при помощи астрономических наблюдений, но всё равно астероиды «терялись». Потом их находили вновь, но уже в другом месте.
Дэвид очнулся от раздумий. Чувствительный эргометр воспринимал пульсации космоса. Он находился на контрольном пульте корабля. Прибор был изолирован от устойчивого потока солнечной энергии, прямой или отражённой от планет. То, что он принимал сейчас, было характерной чередующейся пульсацией гиператомного двигателя. Старр включил эргограф, и приток энергии отразился в ряде линий. Счастливчик рассматривал полоску разграфленной бумаги, и его челюсти сжимались.
Существовала возможность встречи с обычным торговым или пассажирским кораблем, но характер излучения был совсем иной. У приближающегося корабля — двигатели высокого класса, и притом непохожие на земные. Прошло пять минут, прежде чем накопилось достаточно данных для расчёта направления движения и расстояния до источника энергии. Старр отрегулировал экран для наблюдений через телескоп, и всё его поле заполнилось звёздами. Он старательно рассматривал бесконечно молчаливые, бесконечно далекие, бесконечно неподвижные звёзды, пока его глаз не уловил движение, а данные различных линий эргометра не слились в сплошной нуль. Это пират. Несомненно! Он видел очертания той его половины, что блестела на солнце. Стройный грациозный корабль, скоростной и манёвренный. И к тому же чужой на вид.
«Сирианская конструкция», — подумал Счастливчик. Он следил за медленно выраставшим на экране кораблем. Не за таким ли кораблем следили его отец и мать в последний день их жизни?
Дэвид Старр едва помнил отца и мать, но видел их фотографии и слышал бесконечные рассказы о Лоуренсе и Барбаре Старр от Хенри и Конвея. Они были неразлучными друзьями: высокий серьёзный Гус Хенри, холерический упрямый Гектор Конвей и быстрый смешливый Ларри Старр. Они вместе учились в школе, одновременно окончили колледж, поступили в Совет и все назначения выполняли вместе. А потом Лоуренс Старр получил повышение и должен был по делам лететь на Венеру. Так он, его жена и четырёхлетний сын оказались на корабле, на который напали пираты. Многие годы Дэвида преследовали мысли о том, каким был последний час на умирающем корабле. Вначале повреждение главного двигателя на корме корабля, пока пираты и их жертва были разделены в пространстве. Затем взрыв шлюзов и абордаж. Команда и пассажиры в скафандрах, чтобы не погибнуть, когда вскроют люки. Экипаж вооружен и ждёт. Пассажиры прячутся внутри судна без всякой надежды. Женщины плачут. Дети кричат. Его отец не был среди прячущихся. Он был членом Совета. Он был вооружен и сражался. Дэвид уверен в этом. Одно короткое воспоминание сохранилось в его памяти. Его отец, высокий сильный человек, стоит с бластером в руке, и на лице редкое для него выражение гнева. Дверь контрольной рубки с грохотом падает, врывается облако чёрного дыма. И мать, с заплаканным и грязным лицом, которое ясно видно сквозь прозрачный шлем, усаживает его, Дэвида, в шлюпку. «Не плачь, маленький, всё будет хорошо…»
Это единственные слова матери, которые он помнит. Затем грохот, и его прижимает к спинке кресла.
Шлюпку нашли через два дня, когда поймали автоматически подаваемый сигнал запроса помощи. Вслед за этим правительство организовало грандиозную кампанию против пиратов астероидов, и Совет вложил в неё все свои силы. Пираты поняли, что убийство одного из членов Совета оборачивается большой бедой. Обнаруженные на астероидах базы были уничтожены, а угроза нападений пиратов сведена к минимуму на двадцать лет. Но Счастливчик часто гадал, нашли ли тот самый пиратский корабль, на котором находились люди, убившие его родителей? Определить это было невозможно.
А теперь угроза возродилась в менее красочном, но гораздо более опасном виде. Пиратство больше не было уделом одиночек. Оно всё более походило на организованную борьбу с земной торговлей. Больше того, по манере ведения военных действий Дэвид чувствовал, что за всем этим стоит один мозг, одно стратегическое решение. Он знал, что должен отыскать этот мозг.
Он ещё раз взглянул на эргометр. Регистрируемый поток энергии усилился. Встречный корабль находился на расстоянии, на котором космическая вежливость требует обмена обычными посланиями и взаимной идентификации. Кстати, расстояние позволяло пиратам начать враждебные действия. Пол под Старром дрогнул. Это не залп бластеров другого корабля, а отдача отходящих шлюпок. Поток энергии стал достаточно силен, чтобы активировать автоматический контроль шлюпок. Ещё толчок. Ещё. Пять подряд.
Дэвид внимательно следил за приближающимся кораблем.
Пираты часто расстреливают такие шлюпки, отчасти из извращенного желания позабавиться, отчасти чтобы помешать беглецам описать их корабль, если они ещё не сделали этого по субэфиру. На этот раз, однако, корабль не обратил на шлюпки никакого внимания. Он приблизился. Выскочили магнитные зажимы и закрепились на корпусе «Атласа»; два корабля оказались прочно скрепленными, их движения в космосе уравнялись. Счастливчик ждал.
Он слышал, как вначале открылся, потом закрылся шлюз. Он слышал звон шагов и звуки снимаемых шлемов, потом голоса. Он не двигался. В дверях появился человек. Шлем и перчатки он снял, но вся его фигура была одета в покрытый льдом космический костюм. Когда костюм из космоса, где почти абсолютный ноль, попадает в теплую и влажную атмосферу корабля, он обычно покрывается льдом. Лёд начал таять. Только сделав два шага в рубку, пират заметил Дэвида. Он остановился, на его лице застыло почти комическое выражение удивления. Счастливчик успел заметить редкие чёрные волосы, длинный нос и белый шрам от носа к губам, который делил верхнюю губу на две неравных части.
Дэвид спокойно выдержал удивленный взгляд пирата. Он не боялся, что его узнают. Активно действующие члены Совета работают тайно, они понимают, что слишком хорошее знакомство с их внешностью заметно уменьшает шансы на успех. Лицо его отца появилось в субэфире только после смерти. С чувством горечи Счастливчик подумал, что, возможно, большая известность предотвратила бы нападение пиратов. Но он знал, что это глупо. К тому времени, когда пираты увидели Лоуренса Старра, было уже слишком поздно останавливать нападение. Дэвид сказал:
— У меня бластер. Использую его, если ты возьмешься за свой. Не двигайся.
Пират открыл рот. Снова закрыл.
Дэвид продолжал:
— Если хочешь позвать остальных, давай.
Пират подозрительно посмотрел на него, потом, не отрывая взгляда от бластера Старра, крикнул:
— Тут парень с пистолем!
Послышался смех, затем кто-то приказал:
— Тихо!
Ещё один человек вошёл в рубку.
— Отойди, Динго, — сказал он.
Космический костюм он снял и представлял собой совершенно неуместное на корабле зрелище. Одежда его могла быть сшита в самой модной мастерской Интернационального Города и больше подходила для торжественного обеда на Земле. Рубашка выглядела шелковистой, как бывает только у лучших сортов пластекса. её радужный цвет, не кричащий, а скорее приглушенный, сливался с цветом брюк, которые плотно облегали ноги, так что если бы не расшитый пояс, они казались бы одним целым с рубашкой. На руке была повязка, соответствующая поясу, на шее — мягкий голубой платок. Кудрявые каштановые волосы завиты и хорошо ухожены. Он был на полголовы ниже Дэвида, но по его поведению молодой советник видел, что любое предположение о мягкости характера, сделанное на основании пижонского костюма, будет неверным. Новоприбывший заговорил приятным голосом:
— Меня зовут Антон. Не опустите ли вы ваш бластер?
Старр спросил:
— И буду застрелен?
— Возможно, через некоторое время, но не сейчас. Я вначале хотел бы вас расспросить.
Дэвид не опустил оружие. Антон добавил:
— Я держу своё слово. — На его щеках появились красные пятна. — Это моя единственная добродетель среди тех, что люди считают добродетелями, но её я держусь крепко.
Счастливчик отдал бластер, и Антон передал его другому пирату.
— Возьми, Динго, и убирайся отсюда. — Он повернулся к Старру. — Другие пассажиры улетели в шлюпках? Верно?
Дэвид сказал:
— Это ловушка, Антон…
— Капитан Антон, пожалуйста. — Он улыбнулся, но ноздри его раздулись.
— Это ловушка, капитан Антон. Очевидно, вы знаете, что на борту не было ни экипажа, ни пассажиров. Вы знали это, ещё не ступив на борт.
— На самом деле? Откуда вы это взяли?
— Вы приблизились к кораблю без сигналов и предупреждающих выстрелов. Вы не ускорялись. Вы игнорировали стартовавшие шлюпки. Ваши люди вошли в корабль спокойно, как будто не ожидали сопротивления. У человека, который первым вошёл сюда, бластер был в кобуре. Выводы очевидны.
— Хорошо. А вы что делаете на корабле без экипажа и пассажиров?
Старр решительно ответил:
— Я прибыл сюда, чтобы увидеться с вами, капитан Антон.
Глава 3
ДУЭЛЬ НА СЛОВАХ
Выражение лица Антона не изменилось.
— Ну вот вы и встретились со мной.
— Но не один на один, капитан. — Счастливчик медленно растянул губы в улыбке.
Антон быстро оглянулся. Свыше десяти его людей, в космических костюмах на разной стадии их снятия, набились в рубку и слушали с интересом. Капитан слегка покраснел. Он повысил голос:
— А ну, подонки, займитесь своими делами. Мне нужен полный отчет о состоянии корабля. И держите оружие наготове. На борту могут быть ещё люди, и, если кого-нибудь из вас поймают, как Динго, я вышвырну его в шлюз.
Началось медленное сдержанное передвижение наружу.
Голос Антона перешёл в крик:
— Быстро! Быстро! — Одно движение, и в руке его оказался бластер. — Стреляю при счёте три. Один… два…
Никого не осталось. Антон снова взглянул на Дэвида. Глаза его блестели, и воздух порывисто вырывался изо рта.
— Дисциплина — великое дело, — выдохнул он. — Они должны бояться меня. Бояться больше, чем пленения Земным флотом. Тогда у корабля один мозг и одна рука. Мой мозг и моя рука.
«Да, — подумал Счастливчик, — один мозг и одна рука. Но чьи? Твои?»
На лицо Антона вернулась улыбка, мальчишеская, дружеская и открытая.
— Теперь говорите, что вы хотели.
Дэвид пальцем указал на бластер капитана, всё ещё обнаженный и готовый к действию, и улыбнулся так же.
— Имеете желание пристрелить меня? Давайте, и покончим с этим.
Антон был потрясен.
— Великий космос! Вы хладнокровный человек. Я стреляю, когда хочу. Так мне больше нравится. Как ваше имя?
Бластер по-прежнему был нацелен на Счастливчика.
— Уильямс, капитан.
— Вы высокий человек, Уильямс. И кажетесь сильным. Но стоит мне нажать пальцем, — и вы мертвы. Я считаю это очень поучительным. Два человека и один бластер — в этом весь секрет власти. Вы когда-нибудь думали о власти, Уильямс?
— Иногда.
— Вам не кажется, что в ней единственный смысл жизни?
— Может быть.
— Я вижу, вам не терпится перейти к делу. Начнем. Почему вы здесь?
— Я слышал о пиратах.
— Мы люди астероидов, Уильямс. Никаких других названий.
— Это мне подходит. Я прилетел, чтобы присоединиться к людям астероидов.
— Вы мне льстите, но мой палец по-прежнему на курке бластера. Почему вы хотите присоединиться к нам?
— Все возможности на Земле закрыты, капитан. Человек, подобный мне, не может быть бухгалтером или инженером. Я мог бы даже управлять фабрикой или возглавлять собрания держателей акций. Не имеет значения. Всё это рутина. Я знал бы свою жизнь с начала до конца. Ни приключений, ни неопределённости.
— Вы философ, Уильямс. Продолжайте.
— Есть, конечно, колонии, но меня не привлекает жизнь фермера на Марсе или смотрителя чанов на Венере. Меня привлекает жизнь на астероидах. Вы живёте трудно и опасно. Тут человек может добиться власти, как вы. Вы сами сказали, что власть — единственный смысл жизни.
— И вы спрятались на пустом корабле?
— Я не знал, что он пустой. Мне нужно было где-то спрятаться. Законное космическое путешествие стоит дорого, а билеты в пояс астероидов в наши дни не продают. Я знал, что этот корабль — часть картографической экспедиции. Дошли слухи, что он направляется к астероидам. Поэтому я ждал почти до старта. Когда все готовились к взлету, а люки ещё были открыты, мой приятель отвлек внимание часового. Я думал, что мы остановимся на Церере: она должна быть главной базой астероидной экспедиции. Мне казалось, что оттуда я доберусь до места без труда. Экипаж составят астрономы и математики. Забери у них очки — и они ослепнут. Направь на них бластер — и они умрут или испугаются. На Церере я мог бы связаться с пи… с людьми астероидов. Очень просто.
— Но на борту вас ждал сюрприз. Верно? — спросил Антон.
— Ещё бы. Никого на борту, и, прежде чем я это понял, корабль взлетел.
— А к чему бы это, Уильямс? Как вы считаете?
— Не знаю. Не могу понять.
— Ну что ж, посмотрим, не найдем ли разгадку вместе. — Он указал бластером на выход и резко сказал: — Пошли!
Глава пиратов вышел из рубки в длинный центральный коридор корабля. Из двери впереди вышло несколько человек. Они обменивались негромкими замечаниями, но все замолчали при виде Антона. Антон приказал:
— Подойдите.
Все приблизились. Один из них тыльной стороной руки вытер седые усы и сказал:
— Никого на борту, капитан.
— Хорошо. Что вы о нём думаете?
Пиратов было четверо. Но постепенно их количество росло, присоединялись всё новые. Голос Антона стал резким.
— Что вы думаете о корабле?
Вперёд протиснулся Динго. Он снял костюм, и теперь Дэвид мог разглядеть его. Широкий, тяжелый, руки слегка согнуты и свисают с мускулистых плеч. На пальцах пучки чёрных волос, шрам на верхней губе дергается. Он, не отрывая взгляда от Старра, ответил:
— Мне не нравится.
— Тебе не нравится корабль? — резко спросил Антон.
Динго колебался. Он расправил плечи, выпрямил руки.
— Воняет.
— Как это? Что ты хочешь сказать?
— Я мог бы разобрать его консервным ножом. Спросите остальных, они согласятся. Эта клетка скреплена зубочистками. Продержится не больше трёх месяцев.
Послышался одобрительный ропот. Человек с седыми усами добавил:
— Прошу прощения, капитан, но проводка местами держится только на изоляции. Плохая работа. Изоляция кое-где прогорела.
— Вся сварка сделана в спешке, — заметил другой. — Вот такие щели, — он показал толстый грязный палец.
— Как насчёт ремонта? — поинтересовался Антон.
Динго ответил:
— Потребуется целый год и ещё воскресенье. Не стоит труда. Да мы и не можем это сделать здесь. Придётся брать на одну из скал.
Антон повернулся к Дэвиду и вежливо объяснил:
— Мы всегда называем астероиды скалами, понимаете?
Счастливчик кивнул.
Антон продолжал:
— По-видимому, мои люди считают, что им не летать в этом корабле. И как вы думаете, зачем Земное правительство отправило пустой корабль, к тому же так плохо собранный? Как добычу для пиратов?
— Я недоумеваю всё больше и больше, — сказал Дэвид.
— Продолжим обследование.
Антон пошёл первым, Счастливчик за ним. Остальные молча двигались сзади. Старр ощущал мурашки на затылке. Антон шёл прямо и бесстрашно, как будто не ожидал нападения Счастливчика. Конечно, он не ожидает. За Счастливчиком достаточно вооруженных людей.
Они осмотрели маленькие помещения, сконструированные с величайшей экономией: компьютерное помещение, маленькая обсерватория, фотолаборатория, камбуз и каюты. Потом перешли на нижний уровень по узкой изогнутой трубе, которую в поле псевдогравитации можно было настраивать как ведущую и «вверх» и «вниз». Дэвиду велели спускаться первым, Антон последовал за ним так близко, что Старр едва успел увернуться (его ноги слегка подгибались от неожиданно вернувшейся тяжести) от сапог капитана. Жесткие тяжелые космические сапоги миновали его лицо на расстоянии дюйма. Сохранив равновесие, Старр гневно повернулся, но Антон приятно улыбался, его бластер был нацелен прямо в сердце Дэвида.
— Тысяча извинений, — сказал он. — К счастью, вы весьма проворны.
— Да уж, — пробормотал Счастливчик.
На нижнем уровне располагались двигатели и энергоустановки. Тут же были пустые ангары шлюпок, запасы пищи, воды, топлива, освежители воздуха, атомная экранировка. Антон негромко спросил:
— Ну, и что вы об этом думаете? Может быть, всё низкосортное, но ничего необычного я не вижу.
— Трудно сказать, — ответил Старр.
— Но вы прожили на корабле несколько дней.
— Конечно, но я не разглядывал его. Просто ждал, пока он придёт куда-нибудь.
— Понятно. Ну что ж, вернемся на верхний уровень.
Дэвид опять путешествовал по трубе первым. На этот раз он легко приземлился и с грацией кошки отпрыгнул на шесть футов. Прошли секунды, прежде чем из трубы появился Антон.
— Нервничаете? — спросил он.
Счастливчик вспыхнул.
Один за другим появлялись пираты. Антон не стал дожидаться всех, а пошёл по коридору.
— Знаете, — сказал он, — можно подумать, что мы осмотрели весь корабль. Большинство людей сказало бы так. А вы?
— Нет, — спокойно ответил Дэвид, — мы ещё не были в душевой.
Антон нахмурился, приятное выражение покинуло его лицо, место его занял гнев, но тут же исчез. Антон поправил прическу и с интересом взглянул на свою руку.
— Что ж, заглянем и туда.
Пираты свистнули или удивленно воскликнули, когда открылась соответствующая дверь.
— Прекрасно, — пробормотал Антон. — Прекрасно. Роскошно, я бы сказал.
Действительно! Сомнений в этом не было. Три душа, приспособленных для мытья (теплая вода) и закаливания (горячая и ледяная); с полдюжины раковин для умывания, хромированных, с углублением для шампуня; установки для сушки волос; игольные стимуляторы кожи. Не было упущено ничего из необходимого.
— Тут нет ничего второсортного, — отметил Антон. — Как шоу в субэфире, а, Уильямс? Что вы на это скажете?
— Я в затруднении.
Улыбка Антона исчезла, как космический корабль, пролетевший по экрану.
— А я нет. Динго, подойди сюда.
Глава пиратов обратился к Старру:
— Простая проблема. Мы имеем корабль, сляпанный на скорую руку. На нём никого. Всё делалось в спешке. А ванная по последнему слову. Почему? Просто для того, чтобы здесь было как можно больше труб. А это для чего? Чтобы мы не заподозрили, что одна или две из них поддельные… Динго, которая из них?
Динго пнул одну.
— Не пинайся, ублюдок! Разбери её.
Вспыхнуло микротепловое ружье. Динго отвел проводку.
— Что это, Уильямс? — спросил Антон.
— Провода, — кратко ответил Дэвид.
— Я вижу, болван. — Капитан неожиданно разъярился. — Что ещё? Я вам скажу, что ещё. Проводка должна взорвать весь атомит на борту корабля, как только мы приведем его на базу.
Счастливчик отпрянул.
— Откуда вы знаете?
— Удивлены? Вы не знали, что это большая мина? Не знали, что мы должны были бы отвести корабль на ремонт? Не знали, что вместе с базой должны были превратиться в огненную пыль? Вы здесь наживка, чтобы мы были по-настоящему одурачены. Только я не дурак!
Его люди придвинулись ближе. Динго облизал губы.
Антон резко поднял бластер, и в глазах его не было и тени милосердия.
— Подождите! Великая Галактика, подождите! Я об этом ничего не знаю. Вы не имеете права расстреливать меня без причины. — Он напрягся для последнего прыжка, для предсмертной схватки.
— Не имеем права? — Антон неожиданно опустил бластер. — Как вы смеете так говорить? На борту у меня все права.
— Вы не должны убивать полезного человека. Людям астероидов такие нужны. Не выбрасывайте одного из них.
Некоторые пираты одобрительно зашумели. Послышался голос:
— У него хорошая начинка, капитан. Мы смогли бы…
Голос замер, как только Антон повернулся.
Антон вернулся к Старру.
— А что делает вас полезным человеком, Уильямс? Отвечайте, и я подумаю.
— Я сражусь с любым из вас. На кулаках или на любом оружии.
Да? — Антон оскалил зубы. — Вы это слышали, ребята? — Послышался подтверждающий рёв. — Вы бросаете нам вызов, Уильямс. Любое оружие, а? Хорошо. Выберетесь живым, и вас не расстреляют. Я подумаю, не сделать ли вас членом моего экипажа.
— Ваше слово, капитан?
— Моё слово. Я его никогда не нарушаю. Экипаж слышал меня. Если выйдете живым.
— С кем я буду сражаться?
— С Динго. Он хороший человек. Всякий, кто его победит, очень хороший человек.
Счастливчик взглядом измерил огромную глыбу хрящей и мускулов, стоящую перед ним, и уныло согласился с капитаном. Глаза Динго блестели от предвкушения. Дэвид спросил:
— Какое-либо оружие? Или на кулаках?
— Оружие! Точнее — толчковые пистолеты. Толчковые пистолеты в открытом космосе.
На мгновение Старру трудно было сохранить спокойствие. Антон улыбнулся:
— Вы боитесь, что испытание недостойно вас? Не бойтесь. Динго лучше всех управляется с толчковым пистолетом во всем флоте.
Сердце Счастливчика упало. Дуэль на толчковых пистолетах требует искусства. Очень большого! Когда он занимался этим в колледже, это был спорт. Когда схватываются профессионалы, это смертельно. А он не профессионал!
Глава 4
ДУЭЛЬ НА ДЕЛЕ
Пираты столпились на наружной поверхности «Атласа» и своего собственного корабля сирианской постройки. Некоторых удерживали магнитные подошвы башмаков. Другие, чтобы лучше видеть, повисли в пространстве, прикрепленные к корпусу магнитными кабелями. В пятидесяти милях друг от Друга находились два шара-гола из металлической фольги. На борту фольга в свернутом виде занимала не больше трёх квадратных футов, а в пространстве раскрывалась в стофутовые тончайшие поверхности из бериллиево-магнезиумного сплава. Не затененные в великой пустоте космоса, шары вращались, и отражение солнца от их поверхности видно было на многие мили.
— Правила вы знаете, — громко послышался в наушниках Старра, очевидно и Динго тоже, голос Антона.
Дэвид видел одетую в скафандр фигуру противника как солнечную точку в миле от него. Шлюпка, привезшая их, двигалась назад, к пиратскому кораблю.
— Вы знаете правила, — доносился голос Антона. — Тот, кого вытолкнули за пределы его площадки, проиграл. Если никого не вытолкнут, проигрывает тот, у кого раньше истощится заряд толчкового пистолета. Никаких ограничений во времени. Нет положения вне игры. У вас пять минут для подготовки. Использовать толчковые пистолеты только после моей команды.
«Нет положения вне игры», — подумал Счастливчик. Он выдал свою цель. Толчковые дуэли как легальный спорт обычно проводятся на расстоянии не более ста миль от астероида по крайней мере пятидесяти миль в диаметре. В таком случае игроки испытывают пусть слабое, но определённое тяготение. Его недостаточно, чтобы помешать подвижности. Но его вполне достаточно, чтобы отыскать дуэлянта с истощенным зарядом пистолета в космосе. Даже если его не подберёт спасательная шлюпка, ему нужно только потерпеть несколько часов, от силы один-два дня, и тяготение приведет его на поверхность астероида.
Здесь же поблизости на сотни тысяч миль нет ни одного астероида. Толчок будет продолжаться бесконечно. И скорее всего закончится в Солнце, много времени спустя после того, как неудачливый дуэлянт погибнет от отсутствия кислорода. В таких условиях обычно, когда один из соперников выходит за определённые пространственные границы, объявляется положение вне игры и противников возвращают на место. Сказать «нет положения вне игры» — всё равно что сказать «дуэль до смерти».
Голос Антона чётко и ясно слышался через мили пространства, разделяющие его и приёмник в шлеме Старра. Он произнес:
— Две минуты до начала. Включите световые сигналы.
Дэвид опустил руку и нажал кнопку на груди. Цветная металлическая фольга, ранее намагниченная, сейчас развернулась над его шлемом. Это был миниатюрный гол. Фигура Динго, которая раньше казалась лишь светлой точкой, превратилась в большой красный сигнал. Его собственный сигнал, Счастливчик это знал, ослепительно зеленый. А большие голы белые. Даже в эти мгновения частью мозга Дэвид продолжал обдумывать ситуацию. С самого начала он попытался возразить:
— Послушайте, я согласен, понимаете? Но пока мы будем забавляться, могут подойти правительственные корабли…
Антон презрительно рявкнул:
— Забудьте о них. Ни один патрульный корабль не зайдёт так далеко в скалы. У нас в пределах вызова сто кораблей и тысяча скал, где мы можем укрыться. Надевайте костюм.
Сотня кораблей! Тысяча скал! Если это правда, пираты ни разу не показывали полностью свою силу. Что происходит?
— Осталась минута! — донесся через пространство голос Антона. Старр решительно извлек два своих толчковых пистолета. Это были предметы L-образной формы, присоединенные пружинистой гибкой трубкой к похожему на пончик цилиндру с газом (жидкой двуокисью углерода под большим давлением). Цилиндр был прикреплен к его поясу. Когда-то соединительная трубка делалась из металла. Металл крепче, но и массивнее, поэтому он добавлял инерционную массу. А в толчковых дуэлях очень важно целиться и стрелять быстро. Когда изобрели силикон, способный сохранять гибкость при космических температурах и не делаться липким под прямыми лучами солнца, повсеместно стали использовать этот более лёгкий материал.
— Можно стрелять! — выкрикнул Антон.
Мгновенно выстрелил один из пистолетов Динго. Жидкая двуокись углерода вырвалась из иглоподобного отверстия и превратилась в газ. В шести дюймах от жерла газ застывал линией крошечных кристаллов, и линия эта растягивалась на мили. Кристаллы летели в одну сторону, Динго — в противоположную, как космический корабль на ракетных двигателях в миниатюре. Трижды вспыхивала кристаллическая линия и таяла удаляясь. Она была направлена в космос прямо от Счастливчика. Динго набирал скорость, приближаясь к нему. Видимое положение обманчиво. Видно было только, как ярче стал сигнал Динго, но Старр знал, что расстояние между ними быстро сокращается. Чего ожидать и какую защитную стратегию выбрать, он не знал. Ему нужно было, чтобы намерения противника стали яснее.
Динго был уже достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть человеческую фигуру с головой и четырьмя конечностями. Он двигался мимо и не делал попыток изменить свой курс. Казалось, он намерен оставаться слева от Дэвида. Тот продолжал ждать. Крики, звучавшие в микрофонах, стихли. Хотя соперники были далеко, наблюдатели видели их световые сигналы и вспышки линий. «Они чего-то ждут», — подумал Счастливчик. Всё произошло неожиданно.
Вспышка двуокиси углерода, ещё одна справа от Динго, и линия его полёта резко сместилась в сторону молодого советника. Дэвид приготовил свой пистолет, чтобы выстрелить вниз и избежать сближения. «Это самая безопасная стратегия, — подумал он, — двигаться как можно меньше и сберегать двуокись углерода». Но Динго не продолжил свой полёт к противнику. Он выстрелил прямо перед собой и начал уменьшаться. Старр следил за ним и слишком поздно уловил блеск струи. Линия двуокиси углерода двигалась прямо вперёд, а Счастливчик — налево, и в определённый момент они встретились. Он почувствовал сильный удар в плечо.
Кристаллы двуокиси крошечные, но они растягиваются на мили и двигаются с большой скоростью. В мгновение они все ударились о костюм Дэвида. Костюм задрожал, послышались возбуждённые крики.
— Попал, Динго!
— Что за выстрел!
— Прямо к голу! Вы только поглядите!
— Прекрасно! Прекрасно!
— Смотрите, как вертится этот шут гороховый!
Были и другие возгласы, более сдержанные. Счастливчик вращался, вернее, ему казалось, что небо и звёзды вращаются вокруг него. Мимо прозрачной лицевой пластины его шлема звёзды проносились белыми полосками, как будто они сами были кристалликами двуокиси углерода. Он не видел ничего, кроме этих многочисленных полосок. Казалось, что удар на несколько мгновений отнял у него способность думать.
Удар в солнечное сплетение и другой — в спину послали его ещё дальше по траектории в пустое пространство. Он должен что-то предпринять, иначе Динго будет гонять его, как футбольный мяч, по всей Солнечной системе. Прежде всего остановить вращение и сориентироваться. Он вращался по диагонали, через левое плечо и правое бедро. Нацелив толчковый пистолет в направлении, противоположном вращению, Дэвид выпустил струю двуокиси углерода. Звёзды замедлили свой полёт и превратились в сверкающие точки. Небо вновь стало знакомым небом космоса.
Одна звезда оставалась слишком яркой. Дэвид знал, что это его гол. Почти напротив виднелся гневно-красный сигнал Динго. Старр не мог позволить вытеснить себя за пределы гола, иначе дуэль будет окончена и он погибнет. Миля за гол — таково стандартное правило прекращения дуэли. Но, с другой стороны, он не должен и сближаться с противником. Он поднял пистолет прямо над головой, нажал кнопку и держал так. Отсчитал минуту, прежде чем разжал палец, и все шестьдесят секунд чувствовал давление на шлем. Он стремительно двигался вниз. Отчаянный манёвр. В одну минуту он выбросил почти половину своего запаса двуокиси углерода.
Динго хрипло крикнул:
— Грязный трус! Желтокожий кривляка!
Крики аудитории взвились до неба.
— Как он улепетывает!
— Он прошёл мимо Динго. Динго, покажи ему!
— Эй, Уильямс, не увиливай!
Счастливчик снова увидел красное пятно — сигнал своего врага. Он должен продолжать двигаться. Больше ничего не остаётся. Динго — профессионал, он попадет в пролетающий мимо дюймовый метеорит. А он сам, печально подумал Дэвид, на расстоянии мили не попадет и в Цереру. Попеременно используя свои пистолеты, Счастливчик стрелял налево, направо, затем быстро направо, налево и снова направо.
Никакого результата. Как будто Динго предвидел его действия, он двигался следом неотвязно, срезая углы. Дэвид почувствовал пот на лбу и вдруг понял, что больше не слышит криков. Он не помнил точно, когда они прекратились, но как будто оборвали нить. Одно мгновение слышались крики и смех пиратов, а в следующее — мертвая тишина космоса. Он вылетел за пределы досягаемости радиосвязи? Невозможно! Радиопередатчики космических костюмов, даже простейшего типа, передадут его голос на тысячи миль в космосе. Он перевел рычаг громкости до максимума.
— Капитан Антон!
Но ответил грубый голос Динго:
— Не кричи. Я тебя слышу.
Счастливчик сказал:
— Перерыв. У меня что-то с радио.
Динго был достаточно близко, чтобы рассмотреть очертания человеческой фигуры. Вспышка, и он ещё ближе. Дэвид отодвинулся, но пират последовал за ним.
— Всё в порядке, — сказал Динго. — Просто повреждение в радио. Я ждал. Ждал. Давно мог выбить тебя за гол. Но ждал, пока перестанет работать радио. Транзистор маленький. Я повредил его перед тем, как ты надел костюм. Можешь по-прежнему говорить со мной. Действует на одну-две мили. Вернее, пока можешь говорить со мной. — И он громко рассмеялся своей шутке.
Счастливчик сказал:
— Не понимаю.
Голос Динго стал резким и грубым.
— Ты застал меня на корабле с бластером в кобуре. Захватил меня врасплох. Сделал из меня дурака. Никто не может захватить меня врасплох, выставить дураком перед капитаном и долго жить после этого. Я не хочу, чтобы ты проиграл и кто-то другой тебя прикончил. Я сам прикончу тебя. Сам!
Динго был совсем близко. Старр почти видел его лицо за пластиной шлема.
Дэвид перестал увертываться. Его постоянно переигрывают. Он подумал, не полететь ли прямо на самой большой скорости, какую сможет развить. А что потом? И удовлетворит ли его такая смерть, в бегстве?
Надо сражаться. Он прицелился. Но когда линия кристаллов пролетела там, где мгновение до этого находился Динго, его уже не было. Счастливчик попытался ещё и ещё, но Динго ускользал, как летающий демон. Вдруг Дэвид почувствовал удар пистолета противника и снова закружился. Он отчаянно пытался остановить вращение, но прежде чем смог это сделать, тело противника ударилось о его тело. Динго крепко обхватил его.
Шлем к шлему. Пластина к пластине. Счастливчик смотрел на белый шрам, разрезающий верхнюю губу пирата. Шрам растянулся: Динго улыбался.
— Привет, приятель, — сказал он. — Рад с тобой встретиться.
На мгновение Динго, казалось, отделился, развел руки, но ноги его продолжали крепко удерживать противника, лишая его подвижности. Стальные мускулы Старра напряглись, он попытался освободиться — безуспешно. Частичное отступление освободило Динго руки. Он высоко поднял одну, держа пистолет рукоятью вниз, и опустил прямо на лицевую пластину Дэвида. Голова Старра дернулась от неожиданного удара. Безжалостная рука взметнулась снова, а вторая обхватила Дэвида за шею.
— Не двигай головой, — фыркнул пират. — Я сейчас кончу.
Старр знал, что это случится, если только он не будет действовать быстро. Глассит прочен и крепок, но ударов металла он долго не выдержит. Дэвид протянул руку, выпрямил её и постарался оттолкнуть голову Динго. Динго высвободился от руки Дэвида и снова ударил его. Выпустив оба своих пистолета, которые повисли на соединительных трубках, Счастливчик перехватил соединительные трубки оружия Динго и сжал их в пальцах металлических перчаток. Мускулы на его руках напряглись в болезненном усилии, челюсти сжались, кровь стучала в висках… Динго, охваченный радостным предчувствием, не обращал ни на что внимания, смотрел только на лицо своего противника, искаженное, как он думал, страхом. Ещё раз опустилась рукоять пистолета. На пластине появилась зловещая трещина в форме звезды.
Но тут вселенная, казалось, сошла с ума. Вначале одна и сразу вслед за этим другая соединительные трубки пистолетов Динго разорвались, и неуправляемый поток двуокиси углерода рванулся из обоих отверстий. Трубки извивались, как сумасшедшие змеи, Дэвида понесло сначала в одну сторону, потом в другую в безумном и неуправляемом ускорении.
Динго закричал от удивления, и его хватка ослабла. Они почти разъединились, но Счастливчик продолжал держаться за ноги пирата. Поток двуокиси углерода ослаб, и Старр стал подниматься по телу своего противника, перехватываясь руками. Теперь казалось, что противники неподвижны. Случайное направление потоков оставило их без видимого вращения. Пистолеты Динго, теперь мертвые и обвисшие, находились в том же положении, в каком были при последнем толчке. Всё казалось спокойным, как смерть. Но это была иллюзия. Счастливчик знал, что они летят с огромной скоростью в направлении, которое придал им последний толчок. Они вдвоем затеряны в космосе.
Глава 5
ОТШЕЛЬНИК НА СКАЛЕ
Счастливчик теперь был за спиной Динго и крепко держал его ногами. Он заговорил негромко и решительно:
— Ты меня слышишь, Динго? Не знаю, где мы и куда направляемся, но и ты не знаешь. Значит, мы нужны друг другу, Динго. Ты готов заключить сделку? Ты можешь установить наше местонахождение, можешь связаться по радио с кораблем, но не можешь вернуться без двуокиси углерода. У меня её хватит на обоих, но мне нужно знать, куда направляться.
— Иди в космос, шлюха! — заревел Динго. — Покончив с тобой, я получу твои пистолеты.
— Не думаю, — холодно ответил Счастливчик.
— Думаешь и их использовать до конца? Давай! Давай, потрошитель! Что это тебе даст? Капитан пришлет за мной, а ты будешь плавать с разбитым шлемом и замерзшей кровью на лице.
— Не совсем так, мой друг. Тут кое-что у тебя на спине, знаешь ли. Может, ты не чувствуешь сквозь металл, но уверяю тебя, оно тут.
— Толчковый пистолет. Ну и что? Он ничего не значит, пока мы вместе. — Но он прекратил попытки освободиться от Дэвида.
— Я не часто сражаюсь на толчковых пистолетах, — звучал оживленный голос Счастливчика. — Но о самих пистолетах знаю больше тебя. Выстрелами из них обмениваются на расстоянии в мили. Тут нет сопротивления воздуха, чтобы замедлить поток или перемешать его, но есть внутреннее сопротивление. В самом потоке есть внутренние движения. Кристаллы ударяются друг о друга и замедляются. Линия газа расширяется. Если промахнешься, она уйдёт в космос и исчезнет, но если попадешь, даже после миль полёта ударяет, как лягающийся мул.
— О чём, во имя космоса, ты болтаешь? К чему ведешь? — Пират изворачивался с бычьей силой, и Старр с трудом удерживал его.
Дэвид сказал:
— Вот к чему. А что, как ты думаешь, случится, если двуокись углерода ударит на расстоянии двух дюймов, прежде чем внутренние возмущения уменьшат её скорость и расширят поток? Не гадай. Я тебе скажу. Она пройдёт сквозь твой костюм, как пламя паяльной лампы, и сквозь тело тоже.
— Ты спятил! Говоришь как сумасшедший!
Динго яростно бранился, но тело его застыло.
— Попробуй, — предложил Старр. — Двигайся! Мой пистолет прижат к твоему костюму, и я держу палец на кнопке. Попробуй.
— Ты меня дурачишь, — огрызнулся Динго. — Это не чистая победа.
— У меня на плите трещина, — ответил Счастливчик. — Все увидят, кто нарушил правила. Даю тебе полминуты на решение.
В молчании проходили секунды. Старр уловил движение руки Динго. Он сказал:
— Прощай, Динго!
Динго хрипло закричал:
— Подожди! Подожди! Я увеличиваю дальность радио, — и позвал: — Капитан Антон… Капитан Антон…
Потребовалось полтора часа, чтобы их вернули на корабль.
«Атлас» двигался сквозь пространство вслед за пиратским кораблем. Автоматическое управление заменили ручным, и на «Атласе» оставили экипаж из трёх человек. Как и раньше, на корабле находился только один пассажир — Счастливчик. Его закрыли в каюте, и людей он видел только тогда, когда ему приносили пищу. «Продукты с «Атласа», — подумал Дэвид. — То, что от них осталось». Большую часть продуктов и то оборудование, без которого можно было обойтись при управлении кораблем, переместили на пиратское судно. Первый раз пищу принесли все трое. Это были худощавые люди, коричневые от ничем не смягченных в космосе солнечных лучей.
Они молча дали ему поднос, осторожно осмотрели каюту, подождали, пока он вскроет банки и согреет их содержимое, затем унесли оставшееся. Старр предложил:
— Садитесь, приятели. Не нужно стоять, пока я ем.
Они не ответили. Один, самый худой из них, с некогда разбитым носом, свернутым на сторону, и с резко выступающим кадыком, посмотрел на остальных, как будто был склонен принять приглашение. Но не встретил ответа. В следующий раз еду принес один Сломанный Нос. Он поставил поднос, вернулся к двери, которую оставил открытой. Выглянув в коридор, он закрыл дверь и сказал:
— Я Мартин Манью.
Счастливчик улыбнулся.
— А я Билл Уильямс. Остальные двое не хотят разговаривать со мной?
— Они друзья Динго. А я нет. Может, ты и служишь правительству, как считает капитан, а может, и нет. Не знаю. Но что касается меня, всякий, кто поступил с этим ублюдком Динго, как ты, хороший парень. Динго умник и всегда играет жестоко. Когда я был новичком, он втянул меня в толчковую дуэль. Чуть не разбил меня об астероид. Без всякой причины. Потом заявил, что это была ошибка, но он не допускает ошибок с пистолетом. Когда ты притащил эту гиену за штаны, у тебя появилось немало друзей.
— Рад слышать.
— Но следи за ним. Он никогда не забудет. И не оставайся с ним наедине даже через двадцать лет. Говорю тебе. Дело не только в том, что ты его победил. Ещё эта история с потоком двуокиси углерода, который мог бы пробить металлический костюм. Все смеются над ним, а он бесится. Парень, как он бесится! Лучше этого ничего нет. Надеюсь, приятель, босс даст тебе разрешение.
— Босс? Капитан Антон?
— Нет, босс. Главный мужик. А хорошая пища на вашем корабле. Особенно мясо, — пират смачно облизнулся. — Устаешь от всех этих дрожжевых болтанок, особенно когда сам следишь за чанами.
Дэвид подбирал остатки пищи.
— А кто этот парень?
— Какой?
— Босс.
Манью пожал плечами.
— Великий космос! Не знаю. Такие, как я, с ним не встречаются. Просто ребята говорят. Кто-то ведь должен быть боссом.
— Очень сложная организация.
— Парень, ты и не узнаешь, пока не присоединишься к нам. Послушай, я пришёл сюда разбитым. Не знал, за что приняться. Думал, если захватим несколько кораблей, я получу свой и всё будет в порядке. Но, знаешь, лучше бы я умер с голоду.
— Не получилось, как ты хотел?
— Нет. Ни разу не участвовал в рейдах. Да и никто из нас не участвует. Только немногие, вроде Динго. Он всё время в деле. Ублюдок, ему это нравится. Мы иногда получаем женщин, — пират улыбнулся. — У меня была жена и ребенок. Не поверишь теперь, верно? У нас собственное производство. Свои дрожжевые чаны. Иногда я выполняю поручения в космосе, как сейчас, например. Впрочем, хорошая жизнь. И тебе понравится, если присоединишься. Такой, как ты, быстро получит жену и устроится. Или тебе нравятся приключения?
— Да, Мартин. Надеюсь, босс даст мне разрешение.
Счастливчик проводил его до двери.
— Кстати, куда мы направляемся? На одну из баз?
— Просто на одну из скал. Я думаю, на ближайшую. Останешься там, пока не получишь разрешения. Так мы обычно делаем.
Закрывая дверь, он добавил:
— Не говори никому, что я с тобой разговаривал. Ладно, приятель?
— Конечно.
Оставшись один, Старр медленно ударил кулаком по ладони. Босс. Просто разговоры? Слухи? Или за этим есть что-то? А остальная часть беседы? Придётся ждать. Галактика! Если бы только у Хенри и Конвея хватило ума не вмешиваться.
У Дэвида не было возможности разглядеть «скалу» при приближении «Атласа». Он не видел её до тех пор, пока в сопровождении Мартина Манью и другого пирата не вышел из шлюза и она не предстала перед ним в ста ярдах внизу. Астероид был самым типичным. Счастливчик решил, что он около Двух миль в длину. Угловатый и покрытый утесами, как будто великан оторвал вершину скалы и швырнул в космос. Солнечная сторона серо-коричневого цвета. Астероид заметно поворачивался, тени на его поверхности перемещались.
Старр оттолкнулся от корабельного корпуса. Навстречу ему медленно поднимались утесы. Когда руки его коснулись скалы, инерция движения потянула вниз всё тело, и он медленно начал падать, пока не ухватился за выступ и не обрел равновесия.
Он встал. Окружающий ландшафт можно было бы принять за планетарный, но за ближайшим утесом не было ничего, кроме пустоты космоса. Звёзды, заметно передвигавшиеся по небу с движением астероида, блестели ярко и жестко. Корабль, занявший круговую орбиту, неподвижно висел над головой. Пираты провели Дэвида около пятидесяти футов по поверхности скалы. Они проделали этот путь двумя длинными прыжками. Часть скалы скользнула в сторону, и из отверстия показалась одетая в скафандр фигура.
— Ладно, Шельн, — грубовато сказал старший. — Он здесь. Теперь ты за него отвечаешь.
Голос отвечавшего прозвучал мягко и устало:
— И сколько он пробудет со мной, джентльмены?
— Пока мы не вернемся. И не задавай вопросов.
Пираты повернулись и прыгнули вверх. Тяготение астероида не могло их остановить. Они постепенно уменьшались, и через несколько минут Старр увидел блеск струи кристаллов: один из них корректировал направление с помощью толчкового пистолета. Маленький пистолет, используемый для таких целей, входил в стандартное оборудование космического костюма. В нём находился встроенный патрон с двуокисью углерода. Ещё несколько минут, и корма корабля засветилась. Корабль тоже начал уменьшаться.
Дэвид знал, что без знания собственного положения в пространстве бесполезно следить за направлением улетающего корабля. А он ничего не знал, кроме того, что находится где-то в поясе астероидов. Он так глубоко погрузился в размышления, что вздрогнул, услышав мягкий голос другого человека:
— Как здесь прекрасно! Я выхожу редко и иногда забываю об этом. Только взгляните!
Счастливчик повернулся налево. Маленькое Солнце начало выходить из-за неровного края астероида. Через мгновение оно стало таким ярким, что на него невозможно было смотреть. Это была сверкающая двадцатикредитная золотая монета. Но небо оставалось таким же чёрным, и звёзды светили так же ярко. Так всегда бывает на лишенных атмосферы небесных телах, где газообразная оболочка не рассеивает солнечный свет и не окрашивает небо в голубой цвет. Человек с астероида продолжал:
— Через двадцать пять минут оно будет заходить. Иногда, когда Юпитер близко, можно его разглядеть. Он похож на стеклянный шарик, а его четыре спутника, как искры, выстраиваются в военный строй. Но это случается раз в три с половиной года. Не сейчас.
Дэвид резко прервал:
— Эти люди зовут вас Шельн. Это ваше имя? Вы один из них?
— Вы хотите спросить, не пират ли я? Нет. Но признаю, что меня можно обвинить в пособничестве. Меня зовут не Шельн. Просто так называют всех отшельников. Сэр, меня зовут Джозеф Патрик Хансен, и, поскольку мы проведем с вами в близком соседстве неопределённый период, надеюсь, мы станем друзьями.
Он протянул руку в металлической перчатке, и Счастливчик пожал её.
— Я Билл Уильямс, — сказал он. — Вы говорите, что вы отшельник. Значит ли это, что вы живёте тут постоянно?
— Совершенно верно.
Дэвид посмотрел на гранитно-слюдяную поверхность и нахмурился.
— Выглядит не очень приятно.
— Тем не менее я постараюсь, чтобы вам было удобно.
Отшельник коснулся скалы, из которой вышел, и часть её снова отошла в сторону. Старр заметил, что края отверстия скошены и отделаны ластиумом или каким-то аналогичным материалом, по-видимому, чтобы не допустить утечки воздуха.
— Заходите, мистер Уильямс, — пригласил отшельник.
Счастливчик вошёл. Скала за ним закрылась. Тут же вспыхнула лампа и осветила помещение. Это оказался маленький шлюз, способный вместить не более двух человек. Зажегся красный сигнал, и отшельник предложил:
— Можете открыть лицевую пластину. У нас есть воздух.
Сам он уже проделывал это.
Дэвид открыл шлем и набрал полные лёгкие чистого свежего воздуха. Неплохо. Лучше, чем корабельный воздух. Определённо. Но когда внутренняя дверь шлюза открылась, Счастливчик удивленно выдохнул.
Глава 6
ЧТО ЗНАЛ ОТШЕЛЬНИК
Даже на Земле Старр нечасто видел такие роскошные комнаты. Эта достигала тридцати футов в длину, двадцати в ширину и тридцати в высоту. Вдоль стен антресоль, а под ней и над ней стены уставлены книгофильмами. На пьедестале — проектор, на другом — модель Галактики из материала, похожего на жемчуг. Освещение скрытое. Войдя в комнату, Дэвид почувствовал тяготение псевдогравитационных установок. Оно не было установлено на земную норму. Старр определил силу тяготения как среднюю между земной и марсианской: достаточно для сохранения полной мышечной координации и вместе с тем остаётся определённое ощущение лёгкости. Отшельник снял костюм и подвесил его над белым пластиковым корытом, чтобы в него падали капли: когда они вступили в теплую влажную атмосферу комнаты, на скафандрах сразу образовался слой льда.
Отшельник был высокий стройный человек, с розовым гладким лицом, но волосы у него были седые, густые брови тоже, а вены чётко выделялись на тыльной стороне рук. Он вежливо сказал:
— Разрешите вам помочь.
Счастливчик пришёл в себя.
— Всё в порядке. — Он быстро снял костюм. — У вас тут необычное место.
— Вам нравится? — Хансен улыбнулся. — Потребовалось немало лет, чтобы оно так выглядело. Но это ещё не всё, что есть в моем маленьком доме. — Он был полон спокойной гордости.
— Представляю себе, — ответил Дэвид. — Должна быть энергетическая установка для тепла и света, не говоря уже о псевдогравитационном поле. Нужны очистители воздуха, запасы воды, пищи, многое другое.
— Совершенно верно.
— Жизнь отшельника не так плоха.
Отшельник был одновременно горд и польщен.
— Она и не должна быть плохой, — сказал он. — Садитесь, Уильямс, садитесь. Хотите выпить?
— Нет, благодарю вас. — Счастливчик опустился в кресло. Внешне обычное сиденье и спинка маскировали диамагнитное поле, которое подалось лишь настолько, чтобы достигнуть равновесия со всеми изгибами его тела. — Разве что отыщете чашечку кофе?
— Запросто. — Старик прошёл в альков. Через несколько секунд он появился, неся чашку с ароматным дымящимся кофе. Потом принес другую для себя.
Хансен слегка коснулся носком ноги кресла Дэвида, и ручка кресла развернулась в небольшой столик. Отшельник поставил чашку в специальное углубление. При этом он пристально взглянул на молодого человека.
— В чём дело? — спросил Старр.
Хансен покачал головой:
— Ничего. Ничего.
Они смотрели друг на друга. Свет в других частях комнаты ослаб, и ярко освещалась только та часть, где они сидели.
— А теперь извините любопытство старого человека, — сказал отшельник. — Я бы хотел спросить, почему вы пришли сюда.
— Я не пришёл. Меня привели, — ответил Счастливчик.
— Вы хотите сказать, что вы не из…
— Нет, я не пират. Пока, по крайней мере.
Хансен поставил свою чашку и обеспокоенно посмотрел на молодого человека.
«Не понимаю, — подумал тот. — Может, я говорил то, чего не должен был».
— Не беспокойтесь. Скоро я буду одним из них.
Старр допил кофе и, тщательно выбирая слова, начал рассказ с посадки на «Атлас» на Луне и до настоящего времени. Хансен внимательно слушал.
— А теперь, когда вы кое-что увидели, молодой человек, вы уверены, что именно этого хотите?
— Уверен.
— Почему, во имя Земли?
— Точно. Из-за Земли и того, что она со мной сделала. Там не место для жизни. А вы почему пришли сюда?
— Боюсь, это долгая история. Не тревожьтесь, я не стану её рассказывать. Давным-давно я купил этот астероид как место отдыха, и он мне понравился. Я всё увеличивал помещения, привез с Земли мебель, привозил книгофильмы. Постепенно здесь оказалось всё, что мне необходимо. И тогда я подумал, а почему бы мне не поселиться тут постоянно. И я поселился.
— Конечно. Почему бы и нет? Вы умны. Там, на Земле, беспорядок. Слишком много людей. Слишком много рутинной работы. Почти невозможно добраться до планет, а когда доберешься, твой удел — физическая работа. У человека нет никаких перспектив, если только не попадешь в астероиды. Я не так стар, чтобы осесть на месте. А для молодых здесь — свободная жизнь, полная приключений. Можно стать боссом.
— Те, что уже стали боссами, не любят молодых людей с такими мыслями. Антон, например. Я его видел и знаю.
— Может быть, но до сих пор он держал своё слово, — сказал Дэвид. — Обещал, что, если я выиграю у Динго, у меня будет шанс присоединиться к людям астероидов. Похоже, что такой шанс у меня есть.
— Похоже, что вы здесь, только и всего. Что, если он вернется с доказательством — или с тем, что он зовет доказательством, — что вы человек правительства?
— Этого не будет.
— А если будет? Просто чтобы избавиться от вас?
Лицо Счастливчика потемнело, и снова Хансен с любопытством взглянул на него, слегка нахмурившись при этом. Старр повторил:
— Не будет. Он понимает ценность полезных людей. И почему вы поучаете меня? Вы здесь с ними заодно.
Хансен опустил глаза.
— Это правда. Мне не следовало вмешиваться. Просто я очень долго был один, и мне хочется говорить и слышать звук другого голоса. Послушайте, уже время обеда. Если хотите, поедим молча. Или будем говорить на любую избранную вами тему.
— Спасибо, мистер Хансен. Не обижайтесь.
— Хорошо.
Дэвид вслед за Хансеном прошёл в небольшую кладовую, заполненную консервами и концентратами всех видов. Фабричные марки были ему незнакомы. Содержимое указывалось яркой гравировкой, которая была неотъемлемой частью металла банки. Хансен сказал:
— У меня в специальном холодильнике обычно хранилось свежее мясо. На астероиде сохранять нужную температуру — не проблема, но вот уже два года мяса нет.
Он выбрал с полок полдюжины банок плюс контейнер с концентрированным молоком. По его просьбе молодой человек взял запечатанную емкость с водой с нижней полки. Отшельник быстро накрыл стол. Банки были с самоподогревом, они раскрывались в тарелки, а внутри уже находились ножи и вилки. Хансен с улыбкой сказал, указывая на банки:
— У меня целая долина, полная этих банок. Пустых, конечно. Собрались за двадцать лет.
Пища была вкусная, но необычная, сделанная на основе дрожжей — такую производят только в Земной империи. Нигде в Галактике перенаселение не достигает такого размера, нигде нет таких бесчисленных миллиардов, поэтому и потребовалось изобретение дрожжевой пищи. На Венере, где производится большая часть дрожжевых продуктов, умеют делать почти любые имитации: бифштексы, орехи, масло, конфеты. Они не менее питательны, чем настоящие. Но для Дэвида вкус был не совсем венерианским. С каким-то острым оттенком.
— Простите за любопытство, — спросил он, — но ведь всё это требует денег?
— О да, и они у меня есть. На Земле у меня недвижимость. Очень значительная. К моим чекам всегда относятся с уважением, вернее, относились ещё два года назад.
— А что случилось тогда?
— Перестали приходить корабли с припасами. Слишком рискованно из-за пиратов. Это был тяжелый удар. У меня были большие запасы, но могу представить себе, каково пришлось остальным.
— Остальным?
— Другим отшельникам. Нас здесь сотни. Не все такие удачливые, как я. Очень немногие могут позволить себе такие удобства, но самое необходимое у них есть. Обычно это старики вроде меня; жены их умерли, дети выросли, мир кажется им чужим и враждебным. Если у них есть деньги, они могут освоить маленький астероид. Правительство не взимает налогов. Любой астероид менее пяти миль в диаметре к вашим услугам. Если хотите, вам установят субэфирный приёмник, и вы будете поддерживать связь со вселенной. Если нет, можете ограничиться книгофильмами, раз в год корабль привезет вам новости, а в остальном будете есть, отдыхать, спать и ждать смерти. Иногда мне хотелось бы познакомиться с некоторыми из них.
— Почему же вы не познакомились?
— С ними не так-то легко познакомиться. В конце концов они хотят быть одни. И я тоже.
— Что же вы сделали, когда перестали приходить корабли с припасами?
— Вначале ничего. Я решил, что правительство вмешается и поправит положение, а моих припасов хватит на месяцы. В сущности, я продержался бы и год. Но потом появились корабли пиратов.
— И вы примкнули к ним?
Отшельник пожал плечами. Лицо его приобрело беспокойное выражение, и они закончили обед в молчании. Потом он собрал тарелки из банок, вилки и ножи и положил в контейнер в нише, ведущей к кладовой. Старр услышал быстро удаляющийся металлический звук. Хансен сказал:
— Псевдогравитация не распространяется на мусоропровод. Толчок воздуха — и всё отправляется в долину, о которой я вам говорил. Она на расстоянии в милю от нас.
— Мне кажется, — заметил Счастливчик, — что если бы вы дунули посильнее, то избавились бы от банок навсегда.
— Конечно. Большинство отшельников так и поступают. Может быть, даже все. Но мне это не нравится. Напрасная трата воздуха, да и металла. Когда-нибудь эти банки могут понадобиться. Кто знает? К тому же хоть большинство банок улетит, я уверен, что некоторые будут кружить вокруг астероида, как маленькие луны. Мне не нравится мысль о том, что меня будут сопровождать собственные отбросы. Хотите закурить? Нет? Не возражаете, если я закурю?
Он закурил сигару и с довольным вздохом продолжал:
— Люди астероидов не могут снабжать меня табаком регулярно, поэтому здесь курение — редкое удовольствие.
Дэвид спросил:
— Они поставляют вам всё остальное?
— Да. Воду, запасные части, элементы энергоустановки.
— А вы что для них делаете?
Отшельник рассматривал горящий кончик сигары.
— Немного. Они используют мой астероид. Сюда прилетают корабли, а я о них не сообщаю. Ко мне они не заходят, а что они на остальной части скалы делают, не моё дело. Не хочу знать. Так безопасней. Иногда оставляют людей, вот как вас, потом их забирают. Думаю, иногда они тут производят мелкий ремонт. В обмен мне привозят припасы.
— А других отшельников они тоже снабжают?
— Не знаю. Возможно.
— Для этого нужно очень много припасов. Где они их берут?
— Захватывают корабли.
— Этого не хватит, чтобы снабжать сотни отшельников и их самих. Я хочу сказать, для этого нужно множество кораблей.
— Не знаю.
— И вас это не интересует? Вы ведете спокойную жизнь, но, может, ваша пища с корабля, чей экипаж превратился в замороженные трупы, кружащиеся вокруг какого-нибудь астероида, как человеческие отбросы. Вы когда-нибудь думали об этом?
Отшельник болезненно покраснел.
— Вы мстите за то, что я вас поучал. Вы правы, но что я могу сделать? Я не покинул и не предал правительство. Это оно покинуло и предало меня. На Земле я плачу налоги. Почему же меня не защищают? Я зарегистрировал свой астероид в Земном бюро внешних миров. Он — часть Земной империи. Я имею право ожидать защиты от пиратов, но её нет. Если мои поставщики продовольствия холодно сообщают, что больше не могут меня снабжать ни за какие деньги, что мне делать? Вы можете сказать: возвращайся на Землю. Но как оставить всё это? Здесь мой собственный мир. Мои книгофильмы, великая классика, которую я люблю. У меня есть даже экземпляр Шекспира — пересняты настоящие страницы древней печатной книги. У меня есть пища, вода, уединение: такого мне не найти нигде во Вселенной.
Не думайте, что выбор был лёгким. У меня есть субэфирный передатчик. Я могу связаться с Землей. Есть маленький корабль, на котором я могу улететь на Цереру. Люди астероидов знают об этом, но они верят мне. Они знают, что теперь у меня нет выбора. Как я вам говорил, когда мы только встретились, в некотором смысле я их пособник. Я помогал им. По закону я теперь пират. Если я вернусь, меня ждёт тюрьма, может быть, казнь. Даже если нет, если я в обмен на информацию буду прощен, люди астероидов никогда об этом не забудут. Они отыщут меня, где бы я ни скрывался, разве что правительство будет меня охранять до конца жизни.
— Похоже, вы в трудном положении.
— Вы так думаете? — спросил отшельник. — Может, я и получу охрану за соответствующую помощь.
Теперь была очередь Счастливчика сказать:
— Не знаю.
— Вы мне поможете.
— Не понимаю вас.
— Послушайте, я вас кое о чём предупрежу, а вы поможете мне.
— Я ничего не могу сделать. О чём предупредите?
— Убирайтесь с астероида раньше, чем вернется Антон со своими людьми.
— Ни за что. Я пришёл, чтобы присоединиться к ним, а не возвращаться домой.
— Если останетесь, останетесь навсегда. Останетесь мертвецом. Они не возьмут вас в экипаж. Вы не подойдёте.
Лицо Старра исказило гневное выражение.
— О чём это, во имя космоса, вы толкуете, старик?
— Вот опять. Когда вы сердитесь, я ясно вижу это. Вы не Билл Уильямс, молодой человек. Какое отношение вы имеете к члену Совета Лоуренсу Старру? Вы его сын?
Глава 7
НА ЦЕРЕРУ
Глаза Дэвида сузились. Он чувствовал, как напряглись мышцы его правой руки, как рука сама потянулась к бедру, где не висел бластер. Но он не двинулся. Голос его оставался спокойным:
— Чей сын? О чём это вы?
— Я уверен, — отшельник наклонился вперёд, в искреннем порыве схватив Дэвида за руку. — Я хорошо знал Лоуренса Старра. Он был моим другом. Помог мне однажды, когда я нуждался в помощи. А вы его копия. Я не мог ошибиться.
Счастливчик отнял руку.
— Это бессмыслица.
— Послушайте, молодой человек, вам важно не выдавать вашего настоящего имени. Может, вы не доверяете мне. Я не прошу вас об этом. Я признал, что сотрудничал с пиратами. Но всё равно послушайте. У людей астероидов хорошая организация. Потребуются недели, но, если Антон заподозрил вас, они не остановятся, пока всё не проверят. Их не обманешь. Они узнают правду, узнают, кто вы на самом деле. Будьте уверены в этом. Они установят ваше настоящее имя. Улетайте, говорю вам. Улетайте!
Дэвид сказал:
— Если я тот самый парень, о котором вы говорите, старик, то вы навлекаете на себя неприятности. Я так понимаю, что вы отдаёте мне свой корабль.
— Да.
— А что вы будете делать, когда пираты вернутся?
— Меня здесь не будет. Вы не поняли? Я хочу улететь с вами.
— И оставить всё здесь?
Старик колебался.
— Да, это трудно. Но другой такой возможности у меня не будет. У вас есть влияние, должно быть. Может быть, вы сами член Совета. Вы здесь на секретной работе. Вам верят. Вы сможете защитить меня, поручиться за меня. Вы предотвратите наказание, проследите, чтобы меня не нашли пираты. Совет за это многое получит, молодой человек. Я расскажу всё, что знаю о пиратах. Буду помогать чем только смогу.
Дэвид спросил:
— Где ваш корабль?
— Значит, договорились?
Корабль действительно оказался маленьким. Им пришлось идти к нему гуськом по длинному коридору, снова облачившись в защитные костюмы.
Старр спросил:
— Достаточно ли близко Церера, чтобы увидеть её в корабельный телескоп?
— Да.
— Вы узнаете её?
— Несомненно.
— Тогда пошли на борт.
Передняя часть безвоздушной пещеры, где был спрятан корабль, открылась, как только пришли в действие его двигатели.
— Управляется по радио, — объяснил Хансен.
Корабль был заправлен и снабжен провизией. Все механизмы работали нормально, корабль легко поднялся и устремился в пространство со свободой, возможной лишь там, где почти полностью отсутствуют гравитационные поля. Впервые Счастливчик увидел астероид Хансена из космоса. Он заметил Долину с выброшенными банками, она была ярче окружающих скал.
Хансен сказал:
— Теперь расскажите мне. Вы ведь сын Лоуренса Старра?
Дэвид, нашедший на борту заряженный бластер, пристегивал к поясу кобуру.
— Меня зовут Дэвид Старр. Друзья называют меня Счастливчик.
Церера — великан среди астероидов. Она достигает пятисот миль в диаметре. Обычный человек, стоя на ней, весит два фунта. У неё сферическая форма, и, находясь близко к её поверхности, можно подумать, что это приличного размера планета. Но если бы Земля была полой, туда пришлось бы бросить четыре тысячи таких тел, как Церера, чтобы заполнить её.
Верзила стоял на поверхности Цереры в раздувшемся костюме, обшитом дополнительным свинцом для веса; сапоги его были на толстой свинцовой подошве. Это была его собственная идея, но она оказалась бесполезной. Он всё ещё весил меньше четырёх фунтов, и любое движение грозило унести его в космос. Он уже два дня находился на Церере после быстрого перелета с Луны вместе с Конвеем и Хенри. Они ждали радиосигнала Старра, сообщения о том, что он возвращается. Гус Хенри и Гектор Конвей нервничали. Они боялись за Дэвида, опасаясь, что его могли убить. Но он, Верзила, знал его лучше. Счастливчик выйдет из любого положения. Он им говорил об этом. А когда наконец пришёл сигнал Дэвида, он снова сказал им об этом. И всё же, стоя на замерзшей поверхности Цереры, ничем не отделенный от звёзд, он сознался себе самому, что испытывает облегчение.
С того места, где он стоял, виднелся купол Обсерватории, нижние её этажи скрывались за близким горизонтом. По вполне понятным причинам это была самая большая в Солнечной системе обсерватория. В той части Солнечной системы, что находится внутри орбиты Юпитера, у Венеры, Земли и Марса есть атмосферы, и уже этот факт делает их неподходящими для астрономических наблюдений. Атмосфера, даже разреженная, как на Марсе, скрывает детали. Звёзды дрожат и мерцают, наблюдать невозможно. Самое большое тело без атмосферы внутри орбиты Юпитера — Меркурий, но он так близок к Солнцу, что обсерватория, расположенная в его сумеречной зоне, специализируется в наблюдениях над светилом. Для этого достаточно сравнительно небольшого телескопа.
Второе большое безвоздушное тело — Луна. И здесь обстоятельства продиктовали специализацию. Например, прогноз погоды благодаря лунным наблюдениям стал очень точным и долговременным, поскольку вся земная атмосфера хорошо видна с расстояния в четверть миллиона миль. А третье лишенное атмосферы тело — Церера, и она подошла лучше всего. Почти полное отсутствие тяготения позволило создать огромные линзы и зеркала без опасности их повреждения; не возникал даже вопрос о провисании, так как на Церере у них нет собственного веса. Сооружение телескопа не потребовало больших усилий. Церера в три раза дальше от Солнца, чем Луна, и солнечный свет там слабее в восемь раз. Быстрое вращение поддерживает на Церере постоянную температуру. Короче, Церера — идеальное место для наблюдений за звёздами и внешними планетами. Только накануне Верзила смотрел на Сатурн через тысячедюймовый отражательный телескоп; шлифовка его зеркала потребовала двадцати лет постоянного напряженного труда.
— С какого это спутника? — спросил он.
Над ним посмеялись.
— Ни с какого, — был ответ.
Над приборами трудились трое, они действовали согласованно. Тусклое красное освещение ещё более померкло, и в чёрной пустоте, куда он смотрел, появилось светлое пятно. Прикосновение к приборам увеличило резкость. Верзила удивленно свистнул. Это был Сатурн!
Сатурн, трёх футов шириной, точно такой, каким он несколько раз видел его из космоса. Ярко выделялось тройное кольцо, и можно было разглядеть три похожих на шарики спутника. Сзади — многочисленные пылинки звёзд. Верзила хотел посмотреть с другой точки, но картина не изменилась, когда он переместился.
— Это ведь только изображение, — сказали ему, — иллюзия. Она одинакова с любой точки.
Теперь, с поверхности астероида, Верзила мог разглядеть Сатурн невооруженным глазом. Светлая точка, но ярче точек звёзд. Отсюда Сатурн кажется вдвое ярче, чем с Земли, так как он на двести миллионов миль ближе. Земля находилась по Другую сторону Солнца и представляла не очень впечатляющее зрелище, особенно рядом со светилом, которое само было размером с горошину. Шлем Верзилы неожиданно зазвенел от громкого звука, донесшегося из микрофона.
— Эй, коротышка, шевелись. Подходит корабль.
Верзила подпрыгнул. Нелепо размахивая руками, он закричал:
— Кто назвал меня коротышкой?
Но в ответ послышался смех.
— Сколько берешь за обучение полётам, малыш?
— Я тебе покажу малыша! — яростно закричал Верзила. Он достиг вершины своей параболы и медленно начал опускаться. — Как тебя зовут, умник? Скажи своё имя, и я сверну тебе шею, как только вернусь и сниму костюм.
— Дотянешься до моей шеи? — послышался насмешливый ответ, и Верзила взорвался бы и разлетелся на мелкие куски, но тут он увидел снижающийся корабль.
Он поскакал гигантскими неуклюжими прыжками по выровненной поверхности, которая служила посадочным полем, стараясь точно угадать место, где сядет корабль. Корабль опустился в дымящуюся шахту с лёгкостью пёрышка. Когда открылся шлюз и показалась высокая фигура Дэвида, Верзила закричал от радости, высоко подпрыгнул, и они обнялись. Конвей и Хенри были менее экспансивны, но обрадовались не меньше. Каждый схватил Старра за руку, как бы желая убедиться, что он действительно перед ними.
Счастливчик рассмеялся.
— Что с вами? Дайте передохнуть. В чём дело? Вы думали, я не вернусь?
— Послушай, — сказал Конвей, — в следующий раз лучше посвящай нас в свои сумасбродные планы.
— Но если план покажется вам сумасбродным, вы меня не отпустите.
— Оставим это. За то, что ты сделал, я могу навсегда оставить тебя на Земле. Могу прямо сейчас арестовать тебя, отстранить от работы и выбросить из Совета, — сказал Конвей.
— И что же из этого вы собираетесь сделать?
— Ничего, ты, проклятый переросший тупица. Но в будущем я тебе покажу!
Счастливчик повернулся к Августасу Хенри.
— Вы ведь не позволите ему?
— Откровенно говоря, я ему помогу.
— Тогда сдаюсь заранее. Послушайте, я хочу познакомить вас с одним джентльменом.
До сих пор Хансен держался сзади и, по-видимому, забавлялся этим обменом любезностями. Двое старших членов Совета были так заняты Дэвидом, что даже не заметили присутствия постороннего.
— Доктор Конвей, — сказал Старр, — доктор Хенри. Это мистер Джозеф Хансен. На его корабле я вернулся. Он мне очень помог.
Старик отшельник обменялся рукопожатиями с двумя учёными.
— Вы, наверно, не знакомы с доктором Конвеем и доктором Хенри, — спросил Счастливчик.
Отшельник покачал головой.
— Они важные фигуры в Совете Науки, — продолжал Старр. — Когда поедите и передохнете, они поговорят с вами и, я уверен, помогут вам.
Час спустя двое старших членов Совета серьёзно смотрели на Счастливчика. Доктор Хенри мизинцем утрамбовал табак в своей трубке и спокойно закурил, слушая рассказ его о приключениях среди пиратов.
— Ты рассказал об этом Верзиле? — спросил он.
— Только что разговаривал с ним, — ответил Старр.
— И он не побил тебя за то, что ты его не взял с собой?
— Он был недоволен, — признал Счастливчик.
Но Конвей был настроен более серьёзно.
— Корабль сирианской постройки? — пробормотал он.
— Несомненно, — ответил Старр. — По крайней мере у нас есть эта информация.
— Она не стоила такого риска, — сухо отозвался Конвей. — Меня очень беспокоит другая часть информации. Очевидно, сирианцы проникли в сам Совет Науки.
Хенри серьёзно кивнул.
— Да, я тоже заметил это. Очень плохо.
Дэвид спросил:
— А как вы это установили?
— Галактика, мальчик, это очевидно! — взревел Конвей. — Конечно, над подготовкой корабля работала большая группа, и при всех предосторожностях информация могла утечь. Но ведь замысел ловушки и само исполнение этого замысла были известны только членам Совета, и то далеко не всем. Где-то в этой маленькой группе есть шпион, но я готов поручиться за любого. — Он покачал головой. — Но как иначе объяснить?
— Не нужно объяснять, — сказал Счастливчик.
— Не нужно? А почему?
— Потому что связь с сирианцами была временной. Сирианское посольство получило информацию от меня.
Глава 8
ВЕРЗИЛА БЕРЕТ ВЕРХ
— Конечно, не прямо, через одного из известных шпионов, — подчеркнул Дэвид, пока двое старших ошеломленно смотрели на него.
— Я тебя не понимаю, — негромко сказал Хенри. Конвей, по-видимому, вообще лишился дара речи.
— Это было необходимо. Я не должен был вызвать у пиратов подозрений. Если бы они нашли меня на корабле, который считали бы картографическим, меня без разговоров застрелили бы. С другой стороны, если меня находят на корабле-ловушке, тайна которого им стала известна, как они считают, случайно, они поверят, что я заяц. Разве вы не понимаете? На картографическом корабле я всего лишь член экипажа, который не сумел уйти вовремя. На корабле-ловушке я тупица, который и не подозревает, во что ввязался.
— Всё равно тебя могли застрелить. Могли разгадать твою двойную игру и посчитать тебя шпионом. В сущности, так и произошло.
— Это правда, — согласился Счастливчик.
Конвей наконец взорвался.
— А как насчёт первоначального плана? Мы должны были взорвать одну из их баз или нет? Когда подумаю о месяцах, потраченных на подготовку «Атласа», о вложенных в это средствах…
— Что бы нам дал взрыв одной из их баз? Мы говорили о большом пиратском ангаре, но это только пожелания. Организация, базирующаяся в астероидах, должна быть децентрализованной. Пираты, вероятно, держат в одном месте не больше трёх-четырёх кораблей. Для большего просто нет места. Взрыв трёх-четырёх кораблей — ничто по сравнению с тем, чего бы мы достигли, если бы я проник в их организацию.
— Но ты не проник, — сказал Конвей. — Несмотря на весь риск, ты потерпел неудачу.
— К несчастью, пираты, захватившие «Атлас», оказались слишком подозрительны, а может, слишком умны. Постараюсь в дальнейшем не недооценивать их. Но не всё потеряно. Мы теперь знаем, что за ними Сириус. И ещё — у нас мой друг отшельник.
— Он нам не поможет, — заметил Конвей. — По твоему рассказу выходит, что он старался иметь как можно меньше дел с пиратами. Что он может знать?
— Может быть, он скажет нам больше, чем сам считает возможным, — холодно возразил Дэвид. — Например, он уже сообщил нам кое-что, позволяющее продолжить попытки проникнуть внутрь организации.
— Ты не пойдешь снова, — торопливо заявил Конвей.
— Я и не собираюсь, — сказал Старр.
Глаза Конвея сузились.
— А где Верзила?
— На Церере. Не волнуйтесь. Вообще-то, — тень беспокойства промелькнула на лице молодого человека, — он должен был бы быть здесь. Его задержка начинает меня беспокоить.
Джон Верзила Джонс при помощи особого пропуска миновал охрану контрольной башни. Бормоча что-то, он чуть не бежал по коридору. Его курносое лицо раскраснелось так, что почти исчезли веснушки, короткие рыжеватые волосы торчали, как проволочная изгородь. Счастливчик часто говорил Верзиле, что тот носит вертикальную стрижку, чтобы казаться выше, но Верзила всегда яростно это отрицал. Он пересек фотоэлектрический луч, и дверь перед ним раскрылась. Войдя внутрь, Верзила огляделся.
Дежурных было трое. Один с наушниками сидел у субэфирного приёмника, другой — у компьютера, третий — у выпуклого экрана. Верзила спросил:
— Кто из вас, полоумных, назвал меня коротышкой?
Все трое одновременно повернулись к нему с удивленными лицами. Человек с наушниками снял один из них с левого уха.
— Кто, во имя космоса, ты такой? Как ты сюда попал?
Верзила выпрямился и расправил свою маленькую грудь.
— Меня зовут Джон Верзила Джонс. Друзья зовут меня Верзилой. Никто не зовет меня коротышкой, оставаясь при этом невредимым. Я хочу знать, кто из вас сделал такую ошибку.
Человек с наушниками сказал:
— Меня зовут Лем Фиск, можешь называть меня как угодно, только уходи отсюда. Уходи, или я спущусь, возьму тебя за ногу и вышвырну.
Сидевший у компьютера заметил:
— Эй, Лем, это тот самый чокнутый, что бродил по порту недавно. Не трать на него время. Вызови охрану, пусть его выведут.
— Глупости, — заявил Лем Фиск, — нам для него не нужна охрана.
Он совсем снял наушники и поставил субэфирный приёмник на автоматический приём. Потом сказал:
— Ну что ж, сынок, ты пришёл сюда и очень приятным образом задал приятный вопрос. Я тебе отвечу не менее приятно. Коротышкой тебя назвал я, но погоди, не выходи из себя. У меня была причина. Ведь ты на самом деле такой высокий парень. Такой большой глоток воды. У тебя такие огромные карманы. Мои друзья смеялись, когда я назвал тебя коротышкой.
Он достал из кармана пачку сигарет. Улыбка на его лице стала ласковой.
— Спускайся сюда! — взревел Верзила. — Спускайся и подкрепи своё чувство юмора кулаками.
— Характер, характер, — сказал Фиск и прищелкнул языком. — Эй, малыш, хочешь сигарету? Королевского размера. Почти такая же длинная, как ты. Но как подумаешь, может возникнуть затруднение. Трудно будет решить, ты ли куришь сигарету или она тебя.
Остальные двое громко рассмеялись.
Лицо Верзилы стало совершенно красным. Слова хрипло вырывались из его горла.
— Ты будешь драться?
— Я лучше покурю. Жаль, что ты не хочешь присоединиться ко мне. — Фиск откинулся назад, выбрал сигарету и держал её перед собой, как бы восхищаясь её стройной белизной. — В конце концов, не могу же я драться с ребенком.
Он улыбнулся, поднес сигарету к губам и обнаружил, что в руке ничего нет.
Его большой и указательный пальцы по-прежнему находились на расстоянии трёх четвертей дюйма друг от друга, как будто что-то держали. Но сигареты в них не было.
— Осторожней, Лем! — воскликнул человек у экрана. — У него игольное ружье.
— Никакого игольного ружья, — фыркнул Верзила. — Всего лишь жужжалка.
Разница значительная. Снаряды жужжалки — так называли тренировочный пистолет — тоже в форме иглы, но они хрупки и не разрываются. Их используют для тренировок и игр. Попав в человека, такая игла не причиняет серьёзного вреда, но при этом бывает очень больно. Улыбка исчезла с лица Фиска. Он закричал:
— Осторожней, сумасшедший! Я мог бы ослепнуть.
Сжатый кулак Верзилы оставался на уровне глаза. Из него высовывался тонкий ствол жужжалки. Верзила сказал:
— Я тебя не ослеплю. Но могу попасть так, что ты не сможешь сидеть целый месяц. Как видишь, я метко стреляю. А ты, — бросил он через плечо сидевшему у компьютера, — двинешься ещё на дюйм к сигналу тревоги, и игла жужжалки будет у тебя в руке.
Фиск спросил:
— Чего ты хочешь?
— Спускайся и дерись.
— Против жужжалки?
— Я её уберу. На кулаках. Честный бой. Твои приятели последят за этим.
— Я не могу бить такого маленького, как ты.
— Тогда не нужно его и оскорблять. — Верзила поднял жужжалку. — И я не меньше тебя. Может, снаружи так кажется, но внутри я такой же большой, как ты. Может, даже больше. Считаю до трёх.
Он прицелился.
— Галактика! — выругался Фиск. — Спускаюсь. Друзья, будьте свидетелями, что он меня вынудил. Постараюсь не слишком покалечить этого придурка.
Он спрыгнул с навеса. Человек, сидевший у компьютера, занял его место у приёмника. Фиск был ростом в пять футов десять дюймов, на восемь дюймов выше Верзилы. Маленькая фигура его противника походила скорее на мальчишескую. Но мышцы Верзилы находились под стальным контролем. Он без всякого выражения на лице ждал приближения Фиска. Тот не побеспокоился о защите. Просто вытянул правую руку, как будто хотел схватить Верзилу за воротник и вышвырнуть за дверь.
Верзила нырнул под его руку и быстро нанес несколько ударов левой — правой в солнечное сплетение. В то же мгновение Верзила отпрыгнул. Фиск позеленел и сел, со стоном держась за живот.
— Вставай, великан, — сказал Верзила. — Я тебя жду.
Остальные двое застыли от неожиданности.
Фиск медленно поднялся. Лицо его исказилось от гнева, но на этот раз он приближался медленно. Верзила отскочил. Фиск бросился вперёд, но промахнулся на два дюйма. Он нанес удар правой, и рука его на дюйм не достала до челюсти Верзилы. Верзила прыгал, как пробка на волнующейся поверхности воды. И отражал все удары.
Фиск, нечленораздельно крича, слепо бросился на малыша, надоедливого, как москит. Но тот отскочил в сторону и резко ударил открытой ладонью по гладко выбритой щеке противника. Раздался громкий щелчок, как от метеорита, пробивающего атмосферу планеты. На лице Фиска отчетливо проступили следы четырёх пальцев. Мгновение он стоял ошеломленный. Как нападающая змея, Верзила подскочил снова, его кулаки ударили в челюсть Фиска. Тот полусогнулся и упал. И тут Верзила услышал сигнал тревоги.
Не колеблясь, он повернулся и бросился к двери. Пробежав мимо троих удивленных охранников, он исчез.
— А почему мы ждем Верзилу? — спросил Конвей.
Дэвид ответил:
— Вот как я вижу сложившуюся ситуацию. Нет ничего, что было бы нам нужнее, чем информация о пиратах. Я имею в виду информацию изнутри. Я попытался её добыть, но не получилось. Теперь я меченый человек. Меня знают. Но Верзилу они не знают. У него нет официальных связей с Советом. Моя идея заключается в том, что мы выдвинем против него обвинение в уголовном преступлении — для правдоподобия, и он улетит с Цереры в корабле отшельника…
— О космос! — простонал Конвей.
— Послушайте! Он вернется на астероид отшельника. Если пираты там, хорошо! Если их нет, он оставит корабль на виду и будет ждать. Там ждать очень удобно.
— А когда они появятся, — сказал Хенри, — его расстреляют.
— Нет. Для этого он и берёт корабль отшельника. Они захотят узнать, где Хансен, не говоря уже обо мне, откуда явился Верзила, как он получил корабль. Им нужно это знать. Поэтому они будут разговаривать.
— А как он нашёл астероид отшельника среди всех этих скал? Это трудно объяснить.
— Вовсе нет. Корабль отшельника на Церере. Я устроил так, что он не охраняется. Верзила найдёт координаты астероида в корабельном журнале. Для него это будет просто астероид недалеко от Цереры, не хуже других, и Верзила кратчайшим путем направится к нему, чтобы выждать, пока уляжется переполох на Церере.
— Рискованно, — проворчал Конвей.
— Верзила это знает. Я вам говорю: придётся идти на риск. Земля недооценивает угрозу пиратов и поэтому…
Он замолчал, так как ожил коммуникатор, последовало чередование вспышек света.
Конвей нетерпеливым движением руки включил дешифратор и выпрямился. Он сказал:
— Передача на волне Совета и, клянусь Церерой, шифр Совета.
На маленьком экране над коммуникатором сменялись вспышки света и тьмы. Конвей достал из бумажника металлическую пластинку и вложил её в узкую щель коммуникатора. Это был кристаллический дешифратор — главная часть устройства, состоящего из кристаллов тунгстена, вплавленных в алюминиевую матрицу. Прибор особым образом фильтровал сигналы субэфира. Конвей медленно настраивал дешифратор, всё глубже вдвигая пластинку, пока она не совпала с такой же пластинкой на другом конце связи. В момент полного совпадения картинка на экране прояснилась.
Старр привстал.
— Верзила! — воскликнул он. — Где ты, во имя космоса?
Маленькое лицо Верзилы проказливо улыбалось.
— Конечно, в космосе. В ста тысячах миль от Цереры. Я в корабле отшельника.
Конвей яростно прошептал:
— Ещё один твой трюк? Ты говорил, он на Церере.
— Я так считал, — ответил Счастливчик. Потом: — Что случилось, Верзила?
— Ты сказал, что нужно действовать быстро, поэтому я сам всё устроил. Меня задел один из умников в башне. Ну, я немного поколотил его и сбежал, — он рассмеялся. — Проверьте в охране, не ищут ли они похожего на меня парня по обвинению в нападении и избиении.
— Это не самый разумный твой поступок, — серьёзно сказал Старр. — Тебе трудно будет убедить людей астероидов, что ты на кого-то напал. Не хочутебя обидеть, но ты кажешься неподходящим для такой работы.
— Поколочу парочку, — возразил Верзила, — поверят. Но я вас вызвал не поэтому.
— А почему?
— Как мне добраться до астероида этого парня?
Старр нахмурился.
— Ты смотрел в бортовой журнал?
— Великая Галактика! Везде смотрел. Даже под матрацем. Никаких записей и никаких координат.
Беспокойство Дэвида росло.
— Странно. Более чем странно. Послушай, Верзила, — заговорил он быстро и настойчиво, — уравняй свою скорость со скоростью Цереры. Отметь свои координаты относительно Цереры и сохраняй их, пока я тебя не вызову. Ты теперь близко к Церере, и пираты не будут тебя беспокоить, но если отлетишь подальше, можешь попасть в трудное положение. Слышишь меня?
— Понял. Сейчас рассчитаю координаты.
Счастливчик записал их и прервал связь. Он сказал:
— Великий космос, когда я научусь не строить предположений?
Хенри спросил:
— Не лучше ли Верзиле вернуться? Предприятие вообще безрассудное, а так как у тебя нет координат, лучше вообще от него отказаться.
— Отказаться? Отказаться от единственного астероида, который мы знаем как базу пиратов? А вы знаете другие? Хотя бы один? Надо найти этот астероид. Это единственный ключ к развязке всего узла.
Конвей сказал:
— Он прав, Гус. Это база.
Старр решительно нажал кнопку интеркома и ждал. Послышался сонный и удивленный голос Хансена:
— Алло! Алло!
Дэвид резко сказал:
— Говорит Старр, мистер Хансен. Простите за беспокойство, но мне хотелось бы, чтобы вы немедленно пришли к доктору Конвею.
После небольшой паузы отшельник ответил:
— Конечно, но я не знаю, как туда добраться.
— Охранник у двери вас проводит. Я свяжусь с ним. Можете прийти через две минуты?
— Две с половиной, — добродушно ответил тот. Теперь он казался вполне проснувшимся. — Хорошо!
Хансен держал слово. Счастливчик ждал его. Он молчал, придерживая дверь, потом спросил у охранника:
— Не было ли тревоги на базе сегодня вечером? Может быть, драка?
Охранник удивился.
— Да, сэр. Но пострадавший отказался подавать жалобу. Сказал, что это была честная драка.
Дэвид закрыл за ним дверь.
— Как и следовало ожидать. Ни один нормальный человек не захочет признаться, что его побил Верзила. Но нужно будет всё равно занести в документы обвинение… На всякий случай… Мистер Хансен.
— Да, мистер Старр?
— У меня вопрос, который я не хотел задавать по внутренней связи. Скажите, каковы координаты вашего астероида. Стандартные и временные, конечно.
Хансен смотрел на него округлившимися глазами.
— Может, вы мне не поверите, но я не могу вам сказать.
Глава 9
АСТЕРОИД, КОТОРОГО НЕ ВЫЛО
Дэвид. спокойно встретил его взгляд.
В это трудно поверить, мистер Хансен. Я считал, что вы знаете свои координаты, как жилец дома знает свой адрес.
Отшельник взглянул в пол и мягко ответил:
— Наверно, вы правы. Это действительно мой домашний адрес. Но я его не знаю.
Конвей начал:
— Если этот человек сознательно…
Счастливчик прервал его:
— Подождите. Проявим терпение. У мистера Хансена должно быть объяснение.
Они ждали, что скажет отшельник. Координаты многочисленных тел в Галактике — это жизнь космических полётов. Они выполняют те же функции, что и линии долготы и широты на двухмерной поверхности планеты. Но поскольку в космосе три измерения, а тела движутся относительно друг друга во всех направлениях, необходимые координаты гораздо сложнее. Вначале устанавливается точка отсчёта. В Солнечной системе ею обычно служит Солнце. Далее необходимы три числа. Первое — расстояние от тела до Солнца или его позиция относительно светила. Второе и третье — угловые измерения, характеризующие положение тела относительно линии, соединяющей Солнце с центром Галактики. Если известны эти данные для трёх разных точек орбиты, достаточно далеко отстоящих друг от друга, орбита движущегося тела может быть рассчитана, и его положение относительно Солнца будет известно в любой момент. Корабли рассчитывают собственные координаты относительно Солнца или, если так удобнее, относительно ближайшего крупного тела. На лунных линиях для кораблей, курсирующих между Землей и Луной, такой точкой отсчёта обычно берётся Земля. Собственные координаты Солнца рассчитывают относительно центра Галактики и начального галактического меридиана, но это необходимо только при межзвёздных путешествиях.
Должно быть, такие мысли приходили в голову отшельнику, пока он молча сидел, а три члена Совета внимательно смотрели на него. Трудно сказать. Неожиданно Хансен заговорил:
— Да, я могу объяснить.
— Мы ждем, — ответил Старр.
— Мне ни разу за пятнадцать лет не приходилось пользоваться координатами. Последние два года я вообще не покидал астероид, а до этого делал короткие перелеты раз-два в году на Цереру или Весту за разными припасами. Использовал пространственные координаты, которые рассчитывал всякий раз заново. Таблицу я никогда не делал, она мне не нужна. Отсутствовал я один-два дня, в крайнем случае три, и моя скала за это время не улетала далеко. Она движется внутри потока чуть медленнее Цереры и Весты, когда находится далеко от Солнца, и чуть быстрее, когда близко. Когда я возвращаюсь к рассчитанной позиции, моя скала может улететь на десять или даже на сто тысяч миль, но её всегда можно увидеть в телескоп. После этого я уточняю курс на глаз. Я никогда не использовал солнечные координаты, они мне не нужны.
— Вы хотите сказать, что не можете вернуться на свой астероид, — заметил Дэвид. — Или вы рассчитали перед вылетом пространственные координаты?
— Нет, — печально ответил отшельник. — Я и не думал об этом, пока вы не спросили.
Вмешался доктор Хенри:
— Подождите. Подождите. — Он заново набил трубку и теперь яростно раскуривал её. — Может, я ошибаюсь, мистер Хансен, но, когда вы приобрели этот астероид, вы должны были зарегистрироваться в Земном бюро внешних миров. Так?
— Да, — ответил Хансен, — но ведь это только формальность.
— Возможно. Я не спорю. Но координаты вашего астероида должны быть зарегистрированы.
Хансен немного подумал, потом покачал головой.
— Боюсь, что нет, доктор Хенри. Записали только стандартные координаты на первое января того года. Просто чтобы обозначить астероид. Как бы присвоить ему кодовое обозначение, если кто-нибудь вздумает оспаривать право собственности. Их больше ничего не интересовало, а по таким данным нельзя рассчитать орбиту.
— Но у вас у самого должны быть данные орбиты. Счастливчик говорил, что вначале вы использовали астероид для ежегодного отдыха. Вам нужно было находить его из года в год.
— Это было пятнадцать лет назад, доктор Хенри. Да, у меня были эти данные. И они есть где-то в записях на моей скале, но не в памяти.
Глаза Старра потемнели.
— На данный момент больше ничего, мистер Хансен. Охранник проводит вас в вашу комнату, и мы дадим вам знать, когда вы будете нужны. И, мистер Хансен, — добавил он, когда отшельник встал, — если вы случайно вспомните координаты, дайте нам знать.
— Даю слово, мистер Старр, — серьёзно ответил Хансен.
Трое вновь остались одни. Дэвид включил связь.
— Настройте на передачу, — попросил он.
Послышался голос дежурного по центру связи:
— Предыдущее сообщение было адресовано вам, сэр? Я не мог его расшифровать и подумал…
— Вы поступили правильно. Давайте связь.
Счастливчик отладил дешифратор и использовал координаты Верзилы для направленного луча.
— Верзила, — сказал он, когда лицо того появилось на экране, — раскрой снова корабельный журнал.
— У тебя есть координаты, Счастливчик?
— Ещё нет. Открыл?
— Да.
— Там должен быть листок бумаги, покрытый вычислениями.
— Погоди. Да. Вот он.
— Держи его перед передатчиком. Я хочу на него взглянуть.
Дэвид положил перед собой листок и переписал числа.
— Хорошо, Верзила, можешь убрать. Теперь слушай. Не выключай связь. Что бы ни случилось, оставайся включенным, пока не услышишь меня. Отключаюсь.
Он повернулся к старшим членам Совета.
— Я привел корабль отшельника на Цереру на глаз. Но три или четыре раза приходилось приспосабливать курс, используя корабельный телескоп и измерительные инструменты. Вот мои расчёты.
Конвей кивнул:
— Теперь ты хочешь проделать вычисления в обратном порядке и по ним найти координаты астероида.
— Это нетрудно сделать, особенно если использовать Обсерваторию Цереры.
Конвей тяжело встал.
— Думаю, ты придаешь этому слишком большое значение, но последую за твоим инстинктом. Идёмте в Обсерваторию.
Коридоры и лифты привели их ближе к поверхности Цереры, на полмили выше помещений Совета на астероиде. Здесь было холодно, так как Обсерватория пытается поддерживать постоянную температуру, настолько близкую к поверхностной, насколько в состоянии выдержать человек. Медленно и осторожно молодой техник разбирал расчёты Старра и заносил их в память компьютера. Доктор Хенри, сидя в не слишком удобном кресле, согнул своё худое тело чуть не вдвое и, казалось, пытался извлечь дополнительное тепло из трубки; его руки с большими плоскими пальцами плотно обхватили её головку. Он сказал:
— Надеюсь, это нам что-нибудь даст.
Счастливчик ответил:
— Должно. — Он откинулся, глаза его обеспокоенно смотрели на противоположную стену. — Послушайте, дядя Гектор, вы упомянули мой инстинкт. Это не инстинкт. Пиратство в наши дни совсем не то, что двадцать пять лет назад.
— Их труднее поймать, ты это хочешь сказать?
— Да, но разве не странно, что вся их деятельность сосредоточена в поясе астероидов? Только тут торговля оказалась нарушенной.
— Они осторожны. Двадцать пять лет назад, когда их корабли действовали до самой Венеры, мы были вынуждены организовать нападение и раздавить их. Теперь они держатся астероидов, и правительство не решается принять строгие меры.
— Пока всё хорошо, — сказал Дэвид, — но как они поддерживают себя? Всегда считалось, что пираты действуют не просто из любви к нападениям, они захватывают корабли, пищу, воду и другие припасы. Теперь всего этого им нужно ещё больше. Капитан Антон хвастал о сотнях кораблей и тысячах скал. Может, он и лгал, чтобы произвести на меня впечатление, но он определённо устроил толчковую дуэль в открытом космосе, где корабль свободно висит часами, не опасаясь никаких правительственных судов. Больше того, Хансен утверждает, что многочисленные миры отшельников используются пиратами как посадочные пункты. А их сотни. Если пираты имеют дело со всеми ними или даже с большей частью, это тоже означает большую организацию. А где они берут пищу для такой большой организации? Ведь рейдов у них теперь меньше, чем двадцать пять лет назад. Пират по имени Мартин Манью говорил о женах и семьях. Он сам присматривает за чанами. Очевидно, выращивает дрожжи. У Хансена на астероиде дрожжевая пища, но не с Венеры. Я знаю вкус венерианских блюд.
Сложите всё это вместе. Они выращивают собственную дрожжевую пищу на маленьких фермах, рассеянных по пещерам астероидов. Извлекают двуокись углерода непосредственно из известняка, а воду и кислород — со спутников Юпитера. Механизмы и энергетические установки доставляют, вероятно, с Сириуса или захватывают в редких рейдах. Рейды дают им также пополнение — мужчин и женщин. Получается, что Сириус готовит независимое правительство. Он использует недовольных, и они создают общество, которое нам не разрушить, если мы будем ждать слишком долго. Их предводители, капитаны Антоны, стремятся прежде всего к власти и охотно отдадут половину Земной империи Сириусу, лишь бы владеть другой половиной.
Конвей покачал головой.
— Из немногих фактов ты делаешь слишком обширные выводы. Сомневаюсь, чтобы мы смогли убедить в этом правительство. Совет Науки может действовать и самостоятельно, как ты знаешь. Но, к несчастью, у нас нет своего флота.
— Знаю. Тем более нам нужна информация. Если, пока не поздно, мы отыщем их главные базы, захватим предводителей, обнародуем их связь с сирианцами…
— Что тогда?
— Я считаю, с ними будет покончено. Я убеждён, что средний «человек астероидов», если пользоваться их собственными словами, не подозревает, что он марионетка сирианцев. Он, вероятно, обижен Землей. Думает, что с ним несправедливо обошлись, он не смог найти работу, не смог продвинуться, что он заслуживает большего. Его привлекло то, что он считал интересной жизнью. Всё это так, может быть. Но это вовсе не значит, что он готов принять сторону злейшего врага Земли. Если он поймет, куда его вели предводители пиратов, с пиратской угрозой будет покончено.
Старр прервал свой горячий шёпот, так как приблизился техник, держа прозрачную пластину с компьютерным шифром на ней.
— Вы уверены, что ваши вычисления верны?
— Конечно. А что?
Техник покачал головой:
— Что-то не так. Координаты вашей скалы внутри запретной зоны, если учитывать её собственное движение. Этого, конечно, не может быть.
Дэвид резко поднял брови. Насчёт запретных зон этот человек не мог ошибиться. Никакой астероид не может там находиться. Эти зоны представляют те части пояса астероидов, в которых скалы, если бы они там существовали, имели бы время обращения вокруг Солнца, кратное двенадцатилетнему периоду обращения Юпитера. А это значило бы, что Юпитер и астероид постоянно сближаются раз в несколько лет в одной и той же точке пространства. Повторяющееся гравитационное воздействие Юпитера выбивает астероиды из таких зон. За два миллиарда лет, прошедших после образования планет, Юпитер очистил все запретные зоны от астероидов.
— Вы уверены, что ваши расчёты верны? — повторил Счастливчик.
Техник пожал плечами, как бы говоря: «Я знаю своё дело». Но вслух сказал:
— Можем проверить с помощью телескопа. Тысячедюймовый занят, но он и не подходит для близких наблюдений. Используем один из меньших. Прошу вас — идите за мной.
Сама обсерватория напоминала храм, где многочисленные телескопы — алтари. Люди, занятые работой, не оторвались, чтобы взглянуть на вошедших техника и троих членов Совета. Техник провёл их в одно из крыльев огромного пещероподобного помещения.
— Чарли, — обратился он к преждевременно лысеющему молодому человеку, — можешь запустить Берту?
— Зачем? — Чарли поднял голову от усеянных звёздами фотографий, над которыми он склонился.
— Хочу посмотреть место, представленное определёнными координатами. — Он протянул листок с данными.
Чарли взглянул на него и нахмурился.
— А зачем? Ведь это запретная зона.
— Всё равно направь телескоп. Дело Совета Науки.
— О! Слушаюсь, сэр. — Чарли стал гораздо приветливее. — Это не потребует много времени.
Он нажал кнопку, гибкая диафрагма втянулась внутрь шахты стодвадцатидюймового телескопа и поднялась вверх. Диафрагма плотно закрыла шахту, и Старр услышал сверху звуки открывающегося отверстия. Большой глаз Берты поднялся, диафрагма не давала выйти воздуху, можно было смотреть в небо. Чарли тем временем объяснял:
— Обычно мы используем Берту для фоторабот. У Цереры слишком быстрое вращение для постоянных визуальных наблюдений. Пункт, который вас интересует, к счастью, находится над горизонтом.
Он занял сиденье у объектива и поднялся по стволу, как по жесткому хоботу гигантского слона. Телескоп наклонился, и молодой астроном поднялся ещё выше. Он тщательно установил фокус. Потом слез со своего сиденья и по кольцам стенной лестницы спустился вниз. По движению его пальца перегородка непосредственно под телескопом скользнула в сторону, обнажив абсолютно чёрную яму. Здесь при помощи зеркал и линз фокусировалось и увеличивалось изображение, полученное на телескопе. Видна была только чернота.
Чарли сказал:
— Вот оно. — Он использовал метровую линейку как указку. — Вот эта искорка — Метис, достаточно большая скала. Двадцать пять миль в диаметре, но он далеко — миллионы миль от того места, которым вы интересуетесь, по другую сторону от запретной зоны. Звёзды затемнены при помощи фазовой поляризации, иначе ничего нельзя было бы рассмотреть.
— Спасибо, — поблагодарил Счастливчик. Голос его звучал ошеломленно.
— Рад помочь в любое время.
Они направлялись в лифте вниз, когда Старр заговорил. Он сказал:
— Не может быть.
— А почему? — спросил Хенри. — Твои вычисления неверны?
— Этого не может быть. Я ведь добрался до Цереры.
— Ты намеревался записать одно число, а записал по ошибке другое, потом на глаз поправил курс, а в вычисления внести поправку забыл.
Счастливчик покачал головой.
— Не может быть. Я не… Подождите. Великая Галактика!
Его глаза сверкнули.
— Что случилось?
— Получается! Великий космос, всё совпадает! Послушайте, я ошибался. Начинать игру не рано; наоборот, поздно. Может быть, слишком поздно. Я опять недооценил их.
Лифт остановился на нужном этаже. Дверь открылась, и Дэвид быстрыми шагами вышел. Конвей побежал за ним, схватил за руку, развернул.
— О чём ты говоришь?
— Я отправляюсь туда. Даже не думайте меня останавливать. И если я не вернусь, ради Земли, заставьте правительство готовиться к худшему. Иначе через год пираты захватят контроль над всей Системой. Может, и раньше.
— Почему? — яростно спросил Конвей. — Потому что ты не нашёл астероид?
— Совершенно верно, — ответил Счастливчик.
Глава 10
АСТЕРОИД, КОТОРЫЙ БЫЛ
Верзила привез Конвея и Хенри на Цереру в собственном корабле Старра — «Метеоре», и Счастливчик был благодарен ему за это. Это означало, что он может выйти в космос на нём, ощущать под ногами его палубу, держать в руках его приборы.
«Метеор» — двухместный крейсер, построенный год назад, после приключений Дэвида на Марсе. Внешность его обманчива, насколько этого могла достичь современная наука. Своими грациозными линиями он походил на космическую яхту, а длиной едва ли вдвое превышал лодку Хансена. Любой космический путешественник, встретив «Метеор», принял бы его за игрушку богача, может быть, скоростную, но тонкокожую и неспособную выдержать даже слабый удар. И, конечно, никто не подумал бы, что такой корабль может появиться в опасном поясе астероидов.
Впрочем, более внимательное изучение корабля изменило бы это мнение. Сверкающие гиператомные двигатели по мощности равнялись двигателям вооруженного крейсера в десять раз больше «Метеора». Энергетические запасы были огромны, а щит мог остановить любой снаряд, кроме выстрелов главного калибра дредноута. Ограниченная масса не позволяла считать его первоклассным наступательным кораблем, но по отношению массы к развиваемой мощности он поспорил бы с любым.
Неудивительно, что Верзила прыгал от радости, взойдя на «Метеор» и сбросив космический костюм.
— Великий космос, — воскликнул он, — как хорошо, что я избавился от той лоханки. Что мы сделаем с нею?
— Я попросил послать за нею корабль с Цереры.
Церера находилась за ними в ста тысячах миль. Внешне она равнялась половине Луны, видимой с Земли. Верзила с любопытством спросил:
— Почему бы тебе не ввести меня в курс дела, Счастливчик? Почему вдруг изменились планы? Я должен был лететь один.
— У нас нет координат астероида, — ответил Дэвид. Он кратко пересказал события предшествовавших нескольких часов.
Верзила свистнул.
— Куда же мы направляемся?
— Точно не знаю, — ответил Счастливчик, — но начнем мы с того места, где должен был бы находиться астероид отшельника.
Он взглянул на приборы и добавил:
— И двигаться будем быстро.
Он знал, что такое быстро. Ускорение росло, с ним росла и скорость «Метеора». Старр и Верзила лежали в диамагнитных креслах, откинувшись, и растущее давление равномерно распределялось по поверхности их тел. Концентрация кислорода в каюте повысилась, ею управлял чувствительный прибор; таким образом, дыхание людей стало менее глубоким без недостатка кислорода. На обоих были g-каркасы, лёгкие и не мешавшие движениям; под давлением растущей скорости они становились жесткими и защищали кости, особенно позвоночник, от повреждений. А нилотексовый пояс предохранял внутренние органы. Все эти приспособления были разработаны специалистами Совета Науки и позволяли «Метеору» развивать ускорение, на двадцать — тридцать процентов большее, чем у новейших кораблей флота. В данном случае ускорение, хотя и очень большое, было вдвое меньше того, что мог позволить корабль.
Когда скорость выровнялась, «Метеор» находился в пяти миллионах миль от Цереры, и если бы Дэвид и Верзила захотели взглянуть на неё, то обнаружили бы, что Церера превратилась в светлое пятнышко, менее яркое, чем многие звёзды. Верзила сказал:
— Послушай, Счастливчик, я давно хочу тебя спросить. С тобой ли твой сверкающий щит?
Старр кивнул, и лицо Верзилы стало грустным.
— Почему же тогда ты, глупый бык, не брал его с собой, когда отправился на охоту за пиратами?
— Он и тогда был со мной, — спокойно ответил Старр. — Я не расставался с ним с того дня, как мне его дали марсиане.
Счастливчик и Верзила знали (впрочем, никто в Галактике, кроме них, этого не знал), что марсиане, о которых упомянул Дэвид, — это не фермеры и скотоводы Марса. Это раса нематериальных существ, прямых потомков древнего разума, обитавшего на Марсе задолго до того, как он потерял почти весь свой кислород и воду. Выкопав огромные пещеры под поверхностью планеты, марсиане конвертировали выбранные кубические мили в энергию и запасли эту энергию на будущее, и теперь жили в полной изоляции. Они оставили свои материальные тела и воплотились в чистую энергию, и человечество не подозревало об их существовании. Только Счастливчик Старр проник в их крепости и в качестве сувенира получил то, что Верзила назвал сверкающим щитом. Раздражение Верзилы увеличивалось.
— Но если он был у тебя с собой, почему ты его не использовал? Что случилось?
— Ты неправильно представляешь действие щита, Верзила. Он не всемогущ. Он не может накормить меня и вытереть мне губы, когда я наемся.
— Я видел, что он может. Он многое может.
— Да, может. Он поглощает энергию любого типа.
— Например, энергию выстрела из бластера. Ты ведь не станешь этого отрицать?
— Нет, признаю, что бластеров я не боюсь. Щит поглотит и потенциальную энергию, если тело не слишком велико или мало. Например, нож или обычная пуля не пройдут сквозь него, хотя пуля свалит меня с ног. Но хорошая кувалда пройдёт через щит, и даже если не пройдёт, её инерция раздавит меня. Более того, молекулы воздуха проходят сквозь щит, как будто его нет, потому что они слишком малы. Я тебе это говорю, чтобы ты понял: если бы на мне был щит и Динго сломал бы мою лицевую пластину, когда мы болтались в космосе, я бы умер. Щит не помешал бы воздуху улетучиться в долю секунды.
— Если бы с самого начала использовал его, у тебя не было бы никаких проблем, Счастливчик. Помнишь, как было на Марсе? — Верзила усмехнулся при этом воспоминании. — Он сверкал вокруг тебя, будто из дыма, только прозрачного, так что ты был виден в тумане. Было видно всё, кроме лица. Вместо него — полоска белого пламени.
— Да, — сухо отозвался Дэвид, — я испугал бы их. Они стреляли бы в меня из бластеров, а я оставался невредим. Тогда они все ушли бы из «Атласа», отвели бы его на десять миль и взорвали. И я был бы мертв, как камень. Не забудь, что щит — это только щит. Он не наступательное оружие.
— Ты не будешь больше его использовать? — спросил Верзила.
— Когда будет необходимо. Но только тогда. Если я буду использовать его слишком часто, эффект будет потерян. Станут известны его слабости, и я буду более уязвим, чем без него.
Старр изучил показания приборов и спокойно сказал:
— Готовься к новому ускорению.
— Эй… — начал Верзила. Но тут его толкнуло назад, на спинку кресла, перехватило дыхание, и он не мог говорить. В глазах стоял красный туман, кожа оттягивалась назад, как будто хотела обнажить кости. На этот раз «Метеор» шёл на полном ускорении.
Оно продолжалось пятнадцать минут. К концу их Верзила едва не потерял сознание. Потом напряжение спало, и он начал возвращаться к жизни. Дэвид тряс головой и переводил дыхание. Верзила заговорил:
— Эй, это вовсе не забавно.
— Знаю, — ответил Счастливчик.
— Но в чём дело? Разве нам не хватало скорости?
— Не совсем. Но теперь всё в порядке. Мы от них оторвались.
— От кого?
— От тех, кто за нами следовал. За нами следовали с той самой минуты, Верзила, как ты ступил на борт «Метеора». Взгляни на эргометр.
Верзила посмотрел. Эргометр напоминал тот, что был на «Атласе», только по названию. На «Атласе» находилась примитивная модель, предназначенная для того, чтобы уловить пульсацию гиператомных двигателей и запустить шлюпки. Эргометр на «Метеоре» мог уловить пульсацию двигателя маленькой шлюпки на расстоянии в два миллиона миль. Даже теперь линия на разграфленной бумаге вздрагивала еле заметно, но периодически.
— Это ничего не значит, — возразил Верзила.
— Но значило. Посмотри сам. — Старр развернул цилиндр бумаги, прошедшей иглу указателя. Колебания стали глубже, характернее. — Видишь, Верзила?
— Может быть любой корабль. Церерский фрахтер.
— Нет. С самого начала он следовал за нами, и точно следовал, а это значит, что на нём тоже хороший эргометр. К тому же ты когда-нибудь видел такой рисунок?
— Точно такой — нет.
— А я видел — у корабля, взявшего на абордаж «Атлас». Этот эргометр гораздо четче улавливает рисунок, но сходство несомненное. Двигатель корабля, следовавшего за нами, сирианской постройки.
— Корабль Антона?
— Или похожий. Неважно. Они нас потеряли. В данный момент, — объяснил Дэвид, — мы находимся точно в том месте, где должен быть астероид отшельника, плюс-минус, скажем, сто тысяч миль.
— Но тут ничего нет, — удивился Верзила.
— Верно. Гравиметр показывает, что поблизости нет значительных масс. Мы находимся в пространстве, которое астрономы называют запретной зоной.
— Ага, — с умным видом сказал Верзила. — Понимаю.
Счастливчик улыбнулся. Ничего не было видно. Запретная зона внешне ничем не отличается от других участков пояса, густо усеянных астероидами, по крайней мере, для невооруженного глаза. Если только астероид случайно не окажется на расстоянии в сто миль, картина будет та же самая. Звёзды и объекты, похожие на звёзды, покрывают небо. Если некоторые из них не звёзды, а астероиды, отличить всё равно невозможно; нужно несколько часов внимательно смотреть в телескоп, чтобы обнаружить, что одна из «звёзд» изменила своё расположение относительно других. Верзила спросил:
— Что же мы будем делать?
— Обследовать окрестности. Может потребоваться несколько дней.
Траектория «Метеора» стала блуждающей. Он направился от Солнца из запретной зоны к ближайшему рою астероидов. Гравиметр отмечал далекие массы. Один за другим крошечные миры скользили по экрану, оставались на нём, пока не делали полный оборот и уходили. Скорость «Метеора» упала, он полз, конечно, относительно, но мили по-прежнему мелькали сотнями и тысячами и переходили в миллионы. Проходили часы. Осмотрели свыше десяти астероидов.
— Поешь, — сказал Верзила.
Но Дэвид довольствовался сандвичами и сном урывками, и они по очереди с Верзилой следили за экраном, гравиметром и эргометром. При виде очередного астероида Старр сказал напряженным голосом:
— Я спускаюсь.
Верзилу эти слова застали врасплох.
— Это тот астероид? — Он взглянул на него внимательнее. — Ты его узнал?
— Кажется, да, Верзила. Во всяком случае, нужно проверить.
С полчаса они маневрировали, чтобы привести корабль в тень астероида.
— Держись здесь, — сказал Счастливчик. — Кто-то должен оставаться на борту, и этот кто-то — ты. Не забудь. Корабль могут обнаружить, но, если ты останешься в тени, не станешь пользоваться радио, включать двигатели, это очень трудно сделать. Эргометр показывает, что поблизости никаких кораблей нет. Верно?
— Верно!
— Запомни: ни в коем случае не спускайся за мной. Закончив, я вернусь сам. Если не вернусь через двенадцать часов и не вызову тебя, возвращайся на Цереру и передай сообщение, предварительно сфотографировав астероид под всеми углами.
Лицо Верзилы приняло упрямое выражение.
— Нет.
— Вот сообщение, — спокойно продолжал Дэвид. Он достал из внутреннего кармана персональную капсулу. — Капсула настроена на доктора Конвея. Только он может открыть её. Он должен получить информацию, что бы со мной ни случилось. Понял?
— Что это? — спросил Верзила, не пытаясь взять капсулу.
— Боюсь, только теории. Я никому о них не говорил, потому что собирался здесь найти доказательства. Если не смогу, теории по крайней мере должны дойти. Конвей поверит и убедит правительство действовать на их основе.
— Нет, — сказал Верзила. — Я тебя не оставлю.
— Верзила, если я не смогу доверять тебе дела, независимо от моей и твоей участи, в будущем ты мне не понадобишься, если я выйду из этого живым.
Верзила протянул руку. В неё опустилась персональная капсула.
— Ладно, — сказал он.
Старр опускался на поверхность астероида, ускоряя спуск при помощи толчкового пистолета. Астероид примерно такого размера. Примерно такой по форме. Достаточно утесистый, и освещенные солнцем места того же цвета. И всё же таким может быть любой астероид. Но есть и другие признаки. А они так часто не повторяются. Дэвид снял с пояса небольшой инструмент, похожий на компас. На самом деле это была карманная радарная установка. В ней находился источник коротковолнового излучения. Некоторые части излучения частично отражались скалами, другие распространялись на значительное расстояние. Отражение от скалы приводило в движение стрелку на циферблате. Если же под скалой находилась пещера или пустота, часть излучения отражалась, а часть проходила в пустоту и отражалась от более далекой стены. В таком случае появлялось двойное отражение, один компонент которого слабее другого. И в соответствии с этим стрелка вздрагивала дважды. Перепрыгивая с вершины на вершину, Счастливчик следил за инструментом. Стрелка вздрогнула, движение было двойным. Сердце Дэвида забилось сильнее. Астероид полый. Надо найти, где двойное движение сильнее всего. Там пустота близка к поверхности. Там шлюз.
Несколько мгновений Старр следил только за стрелкой. Он не видел магнитного кабеля, извивавшегося по направлению к нему из-за близкого горизонта. Он не замечал опасности, пока кабель не сомкнулся, кольцо за кольцом, сдернув почти невесомое тело советника с астероида и затем вниз, на скалы, где тот остался лежать, совершенно беспомощный.
Глава 11
НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ
Три огня показались из-за горизонта и направились к распростертому Старру. В темноте астероидной ночи он не видел приближающиеся фигуры. Потом послышался в наушниках голос, и этот хриплый голос был ему хорошо знаком — пират, Динго. Голос произнес:
— Не зови своего приятеля там, наверху. У меня тут глушитель, твоя волна не пройдёт. Попробуй только, и я вскрою бластером твой костюм, стукач.
Дэвид молчал. В тот момент, как он почувствовал прикосновение магнитного кабеля, он понял, что попал в ловушку. Позвать Верзилу раньше, чем он поймет, что это за ловушка, означало подвергнуть опасности «Метеор» и при этом не помочь себе.
Динго встал над ним, расставив по обе стороны ноги. В свете одного из фонарей Счастливчик увидел лицевую пластину Динго и за ней похожие на обрубки очки. Инфракрасные очки, способные обычное тепловое излучение перевести в видимый свет. Даже без фонарей в тёмной астероидной ночи они могут следить за ним по нагревателям его костюма. Динго спросил:
— Ну что, стукач? Испугался?
Он поднял тяжелую ногу, одетую в раздутый металл, и резко опустил её на лицевую пластину Старра. Тот быстро повернул голову, чтобы удар пришёлся в металлическую часть шлема, но Динго на полпути остановил ногу. Он громко рассмеялся:
— Так легко не уйдешь, стукач.
Голос его изменился, когда он заговорил с остальными двумя:
— Прыгайте через скалу и откройте шлюз.
Они колебались. Один из них сказал:
— Динго, капитан сказал, чтобы ты…
— Двигайтесь, или я начну с него, а кончу вами.
Перед такой угрозой они отступили. Динго сообщил Счастливчику.
— Теперь доставим тебя к шлюзу.
Он держал рукоять магнитного кабеля. Нажав на кнопку, он выключил ток и тем самым размагнитил его. Отступил в сторону и резко дернул к себе. Дэвида потащило по поверхности астероида, подбросило вверх, кабель частично развернулся. Но Динго опять коснулся кнопки, и кольца снова сжали молодого человека. Пират поднял хлыст вверх, и вслед за ним — Дэвида. Динго искусно маневрировал кабелем, сохраняя равновесие. Пленник висел в пространстве, а Динго тащил его, как ребенок тащит воздушный шарик.
Через пять минут показались огни остальных двоих. Они светили в тёмное пространство, правильные очертания которого свидетельствовали, что это вход в шлюз. Динго позвал:
— Внимание. Принимайте груз.
Он размагнитил кабель, щелчком направив его вниз, при этом сам приподнялся на шесть дюймов над поверхностью. Старр быстро завертелся, кабель полностью размотался. Динго подпрыгнул и поймал пленника. С искусством человека, привыкшего к невесомости, он прекратил попытки Счастливчика вывернуться и швырнул его в направлении шлюза. Своё обратное движение Динго прервал двумя короткими выстрелами из толчкового пистолета и выпрямился как раз вовремя, чтобы увидеть, как Старр точно влетает в шлюз. Дальнейшее было ясно видно в свете фонарей пиратов. Пойманный псевдогравитацией шлюза, молодой человек неожиданно полетел вниз и ударился об пол со звоном и с силой, перебившей ему дыхание. Лающий хохот Динго заполнил его шлем.
Внешняя дверь закрылась, внутренняя открылась. Счастливчик встал, благодарный нормальному тяготению.
— Входи, стукач. — Динго держал в руке бластер.
Старр помедлил у входа внутрь астероида. Глаза его переходили от одного предмета к другому, а лёд застывал по краям лицевой пластины. Он увидел не мягко освещенную библиотеку отшельника Хансена, а необыкновенно длинный коридор, потолок которого поддерживал ряд столбов. Другого конца коридора он не видел. По стенам коридора на равных расстояниях были видны входы в другие помещения. Взад и вперёд сновали люди, в воздухе стоял запах озона и машинного масла. В отдалении слышалось характерное биение гигантского гиператомного двигателя. Совершенно очевидно, что это не келья отшельника, а большое индустриальное предприятие.
Дэвид задумчиво прикусил губу и отвлеченно подумал, не Умрет ли с ним вся эта информация. Динго сказал:
— Сюда, стукач. Заходи.
Он указал на кладовую. её полки и бункеры были полны, но людей, кроме них, не было.
— Послушай, Динго, — нервно заговорил один из пиратов. — Зачем мы ему всё это показываем? Я не думаю…
— Ну и молчи, — ответил Динго и рассмеялся: — Не волнуйся, он никому не расскажет об увиденном. Я это гарантирую. А пока мне нужно кое-что закончить. Снимите с него костюм.
Говоря, он сам раздевался. Чудовищно громоздкий, он выбрался из костюма. Одна рука медленно потирала волосатую тыльную часть другой. Он наслаждался моментом.
Счастливчик твёрдо сказал:
— Капитан Антон не давал тебе приказа убить меня. Ты хочешь закончить личный спор и тем самым всем принесешь неприятности. Я ценный человек, и капитан это знает.
Динго сел на край бункера с маленькими металлическими предметами, он улыбался.
— Послушать тебя, стукач, так ты кругом прав. Но ты не обманул нас. Ни на минуту. Когда мы оставили тебя на астероиде с отшельником, как ты думаешь, что мы делали? Мы следили. Капитан Антон не дурак. Он послал меня. Он сказал: «Следи за этой скалой и сообщай». Я видел, как улетела шлюпка отшельника. Мог бы взорвать вас в космосе, но приказ был следить. Полтора дня я был у Цереры и видел, как снова взлетела шлюпка отшельника. Я продолжал ждать. Потом увидел другой корабль, идущий на встречу со шлюпкой. Человек из шлюпки пересел на корабль, и я последовал за кораблем.
Счастливчик не мог сдержать улыбки.
— Пытался следовать, хочешь ты сказать.
Лицо Динго покраснело. Он процедил:
— Ладно. Ты быстрее. Такие, как ты, быстро бегают. Что с того? Я не гнался за тобой. Просто прилетел сюда и ждал. Я знал, куда ты направляешься. И взял тебя, верно?
Дэвид ответил:
— Хорошо, но что это доказывает? Я был безоружен на скале отшельника. У меня не было никакого оружия, а у отшельника бластер. Пришлось слушаться его. Он хотел на Цереру и заставил меня сопровождать: на случай, если его перехватят люди астероидов, он будет утверждать, что я его похитил. Ты ведь признаешь, что я улетел с Цереры, как только смог, и постарался вернуться сюда.
— В прекрасном сверкающем правительственном корабле?
— Я его украл. И что? Просто у вас одним кораблем больше. И неплохим.
Динго посмотрел на других пиратов.
— Как вам его вранье? Настоящая кометная пыль.
Старр сказал:
— Снова предупреждаю тебя. Капитан спросит с тебя за всё, что случится со мной.
— Нет, не спросит, — фыркнул Динго, — потому что он знает, кто ты. И я знаю, мистер Дэвид «Счастливчик» Старр. Давай, выходи на середину комнаты.
Динго встал. Своим товарищам он приказал:
— Уберите эти бункеры. Сдвиньте их в сторону.
Они взглянули на его налившееся кровью лицо и выполнили приказ. Плотное тело Динго, похожее на луковицу, слегка склонилось вперёд, голова вжалась в широкие плечи, толстые кривые ноги твёрдо встали на полу. Шрам на верхней губе выделялся ярко-белой полосой. Он сказал:
— Есть быстрые и приятные способы покончить с тобой. Я не люблю стукачей и особенно таких, которые одурачивают меня в толчковой дуэли. Поэтому, прежде чем покончить с тобой, я разорву тебя на кусочки.
Счастливчик, высокий, но тщедушный по сравнению с противником, ответил:
— Ты мужчина, Динго, и справишься один или позовешь приятелей на помощь?
— Мне не нужна помощь, чистюля, — он отвратительно рассмеялся. — Но если попытаешься убежать, они тебя остановят, а если будешь продолжать, нейронный хлыст остановит тебя навсегда. — Он повысил голос: — Используйте хлыст, вы, двое, если понадобится.
Старр ждал нападения. Он знал, что самое опасное — дать Динго приблизиться. Если пират обхватит его своими огромными руками, почти несомненно он сломает ему ребра.
Динго, опустив правый кулак, ринулся вперёд. Дэвид стоял сколько смог, потом резко отступил вправо, схватил противника за вытянутую левую руку и потянул назад, используя инерцию его бега. Одновременно он поставил на его пути ногу. Динго полетел вперёд и тяжело упал. Но тут же поднялся, одна его щека была оцарапана, в глазах сверкали огоньки безумия. Он затопал к противнику, и тот отступил к одному из бункеров у стены.
Ухватившись за конец бункера, Дэвид поднял ноги и выбросил их вперёд. Они попали Динго в грудь и на мгновение остановили его. Старр увернулся и снова был свободен в центре комнаты. Один из пиратов крикнул:
— Эй, Динго, хватит дурить!
Динго тяжело дышал.
— Я его убью, я его убью!
Но он стал осторожнее. Маленькие глазки почти потонули в окружавшем их жире и хрящах. Он двигался вперёд, внимательно следя за Дэвидом, выжидая момента для удара. Счастливчик сказал:
— В чём дело, Динго? Испугался? Слишком быстро пугаешься для такого большого болтуна.
Как и ожидал Дэвид, Динго нечленораздельно взревел и устремился прямо на него. Счастливчик легко увернулся. Ребром ладони он резко и быстро ударил Динго по шее. Старр видел немало людей, терявших после такого удара сознание, и не один при этом был убит. Но Динго только пошатнулся. Встряхнувшись, он с рычанием повернулся и решительно бросился к пританцовывающему Дэвиду. Старр выбросил кулак и попал Динго по повреждённой щеке. Полилась кровь, но Динго не попытался отразить удар и даже не мигнул. Опять увернувшись, молодой человек дважды ударил пирата. Динго не обратил на это внимания. Он шёл вперёд, только вперёд.
Вдруг, совершенно неожиданно, он пошатнулся, как человек, теряющий равновесие. Падая, он выбросил вперёд руки, и одна из них сомкнулась на правой лодыжке Счастливчика. Тот тоже упал.
— Теперь я до тебя добрался, — прошептал Динго.
Он потянулся, чтобы ухватить Дэвида за талию, и через мгновение они катились по полу. Старр чувствовал, как усиливается давление, ощущал нарастающую боль. Зловонное дыхание Динго коснулось его лица. Правая рука Дэвида была свободна, левая прижата страшным объятием к груди. Собрав убывающие силы, Счастливчик резко ударил снизу вверх. Кулак пролетел не больше четырёх дюймов и попал в то место, где подбородок соединяется с шеей. При этом Дэвид почувствовал сильную боль в руке. Хватка Динго на мгновение ослабла, и молодой человек, извиваясь, освободился от смертоносного объятия и вскочил на ноги.
Динго встал медленнее. Глаза его остекленели, кровь текла из угла рта. Он хрипло пробормотал:
— Хлыст! Хлыст!
Неожиданно повернувшись к одному из пиратов, который стоял, как окаменевший, Динго выхватил у него из руки хлыст и щелкнул им. Дэвиду удалось увернуться, но нейронный хлыст взметнулся снова. На этот раз он попал в правый бок и, стимулировав все нервные окончания в этом районе, вызвал приступ страшной боли. Тело Старра напряглось и полетело на пол. Он ожидал смерти, не ощущая ничего, кроме смятения. До него смутно донесся голос одного из пиратов:
— Послушай, Динго, капитан велел, чтобы походило на несчастный случай. Этот человек — член Совета Науки и…
Больше Дэвид ничего не слышал.
Придя в сознание, ощущая мучительную боль во всем теле, он обнаружил, что опять одет в космический костюм. На него собирались надевать шлем. Динго, с распухшими губами, с окровавленной щекой и разбитой челюстью, злобно смотрел на него. У дверей послышался голос. Торопливо вошёл человек, продолжая говорить. Счастливчик слышал, как он сказал:
— …для поста 247. Получается, что я не могу проследить за всеми требованиями. Не могу даже нашу собственную орбиту корректировать правильно…
Голос смолк. Старр с трудом повернул голову и увидел маленького человека в очках, с седыми волосами. Он стоял в двери со смешанным выражением удивления и недоверия на лице.
— Убирайся! — взревел Динго.
— Но у меня требования…
— Позже!
Маленький человек убежал, и на голову Дэвида надели шлем. Его выволокли через шлюз на поверхность, которую теперь можно было рассмотреть при свете далекого Солнца. На относительно плоском участке скалы ждала катапульта. её функции не были загадкой для Старра. Автоматическая лебедка всё дальше оттягивала большой металлический рычаг, пока он не принял горизонтальное положение. К нему были приделаны ремни. Их закрепили на теле Счастливчика.
— Лежи спокойно, — сказал Динго. Голос его глухо звучал в ушах Дэвида. Что-то неладно с радио, понял тот. — Ты тратишь зря кислород. Чтобы ты чувствовал себя лучше, мы посылаем корабли. Они взорвут твоего друга, прежде чем он наберёт скорость, если захочет убежать.
Мгновение спустя Старр почувствовал резкую вибрацию — рычаг освободили. Он со страшной силой распрямился. Пряжки на теле Счастливчика расстегнулись, и его выбросило со скоростью в милю в минуту или ещё больше, и никакое тяготение его не сдерживало. На краткий миг он увидел астероид и глядящих на него снизу пиратов. Астероид на глазах уменьшался. Дэвид осмотрел свой костюм. То, что радио повреждено, он уже знал. Конечно, отсутствует управление громкостью. Значит, его голос проникнет не далее чем на несколько миль. Они оставили ему толчковый пистолет. Он попытался выстрелить, но ничего не вышло. Пистолет разряжен. Он беспомощен. Между ним и медленной мучительной смертью только содержимое цилиндра с кислородом.
Глава 12
КОРАБЛЬ ПРОТИВ КОРАБЛЯ
Испытывая неприятное чувство тяжести в груди, Старр обдумывал положение. Ему казалось, что он догадывается о планах пиратов. С одной стороны, они хотели избавиться от него, так как он, очевидно, слишком много знает. С другой, его должны найти мертвым, и притом — таким образом, чтобы Совет Науки не мог бы убедительно доказать, что его убили пираты.
Некогда пираты допустили ошибку, убив агента Совета, и ответный удар был сокрушительным. Они должны быть осторожнее на этот раз.
Он думал: «Они захватят «Метеор», заглушив призывы Верзилы о помощи. Потом взорвут его корпус. Это будет имитация столкновения с метеоритом. Их инженеры на борту предварительно выведут из строя активаторы щита. Будет похоже на то, что повреждение механизма не позволило щиту отразить метеорит».
Счастливчик знал, что его собственный курс в космосе им известен. Ничто не может изменить первоначальное направление и скорость его движения. Позже, когда он будет мертв, они подберут его и пошлют кружить вокруг разбитого «Метеора». Спасатели (может, сам пиратский корабль отправит анонимное сообщение о находке) придут к очевидному заключению. Верзила погиб на посту, за управлением, осуществляя последний манёвр. Дэвид, в космическом костюме, с повреждённым в спешке управлением радио, так и не смог позвать на помощь. Он потратил весь заряд толчкового пистолета в отчаянных и тщетных попытках найти безопасное место. И умер.
Не сработает. Ни Конвей, ни Хенри не поверят, что Старр думал только о собственной безопасности, в то время как Верзила оставался у руля. Но для мертвого Дэвида провал плана пиратов будет слабым утешением. Хуже того, умрет не только он, но и вся информация, теперь заключенная в его голове.
На мгновение он рассердился на себя, что не выложил свои подозрения Конвею и Хенри до отлёта, что только на борту «Метеора» записал для них персональную капсулу. Потом вернулся самоконтроль. Никто не поверил бы ему без доказательств. Именно поэтому он должен вернуться. Должен!
Но как? Что хорошего в этом «должен», когда болтаешься одинокий и беспомощный в космосе и у тебя с собой ничего, кроме кислорода на несколько часов. Кислород! Дэвид думал: «У меня есть кислород». Любой, кроме Динго, оставил бы в цилиндре лишь несколько глотков, чтобы ускорить смерть. Но, насколько он знает Динго, пират должен был послать его в космос с полным запасом кислорода, чтобы продлить мучения. Хорошо! Он использует кислород по-другому. И если потерпит поражение, смерть придёт быстро, чего бы не хотел Динго.
Но он не должен проиграть. Периодически при его вращении в космосе в поле зрения оказывался астероид. Вначале как уменьшающаяся скала, чьи освещенные Солнцем острые пики выделялись в черноте космоса. Затем как яркая звезда. Но яркость её быстро убывала. Когда астероид померкнет настолько, что превратится в одну из бесчисленных звёзд, всё будет кончено. До этого осталось не так уж много минут. Неуклюжие, покрытые металлом руки уже держали гибкую трубку, ведущую от клапана для подачи кислорода, как раз под лицевой пластиной, к цилиндру с кислородом на спине. Счастливчик с силой поворачивал болт, крепивший трубу к костюму.
Болт подался. Старр подождал, пока шлем и костюм заполнятся кислородом. Обычно кислород поступает в шлем медленно, в соответствии с потреблением его лёгкими. Образующиеся в результате дыхания двуокись углерода и вода поглощаются химикалиями, которые содержатся в небольших канистрах с клапанами. Эти канистры прикрепляются изнутри к грудной части костюма. Кислород держат под давлением в одну пятую земной атмосферы. И это правильно, так как на четыре пятых атмосфера Земли состоит из азота, который непригоден для дыхания. Дэвид позволил кислороду свободно течь в шлем. Проделав это, он плотно закрыл клапан под лицевой пластиной и снял цилиндр.
Цилиндр сам по себе тоже толчковый пистолет. Для человека, затерянного в космосе, тратить драгоценный кислород — единственное, что отделяет его от смерти, — как двигательную силу, означает отчаяние. Или — твёрдую решимость. Старр сломал соединительный клапан, и из трубки вырвался поток кислорода. На этот раз линии кристаллов не было. Кислород, в отличие от двуокиси углерода, замерзает при очень низкой температуре. Не успев достаточно охладиться — до температуры окружающего пространства, — он рассеивается в нём. Но твёрдый он или газообразный, третий закон Ньютона действует. Газ устремился в одном направлении, Счастливчик — в противоположном. Его вращение замедлилось. Он позволил астероиду появиться прямо перед собой, прежде чем окончательно остановить вращение.
Старр всё ещё удалялся от скалы. Она теперь была немногим ярче окружающих звёзд. Возможно, он ошибся в выборе цели, но не разрешал себе думать даже о возможности этого. Устремив глаза к тому пятнышку, которое он считал астероидом, он направил поток кислорода в противоположном направлении. Хватит ли его для полёта назад? Сказать невозможно. Ему придётся сберечь немного газа. Придётся маневрировать возле астероида, попасть на ночную сторону, найти Верзилу и корабль, если только…
Если только корабль уже не захвачен пиратами или не уничтожен. Дэвиду казалось, что вибрация его рук, вызванная вырывающимся кислородом, слабеет. Значит ли это, что кончается газ или просто падает его температура? Он держит цилиндр на удалении от костюма, поэтому тепло тела ему больше не передаётся. Именно тепло тела держало кислород в цилиндре газообразным и позволяло дышать им; точно так же и двуокись углерода оставалась газообразной, пока толчковый пистолет был рядом с человеком. В пустоте космоса температура цилиндра медленно падает. Старр прижал цилиндр к груди и ждал.
Казалось, прошли часы. На самом деле — только пятнадцать минут. Дэвиду показалось, что пятно астероида стало ярче. Приближается ли он к скале? Или это игра воображения? Ещё пятнадцать минут. Астероид явно ближе. Счастливчик почувствовал глубокую благодарность случаю, который позволил ему остаться на освещенной Солнцем стороне скалы, — благодаря этому он ясно видит свою цель. Стало труднее дышать. Опасности задохнуться от двуокиси углерода нет. Этот газ удаляется по мере образования. Но каждый вдох требует небольшой порции драгоценного кислорода. Он постарался дышать мельче, закрыл глаза, расслабился. В конце концов, он ничего не может делать, пока не доберётся до астероида и не пролетит мимо него. На противоположной, ночной, стороне, может быть, ещё ждёт Верзила. Если он доберётся достаточно близко, если сумеет вызвать Верзилу по своему повреждённому радио, прежде чем потеряет сознание, тогда ещё есть шанс.
Часы для Верзилы тянулись медленно и мучительно. Он жаждал спуститься, но не смел. Он говорил себе: если враг существует, он уже показался бы. Потом приходил к выводу, что сама неподвижность и молчание космоса — ловушка, в которую попал Счастливчик. Он положил перед собой персональную капсулу Дэвида и принялся разгадывать её содержимое. Если бы он мог вскрыть её и прочитать заключенный внутри микрофильм! Тогда он вызвал бы по радио Цереру, передал содержимое и был бы свободен действовать. Он перебил бы там всех и вырвал бы друга из любой опасности. Нет! Он ни в коем случае не должен пользоваться субэфиром. Конечно, пираты не смогут разгадать код, но они засекут направленную волну, а ему приказано не выдавать положение корабля.
К тому же какой смысл взламывать персональную капсулу? её можно уничтожить, но ничто не может её открыть и оставить послание нетронутым, кроме прикосновения того человека, которому она адресована. Вот и всё. Прошло больше половины двенадцатичасового периода, когда гравиметр дал первое предупреждение. Верзила очнулся от своих мыслей и удивленно посмотрел на эргометр. Линия на бумаге говорила о пульсации двигателей нескольких кораблей. Щит «Метеора», который слегка светился, чтобы предотвратить случайное столкновение с отбросами» (обычное название для небольших метеоритов), включился максимально. Мягкое гудение энергетических установок стало громче. Верзила один за другим включал экраны. Его мысли спутались. Корабли поднимаются с астероида, больше им взяться неоткуда. Значит, Счастливчик пойман; может быть, он уже мертв. Неважно, сколько перед ним кораблей. Он справится со всеми и с каждым.
Верзила взял себя в руки. Первые лучи Солнца отразились от чего-то на одном из экранов. Он навел туда перекрестие. Затем нажал нечто похожее на клавишу пианино. Охваченный невидимым всплеском энергии, пиратский корабль засветился. Светился не корпус, а защитный экран противника, поглощавший энергию. Он светился всё ярче и ярче. Потом свечение померкло: враг повернулся и стал удаляться. Показались второй и третий корабли. К «Метеору» двигался снаряд. В пустоте космоса не было ни вспышки, ни звука, но Солнце отразилось в чём-то маленькой светлой точкой. Снаряд появился в виде кружка на экране, кружок стал больше, потом передвинулся к краю экрана. Верзила мог бы увернуться, увести «Метеор», но он подумал: «Пусть ударит». Он хотел показать им, с чем они имеют дело. «Метеор» похож на игрушку богача, но его не выведешь из строя выстрелом из рогатки.
Снаряд ударил и остановился, захваченный щитом «Метеора». Верзила знал, что при этом щит ярко вспыхнул. Корабль слегка качнулся, поглощая энергию движения, проникшую через щит.
— Ответим им, — пробормотал Верзила.
На «Метеоре» не было снарядов, но его энергетические проекторы были разнообразными и мощными. Верзила уже протянул руку к управлению мощным бластером, когда увидел на экране то, что вызвало гримасу на его маленьком решительном лице, — он увидел фигуру человека в скафандре. Странно, но космический корабль более уязвим для человека в скафандре, чем для любого оружия другого корабля. Вражеский корабль легко обнаружить на расстоянии в тысячи миль при помощи эргометра. А человека в костюме не обнаружишь и на расстоянии в сто ярдов. Щит работает тем эффективней, чем больше скорость снаряда. Он останавливает мгновенно огромные слитки металла, летящие со скоростью мили в секунду. Но один человек, делающий не больше десяти миль в час, даже не заметит присутствия щита, разве что его костюм слегка нагреется. Пусть к кораблю одновременно подбираются десять человек — только большое искусство может их обезвредить. Если двое-трое прорвутся, вскроют входной шлюз — корабль в серьёзной опасности.
И вот Верзила заметил человека. Это может быть только Передовой участник такого нападения. Верзила настроил один из защитных механизмов. Фигура человека оказалась на перекрестии прибора, и Верзила готов был выстрелить, когда ожило его радио. Несколько мгновений он сидел ошеломленный. Пираты нападают без предупреждения, они не стараются связаться, чтобы обсудить условия сдачи. Что же теперь? Он колебался, а тем временем в шуме стали слышны слова, всё время повторялось:
— Верзила… Верзила… Верзила…
Верзила подпрыгнул, забыв о человеке в скафандре, о битве, обо всём.
— Дэвид! Это ты?
— Я возле корабля… В космическом костюме… Воздух… почти кончился.
— Великая Галактика! — Побледневший Верзила подвел «Метеор» к человеку, которого он чуть не уничтожил.
Верзила смотрел на друга, который, сняв шлем, жадно глотал воздух.
— Лучше передохни, Счастливчик.
— Потом, — ответил тот. — Они уже напали?
Верзила кивнул.
— Неважно. Зубы сломают о старину «Метеора».
— У них есть зубы и посильнее, их они ещё не показывали. Мы уходим, и быстро. Они приведут свой тяжелый корабль, и даже нашей энергии может не хватить.
— Где они возьмут тяжелый корабль?
— Это большая база внизу. Может быть, их главная база.
— Ты хочешь сказать, что это не скала отшельника?
— Я хочу сказать, что пора убираться.
Всё ещё бледный, он сел за управление. Впервые за всё время астероид на экране переместился. Даже во время нападения Верзила выполнял приказ Старра оставаться на месте двенадцать часов. Скала увеличивалась. Верзила запротестовал:
— Если нужно уходить, почему же мы садимся?
— Мы не садимся.
Дэвид внимательно смотрел на экран, одна его рука лежала на рукояти тяжелого корабельного бластера. Он сознательно расширил луч так, чтобы тот покрывал большой район, но энергия луча при этом не уменьшалась. Он ждал — Верзила не понимал, чего он ждёт, — потом выстрелил. На астероиде появилось сверкающее пятно, покрасневшее, а потом почерневшее.
— Теперь уходим, — сказал Счастливчик, и в тот момент, когда с астероида поднялись новые корабли, включил ускорение.
Полчаса спустя, когда и астероид, и преследующие корабли остались далеко позади, он сказал:
— Вызови Цереру, мне нужно поговорить с Конвеем.
— Ладно, Счастливчик. Кстати, я записал координаты астероида. Передать их? Можно послать туда флот и…
— Это ничего не даст, — ответил Старр, — да и не нужно.
Глаза Верзилы расширились.
— Ты хочешь сказать, что уничтожил астероид выстрелом из бластера?
— Конечно, нет. Я едва притронулся к нему. Вызвал Цереру?
— Пока не могу, — обидчиво ответил Верзила. Он видел, что Дэвид в таком настроении, когда он мало говорит и ничего не объясняет. — Погоди, вот она, но… Эй! Там сигнал общей тревоги!
Объявлять это не было необходимости. Призыв шёл громко и открытым текстом:
— Вызываются все корабли флота, находящиеся за Марсом. Цереру атакуют враждебные силы, предположительно пираты… Вызываются все корабли…
Верзила воскликнул:
— Великая Галактика!
Старр напряженно сказал:
— Что бы мы ни делали, они на шаг опережают нас. Возвращаемся! Быстро!
Глава 13
РЕЙД!
Корабли роем вынырнули из космоса и действовали согласованно. Целое крыло ударило непосредственно по Обсерватории. В ответ защитники Цереры, естественно, сосредоточили тут свои основные силы.
Но нападение не было слишком опасным. Один за другим вражеские корабли пикировали и наносили энергетические удары, но щит оставался неуязвимым. Пираты не пытались взорвать подземные энергетические установки, расположение которых им должно было быть известно. В космос поднялись правительственные корабли, открыли огонь наземные батареи. Два пиратских корабля погибли, когда отказала их защита: они превратились в облака сверкающего газа. Ещё один корабль, потратив всю энергию, чуть не был захвачен преследователями. В последний момент он был взорван, по-видимому самим экипажем.
Уже во время нападения кое-кто из защитников заподозрил. что это отвлекающий манёвр. Позже, разумеется, это было установлено точно. Пока Обсерватория оборонялась, три чужих корабля сели на противоположном конце астероида, в сотнях миль от битвы. Пираты высадились с ручным оружием и переносными бластерами и с низко летающих «космических саней» атаковали шлюзы.
Двери были взорваны, и одетые в скафандры пираты ворвались в коридоры, из которых улетучился воздух. На верхних этажах располагались фабрики и конторы, обитатели которых были эвакуированы при первых же сигналах тревоги. Место их заняли одетые в космические костюмы бойцы местной милиции. Они сражались храбро, но не могли справиться с профессионалами пиратского флота. И вот на нижних этажах, в жилых помещениях Цереры, прозвучали звуки битвы. Потребовалось подкрепление. И тут, так же неожиданно, как напали, пираты отступили. После их ухода защитники Цереры стали подсчитывать потери. Пятнадцать человек погибли, многие ранены. Пираты потеряли пятерых. Очень пострадало оборудование.
— И один человек, — взволнованно рассказывал Конвей вернувшемуся Счастливчику, — пропал. Но он не постоянный житель Цереры, поэтому мы сумели скрыть его исчезновение от репортеров.
Теперь, когда атака была отбита, Церера представляла собой хаотическое зрелище. Уже много десятков лет ни одно земное поселение не испытывало нападения противника. Дэвиду пришлось выдержать три проверки, прежде чем ему разрешили приземлиться. Теперь он сидел в помещении Совета вместе с Конвеем и Хенри и горько говорил:
— Итак, Хансен исчез. К этому всё сводится.
— Храбрый старик, — сказал Хенри. — Когда пираты прорвались, он потребовал свой костюм, схватил бластер и отправился с милицией.
— Милиции у нас достаточно, — заметил Старр. — Если бы он оставался внизу, было бы гораздо лучше. Почему вы его не остановили? Разве при таких обстоятельствах можно было позволять ему? — В ровном голосе молодого человека звучал сдержанный гнев.
Конвей терпеливо ответил:
— Мы не были с ним. Охранник, приставленный к нему, обязан был явиться на пост сбора милиции. Хансен настоял на том, чтобы пойти с ним, и охранник решил, что будет выполнять две задачи сразу: сражаться с пиратами и охранять отшельника.
— Но он не сохранил отшельника.
— В таких обстоятельствах его едва ли можно винить. Он видел Хансена в последний раз, когда тот устремился на пиратов. А потом он оказался один, а пираты отступили. Тело Хансена не нашли. Должно быть, его захватили пираты, живым или мертвым.
— Конечно, — отозвался Старр. — Теперь позвольте мне кое-что сказать. Позвольте объяснить, какую ошибку вы допустили. Я уверен, что всё нападение на Цереру было организовано с единственной целью — захватить Хансена.
Хенри потянулся за трубкой.
— Знаешь, Гектор, — сказал он Конвею, — я склонен согласиться в этом с Дэвидом. Жалкое нападение на Обсерваторию — явно отвлекающий манёвр, чтобы обмануть защиту. Единственное, чего они добились, — захватили Хансена.
Конвей фыркнул.
— Утечка информации, связанная с ним, не стоит риска для тридцати кораблей.
— В том-то и дело, — ядовито возразил Счастливчик. — Пока это, может быть, и так. Но представьте себе, что астероид отшельника — индустриальная установка. Представьте себе, что пираты готовы к большому нападению. И Хансен знает его точную дату. И знает, как оно будет осуществлено.
— Почему же он не сказал нам об этом? — спросил Конвей.
— Может быть, ждал, чтобы с помощью этих сведений купить собственную безопасность? — предположил Хенри. — Мы ведь по-настоящему так и не поговорили с ним. Согласись, Гектор, что, если у него была важная информация, можно было рискнуть любым количеством кораблей. И Дэвид, вероятно, прав: они готовы к сильному удару.
Счастливчик перевел взгляд с одного на другого.
— Почему вы так говорите, дядя Гус? Что случилось?
— Расскажи ему, Гектор, — сказал Хенри.
— Зачем? — спросил Конвей. — Я устал от его действий в одиночку. Он тут же отправится к Ганимеду.
— А что на Ганимеде? — холодно поинтересовался молодой человек. Насколько он знал, на Ганимеде мало что могло заинтересовать хоть кого-нибудь. Это самый большой спутник Юпитера, но его близость к Юпитеру делает трудными манёвры кораблей, поэтому движение там сведено к минимуму.
— Расскажи ему, — повторил Хенри.
— Послушай, — начал Конвей. — Вот в чём дело. Мы знали, что Хансен для нас важен. Причина того, что мы не охраняли его тщательно и сами не находились с ним, в том, что за два часа до нападения пиратов пришло сообщение Совета: сирианцы высадились на Ганимеде.
— Каковы доказательства?
— Перехвачена направленная субэфирная передача. Долго рассказывать, но скорее благодаря удаче код смогли частично расшифровать. Эксперты говорят, что код сирианский и что на Ганимеде нет ничего, что могло бы послать сигнал такой силы. Мы с Гусом собирались взять Хансена и лететь на Землю, когда напали пираты. Мы по-прежнему намерены вернуться на Землю. Если на сцене появился Сириус, в любую минуту может начаться война.
Старр сказал:
— Понятно. Но прежде чем возвращаться на Землю, я хотел бы кое-что проверить. У нас есть запись пиратского нападения? Защита Цереры, надеюсь, не была настолько расстроена, чтобы не записывать происходящее?
— Записи есть. Но чем они тебе помогут?
— Расскажу, когда увижу их.
Люди во флотской форме, со знаками различия, свидетельствующими о высоких рангах, продемонстрировали совершенно секретную запись, которая позже стала известна, как «Церерский рейд».
— На Обсерваторию напало двадцать семь кораблей. Верно? — спросил Старр.
— Верно, — ответил командир. — Не больше и не меньше.
— Хорошо. Рассмотрим остальные данные. Два корабля погибли в схватке, третий взорвался во время преследования. Оставшиеся двадцать четыре ушли, но все они сняты на пленку.
Командир улыбнулся:
— Если вы намекаете, что какой-нибудь из них приземлился на Церере и прячется здесь, вы ошибаетесь.
— Возможно, и так, пока это касается двадцати семи кораблей. Но три других корабля приземлялись на Церере, а их экипажи атаковали шлюз Месси. Где видеозаписи этих кораблей?
— К несчастью, их немного, — неохотно признал командир. — Они застали нас врасплох. Но мы сняли их отступление, и вы это видели.
— Да, видел, но там только два корабля. А очевидцы свидетельствуют, что приземлялись три.
Командир сдержанно ответил:
— Очевидцы утверждают, что взлетели тоже три. Вот их свидетельства.
— Но на записи только два?
— Да.
— Благодарю вас.
В кабинете Конвей спросил:
— К чему это всё, Дэвид?
— Я подумал, корабль капитана Антона должен находиться в интересном месте. Записи подтвердили это.
— Где же он был?
— Нигде. Это самое интересное. Это единственный пиратский корабль, который я смог бы опознать, но даже похожий на него корабль не участвовал в рейде. Странно, потому что Антон — один из их лучших людей, иначе его не послали бы на перехват «Атласа». Не было бы странно, если бы напали тридцать кораблей, а ушли двадцать девять. Недостающий корабль — корабль Антона.
— Понимаю, — сказал Конвей. — А что дальше?
— Нападение на Обсерваторию было фальшивым. Это сейчас признают даже защитники. Главное — три корабля, напавшие на шлюзы. Ими командовал Антон. Два из этих кораблей присоединились к остальным в отступлении — это отвлекающий манёвр внутри другого отвлекающего манёвра. Третий корабль, корабль Антона, единственный, которого мы не видели, продолжал выполнять главную задачу. Он полетел по совершенно другой траектории. Его видели с Цереры, но он свернул настолько резко, что его даже не смогли снять.
Конвей удручённо произнес:
— Ты хочешь сказать, что он направился на Ганимед.
— Разве это не ясно? Пираты, как бы хорошо они ни были организованны, сами по себе не могут напасть на Землю. Но они вполне могут провести отвлекающий манёвр. Земные корабли будут караулить бесконечные просторы пояса астероидов, а сирианцы тем временем расправятся с оставшимися. С другой стороны, Сириус не может успешно вести войну в восьми световых годах от своих планет, если ему не помогут с астероидов. В конце концов, восемь световых лет — это сорок пять триллионов миль. Корабль Антона спешит к Ганимеду, чтобы заверить их, что помощь будет оказана и пора начинать войну. Конечно, без предупреждения.
— Если бы только мы раньше обнаружили их базу на Ганимеде, — пробормотал Конвей.
— Даже зная это, мы не оценили бы всей серьёзности положения без двух полётов Дэвида к астероидам, — сказал Хенри.
— Знаю. Извини, Счастливчик. У нас сейчас так мало времени. Надо немедленно ударить в самое сердце. Эскадру кораблей отправим к астероиду, на котором ты побывал…
— Нет, — прервал Старр. — Это ничего не даст.
— Почему?
— Мы не хотим войны, даже начатой с победы, а вот они её хотят. Послушайте, дядя Гектор, этот пират, Динго, мог бы убить меня на месте, прямо на астероиде. Но он получил приказ поместить меня в космос. Вначале я думал, это для того, чтобы мою смерть сочли случайной. Теперь я понимаю, что это было сделано намеренно, чтобы спровоцировать Комитет. Пираты оповестили бы всех, что убили члена Совета, не стали бы это скрывать и вызвали бы преждевременное нападение. Добавочной провокацией послужил бы рейд на Цереру.
— А если мы начнем войну с победы?
— По эту сторону Солнца? И оставим Землю по другую сторону, без основных сил флота? А сирианские корабли ждут на Ганимеде, тоже по другую сторону от Солнца. Я предсказываю, что такая победа дорого нам будет стоить. Лучше не начинать войну, а предотвратить её.
— Как?
— Ничего не произойдёт, пока корабль Антона не доберётся до Ганимеда. А если мы перехватим его и сорвем встречу?
— Очень трудно, — с сомнением ответил Конвей.
— Нет, если отправлюсь я. «Метеор» быстрее любого корабля во флоте и снабжен лучшими эргометрами.
— Ты? — воскликнул Конвей.
— Но посылать военные корабли — безумие. Сирианцы подумают, что это нападение на них. Они предпримут ответные действия, и начнется та самая война, которую мы хотим предотвратить. А «Метеор» покажется им неопасным. Всего один корабль. Они останутся на месте.
Хенри сказал:
— Ты слишком нетерпелив, Дэвид. У Антона двенадцать часов форы. Даже «Метеор» не сможет догнать его.
— Ошибаетесь. Сможет. А как только я перехвачу его, дядя Гус, я думаю, что сумею заставить астероиды сдаться. А без них Сириус не нападет, и войны не будет.
Они смотрели на него.
Старр серьёзно добавил:
— Отправлюсь немедленно.
— Каждый раз будто чудо, — пробормотал Конвей.
— Раньше я не знал, о чём говорю. Искал дорогу ощупью. Теперь знаю. Знаю точно. Послушайте, я разогрею «Метеор» и получу необходимые данные с Обсерватории. А вы тем временем свяжитесь по субэфиру с Землей. Поговорите с Координатором…
Конвей прервал его:
— Я займусь этим, сынок. Я имел дело с правительством ещё до того, как ты родился. И, Счастливчик, береги себя.
— А я всегда берегу себя. Разве не так, дядя Гектор? Дядя Гус?
Он тепло попрощался с ними и ускользнул.
Верзила презрительно отряхивал пыль Цереры. Он сказал:
— Я приготовил костюм. И всё остальное.
— Ты не летишь, Верзила, — остановил его Дэвид. — Прости.
— Почему это?
— Я пойду к Ганимеду напрямик.
— Ну и что?
Старр напряженно улыбнулся.
— Прямо сквозь Солнце.
Он пошёл по полю к «Метеору», а Верзила остался стоять с раскрытым ртом.
Глава 14
К ГАНИМЕДУ ЧЕРЕЗ СОЛНЦЕ
Трёхмерная модель Солнечной системы была бы похожа на плоскую тарелку. В центре — Солнце, главный член системы. На самом деле главный, так как сосредоточивает в себе 99,8 % всей её материи. Другими словами, оно весит в пять тысяч раз больше, чем всё остальное в Солнечной системе, вместе взятое.
Вокруг Солнца вращаются планеты. Все почти в одной и той же плоскости, которая называется эклиптикой.
Космические корабли на своём пути от планеты к планете обычно следуют эклиптике. Таким образом они остаются в пределах распространения субэфирной межпланетной коммуникации и могут делать удобные остановки на пути к цели назначения. Иногда, если кораблю нужна скорость или он хочет избежать обнаружения, он уходит с эклиптики, особенно если ему нужно обогнуть Солнце.
Вероятно, думал Дэвид, так поступил и корабль Антона. Он поднялся с «тарелки», по гигантской дуге пролетает сейчас над Солнцем и опустится по другую сторону в окрестностях Ганимеда. Конечно, Антон должен был уходить в том направлении, иначе защитники Цереры засняли бы его. Почти второй натурой человека стало сначала производить наблюдения в плоскости эклиптики. К тому времени, когда обратили внимание на другие направления, Антон был уже далеко.
Но, продолжал рассуждать Счастливчик, существует вероятность, что Антон покинул плоскость эклиптики ненадолго. Он мог подняться над ней вначале, а потом вернуться. У такого решения много преимуществ. Пояс астероидов распространяется вокруг Солнца по всей окружности, в некотором смысле астероиды распространены по нему равномерно. Оставаясь внутри пояса, Антон будет среди своих, пока до Ганимеда останется не больше ста миллионов миль. Это даст ему безопасность. Земное правительство буквально отреклось от своей власти над астероидами, и, кроме полётов к самым крупным объектам, земные корабли здесь не появляются. Более того, если они и появятся, Антон всегда может вызвать подкрепление с ближайшей астероидной базы.
Да, думал. Старр, Антон останется в поясе. Частично поэтому, частично из-за своих собственных планов Дэвид поднял «Метеор» над эклиптикой на невысокую орбиту-арку.
Ключ ко всему — Солнце. Оно ключ ко всей Системе. Оно преграда на пути, и любой построенный человеком корабль должен огибать его. Путешествуя с одного края Системы на другой, приходится далеко обходить пылающее светило. Ни один пассажирский корабль не приближался к нему ближе чем на шестьдесят миллионов миль — расстояние от Венеры до Солнца. Даже здесь необходимы мощные охладительные системы для удобства пассажиров.
Были сконструированы технические корабли, которые совершали полёты на Меркурий; расстояние от него до Солнца варьируется от сорока восьми миллионов миль в одних частях орбиты до двадцати восьми миллионов в других. Такие корабли садились на Меркурий на самых дальних участках его орбиты. При приближении к Солнцу более чем на тридцать миллионов миль многие металлы начинают плавиться.
Иногда строились ещё более специализированные корабли для наблюдений за Солнцем. Их корпуса пропитывались сильным электрическим полем особой природы, которое вызывало так называемый эффект «псевдожидкости» во внешнем молекулярном слое корпуса. От такого слоя тепло отражалось почти полностью, так что внутрь проникала лишь ничтожная часть. Снаружи такой корабль казался совершенно зеркальным. Но даже при таких условиях проникающее в корабль тепло поднимало внутреннюю температуру выше точки кипения воды на расстоянии в пять миллионов миль — это рекорд приближения к Солнцу. Даже если бы человек смог выдержать такую температуру, он не перенес бы коротковолнового излучения Солнца. Это излучение в секунды убило бы любое живое существо.
Церера находилась по одну сторону от Солнца, Юпитер — почти напротив. Если оставаться в поясе астероидов, расстояние от Цереры до Ганимеда — около миллиарда миль. Если бы можно было пройти по прямой, не обращая внимания на Солнце, расстояние составило бы шестьсот миллионов миль, то есть меньше на сорок процентов.
Именно это, в меру возможностей, собирался сделать Старр. Он немилосердно гнал «Метеор», буквально живя в своём g-каркасе, в котором спал и ел, и испытывал постоянное давление ускорения. Каждый час он давал себе только пятнадцать минут отдыха. «Метеор» прошёл высоко над орбитами Марса и Земли; впрочем, там ничего не было видно, даже в корабельный телескоп. Земля находилась по другую сторону Солнца, а Марс — приблизительно под прямым углом к позиции «Метеора». Солнце уже приобрело размер, видимый с Земли, и смотреть на него можно было только сквозь поляризованный экран. Ещё немного, и придётся использовать стробоскопические приспособления.
Начали пощелкивать индикаторы радиоактивности. Внутри земной орбиты плотность коротковолнового излучения заметно усилилась. Внутри орбиты Венеры обычно приходится принимать специальные меры предосторожности, например, надевать свинцовые полукосмические костюмы. «У меня есть кое-что получше свинца», — думал Дэвид. На том расстоянии, на которое он намерен подойти к Солнцу, свинец не поможет. И ничто материальное тоже. Впервые со времени своих приключений на Марсе в прошлом году Старр извлек из специального кармана, прикрепленного к поясу, хрупкий полупрозрачный предмет, полученный от энергетических существ Марса. Он уже давно отказался от попыток разгадать принципы его действия. Этот предмет был результатом достижений науки, развивавшейся на миллион лет дольше, чем человеческая, и совсем по иным направлениям. Для землянина он был так же непостижим, как космический корабль для пещерного человека, и его также невозможно было повторить. Но он действовал! А это и было важно! Счастливчик надел его на голову. Предмет слился с черепом, как будто жил собственной жизнью, и как только он это сделал, вокруг Дэвида появилось сияние. Как будто одновременно засветился миллиард светлячков; именно поэтому Верзила назвал его сверкающим щитом. Лицо и голову Дэвида покрыл блеск, который, однако, не мешал свету проникать к глазам.
Это был энергетический щит, созданный древними марсианами специально доя него. Он был непроницаем для всех форм энергии, кроме тех, которые необходимы человеческому телу, например, видимый свет и определённое количество тепла. Газы проходили свободно, так что Счастливчик мог дышать, а нагретые газы, проходя, теряли своё тепло и становились холодными. Когда на своём пути к Солнцу «Метеор» миновал орбиту Венеры, Дэвид стал носить щит постоянно. В это время он не мог ни есть, ни пить, но вынужденный пост должен был продлиться недолго, не более одного дня. Теперь корабль шёл на огромной скорости, подобной которой Дэвид никогда не испытывал. Вдобавок к постоянному ускорению мощных гиператомных двигателей действовало всё усиливающееся притяжение Солнца. «Метеор» делал в час миллионы миль. Счастливчик активировал электрическое поле, приведшее верхний слой корпуса в псевдожидкое состояние, и был доволен, что оправдалась его настойчивость, когда он потребовал установить это поле при постройке корабля. Термопары, регистрировавшие температуру свыше пятидесяти градусов, показали её снижение. Экраны потемнели, их прикрыли толстые металлические щиты, чтобы толстый глассит не размяк от солнечного жара. К орбите Меркурия счётчики радиации буквально сошли с ума. Их треск не прерывался. Старр прикрыл сверкающей рукой окошко прибора — треск прекратился. Даже самые жесткие гамма-лучи, пронизывавшие корабль, не проникали сквозь нематериальную ауру, окружившую его тело.
Термопары снова регистрировали повышение температуры. Несмотря на зеркальную оболочку «Метеора», температура перевалила за восемьдесят градусов и продолжала повышаться. Гравиметры показывали, что до Солнца десять миллионов миль. Дэвид с полчаса назад поставил на стол тарелку с водой. От воды шёл пар, сейчас же она кипела. Термопара показала температуру кипения воды — сто градусов. «Метеор», огибая Солнце, находился теперь в пяти миллионах миль от него. Больше приближаться он не будет. В сущности, он уже летел сквозь самые разреженные участки солнечной атмосферы — её корону. Поскольку Солнце газообразно (хотя для существования такого газа нельзя создать условия в самых совершенных земных лабораториях), оно не имеет поверхности и его «атмосфера» — часть тела Солнца. Проходя через корону, Счастливчик в определённом смысле проходил через само Солнце, как он и сказал Верзиле. Его мучило любопытство. Человек никогда не был так близко от Солнца. И, возможно, никогда не будет. И никто не сможет отсюда посмотреть на светило незащищенным глазом. На таком расстоянии даже мгновенный взгляд на Солнце означает немедленную смерть.
Но ведь на нём марсианский энергетический щит. Сдержит ли он солнечную радиацию на расстоянии в пять миллионов миль? Дэвид понимал, что не должен рисковать, но любопытство не отступало. Главный экран корабля был снабжен специальным стробоскопическим приспособлением: это приспособление открывало шестьдесят четыре отверстия, одно за другим, каждое — на миллионную долю секунды, и таким образом все отверстия открывались каждые четыре секунды. Для глаза (или камеры) экспозиция кажется непрерывной, на самом деле проникает лишь одна четырёхмиллионная часть солнечной радиации. Но даже при этом нужны специально созданные, почти непрозрачные линзы. Пальцы Дэвида двигались как будто сами по себе. Он не мог вынести мысли, что упускает единственную возможность. Старр использовал показания гравиметра, чтобы нацелить экран точно на Солнце. Потом повернул голову в сторону и нажал кнопку. Прошла секунда, две. Он представлял себе, как на его шею обрушивается радиация, он почти ожидал смерти от неё. Но ничего не происходило. Он медленно повернулся.
Картина, которую он увидел, останется с ним до конца жизни. Яркая поверхность, неровная, сморщенная, заполнила экран. Это была часть Солнца. Всего Солнца он не видел, но знал, что с такого расстояния оно в двадцать раз шире, чем кажется с Земли, а его видимая площадь больше в четыреста раз. На экране виднелось несколько солнечных пятен, чёрных на ярком фоне. В них спускались вьющиеся светлые полосы и исчезали. Активные районы медленно, но заметно для глаза перемещались по экрану. Это был результат не собственного вращения Солнца, которое даже на экваторе не достигает четырнадцати сотен миль в час, а огромной скорости «Метеора». И туг прямо ему навстречу взметнулись клубы красного пламенного газа, которые постепенно темнели на ярком фоне и, Удаляясь от Солнца и охлаждаясь, становились чёрными.
Счастливчик изменил направление экрана, захватив край светила; и тут пылающий газ (это были протуберанцы, огромные облака раскаленного водорода) резко выделился на чёрном фоне неба. Он медленно удалялся от Солнца, становясь всё тоньше и принимая самые фантастические формы. Дэвид знал, что каждый из таких выбросов легко поглотит десяток планет размера Земли и что саму Землю можно бросить в солнечное пятно и при этом даже большого всплеска не получится. Он резким движением закрыл стробоскоп. Даже оставаясь физически в безопасности, человек не может смотреть с такого расстояния на Солнце: слишком угнетает незначительность Земли и всего земного.
«Метеор» обогнул Солнце и теперь быстро удалялся за орбиты Меркурия и Венеры. Скорость его падала. Он летел кормой вперёд, а мощные двигатели работали в тормозном режиме. Миновав орбиту Венеры, Счастливчик снял щит и спрятал его. Охладительные системы корабля работали с напряжением, стараясь привести температуру к норме. Вода была по-прежнему горячей, а банки с консервами вздулись: содержимое их кипело и раздувало оболочку. Солнце уменьшалось. Дэвид смотрел на него. Теперь это был гладкий светящийся шар. Неправильности, движущиеся пятна, вздымающиеся облака газа — ничего этого не было видно. Лишь корона, которую с Земли видно только во время затмений, простиралась во все стороны на миллионы миль. Молодой человек невольно вздрогнул, подумав, что прошёл сквозь неё. Землю он миновал на расстоянии в пятнадцать миллионов миль; втелескоп видны были сквозь облака знакомые очертания континентов. Он почувствовал приступ ностальгии, а потом новую решимость удержать войну подальше от миллиардов людей, населяющих планету, — родину человечества, которая теперь распространилась далеко по Галактике.
Потом и Земля осталась позади. Мимо Марса, сквозь пояс астероидов — Старр стремился к Юпитеру, к этой миниатюрной солнечной системе внутри большой. её центром был Юпитер, больший, чем все остальные планеты, вместе взятые. Вокруг него четыре гигантских спутника; три из них — Ио, Европа и Каллисто — размером примерно с Луну, четвертый — Ганимед — гораздо больше. В сущности, Ганимед больше Меркурия, он почти так же велик, как Марс. Вдобавок десятки спутников — от нескольких сотен миль в диаметре до небольших скал. В корабельный телескоп Юпитер представлял собой растущий желтый шар, покрытый оранжевыми полосами, одна из которых некогда была известна как Большое Красное пятно; Три главных спутника, включая Ганимед, находились по одну сторону, четвертый — по другую.
Большую часть дня Счастливчик поддерживал шифрованное общение с работниками Совета на Марсе. Его эргометры непрерывно прощупывали пространство. Пролетало множество кораблей, но ему нужен был только один, с двигателем сирианской постройки; он узнал бы его немедленно. И он не ошибся. На расстоянии в двадцать миллионов миль показания прибора вызвали его первое подозрение. Старр свернул в том направлении, и характерный рисунок на эргометре стал заметней. На расстоянии в сто тысяч миль в телескоп стало можно разглядеть светлую точку. За десять тысяч миль она приняла форму корабля. Это был корабль Антона.
На расстоянии в тысячу миль (Ганимед находился от обоих кораблей на удалении в пятьдесят миллионов миль) Дэвид послал первое сообщение. Он потребовал, чтобы корабль Антона повернул к Земле. На расстоянии в сто миль он получил ответ — энергетический удар, от которого защитные генераторы взвыли и который потряс «Метеор», как будто тот столкнулся с другим кораблем. Осунувшееся лицо Счастливчика вытянулось.
Корабль Антона был вооружен лучше, чем он ожидал.
Глава 15
ЧАСТЬ ОТВЕТА
Около часа корабли маневрировали, никто не получил преимущества. Корабль Старра быстрее, у Антона экипаж. Каждый из его людей специализировался на чем-то одном. Один нацеливал оружие, другой стрелял, третий контролировал реактор, а сам Антон руководил всеми операциями. Дэвиду же приходилось заниматься всем; он решил воздействовать словами.
— Вам не добраться до Ганимеда, Антон, а ваши друзья там не станут действовать, пока не выяснят, в чём дело… С вами покончено, Антон, мы знаем ваши планы… Бесполезно посылать сообщение на Ганимед; мы глушим ваш субэфир с Юпитера. Ничего не прорвётся… Приближаются правительственные корабли, Антон. Счёт идёт на минуты. Их немного у вас осталось… Сдавайтесь, Антон. Сдавайтесь.
Всё это время «Метеор» увертывался от такого концентрированного огня, какого раньше никогда не испытывал. И не все залпы удавалось отклонить. Энергия «Метеора» истощалась. Дэвиду хотелось думать, что корабль Антона в таком же положении, но сам он стрелял гораздо реже и не попал ни разу.
Он не смел оторвать взгляд от экрана. До прибытия земных кораблей остаётся много часов. Если запасы энергии «Метеора» истощатся, Антон оторвётся и полетит к Ганимеду, а хромающий «Метеор» сможет только преследовать, но захватить его не сможет… Или если вдруг на экране появятся корабли пиратского флота… Счастливчик не решался загадывать дальше. Возможно, он ошибся, не доверив это дело с самого начала правительственным кораблям. Нет, сказал он себе, только «Метеор» мог перехватить Антона на расстоянии в пятьдесят миллионов миль от Ганимеда; только скорость «Метеора»; что ещё важнее, только эргометры «Метеора». На таком расстоянии от Ганимеда можно призывать флот на помощь. Ближе — и такая помощь станет опасной. Неожиданно ожил приёмник Старра, который всё время был включен. На экране появилось беззаботное улыбающееся лицо Антона.
— Я вижу, вы опять ушли от Динго.
— Опять. Вы признаете, что во время толчковой дуэли Динго действовал по приказу?
Встречный луч энергии внезапно приобрел могучую силу, Счастливчик с трудом увернулся, ускорение вдавило его в кресло. Антон рассмеялся:
— Не смотрите на меня слишком внимательно. Значит, тогда вы почти поверили. Конечно, Динго действовал по приказу. Мы знали, что делаем. Динго не знал, кто вы на самом деле, а я знал. Почти с самого начала.
— Но это знание вам не помогло, — сказал Дэвид.
— Это Динго оно не помогло. Вам будет интересно узнать, что он… скажем, наказан. Нехорошо делать ошибки. Но не будем говорить об этом. Хочу только сказать, что до сих пор было забавно, но теперь уже нет.
— Вам некуда уходить.
— Попробую на Ганимед.
— Вас остановят.
— Правительственные корабли? Я их не вижу. А больше никто не может перехватить меня.
— Я могу.
— Вы меня перехватили. Но что вы со мной можете сделать? Судя по вашим действиям, вы на корабле один. Если бы я это знал с самого начала, я бы так долго не возился с вами. Нельзя воевать против целого экипажа.
Старр ответил негромким напряженным голосом:
— Я протараню вас. Уничтожу ваш корабль.
— И себя самого. Помните это.
— Неважно.
— Пожалуйста. Вы говорите как космический скаут. Скоро начнете читать вступительную клятву скаутов.
Дэвид повысил голос:
— Люди на корабле, слушайте! Если ваш капитан попробует оторваться в направлении Ганимеда, я протараню ваш корабль. Это верная смерть для всех вас. Сдавайтесь. Обещаю вам справедливый суд. Обещаю снисхождение, если вы будете помогать мне. Не позволяйте Антону рисковать вашей жизнью ради его сирианских друзей.
— Говори, правительственный мальчик, говори, — ухмыльнулся Антон. — Пусть слушают. Они знают, какого суда им ждать, знают о вашем снисхождении. Инъекция энзимного яда. — Он быстро щелкнул пальцами, как будто всаживал иглу шприца в чью-то руку. — Вот что они получат. Они тебя не боятся. Прощай, правительственный мальчик.
Указатель гравиметра Старра дрогнул, корабль Антона набрал скорость и устремился прочь. Дэвид следил за ним на экране. Где правительственные суда? Разрази весь космос, где правительственные суда? Он увеличил ускорение. Игла гравиметра снова двинулась. Расстояние между кораблями уменьшилось. Корабль Антона прибавил скорости, «Метеор» тоже. Но ускорительные возможности «Метеора» выше. Улыбка не покидала лица Антона.
— Между нами пятьдесят миль, — сказал он.
— Сорок пять.
Ещё пауза.
— Сорок. Ты помолился, правительственный мальчик?
Старр не отвечал. Для него выхода не было. Придётся таранить. Не дать Антону уйти, не позволить войне прийти на Землю. Придётся остановить пиратов самоубийством, если Другого пути не будет. Корабли медленно сближались друг с Другом по длинной касательной.
— Тридцать, — лениво заметил Антон. — Вы никого не испугаете. В конце концов, вы выглядите глупцом. Отворачивайте и летите домой, Старр.
— Двадцать пять, — упрямо возразил Дэвид. — У вас пятнадцать минут на решение — сдаться или погибнуть. — Он подумал, что у него самого тоже пятнадцать минут — победить или умереть.
На экране за Антоном появилось чье-то лицо. Палец был прижат к тонким бледным губам. Должно быть, взгляд Счастливчика дрогнул. Он попытался скрыть это, отведя глаза. Оба корабля шли с максимальным ускорением.
— В чём дело, Старр? — спросил Антон. — Испугались? Сердце слишком бьется? — Глаза его искрились, губы разошлись в улыбке.
Неожиданно Дэвид понял, что Антон наслаждается, что он считает всё происходящее захватывающей игрой, что для него это только средство продемонстрировать свою власть. Старр понял, что Антон никогда не сдастся, что он скорее позволит протаранить свой корабль, чем отступит. И понял, что ему не избежать смерти.
— Пятнадцать миль, — сказал Старр.
За Антоном лицо Хансена. Отшельника! И он что-то держит в руке.
— Десять миль, — сказал Дэвид. Потом: — Шесть миль. Я протараню вас. Клянусь космосом, протараню.
Бластер! Хансен держит бластер.
Счастливчик дышал с трудом. Если Антон повернется… Но Антон ни на секунду не выпускал лицо противника из виду. Он ждал появления страха. Дэвид хорошо понимал мысли пирата. Даже если бы звук был громче, чем прицеливание из бластера, Антон бы не обернулся. Заряд попал в спину. Смерть наступила так неожиданно, что, хоть улыбка и исчезла с лица Антона, выражение жестокой радости — нет. Антон упал на экран, и лицо его на мгновение прижалось к нему, оно стало большим и мертвыми глазами продолжало смотреть на Старра. Тот услышал крик Хансена:
— Все назад! Хотите умереть? Мы сдаемся. Берите нас, Старр!
Дэвид повернул корабль на два градуса. Достаточно, чтобы разойтись.
Его эргометр показывал, что правительственные корабли близко. Наконец-то они пришли. Экраны корабля Антона светились белым цветом — как бы в знак сдачи.
Общеизвестно, что флот всегда недоволен, когда Совет Науки вмешивается в то, что военные считают своим делом. Особенно если вмешательство успешно. Дэвид Старр знал это хорошо. Он был вполне подготовлен к плохо скрываемому разочарованию адмирала.
Адмирал сказал:
— Доктор Конвей объяснил мне ситуацию, Старр, и мы одобряем ваши действия. Однако вы должны знать, что флот осознавал сирианскую опасность и тщательно подготовился к ней. Независимые действия Совета могли принести большой вред. Скажите об этом доктору Конвею. Координатор просил меня сотрудничать с Советом в дальнейших действиях против пиратов, но, — адмирал добавил упрямо, — я не могу согласиться с вашим предложением отложить нападение на Гани-мед. Я считаю, что в делах, связанных со сражением и победой, флот может принимать собственные решения.
Адмиралу было за пятьдесят, он не привык на равных обсуждать подобные дела с кем бы то ни было, а тем более с молодым человеком, вдвое моложе его. Квадратное лицо с колючими седыми усами ясно показывало это.
Счастливчик устал. Сказывалось длительное напряжение — только теперь, после того как корабль Антона был захвачен, а его экипаж оказался в заключении. Тем не менее он оставался невозмутимым.
— Я думаю, если мы вначале очистим астероиды, сирианцы и Ганимед автоматически перестанут быть проблемой.
— Добрая Галактика, молодой человек, что вы хотите сказать вашим «очистим»? Мы безуспешно пытались сделать это в течение двадцати пяти лет. Очищать астероиды — всё равно что гнаться за перьями. А что касается базы сирианцев, мы знаем, где она и хорошо представляем себе её силу. — Он слегка улыбнулся. — Совету, возможно, трудно в это поверить, но мы не меньше его готовились к действиям. Может быть, даже больше. Например, я знаю, что в моем распоряжении достаточно сил, чтобы сломить сопротивление на Ганимеде. Мы готовы к битве.
— Я не сомневаюсь, что вы готовы и что вы разобьете сирианцев. Но те, что на Ганимеде, это ещё не весь Сириус. Вы можете быть готовы к битве, но готовы ли вы к долгой и дорогостоящей войне?
Адмирал покраснел.
— Меня просили сотрудничать, но я не могу рисковать безопасностью Земли. Я не могу при нынешних условиях поддержать план, по которому наш флот рассредоточивается среди астероидов, а сирианская экспедиция находится в Солнечной системе.
— Не дадите ли вы мне час? — прервал его Старр. — Один час, чтобы поговорить с Хансеном, пленником, которого приняли на борт этого корабля как раз перед вашим прибытием, сэр?
— А чем это поможет?
— Через час увидите.
Адмирал сжал губы.
— Час может быть очень ценен. Он может быть бесценным… Ну хорошо, начинайте, но побыстрее. Посмотрим, что это даст.
— Хансен! — позвал Дэвид, не отрывая взгляда от адмирала.
Появился отшельник. Он выглядел усталым, но улыбнулся Счастливчику. Очевидно, пребывание на пиратском корабле не отразилось на его настроении. Он сказал:
— Восхищаюсь вашим кораблем, мистер Старр. Прекрасная работа.
— Послушайте, — прервал адмирал. — Давайте не будем. Кончайте с этим, Старр. Ваш корабль тут ни при чем.
Дэвид начал:
— Ситуация такова, мистер Хансен. Мы остановили Антона — с вашей бесценной помощью, за что я вас благодарю. Это значит, что враждебные действия со стороны сирианцев откладываются. Но нам нужна не просто отсрочка. Мы должны полностью устранить опасность, и, как уже сказал адмирал, времени у нас мало.
— Как я могу помочь? — спросил Хансен.
— Отвечая на мои вопросы.
— С радостью, но я рассказал всё, что знал. Мне жаль, что этого оказалось мало.
— Но пираты считали вас опасным человеком. Они сильно рисковали, отнимая вас у нас.
— Этого я не могу объяснить.
— Возможно, вы что-то знаете и сами об этом не подозреваете. Что-то очень опасное для них.
— Не понимаю что.
— Они вам верили. Вы сами мне сказали, что богаты, у вас недвижимость на Земле. Вы гораздо богаче, чем обычный отшельник. Тем не менее пираты хорошо обращались с вами. Или по крайней мере не обращались плохо. Они вас не грабили. Они оставили ваш роскошный дом в целости и сохранности.
— Вспомните, мистер Старр, что я тоже им помогал.
— Не очень много. Вы говорили, что позволяли им садиться на вашу скалу, иногда оставлять людей, и это, по существу, всё. Если бы они просто застрелили вас, у них было бы всё это и ваша квартира в придачу. Вдобавок им не пришлось бы бояться предательства. Вы ведь предали их.
Хансен мигнул.
— Тем не менее это так. Я сказал вам правду.
— Да, то, что вы говорили мне, правда. Но не вся правда. У пиратов должна была быть причина доверять вам. Они должны были знать, что для вас связываться с правительством означает смерть.
— Я говорил вам об этом.
— Вы говорили, что стали их пособником, но они поверили вам раньше, до того, как вы стали им помогать. Иначе они начали бы с того, что сожгли бы вас из бластера. Позвольте высказать догадку. До того, как стать отшельником, вы сами были пиратом, Хансен, и Антон и его люди об этом знали. Что скажете?
Хансен побледнел. Дэвид повторил:
— Что скажете, Хансен?
Хансен очень тихо ответил:
— Вы правы, мистер Старр. Некогда я был членом экипажа пиратского корабля. Это было давно. Я старался забыть об этом. Поселился на астероиде и не думал о Земле. Когда появились новые пираты и встретились со мной, у меня не было выхода. Когда появились вы, у меня впервые возникла возможность рискнуть и встретиться с законом. Ведь прошло двадцать пять лет. И в мою пользу будет тот факт, что я рисковал жизнью, спасая жизнь члена Совета. Поэтому я так стремился сразиться с пиратами на Церере. Хотел, чтобы были ещё факты в мою пользу. Я убил Антона, вторично спасая вашу жизнь. Вы говорите, что я дал Земле возможность избежать войны. Я был пиратом, мистер Старр, но это миновало, и я думаю, счёт У нас равный.
— Хорошо, — сказал Дэвид. — Пока всё хорошо. Итак, есть ли у вас информация, которую вы ранее скрывали?
Хансен покачал головой. Старр заметил:
— Вы скрыли, что были пиратом.
— Но это не имеет значения. И вы сами узнали это. Я не пытался отрицать.
— Хорошо, посмотрим, не найдем ли ещё что-нибудь, что вы не станете отрицать. Вы ведь сказали не всю правду.
Хансен удивился.
— А что я не сказал?
— Что вы никогда не переставали быть пиратом. Что вы тот человек, о котором упомянули при мне лишь однажды, после моей дуэли с Динго. Что вы и есть так называемый босс. Да, мистер Хансен, вы глава всех пиратов астероидов.
Глава 16
ВЕСЬ ОТВЕТ
Хансен вскочил со стула и остался стоять. Дыхание со свистом вырывалось из его рта. Адмирал, не менее удивленный, воскликнул:
— Великая Галактика! Молодой человек! О чём это вы? Вы серьёзно?
Счастливчик продолжил:
— Садитесь, Хансен, и попробуем взглянуть на это дело со стороны. Обсудим его. Если я не прав, возникнет противоречие. Всё началось с капитана Антона, появившегося на «Атласе». Антон был умным и способным человеком, хоть и не совсем нормальным. Он не поверил мне, не поверил в мой рассказ. Он сделал объёмные фотографии. Это сделать было нетрудно, я даже не заметил. Он послал их боссу. Босс решил, что он меня узнал. Несомненно, Хансен, если босс вы, то всё подтверждается: увидев меня позже, вы на самом деле узнали меня. Босс отправил приказ убить меня. Антону показалось забавным, если он выполнит приказ путем толчковой дуэли с Динго. Динго получил точное указание убить меня. Антон признал это в нашем последнем разговоре. Когда я вернулся, а Антон предварительно дал слово, что у меня будет возможность присоединиться к пиратам, вам пришлось выступить самому. Меня отправили на вашу скалу.
Хансен взорвался.
— Это безумие! Я не причинил вам никакого вреда. Я спас вас. Привез вас на Цереру.
— Да, и прилетели вместе со мной. Это была моя идея — проникнуть в пиратскую организацию, узнать о её деятельности изнутри. У вас появилась аналогичная идея, и вы осуществили её успешнее. Вы привезли меня на Цереру и явились сами. Вы узнали, насколько мы не подготовлены, насколько недооцениваем пиратов. Это означало, что вы можете действовать.
Теперь становится понятен смысл рейда на Цереру. Я думаю, что вы каким-то образом связались с Антоном. Существуют ведь карманные субэфирные передатчики, и можно разработать очень хитрые коды. Вы отправились вверх по коридорам не сражаться с пиратами, а присоединиться к ним. Они не убили вас, а «захватили». Очень странно. Если ваш рассказ правдив, вы для них очень опасны. Они должны были убить вас, как только вы появились. Вместо этого они не причинили вам никакого вреда. Вместо этого они посадили вас на корабль Антона, флагманский корабль пиратов, и повезли на Ганимед. Вас даже не связали, не приставили надзирателей. Вы могли тихонько встать за Антоном и застрелить его.
Хансен воскликнул:
— Но я ведь застрелил его. Зачем, во имя Земли, мне стрелять в него, если я тот, за кого вы меня принимаете?
— Потому что он был безумцем. Он готов был скорее подвергнуться тарану, чем отступить и потерять лицо. У вас большие планы, вы не хотели умирать, чтобы удовлетворить его тщеславие. Вы знали, что, если даже мы остановим Антона, это означает только задержку. Напав вслед за этим на Ганимед, мы всё равно развяжем войну. А вы, продолжая играть роль отшельника, найдёте возможность улизнуть и снова стать самим собой. Что такое смерть Антона и утрата корабля по сравнению с этим?
Хансен сказал:
— А какие у вас доказательства? Всё одни догадки. Где доказательства?
Адмирал, который всё время переводил взгляд от одного к Другому, зашевелился.
— Послушайте, Старр, это мой человек. Мы добудем у него правду.
— Не торопитесь, адмирал. Мой час ещё не закончился… Догадки, Хансен? Продолжим. Я пытался вернуться на вашу скалу, но у вас не было координат. Это странно, несмотря на ваши старательные объяснения. Я рассчитал координаты по траектории нашего полёта на Цереру; оказалось, что они соответствуют запретной зоне, где не может находиться ни один астероид, если он обычный, конечно. Поскольку я знал, что мои расчёты верны, я понял, что ваш астероид находится там вопреки законам природы.
— Что? — спросил адмирал.
— Я хочу сказать, что астероиду, если он маленький, не обязательно крутиться на орбите. Он может быть снабжен гиператомными двигателями и передвигаться как космический корабль. Как иначе объяснить присутствие астероида в запретной зоне?
Хансен громко запротестовал:
— Говорить — ещё не значит делать. Я не знаю, почему вы так поступаете со мной, Старр. Вы меня испытываете? Это хитрость?
— Никакой хитрости, мистер Хансен, — ответил Дэвид. — Я вернулся на вашу скалу. Я не думал, что вы передвинете её далеко. Астероид, который может передвигаться, имеет определённые преимущества. Как бы часто его ни наблюдали, отмечали координаты и рассчитывали орбиту, наблюдателей и преследователей всегда можно поставить в тупик, передвинув астероид. В то же время передвижение астероида означает определённый риск. Астроном, оказавшийся в этот момент у телескопа, может удивиться, почему это астероид выходит из плоскости эклиптики или движется по запретной зоне. Или, если он достаточно близко, может заметить выхлопы реактора с одной стороны.
Я думаю, что вы уже двигали астероид навстречу кораблю Антона, чтобы я смог на нём высадиться. Я был уверен, что вновь вы двинете его не скоро и не далеко. Может быть, в ближайший рой, чтобы спрятать его там. Поэтому я вернулся и принялся искать среди ближайших астероидов такой, который подойдёт по форме и размеру. И нашёл. Нашёл астероид, который одновременно является базой, фабрикой, кладовой, и на нём услышал звук гигантского гиператомного двигателя, вполне способного передвинуть его в пространстве. Вероятно, он привезен с Сириуса.
Хансен возразил:
— Но ведь это не была моя скала?
— Неужели? На ней меня ждал Динго. Он похвастал, что ему и не нужно было следовать за мной: он знал, куда я направляюсь. Единственное место, о котором он знал, что я туда могу направиться, — это ваша скала. Отсюда я заключаю, что на одном конце скалы находится ваша жилая квартира, а на другом — пиратская база.
— Нет, нет! — закричал Хансен. — Пусть рассудит адмирал. Есть тысячи астероидов, похожих по форме и размеру на мой, и я не отвечаю за случайные слова пирата.
— Есть и ещё доказательства, которые покажутся вам убедительнее. На пиратской базе оказалась долина между двумя утесами; она полна использованных консервных банок.
— Консервные банки! — закричал адмирал. — Что, во имя Галактики, это значит, Старр?
— Хансен на своей скале бросал использованные банки в такую долину. Он сказал, что не хочет, чтобы его скалу сопровождали отбросы. На самом деле он, наверно, не хотел, чтобы они выдали его. Когда мы покидали скалу, я видел эту долину. И увидел снова, когда мы приближались к базе пиратов. Именно поэтому я обследовал этот астероид первым. Посмотрите на этого человека, адмирал, и ответьте, сомневаетесь ли вы в том, что я говорю правду.
Лицо Хансена было искажено яростью. Это был уже совсем другой человек. Все следы добродушия исчезли.
— Ладно. Что с того? Чего вы хотите?
— Хочу, чтобы вы вызвали Ганимед. Я уверен, что вы уже вели переговоры. Они вас знают. Скажите им, что астероиды сдались Земле и выступят вместе с ней против Сириуса, если понадобится.
Хансен рассмеялся:
— Зачем мне это? Вы взяли меня, но не взяли астероиды. И не сможете очистить их.
— Сможем, если захватим вашу скалу. На ней ведь все необходимые данные, не так ли?
— Попробуйте найти их, — хрипло ответил Хансен. — Попробуйте отыскать скалу среди тысяч других. Вы сами сказали, что она может двигаться.
— Найти её будет легко, — ответил Счастливчик. — Поможет ваша долина с банками.
— Давайте. Осматривайте каждый астероид, пока не отыщете долину с банками. Вам потребуется миллион лет.
— Нет. День или около того. Покидая пиратскую базу, я ненадолго задержался и прожег долину тепловым лучом. Растопил банки, а потом они застыли большим сверкающим металлическим горбом. Атмосферы там нет, ржаветь металл не будет, поэтому он останется сверкающим, как гол из фольги в толчковой дуэли. Отражение Солнца от него далеко видно. Церерской Обсерватории нужно разделить небо на участки и поискать астероид, который в десять раз ярче, чем должен быть по размеру. Я попросил начать поиски незадолго до того, как отправился на свидание с Антоном.
— Это ложь.
— Неужели? Задолго до того, как я достиг Солнца, пришло субэфирное сообщение с фотографиями. Вот они. — Старр достал фотографии из-под бумаги на столе. — Стрелка указывает на яркое пятнышко. Это ваша скала.
— Думаете, вы меня напугали?
— Хотел бы. На скале высадились корабли Совета.
— Что? — взревел адмирал.
— Нельзя было терять времени, сэр, — сказал Дэвид. — Мы нашли жилые помещения Хансена на другом конце и соединительный туннель между ними и пиратской базой. Вот здесь полученные по субэфиру документы, в которых координаты ваших основных баз, Хансен, и фотографии самих баз. Это доказательство, Хансен?
Хансен упал на стул. Рот его исказился в бессильных рыданиях. Старр добавил:
— Я проделал всё это, чтобы убедить вас, Хансен, что вы проиграли. Проиграли полностью и окончательно. У вас ничего не осталось, кроме жизни. Не даю никаких обещаний, но если вы сделаете то, что мне нужно, то сохраните по крайней мере жизнь. Вызовите Ганимед.
Хансен беспомощно смотрел на свои пальцы.
Адмирал со сдержанным гневом сказал:
— Совет очистил астероиды? Зачем он взялся за это дело? Почему не поставил в известность Армию?
Счастливчик спросил:
— Ну как, Хансен?
— Какая теперь разница? — ответил тот. — Сделаю.
Конвей, Хенри и Верзила встречали Дэвида в космопорту, когда он вернулся на Землю. Они пообедали вместе в Стеклянной комнате на самом верху Планетарного ресторана. Округлые стены комнаты были сделаны из стекла, прозрачного только изнутри; сквозь стены виднелись теплые огни города, терявшиеся в окружающих равнинах. Хенри сказал:
— Хорошо, что Совет нашёл базы пиратов до того, как этим занялся флот. Военные действия не решили бы проблемы.
Конвей кивнул.
— Ты прав. На опустевших астероидах могли бы появиться новые поколения пиратов. Большинство их людей и не подозревало, что они действуют на стороне Сириуса. Это обычные люди, которые ищут лучшей жизни. Я думаю, мы убедим правительство амнистировать тех, кто не участвовал в пиратских рейдах, а таких там большинство.
— Кстати, — заметил Старр, — помогая им развивать астероиды, финансируя и увеличивая их дрожжевые фермы, поставляя им воду, воздух, энергию, мы обеспечиваем безопасность на будущее. Лучшая защита от преступников в астероидах — это мирное и процветающее сообщество там, на месте. В этом основа устойчивого мира.
Верзила воинственно возразил:
— Не морочь себе голову. Мир до тех пор, пока Сириус не решится попробовать снова.
Дэвид положил руку на голову нахмурившегося маленького человека и шутливо оттолкнул его.
— Верзила, мне кажется, ты жалеешь, что лишился маленькой войны. Что с тобой? Не можешь хоть немного отдохнуть?
Конвей сказал:
— Знаешь, Счастливчик, ты должен был нам больше рассказать с самого начала.
— Я сам хотел бы, — ответил молодой человек, — но мне нужно было одному иметь дело с Хансеном. Тут есть важные личные причины.
— Но когда ты впервые заподозрил его? Что его выдало? — спросил Конвей. — То, что астероид оказался в запретной зоне?
— Это было последним звеном, — сказал Старр. — Я понял, что он не просто отшельник, через час после первой встречи. С этого времени я знал, что для меня он важнее всех в Галактике.
— А как насчёт объяснения? — Конвей насадил на вилку последний кусок бифштекса и принялся сосредоточенно жевать.
Дэвид продолжал:
— Хансен узнал во мне сына Лоуренса Старра. Сказал, что встречался с отцом, и сказал правду. Ведь члены Совета мало кому известны, и, чтобы объяснить, как он увидел сходство, нужно признать личную встречу. Но в этом признании было два странных момента. Он сказал, что сходство особенно сильно, когда я сержусь. Так он сказал. Но вы рассказывали, дядя Гектор и дядя Гус, что отец редко сердился. «Смеющийся» — вот обычное определение, которое вы использовали, говоря об отце. Далее, прибыв на Цереру, Хансен ни одного из вас не узнал. Даже ваши имена ничего ему не сказали.
— А в этом что странного? — спросил Хенри.
— Вы двое были неразлучны с отцом. Как мог Хансен встречаться с отцом и не знать вас? Встретиться с отцом в таких обстоятельствах, когда он был в гневе, и запомнить его лицо на всю жизнь, так чтобы суметь узнать его во мне через двадцать пять лет? Есть лишь одно объяснение. Отец не был с вами только во время своего последнего полёта на Венеру, и Хансен присутствовал при его убийстве. И он не был рядовым пиратом. Рядовой пират не становится настолько богат, чтобы построить себе на астероиде роскошное жилище и провести двадцать пять лет, создавая новую пиратскую организацию вместо разгромленной с самого начала. Должно быть, он был капитаном напавшего пиратского корабля. Тогда ему было тридцать лет: подходящий возраст для капитана.
— Великий космос! — ошеломленно воскликнул Конвей.
Верзила негодующе завопил:
— И ты не застрелил его?
— Зачем? У меня были более важные дела, чем личная месть. Да, он убил моего отца и мать, но мне всё равно приходилось быть с ним вежливым. По крайней мере на время.
Счастливчик поднес к губам чашку кофе и остановился, чтобы взглянуть на город.
Он сказал:
— Хансен проведет остаток жизни в тюрьме на Меркурии, это большее наказание, чем быстрая лёгкая смерть. Сирианцы оставили Ганимед, значит, будет мир. Это для меня в десять раз лучшая награда, чем его смерть; и лучшая дань памяти моим родителям.
Книга III. СЧАСТЛИВЧИК СТАРР И ОКЕАНЫ ВЕНЕРЫ
От автора
Эта книга была впервые опубликована в 1954 году, и описание Венеры соответствует представлениям того времени. Однако с тех пор знания астрономов о внутренних планетах Солнечной системы значительно выросли.
В конце 50-х годов радиоволны, отражённые от Венеры, заставили предположить, что её поверхность нагрета значительно больше, чем считалось ранее. 27 августа 1962 года космическая станция «Маринер-2» вылетела в направлении Венеры и 14 декабря 1962 года прошла мимо неё на расстоянии в 21 тысячу миль. Проведенные ею измерения показали, что поверхностная температура действительно значительно выше точки кипения воды.
Это означает, что Венера не только не имеет покрывающего всю поверхность океана, как описано в этой книге, — она вообще не имеет океанов. Вся вода Венеры находится в парообразном состоянии в виде облаков, а поверхность чрезвычайно горяча и суха. Атмосфера Венеры плотнее, чем считалось раньше, и состоит почти исключительно из двуокиси углерода.
В 1954 году не был также известен период обращения Венеры вокруг своей оси. В 1964 году лучи радара, отражённые от поверхности Венеры, показали, что она совершает один оборот за 243 дня (на 18 дней дольше её года) и вращается в «неправильном» направлении сравнительно с другими планетами.
Я надеюсь, читателям книга понравится, хотя не хотел бы, чтобы они серьёзно воспринимали то, что считалось «точным» в 1954 году, а сейчас совершенно устарело.
Айзек АЗИМОВ. Ноябрь 1970 г.Глава 1
СКВОЗЬ ОБЛАКА ВЕНЕРЫ
Дэвид Старр и Джон Верзила Джонс оттолкнулись от космической станции № 2 и поплыли к планетарному каботажному судну, ждавшему их с открытым шлюзом. Двигались они с лёгкостью, которую даёт только долгая привычка к невесомости, хотя их тела казались громоздкими и неуклюжими в космических костюмах.
Верзила изогнул спину, двигаясь вверх, и повернул голову, чтобы ещё раз взглянуть на Венеру. Голос его громко прозвучал в наушниках Старра.
— Великий космос! Ну и скала!
Каждый дюйм пятифутового тела Верзилы напрягся от этого зрелища.
Верзила родился и вырос на Марсе и никогда в жизни не был так близок к Венере. Он привык к красноватой планете и скалистым астероидам. А однажды он посетил зелено-голубую Землю. Но здесь перед ним было нечто серо-белое.
Венера заполняла половину неба. Она находилась всего в двух тысячах миль от космической станции. Другая космическая станция располагалась на противоположной стороне планеты. Они действовали как приёмные пункты для всех космических кораблей, направлявшихся к Венере; вращались вокруг планеты с периодом в три часа, гоняясь друг за другом, как щенок гоняется за своим хвостом.
Впрочем с космической станции, как ни близка она была к Венере, на поверхности планеты ничего нельзя было рассмотреть. Не видны были ни континенты, ни океаны, ни пустыни или горы, ни зеленые долины. Белизна, только яркая белизна, перемежающаяся движущимися серыми полосами.
Турбулентный облачный слой покрывал почти всю поверхность Венеры, а серые полосы означали края, где сталкивались облачные массы. На этих границах пар устремлялся вниз, и под серыми линиями на невидимой поверхности Венеры шёл дождь.
Старр сказал:
— Не стоит смотреть на Венеру, Верзила. Скоро насмотришься вдоволь. Лучше попрощайся с Солнцем.
Верзила фыркнул. Для его привыкших к условиям Марса глаз даже земное Солнце казалось разбухшим и слишком ярким. Солнце, видимое с орбиты Венеры, — это раздувшееся чудовище. Оно в два с четвертью раза ярче земного, в четыре раза ярче знакомого Верзиле Солнца Марса. Лично он был рад, что облака на Венере всегда скрывают Солнце. И что на космической станции солнечный свет всегда затеняется.
Старр сказал:
— Ну, сумасшедший марсианин, ты входишь?
Верзила остановился у края шлюза, задержав своё тело одним движением руки. Он всё ещё смотрел на Венеру. Видимая половина ярко освещалась Солнцем, но на восточную сторону наползала ночная тень, она двигалась быстро вслед за стремительным полётом станции по орбите.
Счастливчик, продолжая подниматься, в свою очередь ухватился за край шлюза и шлепнул одетой в перчатку рукой Верзилу пониже спины. В невесомости маленькое тело Верзилы, поворачиваясь, медленно влетело внутрь, а фигура Старра повисла снаружи.
Мышцы на руке Дэвида сжались, и он лёгким, плавным движением вплыл вверх и внутрь. У него не было в этот момент причин веселиться, но он не мог сдержать усмешки при виде распростертого в воздухе Верзилы. Внешний люк закрылся, и Старр продвинулся внутрь.
Верзила сказал:
— Слушай, ты, вошь, однажды я наступлю на тебя, и сможешь тогда…
Воздух со свистом ворвался в помещение, и внутренний люк открылся. Быстро вплыли два человека, уворачиваясь от болтающихся ног Верзилы. Передний, коренастый парень с Удивительно большими усами, спросил:
— Что-нибудь случилось, джентльмены?
Второй, светловолосый, более высокий и худой, но с такими же длинными усами, сказал:
— Чем вам помочь?
Верзила высокомерно ответил:
— Поможете, если отойдёте, чтобы мы могли снять скафандры.
Говоря это, он опустился на пол и начал раздеваться. Дэвид уже снял свой костюм.
Все прошли через внутренний люк, который закрылся за ними. Костюмы, поверхность которых была космически холодна, начали покрываться изморозью в теплом влажном воздухе. Верзила бросил их на покрытые кафелем стойки, где с них стечёт вода.
Темноволосый сказал:
— Посмотрим. Вы двое Уильям Уильямс и Джон Джонс. Верно?
Старр ответил:
— Я Уильямс.
Использовать псевдоним даже в обычных условиях стало для него второй натурой. Члены Совета Науки всегда избегали гласности. Теперь, когда положение на Венере очень сложно и неопределённо, это было особенно важно.
Дэвид продолжал:
— Я думаю, наши документы в порядке и багаж на борту.
— Всё в порядке, — ответил темноволосый. — Я Джордж Ривал, пилот, а это мой помощник Тор Джонсон. Отправляемся через несколько минут. Если вам что-нибудь понадобится, скажите нам.
Пассажирам показали их маленькую каюту, и Счастливчик про себя вздохнул. В космосе он себя хорошо чувствовал только в собственном скоростном крейсере «Метеор», который теперь отдыхал в ангаре космической станции.
Тор Джонсон глубоким голосом сказал:
— Кстати, позвольте вас предупредить, что, когда мы отойдем от станции, состояние невесомости кончится. Начнет увеличиваться тяготение. Если начнется космическая болезнь…
Верзила заорал:
— Космическая болезнь! Ты, тупица с внутренних планет, я мог ещё ребенком переносить такие перегрузки, какие тебе и теперь не снятся! — Он ткнул пальцем в стену, сделал медленное сальто, снова коснулся стены и повис в полуфуте от пола. — Попробуй что-нибудь подобное, когда почувствуешь себя мужчиной.
Помощник пилота улыбнулся:
— Да, в эту полупинту немало хлама напихано, а?
Верзила мгновенно вспыхнул.
— В полупинту! Слушай, приятель… — закричал он, но Дэвид сжал его плечо, и маленький марсианин проглотил остаток предложения. — Поговорим на Венере, — мрачно закончил он.
Продолжая улыбаться, Тор вслед за пилотом отправился в рубку в носу корабля.
Верзила, чей гнев немедленно угас, с любопытством спросил у Дэвида:
— Послушай, что за усы! Никогда таких больших не видел!
Счастливчик ответил:
— Венерианский обычай, Верзила. На Венере их отращивают практически все.
— Неужели? — Верзила пальцем погладил губу. — Интересно, как я с ними смотрелся бы?
— С такими большими? — Счастливчик улыбнулся. — Они закрыли бы тебе всё лицо.
Он увернулся от кулака Верзилы, и в этот момент пол дрогнул под их ногами и «Чудо Венеры» оторвалось от космической станции. Судно пошло по сокращающейся спирали, которая приведет их вниз, на Венеру.
Судно набирало скорость, и Старр ощутил, как спадает долго державшееся напряжение. Его карие глаза приобрели задумчивое выражение, а лицо расслабилось. Он был высок и выглядел хрупким, но под обманчивой тщедушностью скрывались стальные мускулы.
Жизнь уже дала Дэвиду в избытке и хорошего, и плохого. Ещё ребенком он потерял родителей во время пиратского нападения вблизи Венеры, к которой сейчас приближался. Его вырастили ближайшие друзья отца, Гектор Конвей, нынешний глава Совета Науки, и Августас Хенри, возглавляющий секцию в той же организации.
Старр воспитывался и учился с единственным намерением: когда-нибудь стать членом Совета Науки, функции которого и влияние делали его наиболее известной организацией в Галактике.
Всего лишь год назад, после окончания академии, он стал полноправным членом этой организации и посвятил себя целиком усовершенствованию человека и защите его от врагов цивилизации. Он стал самым молодым членом Совета и, вероятно, останется таковым ещё долго.
Но он уже выиграл свои первые сражения. В пустынях Марса и среди тускло освещенных скал пояса астероидов он встретился с преступниками и победил их.
Но война с преступностью и злом не мимолетный конфликт, и теперь на Венере начали происходить неприятности, вызывавшие особое беспокойство, потому что их причина была совершенно неясна.
Глава Совета Гектор Конвей ущипнул себя за губу и сказал:
— Я не знаю, заговор ли это сирианцев против Солнечной Конфедерации или просто бандитизм. Наши тамошние люди считают дело серьёзным.
Дэвид спросил:
— Послали туда кого-нибудь из наших уполномоченных по улаживанию конфликтов? — Он недавно вернулся из пояса астероидов и слушал с беспокойством.
Конвей ответил:
— Да. Эванса.
— Лy Эванса? — переспросил Счастливчик, и его тёмные глаза осветились радостью. — В академии мы жили в одной комнате. Он хорош.
— Да? Венерианское представительство Совета потребовало его отзыва и расследования по обвинению во взяточничестве.
— Что? — Старр в ужасе вскочил на ноги. — Дядя Гектор, это невозможно.
— Хочешь полететь туда и взглянуть сам?
— Я?! Мы с Верзилой вылетим, как только будет готов «Метеор»!
И вот теперь Дэвид задумчиво наблюдал в иллюминатор последнюю стадию полёта. Ночная тень накрыла Венеру, и уже в течение часа видна была только чернота. Огромное тело Венеры закрыло все звёзды.
Но вот они вновь на солнечной стороне, и в иллюминатор видно только серое. Теперь они слишком близки к планете, чтобы видеть её целиком. Они даже слишком близки, чтобы разглядеть облака. В сущности, они уже внутри облачного слоя.
Верзила, только что прикончивший большой сандвич с цыпленком и салатом, вытер губы и сказал:
— Великий космос, не хотел бы я вести корабль через эту грязь.
Крылья корабля выдвинулись, чтобы использовать атмосферу, и в результате характер движения изменился. Чувствовались удары ветра, корабль слегка опускался и поднимался под их порывами.
Космические корабли не могут двигаться в плотной атмосфере. Поэтому планеты типа Земли или Венеры, окруженные густой атмосферой, требуют космических станций. К ним причаливают корабли из глубокого космоса. От этих станций каботажные суда с выдвигающимися крыльями переносят пассажиров через предательскую атмосферу на поверхность.
Верзила, который с закрытыми глазами мог провести корабль от Плутона до Меркурия, потерялся бы при первых признаках атмосферы. Даже Дэвид, который во время обучения в академии пилотировал каботажные суда, не взялся бы за это дело в плотных, всё закрывающих облаках.
— До того как первые исследователи высадились на поверхности Венеры, земные наблюдатели видели только её облака. О самой планете они тогда ничего не знали.
Верзила не ответил. Он заглядывал в целлофлексовый контейнер, проверяя, не завалялся ли там ещё один сандвич.
Счастливчик продолжал:
— Они даже не могли определить, с какой скоростью вращается Венера и вращается ли вообще. Не знали состав венецианской атмосферы. Знали, что в ней есть двуокись углерода, но до конца второго тысячелетия астрономы считали, что в ней нет воды. Когда стали высаживаться с кораблей, человечество обнаружило, что это совсем не так.
Он замолчал. Вопреки собственному решению мозг Старра вновь и вновь обращался к зашифрованной космограмме, которую они получили во время полёта, когда Земля осталась в десяти миллионах миль позади. Космограмма была от Лy Эванса, которому он сообщил, что направляется к нему.
Ответ был короткий, резкий и ясный. Он гласил: «Держись подальше!»
И всё! Не похоже на Эванса. Для Дэвида это послание означало неприятности, большие неприятности, так что он не стал «держаться подальше». Напротив, он увеличил ускорение корабля до предела.
Верзила говорил:
— Странно подумать, что когда-то люди все теснились на Земле. Не могли с неё улететь, как бы ни старались. Ничего не знали ни о Марсе, ни о Луне, ни о чём. У меня от этого мурашки по коже.
Именно в этот момент они пересекли облачный барьер, и даже мрачные мысли Старра рассеялись при виде открывшегося зрелища.
Оно было, неожиданным. Только что они были окружены непроницаемым молочным туманом; в следующее мгновение вокруг был только прозрачный воздух. Внизу всё купалось в ясном, жемчужном свете. Наверху колыхалась серая масса облачного слоя.
Верзила сказал:
— Эй, Счастливчик, смотри!
Внизу на многие мили во всех направлениях тянулась сплошная сине-зеленая растительность. Никаких подъёмов или спусков. Поверхность абсолютно ровная, как будто срезана гигантским атомным ножом.
Не видно ничего, что было бы нормальным для земных просторов. Ни дорог или домов, ни городов или рек. Только сине-зеленая, неизменная, насколько можно видеть, ровная поверхность.
Дэвид сказал:
— Это всё из-за двуокиси углерода. Ею питается растительность. На Земле её в воздухе только три сотых процента, а здесь почти десять процентов.
Верзила, проживший всю жизнь на марсианских фермах, знал о двуокиси углерода. Он сказал:
— Но почему так светло, несмотря на облака?
Счастливчик улыбнулся.
— Ты забыл, Верзила. Солнце здесь вдвое ярче, чем на Земле.
Но тут он взглянул в иллюминатор, и улыбка его исчезла.
— Странно! — пробормотал он.
Неожиданно он отвернулся от окна.
— Верзила, — сказал он, — пошли в пилотскую рубку.
Двумя шагами он вылетел из каюты. Ещё два шага — и он у рубки. Дверь не закрыта. Он распахнул её. Оба пилота, Джордж Ривал и Тор Джонсон, на своих местах, не отрываются от приборов. Они не повернулись.
Старр сказал:
— Парни…
Никакого ответа.
Он коснулся плеча Джонсона, и рука помощника пилота раздраженно дернулась, сбрасывая его руку.
Молодой советник схватил Джонсона за плечи и закричал:
— Хватай второго, Верзила!
Маленький человечек уже занимался этим без лишних вопросов, действуя с сумасшедшей энергией.
Старр отбросил от себя Джонсона. Тот пошатнулся, выпрямился и устремился к нему. Счастливчик увернулся от удара и выбросил руку вперёд, к челюсти противника. Джонсон упал без чувств. В тот же момент тренированным движением Верзила завернул руку Джорджа Ривала, бросил его на пол и сильным ударом лишил сознания.
Верзила вытащил обоих пилотов из рубки и закрыл дверь. Он вернулся и обнаружил, что Счастливчик лихорадочно работает у приборов.
Только тут он спросил:
— Что случилось?
— Мы не выравнивали траекторию, — мрачно ответил Дэвид. — Я смотрел на поверхность: она приближалась слишком быстро. И всё ещё продолжает.
Он отчаянно пытался найти ручку, которая управляет элеронами, этими лопастями, контролирующими угол полёта. Синяя поверхность Венеры стала гораздо ближе. Она летела им навстречу.
Глаза Старра устремились к показателю давления. Этот прибор измерял вес окружающего воздуха. Чем больше его показания, тем ближе они к поверхности. Теперь стрелка двигалась медленнее. Кулак Счастливчика опустился на рычаг. Должно быть, этот! Дэвид не решался слишком быстро поворачивать ручку, иначе элероны просто снесет ревущим ветром. Но до нулевой отметки оставалось не более пятисот футов.
Ноздри его раздувались, рельефно выступили жилы на шее. Он повернул элероны против ветра.
— Мы выравниваемся, — выдохнул Верзила. — Выравниваемся…
Но времени уже не было. Сине-зеленая поверхность заполнила весь иллюминатор. Затем, со слишком большой скоростью и под слишком большим углом, «Чудо Венеры», несущее на себе Счастливчика Старра и Верзилу Джонса, ударилось о поверхность планеты.
Глава 2
ПОД МОРСКИМ КУПОЛОМ
Если бы поверхность Венеры была тем, чем казалась с первого взгляда, «Чудо Венеры» разбилось бы на куски и сгорело. И карьера Дэвида Старра оборвалась бы.
К счастью, растительность, которая казалась глазу столь плотной, не была ни травой, ни кустарниками. Это были водоросли. И плоская поверхность была не почвой, не скалой, а водой, поверхностью океана, который окружал и покрывал всю Венеру.
Но даже и об эту поверхность «Чудо Венеры» ударилось с громом, прорвав слой водорослей и погрузившись в глубину. Счастливчика и Верзилу бросило на стену.
Обычное судно погибло бы, но «Чудо Венеры» было создано для вхождения в воду на высокой скорости. Оно было необычайно прочно и имело обтекаемую форму. Крылья, которые Старр не успел, да и не сумел бы убрать, были оторваны, корпус застонал от удара, но не дал течи.
Вниз, вниз опускалось судно в зелено-чёрной мгле венерианского океана. Плотная растительность почти полностью поглотила рассеянный облаками свет сверху. Искусственное освещение на корабле не работало — по-видимому, вышло из строя при ударе.
Голова у Дэвида кружилась.
— Верзила! — позвал он.
Ответа не было. Старр вытянул руки, ощупывая окружающее. Рука его коснулась лица Верзилы.
— Верзила! — снова окликнул он. Потрогал грудь маленького марсианина: сердце билось ровно. Дэвид почувствовал облегчение.
Он не знал, что произошло с кораблем. Знал только, что не сможет управлять им в окружавшей его полной тьме. Он лишь надеялся, что сопротивление воды замедлит корабль, прежде чем он ударится о дно.
Он отыскал в кармане рубашки фонарик — маленький пластиковый стержень около шести дюймов длиной. Нажал пальцем: вспыхнул яркий луч, расширяющийся, но при этом не утрачивающий яркости.
Старр снова нащупал тело Верзилы и осторожно осмотрел его. На виске у марсианина была шишка, но, насколько можно судить, кости целы.
Веки Верзилы дрогнули. Он застонал.
Дэвид прошептал:
— Спокойно, Верзила. Всё будет в порядке.
Сам он, выходя в коридор, был далеко не уверен в этом. Чтобы кораблю суждено было снова увидеть свой порт, пилоты должны жить и действовать.
Когда он вошёл в каюту, они сидели и мигали при свете фонарика.
— Что случилось? — простонал Джонсон. — Я только что был у приборов, а потом… — В его глазах не было враждебности, только боль и смятение.
«Чудо Венеры» остался частично управляемым. Корабль сильно пострадал, но огни впереди и сзади удалось зажечь, а запасные батареи давали энергию, необходимую для жизнеобеспечения. Слабо слышался шум винтов, и судно начало выполнять свою третью функцию. Этот корабль мог передвигаться не только в космосе и в воздухе, но и под водой.
В рубку вошёл Джордж Ривал. Он был подавлен и явно смущен. На щеке у него виднелась царапина, которую Дэвид промыл, продезинфицировал и залил коагулянтом.
Ривал сказал:
— Есть несколько небольших течей, но я их заделал. Крыльев нет, основные батареи разбиты. Потребуется капитальный ремонт, но я считаю, что мы легко отделались. Вы хорошо поработали, мистер Уильямс.
Старр коротко кивнул.
— Расскажите, что случилось.
Ривал вспыхнул.
— Не знаю. Стыдно сказать, но я не знаю.
— А вы? — спросил Старр, обращаясь к помощнику.
Тор Джонсон, пытавшийся вернуть к жизни передатчик, покачал головой.
Ривал сказал:
— Последнее, что я помню: мы ещё были в облачном слое. После этого ничего не помню. Пришёл в себя, глядя на ваш Фонарик.
Счастливчик спросил:
— Вы или Джонсон употребляете какие-нибудь наркотики?
Джонсон гневно взглянул на него.
— Нет. Никогда.
— Тогда почему вы потеряли сознание, причем одновременно?
Ривал ответил:
— Хотел бы я знать. Послушайте, мистер Уильямс, мы не дилетанты. У нас отличная репутация. — Он застонал. — Вернее, мы считались первоклассными пилотами. Вероятно, теперь нам больше не летать.
— Посмотрим, — сказал Дэвид.
— Слушайте, — вмешался Верзила, — что толку говорить о том, что уже произошло? Где мы сейчас? Вот что я хотел бы знать. Куда мы движемся?
Тор Джонсон ответил:
— Мы в стороне от маршрута. Могу сказать только это. Потребуется пять-шесть часов, чтобы добраться до Афродиты.
— Клянусь толстым Юпитером и его спутниками! — сказал Верзила, с отвращением глядя в тёмный иллюминатор. — Пять-шесть часов этой темноты?
Афродита — самый большой город Венеры, его население достигает четверти миллиона.
«Чудо Венеры» находилось ещё в миле от города, но море вокруг уже было залито зеленым светом. В зеленом призрачном свечении ясно виднелись корпуса спасательных судов, вышедших им навстречу после того, как им удалось связаться с городом по радио. Они молчаливо двигались рядом.
Счастливчик и Верзила впервые увидели подводный город под куполом. Они почти забыли перенесенные неприятности, захваченные удивительным зрелищем.
С расстояния город казался огромным изумрудно-зеленым волшебным пузырем, дрожащим и раскачивающимся из-за движения воды. Смутно виднелись здания и лёгкие лучеобразные конструкции, которые удерживали купол под огромной массой воды.
По мере приближения город становился всё больше и ярче. Толща воды, разделявшая их, уменьшалась, и город сверкал всё сильнее. Афродита стала менее волшебной, более реальной, но ещё более захватывающей.
Наконец они скользнули в огромный шлюз, способный вместить небольшой торговый флот или большой военный крейсер, и подождали, пока не выкачают воду. Когда это произошло, «Чудо Венеры» вплыло в город на подъёмном поле.
Счастливчик и Верзила проследили за отправкой своего багажа, пожали руки Ривалу и Джонсону и на скиммере отправились в отель «Бельвью-Афродита».
Верзила смотрел в выпуклое окно скиммера, который легко двигался среди городских лучей над крышами зданий.
Он сказал:
— Значит, это Венера. Не думаю, что стоило добираться сюда. Да ещё с такими приключениями. Никогда не забуду, как на нас устремился океан.
Дэвид ответил:
— Боюсь, это только начало.
Верзила беспокойно посмотрел на своего рослого товарища.
— Ты на самом деле так думаешь?
Старр пожал плечами.
— Зависит от многого. Посмотрим, что расскажет нам Эванс.
«Зеленый зал»[3] отеля «Бельвью-Афродита» был и в самом деле зеленым. Количество и способ освещения создавали впечатление, что столики и сидящие за ними посетители погружены в глубины океана. Потолок представлял собой внутреннюю поверхность чаши, под ним медленно вращался большой шарообразный аквариум, поддерживаемый искусно размещенными подъёмными лучами. В воде росли венерианские водоросли, а между ними мелькали «морские ленты» — одна из красивейших форм животной жизни на этой планете.
Верзила вошёл первым, решив ни на что, кроме обеда, не обращать внимания. Он был раздражен отсутствием кнопочного меню, обеспокоен присутствием настоящих живых официантов и негодовал из-за того, что в «Зеленом зале» подавали только то, что выбирала администрация отеля, и не делали никаких исключений. Его слегка смягчило то, что закуска оказалась вкусной, а суп вообще превосходным.
Зазвучала музыка, куполообразный потолок слегка засветился и медленно начал вращаться.
Верзила раскрыл рот, про обед он забыл.
— Ты только посмотри! — сказал он.
Счастливчик смотрел. Морские ленты были разного размера, от крошечных полосок двух дюймов длиной до широких мускулистых поясов, которые тянулись на ярд и больше. И все тонкие, как листок бумаги. Они двигались извиваясь, и волна проходила вдоль всего их тела.
И все светились; у каждой был свой цвет. Невероятное зрелище! По бокам каждой морской ленты тянулись сверкающие спирали: алые, розовые, оранжевые; меньше виднелось синих, голубых и фиолетовых; у самых крупных экземпляров встречалось белое сияние. И всё это погружено в зеленый свет, лившийся с потолка. Плавая, ленты переплетались, и цвета перемешивались. Для зачарованного взгляда они казались живой движущейся радугой, которая сверкала в воде, каждый раз оживая всё новыми и новыми комбинациями цветов.
Верзила неохотно вернулся к десерту. Официант назвал его «желеобразными плодами», и коротышка подозрительно посматривал на тарелку. Желеобразные плоды оказались мягкими оранжевыми овалами, слипавшимися друг с другом, но легко отделявшимися и ложившимися в ложку. В первое мгновение они казались сухими и безвкусными, но затем неожиданно превращались в густую сладкую жидкость, удивительно вкусную.
— Великий космос! — сказал удивленный Верзила. — Ты пробовал десерт?
— Что? — с отсутствующим видом переспросил Дэвид.
— Попробуй десерт. Похоже на ананасовый джем, только в тысячу раз вкуснее… В чём дело?
Старр сказал:
— У нас есть компания.
— Ах, вот оно что! — Верзила осторожно повернулся, как бы рассматривая остальных обедающих.
Дэвид негромко сказал:
— Спокойно, — и Верзила застыл.
Он услышал негромкие шаги: кто-то подходил к их столику. Он попытался обернуться как бы невзначай. Бластер он оставил в номере, но у него есть ещё силовой нож в кармане пояса. Выглядит невинно, но в случае необходимости может разрезать человека надвое. Верзила осторожно нащупал его.
Сзади послышался голос:
— Разрешите присесть?
Верзила повернулся на стуле, сжимая в ладони нож, готовый к быстрому удару снизу вверх. Но подошедший не казался опасным. Толстяк, но костюм хорошо подогнан. Лицо круглое, седеющие волосы тщательно причесаны, хотя просвечивает лысина. Маленькие голубые глаза, полные дружелюбия. И конечно, большие седые усы истинно венерианского фасона.
Счастливчик спокойно ответил:
— Конечно, садитесь.
Его внимание, казалось, было полностью занято чашкой горячего кофе, которую держал в правой руке.
Полный человек сел. Положил руки на стол. Обнажил запястье, чуть заслонив его ладонью другой руки. На мгновение появилось быстро темнеющее овальное пятно. На нём загорелись золотые огоньки, образуя знакомые очертания Большой Медведицы и Ориона. Потом всё исчезло, осталась пухлая рука и круглое улыбающееся лицо над нею.
Опознавательный знак Совета Науки нельзя ни подделать, ни имитировать. Метод его демонстрации, основанный на напряжении воли, составлял наиболее тщательно охраняемую тайну Совета.
Полный человек сказал:
— Меня зовут Мел Моррис.
Старр ответил:
— Я так и подумал, что это вы. Мне вас описали.
Верзила вернул нож на место. Мел Моррис был главой венерианской секции Совета. Верзила о нём слышал. Он почувствовал облегчение, но в чём-то был и разочарован. Он ожидал схватки — плеснуть в лицо толстяку кофе, перевернуть столик, ну и тому подобное.
Дэвид сказал:
— Венера кажется необыкновенно приятным местом.
— Обратили внимание на светящийся аквариум?
— Великолепное зрелище!
Венерианец улыбнулся и поднял палец. Официант принес ему чашку кофе. Моррис немного подождал, пока кофе остынет, потом негромко сказал:
— Вы, вероятно, разочарованы, увидев меня. Ожидали другого общества.
Старр холодно ответил:
— Я ожидал встречи с другом.
— Ну да, — продолжал Моррис, — вы ведь отправили сообщение члену Совета Эвансу, чтобы он вас встретил здесь.
— Вижу, вы это знаете.
— Да. За Эвансом уже некоторое время наблюдают. Вся его корреспонденция перехватывается.
Они говорили негромко. Даже Верзила с трудом разбирал слова. Все неторопливо прихлебывали кофе, внешне сохраняя полное спокойствие.
Счастливчик сказал:
— Вы поступили неправильно.
— Вы говорите как его друг?
— Да.
— И, вероятно, как друг, он посоветовал вам держаться подальше от Венеры?
— Вы и это знаете.
— Да. И у вас было происшествие при посадке. Я прав?
— Да. Вы считаете, что Эванс опасался чего-нибудь подобного?
— Опасался? Великий космос, Старр, ваш друг Эванс организовал это происшествие.
Глава 3
ДРОЖЖИ!
Лицо Дэвида осталось равнодушным. Он ничем не выдал своей озабоченности.
— Можно ли поподробнее? — спросил он.
Моррис снова улыбался, половину его лица скрывали нелепые венерианские усы.
— Боюсь, не здесь.
— Тогда где?
— Минутку. — Моррис взглянул на часы. — Через минуту начнется шоу. Будут танцы при морском свете.
— При морском свете?
— Шар вверху засветится тускло-зеленым цветом. Посетители пойдут танцевать. Тогда мы встанем и незаметно уйдем.
— Вы в опасности?
Моррис серьёзно ответил:
— Нет, вы. Заверяю вас, что с момента вашего появления в Афродите наши люди ни на минуту не выпускали вас из виду.
Неожиданно прозвучал радушный голос. Казалось, он исходил из хрустального шара, стоявшего в центре стола. Поскольку все обедающие повернулись к своим шарам, очевидно, голос доносился и из них.
Он произнес:
— Леди и джентльмены, мы рады приветствовать вас в «Зеленом зале». Вам понравилась еда? Для того чтобы вы получили ещё большее удовольствие, администрация отеля рада предложить вам магнетонические ритмы Тоби Тобиаса и его…
Как только зазвучал голос, все огни погасли, и последние слова заглушил удивленный гул собравшихся, большинство из которых только что прилетели с Земли. Аквариумный шар под потолком зала ярко засветился зеленым светом, морские ленты замерцали ещё ярче. Поверхность шара стала фасетчатой, так что при его вращении по комнате в мягком, почти гипнотическом очаровании замелькали тени. Громче стали звуки музыки, извлекаемые из причудливых хрипловатых магнетонических инструментов. Эти звуки производились стержнями разной формы, под искусным управлением исполнителя проходившими через магнитные поля каждого инструмента.
Мужчины и женщины вставали, чтобы танцевать. Слышался шорох, негромкий смех. Прикосновение к рукаву заставило сначала Дэвида, потом Верзилу встать.
Счастливчик и Верзила молча пошли за Моррисом. За ними двинулось ещё несколько человек с серьёзными лицами. Они как будто материализовались из занавесей. Держались они довольно далеко и делали вид, что забрели сюда случайно, но Старр был уверен, что у каждого рука лежит на рукояти бластера. Ошибиться тут было невозможно. Мел Моррис, глава венерианской секции Совета Науки, относился к ситуации очень серьёзно.
Дэвид одобрительно рассматривал помещения Морриса. Не роскошно, но удобно. Живя тут, можно забыть, что над тобой в ста ярдах прозрачный купол, а над ним сотни ярдов насыщенного углекислотой океана, а ещё выше сотни миль чуждой, непригодной для дыхания атмосферы.
Больше всего понравилась Счастливчику коллекция книгофильмов, которую он заметил в нише.
Он сказал:
— Вы ведь биофизик, доктор Моррис?
Моррис ответил:
— Да.
— Я выполнял биофизические исследования в академии, — сказал Старр.
— Знаю, — ответил Моррис. — Я читал вашу статью. Хорошая работа. Кстати, можно мне называть вас Дэвид?
— Это моё имя, — согласился землянин, — но теперь меня чаще всего зовут Счастливчик.
Тем временем Верзила открыл один из стеллажей с книгофильмами, достал книгофильм, развернул его и поднес к свету. Потом пожал плечами и вернул на место.
Он воинственно заявил Моррису:
— Вы не похожи на учёного.
— Стараюсь, — не обижаясь, ответил Моррис. — Это иногда помогает.
Дэвид понимал, что он имеет в виду. В эти дни, когда наука проникла во все поры человеческого общества и культуры, учёные больше не могли запираться в своих лабораториях. Именно по этой причине был создан Совет Науки. Вначале он задумывался как совещательный орган, помогающий правительству в делах галактической важности, где лишь опытные учёные могли представить информацию, необходимую для разумного решения. Но постепенно Совет всё более и более становился орудием борьбы с преступлениями, системой контршпионажа. И в его руки переходило всё больше и больше нитей власти. И благодаря его деятельности, возможно, когда-нибудь возникнет великая Империя Млечного Пути, в которой все люди будут жить в мире и согласии.
И, поскольку членам Совета часто приходилось выполнять функции, далекие от чистой науки, их успех зависел и от того, насколько не похожи они на учёных, — конечно, если при этом у них оставался ум учёного.
Старр сказал:
— Будьте добры, сэр, расскажите мне подробности здешних неприятностей.
— А что вам сказали на Земле?
— Очень немного. Я предпочел бы, чтобы человек науки рассказал мне всё.
Моррис иронически улыбнулся.
— Человек науки? Не очень часто приходится это слышать от чиновников из центра. Они посылают своих улаживателей конфликтов, таких, как Эванс.
— И как я, — сказал Дэвид.
— Ваш случай несколько нестандартен. Мы знаем, чего вы добились на Марсе в прошлом году и как вы поработали в астероидах.
Верзила загудел:
— Нужно было быть с ним, чтобы действительно оценить его работу!
Дэвид слегка покраснел. Он торопливо сказал:
— Не нужно, Верзила. Сейчас не время для твоих россказней.
Они сидели в больших, изготовленных на Земле креслах, мягких и удобных. Что-то в отражении их голосов говорило натренированному уху Счастливчика о том, что помещение защищено от подслушивания.
Моррис зажег сигарету и предложил другим, но получил отказ.
— Много ли вы знаете о Венере, Дэвид?
Молодой человек улыбнулся.
— То, чему учат в школе. Если коротко, то это вторая от Солнца планета, она в шестидесяти семи миллионах миль от Солнца. Это самая близкая к Земле планета и может подходить к ней на расстояние в двадцать шесть миллионов миль. Она немного меньше Земли, её тяготение составляет пять шестых земного. Вокруг Солнца оборачивается за семь с половиной месяцев, а её сутки длиной в тридцать шесть часов. Температура поверхности чуть выше земной, но не намного — из-за облачного слоя. Также из-за облаков здесь нет смены времен года. Планета покрыта океаном, который — в свою очередь — покрыт водорослями. Атмосфера состоит из двуокиси углерода и азота и непригодна для дыхания. Ну как, доктор Моррис?
— Вижу, что у вас были высокие оценки, — ответил биофизик, — но я спрашивал скорее об общественном устройстве, а не о самой планете.
— Это труднее. Я, конечно, знаю, что люди живут в городах под куполами, что города эти находятся на мелководье и что, как я сам могу теперь наблюдать, жизнь здесь гораздо цивилизованнее, чем, например, на Марсе.
Верзила закричал:
— Эй!
Маленькие глазки Морриса обратились к марсианину.
— Вы не согласны с вашим другом?
Верзила заколебался.
— Может, и согласен, но не нужно так говорить.
Дэвид улыбнулся и продолжал:
— Венера — весьма цивилизованная планета. Вроде бы здесь свыше пятидесяти городов с населением в шесть миллионов. Вы экспортируете сушеные водоросли, которые, как я слышал, служат превосходным удобрением, а также брикеты обезвоженных дрожжей в качестве корма для скота.
— По-прежнему очень хорошо, — сказал Моррис. — Как вам понравился обед в «Зеленом зале», джентльмены?
Старр помолчал при этом внезапном изменении темы разговора, потом ответил:
— Очень понравился. А почему вы спрашиваете?
— Сейчас поймете. Что вам подали?
Счастливчик ответил:
— Не могу точно сказать. Выбор администрации. Как будто говяжий гуляш с прекрасным соусом и овощами, которых я не узнал. Перед ним, кажется, фруктовый салат и потом острый томатный суп.
Верзила вмешался:
— Желейные семена на десерт.
Моррис громко рассмеялся.
— Вы ошибаетесь, — сказал он. — У вас не было ни говядины, ни фруктов, ни томатов. Не было даже кофе. Вы ели только одно. Только одно! Дрожжи!
— Что? — завопил Верзила.
На мгновение Дэвид тоже удивился. Глаза его сузились, он сказал:
— Вы серьёзно?
— Конечно. Это специфика «Зеленого зала». Об этом не распространяются, иначе земляне откажутся есть. Позже, однако, вас подробно расспросят, как вам понравилось то или другое блюдо, как, по вашему мнению, его можно улучшить, и так далее. «Зеленый зал» — наиболее ценный испытательный полигон Венеры.
Верзила сморщил маленькое лицо и возмущенно закричал:
— Я на них в суд подам! Я потребую расследования Совета. Нельзя кормить меня дрожжами, не предупреждая об этом, как будто я лошадь или корова или…
Он закончил быстрым бессвязным бормотанием.
— Полагаю, — сказал Счастливчик, — что дрожжи имеют какое-то отношение к волне преступности на Венере.
— Полагаете? — сухо сказал Моррис. — Значит, вы не читали наши официальные доклады. Не удивляюсь. Земля считает, что мы тут преувеличиваем. Заверяю вас, однако, что это не так. И дело не просто в волне преступлений. Дрожжи, Дэвид, дрожжи! В них суть всего на этой планете.
В гостиную вкатился механический официант с кипящим кофейником и тремя чашками. Он сначала остановился возле Счастливчика, потом возле Верзилы. Моррис взял третью чашку, отпил кофе и одобрительно вытер усы.
— Если хотите, он добавит сливки и сахар, джентльмены.
Верзила посмотрел и принюхался. Он подозрительно спросил у Морриса:
— Дрожжи?
— Нет. На этот раз настоящий кофе. Клянусь.
Некоторое время они молча пили кофе. Потом Моррис сказал:
— Поддерживать жизнь на Венере стоит дорого, Дэвид. Наши города получают кислород из воды, для этого нужны электролизные станции. Каждому городу требуется огромная энергия, чтобы поддерживать купола, на которые давят миллиарды тонн воды. Город Афродита использует столько же энергии в год, как вся Южная Америка, а в нём лишь тысячная доля населения.
Естественно, приходится добывать эту энергию. Мы должны экспортировать на Землю свою продукцию, чтобы получать энергетические установки, специализированные механизмы, атомное топливо и тому подобное. Единственный продукт Венеры — водоросли, правда, в неограниченных количествах. Их мы экспортируем как удобрение, но это не решает наших проблем. Большую часть водорослей мы используем как питательную среду для дрожжей, для десятков тысяч разновидностей дрожжей.
Верзила скривил губы.
— Водоросли на дрожжи — какая разница?
— А обед вам понравился? — спросил Моррис.
— Пожалуйста, продолжайте, доктор Моррис, — сказал Счастливчик.
Моррис сказал:
— Конечно, мистер Джонс совершенно прав…
— Зовите меня Верзила.
Моррис взглянул на маленького марсианина.
— Как хотите. Верзила совершенно прав в своём мнении относительно дрожжей в целом. Основные их разновидности пригодны только на корм скоту. Но и в этом случае они весьма полезны. Свиньи, которых кормят дрожжами, обходятся дешевле и дают лучшее мясо. Дрожжи — высококалорийная пища, в ней много белков, микроэлементов и витаминов.
Но у нас есть более качественные разновидности, их используют в тех случаях, когда нужно в ограниченном пространстве запасти побольше продуктов. Например, в длительных космических полётах. Там часто используют так называемые Д-рационы.
Наконец у нас есть разновидности высшего качества, очень дорогие и редкие. Они входят в меню «Зеленого зала», с их помощью мы можем имитировать и даже улучшать любой вид пищи. Пока их производится немного, но мы надеемся на будущее. Надеюсь, теперь вы видите основную причину всего?
— Кажется, вижу.
— А я нет, — возмущенно сказал Верзила.
Моррис тут же объяснил:
— У Венеры будет монополия на эти лучшие разновидности. Ни один другой мир не будет обладать ими. Без венерианского опыта в зимкультурах…
— Это что? — спросил Верзила.
— Культуры дрожжей. Без венерианского опыта ни один мир не сможет выращивать такие дрожжи или, получив их, не сможет сохранить. Венера сможет вести исключительно выгодную торговлю лучшими разновидностями дрожжей со всей Галактикой. Это важно не только для Венеры — для Земли тоже, для всей Солнечной Конфедерации. Мы наиболее населённая система в Галактике, потому что самая старая. Когда мы сможем обменивать фунт дрожжей на тонну зерна, дела у нас пойдут хорошо.
Счастливчик терпеливо слушал лекцию Морриса. Он сказал:
— По той же причине в интересах враждебной планеты, которая хотела бы подорвать мощь Земли, отобрать у Венеры монополию на дрожжи.
— Вы поняли, не правда ли? Я хотел бы убедить Совет в существовании этой опасности. Если будут украдены образцы растущих дрожжей вместе с документацией, результаты будут катастрофическими.
— Хорошо., — сказал Дэвид, — мы подходим к важному пункту: произошла ли такая кража?
— Пока нет, — мрачно ответил Моррис. — Но шесть месяцев назад началась волна мелкого воровства, странных происшествий и неприятных случайностей. Одни из них раздражают, Другие просто смешны, как, например, случай, когда пожилой джентльмен бросал кредитки детям, а потом в полиции заявил, что его ограбили. Когда свидетели показали, что он сам отдавал деньги, он чуть не сошёл с ума от ярости, доказывая, что не мог делать ничего подобного. Но были случаи и посерьёзнее: оператор погрузчика опустил полутонный тюк водорослей на полпути и убил двух человек. Позже он утверждал, что был без сознания.
Верзила возбуждённо закричал:
— Счастливчик, пилоты говорили, что они потеряли сознание!
Моррис кивнул.
— Да. Я почти рад, что с вами это произошло, — к счастью, без серьёзных последствий. Теперь Совет на Земле внимательнее прислушается к нам.
— Вероятно, вы подозреваете гипноз, — сказал Старр.
Моррис мрачно, невесело улыбнулся.
— Гипноз — это мягко сказано. Может ли гипнотизер подвергать гипнозу на таком расстоянии? Говорю вам, на Венере кто-то обладает способностью полностью подчинять себе других. Преступники экспериментируют с этой властью, совершенствуют её. И с каждым днём с ними бороться всё труднее. Может быть, уже слишком поздно!
Глава 4
ОБВИНЯЕТСЯ ЧЛЕН СОВЕТА!
Глаза Верзилы сверкнули.
— Никогда не поздно, если за дело берётся Дэвид. С чего начнем, Счастливчик?
Старр спокойно ответил:
— С Лy Эванса. Я ждал, что вы упомянете о нём, доктор Моррис.
Моррис сдвинул брови; его полное лицо нахмурилось.
— Вы его друг. Я знаю, вы хотели бы защитить его. Неприятная история. Вообще плохо, что втянут член Совета — а к тому же ещё ваш друг.
— Мною руководят не только чувства, доктор Моррис. Я знаю Лy Эванса, насколько один человек может знать другого. Я знаю: он не способен совершить что-либо во вред Совету или Земле.
— Тогда слушайте и судите сами. За всё время пребывания Эванса на Венере он ничего не достиг. Его называют «уполномоченный по улаживанию конфликтов», это забавное выражение, но оно ничего не значит.
— Не обижайтесь, доктор Моррис, но вам, судя по всему, не понравилось то, что его прислали?
— Нет, конечно, нет. Просто я не видел в этом смысла. Мы выросли на Венере. У нас опыт. И чего же здесь добьется молодой человек, недавний выпускник с Земли?
— Свежий взгляд иногда помогает.
— Вздор. Говорю вам, Дэвид, беда в том, что штаб-квартира на Земле не считает наши неприятности серьёзными. Эванса послали, чтобы он бросил поверхностный взгляд, приукрасил картину и, вернувшись, доложил, что всё в порядке.
— Совет на это не способен. Вы тоже знаете это.
Но венерианин ворчливо продолжал:
— Во всяком случае, три недели назад этот самый Эванс попросил выдать ему закрытые данные, касающиеся выращивания некоторых разновидностей дрожжей. Ему отказали.
— Отказали? — переспросил Старр. — Но ведь он просил от имени Совета?
— Да, но люди, охраняющие производство дрожжей, подозрительны. К ним с такими запросами не обращаются. Даже Советники. Они спросили Эванса, зачем ему эта информация. Он отказался им ответить. Они передали его запрос мне, и я не разрешил.
— На каком основании?
— Он и мне не сообщил причины, а пока я старший в секции Совета здесь, на Венере, никто из моих подчиненных не должен иметь от меня тайн. Но ваш друг Эванс сделал кое-что, чего я от него не ожидал. Он украл данные. Он использовал своё положение члена Совета, чтобы проникнуть в закрытую территорию на ферме по выращиванию дрожжей и уходя спрятал в сапоге микрофильм.
— У него, несомненно, было для этого основание.
— Несомненно, — подтвердил Моррис. — Микрофильм имел отношение к формулам питания, необходимым для выращивания новой и особо ценной разновидности дрожжей. Два дня спустя один из рабочих, составлявших питательную смесь для этой разновидности, добавил в неё соль ртути. Дрожжи погибли, и работа шести месяцев была загублена. Рабочий клялся, что он этого не делал, однако он сделал. Его обследовали наши психиатры. Мы уже знали к тому времени, чего ожидать. Оказалось, что рабочий на какое-то время терял сознание. Враг пока ещё не украл разновидности дрожжей, но он уже близок. Верно?
В карих глазах Счастливчика появилось жесткое выражение.
— Я понимаю, к чему вы клоните. Лy Эванс перешёл на сторону врага, кем бы этот враг ни был.
— Сирианцы, — выпалил Моррис. — Я в этом уверен.
— Может быть, — согласился Дэвид. Жители планет системы Сириуса уже на протяжении столетий были наиболее последовательными врагами Земли. Проще всего обвинить их. — Может быть. Допустим, Лу Эванс перешёл на их сторону и согласился добыть данные, которые позволят им нарушить работу по выращиванию дрожжей. Вначале слегка, но это будет прологом для больших неприятностей.
— Да, такова моя теория. А вы можете предложить что-нибудь другое?
— А сам член Совета Эванс не может находиться под чьим-то умственным контролем?
— Маловероятно. У нас теперь зафиксировано много случаев. Никто из тех, кто пострадал от такого контроля, не терял сознания больше чем на полчаса, и все при психиатрическом исследовании проявляют полную амнезию. Для того чтобы проделать то, что он сделал, Эванс должен находиться под контролем двое суток, и у него нет никаких признаков амнезии.
— Его допрашивали?
— Несомненно. Когда обнаруживают у человека закрытый материал — в сущности, он был пойман с этим материалом, — Должны быть предприняты определённые шаги. Даже если он сто раз член Совета. Он был допрошен, и я лично распорядился следить за ним. После этого, когда он посылал сообщения по своему передатчику, мы их перехватывали. Последнее сообщение он отправил вам. Мы устали играть с ним. Он арестован. Я готовлю доклад штаб-квартире — мне давно следовало сделать это, я требую его отзыва и суда за взяточничество, а может, и за измену.
— Прежде чем вы это сделаете… — сказал Старр.
— Да?
— Позвольте мне с ним поговорить.
Моррис встал, иронически улыбаясь.
— Хотите? Разумеется. Я вас отведу к нему. Он в этом здании. Я даже хочу услышать, что вы скажете в его защиту.
Они поднялись по рампе; охранники молча вытягивались и приветствовали их.
Верзила с любопытством смотрел на охрану.
— Здесь тюрьма?
— Нечто вроде тюрьмы на этом этаже, — ответил Моррис. — Здания на Венере служат одновременно многим целям.
Они вошли в небольшую комнату, и неожиданно, без всякого предупреждения, Верзила разразился громким смехом.
Дэвид, не в силах сдержать улыбку, спросил:
— В чём дело, Верзила?
— Нет… ничего… — маленький человек отдышался, глаза его слезились. — Просто ты очень забавно выглядишь, Счастливчик, с неприкрытой верхней губой. После всех этих усов, которые мы тут видели, ты выглядишь деформированным. Как будто кто-то взял духовое ружье и сдул твои усы.
Моррис улыбнулся и погладил свои седеющие усы смущенно и в то же время гордо.
Улыбка Дэвида стала шире.
— Забавно, — сказал он. — То же самое я подумал о тебе, Верзила.
Моррис сказал:
— Подождем здесь. Сюда приведут Эванса. — И он нажал небольшую кнопку.
Старр осмотрел комнату. Она меньше помещения Морриса и более безликая. Мебель — только несколько обитых стульев, диван, низкий стол в центре и два стола повыше у окон. За каждым фальшивым окном прекрасно выполненный морской пейзаж. На одном из двух высоких столов аквариум; на другом две тарелки, в одной маленькие сухие горошины, а на другой черноте жирное вещество.
Взгляд Верзилы автоматически устремился туда же, куда смотрел Дэвид.
Верзила вдруг спросил:
— Эй, Счастливчик, а это что?
Он подбежал к аквариуму, низко наклонился, всматриваясь в его глубины.
— Взгляни-ка!
— Это венлягушка, здесь многие их держат, — сказал Моррис. — Неплохой образец. Вы разве их ещё не видели?
— Нет, — ответил Дэвид. Он присоединился к Верзиле у аквариума — примерно двух футов в длину и ширину и трёх в высоту. В воде росло множество перистых водорослей.
Верзила спросил:
— А она не кусается?
Он пошевелил воду указательным пальцем и пригнулся ещё ближе.
Голова Старра оказалась рядом с головой Верзилы. Венлягушка серьёзно смотрела на них. Это небольшое существо, примерно восьми дюймов, с треугольной головой, на которой выделялись выпуклые глаза. Оно сидело на шести маленьких, заканчивающихся подушечками лапах, тесно прижатых к туловищу. На каждой лапке три длинных пальца впереди и один сзади. Кожа зеленоватая, похожая на лягушачью, отделанные оборками жабры пульсировали. Вместо рта клюв, сильный, изогнутый, как у попугая.
Под взглядами Счастливчика и Верзилы венлягушка начала подниматься. Подушечки лап оставались на дне аквариума, но сами лапы, когда начали распрямляться суставы, всё больше удлинялись и наконец стали похожи на ходули. Лягушка прекратила подъём, когда её голова коснулась поверхности воды.
Моррис, добродушно смотревший на маленькое существо, сказал:
— Она не любит выходить из воды. В воздухе слишком много кислорода. Эти лягушки любят кислород, но в небольших количествах. Забавные маленькие твари.
Верзила наслаждался. На Марсе нет собственной фауны, а такие живые существа для него вообще были чем-то необыкновенным.
— А где они живут? — спросил он.
Моррис опустил палец в воду и погладил голову венлягушки. Она позволила ему сделать это, полузакрыла глаза, как будто от наслаждения.
Моррис сказал:
— Они в очень больших количествах собираются на водорослях. Движутся в них, как в лесу. Длинными пальцами цепляются за стебли, а крепкий клюв может порвать любой лист. Вероятно, лягушка могла бы проделать приличную дыру в пальце, но я никогда не слышал, чтобы они кого-нибудь укусили. Странно, что вы до сих пор их не видели. В отеле большое собрание их, настоящие семейные группы. Не видели?
— У нас не было для этого времени, — сухо ответил Старр.
Верзила быстро подошёл к другому столу, взял горошину, обмакнул в чёрный жир и принес к аквариуму. Он осторожно поднес горошину к воде, оттуда высунулся клюв и взял горошину из пальцев Верзилы. Тот гукнул в восхищении.
— Видели? — спросил он.
Моррис добродушно улыбнулся, как уловке ребенка.
— Маленький хитрец! Они едят весь день. Смотрите, как жует.
Венлягушка присела. Маленькая чёрная капля упала с её клюва. Тут же одна из лап распрямилась, подхватила каплю и вернула её в клюв.
— Что это? — спросил Счастливчик.
— Горошина, обмакнутая в тавот, — ответил Моррис. — Жир для них деликатес, как для нас сахар. В их естественной среде не встречается чистый углеводород. Они его очень любят. Не удивляюсь, если они дают себя поймать, чтобы получать его.
— А кстати, как их ловят?
— Когда траулеры вылавливают водоросли, на них всегда множество лягушек. Других животных тоже.
Верзила оживленно сказал:
— Эй, Счастливчик, давай возьмем одну…
Его прервало появление двух охранников. Между ними стоял долговязый светловолосый молодой человек.
Дэвид вскочил на ноги.
— Лy! Лу, старина!
Он с улыбкой протянул руку.
На мгновение показалось, что тот ответит. В его глазах промелькнула радость.
Но тут же угасла. Руки его оставались прижатыми к бокам. Он без выражения ответил:
— Здравствуй, Старр.
Счастливчик неохотно опустил руку. Он сказал:
— Я не видел тебя с выпускного вечера. — Помолчал. Что ещё можно сказать старому другу?
Светловолосый Советник, казалось, осознавал нелепость ситуации. Коротко кивнув стражникам, он сел с выражением мрачного юмора на лице.
— С тех пор кое-что изменилось. — Затем — губы у него слегка дергались — продолжал: — Зачем ты явился? Я ведь просил тебя держаться подальше.
— Я не могу держаться в стороне, когда друг в опасности, Лу.
— Нужно ждать, пока тебя попросят о помощи.
Моррис сказал:
— Я думаю, вы зря тратите время, Старр. Вы всё ещё считаете его членом Совета. А он изменник.
Полный венерианин произнес это слово сквозь стиснутые зубы, ударил им, как хлыстом. Эванс слегка покраснел, но ничего не ответил.
Дэвид сказал:
— Мне нужны самые серьёзные и неопровержимые доказательства, прежде чем я применю это слово к члену Совета. — Он сделал ударение на словах «члену Совета».
Старр сел. Несколько мгновений он рассматривал своего друга, Эванс отвел взгляд.
Счастливчик сказал:
— Доктор Моррис, попросите стражников выйти. Я принимаю на себя ответственность за Эванса.
Моррис с сомнением взглянул на Дэвида, потом, после недолгого раздумья, жестом отослал охранников.
Старр сказал:
— Если не возражаешь, Верзила, пройди в соседнюю комнату.
Верзила кивнул и вышел.
Счастливчик мягко сказал:
— Лу, теперь нас только трое. Ты, я, доктор Моррис, вот и всё. Трое Советников. Давай начнем сначала. Ты взял закрытые данные, касающиеся выращивания дрожжей?
Лy Эванс ответил:
— Да.
— Значит, у тебя была для этого причина. Какая?
— Послушай. Я украл данные. Говорю: «украл». Я это признаю. Чего тебе ещё нужно? У меня не было причины. Я просто сделал это. Уходите от меня. Оставьте меня в покое. — Губы его дрожали.
Моррис сказал:
— Вы хотели слышать его объяснения, Старр. Вы услышали. У него их нет.
— Вероятно, ты знаешь, — сказал Дэвид, — что вскоре после того, как ты взял данные, на ферме с этой самой разновидностью дрожжей произошло происшествие.
— Знаю.
— Как ты его объяснишь?
— У меня нет объяснений.
Старр внимательно смотрел на Эванса, отыскивая следы прежнего добродушного, склонного к юмору юноши со стальными нервами, которого он так хорошо помнил по академии. Если не считать усов, отращенных в соответствии с венерианской модой, этот человек был тем же самым, в том, что касалось внешности. То же самое длинноногое и длиннорукое худощавое тело атлета, те же светлые волосы, коротко остриженные, прямоугольный заостренный подбородок. Но помимо этого? Глаза Эванса беспокойно перебегали с места на место, губы дрожали, ногти были искусаны.
Счастливчик испытывал колебания, прежде чем задать следующий резкий вопрос. Он разговаривает с другом, человеком, которого хорошо знает, чью верность он никогда не подвергал сомнению, кому он без колебаний доверил бы жизнь.
Он спросил:
— Лу, ты продал информацию?
Эванс тускло, без выражения ответил:
— У меня нет комментариев.
— Лу, я тебя снова спрашиваю. Во-первых, я хочу сказать, что я на твоей стороне, что бы ты ни сделал. Если ты подвел Совет, для этого есть причина. Расскажи нам о ней. Если тебя опоили наркотиками, если тебя заставили физически или морально, если тебя шантажировали, если угрожали кому-то из близких… Ради бога, Лу, если тебя прельстили деньгами или властью, даже если это так, скажи нам. Нет ошибки, которую нельзя было бы исправить, которую хотя бы отчасти нельзя было загладить откровенностью.
На мгновение казалось, что Эванс тронут. Он поднял на друга глаза, в которых отражалась боль.
— Счастливчик, — начал он, — я…
Затем что-то с ним произошло, и он воскликнул:
— Я не буду говорить, Старр, не буду!
Моррис, сложив руки, сказал:
— Вот, Дэвид. Вот его отношение. Только он что-то знает. Нам нужны эти знания, и, клянусь Венерой, мы их получим так или иначе.
Дэвид сказал:
— Подождите…
— Мы не можем ждать, — ответил Моррис. — Возьмите это себе в голову. У нас нет времени. Вообще нет. Так называемые случайности становятся всё серьёзнее по мере приближения врага к цели. Эту цепь происшествий нужно порвать. Немедленно! — И он стукнул пухлым кулаком по столу. И тут же, как бы в ответ, резко прозвучал сигнал коммуникатора.
Моррис нахмурился.
— Сигнал тревоги! Что, во имя космоса…
Он поднес микрофон к губам.
— Говорит Моррис. Что случилось?.. Что?.. ЧТО?
Он выронил микрофон, лицо его смертельно побледнело.
— Человек под гипнозом у шлюза номер двадцать три, — задыхаясь, сказал он.
Стройное тело Дэвида напряглось, как стальная пружина.
— Какой шлюз? Шлюз купола?
Моррис кивнул и сумел сказать:
— Я говорил, что происшествия становятся всё серьёзнее. На этот раз — купол. Этот человек… в любой момент… может… впустить… море… в Афродиту!
Глава 5
«БЕРЕГИСЬ ВОДЫ!»
Из машины Счастливчику были видны очертания городского купола над головой. Он вспомнил, что подводному городу требуется для своего существования огромное количество энергии.
Города под куполами существуют во многих местах Солнечной системы. Старейшие и самые известные — на Марсе. Но на Марсе тяготение составляет лишь две пятых земного, а на купола сверху давит разреженная тонкая атмосфера.
Здесь, на Венере, тяготение — пять шестых земного и венерианские купола закрыты водой. И хотя они построены в мелких районах океана, так что в отлив верхушки их куполов почти касаются поверхности, они всё равно должны выдерживать тяжесть миллионов тонн воды.
Старр, подобно большинству землян (и венериан, кстати, тоже), считал это достижение человечества чем-то само собой разумеющимся. Но теперь, когда Лу Эванс вернулся в свою камеру и его проблемы на время отошли на второй план, живой ум Дэвида устремился к новым знаниям.
Он спросил:
— Как поддерживаются эти купола?
К полноватому венерианину частично вернулось самообладание. Машина, которую он вел, двигалась к находившемуся в опасности сектору. Речь его по-прежнему звучала напряженно и мрачно.
Он сказал:
— Диамагнитные силовые поля на стальном каркасе. Кажется, будто купол поддерживают стальные балки, но это не так. Сталь недостаточно прочна для этого. Поддерживают силовые поля.
Дэвид взглянул на улицы внизу, полные людьми и жизнью. Он спросил:
— А раньше подобные случаи бывали?
Моррис простонал:
— Великий космос, ничего подобного… Будем там через пять минут.
— Принимались ли предосторожности против несчастных случаев? — флегматично продолжал Старр.
— Конечно. У нас есть система автоматического включения тревоги и автоматические предохранители, мешающие выключить поля. И весь город разделен на сегменты. Любое нарушение в куполе вызывает опускание перегородок, которые также поддерживаются полями.
— Значит, город не будет уничтожен, даже если океан ворвётся внутрь? И население это знает?
— Конечно. Люди знают, что они защищены, но всё равно значительная часть города будет разрушена. И потери будут, а уж какие материальные затраты! Но хуже всего то, что, если человека могли заставить сделать это один раз, значит, могут и ещё.
Верзила, бывший в машине третьим, беспокойно взглянул на Счастливчика. Землянин погрузился в размышления, его брови были нахмурены.
Наконец Моррис произнес:
— Мы на месте!
Машина резко замедлила ход и остановилась.
На часах Верзилы было два часа пятнадцать минут, но это ничего не значило. Венерианская ночь длится восемнадцать часов, а здесь, под куполом, нет ни дня, ни ночи.
Как всегда, ярко горело искусственное освещение. Как всегда, чётко вырисовывались силуэты зданий. И если что-то в городе было необычным, то это поведение жителей. Они устремились к месту происшествия из различных секций города. Новость о нём загадочным образом распространилась повсюду, и теперь люди, полные нездорового любопытства, стремились как на шоу или на цирковой парад, как жители Земли, занимающие кресла в концертном зале.
Полиция сдерживала шумящую толпу. Для Морриса и его спутников с трудом проложили дорогу. Уже опустили прозрачную перегородку, отделившую опасный район от остального города.
Моррис провёл Старра и Верзилу в большую дверь. Шум толпы стих. Внутри здания навстречу Моррису торопливо шагнул человек.
— Доктор Моррис… — начал он.
Моррис торопливо представил:
— Лайман Тернер, главный инженер. Дэвид Старр, член Совета. Верзила Джонс.
И по какому-то сигналу устремился в другую комнату, развивая поразительную скорость. Через плечо он успел бросить:
— Тернер позаботится о вас.
Тернер крикнул:
— Минутку, доктор Моррис! — Но его крик остался незамеченным.
Дэвид сделал знак Верзиле, и маленький марсианин устремился вслед за Советником с Венеры.
— Он приведет назад доктора Морриса? — беспокойно спросил Тернер, поглаживая прямоугольный ящик, который висел у него на ремне через плечо. У Тернера было худое лицо, рыжеватые волосы, большой орлиный нос, веснушки и широкий рот. Он был взволнован.
— Нет, — сказал Счастливчик. — Моррис, вероятно, нужен там. Я просто попросил друга сопровождать его.
— Не знаю, что это даст, — пробормотал инженер. — Не знаю, что вообще сейчас может помочь. — Он поднес сигарету ко рту и с отсутствующим видом протянул другую Старру. Несколько мгновений он не замечал отрицательного жеста и продолжал стоять, протягивая пластмассовую коробочку с сигаретами и задумавшись.
Дэвид спросил:
— Опасный сектор эвакуируется, вероятно?
Тернер вздрогнул, убрал свои сигареты и затянулся. Потом бросил сигарету и затушил её.
— Да, — ответил он, — но не знаю… — Голос его смолк.
Дэвид спросил:
— Перегородки надёжны?
— Да, да, — пробормотал инженер.
Старр подождал, потом сказал:
— Но вы чем-то не удовлетворены. Это вы хотели сказать доктору Моррису?
Инженер быстро взглянул на Счастливчика, отодвинул свой ящик и сказал:
— Ничего. Забудьте об этом.
Они сидели в углу комнаты. В комнату входили люди, одетые в глубоководные костюмы, снимали шлемы и вытирали вспотевшие лица. Доносились обрывки фраз:
— …осталось не более трёхсот человек. Сейчас мы используем все люки…
— …не можем добраться до него. Пытались всячески. Сейчас с ним говорит его жена, умоляет его…
— Чёрт возьми, рычаг у него в руке. Ему нужно только потянуть за него…
— …Если бы мы только могли добраться на расстояние выстрела. Если бы он не увидел нас раньше…
Тернер, казалось, слушал всё это как зачарованный, но оставался в углу. Он зажег ещё одну сигарету и тут же погасил её.
Наконец он взорвался:
— Вы только поглядите на эту толпу! Для них это забава! Развлечение! Не знаю, что делать. Говорю вам, не знаю. — Он переместил свой ящик в более удобное положение, придвинув его к себе.
— Что это? — строго спросил Старр.
Тернер посмотрел на ящик, будто видел его впервые, потом сказал:
— Это мой компьютер. Особая переносная модель, я сконструировал его сам. — На мгновение беспокойство в его голосе сменилось гордостью. — Другого такого в Галактике нет. Я всегда ношу его с собой. Поэтому я и знаю… — И он снова замолчал.
Дэвид твёрдым голосом спросил:
— Ну ладно, Тернер, что вы знаете? Говорите! Немедленно!
Рука молодого Советника опустилась на плечо инженера, потом пожатие стало сильнее.
Тернер поднял голову, вздрогнул. Советник продолжал спокойно смотреть на него.
— Как вас зовут? — спросил Тернер.
— Дэвид Старр.
Глаза Тернера посветлели.
— Вас называют Счастливчик Старр?
— Да.
— Ладно, я вам скажу, только я не могу говорить громко. Это опасно.
Он зашептал, и Дэвид склонил к нему голову. Люди, торопливо входившие и выходившие, не обращали на них внимания.
Слова Тернера полились торопливо, будто он был рад, что может избавиться от них. Он сказал:
— Стены купола двойные. Каждая сделана из транзита — это самый прочный силиконовый пластик, известный науке. Его поддерживают силовые лучи. Стены могут выдержать невероятное давление. Они совершенно нерастворимы. Они не Разъедаются кислотой. Никакая форма жизни не может удержаться на них. Они не изменят свой химический состав ни под каким воздействием. Между двумя стенами сжатая двуокись Углерода. Она должна поглотить ударную волну, если наружная стена не выдержит, и, конечно, внутренняя стена сама по себе достаточно прочна, чтобы сдержать воду. И наконец весь город разделен на отсеки, так что в случае бреши будет затоплена лишь небольшая его часть.
— Весьма сложная система, — заметил Счастливчик.
— Слишком сложная, — горько заметил Тернер. — Землетрясение, вернее венеротрясение, может расколоть купол надвое, больше ничто ему не повредит. А в этой части планеты не бывает венеротрясений. — Он остановился, чтобы зажечь ещё одну сигарету. Руки его дрожали. — Больше того, каждый квадратный фут купола снабжен датчиками, которые постоянно измеряют влажность между стенами. Малейшая течь — и стрелки на инструментах тут же подпрыгнут. Даже если течь невидимая, микроскопическая. И тут же зазвенят звонки, заревут сирены. И все закричат: «Берегись воды!»
Он криво усмехнулся.
— Берегись воды! Какая насмешка! Я на этой работе десять лет, и за всё время инструменты ожили пять раз. В каждом случае ремонт занял менее часа. В пораженную часть купола направляли насос, откачивали воду, затем заплавляли транзит, добавляя заплату из этого же вещества, и давали ему остыть. После чего купол становился ещё прочнее. Берегись воды! У нас никогда не было даже серьёзной течи.
Счастливчик сказал:
— Я понял. Теперь переходите к делу.
— Дело в излишней самоуверенности, мистер Старр. Мы Оттородили опасный сектор, но насколько прочна перегородка? Мы всегда считали, что опасность может возникнуть постепенно, если во внешней стене образуется небольшая щель. Вода будет медленно просачиваться, и у нас будет достаточно времени, чтобы ликвидировать течь. Никто и не подумал, что можно просто распахнуть шлюз. Вода ворвётся, как стальной прут, со скоростью мили в секунду. Она ударит в промежуточную перегородку, как идущий на полной скорости космический корабль.
— Вы хотите сказать, что перегородка не выдержит?
— Я хочу сказать, что никто не занимался этой проблемой. Никто не рассчитывал напряжения — до последнего часа. Я сделал это, просто чтобы занять время. У меня был с собой компьютер. Он у меня всегда с собой. Поэтому я ввел несколько допущений и принялся за работу.
— Перегородка не выдержит?
— Не могу сказать определённо. Не знаю, насколько верны мои допущения, но думаю, она не выдержит. Нет, не выдержит. Что же нам делать? Если перегородка не выдержит, Афродита погибла. Весь город. Вы, и я, и ещё четверть миллиона людей. Все. Все эти толпы, которые так возбуждены предстоящим зрелищем, все они обречены, если тот человек потянет за рычаг.
Старр с ужасом смотрел на него.
— И давно вы это знаете?
— С полчаса. Но что я могу сделать? Нельзя надеть подводные костюмы на четверть миллиона человек! Я собирался поговорить с Моррисом, может, спасти наиболее ценных людей или женщин и детей. Не знаю, как выбирать тех, кого нужно спасать, но, может, что-то ещё можно сделать. А вы как думаете?
— Не знаю.
Инженер, терзаясь, продолжал:
— Я подумал, может, самому надеть костюм и убраться отсюда. Вообще выбраться из города. Сейчас охрана на шлюзах не так внимательна.
Дэвид попятился от дрожащего инженера, глаза его сузились.
— Великая Галактика! Я был слеп!
Он повернулся и выбежал из комнаты, мозг его был захвачен невероятной мыслью.
Глава 6
СЛИШКОМ ПОЗДНО!
У Верзилы в суматохе закружилась голова. Он упрямо держался за бесконечно перемещавшимся Моррисом и переходил от одной группы людей к другой, слушая разговоры, большую часть которых не понимал из-за своего незнания Венеры.
Моррис действовал безостановочно. Каждую минуту новый человек, новый доклад, новое решение. Прошло всего двадцать минут, как Верзила убежал за ним, а уже с десяток планов был обсуждён и отвергнут.
Человек, только что вернувшийся из опасного сектора, отдуваясь, говорил:
— На него удалось послать направленный луч, мы до него добрались. Он сидит, сжимая рычаг в руке. Сейчас мы передаем голос его жены, сначала по радио, потом по общественной системе, а затем через громкоговоритель. Не думаю, чтобы он слышал. Во всяком случае, он не двигается.
Верзила прикусил губу. Что бы сделал на его месте Счастливчик? Первое, что пришло в голову Верзиле, это подобраться к тому человеку — его имя Поппноу — и пристрелить. Но эта же мысль приходила и другим и была отвергнута. Человек с рычагом заперся изнутри, а помещения, из которых контролировался купол, были очень прочными и предохранялись от вмешательства снаружи. Каждый вход снабжен системой сигнализации, которая питается изнутри. Теперь эта предосторожность действовала в обратном направлении — она увеличивала опасность для Афродиты, а не уменьшала её.
При первом же сигнале, при первом же звонке, Верзила был в этом уверен, рычаг дернется и венерианский океан ворвётся в Афродиту. Не стоило рисковать, пока эвакуация полностью не завершилась.
Кто-то предложил использовать отравленный газ, но Моррис покачал головой без объяснений. Верзила решил, что знает, о чём подумал венерианин. Человек с рычагом не болен, не сошёл с ума, не злобен от природы; он находится под контролем. Значит, существуют два противника. Человек с рычагом сам по себе может ослабеть от газа так, что физически будет не в состоянии дернуть за рычаг, но до этого его слабость отразится в мозгу, и тот, кто его контролирует, приведёт в действие своё оружие до того, как его мышцы выйдут из строя.
— Чего они ждут? — негромко простонал Моррис, а пот ручейками стекал по его щекам. — Если бы можно было направить на него атомную пушку.
Верзила знал, почему и это невозможно. Атомная пушка потребует такой энергии, что уничтожит весь купол, то есть навлечет ту самую опасность, против которой они борются.
Он подумал: «Где же Счастливчик?» А вслух сказал:
— Если нельзя добраться до этого парня, то как насчёт приборов?
— Что вы имеете в виду? — спросил Моррис.
— Отключить энергию. Ведь она нужна, чтобы управлять рычагом.
— Хорошая мысль, Верзила. Но у каждого шлюза автономный источник энергии, расположенный в нём самом.
— А его нельзя отключить снаружи?
— Как? Он там внутри, и каждый квадратный фут защищен сигнализацией.
Верзила взглянул вверх, как будто мысленно видел нависший над ними могучий океан. Он сказал:
— Это герметически закрытый город, как на Марсе. У нас воздух накачивают. А у вас?
Моррис поднес ко лбу платок и медленно вытер его. Он смотрел на маленького марсианина.
— Вентиляционные трубопроводы?
— Да. Ведь один такой должен быть внутри шлюза?
— Конечно.
— А нет ли в нём такого места, где бы можно было перерезать проволоку или вообще что-нибудь сделать?
— Минутку. Если просунуть в трубопровод микробомбу вместо ядовитого газа…
— Этого недостаточно, — нетерпеливо сказал Верзила. — Пошлите человека. Ведь в подводном городе большие трубопроводы. Пройдёт ли через них человек?
— Для этого они слишком велики, — сказал Моррис.
Верзила болезненно сглотнул. Следующее заявление ему дорого стоило.
— Я не так велик, как остальные. Может, пройду.
И Моррис, глядя сверху вниз широко раскрытыми глазами на маленького марсианина, сказал:
— Венера! Вы сможете! Сможете! Идёмте со мной!
Казалось, в Афродите не спит ни один человек. Возле транзитовой перегородки, отделявшей от города опасный сектор, все улицы были забиты людьми. Пришлось натянуть цепи, за которыми беспокойно переминались полицейские со станнерами.
Старр, выбежавший из штаба, занимавшегося ликвидацией опасного положения, был остановлен цепью. На него обрушились сотни впечатлений. Высоко в небе Афродиты без видимой опоры висел плакат, покрытый яркими причудливыми завитушками. Он медленно поворачивался. На нём было витиевато написано:
АФРОДИТА,
ПРЕКРАСНЕЙШИЙ ГОРОД ВЕНЕРЫ,
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!
Рядом двигалась цепочка людей. Они несли разные вещи: набитые чемоданчики, шкатулки для драгоценностей, одежду, переброшенную через руку. Один за другим они поднимались в скиммеры. Ясно было, кто это: беженцы из опасной зоны, захватившие с собой то, что им казалось наиболее ценным. Очевидно, эвакуация шла полным ходом. В цепочке не было ни женщин, ни детей.
Дэвид крикнул проходившему полицейскому:
— Могу ли я получить скиммер?
Полицейский посмотрел на него.
— Нет, сэр, все заняты.
Старр сказал нетерпеливо:
— Дело Совета Науки.
— Ничем не могу помочь. Все скиммеры в городе используются для перевозки этих парней. — Он ткнул пальцем в движущуюся цепочку.
— Это очень важно. Как мне выбраться отсюда?
— Идите пешком, — сказал полицейский.
Счастливчик в досаде сжал зубы. Ни пешком, ни на колесах не пробиться сквозь эту толпу. Выбираться нужно по воздуху, и немедленно.
— Есть ли что-нибудь, чем я могу воспользоваться? Что угодно? — Он почти не обращался к полицейскому, скорее к самому себе, разгневанный, что его так легко одурачил враг.
Полицейский сухо ответил:
— Если хотите, используйте хоппер.
— Хоппер? Где? — Глаза Старра сверкнули.
— Я пошутил, — сказал полицейский.
— А я нет. Где хоппер?
В подвале здания, которое он покинул, нашлось несколько хопперов. Они были разобраны. Послали на подмогу четверых техников, и лучше всех выглядевшая машина была собрана на открытом воздухе. Толпа смотрела с любопытством, послышались ободряющие выкрики:
— Прыгай, хоппер!
Старый призыв на гонках хопперов. Пять лет назад мода на такие гонки пронеслась по Солнечной системе. Повсюду устраивались соревнования, заключались пари. Больше всего этим увлекались на Венере. Вероятно, в подвалах половины домов Афродиты нашлись бы хопперы.
Счастливчик проверил двигатель. Он работал. Дэвид включил мотор и запустил гироскоп. Хоппер немедленно встал и стоял неподвижно на одной ноге.
Хопперы, вероятно, самое гротескное из изобретенных человеком средств передвижения. Они состоят из изогнутого корпуса, едва вмещающего человека. Сверху четырёхлопастный винт, внизу единственная металлическая нога, обутая в резину. Похоже на гигантскую птицу, которая спит на одной ноге, подогнув под себя вторую.
Дэвид нажал кнопку прыжка, и единственная нога втянулась. Корпус опустился, а нога втягивалась в трубу, проходившую сразу за панелью управления. В момент максимального втягивания нога с громким щелчком высвободилась, и хоппер на тридцать футов подпрыгнул в воздух.
Лопасти вверху начали вращаться, и хоппер на долгие секунды завис в воздухе. Старру были видны находившиеся прямо под ним люди. Толпа растянулась на полмили. Значит, придётся сделать несколько прыжков. Губы молодого человека сжались. Уходят драгоценные минуты.
Хоппер опускался, вытянув длинную ногу. Толпа внизу пыталась расступиться, но это было ни к чему. Четыре потока сжатого воздуха размели людей, и нога благополучно приземлилась.
Она ударилась об асфальт и снова втянулась. На мгновение Старр увидел вокруг удивленные лица, потом хоппер снова рванулся вверх.
Дэвиду пришлось признаться себе, что его охватывает возбуждение гонки. В юности он участвовал в нескольких. Опытный прыгун мог бросать своего «коня» в немыслимые прыжки, находя место для ноги там, где его, кажется, не было. Здесь, в покрытых куполами городах Венеры, гонки на хопперах гораздо безопаснее, чем на обширных скалистых, пересеченных местностях Земли.
В четыре прыжка Дэвид перескочил через толпу. Он выключил мотор, и после серии всё уменьшавшихся прыжков хоппер остановился. Счастливчик соскочил с него. Передвижение по воздуху по-прежнему невозможно, но тут он сможет воспользоваться какой-нибудь наземной машиной.
Но будет потеряно ещё немало времени.
Верзила на мгновение остановился, чтобы перевести дыхание. Всё происходило слишком быстро: он скользил по всё ещё круто изгибавшейся трубе.
Двадцать минут назад он сделал предложение Моррису. И вот теперь труба начала сужаться и Верзилу поглотила тьма.
Упираясь локтями, он продвинулся ещё на дюйм вперёд. Пришлось остановиться и посветить фонариком. В рукаве у запястья он держал торопливо начерченный план.
Моррис подал ему руку перед тем, как он полувзобрался, полувспрыгнул в отверстие одной из стен насосной станции. Роторы огромного вентилятора остановили, воздушный поток прекратился.
Когда они обменивались рукопожатиями, Моррис пробормотал:
— Надеюсь, это его не встревожит.
Верзила в ответ улыбнулся и пополз в темноту. Никто не считал нужным говорить очевидное. Верзила окажется по ту сторону транзитового барьера, ту, откуда теперь шла эвакуация. И если рычаг всё-таки опустится, ворвавшаяся вода сокрушит и трубопровод, и стены, как картонные.
Протискиваясь вперёд, Верзила раздумывал, услышит ли он рёв, узнает ли о прорыве, прежде чем вода ударит его. Он надеялся, что нет. Не хотел ждать даже секунду. Если вода придёт, пусть делает своё дело быстро.
Он чувствовал, что стена начала изгибаться. Остановился, чтобы взглянуть на карту; фонарик осветил окружающее пространство холодноватым светом. Это второй поворот, судя по карте, и теперь трубопровод пойдёт вверх.
Верзила выгнулся, следуя за поворотом и не обращая внимания на царапины и ссадины.
— Пески Марса! — пробормотал он. Мышцы ног болели от напряжения, он прижимался коленями к противоположным стенкам трубы, чтобы не соскользнуть вниз. Дюйм за дюймом он продвигался по некрутому подъёму.
Моррис скопировал карту с плана, который поднесли к видеопередатчику в Департаменте общественных работ Афродиты. Он спросил о назначении разноцветных линий и о сопровождающих надписях.
Верзила добрался до одной из усиленных распорок поперек трубопровода. Преграда почти обрадовала его: за неё можно было ухватиться, сомкнуть вокруг руки, уменьшить напряжение ног. Он спрятал карту в рукав и сжал распорку левой рукой. Правой повернул фонарик и поднес его к концу распорки.
Энергия микроатомного двигателя, которая в обычных условиях питала источник света, могла после перенастройки производить силовое поле из противоположного конца фонарика. Это поле было способно мгновенно разрезать любую материальную преграду. Верзила нажал кнопку; он знал, что распорка с одной стороны перерезана.
Поменял руки. Перенес свой резак на другую сторону. Ещё одно прикосновение, и распорка свободно отделилась. Верзила просунул её рядом со своим телом, вниз, к ногам, и выпустил. Она с грохотом скользнула по трубопроводу.
Воды по-прежнему не было. Верзила, тяжело дыша и извиваясь, всё время осознавал это. Миновал ещё две распорки, ещё один поворот. Наконец трубопровод выпрямился, и Верзила добрался до группы отражательных экранов, обозначенных на его схеме. Он преодолел всего около двухсот ярдов, но сколько это заняло у него времени!
А воды по-прежнему не было.
Экраны — попеременно выступающие по обе стороны пластины, которые должны были завихрять воздушный поток, — его последний ориентир. Срезав быстрым движением резака экраны, он остановился. Теперь нужно аккуратно отмерить девять футов от самого дальнего экрана. Он опять использовал фонарик. Его длина — шесть дюймов, и его придётся переместить вдоль стены восемнадцать раз.
Дважды у него соскальзывала рука, и ему приходилось начинать сначала; он полз назад, шёпотом бранясь: «Пески Марса!»
На третий раз ему удалось восемнадцать раз приложить фонарик. Верзила держал палец на стене. Моррис сказал, что нужное место будет находиться прямо у него над головой. Верзила повернул фонарик, провёл рукой по изогнутой внутренней поверхности трубопровода.
Используя вновь фонарик как резак и держа его на некотором расстоянии от стены (нельзя разрезать слишком глубоко), он провёл круг. На него упало вырезанное металлическое кольцо, он отпихнул его в сторону.
Потом посветил фонариком в отверстие и изучил показавшуюся в нём проводку. Чуть подальше за стеной комната, в которой сидит человек с рычагом. Он всё ещё сидит там? Очевидно, он не потянул за рычаг (а чего он ждёт?), иначе Верзила был бы уже мертв. Может, его каким-нибудь образом остановили? И уже увели?
Сухая усмешка показалась на губах Верзилы: он подумал, что, возможно, извивается червяком в этой металлической трубе зря.
Он рассматривал проводку. Где-то здесь находится реле. Мягко потянул за провода, сначала за один, потом за второй. Один слегка подался, и показался маленький чёрный двойной конус. Верзила облегченно вздохнул. Зажав фонарик в зубах, он освободил обе руки.
Осторожно, очень осторожно развернул половинки конуса в противоположном направлении. Магнитозажимы подались, обнажилась внутренность реле. Это предохранитель: два сверкающих контакта, разделенных почти невидимой щелью. Когда рычаг поворачивают, половинки соединяются, энергия проходит по проводу и шлюз открывается. Всё это происходит в миллионную долю секунды.
Верзила покрылся испариной, ожидая, что каждую секунду может наступить роковой момент, когда ему осталось совсем немного. Он порылся в кармане и извлек изолирующую пластмассу. От тепла его тела она уже размягчилась. Он помял её немного и опять очень осторожно поднес к тому месту, где находилась щель. Досчитал до трёх и отдернул руку.
Теперь контакты могут сомкнуться, но между ними окажется тончайшая пластиковая пленка, а через неё ток не пройдёт.
Теперь можно опускать рычаг: шлюз всё равно не откроется.
Смеясь, Верзила пополз назад, прополз мимо остатков экранов, мимо перерезанных распорок, скользнул вниз по спуску…
Верзила отчаянно разыскивал Счастливчика в сумятице, охватившей город. Человек с рычагом находился в тюрьме, транзитовый барьер подняли, население устремилось обратно (большей частью в гневе, как будто администрация города была виновата в случившемся) в дома, которые недавно покинуло. Для толпы, столь мерзко ждавшей катастрофы, исчезновение опасности было сигналом к началу праздника.
Наконец ниоткуда возник Моррис и положил руку на рукав Верзилы.
— Старр вызывает.
Верзила, вздрогнув, спросил:
— Откуда?
— Из моего кабинета в помещении Совета. Я рассказал ему, что вы сделали.
Верзила вспыхнул от удовольствия. Друг будет горд! Он сказал:
— Я хочу поговорить с ним.
— Но лицо Дэвида на экране было мрачно. Он сказал:
— Поздравляю, Верзила. Я слышал, ты был неудержим.
— Ничего, — улыбнулся Верзила. — А где был ты?
Старр сказал:
— Доктор Моррис здесь? Я его не вижу.
Моррис протиснулся к экрану.
— Вот я.
— Я слышал, вы схватили человека с рычагом.
— Да. Благодаря Верзиле.
— Тогда позвольте высказать догадку. Когда вы вошли, он не пытался опустить рычаг. Просто сдался.
— Да. — Моррис нахмурился. — Почему вы догадались?
— Потому что весь эпизод со шлюзом был отвлекающим манёвром. Настоящий ущерб должен был произойти здесь. Поняв это, я поспешил сюда. Мне пришлось использовать хоппер, чтобы миновать толпу, и захватить машину на остальной части пути.
— И что? — с беспокойством спросил Моррис.
— Я опоздал! — ответил Счастливчик.
Глава 7
ВОПРОСЫ
День кончился. Толпа рассеялась. Город приобрел спокойный сонный вид, только кое-где виднелись небольшие группы людей, всё ещё обсуждавших происшествия последних нескольких часов.
Верзила чувствовал раздражение.
Вместе с Моррисом они покинули район недавней опасности и примчались в штаб-квартиру Совета. Здесь у Морриса было совещание со Старром; на нём Верзиле не разрешили присутствовать, и венерианин вышел с него мрачным и рассерженным. Дэвид оставался спокоен, но неразговорчив.
Даже когда они остались одни, он только сказал:
— Пошли назад в отель. Мне нужно поспать, да и тебе тоже после твоей сегодняшней забавы.
Он негромко напевал марш Совета, как часто делал при размышлении. Они остановили проезжавшую машину. Когда фотоэлектрические сканнеры машины зарегистрировали изображение вытянутой руки, она автоматически остановилась.
Счастливчик пропустил Верзилу вперёд. Он набрал координаты отеля «Бельвью-Афродита», опустил нужную комбинацию монет и предоставил всё остальное компьютеру машины. Скорость он установил малую.
Машина начала приятное, ровное движение. Верзиле это понравилось бы, и он смог бы отдохнуть, если бы не любопытство.
Маленький марсианин бросил взгляд на своего большого друга. Того, казалось, интересовали только отдых и размышления. Он откинулся в кресле и закрыл глаза, покачиваясь в такт движению, а отель всё приближался, потом стал огромным ртом, который проглотил их, когда машина автоматически отыскала вход в гараж отеля.
Только когда они оказались в своём номере, Верзила достиг точки кипения. Он воскликнул:
— Счастливчик, что всё это значит? Я сойду с ума, пытаясь догадаться.
Дэвид снял рубашку и сказал:
— Это простая логика. Что до сегодняшнего дня происходило с людьми, оказавшимися под умственным контролем? О чём нам рассказал Моррис? Человек раздал все свои деньги. Другой уронил тюк с водорослями. Третий поместил в дрожжи ядовитый раствор. В каждом случае действие было небольшим, но это было действие. Что-то происходило.
— Ну и что?
— А что сегодня? Совсем не нечто незначительное. Наоборот, очень значительное. Но не действие. Нечто противоположное: человек положил руку на рычаг, открывающий шлюз, и ничего не делал. Ничего!
Старр исчез в ванной, и Верзила услышал шум игольчатого душа и его выдохи под ударами вселяющих бодрость струй. Наконец Верзила последовал за ним, свирепо бормоча что-то про себя.
— Эй! — крикнул он.
Дэвид, высушивая своё мускулистое тело в обжигающих потоках воздуха, спросил:
— Ты понял?
— Великий космос, Счастливчик, перестань говорить загадками. Ты знаешь, мне это не нравится.
Но тут нет ничего загадочного. Те, кто устанавливает контроль, полностью сменили тактику, и для этого должна быть причина. Разве ты не понимаешь, по какой причине этот человек сидел с рычагом в руке и ничего не делал?
— Не понимаю.
— Чего они этим добились?
— Ничего.
— Ничего? Великая Галактика! Ничего? Они собрали половину населения Афродиты и буквально всех чиновников в одном районе. Там были и мы с тобой, и Моррис. Большая часть города, включая штаб-квартиру Совета, осталась без наблюдения. И я оказался тупицей! Только когда Тернер, главный инженер, упомянул, как легко теперь было бы выбраться из города, мне пришло в голову объяснение.
— Но я по-прежнему не понимаю. Помоги мне, Счастливчик. Я могу…
— Спокойней, парень. — Дэвид перехватил кулак Верзилы. — Вот в чём дело. Я как можно быстрее вернулся в штаб-квартиру Совета и обнаружил, что Лу Эванс уже исчез.
— Куда его перевели?
— Ты имеешь в виду Совет? Никуда. Он сбежал. Обезоружил охранника, использовал свой знак Совета на запястье, чтобы получить корабль, и ушёл в море.
Значит, этого они добивались?
— Очевидно. Угроза городу была фальшивой. Как только Эванс оказался в океане, человека с рычагом выпустили из-под контроля, и он сдался.
Верзила заговорил:
— Пески Марса! И вся эта работа в трубопроводе была ни к чему! Я четырежды дурак!
— Нет, Верзила, — серьёзно сказал Старр. — Ты прекрасно поработал, и я сообщу об этом Совету.
Маленький марсианин вспыхнул, на мгновение гордость вытеснила в нём всё остальное. Дэвид воспользовался этой возможностью, чтобы лечь в постель.
Потом Верзила сказал:
— Но это значит… я хочу сказать, что, если советник Эванс сбежал при помощи этих, контролирующих мозг, значит, он виновен?
— Нет, — горячо ответил Старр, — он не виновен.
Верзила ждал, но Дэвид не собирался продолжать, и инстинкт подсказал Верзиле, что не нужно настаивать. Только после того, как он разделся, принял душ и лег на прохладные пластексовые простыни, он попробовал снова.
— Счастливчик?
— Да, Верзила.
— Что мы делаем дальше?
— Идём за Лy Эвансом.
— А Моррис?
— Теперь расследование возглавляю я. Я получил подтверждение с Земли, от главы Совета Конвея.
Верзила в темноте кивнул. Это объясняло, почему ему не разрешили принять участие в конференции. Хотя он и был другом Старра, но не был членом Совета. А в ситуации, когда Старру пришлось отстранить главу местной секции и использовать авторитет Земли для этого, всякий посторонний был нежелателен.
Но в Верзиле уже ожила жажда деятельности. Теперь в океан, глубочайший, чужой океан одной из внутренних планет. Верзила возбуждённо сказал:
— Когда отправимся?
— Как только будет готов корабль. Но вначале повидаемся с Тернером.
— С инженером? А зачем?
— У меня есть данные обо всех людях, участвовавших в происшествиях до сегодняшнего дня. Нужны такие же данные и о человеке с рычагом. Тернер должен его хорошо знать. Но до Тернера…
— Да?
— До этого, марсианский коротышка, мы поспим. Так что заткнись!
Квартира Тернера располагалась в большом жилом доме, в котором жили высокопоставленные представители администрации. Верзила негромко свистнул, когда они оказались в вестибюле с его крытыми панелями стенами и роскошными морскими пейзажами. Счастливчик прошёл в лифт и набрал номер квартиры Тернера.
Лифт поднял их на пятый этаж, потом двинулся по горизонтали, скользнул по направляющему силовому лучу и застыл У входа в квартиру Тернера. Они вышли, и лифт со свистом исчез за поворотом коридора.
Верзила удивленно посмотрел ему вслед.
— Никогда раньше таких не видел.
— Венерианское изобретение, — сказал Дэвид. — Теперь такие делают и в новых домах на Земле. В старых нельзя, пришлось бы перестраивать всё здание.
Старр коснулся индикатора, который немедленно покраснел. Дверь открылась, на них смотрела женщина. Стройная, молодая и очень хорошенькая, с голубыми глазами и светлыми волосами, убранными за уши по венерианской моде.
— Мистер Старр?
— Совершенно верно, миссис Тернер, — ответил он. Перед ответом он немного поколебался: женщина слишком молода, чтобы быть женой Тернера.
Но она дружески улыбнулась.
— Входите. Муж ждёт вас, но он спал не больше двух часов и ещё не вполне…
Они вошли, дверь за ними закрылась.
Дэвид сказал:
— Простите, что тревожим вас так рано, но дело срочное, и мы не задержим мистера Тернера надолго.
— О, всё в порядке, я понимаю. — Она суетливо прошлась по комнате, поправляя то, что не требовало поправок.
Верзила с любопытством осматривался. Квартира женская — цветистая, разукрашенная, почти хрупкая. Заметив, что хозяйка смотрит на него, он смутился и неуклюже сказал:
— Красивая у вас квартирка, мисс… э… мэм…
Она мило улыбнулась и ответила:
— Спасибо. Лайману не очень нравится, как я всё устроила, но он не возражает, а я так люблю безделушки и всякие украшения. А вы?
Счастливчик спас Верзилу, спросив:
— А давно вы живёте здесь с мистером Тернером?
— Как поженились. Меньше года. Хороший дом, лучший в Афродите. Абсолютно независимое бытовое хозяйство, свой гараж для каботажных судов, своё внутреннее радио. Даже подвальные комнаты. Представляете себе? Подвальные комнаты! Их никогда не используют. Даже прошлой ночью не использовали. Так я думаю. Но точно сказать не могу, потому что всё проспала. Можете себе представить? Даже не слышала ничего, пока Лайман не пришёл домой.
— Наверное, так даже лучше, — сказал Дэвид. — Вы избежали страха.
— Я избежала интересного происшествия, хотите вы сказать, — возразила она. — Все знали об этом, одна я спала. Всё проспала. И никто меня не разбудил. Это ужасно.
— Что ужасно? — послышался новый голос, и в комнату вошёл Лайман Тернер. Волосы его были взъерошены, невзрачное лицо смято, в глазах остатки сна. Свой драгоценный компьютер он принес под мышкой и сунул под стул, на который сел.
— Что я всё пропустила, — ответила его жена. — Как ты, Лайман?
— Неплохо, учитывая все обстоятельства. И не жалей, что пропустила. Я рад этому… Здравствуйте, Старр. Простите, что задержал вас.
— Мы только что пришли, — ответил Дэвид.
Миссис Тернер подошла к мужу и поцеловала его в щеку.
— Оставляю вас одних.
Тернер погладил жену по плечу и проводил её страстным взглядом. Он сказал:
— Ну, джентльмены, простите, что заставил вас ждать, но в последние несколько часов мне пришлось нелегко.
— Я это вполне понимаю. Какова ситуация с куполом?
Тернер потёр глаза.
— Мы удвоили смену у каждого шлюза и делаем контроль за входом менее автоматическим. Это противоречит развитию инженерной мысли за последнее столетие. Силовые линии проводим из разных районов города, так чтобы можно было отключить питание на расстоянии, если подобное повторится. И, конечно, будут усилены транзитовые перегородки во всех районах города… Вы курите?
— Нет, — сказал Счастливчик, а Верзила покачал головой.
Тернер сказал:
— Передайте, пожалуйста, сигарету из раздаточного устройства — вон из той рыбы. Верно. Один из капризов моей жены. Ничто её не остановит, когда нужно достать такую штуку, но она ими наслаждается. — Он слегка покраснел. — Я поздно женился и, боюсь, всё ещё балую её.
Дэвид с любопытством посмотрел на странную рыбу, вы-резанную из зеленого, похожего на камень материла; когда он нажал на спинной плавник, то рта рыбы показалась сигарета.
Тернер закурил. Он скрестил ноги и медленно шевелил ими над своим компьютером.
Старр спросил:
— Что нового о человеке, который всё это совершил?
— Он обследуется. Очевидно, душевнобольной.
— У него было что-нибудь подобное раньше?
— Нет. Это я проверил в первую очередь. Я ведь главный инженер и отвечаю за весь персонал.
— Знаю. Поэтому я и пришёл к вам.
— Я бы хотел вам помочь, но это самый обычный работник. Он у нас около семи месяцев и никогда не доставлял никаких беспокойств. В сущности, у него отличные анкетные данные; он человек спокойный, непритязательный, скромный.
— Всего семь месяцев?
— Да.
— Он инженер?
— Считается инженером, но его работа состояла главным образом в охране шлюза. Здесь ведь большое движение. Шлюз надо открывать и закрывать, проверять документы, делать записи. Тут многое нужно делать.
— А инженерный опыт у него есть?
— Только курс в колледже. Это его первая работа. Он совсем молод.
Счастливчик кивнул. Потом небрежно заметил:
— Как я понял, в городе произошло несколько странных происшествий.
— Да? — Тернер пожал плечами. — Мне редко приходится смотреть новости.
Зазвучал коммуникатор. Тернер поднял трубку и прижал её на мгновение к уху.
— Это вас, Старр.
Дэвид кивнул.
— Я сообщил, что буду у вас. — Он не потрудился активировать экран. Сказал: — Старр слушает.
Потом положил трубку и встал.
— Мы уходим.
Тернер тоже встал.
— Хорошо. Если я смогу быть вам полезен, дайте знать.
— Спасибо. Передайте привет супруге.
Выйдя из здания, Верзила спросил:
— Что случилось?
— Корабль готов, — ответил Счастливчик, останавливая машину.
Они сели, и Верзила вновь нарушил молчание.
— Узнал что-нибудь у Тернера?
— Кое-что, — коротко ответил Счастливчик.
Верзила беспокойно поерзал и сменил тему:
— Надеюсь, мы найдем Эванса.
— Я тоже.
— Пески Марса, он в трудном положении. Чем больше думаю, тем всё больше мне так кажется. Виновен он или нет, но плохо, когда начальник требует твоего смещения по обвинению во взяточничестве.
Дэвид повернул голову и взглянул на Верзилу.
— Моррис не посылал никакого сообщения в центральную штаб-квартиру. Я думал, ты это понял из нашего вчерашнего разговора с ним.
— Не посылал? — недоверчиво переспросил Верзила. — Тогда кто же послал?
— Великая Галактика! — сказал Счастливчик. — Это же очевидно. Послал сам Лу Эванс, использовав имя Морриса.
Глава 8
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЧЛЕН СОВЕТА!
Старр быстро приноровился к приборам и управлял стройным подводным кораблем с всё большей уверенностью, начиная ощущать море вокруг себя.
Люди, предоставившие ему корабль, хотели провести хотя бы краткий курс обучения, но Дэвид улыбнулся и ограничился несколькими вопросами, тогда как Верзила с обычным бахвальством воскликнул:
— Нет ничего движущегося, чем не смогли бы управлять Счастливчик и я.
Впрочем, это было почти правдой.
Корабль — назывался он «Хильда» — плыл теперь по инерции, двигатели его были выключены. Он легко разрезал чернильную черноту венерианского океана. Плыли вслепую. Мощные прожекторы корабля не включались ни разу. Радар же, наоборот, непрерывно просвечивал раскрывавшуюся перед ними пропасть и давал более точную и ценную информацию, чем мог бы дать свет.
Параллельно с радаром действовали передатчики микроволн, способных максимально отразиться от металлического корпуса подводного корабля. На расстояния в сотни миль эти микроволны простирали свои ищущие пальцы то в одном, то в другом направлении, отыскивая специфическое отражение, которое свидетельствовало бы о наличии металла.
Но пока такого отражения не было, и «Хильда» опустилась на ил, на глубину в полмили, и застыла неподвижно; лишь изредка её слегка покачивали могучие подводные течения венерианского океана.
За первый час Верзила едва ли вспомнил о микроволнах и объекте их поиска. Он был поглощен зрелищем, открывшимся в иллюминаторах.
Подводная жизнь Венеры фосфоресцирует, и чёрные глубины океана были усеяны разноцветными огоньками гуще, чем космос звёздами; огоньки были больше, ярче, и, что самое главное, они двигались. Верзила прижал нос к толстому стеклу и застыл, очарованный.
Некоторые из этих огоньков представляли собой маленькие круглые пятна, двигавшиеся неровными зигзагами. Другие — стремительные линии. Третьи — морские ленты, такие же, как те, что Счастливчик и Верзила видели в «Зеленом зале».
Спустя немного времени Дэвид присоединился к Верзиле. Он сказал:
— Я попытался освежить в памяти свой ксенологический курс…
— Твой что?
— Наука о внеземной жизни, Верзила. Я только что просмотрел книгу о венерианской фауне. Она у тебя на койке, если захочешь прочитать.
— Ну неважно. Я согласен узнать от тебя.
— Хорошо. Можем начать с этих маленьких объектов. Мне кажется, это стая пуговиц.
— Пуговиц? — переспросил Верзила. Потом сказал: — А, понимаю.
В чёрном поле иллюминатора передвигалось множество светящихся желтых овалов. На каждом виднелись две чёрные параллельные линии. Овалы передвигались короткими рывками, останавливались на мгновение и прыгали снова. Десятки их прыгали и останавливались одновременно, так что у Верзилы появилось головокружительное ощущение, будто пуговицы совсем не двигаются, но каждые полминуты прыгает их корабль.
Счастливчик сказал:
— Мне кажется, они откладывают яйца. — Помолчал немного и добавил: — Но большинство существ я не могу определить. Погоди! Вот это должно быть «алое пятно». Видишь вон там? Тёмно-красное существо с неправильными очертаниями? Оно поедает пуговицы. Следи за ним.
Светящиеся пуговицы заметались, почувствовав присутствие хищника, но десятки их были настигнуты алым пятном. На некоторое время единственным источником света в иллюминаторе оставалось это пятно. Пуговицы разлетелись во все стороны.
— Пятно напоминает по форме выгнутый блин, — сказал Дэвид, — так сказано в книге. Это всего лишь кожа и крохотный мозг в центре. Оно всего в дюйм толщиной. Можно прорвать его насквозь в десяти местах, и оно даже не заметит. Видишь, какой неправильной формы эта особь? Наверное, его жевала рыба-стрела.
Алое пятно двинулось и ушло из поля их зрения. После себя оно мало что оставило; только слабо светились одна-две умирающие пуговицы. Мало-помалу поле зрения вновь заполнилось пуговицами.
Старр сказал:
— Алое пятно просто садится на дно, прижимает края своего тела к илу и всасывает и переваривает всё, что накроет. Есть другой вид — оранжевое пятно; оно гораздо агрессивнее. Оно может выбросить струю воды, которая сбивает с ног человека, хотя само оно в фут размером и не толще бумажного листа. Есть и большие, они гораздо опаснее.
— А насколько они велики? — спросил Верзила.
— Не имею ни малейшего представления. В книге говорится, что иногда поступают сообщения о настоящих чудовищах — рыбы-стрелы в милю длиной или пятна, которые могут покрыть Афродиту. Но эти наблюдения, разумеется, не подтверждены.
— В милю длиной! Неудивительно, что наблюдения не подтверждаются.
Брови Счастливчика приподнялись.
— Это вполне возможно. То, что мы видим, обитатели мелководья. А венерианский океан местами достигает десяти миль в глубину. Там хватит места для всего.
Верзила с сомнением посмотрел на него.
— Послушай, ты пытаешься продать мне тюк космической пыли. — Он отвернулся и отошёл. — Пожалуй, я всё же посмотрю книгу.
«Хильда» переместилась и заняла новую позицию, а микроволны продолжали свой поиск. Потом ещё одно перемещение. И ещё. Дэвид медленно обследовал подводное плато, на котором стояла Афродита.
Старр мрачно ждал у приборной доски. Где-то там должен находиться его друг Лу Эванс. Корабль Эванса не может передвигаться ни в воздухе, ни в космосе, не может погружаться больше чем на две мили, поэтому он должен держаться относительно мелких вод на плато Афродиты.
Он в который раз повторял это «должен», когда его глаз уловил вспышку отражения. Стрелка указателя направления застыла, а ответный звуковой сигнал слышался всё отчетливее.
Верзила немедленно положил руку на плечо Счастливчику.
— Вот он! Вот он!
— Может быть, — ответил Дэвид. — А может, другой корабль или даже остатки кораблекрушения.
— Определи его положение, Счастливчик. Пески Марса, определи его положение!
— Я это делаю, сейчас начнем двигаться.
Верзила почувствовал ускорение, услышал шум винта.
Дэвид наклонился над передатчиком, в голосе его звучало напряжение:
— Лу! Лу Эванс! Говорит Счастливчик Старр! Отвечай! Лу! Лу Эванс!
Снова и снова проносились эти слова по эфиру. Возвратный сигнал микроволн становился всё ярче, расстояние между кораблями сокращалось.
Никакого ответа.
Верзила сказал:
— Корабль не движется. Может, это на самом деле затонувший корабль. Если бы советник был там, он либо ответил бы, либо постарался бы уйти от нас.
— Тшш! — сказал Дэвид. Он негромко и убедительно заговорил в передатчик: — Лy! Нет смысла прятаться. Я знаю правду. Я знаю, почему ты от имени Морриса послал требование о собственном отзыве на Землю. И я знаю, кто, по-твоему, враг. Лу Эванс! Отвечай!..
В приёмнике послышался треск. Потом звуки сложились в слова:
— Не приближайся. Если ты всё знаешь, не приближайся.
Счастливчик облегченно улыбнулся. Верзила радостно завопил.
— Мы его поймали! — закричал маленький марсианин.
— Мы идём к тебе, — сказал Дэвид в передатчик. — Держись. Вдвоем — ты и я — мы справимся.
Послышался ответ:
— Ты не… не понимаешь… я пытаюсь… — Потом почти крик: — Ради Земли, Счастливчик, не приближайся! Не подходи ближе!
И больше ничего. «Хильда» неуклонно сближалась с кораблем Эванса. Дэвид, нахмурившись, откинулся. Он прошептал:
— Если он так боится, почему не бежит?
Верзила не слышал этого. Он радостно заговорил:
— Отлично, Счастливчик! Твой блеф заставил его заговорить!
— Я не блефовал, Верзила, — мрачно ответил Дэвид. — Я знаю основные факты и их причины. И ты знал бы, если бы потрудился подумать.
Верзила потрясенно спросил:
— О чём это ты?
— Помнишь, когда мы с тобой и доктором Моррисом вошли в маленькую комнату, чтобы подождать, пока приведут Эванса. Помнишь, что случилось?
— Нет.
— Ты рассмеялся. Сказал, что я странно выгляжу без усов. И я почувствовал точно то же самое относительно тебя. Я так и сказал. Помнишь?
— Конечно, помню.
— А ты не удивился этому? Мы часами смотрели на людей с усами. Почему же эта мысль пришла нам одновременно именно в этот момент?
— Не знаю.
— Допустим, эта мысль пришла кому-то обладающему телепатическими способностями. Допустим, удивление передалось из его мозга в наши.
— Ты хочешь сказать, что один из этих, контролирующих мозг, находился с нами в комнате?
— Разве это не объяснение?
— Но это невозможно. Там был только доктор Моррис… Дэвид! Ты ведь не доктора Морриса имеешь в виду?
— Моррис смотрел на нас часами. Почему бы он вдруг удивился отсутствию у нас усов?
— Значит, кто-то прятался?
— Не прятался, — сказал Дэвид. — В комнате было ещё одно живое существо, на самом видном месте.
— Нет! — воскликнул Верзила. — О нет! — Он разразился хохотом. — Пески Марса, не венлягушку ты имеешь в виду?
— А почему бы и нет? — спокойно спросил Старр. — Мы, вероятно, первые мужчины без усов, которых она увидела. И удивилась.
— Но это невозможно.
— Неужели? Они живут по всему городу. Люди собирают их, кормят, любят. Но на самом ли деле они их любят? Или венлягушки своим умственным контролем внушают людям, чтобы о них заботились и кормили их?
— Великий космос, Счастливчик! — сказал Верзила. — Ничего удивительного, что люди их любят. Они сообразительны. Совсем не нужно для этого гипнотизировать людей.
— Они тебе сразу понравились, Верзила? Ничто тебя не заставляло?
— Я уверен, что ничто не заставляло. Просто они мне понравились.
— Просто понравились. Через две минуты после того, как ты увидел первую венлягушку, ты кормил её. Помнишь?
— Ну и что тут плохого?
— А чем ты её кормил?
— Тем, что ей нравится. Горохом в жи… — Голос маленького человека смолк.
— Совершенно верно. Это было настоящее техническое масло. Оно так и пахло. Как же тебе пришло в голову обмакнуть в него горох? Ты всегда кормишь тавотом или техническим маслом животных? Знаешь какое-нибудь животное, которое ело бы тавот?
— Пески Марса! — слабо сказал Верзила.
— Разве не очевидно, что венлягушка захотела тавота, ты был под рукой, и она заставила тебя дать ей… и ты в это время не был хозяином самого себя?
Верзила прошептал:
— Я бы ни за что не догадался. Но теперь, после твоего объяснения, всё так ясно. Я себя ужасно чувствую.
— Почему?
— Ужасно, когда мысли животного в твоей голове. Это грязно. — Его проказливое маленькое лицо выразило отвращение.
Дэвид сказал:
— К несчастью, это хуже, чем просто грязно.
И он повернулся к приборам.
Приборы показали, что расстояние между кораблями меньше полумили, и в этот момент на радаре появилось изображение корабля Эванса.
Старр сказал в передатчик:
— Эванс, мы тебя видим. Двигаться можешь? Или твой корабль лишен движения?
В ответном голосе слышалось сильное чувство:
— Да поможет мне Земля, Дэвид, я делал всё, чтобы предупредить тебя. Ты пойман! Пойман, как и я!
И, как бы подчеркивая его крик, «Хильда» полетела в сторону, и от сильного удара двигатели её вышли из строя.
Глава 9
ИЗ ГЛУБИНЫ
Впоследствии в памяти Верзилы события следующих нескольких часов виделись как в перевернутом телескопе — далекий кошмар невероятных происшествий.
Неожиданным ударом Верзилу отбросило к стене. Очень долго, как ему показалось, — на самом деле прошло не больше секунды — лежал он, расставив руки и тяжело дыша.
Счастливчик от приборной доски крикнул:
— Главный генератор не работает.
Верзила с трудом встал на накренившемся полу.
— Что случилось?
— Мы повреждены ударом. Это очевидно. Но я не знаю, насколько сильно.
Верзила сказал:
— Огни горят.
— Знаю. Включились запасные генераторы.
— А главный двигатель?
— Не знаю. Пытаюсь проверить.
Где-то внизу и сзади хрипло кашлянул двигатель. Но вместо ровного гудения послышался дребезг, от которого у Верзилы заболели зубы.
«Хильда» встряхнулась, как раненое животное, и выпрямилась. Двигатели снова стихли.
Передатчик что-то повторял, и у Верзилы хватило сил добраться до него.
— Старр, — послышалось из передатчика, — Счастливчик Старр! Говорит Эванс. Отвечай.
— Счастливчик говорит. Что нас ударило?
— Это не имеет значения, — послышался усталый голос. — Больше оно вас не побеспокоит. Позволит вам просто остаться здесь и умереть. Почему вы не держались подальше? Я ведь просил.
— Твой корабль повреждён, Эванс?
— Да, уже двенадцать часов. Ни света, ни энергии — совсем ничего, но я сумел оживить радио. Впрочем, его ненадолго хватит. Очистители воздуха разбиты, а запасов кислорода мало. Прощай, Дэвид.
— Выбраться можешь?
— Механизм шлюза не действует. У меня есть подводный костюм, но, если я попытаюсь выбраться, меня раздавит.
Верзила знал, что имеет в виду Эванс, и невольно вздрогнул. Шлюзы подводных кораблей устроены так, что вода поступает в камеру очень-очень медленно. Открыть шлюз на дне в попытке выбраться означает получить удар воды под давлением в сотни тонн. Человек, даже в стальном костюме, будет раздавлен, как пустая жестянка под прессом.
Старр сказал:
— Мы можем двигаться. Я иду к тебе. Соединим шлюзы.
— Спасибо, но зачем? Если вы двинетесь, вас ударит снова. Но даже если не ударит, какая разница, где умереть: быстро в моем корабле или медленно в вашем?
Дэвид гневно ответил:
— Если понадобится, мы умрем, но не раньше, чем это будет необходимо. Все когда-нибудь умрут; этого не избежишь, но сдаваться не обязательно.
Он повернулся к Верзиле.
— Отправляйся в машинное отделение и посмотри, что там неисправно. Мне нужно знать, можно ли отремонтировать двигатель.
В машинном отделении, работая с «горячим» микрореактором при помощи манипуляторов, которые, к счастью, не вышли из строя, Верзила чувствовал, как корабль ползет по дну, слышал хрип двигателей. Один раз он услышал удар, корпус «Хильды» заскрипел, как будто большой снаряд ударил в дно в ста метрах от корабля.
Корабль остановился, шум мотора перешёл в хриплый шёпот. В воображении он видел, как выдвинулось удлинение входного шлюза «Хильды», прижалось к корпусу другого корабля, закрыв дверь от воды, и плотно прилипло. Он слышал, как откачивается вода из трубы, соединившей два корабля, увидел, как потускнел свет в машинном отделении: вся энергия уходила к насосам. Лy Эванс сможет перейти из своего корабля в «Хильду» без всякой защиты.
Верзила вернулся в рубку и обнаружил там Лy Эванса. Лицо его под светлой щетиной было измучено и осунулось. Он слабо улыбнулся Верзиле.
— Продолжай, Лу, — сказал Старр.
Эванс сказал:
— Вначале была просто дикая догадка. Я собрал сведения о всех людях, с которыми случались эти странные происшествия. Единственное, что у них оказалось общего, — любовь к венлягушкам. Они есть у всех на Венере, но каждый из этих держал их полный дом. Я не хотел выглядеть дураком, объявляя о своей теории без надёжных доказательств. Если бы они у меня были… Во всяком случае, я решил поймать венлягушку на знании того, что знаю только я или ещё несколько, как можно меньше людей.
Счастливчик сказал:
— И ты решил использовать данные о дрожжах.
— Это было очевидно. Мне нужно было что-то неизвестное другим, иначе как бы я мог быть уверен, что они узнали именно от меня? Данные о дрожжах — идеальный материал для этого. Когда не удалось получить их законным путем, я украл их. Взял одну из венлягушек в штаб-квартире, посадил рядом со своим столом и стал просматривать документы. Некоторые даже читал вслух. Когда через два дня произошёл несчастный случай именно с той разновидностью, о которой я читал, я уверился, что за всем этим стоят венлягушки. Однако…
— Однако, — подбодрил его Счастливчик.
— Однако я был всё же недостаточно умён, — сказал Эванс, — я допустил их в свой мозг. Разложил красный ковер и пригласил войти, а теперь не могу выгнать. Охранники пришли за документами. Было известно, что я побывал в помещении, поэтому очень вежливый агент пришёл расспросить меня. Я немедленно вернул бумаги и попытался объяснить. И не смог.
— Не смог? Как это?
— Не смог. Физически не смог. Нужные слова не произносились. Я не мог ни слова сказать о венлягушках. Я даже испытывал побуждения к самоубийству, но поборол их. Они не могли заставить меня сделать что-то настолько несвойственное моему характеру. И тогда я подумал: если я только смог бы вылететь с Венеры, уйти как можно дальше от венлягушек, я избавился бы от их хватки. Поэтому сделал то, что должно было вызвать мой немедленный отзыв. Послал сообщение, в котором обвинялся во взяточничестве и подкупе, и подписался именем Морриса.
— Да, — мрачно сказал Дэвид, — об этом я догадался.
— Как? — Эванс удивился.
— Моррис рассказал нам твою историю, когда мы прибыли в Афродиту. Закончил он словами о том, что подготовил отчет для центральной штаб-квартиры. Он не сказал, что послал отчет, только что подготовил его. Но послание было отправлено, это я знал. А кто, кроме Морриса, знал код Совета и все обстоятельства этого случая? Только ты.
Эванс кивнул и горько сказал:
— И вместо того, чтобы отозвать меня, прислали тебя. Так?
— Я настоял на этом, Лy. Я не мог поверить в то, что ты взяточник.
Эванс обхватил голову руками.
— Хуже ты ничего не мог сделать, Дэвид. Когда ты сообщил, что летишь, я попросил тебя держаться подальше. Почему — я не мог сказать. Физически был не способен. Но венлягушки, должно быть, поняли по моим мыслям, кто ты такой. Они прочли моё мнение о твоих способностях и попытались убить тебя.
— И почти преуспели, — прошептал Старр.
— Теперь уж точно преуспеют. Мне жаль, но я ничего не мог сделать. Когда они парализовали человека у шлюза, я не мог сдержать импульс сбежать в море. И, конечно, ты последовал за мной. Я послужил наживкой, а ты жертвой. Опять я попытался удержать тебя, но ничего не мог объяснить…
Он глубоко, прерывисто вздохнул.
— Но теперь я могу об этом говорить. Блок с моего мозга снят. Они, вероятно, решили, что не стоит тратить умственную энергию, потому что мы захвачены, потому что мы всё равно что мертвы и им нечего нас опасаться.
Верзила, слушавший до сих пор с выражением недоверчивого изумления, сказал:
— Пески Марса, что происходит? Почему мы всё равно что мертвы?
Эванс, всё ещё закрывая лицо руками, ничего не ответил.
Дэвид, задумчивый и мрачный, сказал:
— Мы под оранжевым пятном, огромным оранжевым пятном из венерианских глубин.
— Такое большое пятно, что может накрыть корабль?
— Пятно двух миль в диаметре! — ответил Счастливчик. — Две мили в ширину. Нас ударило в первый раз и почти разбило вторым ударом, когда мы двигались к кораблю Эванса, потоком воды. Только и всего! Потоком воды с силой взрыва глубоководной бомбы.
— Но как мы могли попасть под него, не видя его?
Старр сказал:
— Эванс предполагает, что оно находится под умственным контролем венлягушек, и я думаю, он прав. Оно может погасить флюоресценцию, сжав светящиеся клетки. Может приподнять край полога, чтобы впустить нас, — и вот мы под ним. И если мы попробуем двинуться или пробиться наружу, пятно снова ударит нас, а оно не промахивается.
Дэвид подумал, потом внезапно добавил:
— Нет, промахивается! Оно промахнулось, когда «Хильда» шла к твоему кораблю и всего лишь на четверти скорости. — Он повернулся к Верзиле, глаза его сузились. — Верзила, можно ли отремонтировать основной двигатель?
Верзила почти забыл о машинах. Он пришёл в себя и сказал:
— О… блок микрореактора не задет, его можно поправить, да и с остальными машинами я справлюсь, если понадобится.
— Сколько это займет времени?
— Вероятно, часы.
— Тогда принимайся за работу. Я выхожу в море.
Эванс удивленно взглянул на него.
— Что ты хочешь сделать?
— Я отправляюсь к пятну. — Он уже был возле шкафа с костюмами, проверяя запас энергии и кислорода.
Абсолютная темнота вызывала обманчивое ощущение безопасности. Опасность казалась далекой. Но Старр хорошо знал, что под ним океанское дно, а во все стороны и вверх от него находится двухмильная перевернутая чаша живой резиноподобной плоти.
Двигатель костюма отбрасывал воду вниз, и Дэвид, подготовив своё оружие, медленно поднимался. Он не переставал удивляться подводному бластеру. Как ни изобретателен был человек на своей родной планете, чуждое окружение Венеры, казалось, в сотни раз усилило эту изобретательность.
Некогда новый континент — Америка — расцвел так ярко, как никогда не могла расцвести древняя Европа; теперь же Венера показывала Земле свои способности. Например, купола городов. Никогда на Земле силовые поля не вплетали так искусно в сталь. Тот самый костюм, в котором он находится, не выдержал бы давления многих тонн воды, если бы не микрополя, тонко вплетенные в его ткани (конечно, если это давление будет возрастать медленно). И во многих других отношениях костюм был чудом инженерного искусства. Его двигатель Для передвижения под водой, снабжение кислородом, приборы управления — всё это восхитительно.
А оружие!
Тут же мысли Счастливчика перешли на чудовище над ним. Это тоже венерианское изобретение. Изобретение планетарной эволюции. Может ли такое существо возникнуть на Земле? Конечно, не на суше. Живая ткань не выдержит давления свыше сорока тонн в земном тяготении. У гигантских бронтозавров мезозойского периода ноги были как древесные стволы, и тем не менее им приходилось погружаться в болота, чтобы вода помогала им своей подъёмной силой передвигаться.
Вот ответ: подъёмная сила воды. В океанах могут возникнуть существа любого размера. Киты на Земле больше любого когда-либо жившего динозавра. Но Дэвид подсчитал, что чудовищное пятно над ним должно весить двести миллионов тонн. Два миллиона больших китов, взятых вместе, едва ли перевесят это чудовище. Старр подумал, сколько ему лет. Сколько лет нужно расти, чтобы достичь такого веса? Сто лет? Тысячу? Кто может сказать?
Но размер может означать и гибель животного. Даже в океане. Чем оно больше, тем медленнее его реакции. Нервным импульсам для прохождения нужно время.
Эванс считал, что чудовище не стало больше бить по ним струей воды, потому что, лишив их возможности передвигаться, потеряло к ним интерес — вернее, потеряли интерес венлягушки, управлявшие движением гигантского пятна. Но, возможно, это и не так. Просто чудовищу нужно время, чтобы снова наполнить свой гигантский водный мешок. И время, чтобы прицелиться.
Больше того, чудовище сейчас вряд ли в лучшей форме. Оно приспособлено к глубинам, к толще воды в шесть и более миль над собой. Здесь его эффективность снижается. Во второй попытке оно промахнулось по «Хильде», вероятно, потому, что ещё не оправилось от первого удара.
Но теперь оно ждёт; его водный мешок медленно заполняется; оно собирается с силами, насколько может в мелких водах. И вот он, человек, весящий сто девяносто фунтов, должен остановить махину в двести миллионов тонн живого веса.
Старр посмотрел вверх. Но ничего не увидел. Он нажал контакт на левой перчатке, и из металлического конца пальца вырвался столб ослепительно белого света. Свет пробил туманную пустоту и закончился ничем. Достиг ли он в конце концов чудовища? Или просто иссякла сила света?
Трижды чудовище ударило потоком воды. Первый раз, когда был разбит корабль Эванса. Второй раз — повреждён корабль Старра. (Но не так тяжело; может, чудовище слабеет?) В третий раз оно ударило преждевременно и промахнулось.
Счастливчик поднял оружие. Неуклюжее, с толстой рукояткой. В этой рукоятке сотни миль провода и крошечный генератор, дающий очень высокое напряжение. Дэвид направил оружие вверх и сжал кулак.
На мгновение ничего — но он знал, что проволока толщиной в волос прорезает сейчас насыщенный углекислотой океан…
Затем она ударила, и Дэвид увидел результат. В тот момент, как проволока коснулась препятствия, по ней со скоростью света устремился электрический ток и ударил, как разряд молнии. Проволока раскалилась и начала испарять воду. Её окружил не просто пар — вода закипела, высвобождая двуокись углерода. Счастливчик почувствовал, как его сносит течением.
А вверху, над испаряющейся кипящей волной, над раскаленной проволокой расцвел огненный шар. Там проволока коснулась живой плоти и высвободила чудовищную энергию. Она прожгла в живой горе дыру в десять футов шириной и такой же глубиной.
Старр мрачно улыбнулся. По сравнению с огромным телом чудовища это всего лишь булавочный укол, но пятно его почувствует — минут через десять. Нервные импульсы медленно движутся в этой плоти. Когда болевой импульс достигнет крошечного мозга пятна, оно отвлечется от кораблей на дне и обратится к своему новому мучителю.
Но, мрачно подумал Дэвид, чудовище не найдёт его. За десять минут он изменит позицию. Через десять минут он…
Старр не закончил свою мысль. Прошло не больше минуты, а чудовище нанесло ответный удар.
Страшной водяной струей его бросило вниз.
Глава 10
ГОРА ПЛОТИ
От удара Дэвид едва не потерял сознание. Любой костюм Из обычного металла был бы разорван и смят. Любого человека обычного склада понесло бы на дно, и он погиб бы от сотрясения и удара.
Но Старр отчаянно сопротивлялся. Борясь с могучим потоком, он поднес левую руку к груди, чтобы увидеть показания приборов, контролировавших состояние костюма.
Он застонал. Все указатели вышли из строя, их тонкие стрелки неподвижно застыли. Но кислород как будто поступал беспрепятственно (лёгкие подсказали бы ему, если бы это было не так), а костюм, по-видимому, не дал течи. Он надеялся, что и двигатель в порядке.
Нет смысла пытаться слепо выбираться из потока, рассчитывая лишь на силу. Силы ему определённо не хватит. Надо ждать, рассчитывая на одно: поток воды, опускаясь, быстро теряет скорость. Вода по воде — это очень сильное трение. По краям потока оно усиливается, создаёт завихрения и проникает внутрь. Если поток, вырываясь из мешка чудовища, достигает пятисот футов в ширину, то у дна он всего пятидесяти футов, в зависимости, конечно, от первоначальной скорости и глубины.
И первоначальная скорость тоже уменьшится. Конечно, и тогда с ней не стоит шутить. Старр это почувствовал, когда водный поток на излете ударил корабль.
Всё зависит от того, как далеко от центра потока он находится, насколько прямым оказалось попадание.
Чем дольше он будет ждать, тем лучше его шансы — разумеется, если он не будет ждать слишком долго. Положив руку на управление двигателем, Дэвид продолжал опускаться, стараясь сохранить спокойствие, пытаясь догадаться, далеко ли ещё до дна, ожидая в каждый момент последнего удара, который он может и не ощутить.
И вот, досчитав до десяти, он включил свой двигатель. Маленькие скоростные винты у него на плечах завертелись и начали гнать воду под прямым углом к основному потоку. Дэвид почувствовал, что его тело движется в другом направлении.
Если он в самом центре, это не поможет. Энергии его двигателя не хватит, чтобы преодолеть могучий поток, увлекающий его вниз. Но если он в стороне от центра, скорость потока должна уже значительно уменьшиться и зона завихрений где-то близко.
И как бы в ответ на эти мысли тело его завертелось, и он, испытывая тошноту и головокружение, понял, что спасен.
Двигатель продолжал работать, теперь отбрасываемые им струи воды направлялись вниз; Старр посветил в сторону океанского дна. И как раз вовремя: он увидел, как в пятидесяти футах под ним ил, покрывавший дно, взорвался и закрыл всё окружающее мутью.
Всего лишь за секунду до удара о дно Счастливчик вышел из основного потока.
Теперь он поплыл вверх, так быстро, как только позволяли двигатели костюма. Он отчаянно торопился. В темноте шлема (темнота внутри темноты внутри темноты) его губы сжались в узкую линию, брови опустились.
Он старался ни о чём не думать. Достаточно он думал в первые секунды после удара. Он недооценил врага. Старр считал, что в него целится гигантское пятно, но ведь это не так. Венлягушки сверху, с поверхности океана, через крошечный мозг оранжевого пятна контролировали его действия. Целились они! Им не нужно было использовать чувства пятна, чтобы понять, что происходит. Им нужно было только заглянуть в мозг Дэвида, да и целились они в источник мыслей — в его мозг.
Значит, дело не в том, чтобы уколами заставить чудовище уйти от «Хильды» и спуститься по длинному подводному склону в глубины, породившие его. Чудовище придётся убить.
И как можно быстрее!
Ни «Хильда», ни костюм Счастливчика не выдержат ещё одного прямого удара. Индикаторы вышли из строя, за ними последуют все системы. Или будут повреждены контейнеры с жидким кислородом.
Он продолжал двигаться вверх — к единственному безопасному месту. Хотя он никогда не видел выпускную трубу пятна, он решил, что она должна быть гибкой и выступающей, чтобы её можно было направлять в разные стороны. Но вряд ли чудовище может направить её против себя. Во-первых, тем самым оно бы покалечило себя. Во-вторых, напор воды помещает трубе так сильно изогнуться, чтобы направиться вверх.
Значит, нужно подняться к внутренней поверхности тела чудовища, где его водяное оружие не сможет достать Старра; и нужно это сделать раньше, чем пятно сможет снова наполнить свой водяной мешок для другого удара.
Дэвид посветил вверх. Ему не хотелось этого делать: казалось, что при свете он станет уязвимее. Он говорил себе, что ошибается. Не зрение управляет движениями пятна.
В пятидесяти или больше футах над ним показалась неровная сероватая поверхность, вся изрытая глубокими складками. Кожа чудовища, упругая и крепкая, как подводный костюм человека. И тут же Счастливчик столкнулся с препятствием, почувствовал, как слегка подаётся плоть.
Впервые за долгое время он облегченно вздохнул. В первый раз после того, как покинул корабль, он ощутил себя в относительной безопасности. Однако ненадолго. В любой момент пятно (вернее, маленькие хозяева мозга, которые контролируют его) может напасть на корабль. Он не должен этого допустить.
Со смесью удивления и отвращения Дэвид провёл пальцами по окружающей его поверхности.
Тут и там на внутренней поверхности тела чудовища виднелись отверстия шириной в шесть футов; Старр видел — по пузырькам и частицам ила, — как в них устремлялась вода. На больших интервалах находились разрезы, которые время от времени превращались в десятифутовые щели, под сильным напором выбрасывавшие вспененную воду.
Очевидно, так чудовище питается. Выбрасывает желудочный сок в ту часть океана, что заперта под его огромным телом, затем всасывает эту воду и извлекает все питательные вещества, затем снова выбрасывает воду вместе с собственными отходами.
Очевидно, оно не может долго оставаться на одном месте, иначе концентрация отходов станет опасной для него самого. Вероятно, по своей воле оно бы здесь не оставалось, но им управляют венлягушки…
Дэвид дернулся, но не по своей воле и в удивлении повернул фонарик. Он с ужасом понял цель глубоких складок, которые заметил на поверхности тела чудовища. Одна такая складка образовалась непосредственно рядом с ним и втягивала его в глубину. Края складки терлись друг о друга, и в целом это был размалывающий механизм, при помощи которого пятно измельчало слишком большие частицы пищи, которые не могли быть всосаны непосредственно порами.
Он не стал ждать. Он не хотел испытывать свой костюм на прочность: ведь мышцы чудовища обладают фантастической силой. Возможно, костюм и выдержит, но его устройства — определённо нет.
Он повернулся так, чтобы потоки воды из двигателей были направлены прямо в чудовище, и включил двигатели на полную мощность. С резким чавкающим звуком он высвободился и отлетел в сторону. Потом снова вернулся.
Но не стал трогать кожу чудовища. Напротив, поплыл под туловищем от края к центру.
Неожиданно он наткнулся на вырост в теле пятна, которой уходил вниз, насколько хватало света фонарика. Вырост представлял собой дрожащую трубу.
Это была выпускная труба.
Счастливчик понял, что это такое: гигантская пещера длиной в сто ярдов, из неё со страшной силой вырывалась вода. Он осторожно обогнул её. Несомненно, вверху, у основания трубы, самое безопасное место, и тем не менее Дэвид неохотно направлялся туда.
Впрочем, он знал, что ищет. Старр отплыл от трубы и поплыл туда, где плоть чудовища вздымалась ещё выше, к самому центру перевернутой чаши. Тут оно и было!
Вначале он услышал глубокий гул, такой низкий, что его едва улавливало ухо. В сущности, его внимание привлек не гул, а сопровождавшая его вибрация. Потом он увидел утолщение плоти чудовища. Это утолщение, огромное, шириной не меньше выпускной трубы, свисавшее на тридцать футов вниз, сжималось и разжималось.
Это центр организма, его сердце или то, что заменяет ему сердце. Счастливчик почувствовал головокружение, прикинув, каким мощным должно оно быть. Сокращения сердца длятся не менее пяти минут, и за это время через кровеносные каналы, способные вместить «Хильду», прокачиваются тысячи кубических ярдов крови. Мощности сердца должно хватить, чтобы гнать кровь на расстояние в мили.
Что за удивительный механизм, подумал он. Если бы только можно было захватить такое существо живьем и изучить его физиологию!
Где-то в этом выросте должен располагаться и мозг пятна. Мозг? Вероятно, всего лишь комок нервных клеток, без которых чудовище вполне может жить.
Возможно. Но жить без сердца оно не может. Сердце завершило одно биение. Центральное вздутие сильно сократилось. Теперь сердце минут пять будет отдыхать, потом вздутие расширится, и кровь снова устремится в него.
Счастливчик поднял своё оружие, осветил сердце фонариком и начал опускаться. Не стоит слишком приближаться. С другой стороны, он боялся промахнуться.
На мгновение он почувствовал сожаление. С научной точки зрения убить такое чудо природы — почти преступление.
Собственная ли это мысль или она внушена находящимися вверху венлягушками?
Он не смеет дольше ждать. Дэвид сжал рукоять. Проволока устремилась вверх. Коснулась тела, и он ослеп от ярчайшей вспышки: стена сердца чудовища была разрезана.
Много минут вода кипела в судорогах горы плоти. Гигантская масса пятна извивалась и дергалась. Старр, которого бросало в разные стороны, был беспомощен.
Он попытался вызвать «Хильду», но в ответ услышал только шум, из которого заключил, что корабль тоже бросает из стороны в сторону.
Но смерть, когда она приходит, постепенно проникает в каждую унцию даже стомиллионнотонной жизни. Постепенно вода успокоилась.
Дэвид, смертельно усталый, медленно, медленно начал опускаться.
Он снова вызвал «Хильду».
— Оно мертво, — сказал он. — Пошлите мне направляющий луч.
Счастливчик позволил Верзиле снять с себя костюм и даже слабо улыбнулся в ответ на его беспокойный взгляд.
— Я думал, больше не увижу тебя, друг, — сказал Верзила и шумно глотнул.
— Если собираешься заплакать, — сказал Дэвид, — отвернись. Я не затем выбрался из океана, чтобы тут промокнуть. Как главный двигатель?
— Будет в порядке, — вмешался Эванс, — но на это потребуется ещё время. Недавняя встряска разрушила то, что мы делали.
— Что ж, — сказал Старр, — придётся продолжать. — Он с усталым вздохом сел. — Всё прошло не совсем так, как я ожидал.
— Как это? — спросил Эванс.
— Ну, я думал уколами заставить пятно переместиться. Не получилось, пришлось убить его. В результате его мертвое тело сейчас опускается на «Хильду», как опавшая палатка.
Глава 11
НА ПОВЕРХНОСТЬ?
— Ты хочешь сказать, что мы в ловушке? — с ужасом спросил Верзила.
— Можно сформулировать и так, — холодно ответил Счастливчик. — Можно сказать также, что мы в безопасности здесь, если хочешь. Несомненно, здесь мы в большей безопасности, чем где-нибудь на Венере. Никто не может сделать нам что-нибудь физически, пока над нами эта гора плоти. А восстановив двигатель, мы прорвемся наружу. Верзила, принимайся за двигатели; Эванс, давай выпьем кофе и поговорим. У нас может больше не оказаться возможности для спокойного разговора.
Дэвид приветствовал передышку: в данный момент он не мог никак действовать, только говорить и думать.
Эванс, однако, был встревожен. В углах его фарфорово-голубых глаз собрались морщинки.
Старр сказал:
— Ты встревожен?
— Да. Что мы будем делать?
— Я тоже об этом думаю. Похоже, нам остаётся только рассказать всю историю о венлягушках кому-нибудь, кто не под контролем.
— А кто это?
— На Венере такого нет. Это точно.
Эванс смотрел на друга.
— Ты хочешь сказать, что на Венере всё под контролем?
— Нет, но все доступны контролю. В конце концов, человеческий мозг может управляться этими существами по-разному. — Дэвид откинулся в пилотском вращающемся кресле и скрестил ноги. — Во-первых, на короткий период может устанавливаться полный контроль над мозгом человека. Полный! В этот период человек может поступать противоположно своей натуре, совершать поступки, которые угрожают его жизни и жизни окружающих: например, пилоты каботажного судна, на котором мы с Верзилой прилетели на Венеру.
Эванс мрачно сказал:
— Это не мой случай.
— Знаю. Этого не понял Моррис. Он считал, что ты не под контролем просто потому, что у тебя не было амнезии. Но есть и второй тип контроля, под которым ты находился. Контроль менее жесткий, поэтому человек сохраняет память. Но именно потому, что контроль менее жесток, человек не может совершить поступок, противоречащий его натуре: тебя, например, не могли заставить совершить самоубийство. Но зато контроль длится дольше — не часы, а дни. Венлягушки выигрывают во времени то, что проигрывают в интенсивности. Но может существовать и третий тип контроля.
— Какой же?
— Ещё менее интенсивный, чем во втором случае. Настолько тонкий, что жертва даже не осознает его, но всё же позволяющий прочитывать мозг и снимать с него всю информацию. Например, Лайман Тернер.
— Главный инженер Афродиты?
— Да. Это его случай. Разве не ясно? Вчера у шлюза городского купола сидел человек, зажав в руке рычаг, открывающий шлюз; он представлял опасность для всего города, однако был так защищен, так окружен сигнализацией, что никто не мог приблизиться к нему, пока Верзила не пробрался через вентиляционный ствол. Разве это не странно?
— Нет. Почему это странно?
— Этот человек работал всего несколько месяцев. Он даже не инженер. Это клерк. Откуда он получил информацию, как защититься? Как смог он так хорошо узнать систему защиты и действия шлюза?
Эванс поджал губы и негромко свистнул.
— В этом что-то есть.
— Но это не пришло в голову Тернеру. Я как раз перед тем, как уйти на «Хильде», расспрашивал его. Конечно, я не сказал ему, зачем мне это. Он сам рассказал мне о неопытности этого человека, но не заметил явной неувязки. Но у кого должна быть необходимая информация? У кого, как не у главного инженера?
— Верно. Верно.
— Допустим, Тернер находится под этим самым тонким контролем. Информацию можно взять из его мозга. Его смогли очень осторожно настроить так, что он не видел никакой неувязки в случившемся. Понимаешь? А теперь Моррис…
— Моррис тоже? — спросил пораженный Эванс.
— Возможно. Он убеждён, что это сирианцы, охотящиеся за дрожжами. И ничего другого не видит. Естественная это ограниченность или его мягко убедили в этом? Он слишком быстро заподозрил тебя, Лy, — слишком легко. Член Совета не должен так легко подозревать другого члена Совета.
— Великий космос! Но кто же тогда в безопасности, Счастливчик?
Дэвид взглянул на пустую чашку кофе и сказал:
— Никто на Венере. Такова моя точка зрения. Надо передать сведения в другое место.
— Как же это возможно?
— Хороший вопрос. Как? — И Старр задумался.
Эванс сказал:
— Физически мы не можем уйти. «Хильда» приспособлена только для океана. Она не может двигаться в воздухе, тем более в космосе. А если мы вернемся в город, чтобы найти более подходящее судно, нам никогда оттуда не выбраться.
— Ты прав, — сказал Старр, — но нам не обязательно покидать Венеру самим. Нужно отправить информацию.
— Если ты имеешь в виду корабельное радио, — сказал Эванс, — то оно тоже исключается. То, что у нас есть, предназначено исключительно для Венеры. За её пределы оно не выйдет. Больше того, аппаратура так устроена, что волна отражается от поверхности океана вниз, так что пользоваться ею можно только под водой. Но даже если бы мы смогли передавать, передача не достигнет Земли.
— Но нам и не нужно добираться до Земли, — заметил Счастливчик. — Между нами и Землей есть подходящий объект.
Вначале Эванс удивился. Потом сказал:
— А, ты имеешь в виду космическую станцию.
— Конечно. Две космические станции вращаются вокруг Венеры. Земля может быть на удалении от тридцати до пятидесяти миллионов миль, но станции — всего в двух тысячах миль. А я уверен, что на них нет венлягушек. Моррис сказал, что они не переносят свободный кислород, а я уверен, что на станциях, учитывая необходимую на них экономию пространства, вряд ли станут создавать для них специальные насыщенные двуокисью углерода помещения. Если бы нам удалось передать сообщение на станцию, а они бы передали на Землю, вопрос был бы решен.
— Верно, Дэвид! — возбуждённо сказал Эванс. — Ты нашёл выход. Их контроль не может распространяться на две тысячи миль в пространстве… — Но тут его лицо снова омрачилось. — Не выйдет. Корабельное радио всё равно не пробьется через океанскую поверхность.
— Ну, может, не отсюда. Поднимемся на поверхность и передадим прямо в атмосферу.
— На поверхность?
— Да, а что?
— Но они здесь. Венлягушки.
— Знаю.
— Мы будем под контролем.
— Неужели? Пока они не имели дела с теми, кто о них знает, знает, чего от них можно ждать, и способен сопротивляться контролю. Большинство жертв ни о чём не подозревали. А ты, например, буквально сам пригласил их в свой мозг, говоря твоими словами. Я же всё знаю и не собираюсь никого приглашать.
— Говорю тебе, ты не сможешь. Ты не знаешь, каково это.
— Можешь предложить другой выход?
Прежде чем Эванс смог ответить, вошёл Верзила, раскатывая рукава.
— Всё в порядке, — сказал он. — Я гарантирую работу двигателей.
Дэвид кивнул и подошёл к управлению, а Эванс в нерешительности остался на месте.
Снова послышался гул моторов, глубокий и сильный. Приглушенный звук показался музыкой, и все ощутили, как палуба под ногами двинулась: такое чувство никогда не испытываешь на космическом корабле.
«Хильда» двинулась сквозь пузырчатую воду, попавшую под гигантское туловище, и начала набирать скорость.
Верзила беспокойно спросил:
— Сколько нам надо проплыть?
— Примерно полмили, — ответил Дэвид.
— А если не прорвемся? Просто ударим и застрянем, как топор в пне?
— Выберемся и попробуем снова, — сказал Дэвид.
Некоторое время все молчали, наконец Эванс негромко сказал:
— Здесь, под пятном, как в подвальной комнате.
Он будто говорил с собой.
— Как в чём? — переспросил Дэвид.
— В подвальной комнате, — всё ещё отвлеченно ответил Эванс. — Их строят на Венере. Маленькие транзитовые купола под морским дном, как бомбоубежища на Земле. Предполагается, что в них можно спастись от воды, если море прорвёт купол, например при венеротрясении. Не знаю, использовали ли их хоть единожды, но лучшие жилые дома всегда рекламируют свои подвальные комнаты.
Счастливчик слушал, но молчал.
Звук мотора стал выше.
— Держись! — сказал Старр.
«Хильда» задрожала, и внезапное, неумолимое замедление скорости прижало Дэвида к пульту управления. Кулаки Верзилы и Эванса побелели — приходилось изо всех сил держаться за поручни.
Корабль замедлил движение, но не остановился. Двигатели напрягались, генераторы визгливо протестовали, так что Счастливчик сочувственно сморщился, но «Хильда» продолжала прорываться сквозь кожу и мышцы, сквозь пустые кровеносные сосуды и бесполезные нервы, должно быть, напоминавшие двухфутовой толщины кабели. Угрюмый Дэвид, сжав зубы, продолжал держать указатель скорости на максимуме.
Прошли долгие минуты, машины триумфально взвыли, и они прорвались — через тело чудовища в открытое море.
Молча, спокойно и ровно «Хильда» поднималась сквозь мутные, насыщенные двуокисью углерода воды венерианского океану. Все три её пассажира молчали, как будто очарованные той смелостью, с какой штурмовали только что крепость враждебной венерианской жизни. Эванс не сказал ни слова с тех пор, как они выбрались из-под пятна. Старр оставил приборы и сидел, постукивая пальцами по колену. Даже неукротимый Верзила отошёл к заднему иллюминатору с его широким полем зрения.
Неожиданно Верзила позвал:
— Счастливчик, посмотри.
Дэвид встал рядом с Верзилой. Вместе они молча смотрели в иллюминатор. Половину поля зрения занимали небольшие фосфоресцирующие огоньки, но во второй половине виднелась стена, чудовищная стена, покрытая разноцветными световыми полосами.
— Это пятно? — спросил Верзила. — Когда мы спускались, оно так не светилось. Как оно может светиться сейчас: ведь оно мертвое?
Старр задумчиво ответил:
— Да, это пятно. Мне кажется, весь океан собрался на пир.
Верзила взглянул внимательнее и почувствовал лёгкую тошноту. Конечно! Сотни миллионов тонн мяса, пригодного к употреблению; свет, который они видят, — это вся жизнь мелководья, пожирающая мертвое чудовище.
Мимо иллюминатора проносились всё новые создания, и все в одном направлении. В сторону кормы, к чудовищному телу, которое только что оставила «Хильда».
Преобладали рыбы-стрелы всех размеров. Каждая имела прямую белую светящуюся линию, обозначавшую позвоночник (точнее, это был не позвоночник, а вырост рогового вещества, шедший вдоль всей спины). На одном конце линии виднелось бледно-желтое V, обозначавшее голову. Верзиле показалось, что действительно бесконечное количество живых стрел проносятся мимо корабля; в воображении он видел их острые челюсти, прожорливые и похожие на пустые пещеры.
— Великая Галактика! — сказал Счастливчик.
— Пески Марса! — прошептал Верзила. — Океан, наверно, опустел. Всё живое собралось в одном месте.
Дэвид сказал:
— При скорости, с какой пожирают мясо рыбы-стрелы, через двенадцать часов от пятна ничего не останется.
Сзади послышался голос Эванса:
— Старр, я хочу поговорить с тобой.
Тот обернулся.
— Конечно. В чём дело, Лу?
— Когда ты предложил подняться на поверхность, ты спросил, есть ли у меня альтернатива.
— Да. Ты не ответил.
— Теперь могу ответить. Ответ у меня в руках: мы идём обратно в город.
Верзила спросил:
— Эй, в чём дело?
Счастливчику не нужно было спрашивать. Ноздри его раздувались, внутренне он винил себя за те минуты, что провёл у иллюминатора, когда должен был заниматься только делом.
Потому что Эванс сжимал в кулаке бластер Дэвида, и в его сузившихся глазах была жесткая решимость.
— Мы возвращаемся в город, — повторил Эванс.
Глава 12
В ГОРОД?
Дэвид спросил:
— Что случилось, Лу?
Эванс сделал нетерпеливый жест бластером.
— Переключить двигатели, идти ко дну, потом повернуть в сторону города. Не ты, Счастливчик. У приборов будет Верзила; а ты встань на одну линию с ним, чтобы я мог видеть и вас и приборы.
Верзила приподнялся и вопросительно взглянул на Старра.
Тот спокойно сказал:
— Не скажешь ли, что тебе пришло в голову?
— Ничего мне не пришло в голову, — ответил Эванс. — Тебе пришло. Ты пошёл и убил чудовище, потом вернулся и заговорил о подъёме на поверхность. Зачем?
— Я объяснил причину.
— Я тебе не верю. Если мы поднимемся на поверхность, венлягушки захватят наш разум. У меня есть опыт, и поэтому я знаю, что ты под их контролем.
— Что? — взорвался Верзила. — Он что, спятил?
— Я знаю, что делаю, — сказал Эванс, внимательно следя за Дэвидом. — Верзила, если подумаете, тоже поймете, что Дэвид под контролем. Не забудьте, он мой друг. Я знаю его дольше вас, Верзила, и мне не нравится то, что я делаю, но выхода нет. Это должно быть сделано.
Верзила неуверенно посмотрел на них обоих, потом тихо спросил:
— Счастливчик, венлягушки на самом деле добрались до тебя?
— Нет.
— А что он, по-вашему, должен сказать? — с жаром спросил Эванс. — Конечно, добрались. Чтобы убить чудовище, ему пришлось подниматься наверх. Он поднялся близко к поверхности, а там ждали лягушки; они были достаточно близко, чтобы перехватить контроль. Они позволили ему убить чудовище. А почему бы и нет? Они с радостью поменяли контроль над чудовищем на контроль над Дэвидом, и вот теперь он является и заявляет, что надо подняться на поверхность, а там мы все окажемся пойманными — мы, единственные люди, знающие правду.
— Счастливчик? — голос Верзилы дрожал, маленький марсианин просил поддержки.
Старр спокойно сказал:
— Ты ошибаешься, Лy. То, что ты делаешь, результат контроля над тобой. Ты находился под контролем раньше, и венлягушки знают твой мозг. Они могут войти в него, когда хотят. Может, они никогда полностью и не уходили из него. Ты делаешь то, что тебя заставляют.
Эванс сильнее сжал бластер.
— Прости, друг, но не получится. Поворачиваем корабль к городу.
— Если ты не под контролем, Лу, если твой мозг свободен, ты выстрелишь в меня, если я продолжу двигаться на поверхность, не так ли, Лу?
Эванс не ответил.
Дэвид сказал:
— Тебе придётся сделать это. Это твой долг перед Советом и человечеством. С другой стороны, если ты под контролем, тебя вынуждают угрожать мне, заставлять изменить курс корабля, но я сомневаюсь, чтобы тебя смогли заставить убить меня. Убить друга, коллегу, члена Совета — это слишком противоречит твоему образу мыслей. Итак, отдай мне бластер.
И Счастливчик, вытянув руку, направился к Эвансу.
Верзила смотрел в ужасе.
Эванс попятился. Он хрипло сказал:
— Предупреждаю тебя, Старр. Я выстрелю.
— Нет. Ты отдашь бластер.
Эванс прижался спиной к стене. Голос его стал высоким и полубезумным:
— Я выстрелю! Выстрелю!
Но Дэвид уже остановился и попятился. Медленно, медленно он отступал.
Жизнь исчезла из глаз Эванса, он стал похож на каменную статую. Палец его твёрдо лежал на курке бластера. Холодным тоном он сказал:
— Назад в город.
— Бери курс на город, Верзила, — сказал Дэвид.
Верзила быстро пошёл к приборам. Он шёпотом спросил:
— Он ведь под контролем?
— Боюсь, что да. Они перешли к интенсивному контролю, чтобы быть уверенными, что он выстрелит. И он выстрелит, в этом нет сомнения. У него амнезия. Впоследствии он ничего не будет помнить.
— Он нас слышит? — Верзила помнил, что пилоты во время их посадки на Венеру никак не реагировали на окружающее.
— Не думаю, — сказал Старр, — но он следит за приборами, и, если мы свернем с курса, он выстрелит. Не заблуждайся на этот счёт.
— Что же нам делать?
Холодные, бледные губы Эванса произнесли:
— Назад в город! Быстро!
Дэвид, не шевелясь, не отрывая взгляда от ствола бластера, негромко и быстро заговорил с Верзилой.
Верзила чуть кивнул.
«Хильда» двигалась пройденным курсом, назад к городу.
Советник Лy Эванс стоял у стены, бледный и строгий, его безжалостные глаза переходили от Старра к Верзиле, а от того к приборам. Его тело, полностью покорное тем, кто контролировал его мозг, не испытывало даже потребности в перемещении бластера из руки в руку. Напрягая слух, Счастливчик вслушивался в низкий звук направляющего луча Афродиты, Который доносился из указателя направления на «Хильде». Этот луч распространялся во все стороны из наиболее высокого пункта купола города на определённой длине волны. Путь Назад был столь же прост, как если бы до Афродиты оставалось сто ярдов.
По звуку Счастливчик мог судить, что они движутся не Прямо к Афродите. Разница была незначительной и совсем не очевидной на слух. Слух Эванса тоже под контролем, он может Не заметить. Дэвид надеялся на это.
Он постарался проследить за пустым взглядом Эванса. Он был уверен, что Эванс смотрит на указатель глубины. Это большая шкала прибора, который измеряет давление воды. С того расстояния, с которого смотрел Эванс, было видно, что «Хильда» не поднимается к поверхности.
Дэвид был уверен, что, если указатель глубины хоть немного отклонится, Эванс выстрелит без колебаний.
Пытаясь не думать о ситуации, чтобы ожидающие венлягушки не могли уловить его мысли, Старр, всё же не мог не удивиться, почему же Эванс не выстрелил сразу. Его обрекли на смерть под гигантским пятном, а теперь всего лишь гнали к Афродите.
Или Эванс выстрелит, как только венлягушки преодолеют последние очаги сопротивления в его мозгу?
Направляющий луч ещё немного сдвинулся. Снова Дэвид украдкой взглянул на Эванса. Ошибся ли он или искра чего-то (не эмоции, но чего-то) промелькнула во взгляде Эванса?
Секундой позже он понял, что это не воображение: мышцы Эванса напряглись, рука чуть приподнялась.
Он выстрелит!
Но в то мгновение, как эта мысль промелькнула в мозгу Счастливчика, как его мышцы невольно и бесполезно напряглись в ожидании выстрела, корабль столкнулся с чем-то. Эванс, захваченный врасплох, упал. Бластер выскользнул из его пальцев.
Старр действовал мгновенно. Тот самый удар, который уронил Эванса, бросил Дэвида вперёд. Он упал на лежащего Эванса, схватил его за руку и сжал стальными пальцами.
Но Эванс не был слаб, а боролся он с диким, навязанным ему упорством. Он согнул колени, захватил ими Счастливчика и сжал. Случайно ему помогла качка, и Эванс оказался сверху.
Просвистел кулак Эванса, но Дэвид принял его удар плечом. Он поднял ноги и сжал Эванса в железных ножницах.
Лицо Эванса исказилось от боли. Он дернулся, но Старр сумел переместиться и был теперь наверху. Он сел, продолжая удерживать противника ногами и ещё сильнее сжимая их.
Дэвид сказал:
— Не знаю, слышишь ли ты и понимаешь ли меня, Лу…
Эванс не обращал на это внимания. Последним усилием он отбросил своё тело вместе с телом противника в сторону и вырвался.
Дэвид покатился по полу и вскочил на ноги. Он перехватил руку встававшего Эванса и завел её назад. Рывок — и Эванс упал на спину. И лежал неподвижно.
— Верзила! — позвал Счастливчик, тяжело дыша и отбрасывая прядь волос быстрым движением руки.
— Здесь, — ответил малыш, улыбаясь и размахивая бластером. — Я на всякий случай держу эту штуку.
— Хорошо. Убери бластер, Верзила, и осмотри Лy. Проверь, целы ли у него кости. Потом свяжи его.
Старр сел за управление и с крайней осторожностью вывел «Хильду» из тела чудовищного пятна, которое он убил несколько часов назад.
Он выиграл. Он считал, что венлягушки, занятые только мозгом, не имеют ясного представления о физических размерах пятна, к тому же у них нет опыта подводных путешествий, поэтому они не обратят внимания на небольшое изменение курса, сделанное Верзилой. Дэвид сказал об этом Верзиле, когда тот поворачивал корабль к городу под бластером Эванса.
— Правь в пятно, — сказал он.
Снова «Хильда» сменила курс. Нос её поднялся.
Эванс, привязанный к койке, устало и со стыдом смотрел на Счастливчика.
— Прости.
— Мы понимаем, Лy. Не расстраивайся, — легко сказал Дэвид. — Но пока мы не можем отвязать тебя. Ты ведь понимаешь?
— Конечно. Великий космос, привяжите меня покрепче. Я заслуживаю этого. Поверь, Дэвид, большую часть я просто не помню.
— Лучше немного поспи, приятель, — и Счастливчик похлопал Эванса по плечу. — Мы тебя разбудим на поверхности.
Несколько минут спустя он негромко сказал Верзиле:
— Собери все бластеры на корабле, Верзила, вообще всё оружие. Посмотри в шкафах, в ящиках коек — всюду.
— Что ты собираешься с ним делать?
— Утопить, — кратко ответил Старр.
— Что?
— Ты меня слышал. Ты можешь оказаться под контролем. Или я. Я не хочу повторения случившегося. И вообще против венлягушек физическое оружие бесполезно.
Один за другим два бластера и электрические хлысты подводных костюмов полетели в эжектор для мусора. Через односторонние клапаны они оказались за бортом.
— Чувствую себя голым, — пробормотал Верзила, глядя в иллюминатор, как будто надеялся увидеть своё оружие. Мимо стекла пролетела фосфоресцирующая полоса — должно быть, рыба-стрела. И всё.
Стрелка указателя давления медленно перемещалась. Вначале они находились в трёх тысячах футов под водой. Теперь менее чем в двух тысячах.
Верзила продолжал смотреть в иллюминатор.
Дэвид взглянул на него.
— Что ты высматриваешь?
— Я думал, станет светлее, когда мы приблизимся к поверхности.
— Сомневаюсь. Поверхность плотно затянута водорослями. Пока не прорвемся, будет темно.
— А мы не столкнемся с траулером?
— Надеюсь, нет.
Осталось полторы тысячи футов.
Верзила сказал с надуманной лёгкостью, стараясь отвлечься от прежних мыслей:
— Послушай, Счастливчик, а почему в воде океана так много двуокиси углерода? Со всеми этими растениями? Растения ведь преобразуют двуокись углерода в кислород.
— Да, на Земле. Но если я верно помню курс ксеноботаники, венерианские растения устроены по-другому. Земные растения высвобождают кислород в атмосферу, венерианские запасают в своих тканях. — Он говорил с отсутствующим видом, как будто тоже хотел отвлечься от навязчивых мыслей. — Поэтому венерианские животные не дышат. Они получают весь необходимый кислород в пище.
— А ещё что ты знаешь? — спросил удивленный Верзила.
— В их пище даже слишком много кислорода, иначе они не любили бы так пищу с его низким содержанием, такую, как тавот, которым ты кормил венлягушку. По крайней мере такова моя теория.
Теперь они находились всего в восьмиста футах под поверхностью.
Старр сказал:
— Прекрасно проделано. Я имею в виду то, как ты протаранил пятно.
— Не о чем говорить, — ответил Верзила, но вспыхнул от удовольствия.
Он взглянул на указатель давления. Оставалось пятьсот футов.
Наступило молчание.
Потом сверху послышался скрип, ровный подъём прервался, машины заработали с напряжением, и в иллюминаторах посветлело, стали видны облачное небо и волнующаяся поверхность воды, покрытая бесконечными водорослями.
— Дождь, — сказал Счастливчик. — Боюсь, придётся сидеть и ждать, пока к нам не пожалуют венлягушки.
Верзила спокойно ответил:
— А вот и они.
Прямо перед ними, глядя в иллюминатор тёмными жидкими глазами, плотно прижав лапы к туловищу, цепляясь пальцами за стебель, сидела венлягушка!
Глава 13
ВСТРЕЧА РАЗУМОВ
«Хильда» раскачивалась на высоких волнах венерианского океана. Слышался сильный и ровный шум дождя, бившего о корпус почти в земном ритме. Для Верзилы, выросшего на Марсе, и дождь, и океан были одинаково чужими, но у Дэвида они вызвали воспоминания о доме.
Верзила сказал:
— Посмотри на эту лягушку. Только посмотри на неё!
Верзила протер стекло рукавом и прижался к нему носом, чтобы лучше видеть.
Вдруг он подумал:
— Эй, а не лучше ли держаться подальше?
Отпрыгнул, потом вставил мизинцы в углы рта и растянул его. Высунул язык, закатил глаза и закрутил пальцами.
Лягушка серьёзно смотрела на него. Она не пошевельнулась с того момента, как её увидели. Только раскачивалась на ветру, не обращая внимания на плещущуюся воду.
Верзила скорчил ещё более ужасную рожу и сказал лягушке:
— А-агх!
Над его плечом послышался голос Старра:
— Что ты делаешь, Верзила?
Верзила отскочил, убрал пальцы и вернул лицу его обычное ангельское выражение. Он с улыбкой сказал:
— Показал венлягушке, что я о ней думаю.
— Это она показала, что думает о тебе!
У Верзилы заныло сердце. Он услышал явное неодобрение в голосе друга. В такой ситуации, во время такой опасности он, Верзила, корчит рожи, как дурак. Ему стало стыдно.
Он проговорил:
— Не знаю, что на меня нашло.
— Они знают, — хрипло ответил Дэвид. — Пойми: венлягушки ищут твоё слабое место. Найдя его, они проберутся в твой мозг, и ты не сможешь изгнать их оттуда. Поэтому не следуй сразу импульсам, не подумав сначала.
— Да, Счастливчик.
— Что теперь? — Старр осмотрелся. Эванс спал, судорожно дергаясь и дыша с трудом. На краткий миг глаза Дэвида остановились на нём, потом переместились.
Верзила почти робко сказал:
— Счастливчик!
— Да?
— Ты не собираешься вызывать космическую станцию?
Какое-то время Дэвид непонимающим взглядом смотрел на своего маленького товарища. Потом линии вокруг его глаз разгладились, и он прошептал:
— Великая Галактика! Я забыл! Верзила, я забыл! И не подумал даже.
Верзила пальцем через плечо показал на венлягушку, которая, как сова, продолжала смотреть на них.
— Она?..
— Они. Великий космос, тут их должны быть тысячи!
Стыдясь, Верзила должен был признаться себе, что был почти рад, что не только он, но и Счастливчик не устоял перед этими существами. Он почувствовал, что не так уж виноват. В самом деле Старр не имеет права…
В ужасе Верзила остановился. Он испытывал ненависть к Счастливчику. Это не он. Они!
Он решительно изгнал все мысли из головы и сконцентрировался на Старре, который занялся передатчиком, готовя его к работе.
И тут голова Верзилы резко откинулась: он неожиданно услышал новый и странный звук.
Голос, ровный, без интонаций. Он произнес:
— Не трогай твоё устройство для далекой передачи звуков. Мы этого не хотим.
Верзила повернулся и замер с раскрытым ртом. Потом спросил:
— Кто это сказал? Где он?
— Спокойно, Верзила, — ответил Дэвид. — Звук у тебя в голове.
— Только не венлягушки! — в отчаянии сказал Верзила.
— Великая Галактика, а кто же ещё?
Верзила повернулся и снова посмотрел в иллюминатор — на дождь, на облака и на раскачивающуюся венлягушку.
Старру уже однажды пришлось пережить проникновение в свой мозг чужого существа. Это было в пещерах Марса, где он встретился с нематериальными существами. Мозг его был открыт перед ними, но чужие мысли входили безболезненно, он даже испытывал приятные ощущения. Он знал, что беспомощен, но был избавлен от страха.
Теперь перед ним было нечто совсем другое. Мысленные пальцы насильно проникали в его мозг, и он встречал их с болью, отвращением и негодованием.
Рука Дэвида отдернулась от передатчика, и он не испытывал желания снова притрагиваться к нему. Он опять забыл о нём.
Голос зазвучал снова:
— Заставляй ртом вибрировать воздух.
Счастливчик спросил:
— Мне нужно говорить? Разве вы не слышите наши мысли, когда мы не говорим?
— Очень смутно. Их трудно понять, если твой мозг хорошо не изучен. Когда ты говоришь, твои мысли становятся четче и мы их слышим.
— Но мы слышим вас без труда, — сказал Дэвид.
— Да. Мы можем посылать свои мысли с большой силой. Вы нет.
— Вы слышали всё, что я говорил раньше?
— Да.
— Чего вы хотите от меня?
— В твоих мыслях фигурирует организация твоих товарищей, она далеко, по другую сторону неба. Ты называешь её Советом. Мы хотим знать о ней больше.
Про себя Счастливчик ощутил удовлетворение. На один вопрос по крайней мере он ответил. Пока он представлял собой отдельный индивидуум, враг мог удовлетвориться тем, что убьет его. Но в последние часы враг понял, что он слишком многое узнал, и обеспокоен этим.
Вдруг остальные члены Совета смогут узнать правду так же быстро? И вообще что такое этот Совет?
Старр мог понять любопытство врага, его осторожность, желание выведать у противника побольше, прежде чем убить его. Неудивительно, что Эвансу запретили убивать его, когда оружие было направлено на Дэвида, а он был беспомощен.
Но он отогнал от себя эти мысли. Они говорят, что не могут ясно слышать невысказанные мысли. Но, возможно, они лгут.
Он спросил:
— Что вы имеете против моего народа?
Ровный, неэмоциональный голос ответил:
— Мы не можем с уверенностью сказать, что имеем что-то против.
Старр сжал челюсти. Неужели они восприняли его последнюю мысль о том, что могут лгать? Ему надо быть осторожным, очень осторожным.
Голос продолжал:
— Мы не думаем хорошо о людях. Они отнимают жизнь. Они едят мясо. Плохо быть разумным и есть мясо. Тот, кто ест мясо, должен отнимать жизнь у других живых существ, а разумный пожиратель мяса приносит гораздо больше вреда, чем неразумный: он может придумать больше способов отнять жизнь. У вас есть маленькие трубки, которые могут убить многих существ.
— Но мы не убиваем венлягушек.
— Убивали бы, если бы мы допустили. Вы даже друг друга можете убивать.
Счастливчик не стал комментировать последние слова. Напротив, он сказал:
— Но чего же вы тогда хотите от моего народа?
— Вас слишком много на Венере, — ответил голос. — Вы становитесь многочисленны и занимаете место.
— Но мы не можем занять всё, — ответил Старр. — Мы можем строить города только на мелководье. Глубины всегда останутся вашими, а они составляют девять десятых океана. Кроме того, мы можем помочь вам. Если у вас есть знания Мозга, у нас есть знания материи. Вы видели наши города и машины из сверкающего металла, которые через воду и воздух летят по другую сторону неба. Подумайте, как мы могли бы помочь вам.
— Нам ничего не нужно. Мы живем и мыслим. Мы ничего не боимся и ничего не ненавидим. Чего ещё нам желать? Что нам делать с вашими городами, с вашим металлом и вашими кораблями? Они не сделают жизнь для нас лучше.
— Значит, вы хотите всех нас убить?
— Мы не хотим отнимать жизнь. Нам достаточно контролировать ваш мозг, чтобы вы не могли причинить вреда.
Счастливчик мысленно увидел (по своей воле или по внушению?) расу людей Венеры, живущих и передвигающихся по указанию господствующей туземной расы; постепенно контакты с Землей прерываются, растут поколения всё более услужливых и послушных умственных рабов.
Он сказал с уверенностью, которой на самом деле не ощущал:
— Люди не позволят, чтобы их мысли контролировали.
— Это единственный способ сосуществования, и вы должны нам помочь.
— Не станем.
— У вас нет выбора. Ты должен рассказать нам об этих землях за небом, об организации твоих людей, о том, что они могут нам сделать и как нам защититься.
— Вы не сможете заставить меня сделать это.
— Неужели? — спросил голос. — Подумай. Если ты не сообщишь нам нужную информацию, мы попросим тебя опустить твою машину из сияющего металла на дно океана, и там, на дне, ты её откроешь и впустишь воду.
— И умру? — мрачно спросил Старр.
— Конец твоей жизни будет необходим. Ты многое знаешь, и тебе нельзя встретиться с товарищами. Ты можешь вызвать попытки мести с их стороны. Это будет нехорошо.
— Но в таком случае я ничего не утрачу, не рассказывая вам.
— Ты многое утратишь. Если откажешься, мы войдем в твой мозг насильно. Это неэффективно. Много ценного мы выпустим. Чтобы уменьшить опасность этого, мы должны будем разнимать твой мозг по частям, а для тебя это будет неприятно. Гораздо лучше для нас и для тебя, если ты добровольно поможешь нам.
— Нет. — Дэвид покачал головой.
Пауза. Потом снова голос:
— Хотя люди кончают жизни, сами они боятся конца своих жизней. Мы избавим тебя от этого страха, если ты поможешь нам. Когда ты опустишься на дно и твоя жизнь подойдёт к концу, мы изымем страх из твоего мозга. Но если ты не станешь помогать нам, мы всё равно положим конец твоей жизни, но не станем изымать страх. Мы усилим его.
— Нет, — ещё громче ответил Старр.
Ещё одна пауза, более длительная. Потом снова голос:
— Мы просим твоих знаний не из страха за свою безопасность, а для того, чтобы без необходимости не предпринимать неприятных мер. Если мы не будем хорошо знать, чего ожидать от людей с другой стороны неба, нам придётся обезопасить себя и кончить жизнь всех людей в этом мире. Мы впустим океан во все купола, как почти сделали в одном. Жизнь людей закончится, как погасшее пламя. Его задуют, и жизнь снова не загорится.
Счастливчик громко рассмеялся.
— Заставьте меня! — сказал он.
— Заставить тебя?
— Заставьте меня говорить. Заставьте опустить корабль. Заставьте сделать что-нибудь.
— Ты думаешь, мы не сможем?
— Я знаю, что не сможете.
— Оглянись, и увидишь, чего мы уже добились. Твой связанный товарищ в наших руках. Второй твой товарищ, который стоял рядом с тобой, тоже в наших руках.
Дэвид повернулся. За всё время разговора он ни разу не слышал голос Верзилы. Он как будто совершенно забыл о его существовании. И тут он увидел, что маленький марсианин, согнувшись, неподвижно лежит на полу.
Дэвид опустился на колени, отчаяние перехватило ему горло.
— Вы его убили?
— Нет, он жив. Он даже не ранен. Но ты видишь: ты теперь один. Тебе никто не поможет. Они не смогли противостоять нам, и ты не сможешь.
Дэвид, побледнев, ответил:
— Нет. Вы ничего не заставите меня делать.
— Последний шанс. Выбирай. Будешь помогать нам, и твоя жизнь кончится мирно и спокойно. Откажешься — кончишь в боли и горе, а затем последует смерть всех людей в городах под океаном. Что выберешь? Отвечай!
Эти слова звучали в мозгу Старра, и он приготовился один, без поддержки друзей, отражать мысленные удары, которым он мог противопоставить только несгибаемую волю.
Глава 14
СРАЖЕНИЕ РАЗУМОВ
Так противостоять умственному нападению? Счастливчик хотел сопротивляться, но у него не было мысленных мышц, которые он мог бы напрячь, не было защитного оружия, которое можно было бы применить, он не мог ответить силой на силу. Он должен только сопротивляться импульсам, которые приходят в его мозг извне и которые он не может считать своими.
А как он отличит их от своих? Что он сам хочет делать?
Ничего не приходило ему в голову. Пусто. Но что-то должно быть. Он пришёл сюда, наверх, не без плана.
Наверх?
Значит, он поднимался. Значит, сначала он был внизу.
Внизу, в пропасти своего мозга, подумал он.
Он в корабле. Корабль поднялся со дна моря. Сейчас он на поверхности. Хорошо. Дальше что?
Почему он на поверхности? Смутно ему помнилось, что в глубине безопасней.
С трудом он наклонил голову, закрыл глаза и снова раскрыл их. Мысли шли с трудом. Он должен передать… куда-то… что-то…
Передать сообщение.
Сообщение!
Он прорвался! Как будто где-то глубоко внутри себя он нажал плечом на дверь, и она распахнулась. У него была цель, и он её вспомнил.
Конечно, корабельное радио и космическая станция.
Он хрипло сказал:
— Ничего у вас не вышло. Я помню. И не забуду.
Ответа не было.
Он громко закричал. Он подумал, что похож на человека, борющегося с сильной дозой снотворного. Напрягай мышцы, подумал он. Иди. Иди.
В данном случае он должен напрягать мозг, заставлять работать умственные мышцы. Делай что-нибудь! Делай! Остановишься, и они захватят тебя.
Он продолжал кричать, и звуки превратились в слова:
— Я это сделаю! Сделаю!
Что сделает? Снова ускользнуло.
Лихорадочно он повторял:
— Радио на станцию… радио на станцию…
Но слова звучали бессмысленно.
Теперь он двигался. Тело поворачивалось неуклюже, как на деревянных шарнирах, к тому же несмазанных, но поворачивалось. Он увидел передатчик. На мгновение он увидел его ясно, потом передатчик задрожал, стал туманным. Он напряг мозг и снова увидел радио. Видел передатчик, видел ручку регулировки частот, видел конденсаторы. Он мог вспомнить, как работает радио.
Он сделал шаг к передатчику, и в виски ему как будто вонзили огненные острия.
Он пошатнулся, упал на колени, потом с болью встал.
Сквозь налитые болью глаза он по-прежнему видел радио. Двинулась одна нога, потом другая.
Радио казалось далеко, в сотнях ярдов, оно было расплывчатым, его окружал кровавый туман. С каждым шагом усиливались удары в голове.
Он старался не обращать внимания на боль, думать только о радио, видеть только радио. Его ноги будто увязли в резине, но он заставлял их преодолевать сопротивление.
Наконец он поднял руку, но она остановилась в шести дюймах от коротковолнового передатчика. Дэвид понял, что выдержке его приходит конец. Как бы он ни старался, его измученное тело больше не поддастся. Всё кончено.
«Хильда» была парализована. Эванс без сознания лежал на койке; Верзила скорчился на полу; и, хотя Счастливчик упрямо оставался на ногах, единственным признаком жизни в нём была дрожь пальцев.
Снова в его мозгу прозвучал голос, всё такой же ровный, безжалостно монотонный:
— Ты беспомощен, но ты не потеряешь сознания, как твои товарищи. Ты будешь испытывать боль, пока не согласишься погрузить свой корабль, рассказать нам всё, что нам нужно, и закончить свою жизнь. Мы можем терпеливо ждать. Ты не можешь сопротивляться нам. Ты не можешь бороться с нами. На нас не действует подкуп. Не действуют угрозы.
Дэвид сквозь бесконечную пытку почувствовал, как в его вялом, затянутом болью мозгу рождается какая-то мысль.
Подкуп? Угроза?
Подкуп?
Даже в полубессознательном состоянии вспыхнула мысль.
Он оставил радио, мысленно отвернулся от него, и боль сразу стала меньше. Он сделал осторожный шаг в сторону, боль ещё уменьшилась. Он совсем отвернулся.
Дэвид старался не думать. Старался действовать автоматически, без предварительного планирования. Они сосредоточились на том, чтобы не дать ему воспользоваться радио. Они не должны осознать другой угрожающей им опасности. Безжалостный враг не должен разгадать его намерения и помешать ему. Он будет действовать быстро. Они не смогут его остановить.
Не должны!
Он добрался до медицинского шкафчика и раскрыл его дверцу. Зрение его затуманилось, и он потратил драгоценные секунды, отыскивая ощупью.
Голос произнес:
— Каково твоё решение? — Боль снова начала усиливаться.
Счастливчик держал её — квадратную бутылочку из голубого силикона. Пальцы его искали маленькую кнопку, которая отключает парамагнитное микрополе, плотно закрывающее крышку.
Он вряд ли почувствовал кнопку. Вряд ли видел, как сдвинулась и упала крышка. Вряд ли слышал, как она ударилась о пол. Как в тумане, он видел открытую бутылочку, как в тумане, он протянул руку с нею к эжектору.
Боль вернулась со всей яростью.
Левая рука Дэвида протянулась к дверце эжектора; дрожащая правая рука поднесла к отверстию драгоценную бутылочку.
Рука двигалась целую вечность. Он больше ничего не видел. Всё покрыл красный туман.
Он почувствовал, как рука и бутылочка ударились о стенку. Он толкнул руку дальше, но она не двигалась. Пальцы левой руки болезненно оторвались от дверцы эжектора и двинулись к бутылочке.
Он не может уронить её. Если уронит, у него не будет сил её поднять.
Теперь он держал её двумя руками и двумя руками потянул вверх. Она рывками поднималась, а Старр из последних сил удерживался на краю сознания.
Бутылочка исчезла!
В миллионах миль, как ему показалось, он услышал свист сжатого воздуха и понял, что бутылочку выбросило в теплый венерианский океан.
На мгновение боль дрогнула и затем одним гигантским рывком исчезла полностью.
Счастливчик осторожно распрямился и отошёл от стены. Лицо и тело его были покрыты потом, мысли всё ещё путались.
Как только смог, он, шатаясь, двинулся к передатчику, и на этот раз его ничто не остановило.
Эванс сидел, обхватив голову руками. Он жадно пил воду и повторял:
— Я ничего не помню. Я ничего не помню.
Верзила, голый по пояс, обтирал голову и грудь влажной тряпкой, на его лице была неуверенная улыбка.
— Я помню. Всё помню. Я стоял, слушая, как ты разговариваешь с этим голосом, Счастливчик, а затем без всякого предупреждения растянулся на полу. Не мог повернуть голову, не мог даже мигнуть, но всё слышал. Слышал голос и твои слова, Дэвид. Я видел, как ты двинулся к радио…
Он перевел дыхание и покачал головой.
— В первый раз у меня не получилось, — негромко сказал Старр.
— Не знаю. Ты вышел из поля моего зрения, и после этого я мог только лежать и ждать, когда ты начнешь передачу. Ничего не происходило, и я решил, что они и тобой завладели. Мысленно я видел, как мы все трое лежим, как живые трупы. Всё кончено, а я даже пальцем не могу шевельнуть. Могу только дышать. Потом ты снова показался, и мне захотелось смеяться, и плакать, и кричать одновременно, но я мог только лежать. Я едва видел, как ты приклеился к стене. Не мог понять, что ты делаешь, но через несколько минут всё кончилось. Уф!
Эванс устало сказал:
— И мы действительно направляемся в Афродиту? Это правда?
— Да, если только наши приборы не врут, но я не думаю, чтобы они врали, — ответил Дэвид. — Когда вернемся и найдем время, нам всем не помешает медицинская помощь.
— Сон! — настаивал Верзила. — Это всё, что мне нужно. Всего два дня непрерывного сна.
— И это тоже, — сказал Счастливчик.
Но на Эванса испытание подействовало очень сильно. Это было ясно видно по тому, как он обхватил себя руками, как ссутулился в кресле. Он сказал:
— Они больше не вмешаются в наши действия?
На слове «они» он сделал лёгкое ударение.
— Не могу гарантировать, — ответил Дэвид, — но худшее уже позади. Я связался с космической станцией.
— Ты уверен? Ошибки быть не может?
— Нет. Меня связали с Землей, и я разговаривал непосредственно с Конвеем. Эта часть задачи решена.
— Значит, решена вся задача, — радостно заявил Верзила. — Земля готова. Она знает правду о венерианских лягушках.
Дэвид улыбнулся, но ничего не сказал.
— Ещё одно, Счастливчик, — сказал Верзила. — Что же произошло? Как тебе удалось вырваться? Пески Марса! Что ты сделал?
Старр ответил:
— Ничего такого, о чём я не мог бы догадаться раньше. Это спасло бы нас от большей части неприятностей. Голос сказал, что всё, что им нужно, — это жить и мыслить. Помнишь, Верзила? Позже он сказал, что мы не можем ни угрожать им, ни подкупить их. Только тогда я понял, что ты узнал их лучше и нашёл выход.
— Я узнал? — тупо спросил Верзила.
— Конечно, ты. Через две минуты после того, как ты впервые увидел венлягушку, ты знал, что жизнь и мышление не всё, что ей необходимо. На пути к поверхности я тебе рассказывал, что венерианские растения запасают кислород, так что венерианские животные получают кислород в пище и потому не дышат. Вероятно, они получают слишком много кислорода и потому так любят пищу, в которой его мало, например углеводороды. Вроде тавота. Помнишь?
Глаза Верзилы расширились.
— Конечно.
— Подумай только, как они жаждут углеводородов. Как ребенок конфет.
Верзила ещё раз сказал:
— Конечно.
— И вот венлягушки держат нас под мысленным контролем, но для этого им нужно сосредоточиться. А если я отвлеку их, по крайней мере тех, кто ближе всего к кораблю и чье влияние на нас сильнее всего? Поэтому я сделал очевидное.
— Но что? Не томи, Счастливчик.
— Выбросил открытую бутылочку с нефтяным коллоидом, которую нашёл в медицинском шкафу. Это чистый углеводород, гораздо более чистый, чем в тавоте. Они не смогли сопротивляться. Хотя ставка была очень высока, всё равно не смогли. Ближайшие тут же нырнули за бутылочкой. Те, что подальше, находились с ближайшими в мысленном контакте, и их мысли тут же перешли на углеводород. Они утратили контроль над нами, и я был способен отправить сообщение. Вот и всё.
— Значит, с ними покончено, — сказал Эванс.
— Я совсем не уверен, — ответил Старр. — Есть кое-что…
Он отвернулся, нахмурившись, плотно сжав губы, как будто и так сказал слишком много.
В иллюминаторе великолепно сверкал купол, и на сердце у Верзилы повеселело при его виде. Он поел, даже немного поспал, и его неукротимый дух снова кипел. Лу Эванс тоже пришёл в себя. Только Дэвид оставался задумчивым.
Верзила сказал:
— Говорю тебе, Счастливчик, венлягушки деморализованы. Посмотри, мы прошли через сотни миль океана, а они нас не тронули.
Дэвид ответил:
— Сейчас я как раз думаю, почему нам не отвечает купол.
Эванс, в свою очередь, нахмурился.
— Должны были уже ответить.
Верзила переводил взгляд с одного на другого.
— Вы думаете, что-то случилось в городе?
Старр взмахом руки призвал к молчанию. Из приёмника послышался быстрый низкий голос:
— Назовитесь.
Счастливчик сказал:
— Корабль «Хильда» из Афродиты, дело Совета Науки, возвращаемся в Афродиту. Говорит Дэвид Старр.
— Вам придётся подождать.
— Почему?
— Все шлюзы в данный момент заняты.
Эванс нахмурился и прошептал:
— Это невозможно, Дэвид.
Старр спросил:
— Какой шлюз освободится? Дайте мне его координаты и направьте нас по ультрасигналу.
— Вам придётся подождать.
Связь оставалась включенной, но человек на другом конце замолчал.
Верзила возмущенно сказал:
— Вызови Морриса, Дэвид. Это приведет их в действие.
Эванс неуверенно заметил:
— Моррис считает меня предателем. Может, он решит, что вы присоединились ко мне?
— В таком случае он поторопился бы вернуть нас в город. Нет, я считаю, что говоривший с нами человек находится под мысленным контролем.
Эванс сказал:
— Чтобы помешать нам войти? Ты серьёзно?
— Серьёзно.
— Но в конце концов они не могут помешать нам войти, если только… — Эванс побледнел и двумя шагами подскочил к иллюминатору. — Дэвид, ты прав! Они выдвигают орудийный бластер! Они взорвут нас в воде!
Верзила тоже был у иллюминатора. Ошибки не было. Секция купола скользнула в сторону, и сквозь отверстие просунулась прямоугольная труба.
Верзила в ужасе смотрел, как ствол опустился и нацелился прямо на «Хильду». Их корабль не вооружен. И не сможет набрать скорость, чтобы уйти от выстрела. Казалось, их ждёт неминуемая гибель.
Глава 15
ВРАГ?
Верзила почувствовал, как в ожидании близкой смерти судорожно сжимаются внутренности; и тут же услышал, как Старр настойчиво повторяет в передатчик:
— Подводный корабль «Хильда» прибывает с грузом нефти… Подводный корабль «Хильда» прибывает с грузом нефти… Подводный корабль «Хильда» прибывает с грузом нефти… Подводный корабль…
С другого конца послышался возбуждённый голос.
— Клемент Херберт у управления шлюзом. Что случилось? Повторяю. Что случилось? Клемент Херберт…
Верзила закричал:
— Бластер убирают!
Старр облегченно вздохнул, и только сейчас стало видно, в каком он был напряжении. Он сказал в передатчик:
— Подводный корабль «Хильда» ожидает входа в Афродиту. Пожалуйста, укажите шлюз. Повторяю. Укажите шлюз.
— Занимайте шлюз номер пятнадцать. Следуйте направляющему сигналу. Тут у нас какое-то происшествие.
Дэвид сказал:
— Лу, садись за управление и как можно быстрее введи корабль в город.
И он знаком поманил за собой Верзилу в соседнее помещение.
— Что… что… — Верзила захлебывался, как дырявое водяное ружье.
Счастливчик вздохнул и сказал:
— Я считал, что венлягушки попробуют удержать нас вне города. Но не думал, что зайдёт так далеко. Пушечный бластер! Я вовсе не был уверен, что трюк с нефтью подействует.
— Но как он подействовал?
— Опять углеводород. Нефть — это углеводород. Я говорил по открытому радио, и венлягушки, державшие купол под контролем, отвлеклись.
— Но откуда они знают, что такое нефть?
— Я мысленно рисовал её в своём воображении, Верзила. А они читают мысли, особенно если подкрепить их словами. Но сейчас уже неважно. — Он перешёл на шёпот. — Если они готовы были уничтожить нас в океане, если собирались взорвать нас бластером, значит, у них крайнее положение. Но и у нас тоже. Мы должны покончить с этим немедленно. И не допускать никаких ошибок. Одна ошибка на этой стадии может стать фатальной.
Из кармана Старр извлек ручку и принялся быстро писать на листочке фольги.
Он передал написанное Верзиле.
— Делай то, что здесь указано, когда я дам знак.
Глаза Верзилы распахнулись.
— Но, Счастливчик…
— Шшш! Ничего не говори вслух.
Верзила кивнул.
— Ты уверен, что прав?
— Надеюсь. — Красивое лицо Дэвида было взволнованным. — Теперь Земля знает о венлягушках, поэтому человечество им не победить. Но здесь, на Венере, они могут причинить вред. Это надо предотвратить. Ты понимаешь, что тебе нужно сделать?
— Да.
— В таком случае… — Старр свернул фольгу и смял её своими сильными пальцами. Ручку он положил обратно в карман.
Позвал Лу Эванс:
— Мы в шлюзе, Дэвид. Через пять минут будем в городе.
— Хорошо. Свяжись с Моррисом.
И вот они снова в штаб-квартире Совета в Афродите, в той же комнате, подумал Верзила, в которой он впервые увидел Лу Эванса; в той же комнате, где он впервые встретился с венлягушкой. Он вздрогнул, подумав о мысленных щупальцах, которые в первый раз проникли в его мозг, а он об этом и не подозревал.
У комнаты появилось одно отличие. Аквариум исчез; исчезли блюда с горохом и с тавотом; высокие столы у фальшивого окна были пусты.
Моррис молча указал на них, как только они вошли. Его пухлые щеки обвисли, вокруг глаз ясно выделялись морщины. Рукопожатие было неуверенным.
Верзила осторожно поставил на стол то, что принес.
— Нефть в коллоидном состоянии, — сказал он.
Лу Эванс сел. Старр тоже.
Моррис не садился. Он сказал:
— Я избавился от венлягушек во всем здании. И это всё, что я могу сделать. Я не могу заставлять людей уничтожать своих любимцев, не указывая причины. А причину указать тоже не могу.
— Сделанного вполне достаточно, — сказал Дэвид. — Я прошу вас во время всего разговора не отрывать взгляда от углеводорода. И постоянно держите его в сознании.
— Вы думаете, это поможет? — спросил Моррис.
— Да.
Моррис остановился прямо перед Счастливчиком. Голос его внезапно задрожал.
— Старр, я не могу поверить. Венлягушки находились в городе долгие годы. Почти с момента основания города.
— Вы должны помнить… — начал Старр.
— Что я под их контролем? — Моррис покраснел. — Это не так. Я это отрицаю.
— Тут нечего стыдиться, доктор Моррис, — твёрдо сказал Дэвид. — Эванс находился под их контролем несколько дней, Верзила и я тоже контролировались. Вполне возможно искренне не подозревать о том, что твой мозг постоянно просматривается.
— У вас нет доказательств, но не в этом дело, — горячо сказал Моррис. — Допустим, вы правы. Вопрос в том, что нам делать. Как нам с ними бороться? Посылать людей против них бесполезно. Если мы пошлем флот бомбардировать Венеру из космоса, они в отместку могут открыть все купола и затопить города. Мы даже не сможем перебить на Венере венлягушек. Океан занимает восемьсот миллионов кубических миль, у них есть где скрыться, а при желании они размножаются как угодно быстро. Я признаю, что важно было передать сообщение на Землю, но у нас всё ещё остаётся множество нерешенных проблем.
— Вы правы, — согласился Счастливчик. — Но дело в том, что я сообщил Земле не всё. Я не был уверен, что знаю всю правду. Я…
Прозвенел интерком, Моррис рявкнул:
— Что там?
— Лайман Тернер, сэр, — был ответ.
— Секунду. — Венерианин повернулся к Дэвиду и шёпотом спросил: — Вы уверены, что он нам нужен?
— Вы договорились с ним о встрече по вопросу укрепления транзитовых перегородок в городе, не так ли?
— Да, но…
— Тернер жертва. Сейчас мы получим ясные доказательства. Помимо нас, он единственный из высокопоставленных чиновников, кто в первую очередь должен стать жертвой. Да, он нам нужен.
Моррис сказал в интерком:
— Пусть войдёт.
Худое лицо и крючковатый нос Тернера являли собой знак вопроса. Тишина в комнате и устремленные на него напряженные взгляды заставили бы и менее чувствительного человека встревожиться.
Он опустил свой компьютер на пол и спросил:
— Что случилось, джентльмены?
Медленно, тщательно Старр изложил суть происшедшего.
Тонкие губы Тернера шевельнулись. Он потрясенно сказал:
— Вы утверждаете, что мой мозг…
— Как иначе человек у шлюза знал бы, как защититься от вторжения? Он не имел опыта, знаний, однако использовал всю необходимую электронную технику в совершенстве.
— Никогда не думал об этом. Никогда не думал. — Голос Тернера был едва различим. — Как я мог не догадаться?
— Они хотели, чтобы вы не догадывались, — сказал Дэвид.
— Мне стыдно.
— Вы в хорошей компании, Тернер. Я сам, доктор Моррис, член Совета Эванс…
— Что же нам делать?
Счастливчик сказал:
— Именно это спрашивал доктор Моррис, когда вы пришли. Нужно хорошенько подумать. Одна из причин, почему вы понадобились, — нам пригодится ваш компьютер.
— Океаны Венеры, надеюсь! — горячо воскликнул Тернер. — Он поможет нам… — И он поднес руки к голове, как будто опасался, что на плечах у него чужая голова.
— Мы теперь не под контролем? — спросил он.
Эванс сказал:
— Да, пока концентрируем мысли на этом коллоидном растворе нефти.
— Не понимаю. Как это поможет?
— Поможет. Как — неважно в данный момент, — сказал Дэвид. — Хочу продолжить то, что собирался сказать, когда вы пришли.
Верзила уселся на стол, на котором раньше стоял аквариум. Он смотрел на открытую бутылочку на другом столе и слушал.
Счастливчик спросил:
— Уверены ли мы, что именно венлягушки представляют реальную опасность?
— Но это ведь ваша теория, — удивленно сказал Моррис.
— Да, это способ контролировать мозг человека; но кто наш враг на самом деле? Венлягушки как отдельные особи кажутся не вполне разумными.
— Как это?
— Та лягушка, что была у вас, не смогла удержаться от того, чтобы не трогать наш мозг. Она выразила своё удивление от того, что у нас нет усов. Она приказала Верзиле дать ей горох в тавоте. Это разумно? Она ведь сразу себя выдала.
Моррис пожал плечами.
— Может, не все лягушки разумны.
— Но дело не только в этом. В глубинах океана мы были совершенно беспомощны в их мысленных тисках. Но так как я кое о чём догадался, я попробовал выбросить за борт бутылочку с нефтью, и это подействовало. Они отвлеклись. Обратите внимание, всё их дело находилось под угрозой. Они должны были во что бы то ни стало не дать информировать Землю. Но они забыли обо всём из-за бутылочки с нефтью. Когда мы возвращались в Афродиту, они почти покончили с нами. На нас нацелили бластер, когда простое упоминание о нефти разрушило все их планы.
Тернер зашевелился.
— Теперь я понимаю, при чем тут нефть, Старр. Все знают, что венлягушки любят жир в любом виде. Эта страсть слишком сильна для них.
— Слишком сильна, чтобы быть достаточно разумными в борьбе с землянами? А вы, Тернер, отказались бы от жизненно необходимой победы ради бифштекса или куска шоколадного торта?
— Конечно, нет, но разве это доказывает, что лягушки не могут отказаться?
— Доказывает, уверяю вас. Мозг венлягушек для нас чужд, и не следует считать, что то, что действует на наш мозг, действует и на их. Но всё же то, как их отвлекает мысль об углеводороде, подозрительно. Я бы скорее сравнил венлягушек с собакой, а не с человеком.
— Каким образом? — спросил Тернер.
— Подумайте. Собаку можно научить делать множество вполне на первый взгляд разумных вещей. Существо, которое никогда не видело собак, не слышало о них, видит, как собака переводит слепого через улицу. Кого оно будет считать разумным: человека или собаку? Но если это существо поманит собаку костью и увидит результат, оно тут же заподозрит истину.
Глаза Тернера выпучились. Он сказал:
— Вы утверждаете, что венлягушки лишь орудие в руках человека?
— Разве это не вероятно, Тернер? Как только что заметил доктор Моррис, венлягушки годами жили в городе, но только в последние месяцы стали причинять неприятности. И начались эти неприятности с незначительных происшествий, вроде того человека, что раздавал на улицах свои деньги. Как будто кто-то изучал естественные способности лягушек к телепатии, пробовал использовать их как орудие проникновения в сознание других людей. Как будто сначала нужно было попрактиковаться, узнать природу и ограничения своего орудия, закрепить свой контроль, пока не пришло время исполнения главных замыслов. Но это вовсе не дрожжи; контроль всей Солнечной Конфедерации; может быть, власть над всей Галактикой.
— Не могу поверить, — сказал Моррис.
— Тогда я вам дам ещё одно доказательство. Когда мы были в океане, с нами говорил мысленный голос — предположительно голос венлягушек. Он пытался заставить нас предоставить информацию, а затем совершить самоубийство.
— Ну и что?
— Голос исходил от венлягушек, но источник его не в них. Источник — человек.
Лу Эванс распрямился и с недоверием посмотрел на Старра.
Тот улыбнулся.
— Даже Лу не верит, но это так. Голос использовал странные концепции, вроде «машина из сверкающего металла» вместо «корабль». Мы должны были подумать, что венлягушки не знакомы с подобными концепциями, и описательное выражение должно было побудить нас поверить в это. Но голос ошибся. Я помню, что он произносил. Помню слово в слово: «Жизнь людей закончится, как погасшее пламя. Его задуют, и жизнь снова не загорится».
Моррис снова спросил:
— Ну и что?
— Вы до сих пор не понимаете? Как могли венлягушки использовать концепции типа «погасшее пламя» или «жизнь снова не загорится»? Если голос подразумевал, что венлягушки не знают, что такое корабль, как они могут знать, что такое огонь?
Теперь все поняли, но Старр упорно продолжал:
— Атмосфера Венеры состоит из азота и двуокиси углерода. Кислорода в ней нет. Мы все это знаем. Ничто не может гореть в атмосфере Венеры. Тут не может быть огня. Миллионы лет венлягушки, вероятно, ни разу не видели огня; они не могут о нём знать. Даже если кто-нибудь из них видел огонь в куполах, они могут понять его природу не больше, чем устройство наших кораблей. Как видите, мысли, которые нам сообщали, происходят не из мозга венлягушек, а из мозга человека, использовавшего лягушек в качестве своего орудия.
— Но как это можно сделать? — спросил Тернер.
— Не знаю, — ответил Дэвид. — Хотел бы знать. Несомненно, для этого нужен гениальный мозг. Человек, который хорошо знает, как работает мозг. — Он холодно взглянул на Морриса. — Для этого нужен человек, специализирующийся, например, в биофизике.
Все глаза устремились на венерианского советника, с его круглого лица отхлынула кровь, и седые усы, казалось, едва выделяются на его бледном фоне.
Глава 16
ВРАГ!
Моррис наконец смог вымолвить:
— Вы пытаетесь… — и его хриплый голос замер.
— Я ничего не утверждаю, — спокойно сказал Дэвид. — Я всего лишь высказываю предположение.
Моррис беспомощно огляделся, по очереди заглядывая в лица четверых собравшихся в комнате; все смотрели на него с напряжением.
Он, задыхаясь, выговорил:
— Это безумие, полное безумие. Я первым сообщил обо всём… об этих… неприятностях на Венере. Можете найти в штаб-квартире на Земле первоначальный рапорт. Я его подписал. Зачем мне обращаться к Совету, если я… Каковы мои мотивы? А? Каковы мотивы?
Советник Эванс беспокойно зашевелился. По быстрому взгляду, который тот бросил на Тернера, Верзила заключил, что подобное вынесение сора из Совета наружу, в присутствии посторонних, ему не понравилось.
Но он сказал:
— Это объясняет усилия доктора Морриса по дискредитации меня. Я мог нащупать истину. В сущности, я почти нашёл её.
Моррис тяжело дышал.
— Я отрицаю всё это. Это заговор против меня, и для вас это плохо кончится. Я добьюсь справедливости.
— Вы считаете, что должен состояться суд Совета? — спросил Старр. — Хотите, чтобы ваш случай рассматривался на заседании объединенного Центрального Комитета Совета?
Дэвид ссылался на процедуру, предназначенную для суда над членами Совета, обвиненными в измене Совету и Солнечной Конфедерации. За всю историю Совета ни один человек не представал перед таким судом.
При этом упоминании последние остатки самоконтроля покинули Морриса. Подняв кулаки, он с яростным воплем бросился на Дэвида.
Тот проворно перескочил через ручку кресла и в то же время сделал знак Верзиле.
Верзила ждал этого сигнала. Он продолжал следовать инструкциям, которые дал ему Счастливчик на борту «Хильды», когда они входили в шлюз Афродиты.
Послышался свист бластера. Мощность выстрела была низкой, но ионизирующая радиация вызвала появление резкого запаха озона в воздухе.
Все застыли. Моррис лежал, спрятав голову под перевернутым стулом, не делая попыток встать. Верзила продолжал стоять, как маленькая статуя, держа в руке бластер, как будто был заморожен в момент выстрела.
А обломки цели выстрела валялись на полу.
Лу Эванс первым пришёл в себя, но лишь для восклицания:
— Во имя космоса!..
Лайман Тернер прошептал:
— Что вы сделали?
Моррис, который тяжело дышал от недавних усилий, ничего не мог сказать, только молча уставился на Счастливчика.
Тот сказал:
— Прекрасный выстрел, Верзила, — и Верзила улыбнулся.
Компьютер Лаймана Тернера лежал на полу в сотнях обломков, большая часть его просто испарилась.
Тернер наконец обрел голос:
— Мой компьютер! Идиот! Что вы сделали?
Старр строго ответил:
— Только то, что должен был сделать, Тернер. Теперь все молчите.
Он повернулся к Моррису, помог полному венерианину встать и сказал:
— Простите меня, доктор Моррис, но я должен был полностью отвлечь внимание Тернера. Пришлось для этого использовать вас.
Моррис сказал:
— Так вы не подозреваете меня в…
— Ни в малейшей степени, — сказал Дэвид. — И никогда не подозревал.
Моррис отодвинулся, глаза его сверкали гневно и горячо.
— В таком случае вы обязаны объяснить, Старр.
— Перед этой встречей, — начал Счастливчик, — я никому не решался сказать, что за венлягушками стоит человек. Я не мог этого вставить даже в своё сообщение на Землю. Я понимал, что, если сделаю это, подлинный враг решится на отчаянный поступок — может быть, действительно затопит один из городов, а угрозой повторения этого будет шантажировать нас. Но пока он не знает, что я заподозрил присутствие человека за венлягушками, я надеялся, что он ограничится тем, что постарается убить меня и моих друзей.
На этой встрече я решился говорить, потому что виновник присутствует здесь. Однако я не мог предпринять никаких действий без должной подготовки, иначе он смог бы взять нас под контроль, несмотря на наши думы о нефти, из боязни дальнейших наших решительных действий. Вначале мне нужно было отвлечь его, чтобы он не смог обнаружить — через лягушек — эмоции и мысли мои и Верзилы. Разумеется, в здании нет венлягушек, но он может использовать лягушек в других частях города или в океане на поверхности в нескольких милях от Афродиты.
Чтобы отвлечь его, я обвинил вас, доктор Моррис. Я не мог предупредить вас, я хотел, чтобы ваши эмоции были искренними — и они были такими. Ваше нападение на меня — это то, что было нужно.
Моррис вытащил из кармана платок и вытер блестящий лоб.
— Весьма решительно, Дэвид, но мне кажется, я понимаю. Этот человек — Тернер, так?
— Да.
Тернер стоял на коленях среди обломков своего компьютера. Он посмотрел с ненавистью:
— Вы разрушили мой компьютер.
— Сомневаюсь, чтоб это был компьютер, — ответил Старр. — Слишком уж он был неразлучен с вами. Когда я впервые вас встретил, он был с вами. Вы сказали, что использовали его для расчётов прочности внутреннего барьера города против угрозы наводнения. Теперь компьютер с вами, вероятно, для того, чтобы в разговоре с доктором Моррисом рассчитать прочность внешних барьеров.
Счастливчик помолчал и продолжал с жестким спокойствием в голосе:
— Но я побывал в вашей квартире в то утро, когда угрожало наводнение. Я собрался задать вам несколько вопросов, для которых совсем не нужны расчёты, и вы это знали. Однако компьютер был с вами. Вы не могли оставить его в соседней комнате. Он должен был быть рядом с вами, у ваших ног. Почему?
Тернер с отчаянием ответил:
— Это моя собственная конструкция. Я гордился ею. И всегда носил компьютер с собой.
— Я полагаю, он весит примерно двадцать пять фунтов. Тяжеловат, даже если испытываешь к нему страсть. А может, это прибор, при помощи которого вы постоянно поддерживали связь с венлягушками?
— Как вы это докажете? — спросил Тернер. — Вы сами сказали, что я жертва. Все слышали это.
— Да, — согласился Старр, — человек, который, несмотря на свою неопытность, так искусно оперировал у шлюза, получил информацию от вас. Но была ли эта информация украдена из вашего мозга или вы сами передали её?
Моррис гневно сказал:
— Позвольте поставить вопрос прямо, Дэвид. Вы виновны в эпидемии умственного контроля, Тернер?
— Конечно, нет! — воскликнул Тернер. — Вы ничего не можете сделать на основании слов этого молодого придурка, который считает, что может строить нелепые догадки только потому, что он член Совета.
Дэвид сказал:
— Скажите, Тернер, помните ли вы ту ночь, когда человек с рычагом в руке сидел у шлюза? Хорошо помните?
— Очень хорошо.
— Вы помните, как пришли ко мне и сказали, что, если вода ворвётся, внутренние перегородки не выдержат и вся Афродита будет затоплена? Вы были очень испуганы. Почти в панике.
— Да. Был. Я и сейчас испуган. Тут есть чего испугаться. — Он добавил, скривив губы: — Если, конечно, ты не бравый Счастливчик Старр.
Дэвид не обратил на это внимания.
— Вы пришли, чтобы добавить смятения? Чтобы быть уверенным, что Лу Эванс спокойно уйдёт из города, и в глубинах океана его нетрудно будет убить? С Эвансом трудно было справиться, он слишком много узнал о венлягушках. А может, заодно вы старались запугать меня, чтобы я улетел с Венеры на Землю.
Тернер ответил:
— Всё это нелепо. Внутренние барьеры непрочны. Спросите Морриса. Он видел мои расчёты.
Моррис неохотно кивнул.
— Боюсь, в этом Тернер прав.
— Неважно, — сказал Старр. — Посмотрим, что это означает. Существовала реальная опасность, и Тернер справедливо встревожился… Вы ведь женаты, Тернер.
Глаза Тернера беспокойно устремились к лицу Дэвида, потом он отвел взгляд.
— Ну и что?
— Ваша жена прелестна и значительно моложе вас. Вы женаты меньше года.
— И что же это доказывает?
— То, что вы испытываете к ней глубокую страсть. Чтобы доставить ей удовольствие, вы сразу после брака переселились в очень дорогой дом; вы позволили ей украсить квартиру в соответствии с её вкусами, хотя ваши вкусы отличаются от них. Разумеется, вы не стали бы пренебрегать её безопасностью, не так ли?
— Не понимаю. О чём вы говорите?
— Думаю, что понимаете. Когда я встретился с вашей женой, она рассказала, что проспала всю ночь, когда случилось происшествие. Она была этим очень разочарована. Рассказывала мне также, в каком прекрасном доме живёт. Она сказала, что в доме даже есть подвальные комнаты. К несчастью, мне тогда это ничего не сказало, иначе я бы уже тогда заподозрил истину. Только позже, на дне океана, Лу Эванс упомянул совершенно случайно про эти подвальные комнаты и объяснил, что это такое. Этим сочетанием на Венере обозначают специальные убежища, которые могут противостоять океану, если он по какой-то причине ворвётся в город. Теперь вы понимаете, о чём я говорю?
Тернер молчал.
Старр продолжал:
— Если вы были так испуганы возможной катастрофой в городе, почему не подумали о жене? Говорили о спасении людей, об эвакуации населения. А о безопасности жены не вспомнили. В её доме есть убежища. Две минуты, и она была бы в безопасности. Вам нужно было только позвонить ей, сказать два слова, предупредить. Вы не стали. Вы позволили ей спать.
Тернер что-то пробормотал.
Счастливчик сказал:
— Не говорите, что забыли. Это совершенно невероятно. Вы могли забыть обо всём, но не о безопасности жены. Позвольте представить другое объяснение. Вы не беспокоились о жене, потому что знали, что ей не угрожает реальная опасность. Вы это знали, потому что знали также, что шлюз в куполе не будет открыт. — В голосе Дэвида звучал гнев. — Вы знали, что шлюз не будет открыт, потому что сами осуществляли контроль человека у шлюза. Вас выдала ваша привязанность к жене. Вы не захотели нарушать её сон из-за ложной тревоги, чтобы придать вашим действиям большее правдоподобие.
Тернер неожиданно сказал:
— Я больше не скажу ни слова без адвоката. Ваши слова не доказательство.
Старр ответил:
— Но их достаточно для полного расследования Советом… Доктор Моррис, отправьте его в тюрьму и далее под охраной на Землю. Мы с Верзилой полетим с ним. Мы хотим, чтобы он добрался благополучно.
В отеле Верзила с беспокойством сказал:
— Пески Марса, Счастливчик, я не вижу, как добыть доказательства против Тернера. Твои рассуждения звучат убедительно, но это не доказательство для закона.
Дэвид после обильного дрожжевого обеда смог расслабиться впервые с того момента, как они с Верзилой прорезали облачное покрывало Венеры. Он сказал:
— Не думаю, чтобы Совет интересовали законные доказательства или чтобы он потребовал казни Тернера.
— Счастливчик! А почему нет? Этот тип…
— Знаю. Он многократный убийца. У него явные диктаторские замашки, к тому же он предатель. Но важнее то, что он гений.
Верзила спросил:
— Ты имеешь в виду его машину?
— Да. Мы уничтожили единственный экземпляр, и нам нужно построить другой. На многие вопросы нужно получить ответ. Как Тернер контролировал венлягушек? Когда он задумал убийство Лy Эванса, инструктировал ли он их подробно, объяснял всю последовательность действий, приказывал привести гигантское пятно? Или просто приказал: «Убейте Эванса» — и позволил венлягушкам действовать так, как они сочтут нужным?
Далее, можно представить себе, насколько полезен будет такой инструмент. Это совершенно новый способ борьбы с душевными болезнями, новый способ подавления преступных инстинктов. Возможно даже, в будущем его применят для предотвращения войн или для быстрой и бескровной победы над врагами Земли, если они навяжут войну. Такая машина слишком опасна в руках тщеславного человека, но в руках Совета она будет очень полезна и станет настоящим благословением.
Верзила спросил:
— Ты думаешь, Совет уговорит его построить ещё одну такую машину?
— Думаю, да, с соответствующими предосторожностями, конечно. Если ему предложат на выбор прощение либо пожизненное тюремное заключение с невозможностью видеться с женой, я думаю, он согласится помочь. И, конечно, одним из первых применений машины станет исследование мозга самого Тернера, чтобы излечить его от болезненной жажды власти и заставить этот первоклассный мозг служить человечеству.
Завтра они покинут Венеру, снова направляясь на Землю. Дэвид с приятной ностальгией думал о голубом небе родной планеты, об открытом воздухе, естественной пище, о размахе пространства и жизни. Он сказал:
— Запомни, Верзила, очень просто «защитить общество», казнив преступника. Но это не оживит его жертвы. Если можно исправить его и использовать, чтобы сделать жизнь всего общества лучше, как много можно благодаря этому достичь!
Книга IV. СЧАСТЛИВЧИК СТАРР И БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕ МЕРКУРИЯ
От автора
Эта книга была впервые опубликована в 1956 году, и описание поверхности Меркурия соответствует астрономическим представлениям того времени.
Однако с 1956 года астрономические знания о ближайших к Солнцу планетах значительно обогатились благодаря использованию радаров и ракет.
В 1956 году считалось, что Меркурий одной стороной всегда обращен к Солнцу, так что одна его сторона всегда освещена, а другая находится в постоянной тьме, и есть пограничный район, иногда освещаемый Солнцем, иногда нет.
Однако в 1965 году астрономы изучили отражения радарного луча от поверхности Меркурия и, к своему удивлению, установили, что это не так. Меркурий обращается вокруг Солнца за 88 дней, а вокруг своей оси поворачивается за 59 дней. Это значит, что вся поверхность Меркурия в то или иное время освещается Солнцем и «темной стороны» вообще нет.
Надеюсь, читателям все равно понравится книга, но не хотел бы, чтобы они воспринимали как соответствующие действительности представления, которые в 1956 году считались истинными, но к нашему времени устарели.
Айзек АЗИМОВ. Ноябрь 1970 г.Глава 1
СОЛНЕЧНЫЕ ПРИЗРАКИ
Счастливчик Старр и его маленький друг Джон Верзила Джонс вслед за молодым инженером поднялись к шлюзу, ведущему на поверхность планеты Меркурий.
Дэвид подумал: «По крайней мере события развиваются быстро».
Он всего час находился на Меркурии. Успел лишь проверить, благополучно ли доставлен его корабль «Метеор» в ангар под поверхностью. И встречался только с техниками, осуществлявшими посадку и все связанные с ней бюрократические процедуры, и инженером Скоттом Майндсом, возглавлявшим проект «Свет». Молодой человек как будто поджидал их. И почти сразу предложил подняться на поверхность.
Показать местные виды, как он объяснил.
Старр, конечно, в это не поверил. Лицо инженера с маленьким подбородком осунулось, рот дергался, когда он говорил. Он отводил взгляд от холодных, внимательных глаз Дэвида.
Но Старр согласился подняться на поверхность. Пока что он знал только, что неприятности на Меркурии представляют для Совета Науки щекотливую проблему. И он готов был идти с Майндсом и смотреть всё, что тот покажет.
Что касается Верзилы Джонса, то он согласен был идти за Счастливчиком всегда и всюду, по любой причине и вообще без причины.
Но именно брови Верзилы взлетели вверх, когда они втроем облачались в скафандры. Он почти незаметно кивнул в сторону кобуры, прикрепленной к скафандру Майндса.
Дэвид спокойно кивнул в ответ. Он тоже заметил, что из кобуры высовывается рукоять тяжелого бластера.
Молодой инженер первым вышел на поверхность планеты. Старр за ним, последним шёл Верзила.
На мгновение они потеряли друг друга в почти абсолютной тьме. Только звёзды были видны, яркие и жесткие в холодной безвоздушности.
Верзила первым пришёл в себя. Тяготение на Меркурии почти точно такое же, как на его родном Марсе. Марсианские ночи почти так же темны. Звёзды на ночном небе почти такие же яркие.
Его дискант отчетливо прозвучал в приёмниках:
— Эй, я начинаю кое-что различать!
Дэвид тоже что-то увидел, и это его удивило. Конечно, звёздный свет не может быть так ярок. Беспорядочный ландшафт подернулся какой-то слабой светящейся дымкой, она окутывала острые утесы размытой молочностью.
Нечто подобное Счастливчик видел на Луне во время двухнедельной ночи. Ландшафт там тоже беспорядочный, голый и разбитый. Никогда за миллионы лет ни здесь, на Меркурии, ни на Луне не было смягчающего прикосновения ветра или дождя. Холодные голые скалы лежат без клочка изморози в безводном мире.
И в лунной ночи тоже была эта молочность. Но на Луне есть по крайней мере свет Земли. Полная Земля светит в шестнадцать раз ярче полной Луны, видимой с Земли.
Здесь, на Меркурии, в районе Солнечной обсерватории у Северного полюса, нет поблизости ни одной планеты, которая давала бы освещение.
— Это звёздный свет? — спросил Старр наконец, зная, что это не так.
Скотт Майндс устало ответил:
— Свечение короны.
— Великая Галактика! — с лёгким смешком сказал Старр. — Корона! Мне следовало знать!
— Что знать? — воскликнул Верзила. — Что происходит? Эй, Майндс, объясните!
Майндс ответил:
— Повернитесь. Вы стоите к ней спиной.
Все повернулись. Дэвид негромко свистнул, Верзила завопил от удивления. Майндс молчал.
Часть горизонта резко выделялась на жемчужном фоне неба. Каждая заостренная неровность этой части горизонта оказалась в фокусе. А над горизонтом небо мягко светилось (с высотой это сияние исчезало). Свечение состояло из ярких, изгибающихся, бледных лучей.
— Это солнечная корона, мистер Джонс, — сказал Майндс.
Даже в изумлении Верзила не забыл о своём распределении приоритетов. Он проворчал:
— Зовите меня Верзилой. — И добавил: — Корона вокруг Солнца? Я не знал, что она такая большая.
— Больше миллиона миль, — ответил Майндс, — и мы на Меркурии, самой близкой к Солнцу планете. Сейчас мы в тридцати миллионах миль от Солнца. Вы ведь с Марса?
— Родился и вырос.
— Ну, если бы вы могли взглянуть сейчас на Солнце, оно было бы в тридцать шесть раз больше, чем на Марсе. И в тридцать шесть раз ярче.
Старр кивнул. Здесь Солнце и корона в девять раз больше, чем на Земле. С Земли корону можно увидеть только во время полного затмения.
Ну что ж, пока слова Майндса соответствовали истине. Есть на что посмотреть на Меркурии. Счастливчик попытался представить себе корону полностью, увидеть Солнце, которое сейчас за горизонтом, окруженное ею. Должно быть, величественное зрелище!
Майндс продолжал с горечью в голосе:
— Этот свет называют «белым призраком Солнца».
Дэвид заметил:
— Мне нравится. Хорошее выражение.
— Хорошее? — переспросил Майндс. — Не думаю. Слишком много разговоров о призраках на этой планете. Эта планета — сплошное несчастье. Всё идёт не так, как следует. Неудача с шахтами… — Он смолк.
Старр подумал: «Пусть выговорится».
А вслух сказал:
— Где то, что мы вышли посмотреть?
— О да. Нам придётся немного пройтись. Недалеко, учитывая тяготение, но следите за поверхностью. Тут у нас нет дорог, а свет короны обманчив. Предлагаю зажечь фонари на шлемах.
При этом он щелкнул, и столб света ударил с его шлема, выше лицевой пластины, превратив поверхность в лоскутное желто-чёрное одеяло. Вспыхнули ещё два фонаря, и три фигуры двинулись, тяжело ступая ботинками с толстыми изолирующими подошвами. В вакууме они не издавали ни звука, но каждый ощущал лёгкую вибрацию.
Майндс на ходу продолжал вслух размышлять о планете. Он сказал низким напряженным голосом:
— Ненавижу Меркурий. Я здесь шесть месяцев, два меркурианских года, и меня тошнит от него. Я не думал, что и половину этого срока пробуду, но вот уже шесть месяцев, а ничего не сделано. Ничего. Всё тут неправильно. Самая маленькая планета. Самая близкая к Солнцу. Только одна сторона обращена к Солнцу. Вон там, — он указал на свечение короны, — солнечная сторона, там так жарко, что плавится свинец и закипает сера. А вон там, — рука дернулась в противоположном направлении, — единственная в системе поверхность, которая никогда не видит Солнца. Всё здесь жалкое и ничтожное.
Он замолчал, чтобы перепрыгнуть через мелкую, шести футов шириной щель, напоминание о каком-то древнем меркуротрясении, шрам, который в отсутствие ветра и дождей так и не смог залечиться. Прыгнул он неуклюже — землянин, который и на Меркурии большую часть времени проводит при земном тяготении под Куполом обсерватории.
Увидев это, Верзила неодобрительно щелкнул языком. Они со Счастливчиком преодолели трещину, едва заметно увеличив шаг.
Спустя четверть мили Майндс неожиданно сказал:
— Можно увидеть отсюда, мы как раз вовремя.
Он остановился, наклонился вперёд, замахал руками, восстанавливая равновесие. Верзила и Старр остановились с небольшим подскоком, разбросав немного камней.
Майндс выключил свой фонарь и указал куда-то рукой. Дэвид и Верзила тоже выключили фонари и увидели в темноте, там, куда указывал Майндс, белое пятно неправильной формы.
Яркое пятно, ярче любого рассвета на Земле.
— Отсюда лучше всего смотреть, — сказал Майндс. — Это вершина Чёрно-Белых гор.
— Они так называются? — спросил Верзила.
— Да. Видите почему? Горы находятся вблизи ночной стороны терминатора — это граница между тёмной и солнечной сторонами.
— Я это знаю, — негодующе сказал Верзила. — Вы думаете, я невежа?
— Просто объясняю. Есть небольшой район вокруг Северного полюса и другой — вокруг Южного, тут терминатор почти не сдвигается при вращении Меркурия вокруг Солнца.
Ближе к экватору терминатор перемещается за сорок четыре дня на семьсот миль в одном направлении, потом в следующие сорок четыре дня назад на семьсот миль. Тут он передвигается всего на полмили, поэтому здесь подходящее место для обсерватории. Тут Солнце и звёзды остаются на месте. Чёрно-Белые горы так расположены, что освещаются только наполовину. Когда Солнце уходит, свет ползет по их склонам вверх.
— А теперь, — прервал его Старр, — освещена только вершина.
— На один-два фута, да и это скоро исчезнет. Один-два земных дня будет темно, потом свет снова появится.
Пока он это говорил, белое пятно уменьшилось, превратилось в точку, горящую, как яркая звезда.
Трое людей ждали.
— Отведите взгляд, — посоветовал Майндс, — чтобы глаза привыкли к темноте.
Через несколько долгих минут он сказал:
— Хорошо, посмотрите снова.
Счастливчик и Верзила послушались и в первое мгновение ничего не увидели.
А потом ландшафт будто залило кровью. Часть его во всяком случае. Сначала появилось ощущение красноты. Потом стало возможно разглядеть вздымающиеся ввысь горы. Вершины казались ярко-красными, краснота сгущалась, темнела и постепенно внизу переходила в черноту.
— Что это? — спросил Верзила.
— Солнце только что село так низко, — ответил Майндс, — что над горизонтом видны только корона и протуберанцы. Протуберанцы — это потоки водорода, которые на тысячи миль поднимаются над поверхностью Солнца; они ярко-красного цвета. Они всегда присутствуют, но обычно не видны из-за Солнца.
Старр снова кивнул. С Земли протуберанцы можно видеть только во время полного затмения и при помощи специальных инструментов — из-за атмосферы.
— Вот это, — негромко добавил Майндс, — и называют «красным призраком Солнца».
— Значит, два призрака, — неожиданно сказал Дэвид, — белый и красный. Из-за них вы носите бластер, Майндс?
Майндс вскрикнул:
— Что? О чём вы говорите?
— Я говорю, — сказал Счастливчик, — что пора рассказать, зачем на самом деле вы привели нас сюда. Конечно, не для того, чтобы разглядывать виды. Я уверен, на пустой, лишенной жизни планете вы не стали бы носить с собой бластер.
Майндс ответил не сразу. А сказал он следующее:
— Вы ведь Дэвид Старр?
— Да, — терпеливо ответил Дэвид.
— Вы член Совета Науки. Вас называют Счастливчик Старр.
Члены Совета Науки избегают всеобщей известности, и поэтому Старр с большой неохотой подтвердил:
— Вы правы.
— Значит, я не ошибся. Вы один из главных следователей и явились расследовать проект «Свет».
Счастливчик сжал губы, отчего они стали тоньше. Он предпочел бы, чтобы его узнавали не так легко.
— Может, и так, а может, нет. Зачем вы привели меня сюда?
— Я знаю, что это так, — Майндс тяжело дышал, — и привел вас сюда, чтобы сказать правду, прежде чем вас опутают ложью.
— Относительно чего?
— Относительно неудач, которые преследуют… как я ненавижу это слово… неудач проекта «Свет».
— Но вы могли мне сказать это в Куполе. Почему же здесь?
— По двум причинам, — ответил инженер. Он продолжал дышать часто и тяжело. — Во-первых, все считают, что это моя вина. Думают, что я не могу осуществить проект, зря трачу деньги налогоплательщиков. Я хотел увести вас от них. Понятно? Хотел, чтобы вы сначала выслушали меня.
— Почему они считают, что вы виноваты?
— Потому что я слишком молод.
— Сколько же вам лет?
— Двадцать два.
Старр, сам ненамного старше, спросил:
— А вторая причина?
— Хотел, чтобы вы почувствовали Меркурий, пропитались… — Он смолк.
Высокий и прямой, в защитном костюме, Дэвид стоял на запретной поверхности Меркурия, металл костюма уловил и отразил молочный свет короны — «белый призрак Солнца».
Старр сказал:
— Хорошо, Майндс, предположим, я принимаю ваше утверждение, что вы не виноваты в неудачах проекта. Тогда кто же виноват?
Сначала голос инженера был еле слышен. Постепенно стали понятны слова:
— Не знаю… во всяком случае…
— Я вас не понимаю, — сказал Счастливчик.
— Послушайте, — в отчаянии заговорил Майндс, — я сам вел расследование. Неоднократно днём и ночью старался найти виновного. Следил за всеми. Отмечал время, когда происходили происшествия, разрывы кабеля, когда разбивались конверсионные пластины. И я уверен в одном…
— В чём именно?
— Никто в Куполе непосредственно в этом не виноват. Никто. У нас здесь около пятидесяти человек, точнее, пятьдесят два, и во время последних шести происшествий я смог установить положение всех их. Никто не приближался к месту происшествий. — Голос его стал пронзительным.
Дэвид спросил:
— Тогда кто же виноват в происшествиях? Меркуротрясения? Воздействие Солнца?
— Призраки! — дико воскликнул инженер, размахивая руками. — Есть белый призрак и красный призрак. Вы их сами видели. Но есть и двуногие призраки. Я их видел, но разве кто-нибудь мне верит? — Он говорил почти бессвязно. — Говорю вам… говорю вам…
Верзила сказал:
— Призраки! Вы спятили?
И Майндс закричал:
— Вы мне тоже не верите! Но я докажу. Я пристрелю призрака. Пристрелю дураков, которые мне не верят! Всех пристрелю! Всех!
С диким хохотом он вытащил бластер и с лихорадочной поспешностью, прежде чем Верзила смог остановить его, направил на Дэвида и нажал курок. Невидимое разрушительное поле устремилось вперёд…
Глава 2
БЕЗУМЕЦ ИЛИ НОРМАЛЬНЫЙ?
Счастливчику пришёл бы конец, если бы он и Майндс находились на Земле.
Он не упустил нарастающее безумие в голосе Майндса. Он ждал какого-то срыва. Но никак не ожидал прямого нападения с бластером.
Когда рука Майндса двинулась к рукояти бластера, Дэвид отпрыгнул в сторону. На Земле всё равно было бы слишком поздно.
На Меркурии, однако, дела обстоят по-другому. Сила тяжести Меркурия равна двум пятым земной, и напрягшиеся мышцы молодого человека швырнули его лёгкое тело (даже включая костюм) далеко в сторону. Майндс, непривычный к низкой силе тяжести, пошатнулся, поворачиваясь, чтобы следовать стволом бластера за движением Старра.
Поэтому луч бластера ударил в поверхность в нескольких дюймах от Счастливчика. И вырыл в жесткой скале дыру в фут глубиной.
Прежде чем Майндс выпрямился и выстрелил вторично, Верзила в длинном низком броске достал его, двигаясь с врождённой привычкой к слабому марсианскому тяготению.
Майндс упал. Он закричал без слов, потом замолк, то ли потерял сознание, то ли его приступ безумия кончился.
Верзила не поверил ни в то, ни в другое.
— Он притворяется! — страстно воскликнул он. — Подонок притворяется мертвым. — Он вырвал бластер у несопротивлявшегося инженера и направил ему в голову.
Дэвид резко сказал:
— Ни в коем случае, Верзила!
Верзила колебался.
— Он пытался тебя убить, Счастливчик.
Ясно было, что маленький марсианин не был бы и вполовину так сердит, если бы опасность смерти угрожала ему самому. Тем не менее он попятился.
Старр опустился на колени, глядя через лицевую пластину на Майндса. Он осветил его бледное напряженное лицо фонарем. Проверил давление в костюме, убедившись, что во время падения швы не разошлись. Потом, схватив инженера за руки и ноги, взвалил себе на плечи и встал.
— Назад в Купол, — сказал он, — и боюсь, проблема несколько сложнее, чем думает шеф.
Верзила что-то проворчал и двинулся за другом; тот шёл большими лёгкими шагами, и маленькому Верзиле приходилось почти бежать. Он держал бластер наготове, чтобы выстрелить в Майндса, не задев Дэвида.
Шеф — это Гектор Конвей, глава Совета Науки. В неофициальной обстановке Старр звал его дядя Гектор, потому что он, Гектор Конвей, вместе с Августасом Хенри был опекуном маленького Дэвида после смерти его родителей во время пиратского нападения в районе орбиты Венеры.
Неделю назад Конвей небрежным тоном, будто предлагая отпуск, спросил молодого человека:
— Не хочешь ли слетать на Меркурий?
— А что там, дядя Гектор?
— Да ничего особенного, — ответил Конвей, нахмурившись, — политика. Мы проводим на Меркурии дорогостоящий эксперимент, одно из тех фундаментальных исследований, которые могут ничего не дать, но, с другой стороны, могут и произвести революцию. Рискованная игра. Все эти проекты таковы.
— Я об этом знаю? — спросил Дэвид.
— Не думаю. Начали совсем недавно. А сенатор Свенсон приводит его в качестве примера того, как легко Совет тратит деньги налогоплательщиков. Тебе эта песня знакома. Он проводит расследование, и один из его людей улетел несколько месяцев назад на Меркурий.
— Сенатор Свенсон? Понятно. — Счастливчик кивнул.
Это не было для него новостью. За последние несколько десятилетий Совет Науки медленно выдвигался на передний фронт при отражении как внутренних, так и внешних опасностей, угрожавших Земле. В век галактической цивилизации, когда человечество расселилось по всем звёздам Млечного Пути, только учёные могли справляться с проблемами всего человечества. Только специально подготовленные учёные, члены Совета.
Но в правительстве Земли некоторые боялись растущего влияния Совета Науки, и были такие, кто использовал этот страх в собственных честолюбивых целях. Предводителем этой последней группы был сенатор Свенсон. Его нападки на «бессмысленную трату Советом средств налогоплательщиков» принесли ему широкую известность.
Дэвид спросил:
— А кто возглавляет проект на Меркурии? Я его знаю?
— Кстати, мы называем его проектом «Свет». А возглавляет его инженер по имени Скотт Майндс. Умный парень, но не годится для руководства. Самое неприятное, что с тех пор, как Свенсон поднял шум, с проектом стали происходить всякие неожиданности.
— Посмотрю, если хотите, дядя Гектор.
— Хорошо. Случайности и поломки — это ничего серьёзного, я уверен, но мы не хотим, чтобы Свенсон представлял нас в дурном свете. Проследи, чтобы это кончилось. И присмотрись к его человеку. Его зовут Зертейл, и у него репутация способного и опасного парня.
Так это всё началось. Небольшое расследование, чтобы предотвратить политические трудности. Ничего больше.
Старр высадился на северном полюсе Меркурия, не ожидая никаких происшествий, и через два часа оказался под прицелом бластера.
Бредя к Куполу с Майндсом на плечах, он думал: «Тут не просто политика».
Доктор Карл Гардома вышел из маленькой больничной палаты и серьёзно посмотрел на Старра и Верзилу. Он вытер свои сильные руки куском пушистого пластоабсорбента; закончив, бросил его в корзину для мусора. Его тёмное, почти коричневое лицо было обеспокоено, тяжелые густые брови нахмурены. Даже чёрные волосы, коротко подстриженные и торчавшие в беспорядке, тоже передавали озабоченность.
— Ну, доктор? — спросил Дэвид.
Доктор Гардома сказал:
— Я дал ему успокоительное. Не знаю, как раньше, но последние несколько месяцев он находился в большом напряжении.
— Почему?
— Он считает себя ответственным за все неприятности с проектом «Свет».
— А разве это не так?
— Конечно, нет. Но можете себе представить, что он чувствует. Он уверен, что все обвиняют его. Проект «Свет» крайне важен. В него вложено много денег и сил. Под началом у Майндса десять человек, все на пять-десять лет старше его, и огромное количество оборудования.
— А почему он так молод?
Доктор мрачно улыбнулся, но, вопреки мрачности, ровные белые зубы сделали его улыбку приятной, даже очаровательной. Он сказал:
— Субэфирная оптика, мистер Старр, совершенно новая ветвь науки. Только молодые люди, вчерашние выпускники, в ней разбираются.
— Вы как будто и сами в ней разбираетесь?
— Мне рассказывал Майндс. Мы прилетели на Меркурий в одном корабле, и он меня околдовал своим проектом и возлагаемыми на него надеждами. Вы что-нибудь об этом знаете?
— Не имею представления.
— Ну, речь идёт о гиперпространстве, той составляющей космоса, которая находится за пределами известного нам пространства, Законы природы, действующие в обычном пространстве, в гиперпространстве неприменимы. Например, в обычном пространстве невозможно двигаться быстрее света, и потому нужно не менее четырёх лет, чтобы долететь до ближайшей звезды. А в гиперпространстве возможна любая скорость… — Врач с виноватой улыбкой смолк. — Я уверен, вы всё это знаете.
— Большинство людей знают, что с открытием гиперпространства стали возможны полёты к звёздам, — сказал Дэвид. — Но при чем тут проект «Свет»?
— Ну, в обычном пространстве в вакууме свет распространяется по прямой линии, — сказал доктор Гардома. — Линию можно искривить только большой силой тяготения. С другой стороны, в гиперпространстве её можно сгибать легко, как хлопковую нить. Свет можно сфокусировать, рассеять, отправить в обратном направлении. Так утверждает теория гипероптики.
— И, вероятно, Скотт Майндс должен проверить справедливость этой теории?
— Совершенно верно.
— А почему здесь? — спросил Верзила. — Почему именно на Меркурии?
— Потому что только тут во всей Солнечной системе столько света сосредоточивается на большой поверхности. Эффект, которого ожидает Майндс, легче всего наблюдать здесь. Осуществление того же проекта на Земле обошлось бы в сотни раз дороже, и результаты были бы в сотни раз менее надёжными. Так говорил Майндс.
— Однако начались случайные неполадки.
Доктор Гардома фыркнул.
— Это не случайности. И, мистер Старр, их нужно прекратить. Знаете ли вы, что будет означать успех проекта «Свет»? — Он продолжал, увлеченный собственными словами. — Земля больше не будет рабыней Солнца. Космические станции, окружающие Землю, смогут перехватывать солнечный свет, переводить его в гиперпространство и равномерно распределять по всей Земле. Жара пустынь и холод полюсов исчезнут. Времена года будут установлены такими, как нам нужно. Мы будем управлять погодой, контролируя распределение солнечного света. Сможем иметь вечный солнечный свет, если захотим, или день любой длины. Земля превратится в кондиционированный рай.
— Вероятно, на это потребуется время.
— Очень много, но ведь это только начало… Послушайте, может, я вмешиваюсь не в своё дело, но не вы ли тот Дэвид Старр, который разрешил загадку отравленной пищи на Марсе?
Голос Счастливчика звучал чуть раздраженно, брови его нахмурились:
— Почему вы так считаете?
Доктор Гардома ответил:
— Я всё-таки врач. Отравление вначале считали эпидемией, и я этим очень интересовался. Ходили слухи о молодом члене Совета, который сыграл главную роль в разгадке этой тайны, упоминали и имя.
Дэвид сказал:
— Давайте не будем об этом.
Он, как всегда, испытывал недовольство, когда становился слишком известен. Вначале Майндс, теперь Гардома.
— Если вы тот самый Старр, — сказал Гардома, — я надеюсь, вы здесь для того, чтобы прекратить все эти неприятности.
Счастливчик, казалось, его не слышал. Он спросил:
— Когда я смогу поговорить со Скоттом Майндсом, доктор Гардома?
— Не раньше чем через двенадцать часов.
— Он будет в себе?
— Я в этом уверен.
Послышался чей-то гортанный баритон:
— Неужели, Гардома? Потому что вы считаете, что наш мальчик Майндс никогда не был неразумным?
При этих словах доктор Гардома повернулся, не пытаясь скрыть неприязненное выражение.
— Что вы здесь делаете, Зертейл?
— Держу глаза и уши открытыми. Лучше бы я их закрыл, — сказал вновь пришедший.
Старр и Верзила с любопытством смотрели на него. Большой человек; невысокий, но широкоплечий, с мощными мышцами. Щеки черны от щетины; неприятное ощущение крайней самоуверенности.
Доктор Гардома сказал:
— Делайте со своими глазами и ушами что угодно, но не в моем кабинете.
— Почему? — спросил Зертейл. — Вы врач. Пациенты имеют право входа. Может быть, я пациент.
— На что жалуетесь?
— А эти двое? Они на что жалуются? Ну, у этого, я уверен, нарушение гормонального равновесия. — При этих словах он взглянул на Верзилу.
В наступившем молчании Верзила сначала смертельно побледнел, а потом как будто начал раздуваться. Он медленно встал, глаза его округлились. Губы шевельнулись, будто он повторял «нарушение гормонального равновесия», как будто он пытался убедить себя, что на самом деле слышал эти слова, что он не ослышался.
Потом, с быстротой нападающей кобры, пять футов два дюйма стальных мышц Верзилы устремились к насмешнику.
Но Старр действовал быстрее. Он схватил Верзилу за оба плеча.
— Спокойней, Верзила.
Маленький марсианин отчаянно пытался вырваться.
— Ты сам слышал, Счастливчик! Ты ведь слышал!
— Не сейчас, Верзила.
Зертейл хрипло рассмеялся.
— Выпусти его, приятель. Я разотру этого малыша по полу пальцем.
Верзила взвыл и принялся извиваться в руках Старра.
Тот сказал:
— На вашем месте я бы помолчал, Зертейл, иначе вы попадете в неприятности, из которых вас не вытащит ваш друг сенатор.
Глаза его при этом стали ледяными, а голос звучал сталью.
Зертейл мгновение смотрел ему в глаза, потом отвернулся. Что-то сказал насчёт шуток. Верзила дышал теперь ровнее, и Дэвид медленно разжал руки. Марсианин вернулся на своё место, дрожа от сдерживаемой ярости.
Доктор Гардома, который напряженно следил за происшествием, спросил:
— Вы знакомы с Зертейлом, мистер Старр?
— Наслышан. Джонатан Зертейл, бродячий следователь сенатора Свенсона.
— Можно и так сказать, — пробормотал врач.
— Я тоже вас знаю, Дэвид Старр, Счастливчик Старр, как ещё вас называют, — сказал Зертейл. — Бродячий вундеркинд Совета Науки. Марсианская отрава. Пираты астероидов. Венерианская телепатия. Правильный перечень?
— Да, — ровно ответил Дэвид.
Зертейл торжествующе улыбнулся.
— Мало найдётся такого, чего бы в офисе сенатора Свенсона не знали о Совете Науки. И мало чего я не знаю о происходящем здесь. Например, я знаю о покушении на вашу жизнь и пришёл с вами из-за этого увидеться.
— Зачем?
— Хочу предупредить вас. Небольшое дружеское предупреждение. Вероятно, врач уже сказал вам, какой отличный парень Майндс. Всего лишь влияние невыносимого напряжения, сказал он, я полагаю. Они друзья с Майндсом. Большие друзья.
— Я только сказал… — начал доктор Гардома.
— Позвольте мне закончить, — сказал Зертейл. — Позвольте мне сказать вот что. Скотт Майндс так же безопасен для вас, как двухтонный астероид для космического корабля. Он не был временно невменяемым, когда нацелился в вас бластером. Он знал, что делает. Он хладнокровно пытался убить вас, Старр, и, если вы не будете осторожны, в следующий раз у него получится. Можете поклясться сапогами своего маленького марсианского друга, он сделает ещё одну попытку.
Глава 3
СМЕРТЬ ОЖИДАЕТ В КОМНАТЕ
Наступившее молчание казалось приятным только Зертейлу.
Затем Дэвид спросил:
— Почему? Каковы его мотивы?
Зертейл спокойно ответил:
— Потому что он боится. Здесь затрачены многие миллионы, миллионы, выданные расточительным Советом Науки, а он не может довести эксперимент до конца. Свою некомпетентность он называет случайными неполадками. Полетит на Землю и будет убеждать, что во всем виноваты случайности. И получит ещё деньги Совета, вернее, налогоплательщиков, для какого-нибудь другого не менее глупого плана. Но вы явились на Меркурий расследовать, и он боится, что Совет всё-таки узнает правду. Вы её унесете с собой.
Старр сказал:
— Если это правда, вы её уже знаете.
— Да, и надеюсь это доказать.
— Но вы тогда тоже представляете опасность для Майндса. Следуя вашим рассуждениям, вас он должен попытаться убить прежде всего.
Зертейл улыбнулся, его пухлые щеки стали шире. Он сказал:
— Он пытался меня убить. Верно. Но я бывал во многих переделках, работая на сенатора. Я могу постоять за себя.
— Скотт Майндс никогда не пытался убить ни вас, ни кого-либо другого, — заявил доктор Гардома, лицо его стало измученным и бледным. — Вы это хорошо знаете.
Зертейл не стал отвечать ему прямо. Он обратился к Старру:
— Присматривайте и за добрым доктором тоже. Как я сказал, он большой друг Майндса. На вашем месте я не позволил бы ему лечить у себя даже головную боль. Таблетки и уколы могут… — он громко щелкнул пальцами.
Доктор Гардома с трудом произнес:
— Кто-нибудь убьет вас за…
Зертейл беззаботно заметил:
— Да? И вы собираетесь стать этим человеком? — Он повернулся уходя и через плечо бросил: — О да, забыл. Я слышал, старик Певерейл хочет с вами увидеться. Он очень обеспокоен, что не встретил вас официально. Расстроен. Повидайтесь с ним, погладьте его по головке… И, Старр, ещё один намек. Не надевайте защитные костюмы, вначале не проверив их. Понимаете, что я имею в виду? — С этими словами он наконец ушёл.
Прошло немало времени, прежде чем Гардома пришёл в себя и смог говорить. Он сказал:
— Каждый раз, когда я его вижу, он выводит меня из себя. Грязный лживый…
— Весьма проницательный парень, — сухо заметил Дэвид. — Очевидно, один из его методов — расчётливо говорить то, что выведет собеседника из себя. А разгневанный противник наполовину беспомощен… Кстати, Верзила, это к тебе относится. Ты готов наброситься на всякого, кто намекнет, что в тебе меньше шести футов.
— Счастливчик, — взвыл марсианин, — он сказал, что у меня нарушение нормальной деятельности гормонов.
— Научись ждать подходящего момента, чтобы убедить его в противоположном.
Верзила воинственно заворчал и ударил кулаком по прочному пластику своих серебряно-золотых сапог. (Кричащие многоцветные сапоги не наденет никто, кроме фермера с Марса, но ни один марсианский фермер не выйдет без них. У Верзилы их был десяток, и каждая следующая пара ярче предыдущей.)
Дэвид сказал:
— Что ж, повидаемся с доктором Певерейлом. Он ведь глава обсерватории?
— Глава всего Купола, — сказал доктор. — Он и правда заметно постарел. Рад добавить, что он ненавидит Зертейла не меньше любого из нас, но ничего не может сделать. Не может спорить с сенатором. Интересно, а может ли Совет? — мрачно закончил он.
Старр ответил:
— Думаю, да. А теперь напоминаю: я хочу увидеться с Майндсом, как только он проснется.
— Хорошо. Будьте осторожны.
Счастливчик с любопытством взглянул на него.
— Будьте осторожны? Что вы этим хотите сказать?
Доктор Гардома покраснел.
— Просто фигура речи. Я так всегда говорю. Ничего не имею в виду.
— Понятно. Ну что ж, до встречи. Пошли, Верзила, и перестань хмуриться.
Доктор Лэнс Певерейл пожал им обоим руки с энергией, которой они не ожидали в таком пожилом человеке. Его тёмные глаза смотрели серьёзно и озабоченно и казались ещё темнее из-за нависавших седых бровей. Волосы, всё ещё густые, почти сохранили первоначальный цвет, став серо-стальными. Больше всего его старили морщинистые щеки, на которых отчетливо выделялись скулы.
Он говорил медленно и негромко.
— Простите, джентльмены; я чрезвычайно расстроен тем, что сразу после вашего прибытия в обсерваторию произошло это ужасное событие. Я во всем виню себя.
— Для этого нет причин, доктор Певерейл, — сказал Дэвид.
— Вина моя, сэр. Мне следовало самому встретить вас… Но мы следили за исключительно интересным и очень необычным протуберанцем, и я позволил своим профессиональным интересам помешать проявлениям гостеприимства.
— Ну в любом случае вы прощены, — сказал Счастливчик и искоса с юмором взглянул на Верзилу, который с раскрытым ртом слушал поток слов старика.
— Мой поступок непростителен, — говорил старый астроном, — но мне приятно, что вы пытаетесь. Я приказал приготовить для вас помещение. — Он взял их за руки и повёл по ярко освещенному коридору Купола. — У нас тесно, особенно после прибытия доктора Майндса с его инженерами и… и других. Но всё же вам будет приятно иметь возможность отдохнуть и даже поспать. Я уверен, вы также захотите поесть, и вам принесут пищу. Завтра у вас будет возможность познакомиться со всеми, а у нас — узнать причину вашего приезда сюда. Для меня вполне достаточно того, что за вас ручается Совет Науки. Мы устроим нечто вроде банкета в вашу честь.
Коридор постепенно вел вниз, они углублялись в жилые помещения Купола под поверхностью Меркурия.
Дэвид сказал:
— Вы очень добры. Возможно, я смогу осмотреть и обсерваторию.
Певерейл, казалось, этому обрадовался.
— В этом я к вашим услугам, и уверен, вы не пожалеете о затраченном времени. Наше основное оборудование смонтировано на передвижной платформе, которая перемещается вместе с движением терминатора. При этом часть диска Солнца всегда остаётся видимой, несмотря на движение Меркурия.
— Поразительно! Но теперь, доктор Певерейл, один вопрос. Каково ваше мнение о докторе Майндсе? Я оценил бы откровенный ответ, без всяких дипломатических соображений.
Певерейл нахмурился.
— Вы ведь тоже специалист по субоптике?
— Не совсем, — ответил Старр, — но я спрашиваю о нём как о человеке.
— Ага. Ну… — астроном задумался, — он приятный молодой человек, весьма компетентный, мне кажется, но нервный, очень нервный. Он обидчив, слишком обидчив. Чем больше проходит времени, чем хуже идут дела, тем всё сильнее это сказывается; с ним иногда бывает очень трудно. Жаль; я уже сказал, что в целом это приятный молодой человек. Я его начальник, конечно, пока он работает в Куполе, но в его дела не вмешиваюсь. Его проект не связан с работой обсерватории.
— А каково ваше мнение о Джонатане Зертейле?
Старый астроном сразу остановился.
— А он при чем?
— Как он ладит со всеми здесь?
— Не хочу говорить об этом человеке, — сказал Певерейл.
Некоторое время они шли молча. У астронома было мрачное лицо.
Счастливчик сказал:
— Есть ли ещё люди в обсерватории? Тут вы и ваши люди, Майндс и его люди и Зертейл. Кто ещё?
— Врач, конечно. Доктор Гардома.
— Вы не считаете его одним из своих людей?
— Ну, он ведь врач, а не астроном. Он выполняет работу, которую не могут выполнить механизмы. Заботится о нашем здоровье. Он здесь недавно.
— Насколько?
— Сменил прежнего врача после истечения у того годичной смены. Кстати, доктор Гардома прилетел на том же корабле, что Майндс и его люди.
— Годичная смена? Это обычно для здешних врачей?
— И для большинства остальных. Трудно при этом поддерживать нормальное общение; к тому же сначала ты с трудом учишь человека, а потом он сразу улетает; но на Меркурии нелегко жить, и приходится часто заменять людей.
— Сколько же новых людей вы получили за последние шесть месяцев?
— Около двадцати. Точное число в наших записях, но примерно двадцать.
— Но сами вы здесь давно?
Астроном рассмеялся.
— Много лет. Даже не хочется думать сколько. И доктор Кук, мой заместитель, здесь уже шесть лет. Конечно, мы часто бываем в отпуске… Ну вот и ваше помещение, джентльмены. Если вам что-нибудь потребуется, сразу дайте мне знать.
Верзила осмотрелся. Комната была небольшой, но в ней стояли две кровати, которые можно было убирать в стенной проем; два стула тоже убирались в стену; комбинация стула с письменным столом; небольшой шкаф; по соседству ванная.
— Эй, — сказал он, — получше, чем на корабле.
— Неплохо, — согласился Дэвид. — Вероятно, одна из их лучших комнат.
— А почему бы и нет? — спросил Верзила. — Я думаю, он знает, кто ты.
— Надеюсь, нет, Верзила, — сказал Старр. — Он считает меня специалистом по субоптике. И знает только, что послал меня Совет.
— Но ведь все знают, кто ты, — возразил Верзила.
— Не все. Майндс, Гардома, Зертейл… Послушай, Верзила, отправляйся в ванную. Я закажу еду и попрошу принести с «Метеора» вспомогательное оборудование.
— Идёт, — весело сказал Верзила.
Он громко пел под душем. Как обычно в безводных мирах, вода строго ограничивалась, на стене висело предупреждение, какое количество может быть использовано. Но Верзила родился и вырос на Марсе. Он очень уважал воду и не стал бы её уничтожать с такой же охотой, как, например, бифштекс. Поэтому он обильно пользовался мылом, а водой умеренно и при этом громко пел.
Он встал перед сушилкой с горячим воздухом и шлепал себя по телу, чтобы быстрее высохнуть.
— Эй, Счастливчик, — закричал он, — как еда, уже на столе? Я есть хочу.
Он слышал голос Дэвида, но слов разобрать не мог.
— Эй, Счастливчик, — повторил он и вышел из ванной. На столе стояли две дымящиеся тарелки с жареным мясом и картофелем (чуть заметный запах свидетельствовал, что мясо — на самом деле продукт с дрожжевой плантации подводных садов Венеры). Старр, однако, не ел, а сидел на кровати и негромко говорил по комнатному переговорному устройству.
С приёмного экрана смотрел доктор Певерейл.
Дэвид сказал:
— Значит, всем известно, что нам отведена эта комната?
— Не всем, но я отдал приказ подготовить для вас эту комнату по открытой связи. Мне кажется, тут нет повода для тайны. Возможно, кто-то услышал. К тому же ваша комната обычно отводится почетным гостям. В этом нет никакого секрета.
— Понятно. Спасибо, сэр.
— Что-нибудь случилось?
— Вовсе нет, — с улыбкой ответил Старр и отключился. Улыбка его исчезла, выглядел он задумчиво.
— Ничего не случилось? — взорвался Верзила. — В чём дело? Меня не обманешь, говори, что случилось.
— Да, кое-что случилось. Я проверял оборудование. Вот это, вероятно, специально изолированные костюмы для солнечной стороны.
Верзила приподнял костюм, висевший в одной из стенных ниш. Костюм был поразительно легок для своего размера, и это нельзя было объяснить уменьшенной силой тяжести: в Куполе поддерживалась земная сила тяжести.
Он покачал головой. Как всегда, когда приходилось надевать костюм со склада, а не изготовленный для него специально, его приходилось усиленно подгонять, но пользоваться всё равно было неудобно. Одно из наказаний за то, что ты не так высок. Он всегда думал в таких выражениях: «Не так высок». О своих пяти футах двух дюймах он никогда не думал как о маленьком росте.
Он сказал:
— Пески Марса! Они обо всём позаботились. Постель. Ванна. Еда. Костюмы.
— И кое-что ещё, — серьёзно сказал Дэвид. — В этой комнате ждёт смерть. Посмотри.
Он поднял рукав большего костюма. Плечевой сустав легко повернулся, но на месте его соединения с плечом показалась тонкая, почти незаметная щель. Если бы пальцы Старра её не растянули, она вообще была бы не видна.
Разрез! Очевидно, сделанный человеком! Сквозь него виднелась изоляция.
— На внутренней поверхности, — сказал Счастливчик, — такой же разрез. Костюм продержался бы, пока я бы не оказался на солнечной стороне, а затем аккуратно убил бы меня.
Глава 4
ЗА БАНКЕТНЫМ СТОЛОМ
— Зертейл! — сразу воскликнул Верзила с яростью, от которой напряглись все мышцы в его теле. — Этот грязный подонок…
— Почему Зертейл? — негромко спросил Дэвид.
— Он предупредил, чтобы следили за костюмами. Помнишь?
— Конечно. Я именно это и сделал.
— Да. Это он специально. Мы найдем разрез и подумаем, какой он замечательный парень. И в следующий раз будем для него лёгкой добычей. Не поддавайся на это, Счастливчик. Он…
— Подожди, Верзила, подожди. Не так быстро. Посмотри на это с другой стороны. Зертейл сказал, что Майндс пытался и его убить. Допустим, мы ему поверим. Допустим, Майндс пытался вывести из строя костюм Зертейла, и тот это заметил. Зертейл предупредил нас. Может, это опять Майндс.
— Пески Марса, этого не может быть. Этот парень, Майндс, по горло наелся снотворного, а до того он с самого нашего прибытия был у нас на глазах.
— Ну хорошо. Но откуда нам известно, что Майндс спит и накормлен лекарствами? — спросил Дэвид.
— Гардома говорит… — начал Верзила и замолчал.
— Вот именно. Гардома говорит. Мы сами не видели Майндса. Мы знаем только, что сказал доктор Гардома, а он большой друг Майндса.
— Они сговорились, — сказал сразу убеждённый Верзила. — Летящие кометы…
— Подожди, подожди, не лети ты так быстро. Великая Галактика, Верзила, я пытаюсь разобраться в своих мыслях, а ты всё сразу принимаешь. — Тон его звучал неодобрительно, насколько это было возможно при общем уважительном отношении к маленькому другу. Он продолжал: — Ты десятки раз жаловался, что я не говорю тебе, что у меня на уме, пока сам всё не продумаю. Вот почему, любитель бластеров: едва у меня появляется теория, ты уже кидаешься действовать, с оружием на изготовку.
— Прости, Счастливчик, — сказал Верзила. — Давай дальше.
— Ну хорошо. Зертейла легко заподозрить. Его никто не любит. Даже доктор Певерейл. Ты видел, как он отказался говорить о нём. Мы встретили его только раз, и ты его сразу невзлюбил…
— Ещё бы, — пробормотал Верзила.
— …впрочем, мне он тоже не понравился. Любой мог разрезать этот костюм и надеяться, что подозрение падет на Зертейла, как только всё откроется. А откроется несомненно, если не до убийства, так после.
— Я теперь понимаю.
— С другой стороны, — спокойно продолжал Старр, — Майндс уже пытался избавиться от меня с помощью бластера. Если это была серьёзная попытка, то он не похож на человека, склонного к подобным косвенным действиям. Что касается доктора Гардома, то я не могу представить себе его соучастником убийства члена Совета только из дружбы к Майндсу.
— Каково же тогда решение? — нетерпеливо спросил Верзила.
— Никакого, — ответил Дэвид, — разве что мы ложимся спать. — Он отбросил простыни и направился в ванную.
Верзила посмотрел ему вслед и пожал плечами.
Скотт Майндс сидел в постели, когда на следующее утро Старр и Верзила вошли в его комнату. Он был бледен и выглядел усталым.
— Здравствуйте, — сказал он. — Карл Гардома рассказал мне, что случилось. Вы представить себе не можете, как мне неловко.
Счастливчик пожал плечами.
— Как вы себя чувствуете?
— Выжат досуха, если вы понимаете, что я хочу сказать. Я буду на приёме, который даёт сегодня вечером старый Певерейл.
— Разумно ли это?
— Я не позволю Зертейлу захватить крепость, — сказал Майндс, и лицо его внезапно исказилось от ненависти. — Он всем говорит, что я спятил. Доктор Певерейл тоже, кстати.
— Доктор Певерейл сомневается в вашей нормальности? — негромко спросил Дэвид.
— Ну… Видите ли, Старр, я со времени начала этих происшествий прочесывал солнечную сторону на ракетном скутере. Мне нужно было это делать. Это мой проект. Дважды… я кое-что видел.
Майндс смолк, и Дэвид поторопил его:
— Что видели, доктор Майндс?
— Хотел бы я утверждать уверенно. Каждый раз я видел это вдалеке. Что-то двигалось. Похоже на человека. В космическом костюме. Но не наши специально изолированные костюмы. Больше похож на обычный костюм для космоса. Простой металл.
— Вы пытались подойти ближе?
— Да, и сразу терял его. А на фотографиях ничего не видно. Просто пятна света и тьмы: может, что-то они означают, может, нет. Но там что-то было. Что-то двигалось под солнцем, будто ему не важны жара и радиация. Оно оставалось на солнце и стояло неподвижно по нескольку минут. Это меня доконало.
— Это странно? Стоять неподвижно на солнце?
Майндс коротко рассмеялся.
— На солнечной стороне Меркурия? Конечно. Никто тут не станет стоять. Несмотря ни на какую изоляцию, делаешь своё дело как можно быстрее и уходишь в тень. Вблизи терминатора температура не так велика. Дело в радиации. Нужно набирать её как можно меньше. Изоляционный костюм не защищает полностью от гамма-лучей. Если нужно постоять, стоят в тени скал.
— Как же вы всё это объясните?
Майндс перешёл на стыдливый шёпот:
— Не думаю, что это человек.
— Вы ведь не станете утверждать, что это двуногий призрак, — неожиданно сказал Верзила, прежде чем Дэвид смог его удержать.
Но Майндс только покачал головой.
— Я так сказал на поверхности? Что-то припоминаю… Нет, я думаю, это меркурианин.
— Что? — воскликнул Верзила так, будто ожидал гораздо худшего.
— Иначе как он может выдерживать солнечную радиацию и жару?
— А зачем ему тогда космический костюм? — спросил Счастливчик.
— Не знаю. — Глаза Майндса сверкнули, и в них появилось загнанное выражение. — Но это что-то. Вернувшись в Купол, я проверил местонахождение всех людей. Все были на месте. Доктор Певерейл не разрешил провести экспедицию для поиска. Он сказал, что мы для этого не подготовлены.
— Вы говорили ему то, что рассказали мне?
— Он считает меня сумасшедшим. Но я уверен в том, что видел. Он считает, что я видел какие-то отражения и создал из них человека в своём воображении. Но это не так, Старр!
Дэвид спросил:
— Вы связались с Советом Науки?
— Как я мог? Доктор Певерейл не поддержал бы меня. Зертейл сказал бы, что я спятил, и его бы послушали. А кто будет слушать меня?
— Я, — сказал Дэвид.
Майндс рывком сел. Руки его взметнулись, будто он хотел схватить собеседника за рукав, но он сдержал их. Сдавленным голосом он сказал:
— Вы будете это расследовать?
— Да, в некотором роде, — ответил Счастливчик.
Когда Старр и Верзила вошли, все уже сидели за банкетным столом. Поднялся гул приветствий и представлений, но было ясно, что вечер не из приятных.
Доктор Певерейл сидел во главе стола, тонкие губы его были поджаты, впавшие щеки дрожали — внешность человека, который с трудом сохраняет достоинство. Слева от него виднелась широкоплечая фигура Зертейла; он откинулся в кресле, толстые пальцы поглаживали край стакана.
В конце стола сидел Скотт Майндс, выглядел он крайне юным и усталым и с раздражением смотрел на Зертейла. Рядом с ним доктор Гардома поглядывал тревожно и внимательно, готовый вмешаться.
Остальные места, за исключением двух, справа от доктора Певерейла, занимали старшие специалисты обсерватории. Хэнли Кук, заместитель директора Купола, наклонился и крепко пожал Дэвиду руку.
Счастливчик и Верзила заняли свои места, и ужин начался.
Зертейл сразу заговорил резким хриплым голосом, овладев всеобщим вниманием:
— Мы как раз говорили, не следует ли Майндсу рассказать, какие чудеса ожидают Землю в результате его эксперимента.
— Ничего подобного, — заявил Майндс, — я буду говорить, когда захочу.
— О, послушайте, Скотт, — Зертейл широко улыбался, — не будьте таким застенчивым. Ну, тогда я сам расскажу.
Как бы случайно доктор Гардома опустил руку на плечо Майндса, молодой инженер с трудом глотнул, подавил негодующий возглас и продолжал молчать.
Зертейл сказал:
— Предупреждаю вас, Старр, рассказ будет интересным. Это…
Дэвид прервал его:
— Я знаю кое-что об эксперименте. Основная цель — создание планеты с воздушным кондиционированием — вполне достижима.
Зертейл поморщился.
— Неужели? Я рад, что у вас оптимистический взгляд. Бедняга Скотт не может добиться успеха даже в пробном эксперименте. По крайней мере говорит, что не может, не правда ли, Скотт?
Майндс полувстал, но доктор Гардома снова положил ему руку на плечо.
Верзила переводил взгляд от одного говорящего к другому, на Зертейла он смотрел с открытым отвращением. Но ничего не говорил.
Прибытие главного блюда сразу прекратило разговор, и доктор Певерейл отчаянно пытался перевести беседу на менее опасное направление. На некоторое время ему это удалось, но затем Зертейл, наколов на вилку последний кусок бифштекса, наклонился к Старру и сказал:
— Значит, вы считаете, что проект Майндса идёт нормально?
— Ну, мне кажется, результаты неплохие.
— Вы, как член Совета, так и должны считать. А что, если я вам скажу, что это фальшивый эксперимент; то же самое можно было бы проделать на Земле за один процент затрат, если бы Совет был заинтересован в экономии денег налогоплательщиков? Что вы на это скажете?
— То же самое я скажу в ответ на любые ваши слова, — сдержанно ответил Дэвид. — Я скажу: «Мистер Зертейл, вероятно, вы лжете. В этом ваш большой талант и, вероятно, основное удовольствие».
Мгновенно наступила мертвая тишина, даже Зертейл смолк. Его толстые щеки, казалось, обвисли от удивления, глаза выпучились. Неожиданно он вскочил, перегнулся через доктора Певерейла и ударил ладонью по столу рядом с тарелкой Счастливчика.
— Ни один лакей Совета… — взревел он.
И тут же начал действовать Верзила. Никто не успел увидеть подробностей, потому что Верзила действовал со скоростью жалящей змеи, но рёв Зертейла неожиданно прервался.
Из руки Зертейла торчала изогнутая металлическая рукоять силового ножа.
Доктор Певерейл отшатнулся, послышались возгласы, даже Счастливчик казался удивленным.
Раздался жизнерадостный тенор Верзилы:
— Расставь пальцы, ты, тюбик нефти! Расставь их и ползи назад, на своё место.
Зертейл несколько мгновений смотрел на маленького мучителя, будто не понимая, потом очень медленно расставил пальцы. Рука его не была повреждена, ни кусочка кожи не было срезано. Силовой нож торчал в жесткой пластиковой поверхности стола, виднелся примерно дюйм светящегося силового поля (это не материя, а тонкое энергетическое поле). Лезвие ножа разрезало стол точно между указательным и средним пальцем руки Зертейла.
Зертейл отдернул руку, будто её внезапно охватило огнем.
Верзила рассмеялся и сказал:
— В следующий раз, подонок, как протянешь руку к Старру или ко мне, я её тебе отрежу. Когда будешь отвечать, говори вежливо. — Он протянул руку к ножу, дезактивировал силовое поле и вернул рукоять в незаметные ножны на поясе.
Слегка нахмурившись, Дэвид сказал:
— Я забыл предупредить вас, что мой друг вооружен. Я уверен: он сожалеет, что помешал ужину, но мистер Зертейл не должен принимать этот инцидент близко к сердцу.
Кто-то рассмеялся, на лице Майндса появилась улыбка.
Зертейл гневно переводил взгляд от одного лица к другому.
— Я этого не забуду. Я вижу, что никто не желает сотрудничать с сенатором, и он об этом узнает. Пока я остаюсь здесь. — Он сложил руки, будто кто-то собирался его выпроводить.
Мало-помалу разговор снова стал общим.
Счастливчик сказал доктору Певерейлу:
— Знаете, сэр, ваше лицо кажется мне знакомым.
— Да? — Астроном напряженно улыбался. — Мне кажется, мы с вами раньше не встречались.
— Вы когда-нибудь были на Церере?
— На Церере? — старый астроном смотрел на Старра с некоторым удивлением. Очевидно, он ещё не пришёл в себя после эпизода с силовым ножом. — На этом астероиде самая большая обсерватория Солнечной системы. Я там работал в молодости, да и сейчас часто там бываю.
— Может, я видел вас там?
Говоря это, Дэвид вспоминал те напряженные дни, когда охотился за капитаном Антоном и пиратами, искал их логово в поясе астероидов. Особенно тот день, когда пиратский корабль приземлился в самом сердце территории Совета, на самом астероиде Церера, одержав временную победу благодаря неожиданности своего появления.
Но доктор Певерейл отрицательно качал головой.
— Я бы знал, сэр, если бы имел удовольствие встретиться с вами. Но уверен, этого не было.
— Жаль, — сказал Счастливчик.
— Мне тоже, уверяю вас. Но в то время мне вообще не везло. Из-за болезни кишечника я пропустил весь пиратский рейд. Знал о нём только из разговоров сестер в больнице.
Доктор Певерейл осмотрел стол, к нему вернулось хорошее настроение. Механическая тележка развозила десерт. Доктор Певерейл сказал:
— Джентльмены, мы ведь обсуждали проект «Свет».
Он помолчал, снисходительно улыбаясь, потом продолжал:
— Не очень подходящая тема для разговора, учитывая обстоятельства, но я много думал о случаях, которые всех нас так расстраивают. Мне кажется, что настала пора поделиться с вами моими соображениями. Доктор Майндс здесь. Мы неплохо поели. И теперь я скажу вам кое-что интересное.
Зертейл нарушил молчание, спросив мрачно:
— Вы, доктор Певерейл?
Астроном спокойно ответил:
— Почему бы и нет? Я много раз в жизни говорил интересные вещи. И скажу, о чём сейчас думаю. — Он неожиданно стал серьёзен. — Я считаю, что знаю правду, всю правду. Я знаю, кто срывает эксперимент проекта «Свет».
Глава 5
НАПРАВЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ
На мягком лице старого астронома появилось довольное выражение; он осмотрел стол: все были поражены его словами. Дэвид тоже осмотрелся. Он наблюдал за тем, как встречают заявление доктора Певерейла. На широком лице Зертейла было презрение, доктор Гардома удивленно хмурился, Майндс выглядел мрачно. На лицах остальных были любопытство и интерес.
Внимание Старра особенно привлек один человек. Это был Хэнли Кук, заместитель доктора Певерейла. Он смотрел на кончики своих пальцев с усталым отвращением. Но когда он поднял голову, выражение лица его изменилось и стало вежливо-равнодушным.
Тем не менее Дэвид подумал: «Надо с ним поговорить». И снова обратил внимание на доктора Певерейла.
А тот говорил:
— Саботажник не может быть одним из нас, конечно. Доктор Майндс сказал мне, что проверял всех и уверен в этом. Но даже без проверки я абсолютно убеждён, что никто из нас не способен на подобные преступные действия. Но саботажник должен быть разумным, поскольку его деятельность целенаправленна, и исключительно против проекта «Свет». Поэтому…
Его возбуждённо прервал Верзила:
— Эй, вы, считаете, что на Меркурии есть туземная жизнь? Это делают меркуриане?
Послышались возгласы, кто-то рассмеялся, и Верзила покраснел.
— Разве не это говорит доктор Певерейл? — спросил маленький марсианин.
— Не совсем, — мягко заметил доктор Певерейл.
— Никакой туземной жизни на Меркурии нет, — сказал с ударением один из астрономов. — В этом мы абсолютно уверены.
Дэвид вмешался:
— Насколько уверены? Кто-нибудь проверял?
Астроном, казалось, смешался. Он сказал:
— Были исследовательские группы. Несомненно.
Счастливчик улыбнулся. Он встречался с разумными существами с Марса, о которых никто не знал. Он открыл полу-разумные существа на Венере, о которых до него никто не подозревал. И поэтому он не принимал на веру утверждения об отсутствии жизни на любой планете, даже разумной жизни.
Он спросил:
— Сколько исследовательских групп? Насколько тщательно проводилось исследование? Обследована ли каждая квадратная миля?
Астроном не ответил. Он посмотрел в сторону, подняв брови, как будто говоря:
— Какой в этом смысл?
Верзила улыбнулся, лицо его стало напоминать лицо веселого гнома.
Доктор Певерейл сказал:
— Мой дорогой Старр, исследователи ничего не обнаружили. Мы не исключаем полностью наличия жизни на Меркурии, но вероятность её существования очень низка. Допустим, мы согласимся, что единственное разумное существо в Галактике — это человек. По крайней мере единственное известное нам существо.
Помня о марсианских энергетических существах, Дэвид не был согласен с этим, но промолчал и дал возможность старику продолжать.
Вмешался Зертейл, понемногу обретавший самообладание.
— К чему это вы клоните? — спросил он. И добавил свою любимую фразу: — Если уж на то пошло.
Доктор Певерейл не ответил Зертейлу непосредственно. Он переводил взгляд с одного лица на другое, сознательно игнорируя следователя сенатора. И сказал:
— Дело в том, что люди живут не только на Земле. Люди есть во многих звёздных системах. — Лицо старого астронома странно переменилось. Оно осунулось, побледнело, ноздри раздулись, будто его внезапно охватил гнев. — Например, люди есть на планетах Сириуса. Что, если это они саботажники?
— Зачем это им? — сразу спросил Старр.
— А почему бы и нет? Они и раньше совершали агрессии против Земли!
Это было верно. Старр сам принимал участие в отражении сирианской флотилии, высадившейся на Ганимеде, но тогда сирианцы покинули Солнечную систему без пробы сил. Но, с другой стороны, у многих землян вошло в привычку во всем плохом винить жителей Сириуса.
Доктор Певерейл энергично продолжал:
— Я там был. Я был на Сириусе всего пять месяцев назад. Очень много было канцелярской волокиты, потому что Сириус не одобряет ни иммигрантов, ни гостей, но проводилась межпланетная астрономическая конференция, и я всё-таки получил визу. Я во что бы то ни стало хотел увидеть сам и должен сказать, что не разочаровался. Планеты Сириуса малонаселенны и исключительно децентрализовании. Там живут изолированными семейными группами, и у каждой свой источник энергии и все службы. У каждой группы есть механические рабы — другого слова не подберешь, — рабы в форме позитронных роботов, которые выполняют всю работу. Сами сирианцы представляют собой воинственную аристократию. У каждого свой космический крейсер. Они никогда не успокоятся, пока не покорят Землю.
Верзила беспокойно заерзал в кресле.
— Пески Марса, пусть только попробуют! Пусть попробуют, вот всё, что я скажу!
— И попробуют, когда будут готовы, — сказал Певерейл, — и, если мы не сделаем что-нибудь побыстрее, чтобы встретить опасность, они победят. Что у нас есть, чтобы противостоять им? Многомиллиардное население — правда, но сколько человек могут сражаться в космосе? Мы — шесть миллиардов кроликов, а они — миллион волков. Земля беспомощна и с каждым годом становится всё беспомощней. Нас кормят зерно с Марса и дрожжи с Венеры. Наши минералы мы получаем с астероидов и получали с Меркурия, когда работали шахты. Да, Старр, если проект «Свет» удастся, Земля будет зависеть от космических станций даже в получении солнечного света. Разве вы не понимаете, какими мы становимся уязвимыми? Армия сирианцев, расположившись на окраинах Системы, вызовет панику и уморит нас голодом, даже не сталкиваясь непосредственно. И чем мы сможем отплатить? Сколько бы мы их ни убили, оставшиеся сирианцы способны на самостоятельные действия и независимы в отношении припасов и энергии. Любой из них может продолжать войну.
Старик почти задыхался от волнения. Нельзя было усомниться в его искренности. Он как будто избавлялся от душившей его тайны.
Старр снова взглянул на заместителя Певерейла Хэнли Кука. Тот опирался лбом на большую руку. Лицо его раскраснелось, но Дэвиду не показалось, что это краска гнева или негодования. Скорее смущения.
Скептически заговорил Скотт Майндс:
— Но какой смысл, доктор Певерейл? Если им хорошо у Сириуса, зачем им Земля? Зачем мы им нужны? Допустим, они завоюют Землю. Тогда им придётся нас содержать…
— Вздор! — рявкнул старый астроном. — Зачем это им? Им нужны земные ресурсы, а не население. Вбейте это себе в голову! Они помогут нам умереть с голоду. Такова будет их политика.
— Послушайте, — сказал Гардома. — Это невероятно.
— Не из жестокости, — продолжал доктор Певерейл, — а исходя из политики. Они нас презирают. Считают нас не выше животных. Все сирианцы расисты. Со времени первой колонизации они целенаправленно селектируют себя и теперь свободны от болезней и тех особенностей, которые считают нежелательными. У них одинаковая внешность, тогда как земляне разных форм, размеров, цветов, разновидностей. Сирианцы считают нас низшими существами. Они не допускали меня на конференцию, пока не надавило наше правительство. Приветствовали астрономов всех систем, только не с Земли. Человеческая жизнь для них мало что значит. Они помешались на роботах. Я наблюдал за ними и их механическими людьми. Они больше заботятся о сирианских роботах, чем о самих сирианцах. Робота они считают ценнее ста человек с Земли. Они балуют своих роботов. Они их любят.
Дэвид сказал:
— Роботы дорогие. С ними нужно обращаться бережно.
— Может быть, — ответил доктор Певерейл, — но когда люди привыкают слишком заботиться о машинах, они становятся черствыми к нуждам других людей.
Старр наклонился вперёд, опираясь локтями о стол, тёмные глаза его были серьёзны, вертикальные морщины делали красивое слегка мальчишеское лицо строгим. Он сказал:
— Доктор Певерейл, если сирианцы расисты и вырабатывают у себя единообразие, в конечном счёте они потерпят поражение. Разнообразие человеческих рас — источник прогресса. Земля, а не Сириус — на переднем фронте научных исследований. Земляне заселили Сириус; и мы, а не сирианцы ежегодно даем новые направления в исследованиях. Даже упоминаемые вами позитронные роботы изобретены на Земле и землянами.
— Да, — согласился астроном, — но земляне не стали их использовать. Это расстроило бы нашу экономику, а мы ценим удобства сегодняшнего дня превыше безопасности завтрашнего. Мы используем свои научные достижения, чтобы стать слабее. Сириус с их помощью становится сильнее. В этой разнице и заключается опасность.
Доктор Певерейл снова опустился в кресло. Выглядел он мрачно. Механическая тележка очищала стол.
Дэвид указал на неё.
— Это тоже робот, если хотите, — сказал он.
Механическая тележка продолжала своё занятие. Она ровно двигалась на диамагнитном поле, так что её основание не касалось пола. её гибкие щупальца осторожно снимали тарелки, некоторые ставили на верхнюю плоскость, другие — во внутренние отделения.
— Это простой автомат, — фыркнул доктор Певерейл. — У него нет позитронного мозга. Он не может приспосабливаться к обстановке, не может менять задание.
— Значит, вы утверждаете, что сирианцы саботируют проект «Свет», — сказал Счастливчик.
— Да.
— Зачем им это?
Доктор Певерейл пожал плечами.
— Может, это часть их общего плана. Не знаю, что делается по всей Солнечной системе. Может, это пробная попытка, подготовка к вторжению и завоеванию. Проект «Свет» сам по себе ничего не значит, а сирианцы опасны везде. Хотел бы я внушить свою тревогу Совету Науки и правительству, чтобы они узнали правду.
Хэнли Кук кашлянул, затем впервые заговорил.
— Сирианцы люди, как и мы. Если они на Меркурии, то где они?
Доктор Певерейл холодно ответил:
— Это задача исследовательской экспедиции. Хорошо подготовленной и оборудованной экспедиции.
— Минутку, — сказал Майндс, глаза его возбуждённо блестели, — я был на солнечной стороне и готов поклясться…
— Хорошо подготовленной и оборудованной экспедиции, — твёрдо повторил астроном. — Ваши одинокие подвиги ничего не значат, Майндс.
Инженер на мгновение застыл, потом смущенно смолк.
Дэвид неожиданно сказал:
— Вам это как будто не нравится, Зертейл. Что вы думаете о словах доктора Певерейла?
Следователь поднял взгляд и долго с откровенной ненавистью и неприязнью смотрел на Старра. Очевидно, он не забыл и никогда не забудет происшествие за столом.
Он сказал:
— Я держу свои мнения при себе. Но скажу: меня не одурачит то, что происходит сегодня.
Он сжал рот, и Дэвид, подождав немного продолжения, повернулся к Певерейлу и сказал:
— Я сомневаюсь, нужна ли нам такая экспедиция, сэр. Если предположить, что сирианцы здесь, нельзя ли умозаключить, где они могут находиться?
Доктор Певерейл спросил:
— Что вы имеете в виду?
— Ну, где сирианцам было бы лучше всего? Если они в течение месяца неоднократно через короткие промежутки саботировали проект «Свет», им нужна для этого какая-то база поблизости от проекта. В то же время база не должна быть легко обнаруживаемой. Второе условие они, несомненно, выполнили. Где может находиться такая удобная, но тайная база? Разделим Меркурий на две части: солнечную и тёмную стороны. Мне кажется, глупо устанавливать базу на солнечной стороне. Слишком жарко, слишком много радиации, слишком негостеприимно.
Кук заметил:
— Не более негостеприимно, чем на тёмной стороне.
— Нет, нет, — немедленно возразил Дэвид, — вы ошибаетесь. Солнечная сторона представляет очень необычную среду. Люди к такому не привыкли. Тёмная сторона гораздо привычнее. Это просто поверхность в космическом пространстве, а условия космоса нам знакомы. На тёмной стороне холодно, но не холоднее, чем в космосе. Темно и нет воздуха, но в космосе, не под прямыми лучами Солнца, так же темно и гораздо меньше воздуха. Люди научились жить в космосе с удобствами, они могут прожить и на тёмной стороне.
— Продолжайте, — сказал доктор Певерейл, в его старых глазах светился интерес. — Продолжайте, мистер Старр.
— Но организовать базу, которая служила бы больше месяца, не так просто. Нужен корабль или корабли, чтобы со временем вернуться на Сириус. Или даже если их подберёт прилетевший специально корабль, всё равно нужны достаточные запасы пищи и воды, нужен источник энергии. Для этого нужно место, и в то же время они должны быть уверены, что их не обнаружат. Остаётся только одно возможное место.
— Какое, Счастливчик? — спросил Верзила, чуть не прыгая на стуле от возбуждения. По крайней мере он не сомневался в словах друга. — Какое?
— Когда я впервые появился здесь, — сказал Старр, — доктор Майндс упоминал неработающие шахты. Несколько минут назад и доктор Певерейл говорил о неработающих шахтах. Отсюда я заключаю, что на Меркурии есть пустые шахтные стволы и коридоры и они должны находиться здесь и на Южном полюсе, потому что только в районе полюсов перепады температуры не так велики. Я прав?
Кук, запинаясь, сказал:
— Да, здесь есть шахты. До основания обсерватории в Куполе находился центр управления шахтами.
— Значит, мы сидим на большой дыре в Меркурии. Если сирианцы успешно прячут большую базу, где же ей ещё находиться? Здесь направление опасности.
Одобрительный гул послышался за столом, но его быстро прервал гортанный голос Зертейла.
— Прекрасно, — сказал он, — но что из этого следует? Что вы собираетесь делать?
— Мы с Верзилой, — ответил Старр, — собираемся посетить шахты, как только будем готовы. Если там что-то есть, мы отыщем.
Глава 6
ПОДГОТОВКА
Доктор Гардома резко спросил:
— Вы собираетесь идти одни?
— Почему бы и нет? — вмешался Зертейл. — Это дешёвая героика. Конечно, они пойдут одни. Там никого и ничего нет, и они об этом знают.
— Хотите присоединиться? — спросил Верзила. — Если замкнете свой большой рот, то сможете втиснуться в костюм.
— А вы в костюме просто утонете, — огрызнулся Зертейл.
Доктор Гардома снова начал:
— Нет смысла идти в одиночку…
— Предварительное исследование не принесет никакого вреда, — сказал Счастливчик. — В сущности, Зертейл может оказаться прав. Возможно, там никого нет. Ну, мы во всяком случае будем держать связь с Куполом и надеемся, вы нас выручите, если мы встретимся с сирианцами. Мы с Верзилой привыкли к трудным положениям.
— К тому же, — добавил Верзила, улыбаясь всем своим гномьим лицом, — мы любим трудные положения.
Старр улыбнулся и встал.
— Если позволите…
Зертейл вскочил, повернулся и вышел. Счастливчик задумчиво смотрел ему вслед.
Когда Хэнли Кук проходил мимо, Дэвид остановил его за руку.
Кук поднял голову, лицо у него было озабоченное.
— Да. В чём дело, сэр?
Счастливчик негромко сказал:
— Не могли ли бы вы зайти к нам в комнату как можно скорее?
— Буду у вас через пятнадцать минут. Подходит?
— Отлично.
Кук появился гораздо позже. Он тихо вошёл в комнату, сохраняя на лице постоянное выражение озабоченности. Это был человек сорока с небольшим лет, с угловатым лицом и светло-каштановыми волосами, которые начинали седеть.
Дэвид сказал:
— Я забыл вам сообщить, где наша комната. Простите.
Кук удивился.
— Я знал, где вы остановились.
— Ну хорошо. Спасибо, что пришли по моей просьбе.
— О! — Кук помолчал. Потом торопливо добавил: — Рад. Рад.
Старр сказал:
— Небольшая проблема с изолирующими костюмами. Теми, что предназначены для солнечной стороны.
— Изолирующие костюмы? Вам не дали инструктивный фильм?
— Нет, нет. Я его посмотрел. Дело в другом.
— Что-нибудь не так?
— Что-нибудь не так? — повторил Верзила. — Посмотрите сами. — И он показал разрезы.
Кук смотрел, не понимая, потом начал медленно краснеть, глаза его округлились от ужаса.
— Не ви… Это невозможно! Здесь, в Куполе!
Счастливчик сказал:
— Главное, чтобы его заменили.
— Но кто это сделал? Мы должны узнать.
— Не надо беспокоить доктора Певерейла.
— Да, да, — сразу согласился Кук, будто не подумал об этом раньше.
— Со временем мы всё узнаем. А пока его просто нужно заменить.
— Конечно. Я сейчас же этим займусь. Неудивительно, что вы хотели меня видеть. Великий космос… — Он встал, будто лишившись дара речи, и собрался уходить.
Но Дэвид остановил его.
— Подождите, это мелочь. Мы должны обсудить более важные вещи. Кстати, прежде чем мы перейдем к этому… я понял, что вы не согласны со взглядами доктора Певерейла относительно сирианцев.
Кук нахмурился.
— Я не хотел бы обсуждать это.
— Я следил за вами, когда он говорил. Мне кажется, вы не одобряли его слова.
Кук снова сел. Сжал костлявые пальцы рук и сказал:
— Он старик. Уже много лет свихнулся на сирианцах. Почти психоз. Ищет их у себя под кроватью. Во всем их винит. Если передержаны наши пластинки, он винит их. А с тех пор, как вернулся с Сириуса, стало ещё хуже из-за того, что, как он утверждает, ему пришлось пережить.
— Что же он пережил?
— Ничего ужасного, я полагаю. Но его поместили в карантин. Отвели особое здание. Иногда были слишком вежливы.
Иногда, наоборот, слишком грубы. Ему не угодишь. И к нему в качестве личного слуги приставили позитронного робота.
— Он и против этого возражал?
— Говорит, это потому, что они сами не хотели к нему приближаться. Это я и имел в виду. Он буквально всё воспринимает как оскорбление.
— Вы были с ним?
Кук покачал головой.
— Сириус приглашал только одного человека, а он старший. Должен был бы лететь я. Он слишком стар, правда, слишком стар.
Кук говорил задумчиво. Неожиданно он поднял голову.
— Всё это между нами.
— Абсолютно, — заверил его Старр.
— А как ваш друг? — неуверенно спросил Кук. — Я знаю, он человек чести, но немного… гм… вспыльчив.
— Эй! — начал Верзила, застыв.
Дэвид ласково положил руку ему на голову и отбросил волосы со лба.
— Да, он горяч, — согласился он, — как вы могли заметить за банкетным столом. Я не всегда могу его остановить вовремя, а иногда, когда очень рассердится, он использует язык и кулаки, а не голову. Мне всегда приходится помнить об этом. Но когда я попрошу его молчать о чём-нибудь, он молчит, вот и всё.
— Спасибо, — сказал Кук.
Старр продолжал:
— Вернемся к моему вопросу: вы не согласны с тем, что доктор Певерейл считает виновными в данном случае сирианцев?
— Не согласен. Откуда они знают о проекте «Свет» и какое им до него дело? Не могу представить себе, чтобы они посылали корабли и людей, рискуя неприятностями со всей Солнечной системой, только чтобы перерезать несколько кабелей. Конечно, я говорил вам, доктор Певерейл уже некоторое время чувствует себя обиженным…
— Каким образом?
— Майндс и его группа появились здесь, когда он был на Сириусе. Он вернулся и застал их здесь. Конечно, он знал, что когда-нибудь они появятся. Проект планировался годами. Но всё же для него это было шоком.
— Он пытался избавиться от Майндса?
— О нет, ничего подобного. Просто он почувствовал, что настанет день, и, может быть, скоро, когда его сменят, а мне кажется, сама мысль об этом для него нестерпима. Ему хочется остаться здесь старшим и начать шумиху из-за сирианцев. Это его идея.
Дэвид кивнул, потом спросил:
— Скажите, а вы бывали на Церере?
Кук удивился смене темы.
— Бывал. А что?
— Вместе с доктором Певерейлом? Или в одиночку?
— Обычно с ним. Он летает туда чаще меня.
Счастливчик улыбнулся.
— Были ли вы там во время пиратского рейда в прошлом году?
Кук тоже улыбнулся.
— Нет, но старик был. Мы много раз слышали эту историю. Он очень сердился. Практически никогда не болеет, а тут оказался в больнице. И всё пропустил.
— Ну что ж, понятно… А теперь, я думаю, мы вернемся к главному вопросу. Мне не хочется беспокоить доктора Певерейла. Как вы говорите, он старик. Вы его заместитель и гораздо моложе… — Старр улыбнулся.
— Да, конечно. Что я могу сделать?
— Относительно шахт. Вероятно, где-то в Куполе есть записи, карты, планы, где указано размещение стволов и всё прочее. Мы ведь не можем пускаться в путь вслепую.
— Я уверен, всё это есть, — согласился Кук.
— И вы можете раздобыть их и посмотреть с нами?
— Да, конечно.
— Надеюсь, доктор Кук, шахты в хорошем состоянии. Никакой опасности обвалов или чего-нибудь ещё?
— О нет, я уверен, ничто подобное невозможно. Мы находимся прямо над шахтой, и при строительстве обсерватории приходилось заглядывать туда. Шахты содержатся в хорошем состоянии, они абсолютно безопасны, особенно при меркурианской силе тяжести.
— А почему же их закрыли, если они в таком хорошем состоянии? — спросил Верзила.
— Хороший вопрос, — ответил Кук и слегка улыбнулся сквозь своё выражение вечной меланхолии. — Хотите правильное объяснение или увлекательное?
— Оба, — тут же ответил Верзила.
Кук предложил собеседникам закурить, а когда они отказались, закурил сам, предварительно с отсутствующим видом постучав сигаретой по тыльной стороне ладони.
— Правда такова. Меркурий очень плотен и считался возможным источником тяжелых металлов: свинца, серебра, ртути, платины. Так и оказалось: он не так богат, как надеялись, но всё же богат. К несчастью, добыча оказалась неэкономичной. Содержание шахт и перевозка руды для обработки на Землю или даже на Луну делают стоимость добычи слишком высокой. А что касается интересного объяснения, то это совершенно другое дело. Когда пятьдесят лет назад сооружали обсерваторию, некоторые шахты ещё работали, хотя их уже начали закрывать. И первые астрономы слышали эти рассказы от самих шахтеров, а потом передали последующим сменам. Это часть меркурианской легендарной традиции.
— Что за рассказы? — спросил Верзила.
— Будто бы шахтеры умирали в шахтах.
— Пески Марса! — ядовито воскликнул Верзила. — Они везде умирают. Не думаете же вы, что кто-то может жить вечно?
— Они замерзали насмерть.
— Ну и что?
— Очень загадочное замерзание. В шахтах в те дни было жарко, и все ходили в изолирующих костюмах. Рассказы часто обрастают приукрашиваниями, сами знаете, и постепенно шахтеры отказались ходить в шахты поодиночке, только группами, потом совсем отказались работать, и шахты закрылись.
Дэвид кивнул.
— Так вы отыщете планы шахт?
— Немедленно. И замену вашего изолирующего костюма.
Подготовка велась как к большой экспедиции. Был принесен и испытан новый костюм вместо разрезанного. Впрочем, это был обычный костюм для космического пространства.
Принесли и изучили карты. Вместе с Куком Старр наметил возможный маршрут исследования по главным стволам.
Он поручил Верзиле позаботиться обо всех принадлежностях, гомогенизированной пище и воде (её можно пить, находясь в костюме), проверить источники энергии и запас кислорода, убедиться в правильной работе систем, убирающих отходы и регулирующих уровень влажности.
Сам он ненадолго отправился на свой корабль «Метеор» — пошёл по поверхности и понес с собой рюкзак, содержимое которого с Верзилой не обсуждал. Вернулся без рюкзака, но с двумя маленькими предметами, похожими на слегка изогнутые прицепные бутылки, из матовой стали, с тусклым красным прямоугольником посередине.
— Что это? — спросил Верзила.
— Микроэргометры, — ответил Дэвид. — Экспериментальные. Как большие эргометры на корабле, только те закреплены стационарно.
— А что они могут обнаружить?
— На расстоянии в сотни тысяч миль, как корабельные, ничего, но они обнаруживают источник атомной энергии за десять миль. Смотри, Верзила, активируется вот здесь. Понятно?
Счастливчик слегка надавил большим пальцем на канавку в боку прибора. Сдвинулась часть металлического корпуса, снова закрылась, и сразу ярко засветился красный прямоугольник. Старр повертел маленький прибор в разных направлениях. В одном он горел особенно ярко.
— Это, вероятно, направление энергетической установки самого Купола, — заметил Дэвид. — Можно отрегулировать механизм, чтобы он эту установку не учитывал. — Он принялся осторожно нажимать небольшие, почти невидимые кнопки.
Работая, он улыбался, его молодое лицо выражало удовольствие.
— Знаешь, Верзила, не бывает, чтобы я навестил дядю Гектора и он не дал бы мне какую-нибудь техническую новинку Совета. Он говорит, что при том риске, какому мы подвергаемся (знаешь ведь, как он говорит), нам эти игрушки нужны. Но иногда мне кажется, что он просто хочет, чтобы мы провели полевые испытания этих новых приборов. Но этот может оказаться полезным.
— Для чего, Дэвид?
— Во-первых, Верзила, если в шахтах есть сирианцы, у них должна быть энергетическая атомная установка, пусть маленькая. Это необходимо. Нужна энергия для обогрева, для электролиза воды и так далее. Эргометр обнаружит её на нужном расстоянии. А во-вторых…
Он смолк, и Верзила досадливо поджал губы. Он знал, что значит такое молчание. У Счастливчика появилась мысль: позже он скажет, что она была такой туманной, что он не мог о ней говорить.
— Один эргометр для меня? — спросил он.
— Конечно, — ответил Старр и бросил ему один прибор.
Верзила поймал его в воздухе.
Когда они вышли из комнаты, в костюмах, но со шлемами в руках, Хэнли Кук их ждал.
Он сказал:
— Я решил отвести вас к ближайшему входу в шахты.
— Спасибо, — ответил Дэвид.
Заканчивался период сна в Куполе. Люди обычно устанавливали периоды сна и бодрствования, как на Земле, даже если не было смены дней и ночей. Старр специально выбрал это время: ему не хотелось уходить в шахты во главе процессии любопытных. Доктор Певерейл в этом с ним согласился.
Коридоры Купола были пусты. Свет приглушен. Они шли, и тяжелая тишина окутывала их; в ней стук подошв казался особенно громким.
Кук остановился.
— Это вход номер два.
Дэвид кивнул.
— Хорошо. Надеюсь, мы скоро увидимся.
— Надеюсь, тоже.
Кук со своей обычной мрачной серьёзностью открыл вход, а Счастливчик и Верзила надели шлемы, плотно зажав парамагнитные швы. Старр почти с удовольствием сделал первый вдох запасенного воздуха, он к нему привык.
Сначала Счастливчик, за ним Верзила вошли в шлюз. Дверь за ними закрылась.
Дэвид спросил:
— Готов, Верзила?
— Конечно, Счастливчик. — Голос его громко прозвучал в наушниках, фигура Верзилы в ярком свете шлюза казалась тусклой.
Открылась дверь в противоположной стене. Они почувствовали, как уходит в вакуум воздух, и прошли в дверь.
Она закрылась за ними. И стало темно.
Они стояли в абсолютной темноте тихих и пустых шахт Меркурия.
Глава 7
ШАХТЫ МЕРКУРИЯ
Они зажгли фонари, и тьма немного отступила. Перед ними открылся туннель, уходящий в темноту. Освещенное пространство обрывалось внезапно, что неизбежно в пустоте. За пределами прямых лучей света всё было темно.
Высокий землянин и его маленький товарищ марсианин начали углубляться во внутренности Меркурия.
Верзила с любопытством осматривался в свете фонарей; туннель напоминал ему виденные на Луне. Закругленный с помощью бластеров и дезинтеграторов, он уходил вперёд, казалось, в бесконечность. Стены изгибались и мягко переходили в скалистый потолок. Туннель имел овальную форму в поперечном сечении, чуть приплюснутую вверху и сильно — внизу. Такая форма обладает особой прочностью.
Через воздух в своём костюме Верзила слышал собственные шаги. Шаги Дэвида он ощущал благодаря лёгкой вибрации почвы. Не совсем звук, но для человека, который всю или почти всю жизнь провёл в вакууме, он так же полон значения. Он «слышал» эти вибрации почвы, как обычный человек слышит вибрации воздуха, которые мы называем звуком.
Периодически они проходили мимо скальных колонн: породу не стали удалять, и она служила опорой для слоев скалы между туннелем и поверхностью. Опять похоже на шахты Луны, только здесь колонны толще и многочисленней: хоть сила тяжести Меркурия и мала, она всё же в два с половиной раза превосходит лунную.
От главного ствола, по которому они шли, в стороны отходили туннели. Счастливчик, казалось, не торопился; у входа в каждый такой туннель он останавливался и сверялся с картой.
Для Верзилы самой тоскливой особенностью пути были признаки недавнего человеческого пребывания: болты, к которым крепились иллюмопластины, заливавшие туннели ярким светом, небольшие выемки, где некогда парамагнитные реле создавали трение для тележек с рудой, изредка боковые ниши; тут размещались помещения, где шахтеры могли поесть и передохнуть, лаборатории для испытания образцов породы.
Всё теперь размонтировано, вынесено, осталась только скала.
Но Верзила был не таким человеком, чтобы тосковать из-за подобных вещей. Ему не хватало действия. Он пришёл сюда не для простой прогулки.
Он сказал:
— Эргометр ничего не показывает.
— Я знаю, Верзила. Скройся.
Он сказал это спокойно, без ударения, но Верзила знал, что это значит. Он настроил своё радио на направленную волну с зашифрованной передачей. Это не входит в обычное оборудование космического костюма, но Старр и Верзила к нему привыкли. Верзила добавил шифровальное устройство, когда готовил костюмы, почти автоматически.
Сердце его забилось чуть быстрее. Когда Старр обращается к зашифрованной связи, опасность близко. Ближе — во всяком случае. Он спросил:
— В чём дело, Счастливчик?
— Пора поговорить. — Голос Дэвида звучал будто издалека и доносился одновременно со всех направлений. Это из-за дешифратора, который всегда оставляет какой-то «шум».
Старр сказал:
— Это туннель семь-a, в соответствии с картой. Он ведет к одному из вертикальных стволов, выходящих на поверхность. Я иду туда.
Верзила удивленно спросил:
— Зачем?
— Чтобы подняться на поверхность. — Дэвид слегка рассмеялся. — Для чего же ещё?
— Зачем?
— По поверхности доберусь до «Метеора». Когда я ходил туда в последний раз, отнес в рюкзаке костюм для солнечной стороны.
Верзила медленно обдумал это и спросил:
— Значит, ты собираешься на солнечную сторону?
— Да. Иду к большому Солнцу. По крайней мере не заблужусь. Надо только идти на свет короны на горизонте. Очень просто.
— Послушай, Счастливчик. Я считал, что мы ищем в шахтах сирианцев. Разве ты не доказал на банкете, что они там?
— Нет, Верзила, не доказал. Просто так говорил, чтобы все поверили.
— А мне почему не сказал?
— Мы уже обсуждали это. Ты можешь не вовремя вспылить. Если бы я тебе сказал, что наш поход в шахты только часть плана, ты мог бы всё это выпалить, если бы Кук тебя рассердил.
— Да нет, Счастливчик. Просто ты не любишь говорить, пока всё не обдумаешь.
— И это тоже, — признался Дэвид. — Ситуация такова. Я хотел, чтобы все считали, что я иду в шахты. Никто не должен был заподозрить, что я собираюсь на солнечную сторону. Никто, в том числе и ты, Верзила.
— Почему? Или это по-прежнему тайна?
— Вот что я могу тебе сказать. Я сильно подозреваю, что за саботажем скрывается кто-то в Куполе. В сирианцев я не верю.
Верзила был разочарован.
— Значит, в шахтах никого нет?
— Я могу ошибаться. Но я согласен с доктором Куком. Невероятно, чтобы сирианцы затратили столько усилий и соорудили тайную базу на Меркурии для саботажа. Если бы им это потребовалось, они скорее всего подкупили бы землянина. Кто-то ведь разрезал костюм. В этом-то сирианцев винить нельзя. Даже доктор Певерейл не предполагает, что в Куполе есть сирианцы.
— Значит, ты ищешь предателя, Счастливчик?
— Я ищу саботажника. Это может быть предатель, продавшийся сирианцам, или он может действовать по собственным причинам. Ответ надеюсь найти на солнечной стороне. И надеюсь ещё, что моя дымовая завеса насчёт сирианского вторжения не даст виновному скрыться или подготовиться к моему приёму.
— И чего же ты ждёшь?
— Узнаю, когда найду.
— Ну ладно, — сказал Верзила. — Меня ты убедил. Идём. Пора двигаться.
— Стой! — в замешательстве воскликнул Старр. — Великая Галактика, парень! Я сказал, что я иду. У нас только один изоляционный костюм. Ты остаешься здесь.
Впервые в сознание Верзилы проникло значение местоимения, которым пользовался Дэвид. Он всё время говорил «я». Ни разу не сказал «мы». И всё же Верзила по долгой привычке к совместным действиям считал, что его «я» значит «мы».
— Счастливчик! — воскликнул он, разрываясь между гневом и отчаянием. — Почему я должен оставаться?
— Потому что я хочу, чтобы в Куполе были уверены, что мы здесь. Возьмешь карту и пойдешь по намеченному маршруту. Каждый час связывайся с Куком. Говори им, где ты находишься, что видишь, говори им правду; ничего не нужно выдумывать. Только не говори, что меня нет с тобой.
Верзила задумался.
— Ну, а если они захотят говорить с тобой?
— Скажи, что я занят. Что мы только что увидели сирианца. Говори что угодно и прерывай разговор. Всё что угодно, но пусть думают, что я здесь. Понятно?
— Хорошо. Пески Марса! Ты отправишься на солнечную сторону, тебе достанется всё веселье, а я буду бродить в темноте и играть в глупые радиоигры.
— Веселей, Верзила, в шахтах может что-нибудь оказаться. Я не всегда бываю прав.
— Ручаюсь, ты всегда прав. Тут ничего нет.
Дэвид не удержался от шутки:
— Замораживающая смерть, о которой говорил Кук. Можешь поискать её.
Верзила не видел в этом ничего веселого.
— Ну, спасибо.
Последовало короткое молчание. Потом Старр положил ему руку на плечо.
— Ну, хорошо, это не смешно. Прости, Верзила. И правда подбодрись. Мы снова будем вместе. Ты ведь знаешь.
Верзила отбросил руку товарища.
— Ладно. Оставь эти нежности. Я сказал, что сделаю это, и я сделаю. Только ты там получишь солнечный удар, а меня, чтобы присмотреть, рядом не будет, ты, большой бык.
Дэвид рассмеялся.
— Я буду осторожен.
Он свернул в туннель семь-a и не сделал и двух шагов, как Верзила его окликнул:
— Счастливчик!
Тот остановился.
— Что?
Верзила откашлялся.
— Послушай. Не рискуй зря. Меня рядом не будет, чтобы вытащить тебя из беды.
Дэвид ответил:
— Ты говоришь совсем как дядя Гектор. Сам воспользуйся этим советом, ладно?
Так они выразили своё истинное отношение друг к другу. Старр взмахнул рукой и постоял в свете фонаря Верзилы. Потом повернулся и пошёл.
Верзила смотрел ему вслед, глядя, как высокая фигура Дэвида сливается с окружающими тенями; но вот он исчез за поворотом туннеля.
Тишина и одиночество удвоились. Если бы он не был Джоном Верзилой Джонсом, он мог бы дрогнуть, оставшись в одиночестве.
Но он был Джон Верзила Джонс, и он сжал зубы, выпятил челюсть и, не дрогнув, двинулся по главному стволу шахты.
Пятнадцать минут спустя Верзила первый раз связался с Куполом. Он чувствовал себя несчастным.
Как он мог поверить, что Дэвид всерьез собирается исследовать шахты? Неужели Счастливчик стал бы договариваться о вызовах по радио, чтобы их могли слышать сирианцы?
Конечно, это направленный луч, но сообщение не зашифровано, а не бывает такого направленного луча, который нельзя было бы перехватить.
Интересно, почему Кук согласился на это? И тут же ему в голову пришло, что ведь Кук тоже не верит в сирианцев. Только Верзила поверил. Умник!
В этот момент он мог бы сгрызть корпус космического корабля.
Он вызвал Кука и использовал общепринятый сигнал «всё в порядке».
Сразу послышался голос Кука:
— Всё в порядке?
— Пески Марса! Да. Дэвид ушёл вперёд футов на двадцать, но мы ничего не видели. Послушайте, я же сообщил, что всё в порядке; в следующий раз верьте сигналу.
— Я хочу поговорить с мистером Старром.
— Зачем? — С некоторым усилием Верзила сохранил небрежный тон. — В следующий раз поговорите.
Кук помолчал, потом сказал:
— Ну ладно.
Верзила мрачно кивнул самому себе. Следующего раза не будет. Он подаст сигнал и сразу отключится. Но сколько же он должен бродить в темноте, прежде чем Счастливчик даст о себе знать? Час? Два? Шесть? Предположим, пройдёт шесть часов, а от него ничего не будет? Сколько ещё он должен будет оставаться? Сколько?
А что, если Кук потребует информации? Дэвид велел описывать увиденное, но что, если Верзила не сумеет это сделать? А что, если он уже не сумел скрыть того, что Старра с ним нет, что он отправился на солнечную сторону? Счастливчик больше никогда не будет доверять ему! Ни в чём!
Он отбросил эти мысли. Ничего хорошего они не принесут.
Если бы хоть что-то отвлекало его. Что-то помимо тьмы и пустоты, помимо слабой вибрации собственных шагов и звука собственного дыхания.
Он остановился, чтобы свериться с картой. На стенах боковых туннелей были вырезаны цифры и буквы, и время не сгладило их. Проверка не представляет трудности.
Но низкая температура сделала карту хрупкой, разворачивать её было трудно, и это не улучшило его настроения. Он осветил фонарем нагрудную пластинку, собираясь отрегулировать уровень влажности: лицевая пластина слегка затуманилась от его дыхания. Наверно, температура поднялась из-за его характера, сказал он себе.
Он только закончил регулировку, как резко повернул голову в сторону, как будто прислушивался.
Именно это он и делал. Напрягал свою способность ощущать слабые вибрации, которые «услышал» только сейчас, когда сам остановился.
Он затаил дыхание, застыл неподвижно, как скальная стена туннеля.
— Счастливчик? — спросил он в передатчик. — Старр?
Пальцами правой руки он передвигал приборы. Направленный луч зашифрован. Никто не услышит его шёпот. Но Дэвид услышит, и скоро в передатчике послышится его голос. Верзила самому себе не признался бы, с какой радостью ждёт этот голос.
— Счастливчик? — спросил он снова.
Вибрация продолжалась. Ответа не было.
Дыхание Верзилы ускорилось, вначале напряженно, потом с приливом возбуждения, которое всегда приходило к нему вместе с опасностью.
Кто-то ещё есть в шахтах Меркурия. Не Дэвид.
Кто? Сирианцы? Неужели дымовая завеса оказалась на самом деле правдой?
Может быть.
Верзила достал бластер и погасил фонарь.
Знают ли они, что он здесь? Идут к нему?
Вибрации — не смешанный неритмичный «звук» многих людей, даже не двух или трёх. Чуткое ухо Верзилы ясно распознало звуки шагов одного человека.
А с одним человеком Верзила готов встретиться всегда, везде и в любых условиях.
Он осторожно коснулся рукой ближайшей стены. Вибрация значительно усилилась. Идёт в этом направлении.
Верзила осторожно двинулся в полной темноте, продолжая касаться рукой стены. Слишком беззаботно звучат эти шаги. Либо тот считает, что один в шахтах (как только что считал сам Верзила), либо не очень привык к условиям вакуума.
Шаги самого Верзилы превратились в лёгкие прикосновения кошачьих лап; шаги того не изменились. Если бы он шёл за Верзилой по звуку, неожиданное изменение характера шагов должно было бы его насторожить. Но этого нет.
Верзила Свернул в боковой туннель направо. Дрожь в стене вела его к незнакомцу.
И вот он далеко впереди увидел свет фонаря. Верзила замер.
Свет исчез. Тот миновал вход в туннель, по которому шёл Верзила. Он идёт не по нему.
Верзила легко двинулся вперёд. Он найдёт пересечение и окажется сзади.
Тогда они встретятся. Он, Верзила, представляет Землю и Совет Науки, а враг представляет — кого?
Глава 8
ВРАГ В ШАХТАХ
Верзила рассчитал правильно. Он обнаружил пересечение и увидел впереди свет. Незнакомец о нём не подозревает. Не должен подозревать.
Бластер Верзилы был наготове. Он легко попадет в цель, но после бластера мало что останется. Мертвецы ничего не расскажут, мертвый враг никаких тайн не раскроет.
Верзила двигался с кошачьим терпением, сокращая расстояние, идя на свет, стараясь определить, кто же его враг.
Приготовив бластер, он попытался вступить в контакт. Вначале радио. Он быстро настроился на общую волну. Может быть, враг не настроен на волну Верзилы. Маловероятно, но возможно. Очень маловероятно и почти невозможно!
Но неважно. Всегда можно выстрелить в стену. Это ясно скажет о его намерениях. С бластером связана власть, и его высказывание поймут на любом языке.
Он сказал, вложив в свой тенор всю силу:
— Стой, ты! Стой на месте и не поворачивайся! На тебя направлен бластер.
Верзила включил свой фонарь, и в его свете враг замер. Он не повернулся: Верзила понял, что его услышали.
Он сказал:
— Теперь поворачивайся. Медленно.
Фигура повернулась. Верзила держал свою правую руку на свету. Металлическая перчатка плотно сжимала рукоять крупнокалиберного бластера. Он был хорошо виден в свете фонаря.
Верзила сказал:
— Этот бластер полностью заряжен. Я убивал им людей и раньше и хорошо стреляю.
У врага, очевидно, было радио. Он, вероятно, слышал, потому что взглянул на бластер и сделал попытку поднять руки, будто пытаясь защититься ими.
Верзила изучал костюм врага. Обычный костюм (есть ли такие же у сирианцев?).
Потом коротко спросил:
— По радио говорить можешь?
От неожиданного звука в ушах он подпрыгнул. Голос, даже по радио, искажающему звук, был знакомым.
— Это коротышка, что ли?
Никогда в жизни не требовалось Верзиле столько силы, чтобы не пустить в ход бластер.
Бластер подпрыгнул в его руке, и стоящий против него человек быстро наклонился в сторону.
— Зертейл! — закричал Верзила.
Удивление его сменилось разочарованием. Никаких сирианцев. Всего лишь Зертейл.
И тут же острая мысль: что Зертейл тут делает?
Зертейл отозвался:
— Да, Зертейл. Убери свою горохострелку.
— Уберу, когда захочу, — ответил Верзила. — Что вы здесь делаете?
— Мне кажется, шахты Меркурия — не ваша частная собственность.
— Пока у меня в руках бластер, я здесь хозяин, толстомордый подонок.
Верзила напряженно размышлял, но ни к чему не мог прийти. Что делает здесь эта ядовитая вонючка? Отправить его назад в Купол значило бы выдать отсутствие Старра. Верзила мог бы сказать им, что Дэвид задержался, но они всё равно забеспокоятся и станут подозревать, когда он не ответит на вызов. И в каком преступлении он может обвинить Зертейла? В конце концов, всем можно находиться в шахтах.
С другой стороны, он не может бесконечно держать его под прицелом бластера.
Счастливчик бы что-нибудь придумал…
И как будто обладая телепатией, Зертейл неожиданно спросил:
— Кстати, а где Старр?
— Об этом можете не беспокоиться, — ответил Верзила. Потом с неожиданным убеждением: — Вы ведь следили за нами? — И сделал знак бластером, побуждая говорить.
В свете фонаря Верзиле было видно, как Зертейл слегка склонил голову и посмотрел на бластер.
— Ну и что?
Опять тупик.
Верзила сказал:
— Вы шли по боковому проходу. Хотели подобраться к нам сзади…
— Я сказал: ну и что? — Зертейл говорил почти лениво, спокойно, как будто ему нравилось стоять под прицелом бластера. — Но где ваш друг? — продолжал Зертейл. — Где-нибудь поблизости?
— Я знаю, где он. Не беспокойтесь.
— А я беспокоюсь. Позовите его. Ваше радио на местной волне, иначе я бы не слышал вас так хорошо… Не возражаете, если я включу подачу воды? Пить хочется. — Рука его слегка шевельнулась.
— Осторожней, — сказал Верзила.
— Только попью.
Верзила напряженно следил. Он не думал, что с грудной пластины можно привести в действие оружие, но костюм вдруг может ослепительно засверкать или… или что угодно.
Пальцы Зертейла двигались, Верзила стоял в нерешительности; послышались звуки глотания.
— Испугались? — спокойно спросил Зертейл.
Верзила не нашёл что ответить.
Зертейл резко сказал:
— Вызывайте его! Вызывайте Старра!
Под действием приказа рука Верзилы дернулась и застыла.
Зертейл рассмеялся.
— К радио потянулись? Нужна далекая связь? Его нет поблизости?
— Ничего подобного! — горячо воскликнул Верзила. Он сгорал от стыда. Этот ядовитый Зертейл умён. Он стоит под прицелом бластера, но выигрывает схватку, становится хозяином положения, а положение самого Верзилы, который не может ни выстрелить, ни опустить бластер, становится всё невыносимее.
Его грызла мысль: а почему бы не выстрелить?
Но он знал, что не сделает этого. Не сможет объяснить причину. А если и сможет, насильственная смерть человека сенатора Свенсона принесет Совету Науки огромные неприятности. И Дэвиду тоже!
Если бы только Счастливчик был здесь…
Он так сильно этого хотел, что сердце его дрогнуло, когда луч фонаря Зертейла сместился и осветил что-то сзади. Он услышал слова Зертейла:
— Нет, я ошибался, а вы были правы. Вот он идёт.
Верзила повернулся.
— Дэвид…
В обычном состоянии Верзила дождался бы, пока товарищ подойдёт к нему, положит руку ему на плечо, но он не был в обычном состоянии. Его положение становилось невыносимым, желание вырваться из него победило.
Он успел только вскрикнуть «Дэвид» и упал от удара тела, вдвое более тяжелого, чем его собственное.
Он ещё удерживал бластер, но его били по руке, сильные пальцы выкручивали её. Дыхание Верзилы прервалось, мысли запутались от неожиданности нападения, бластер отлетел в сторону.
Груз с него спал, Верзила встал: над ним возвышался Зертейл, и Верзила смотрел в ствол своего бластера.
— У меня есть собственный, — мрачно сказал Зертейл, — но я лучше воспользуюсь вашим. Не двигайтесь. Оставайтесь на месте. На четвереньки! Вот так.
Никогда в жизни Верзила так не ненавидел себя. Чтобы его так одурачили! Он заслуживает смерти. Лучше умереть, чем смотреть Старру в лицо и говорить:
«Он посмотрел за меня и сказал, что ты идешь, поэтому я повернулся…»
Напряженным голосом он сказал:
— Стреляйте, если сможете. Стреляйте, и Старр вас найдёт и проследит, чтобы остаток жизни вы провели прикованным к самому маленькому и холодному астероиду-тюрьме.
— Старр проследит? А где он?
— Найдите.
— И найду, потому что вы мне скажете, где он. И скажете сначала, зачем он пошёл в шахты. Что он тут делал?
— Искал сирианцев. Вы сами слышали.
— Искал кометный газ, — проворчал Зертейл. — Этот старый придурок Певерейл может болтать о сирианцах, но ваш друг в это не верит. Если у него есть мозги в голове. Он пришёл сюда по другой причине. Говорите.
— Зачем мне это?
— Чтобы спасти свою жалкую жизнь.
— Для меня эта причина недостаточна, — сказал Верзила, встал и сделал шаг вперёд.
Зертейл отступал, пока не прижался спиной к стене туннеля.
— Ещё один шаг, и я с удовольствием вас сожгу. Мне, в сущности, не очень нужны эти сведения. Потребуется время, но немного. Если я потрачу на вас больше пяти минут, это уже напрасные затраты. А теперь я скажу вам, что хочу. Может, поймете, что вы и ваш надутый герой Старр — ничтожества. Ни на что не годитесь, кроме трюков с силовым ножом против невооруженного человека.
Верзила мрачно подумал: «Вот что гложет этого подонка. Я выставил его болваном перед всеми, и он хочет отомстить».
— Если собираетесь болтать и дальше, — презрительно сказал он, — лучше стреляйте. Лучше умереть от бластера, чем быть заговоренным насмерть.
— Это грязная ложь! — прервал Верзила.
— Пусть люди сами решают. Как только мы разоблачим лживую пропаганду Совета, все призадумаются.
— Попробуйте!
— Обязательно попробуем. И выиграем. А вот и доказательство номер один: вы двое в шахтах. Я знаю, зачем вы здесь. Сирианцы! Ха! Либо Старр заставил Певерейла придумать эту историю, либо воспользовался ею. Я вам скажу, что вы тут собирались делать. Изображать сирианцев. Вы собираетесь устроить тут сирианский лагерь, а потом всем показать. «Я в одиночку их изгнал, — скажет Старр. — Я Дэвид Старр, великий герой». Субэфир сделает из этого грандиозное шоу, и Совет украдкой отменит проект «Свет». Всё, что нужно, из него уже выдоили. Но не получится, потому что я поймаю Старра на месте преступления и раздавлю его, и Совет тоже.
Верзила дрожал от ярости. Ему хотелось голыми руками разорвать Зертейла, но он умудрился сдержаться. Он знал, почему Зертейл так говорит. Потому что, в сущности, ничего не знает. Он просто старается больше выведать.
Верзила негромко заговорил, пытаясь перехватить инициативу.
— Знаешь, гнусный подонок, если бы тебя кто-нибудь проткнул и выпустил кометный газ, всем была бы видна твоя крошечная душонка. И как только все это увидят, ты станешь мешком грязной кожи.
Зертейл заорал:
— Хватит!..
Но Верзила своим высоким голосом перекрыл его:
— Стреляй, подлый пират. Уже за столом ты показал себя подлецом. Встань как мужчина с мужчиной, с голыми кулаками, и снова окажешься низким подлецом, хоть ты и раздулся, как жаба.
Верзила напрягся. Пусть Зертейл рассердится ещё сильнее. Пусть действует в порыве. Тогда у Верзилы будет шанс. Смерть возможна, но шанс остаётся.
Но Зертейл, казалось, успокоился и стал ещё холоднее.
— Если не будешь говорить, я тебя убью. А со мной ничего не случится. Я скажу, что это была самозащита.
— Со Счастливчиком это не пройдёт.
— У него будут свои неприятности. Когда я с ним закончу, его мнение ничего не будет стоить. — Зертейл держал бластер недрогнувшей рукой. — Хочешь попробовать убежать?
— От тебя?
— Как хочешь, — холодно сказал Зертейл.
Верзила молча ждал, рука Зертейла застыла, голова чуть отклонилась, будто он целился, хотя на таком расстоянии невозможно было промахнуться.
Верзила считал мгновения, стараясь решить, когда сделать отчаянный прыжок, как сделал Счастливчик, когда в него прицелился Майндс. Но тут второго участника, который занялся бы Зертейлом, как сам Верзила занялся Майндсом, нет. И Зертейл — не обезумевший, охваченный паникой Майндс.
Мышцы Верзилы напряглись для последнего прыжка. Но он не думал, что проживёт следующие пять секунд.
Глава 9
ТЬМА И СВЕТ
Верзила напряг всё тело, мышцы его ног едва не дрожали от напряжения перед прыжком, но тут в его ушах раздался хриплый, удивленный крик.
Они стояли в тёмном сером мире, с лучами фонарей, устремленными друг на друга. За лучами не было ничего, и поэтому неожиданное движение какого-то комка, пересекшего луч света, не имело смысла.
Первой реакцией, первой мыслью Верзилы было: «Счастливчик! Он вернулся? Овладел ситуацией, перехватил инициативу?»
Но тут снова что-то шевельнулось, и мысль о товарище исчезла.
Как будто высвободилась часть скальной стены и медленно начала опускаться в слабом меркурианском поле тяготения.
Нечто, похожее на каменную верёвку, почему-то подвижную, коснулось плеча Зертейла — и прицепилось к нему. Ещё одна такая верёвка обвила его вокруг пояса. Ещё одна медленно спускалась вниз в мире нереальных медлительных движений. Конец её коснулся груди Зертейла и его руки, и рука тут же прижалась к груди. Как будто эта медлительная и, по-видимому, хрупкая скала обладала силой боа-констриктора.
Если вначале Зертейл только удивился, то теперь в его голосе звучал ужас.
— Холодные, — прохрипел он. — Они холодные.
Верзила с трудом осмысливал новую ситуацию. Кусок скалы зажал руку Зертейла. И вместе с ней рукоять бластера.
Спускалась ещё одна верёвка. Эти верёвки настолько сливались со скалами, что становились видны, только когда начинали двигаться.
Они были соединены друг с другом, как единый организм, но центра, ядра, «тела» не было. Словно каменный осьминог, состоящий только из щупалец.
Мысли бешено мчались в мозгу Верзилы.
Мелькнула мысль о том, как в течение бесконечных лет эволюции на Меркурии зародилась жизнь в скалах. Жизнь, совершенно отличная от земного типа. Жизнь, питающаяся теплом.
Почему бы и нет? Щупальца переползают с места на место, отыскивая тепло. Верзила представил себе, как они сползались к Северному полюсу Меркурия, когда здесь впервые появились люди. Вначале шахты, потом обсерватория дали нескончаемый поток тепла.
Люди тоже могут быть их добычей. А почему нет? Человек — это источник тепла. Изредка они могли захватить одинокого шахтера. Парализованный неожиданным холодом и страхом, он не успевал позвать на помощь. А чуть погодя источник питания был уже настолько истощен, что радио не срабатывало, позвать на помощь становилось невозможно. А ещё позже шахтер погибал, превращаясь в замороженный реликт.
Рассказ Кука о смерти в шахтах приобретал смысл.
Всё это почти мгновенно промелькнуло в мозгу Верзилы, пока он неподвижно стоял, пораженный поворотом событий.
Голос Зертейла превратился в среднее между стоном и хрипом:
— Я… не могу… помоги… помоги… какой холод… холодно…
Верзила крикнул:
— Держись! Я иду!
Мгновенно исчезли все мысли о том, что этот человек враг, что только что он собирался хладнокровно убить Верзилу. Маленький марсианин знал только одно: перед ним человек, беспомощный, схваченный чем-то нечеловеческим.
С тех пор как человек впервые оторвался от Земли и оказался в полном опасностей и загадок космосе, выработался строгий неписаный закон. Человеческая вражда забывается, когда перед человеком общий враг — нечеловеческие силы других миров.
Может быть, не все подчинялись этому закону, но Верзила подчинялся.
Он мгновенно оказался рядом с Зертейлом и схватил его за руку.
Зертейл пробормотал:
— Помоги…
Верзила ухватился за бластер, стараясь не касаться щупальца, которое обвивало сжатый кулак Зертейла. Почти отчуждённо Верзила заметил, что щупальце сгибается не гладко, не так, как змея. Оно сгибается секциями, как будто состоит из множества соединенных сегментов.
Пытаясь ухватиться за костюм Зертейла, Верзила другой рукой случайно коснулся щупальца и мгновенно отпрянул. Холод как копьем пронзил руку, она отчаянно заныла.
Как бы это существо ни выкачивало тепло, Верзила ничего об этом не слышал.
Он отчаянно тянул на себя бластер. И не сразу заметил чуждое прикосновение к спине; на него навалился ледяной холод — и не уходил. Он попытался отпрыгнуть и обнаружил, что не может. Щупальце обхватило его.
Двое людей будто срослись, так тесно их прижало друг к другу.
Физическая боль от холода росла, Верзила, как безумный, рвал бластер.
Он вздрогнул от еле слышного голоса Зертейла:
— Бесполезно…
Зертейл пошатнулся и в слабом поле тяготения Меркурия медленно повалился, таща за собой Верзилу.
Тело Верзилы онемело. Оно теряло способность ощущать. Он почти не понимал, держит ли по-прежнему рукоять бластера.
Свет фонаря тускнел: тесно сжимающие верёвки продолжали выкачивать энергию.
Холодная смерть была совсем рядом.
Дэвид, оставив Верзилу в шахтах Меркурия и переодевшись в изолирующий костюм в ангаре, где стоял «Метеор», вышел на поверхность Меркурия и повернулся в сторону «белого призрака Солнца».
Несколько минут он стоял неподвижно, разглядывая молочное свечение солнечной короны.
При этом он машинально одну за другой разминал мышцы. Изолирующий костюм более гибок, чем обычный космический. И гораздо легче. Поэтому создавалось впечатление, что его вообще нет. В безвоздушном пространстве это производит не очень приятное впечатление, но Дэвид отбросил всякое беспокойство и принялся осматривать небо.
Звёзды были такими же яркими и многочисленными, как в открытом космосе, и он не обращал на них внимания. Ему нужно было что-то другое. Уже прошло два дня по стандартному земному времени, как он не видел неба. За два дня Меркурий проделал сорок четвертую часть своего пути по околосолнечной орбите. Это значит, что примерно восемь градусов неба появилось на востоке и восемь градусов скрылось на западе. Значит, можно увидеть новые звёзды.
И новые планеты. За этот промежуток должны были подняться над горизонтом Венера и Земля.
Вот и они. Венера выше, алмазно-яркая в белом свете, намного ярче, чем видимая с Земли. С Земли на Венеру смотреть неудобно. Она находится между Землей и Солнцем, и, когда Венера и Земля сближаются, с Земли видно только её тёмную сторону. С Меркурия же Венера видна полностью.
В этот момент Венера находилась в тридцати трёх миллионах миль от Меркурия. Но в самом близком положении она подходит примерно на двадцать миллионов миль, и тогда невооруженным глазом можно рассмотреть её диск.
Но и сейчас свет её соперничал со светом короны, и, глядя на поверхность, Счастливчик подумал, что видит двойную тень от своих ног: одну, расплывчатую, отбрасывает корона, другую, чёткую, — Венера. Он подумал, что при некоторых обстоятельствах тень могла бы быть тройной, третью отбрасывает Земля.
Он без труда отыскал и Землю. Она находилась ближе к горизонту, и хотя была ярче всех звёзд, всё же выглядела бледной по сравнению с великолепной Венерой. Более далекое Солнце меньше освещает ее; к тому же на ней меньше облаков, и потому она отражает меньше света. И наконец, она вдвое дальше от Меркурия, чем Венера.
Но в одном отношении она несравненно интереснее. Если Венера чисто белая, то свет Земли синевато-зеленый.
И больше того, на самом горизонте виднелся маленький желтый огонек Луны. Вместе Луна и Земля представляют собой уникальное зрелище на небе всех планет внутри орбиты Юпитера. Двойная планета, два огня торжественно плывут рядом, меньший обходит больший, и с поверхности планет это кажется колебаниями из стороны в сторону.
Дэвид смотрел на это зрелище, вероятно, дольше, чем следовало бы, но ничего не мог с собой поделать. Условия работы часто уносили его далеко от родной планеты, но от этого она не становилась для него менее дорогой. Квадриллионы людей, расселившихся по всей Галактике, происходят с Земли. Почти всю историю человечества Земля оставалась его единственным домом. Какой человек может без эмоций смотреть на огонек Земли?
Счастливчик отвел взгляд, покачал головой. Его ждёт работа.
Он решительно зашагал в сторону света короны, скользя над поверхностью, что позволяла низкая сила тяжести, внимательно глядя на поверхность перед собой, чтобы видеть все неровности.
Он понятия не имел, что найдёт. У него была лишь смутная догадка, не подкрепленная фактами. Дэвид страшно боялся обсуждать такие догадки, которые, в сущности, были всего лишь интуицией. Он даже не хотел о них очень долго думать. Слишком опасно привыкнуть к этой мысли, начать считать её доказанной истиной, закрыть мозг перед другими возможностями.
Он видел, как это происходит с вспыльчивым, доверчивым, всегда готовым действовать Верзилой. Видел не раз, как самые смутные предположения тут же становились аксиомами в сознании Верзилы…
Он ласково улыбнулся, вспомнив о малыше. Он неразумен, легко утрачивает хладнокровие, но это верный и бесстрашный друг. Дэвид предпочел бы иметь рядом с собой Верзилу, чем целый флот боевых космических кораблей с экипажами из гигантов.
Ему не хватало марсианина с его гномьим лицом, когда он скользил по поверхности Меркурия, и отчасти чтобы отогнать это чувство, Старр снова принялся размышлять над своей проблемой.
Беда в том, что слишком много противоречий.
Во-первых, существует Майндс, нервный, неуравновешенный, неуверенный в себе. Так ведь и осталось непонятным, насколько его неожиданное нападение на Старра — результат приступа безумия, насколько это заранее рассчитанное действие. Далее Гардома, друг Майндса. Идеалист ли это, захваченный перспективами проекта «Свет», или он с Майндсом по чисто практическим расчётам? И если это так, то каковы эти расчёты?
Целый ворох неприятностей представляет собой Зертейл. Он намерен уничтожить Совет, и главная цель его нападения — Майндс. Но его высокомерие сразу отталкивает всех встречных. Майндс, конечно, ненавидит и его, и Гардому. Доктор Певерейл тоже, но выражает это гораздо сдержаннее. Он даже не захотел говорить с ним об этом человеке.
На банкете Кук тоже уклонялся от разговоров с Зертейлом, даже не смотрел в его сторону. Хотел ли он просто избежать острого языка Зертейла, или у него были другие причины?
Кук не уважает Певерейла. Стыдится его одержимости сирианцами.
И остаётся ещё один вопрос, на который нужно найти ответ. Кто разрезал его костюм?
Слишком много факторов. У Старра была мысль, объединяющая их, но слишком тонкая это ниточка. И опять же он старался о ней не думать. Его мозг должен оставаться открытым.
Поверхность поднималась, и он автоматически приспособился к этому. И настолько задумался, что зрелище, которое он увидел, преодолев небольшой подъём, застало его врасплох.
Самый край Солнца показался над неровным горизонтом, вернее, даже не край. Только протуберанцы.
Они были ярко-красными, и один из них, в самом центре, состоял из вихрей, медленно разворачивавшихся над поверхностью.
Резко выделявшееся на фоне скал Меркурия, не затуманенное атмосферой, не закрытое пылью, это было зрелище невероятной красоты. Языки пламени, казалось, вырастают из тёмной поверхности Меркурия, как будто на горизонте неожиданно проснулся гигантский вулкан.
Но Дэвид знал, что такого не может быть. Центральный протуберанец так велик, что способен поглотить сотню Земель или пять тысяч Меркуриев. Он горит атомным пламенем, озаряя всё вокруг.
Счастливчик выключил фонарь.
Поверхность скал, обращенная к протуберанцам, была залита красноватым светом, остальные скалы оставались чёрными, как уголь. Как будто кто-то закрасил бездонную пропасть полосками красного цвета. И правда это «красный призрак Солнца».
Тень от руки Дэвида на груди была абсолютно чёрной. Поверхность стала предательской, из-за своеобразного освещения труднее было рассчитывать расстояние.
Он снова включил фонарь и двинулся в сторону протуберанцев над поверхностью Меркурия. За каждую пройденную им милю Солнце поднималось над горизонтом на шесть минут.
Это значит, что меньше чем через милю он увидит само Солнце и окажется на солнечной стороне Меркурия.
Счастливчик не мог знать, что в эту минуту Верзила находится на пороге гибели от замерзания. Глядя на солнечную сторону, он думал только об одном: тут опасность, тут суть проблемы и тут же её решение.
Глава 10
СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА
Теперь стало видно больше протуберанцев. Их красный цвет стал ярче. Корона не исчезла (не было атмосферы, которая могла бы рассеять её свет), но теперь она не казалась такой внушительной. По-прежнему видны были звёзды; Старр знал, что они будут видны и при Солнце, но кто теперь на них обратит внимание?
Дэвид быстро продвигался вперёд; такую скорость он мог выдерживать часами, не уставая. Он чувствовал, что при необходимости мог бы продвигаться с такой скоростью и при земном тяготении.
И вдруг — без предупреждения, без свечения неба, без всякого атмосферного намека — появилось Солнце!
Вернее, ниточка Солнца толщиной в волос. Невыносимо светлая линия в разрыве скал на горизонте, как будто небесный художник проложил по краю скалы ослепительно белый мазок.
Старр оглянулся. На неровной поверхности за ним по-прежнему лежали пятна красного цвета. Но у его ног белела полоска: какие-то кристаллы уловили и отразили солнечный свет.
Он снова двинулся вперёд, и светлая линия впереди превратилась в пятнышко, которое продолжало увеличиваться.
Теперь отчетливо стал виден край Солнца, приподнятый над горизонтом в центре и мягко уходящий за горизонт по обе стороны. Дуга необыкновенно пологая для человека, привыкшего к кривизне Солнца, видимой с Земли.
И Солнце не затмевало протуберанцы, которые поднимались с него, как извивающиеся волосы-змеи. Протуберанцы, конечно, покрывают всё Солнце, но видны только на краю. На поверхности они теряются в его блеске.
А вокруг корона.
Дэвид порадовался тому, как устроена лицевая пластина его костюма.
Незащищенный глаз навсегда ослеп бы при одном взгляде на край Солнца с поверхности Меркурия. Видимый свет сам по себе опасен, но главное — жесткое ультрафиолетовое излучение, которое не задерживает атмосфера, именно оно погубит зрение… и саму жизнь.
Но лицевая пластина устроена так, что чем ярче прямой свет, падающий на неё, тем менее она прозрачна. Ничтожная часть процента солнечного освещения проходит через пластину, и поэтому глаза без всякой опасности, почти без неудобств смотрят прямо на Солнце. И в то же время свет короны и звёзд проходит, не ослабев.
Изолирующий костюм защищал его и в других отношениях. Он был пропитан свинцом и висмутом, немного, не настолько, чтобы сильно увеличить вес, но достаточно, чтобы отразить ультрафиолетовое и рентгеновское излучение Солнца. Костюм был заряжен положительно и способен отразить большую часть космических лучей. Ведь космические лучи в основном состоят из положительно заряженных позитронов, а одинаковые заряды отталкиваются друг от друга.
И, конечно, костюм защищал от жары не только благодаря изоляции, но и из-за зеркальной отражающей поверхности, молекулярного слоя псевдожидкости, который можно активировать простым прикосновением к приборам управления.
Как задумаешься над преимуществами изолирующего костюма, подумал Дэвид, пожалеешь, что это не стандартный костюм для всех обстоятельств. К сожалению, вспомнил он, в костюме мало металла, и это делает его недостаточно прочным; его можно использовать лишь там, где главная опасность — жара и излучение.
Теперь Старр на милю углубился на солнечную сторону и почувствовал необыкновенную жару.
Это его не удивило. Для домоседа, знающего о космосе только по субэфирным триллерам, солнечная сторона всякой лишенной атмосферы планеты — сплошная неменяющаяся жаркая масса.
Но это слишком упрощенное представление. Всё зависит от того, насколько высоко стоит в небе Солнце. В этой точке Меркурия, например, где Солнце поднимается над горизонтом лишь частично, сравнительно мало тепла достигает поверхности и распространяется по обширной территории, потому что лучи идут почти горизонтально.
«Погода» меняется, когда начинаешь углубляться в солнечную сторону, и наконец, когда добредешь до районов, где Солнце высоко в небе, всё как в субэфирном шоу.
К тому же всегда есть тени. В отсутствие воздуха свет и тепло распространяются по прямой линии. И не достигают затененной поверхности; доходит только небольшая часть, отражённая соседней освещенной поверхностью. В тени поэтому морозный холод и угольная чернота, хотя горячее Солнце высоко над головой.
Счастливчик всё больше внимания уделял этим теням. Вначале, когда показался только верхний край Солнца, вся поверхность оставалась в тени, освещены были только отдельные участки. Но по мере того как Солнце поднималось всё выше и выше, свет распространялся и тени становились отчетливее за камнями и утесами.
Один раз Дэвид специально углубился в тень от скалы длиной в сотню ярдов и как будто снова оказался на тёмной стороне. Солнечная жара, которую он в костюме почти не ощущал, стала заметной по контрасту в тени. Вокруг вся поверхность была ярко освещена Солнцем, но в тени приходилось снова внимательно смотреть под ноги.
Старр не мог не заметить отличие поверхности в тени от освещенной. Потому что солнечная сторона Меркурия всё-таки имела что-то вроде атмосферы. Не в земном смысле, не азот, кислород, двуокись углерода или водяные пары — ничего подобного. На солнечной стороне кое-где кипит ртуть. Сера становится жидкой, многие летучие элементы тоже. Их пары и составляют атмосферу перегретой стороны Меркурия. В тени эти пары замерзают.
Всё это промелькнуло в голове Дэвида, когда он провёл пальцами в перчатке по поверхности скалы в тени, и на пальцах появился налёт замерзшей ртути, сверкающий в свете фонаря. Когда он вышел на Солнце, налёт тут же превратился в капли жидкости, которые постепенно испарились.
Солнце становилось всё жарче. Но это не беспокоило Счастливчика. Даже если станет слишком жарко, он всегда может укрыться в тени и охладиться.
Более опасно коротковолновое излучение. Но Дэвид сомневался, чтобы кратковременное облучение представляло опасность. Рабочие на Меркурии боятся радиации, потому что постоянно подвергаются ей в небольших количествах. Старр вспомнил подчеркнутое Майндсом наблюдение: саботажник необычно долгое время оставался на солнце. Естественно, это насторожило Майндса. Когда постоянно подвергаешься облучению, глупо удлинять выдержку. Но в его случае выдержка будет кратковременной — по крайней мере он на это надеялся.
Дэвид двигался по тёмным пятнам, мрачно выделявшимся на фоне обычно красноватой поверхности Меркурия. Красноватый оттенок вполне объясним. Похоже на почву Марса — смесь силикатов с добавкой окиси железа, что и придаёт почве красноватый оттенок.
Чёрные места были для Старра намного интересней. В этих местах поверхность была более горячей, так как чёрный цвет поглощает больше солнечного тепла. Счастливчик на ходу наклонился и обнаружил, что в тёмных местах поверхность скорее рыхлая, чем жесткая. На перчатках остались чёрные следы. Он присмотрелся к ним. Возможно, графит или сульфид железа или серы. Возможно множество вариантов, но он готов был поручиться, что сульфид железа тут присутствует.
Наконец он остановился в тени скалы и осмотрелся. За полтора часа, по его оценке, он прошёл около пятнадцати миль, судя по тому, что Солнце почти полностью поднялось над горизонтом (впрочем, в этот момент его больше занимала питательная жидкость, чем оценка пройденного расстояния).
Где-то слева находятся кабели проекта «Свет». Где-то справа другие кабели. Их точное расположение неважно. Они покрывают сотни квадратных миль, и глупо было бы бродить по ним, ища саботажника.
Майндс пытался это сделать наугад и потерпел поражение. Если тот объект, что он видел, действительно был саботажником, его предупредили бы из Купола. Майндс не скрывал, что собирается на солнечную сторону.
Старр, наоборот, скрыл. Он надеялся, что предупреждения не будет.
И у него есть средство, которым не располагал Майндс. Дэвид достал из сумки маленький эргометр. Подержал его в ладони, подставляя солнечному свету.
Включенный, прибор мгновенно ярко вспыхнул. Счастливчик улыбнулся и отрегулировал его так, чтобы он не реагировал на солнечный свет. На коротковолновую солнечную радиацию.
Прямоугольник потускнел.
Старр вышел на солнце и стал терпеливо направлять прибор во все стороны. Есть ли здесь иной источник радиации, помимо Солнца? Он, конечно, обнаружил направление на Купол, и свечение усилилось, когда он наклонил прибор в этом направлении к поверхности. Энергетическая установка Купола находилась почти в миле под поверхностью, и на том месте, где он стоял, максимальная яркость достигалась при наклоне в двадцать градусов.
Он медленно поворачивался, осторожно держа эргометр Двумя пальцами, чтобы непрозрачный материал костюма не задерживал сигнальное излучение. Повернулся вторично, в третий раз.
Как будто в одном направлении прибор чуть засветился — трудно сказать точно. Может, ему просто показалось.
Он попробовал снова.
На этот раз ошибки быть не могло!
Счастливчик посмотрел в том направлении, откуда появилось свечение, и двинулся туда. Он не скрывал от себя, что, возможно, идёт просто в сторону кармана радиоактивной руды.
Примерно через милю он увидел один из кабелей Майндса.
Это был не одиночный кабель, а скорее делая сеть, наполовину погруженная в грунт. Он прошёл вдоль неё несколько сотен ярдов и наткнулся на квадратную металлическую плиту со стороной примерно в четыре фута и с тщательно отполированной поверхностью. В ней, как в чистой воде, отражались звёзды.
Несомненно, подумал Дэвид, если правильно расположиться, увидишь в ней отражение Солнца. Он заметил, что плита меняет угол наклона, становясь то горизонтальней, то вертикальней. Он отвел взгляд, чтобы проверить, приспосабливается ли она к положению Солнца.
Снова взглянув на плиту, он поразился. Зеркальная поверхность больше не была зеркальной. Она стала тускло-чёрной, настолько матовой, что всё Солнце Меркурия, казалось, не было способно осветить её.
У него на глазах тусклая побежалость плиты дрогнула, разорвалась на осколки.
И поверхность снова стала чистой.
Он понаблюдал ещё за тремя циклами, при этом пластина поднималась всё более и более вертикально. Вначале необыкновенно чистое отражение, затем его полное отсутствие. В неотражающем состоянии, понял Старр, свет поглощается; в остальное время отражается. Смена фаз может быть регулярной, а может и сознательно неправильной. Он не мог задерживаться, чтобы наблюдать дальше; сомнительно, что его познаний в гипероптике было достаточно, чтобы разобраться в устройстве.
Вероятно, сотни или тысячи таких квадратов, связанных кабелями и получающих энергию из установки под Куполом, поглощают и отражают свет под разными углами к Солнцу. И, вероятно, эта управляемая энергия перебрасывается через гиперпространство.
И, вероятно, разорванные кабели и разбитые пластины мешают установке функционировать нормально.
Он снова взглянул на эргометр. Тот светился гораздо ярче, и Дэвид снова двинулся в направлении свечения.
Всё ярче и ярче! То, за чем он следует, меняет своё расположение. Источник гамма-лучей не закреплен неподвижно на поверхности Меркурия.
Значит, это не просто выход радиоактивной руды. Что-то подвижное. Для Старра это означало человека или что-то, созданное человеком.
Счастливчик заметил вдалеке движущуюся точку на светлом фоне. Это произошло после долгого перехода под открытым Солнцем, когда он уже собирался встать в тень ближайшей скалы и немного охладиться.
Вместо этого он пошёл быстрее. Температуру снаружи он оценивал примерно на уровне кипения воды. Внутри костюма, к счастью, она была значительно ниже.
Он мрачно подумал, что если бы Солнце стояло над головой, а не на горизонте, даже этот костюм оказался бы бесполезным.
Фигура не обращала на него внимания. Она продолжала двигаться своей дорогой, и походка её свидетельствовала, что она не так легко справляется с местным тяготением, как Дэвид. её походку можно было охарактеризовать почти как хромоту. Но фигура двигалась с большой скоростью. Пожирала расстояние.
Изолирующего костюма на ней не было. Даже с большого расстояния Дэвиду было ясно, что поверхность фигуры — сплошной металл.
Старр ненадолго задержался в тени скалы, но заставил себя выйти на солнце, не успев охладиться.
Фигуру жара, казалось, не беспокоила. За всё это время она ни разу не пряталась в тени, хотя много раз была в нескольких шагах от неё.
Счастливчик задумчиво кивнул. Всё совпадает.
Он пошёл быстрее. Жара стала почти осязаемой на ощупь. Но теперь уже скоро.
Он отказался от своей привычной лёгкой походки. Все силы вкладывал в огромные пятнадцатифутовые прыжки.
Он закричал:
— Эй! Эй ты! Повернись!
Произнес он это повелительно, надеясь, что его радиосигнал будет получен и ему не придётся переходить на язык жестов.
Фигура медленно повернулась, и ноздри Старра раздулись в холодном удовлетворении. Пока всё так, как он думал: фигура не человек, это вообще не живое существо!
Глава 11
САБОТАЖНИК!
Фигура была высокой, выше Счастливчика. Почти семи футов ростом и соответственно широка в плечах. Повсюду сверкающий металл, ярко отражающий лучи Солнца, чёрный там, куда лучи не падали.
Но под этим металлом не было ни плоти, ни крови, только металл, провода, трубки, микрореактор, дающий энергию и производящий гамма-лучи, которые засек Дэвид с помощью своего эргометра.
Конечности чудовищно мощные; фигура слегка расставила ноги и смотрела на человека. Вместо глаз у неё были две фотоэлектрические ячейки, светящиеся тускло-красным светом. Рот представлял собой разрез в металле в нижней части лица.
Это был механический человек, робот, и Дэвиду потребовался всего один взгляд, чтобы понять, что робот этот произведен не на Земле. На Земле был изобретен позитронный робот, но таких моделей на ней не делают.
Робот через нерегулярные интервалы открывал и закрывал рот, будто говорил.
Старр сказал:
— Я не воспринимаю звуки в вакууме, робот. — Он сказал это строго, зная, что очень важно сразу же заявить о себе как о человеке и, следовательно, хозяине. — Включи радио.
Робот стоял неподвижно, но голос его зазвучал в приёмнике Дэвида жестко и ровно, с неестественной интонацией. Робот сказал:
— Что вы делаете, сэр? Почему вы здесь?
— Не расспрашивай меня! — ответил Счастливчик. — А ты почему здесь?
Робот может говорить только правду. Он сказал:
— Мне приказано уничтожать через определённые промежутки эти предметы.
— Кем приказано?
— Мне приказано не отвечать на этот вопрос.
— Ты сирианского производства?
— Я сооружен на одной из планет Сирианской конфедерации.
Старр нахмурился. Голос робота был очень неприятным. Те немногие земные роботы, которых он видел в лабораториях, были снабжены вполне нормальными и приятными человеческими голосами. Сирианцы могли бы тоже так сделать.
Но тут Счастливчик перешёл к решению более неотложных проблем. Он сказал:
— Я должен найти тень. Пойдем со мной.
Робот немедленно ответил:
— Я отведу вас к ближайшей тени.
И быстро пошёл, причем его металлические ноги двигались не совсем нормально.
Дэвид пошёл за ним. Ему не нужно было указывать, где ближайшая тень; он задержался, чтобы понаблюдать за походкой робота.
То, что на расстоянии казалось неуклюжей походкой, оказалось вблизи самой настоящей хромотой. Хромота и хриплый голос. Такие неполадки в роботе, который кажется механическим чудом.
Старр подумал, что робот может быть не приспособлен к жаре и радиации Меркурия. В результате длительного облучения он испортился, и это было очень опасно. Слишком совершенная вещь, чтобы легко выйти из строя.
Он с восхищением рассматривал машину. Ему было известно, что внутри массивного черепа из хромостали находится яйцеобразная платиново-иридиевая губка размером примерно с человеческий мозг. В ней квадрильоны и квадрильоны позитронов возникают и исчезают в миллионные доли секунды. Возникая и исчезая, они продвигаются по рассчитанным каналам, которые в упрощенном представлении можно сравнить с нервными клетками человеческого мозга.
Инженеры рассчитали эти позитронные каналы, чтобы они служили человеку. И этому же служат три закона роботехники.
Первый закон: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
Второй закон: робот должен повиноваться командам, которые ему даёт человек, кроме тех случаев, когда эти команды противоречат Первому закону.
Третий закон: робот должен заботиться о своей безопасности постольку, поскольку это не противоречит Первому и Второму законам.
Дэвид оторвался от своих мыслей, когда робот споткнулся и чуть не упал. Поверхность была ровной, запнуться не за что. Если бы была неровность, её выдавала бы чёрная тень. Но робот прервал движение без всякой причины, наклонился в сторону. Помахав в пустоте руками, он вернул себе равновесие. И продолжал двигаться к тени, будто ничего не случилось.
Старр подумал: «Он, несомненно, в плохом состоянии».
Они вместе вступили в тень, и Счастливчик включил свой фонарь.
Он сказал:
— Ты поступаешь неправильно, уничтожая необходимое оборудование. Ты приносишь вред людям.
На лице робота ничего не отразилось, да и не могло отразиться. Не было и эмоций в его голосе. Он ответил:
— Я выполняю приказ.
— Это Второй закон, — строго сказал Старр. — Но ты не можешь выполнять приказы, которые приносят вред человеку. Это нарушение Первого закона.
— Людей я не видел. И никому не причинил вреда.
— Ты причинил вред людям, не видя их. Говорю тебе.
— Я не причинил вреда людям, — упрямо ответил робот, и Дэвид нахмурился при этом неразумном утверждении. Несмотря на сверкающую внешность, возможно, это не самая совершенная модель.
Робот продолжал:
— Мне приказано избегать людей. Меня предупреждали, когда появятся люди, но меня не предупредили насчёт вас.
Старр смотрел мимо тени на сверкающий меркурианский ландшафт, преимущественно красноватый либо серый, но в некоторых местах чёрный: чёрные пятна часто попадаются в этом районе Меркурия. Он вспомнил, что Майндс дважды видел робота (теперь его рассказ обретает смысл), но терял из виду, когда пытался подойти ближе. К счастью, в его случае скрытность его похода и использование эргометра сработали.
Неожиданно и настойчиво он спросил:
— Кто приказал тебе избегать людей?
Старр не надеялся перехитрить робота. Мозг робота механический, думал он. Его нельзя обмануть или провести; точно так же невозможно заставить космический костюм передвигаться, просто замкнув контакт.
Робот сказал:
— Мне приказано не отвечать на этот вопрос. — Потом медленно, хрипло, будто произнося слова вопреки своей воле, продолжил: — Я не хочу, чтобы вы задавали такие вопросы. Они меня тревожат.
Дэвид подумал: «Нарушение Первого закона будет ещё более тревожащим».
Он сознательно вышел из тени.
И сказал двинувшемуся за ним роботу:
— Какой твой серийный номер?
— РЛ-726.
— Очень хорошо, РЛ-726. Ты понимаешь, что я человек?
— Да.
— Я не оборудован для меркурианской жары и солнца.
— Я тоже, — сказал робот.
— Я это понимаю, — сказал Счастливчик, вспомнив о том, как робот только что чуть не упал. — Тем не менее человек для этого подготовлен гораздо хуже робота. Ты понимаешь это?
— Да.
— А теперь послушай. Я хочу прекратить твои разрушения и хочу, чтобы ты сказал мне, кто тебе приказал их совершать.
— Мне приказано…
— Если ты меня не послушаешься, — громко сказал Дэвид, — я останусь здесь на Солнце, и ты нарушишь Первый закон, допустив, чтобы я погиб, когда ты мог это предотвратить.
Дэвид напряженно ждал. Показания робота не примут ни в каком суде, но он убедится, что идёт по правильному следу.
Однако робот ничего не ответил. Он покачнулся. Один глаз его погас (опять неисправность!), потом снова ожил. Послышался какой-то неразборчивый скрип, потом как будто заговорил пьяный:
— Я унесу вас в безопасное место.
— Я буду сопротивляться, — ответил Старр, — и ты вынужден будешь причинить мне вред. А если ответишь на мой вопрос, я вернусь в безопасное место по своей воле, и ты спасешь мою жизнь, никому не причинив вреда.
Молчание.
Дэвид спросил:
— Ты скажешь, кто приказал тебе уничтожать оборудование?
Неожиданно робот двинулся вперёд и остановился в двух шагах от человека.
— Я просил вас не задавать этот вопрос.
Его руки поднялись, словно он хотел схватить Старра, но не завершили движение.
Дэвид следил за ним мрачно и без страха. Робот не может причинить вред человеку.
Но вот робот поднял могучую руку и поднес к голове: очень похоже на человека с головной болью.
Головная боль!
Неожиданная мысль появилась у Счастливчика. Великая Галактика! Он был слеп, глупо, преступно слеп!
Не ноги робота не в порядке, не его голос и не глаза. Как они могут пострадать от жары? Поражен позитронный мозг; сколько времени этот нежный позитронный мозг подвергается прямому действию жары и радиации? Месяцы?
Мозг, должно быть, отчасти разрушен.
Если бы робот был человеком, можно было бы сказать, что у него душевная болезнь. Он на пороге безумия.
Безумный робот! Сведенный с ума жарой и радиацией!
А Старр угрожает этому роботу собственной смертью, роботу, который приближается к нему, подняв руки.
Должно быть, дилемма, перед которой поставил его человек, окончательно свела его с ума.
Дэвид осторожно отступил. Он сказал:
— Ты себя хорошо чувствуешь?
Робот ничего не ответил. Он пошёл быстрее. Старр подумал: «Если он готов нарушить Первый закон, значит, он на пороге распада. Позитронный мозг должен разделиться на сегменты, чтобы он смог так поступать».
Но, с другой стороны, робот продержался несколько месяцев. Может ещё немало выдержать.
Он спросил:
— У тебя болит голова?
— Болит? — переспросил робот. — Я не понимаю смысла этого слова.
Дэвид сказал:
— Мне жарко. Давай вернемся в тень.
Больше никаких разговоров о смерти от жары. Он повернулся и почти побежал.
Робот хрипло сказал:
— Мне было приказано предотвращать всякие помехи в исполнении приказов.
Старр протянул руку к бластеру и вздохнул. Какая жалость, если ему придётся уничтожить робота. Великолепное достижение науки, и Совету было бы полезно с ним ознакомиться. А если его уничтожить, то никакой информации не получишь.
Дэвид сказал:
— Остановись.
Рука робота сдвинулась, и Счастливчик едва увернулся боковым прыжком, воспользовавшись слабым тяготением Меркурия.
Если бы он смог добраться до тени, если бы робот последовал за ним туда…
Может, холод приведет в порядок позитронный мозг. К роботу вернется разум, и Дэвиду не понадобится уничтожать его.
Он снова увернулся, и робот снова пролетел мимо, его металлические ноги подняли тучу чёрной пыли, которая на Меркурии сразу оседает, потому что здесь нет атмосферы, в которой пыль могла бы повиснуть. Удивительная охота, человек и робот двигались в абсолютной тишине вакуума.
Счастливчик почувствовал уверенность. Движения робота становились всё более неровными. Контроль за механизмами рук и ног ослабевал.
Но робот явно пытался отогнать его от тени. Он несомненно и определённо пытался убить его.
А Дэвид по-прежнему не мог заставить себя воспользоваться бластером.
Он остановился. Робот тоже. Они стояли лицом друг к другу в пяти футах, под ногами чёрная полоска сульфида железа. Чернота делала жару ещё большей, и Счастливчик почувствовал приближение обморока.
Робот мрачно возвышался между ним и тенью.
Дэвид сказал:
— Прочь с дороги.
Говорить было трудно.
Робот ответил:
— Мне приказано было устранять всякие помехи при исполнении приказов. Вы мне мешаете.
УСтарра не оставалось выхода. Он неверно рассчитал. Ему никогда не приходило в голову усомниться в устойчивости Трёх законов при любых обстоятельствах. Слишком поздно понял он правду, и неверный расчёт привел его к опасности для собственной жизни и необходимости уничтожения робота.
Он печально поднял бластер.
И почти сразу же понял, что совершил и вторую ошибку. Он слишком долго ждал, и накопившаяся жара и радиация сделали его тело такой же повреждённой машиной, как робот. Рука его поднималась неуверенно, охваченному смятением мозгу робот показался вдвое большим.
Робот превратился в движущееся пятно, и на этот раз он не сумел увернуться. Бластер вырвался из его руки и отлетел в сторону. Руку человека плотно захватила металлическая рука.
Даже в самых благоприятных обстоятельствах Старр не смог бы сопротивляться стальным мышцам механического человека. И ни один человек не смог бы. Он чувствовал, как исчезает всякая способность к сопротивлению. Он ощущал только жару.
Робот сжал его сильнее, сгибая, словно тряпичную куклу. Он смутно вспомнил о структурной непрочности изолирующего костюма. Обычный космический костюм защитил бы его даже от силы робота.
Счастливчик беспомощно махал свободной рукой, пальцы его цеплялись за чёрную пыль.
В мозгу его промелькнула мысль. Он отчаянно напрягал мышцы в последней попытке спастись от неизбежной гибели от рук обезумевшего робота.
Глава 12
ПРЕЛЮДИЯ К ДУЭЛИ
Опасность, которой подвергался Старр, была прямо противоположной той, через которую прошёл Верзила несколько часов назад. Верзиле угрожала не жара, а растущий холод. Каменные «верёвки» держали его так же крепко, как Дэвида — руки металлического робота. В одном отношении всё же положение Верзилы было лучше.
Бластер постепенно поддавался. Он высвободился так неожиданно, что онемевшие пальцы Верзилы чуть не выронили его.
— Пески Марса! — пробормотал он и удержал бластер.
Если бы он знал, где уязвимое место у этих щупалец, если бы только можно было отсечь щупальца, не задев ни себя, ни Зертейла, проблема была бы простой. А так у него оставался только один выход, и не из лучших.
Его большой палец неуклюже давил на ручку, опуская рычажок всё ниже и ниже. Верзиле всё сильнее хотелось спать, это дурной признак. Уже с минуту Зертейл не подавал никаких признаков жизни.
Верзила поставил бластер на минимум. Ещё одно: он должен активировать его, не выронив.
Великий Космос! Нельзя выронить бластер!
Указательный палец коснулся нужного места и нажал.
Бластер нагрелся. Верзила видел тускло-красное свечение решетки на стволе. Бластер не был приспособлен для работы в качестве нагревателя и скоро выйдет из строя, но к космосу это!
Изо всех оставшихся сил Верзила швырнул бластер как можно дальше.
Ему показалось, что всё вокруг зашаталось, он находился на грани потери сознания.
И тут он почувствовал тепло, заработал нагреватель костюма, и Верзила слабо вскрикнул от радости. Это ничтожное тепло показывало, что его больше не отсасывают поглощающие тепло щупальца.
Верзила пошевелил руками. Поднял ногу. Свободно. Щупальца исчезли.
Ярче загорелся фонарь, и Верзила ясно увидел место, куда отбросил бластер. Место, но не сам бластер. На его месте медленно шевелилась масса серых переплетающихся щупалец.
Дрожащими руками Верзила схватил бластер Зертейла, настроил его на минимум и бросил к первому. Это удержит существа, если энергия первого бластера иссякнет.
Верзила настойчиво спросил:
— Эй, Зертейл, вы меня слышите?
Ответа не было.
Изо всех сил Верзила оттолкнул от себя одетую в космический костюм фигуру. Загорелся фонарь Зертейла, начал действовать обогреватель его костюма. Значит, он не совсем ещё пуст. Температура внутри костюма быстро вернется к норме.
Верзила вызвал Купол. Другого решения не было: в их состоянии, с истощенным запасом энергии следующая встреча с меркурианской жизнью окажется смертельной. Как-нибудь он сохранит в тайне местонахождение Старра.
К счастью, их отыскали поразительно быстро.
После двух чашек кофе и горячего обеда, в тепле и свете Купола выносливые мозг и тело Верзилы быстро поместили перенесенный ужас в соответствующую ячейку памяти. Всего лишь неприятное воспоминание.
Доктор Певерейл суетился вокруг, отчасти как беспокойная мать, отчасти как нервный старик. Его седые волосы взъерошились.
— Вы уверены, что никаких последствий нет, Верзила?
— Я себя хорошо чувствую. Никогда не было лучше, — настаивал Верзила. — Вопрос, док, в том, как чувствует себя Зертейл.
— Очевидно, с ним всё будет в порядке. — Голос астронома стал холоден. — Доктор Гардома осмотрел его и сообщил, что беспокоиться не из-за чего.
— Хорошо, — почти радостно сказал Верзила.
Доктор Певерейл с некоторым удивлением спросил:
— Вы о нём беспокоились?
— Конечно, док. У меня есть насчёт него план.
Вошёл доктор Хэнли Кук, он чуть не дрожал от возбуждения.
— Мы послали людей в шахты, чтобы проверить, нельзя ли захватить одно такое существо. Они берут с собой грелки. Как приманку для рыбы. — Он повернулся к Верзиле. — Вам повезло, что выбрались.
Верзила сердито произнес высоким голосом:
— Дело не в удаче, а в мозгах. Я решил, что больше всего им нужно прямое тепло. Это их любимый вид энергии. И я дал его им.
Доктор Певерейл после этого ушёл, но Кук остался, он говорил об этих существах, шагая взад и вперёд и дрожа от возбуждения.
— Только представить себе! Старые рассказы о смерти шахтеров были правдивы. На самом деле! Только подумать! Скальные щупальца, которые впитывают тепло, как губка, отнимают энергию у всего, с чем вступают в контакт. Вы уверены в своих описаниях, Верзила?
— Конечно, уверен. Когда поймаете одно, увидите сами.
— Какое открытие!
— А почему их не открыли раньше? — спросил Верзила.
— Судя по вашему рассказу, они сливаются с окружающей средой. Защитная мимикрия. И нападают только на одиночек. Может быть, — Кук заговорил быстрее, более оживленно, сплетая и расплетая длинные пальцы, — у них какой-то инстинкт, какой-то зачаточный разум, который заставляет их прятаться, не показываться на глаза. Они знают, что единственное их спасение в скрытности, поэтому нападают только на одиночек. Но более тридцати лет ни один человек не появлялся в шахтах. Бесценные источники необычного тепла исчезли, но существа ни разу не поддались искушению вторгнуться в сам Купол. Однако когда люди снова появились в шахтах, такое искушение для них оказалось слишком сильно, и одно из существ напало, хотя перед ним были два человека, а не один. Для них это оказалось роковым. Их открыли.
— А почему они не идут на солнечную сторону, если им нужна энергия и они настолько разумны? — спросил Верзила.
— Может быть, там слишком жарко, — сразу ответил Кук.
— Они схватили бластер. Он раскалился докрасна.
— На солнечной стороне слишком много жесткой радиации. Они могут быть не приспособлены к ней. А может, другой вид таких существ есть на солнечной стороне. Откуда нам знать? Может, существа с тёмной стороны живут на радиоактивных рудах и свете короны.
Верзила пожал плечами. Ему эти рассуждения казались бесполезными.
Но ход мыслей Кука тоже изменился. Он задумчиво взглянул на Верзилу, ритмично потирая пальцем подбородок.
— Итак, вы спасли Зертейлу жизнь.
— Да.
— Может, это и хорошо. Если бы Зертейл погиб, обвинили бы вас. Сенатор Свенсон сделал бы жизнь трудной для вас, для Старра и для всего Совета. Как бы вы ни объясняли, вы были там, когда умер Зертейл, и сенатору этого достаточно.
— Послушайте, — сказал Верзила, беспокойно ерзая. — Когда я смогу увидеть Зертейла?
— Когда разрешит доктор Гардома.
— Позвоните ему и скажите, что я хочу сейчас.
Кук продолжал задумчиво смотреть на маленького марсианина.
— Что вы задумали?
И поскольку Верзиле необходимо было подготовить установку искусственного тяготения, он поделился частью своих планов с Куком.
Доктор Гардома открыл дверь и кивком разрешил Верзиле войти.
— Можете говорить с ним, Верзила, — прошептал он. — Мне он не нужен.
Он вышел, и Верзила и Зертейл снова оказались одни.
Там, где на его лице не было щетины, Джонатан Зертейл казался чуть бледнее обычного, но это было единственным последствием происшествия. Он оскалил зубы в свирепой улыбке.
— Я цел, если это вас интересует.
— Да, я пришёл в этом убедиться. И задать один вопрос. Вы всё ещё верите в эту чушь насчёт Старра и сирианского лагеря в шахтах?
— Я намерен доказать это.
— Послушайте, вы, подонок, вы знаете, что это ложь, и вы намерены подделать доказательства. Подделать! Конечно, я не жду, что вы встанете на колени и поблагодарите меня за то, что я спас вам жизнь…
— Минутку! — Лицо Зертейла начало медленно багроветь. — Я помню только, что эта штука застала меня врасплох. И всё. Я ведь не знаю, что произошло. Всё остальное — только ваши слова.
Верзила завопил в гневе:
— Кусок космической пыли, да ты кричал «На помощь!».
— А где ваши свидетели? Я ничего подобного не помню.
— А как же, полагаешь, ты выбрался?
— Я ничего не полагаю. Возможно, эта штука сама уползла. А возможно, вообще ничего не было. Может, в меня попал осколок камня, и я лишился сознания. Если вы думаете, что я стану рыдать у вас на плече и отстану от вашего друга-взяточника, вы будете разочарованы. Если вам больше нечего сказать, до свидания.
Верзила сказал:
— Ты кое-что забыл. Ты пытался убить меня.
— А где свидетели? Ну, если ты теперь не уйдешь, я тебя вышвырну, червяк!
Верзила героическими усилиями сохранял спокойствие.
— Давай договоримся, Зертейл. Ты всё время мне угрожаешь, потому что на полдюйма выше меня и на полфунта тяжелее, но как только я занялся тобой, ты струсил.
— У тебя был силовой нож, а я безоружен. Не забывай.
— Я говорю, ты трус. Встретимся снова. Без оружия. Или ты слишком слаб?
— Слишком слаб для тебя? Да я и после двух лет в больнице не буду слаб для тебя.
— Тогда встретимся. При свидетелях. Место есть в помещении энергетической установки. Я договорился с Хэнли Куком.
— Кук тебя, должно быть, ненавидит. А как насчёт Певерейла?
— Его никто не спрашивает. И Кук меня не ненавидит.
— Но он хочет, чтобы тебя убили. Пожалуй, я не согласен. Чего ради мне драться с полупинтой кожи и ветра?
— Трус!
— Я сказал: чего ради? Ты сказал — договоримся?
— Да. Если побеждаешь ты, я ни слова не говорю о том, что произошло в шахтах, — что на самом деле произошло. Я побеждаю — ты отвязываешься от Совета.
— Ну и что? Чего мне беспокоиться из-за твоих слов?
— Ты боишься проиграть?
— Великий Космос! — Этого восклицания было достаточно.
Верзила сказал:
— Ну как, договорились?
— Ты меня дураком считаешь? Если я буду драться с тобой при свидетелях, меня обвинят в убийстве. Если я притронусь к тебе пальцем, могу раздавить. Найди другой способ самоубийства.
— Хорошо. Насколько ты меня тяжелее?
— На сто фунтов, — ответил Зертейл презрительно.
— Сто фунтов жира, — запищал Верзила, его лицо гнома яростно сморщилось. — Вот что я тебе скажу. Будем драться при меркурианской силе тяжести. Твоё преимущество будет всего в сорок фунтов. А преимущество в инерции ты сохранишь. Справедливо?
Зертейл сказал:
— Великий Космос, да мне хочется разок тебя придавить, просто чтобы размазать твой большой рот по маленькому лицу.
— Ты получил свой шанс. Договорились?
— Клянусь Землей, договорились. Я постараюсь тебя не убивать, но это всё, что могу пообещать. Ты сам напросился.
— Верно. А теперь пошли. Пошли. — Верзила так торопился, что вскочил и начал размахивать кулаками, по-птичьи подпрыгивая на месте. Его так увлекла предстоящая дуэль, что он не вспомнил о Старре и не испытал никаких предчувствий катастрофы. Он не знал, что именно в этот момент его друг участвовал в гораздо более опасной дуэли.
На энергетическом уровне располагались огромные генераторы и другое громоздкое оборудование, но имелось и большое помещение для сбора персонала. Это была старейшая часть Купола. В ранние дни, ещё до того, как первая шахта ушла в глубины Меркурия, строители спали на койках между генераторами. Даже сейчас это место часто использовалось для демонстрации трифильмов.
Теперь оно должно было послужить рингом, и Кук с десятком техников в сомнении стоял у боковой линии.
— Все здесь? — спросил Верзила.
Кук ответил:
— Майндс и его люди на солнечной стороне. Десять человек в туннелях охотятся за вашими бродячими верёвками, а остальные заняты у приборов. — Он с опаской взглянул на Зертейла и спросил: — Вы уверены, что хотите этого, Верзила?
Верзила равнодушно посмотрел в сторону Зертейла.
— С тяготением всё в порядке?
— По сигналу начнем. Я настроил оборудование так, что остальная часть Купола не будет задета. Зертейл согласен?
— Конечно. — Верзила улыбнулся. — Всё в порядке, приятель.
— Надеюсь, — искренне ответил Кук.
Зертейл крикнул:
— Когда начинаем? — Потом посмотрел на зрителей и спросил: — Кто-нибудь ставит на мартышку?
Один из техников с неловкой улыбкой посмотрел на Верзилу. Верзила, раздевшийся по пояс, выглядел поразительно жилистым, но разница в весе и размерах делала предстоящую схватку гротескной.
— Никаких пари, — сказал техник.
— Готовы? — спросил Кук.
— Да, — ответил Зертейл.
Кук облизал бледные губы и включил рубильник. Гудение мощных генераторов несколько изменилось.
Верзила качнулся от внезапного уменьшения силы тяжести. Остальные тоже. Зертейл пошатнулся, но быстро выпрямился и осторожно прошёл в центр расчищенного места. Он не трудился поднимать руки, но стоял, ожидая, в совершенно расслабленной позе.
— Ну, начинай, мошка, — сказал он.
Глава 13
ИСХОД ДУЭЛИ
Верзила приближался упругими движениями, будто на пружинах.
В некотором смысле так и было. Сила тяжести на поверхности Меркурия почти равна марсианской, Верзила вырос при таком тяготении. Его холодные серые глаза подмечали каждое покачивание тела Зертейла, каждое неожиданное напряжение мышц, когда Зертейл удерживался в вертикальном положении.
Небольшая нерасчётливость даже в усилиях, направленных на сохранение равновесия, неизбежна, если оказываешься под действием непривычной силы тяжести.
Верзила двигался резко и неожиданно, перепрыгивая с ноги на ногу и из стороны в сторону; его неровные движения напоминали танец и совершенно сбивали с толку.
— Что это? — раздраженно проворчал Зертейл. — Марсианский вальс?
— Что-то вроде, — ответил Верзила. Его рука устремилась вперёд, и кулак с громким звуком ударился о бок Зертейла; тот пошатнулся.
Слушатели как один выдохнули; послышался чей-то возглас:
— Ну парень!
Верзила стоял, руки в боки, ожидая, пока Зертейл восстановит равновесие.
Зертейлу на это потребовалось пять секунд, но теперь на боку у него было красное пятно, щеки покраснели от гнева.
Мощно двинулась вперёд его рука, ладонь полуоткрыта, её шлепка достаточно было бы, чтобы навсегда убрать с пути это жалящее насекомое.
Движение продолжалось, увлекая за собой Зертейла. Верзила нырнул, когда рука Зертейла была от него на расстоянии в долю дюйма, уверенный в точной координации своего тела. Зертейл отчаянно пытался остановиться и при этом шатнулся в сторону Верзилы.
Верзила аккуратно приставил ногу к задней стороне брюк Зертейла и слегка толкнул. Тот подпрыгнул на одной ноге и медленным гротескным движением упал вперёд.
С боковой линии послышался неожиданный смех.
Кто-то из зрителей крикнул:
— Я передумал, Зертейл. Ставлю на малыша!
Зертейл не показал виду, что слышал. Он снова стоял, и из угла его рта показалась капля густой слюны.
— Поднять силу тяжести! — хрипло заревел он. — Пусть будет нормальная!
— В чём дело, толстяк? — насмешливо спросил Верзила. — Разве тебе мало преимущества в сорок фунтов?
— Я тебя убью! — заревел Зертейл.
— Давай! — Верзила в издевательском приглашении развел руки.
Но Зертейл не потерял голову. Он обошёл Верзилу, слегка неуклюже подпрыгивая. И сказал:
— Сейчас привыкну к силе тяжести, а когда ухвачу тебя, паразит, разорву пополам.
— Хватай.
Зрители смолкли. У Зертейла было могучее бочкообразное тело, длинные сильные руки, он стоял, расставив ноги. И привыкал к силе тяжести; теперь он легко удерживал равновесие.
По сравнению с ним Верзила — тонкий стебелек. Он мог быть грациозным и уверенным в движениях, как танцор, но всё же он был очень мал по сравнению с противником.
Верзила, казалось, не тревожился. Неожиданно топнув, он взлетел вверх, а когда Зертейл хотел схватить поднимающуюся фигуру, Верзила подобрал ноги и оказался за противником, прежде чем тот успел повернуться.
Послышались громкие аплодисменты, и Верзила улыбнулся.
Он совершил почти пируэт, нырнув под большую руку и резко ударив головой её по бицепсу.
Зертейл сдержал крик и снова повернулся.
Теперь, несмотря на все эти провокации, Зертейл оставался смертельно спокойным. Со своей стороны, Верзила пытался всячески вывести противника из равновесия.
Вперёд и назад; быстрые резкие удары, которые, несмотря на свою лёгкость, вызывали боль.
Но теперь маленький марсианин начинал всё-таки уважать Зертейла. Тот терпел боль. Удерживал пространство, как медведь, защищающийся от охотничьей собаки. А Верзила и был охотничьей собакой, он должен был держаться на расстоянии, рявкнуть, укусить и снова отскочить подальше от медвежьих лап.
Зертейл даже внешне напоминал медведя, с большим волосатым телом, маленькими налитыми кровью глазами и мясистым поросшим щетиной лицом.
— Дерись, подонок, — насмехался Верзила. — Пока только я развлекаю зрителей.
Зертейл медленно покачал головой.
— Подойди ближе, — сказал он.
— Сейчас, — ответил Верзила, подпрыгнув. Он мгновенно ударил Зертейла в челюсть, нырнул ему под руку и тем же самым движением отскочил.
Зертейл двинул руку, но было уже слишком поздно, и он не завершил движения. Он покачнулся.
— Попробуй ещё раз.
Верзила попробовал снова, нырнул на этот раз под другую руку и слегка поклонился под гром аплодисментов.
— Ещё раз, — хрипло сказал Зертейл.
— Конечно, — ответил Верзила и прыгнул.
Но на этот раз Зертейл подготовился. Он не шевельнул руками, вместо этого вперёд устремилась его правая нога.
Верзила попытался в воздухе согнуться, но ему это не совсем удалось. Нога Зертейла ударила его в лодыжку. Верзила вскрикнул от боли.
Быстрое движение увлекло Зертейла вперёд, и Верзила стремительным отчаянным толчком в спину ускорил это движение.
Но Зертейл уже освоился с силой тяжести, он не упал и быстро восстановил равновесие, а Верзила, у которого отчаянно болела лодыжка, передвигался с пугающей неловкостью.
С диким криком Зертейл бросился к нему, и Верзила, повернувшись на здоровой ноге, оказался недостаточно быстрым. Огромный кулак ударил его в правое плечо. Правый локоть столкнулся с локтем Зертейла. Они оба упали.
Зрители почти стонали. Кук, с бледным лицом, крикнул:
— Прекратите драку!
Но его никто не услышал.
Зертейл встал, продолжая удерживать марсианина, и легко, как пёрышко, поднял его. Верзила, с лицом, искаженным от боли, извивался, пытаясь найти опору.
Зертейл прошептал ему на ухо:
— Ты считал себя хитрецом, заманив меня в драку при низкой силе тяжести. По-прежнему так думаешь?
Верзила не тратил времени на ответ. Нужно хотя бы одну ногу поставить на пол… Или на колено Зертейла. Правая нога Верзилы на мгновение коснулась колена Зертейла. Этого будет достаточно.
Верзила с силой оттолкнулся и кинул своё тело вбок.
Зертейл качнулся вперёд. Само по себе это движение не было для него опасным, но его мышцы, удерживающие равновесие, переоценили низкую силу тяжести; выпрямляясь, он качнулся назад. Верзила ожидал этого и резко толкнул.
Зертейл упал так неожиданно, что зрители не видели, как это случилось. Верзила почти вырвался.
Он, как кошка, приземлился на ноги, но его правая рука ещё была прижата. Верзила опустил левую руку на правое запястье Зертейла и одновременно резко поднял колено.
Зертейл взревел и ослабил хватку, чтобы не сломалась его рука.
Верзила со скоростью ракетного двигателя воспользовался этой возможностью. Он высвободил свою правую руку, одновременно удерживая запястье Зертейла. Освободившейся рукой он ухватил руку Зертейла над локтем. Теперь он обеими руками держал левую руку Зертейла.
Зертейл поднимался на ноги, и в это время тело Верзилы изогнулось, мышцы спины напряглись в отчаянном усилии. Он продолжил движение тела Зертейла.
Мышцы его чуть не разрывались. Верзила поднимал всё выше торс Зертейла, а потом выпустил, глядя, как тело Зертейла гротескно медленно по земным стандартам движется по параболе.
И тут все почувствовали неожиданное изменение силы тяжести. Со скоростью выстрела из бластера восстановилось нормальное земное тяготение, и Верзила опустился на колени с криком боли. Зрители тоже попадали с возмущенными и удивленными криками.
Верзила лишь краем глаза видел, что произошло с Зертейлом. Перемена силы тяжести застала его в самой высокой точке параболы и с ускорением сдернула вниз. С резким треском Зертейл ударился головой о стойку одного из генераторов.
Верзила, с трудом встав, попытался привести в порядок мысли. Он шатался. Увидел неподвижно лежащего Зертейла, склонившегося к нему Кука.
— Что случилось? — воскликнул Верзила. — Что случилось с силой тяжести?
Остальные повторили его вопрос. Насколько мог судить Верзила, только Кук оставался на ногах.
Кук сказал:
— Неважно. Беда с Зертейлом.
— Он ранен? — спросил кто-то.
— Скорее нет, — ответил Кук, распрямляясь. — Полагаю, он мертв.
Все окружили тело.
Верзила сказал:
— Позовите доктора Гардому.
Он почти не слышал сам себя. В голове у него возникла важная мысль.
— Будут неприятности, — сказал Кук. — Вы его убили, Верзила.
— Его убило изменение силы тяжести, — ответил Верзила.
— Это трудно будет объяснить. Вы его швырнули.
Верзила ответил:
— Я справлюсь с любыми проблемами. Не беспокойтесь.
Кук облизал губы и отвернулся.
— Позову Гардому.
Пять минут спустя появился Гардома, и короткого осмотра оказалось достаточно, чтобы убедиться, что Кук прав.
Врач выпрямился, вытирая руки носовым платком. Он серьёзно сказал:
— Мертв. Пробит череп. Как это случилось?
Заговорили сразу несколько человек, но Кук знаком велел всем замолчать. Он сказал:
— Драка между Верзилой и Зертейлом…
— Между Верзилой и Зертейлом! — взорвался доктор Гардома. — Кто это допустил? Какой сумасшедший решил, что Верзила выстоит…
— Спокойней, — сказал ему Верзила. — Я цел.
Кук, оправдываясь, сердито заявил:
— Верно, Гардома, мертв-то Зертейл. А на дуэли настаивал Верзила. Вы это признаете?
— Признаю, — сказал Верзила. — Я предложил также драться при меркурианской силе тяжести.
Доктор Гардома широко раскрыл глаза.
— Меркурианская сила тяжести? Здесь?
Он взглянул себе под ноги, будто боялся, что его обманывают чувства и что на самом деле он стал легче.
— Тут больше нет меркурианской силы тяжести, — объяснил Верзила, — потому что в самый решающий момент псевдогравитационное поле вдруг перешло к земной силе тяжести. Вам! Вот так! Именно это убило Зертейла.
— Кто переключил силу тяжести на земной уровень? — спросил Гардома.
Наступило молчание.
Кук негромко сказал:
— Может быть, короткое…
— Вздор! — ответил Верзила. — Рубильник был поднят. Он не мог этого сделать сам.
Новое молчание, на этот раз тревожное.
Один из техников откашлялся и сказал:
— Может, в возбуждении кто-то задел его плечом и сам не заметил.
Остальные энергично поддержали его. Один из них воскликнул:
— Великий Космос! Просто несчастный случай.
Кук сказал:
— Мне придётся доложить о происшествии. Верзила…
— Да? — спокойно спросил маленький марсианин. — Я арестован за убийство?
— Н… нет, — неуверенно ответил Кук. — Я вас не арестую, но должен доложить, и, возможно, вас потом арестуют.
— Ну, спасибо за предупреждение.
Впервые после возвращения из шахт Верзила подумал о Старре. Как будто не хватит тому неприятностей, когда он вернется.
Но маленький марсианин испытывал возбуждение, он был уверен, что сумеет справиться с этими неприятностями… и при этом кое-что покажет Дэвиду.
Послышался новый голос:
— Верзила!
Все оглянулись. Доктор Певерейл спускался по рампе, ведущей с верхних уровней.
— Великий Космос, Верзила, что вы тут делаете? И Кук? — Потом почти обидчиво: — Что происходит?
Никто не смог ничего сказать. Взгляд старого астронома упал на распростертое тело Зертейла, и он с лёгким удивлением спросил:
— Он мертв?
К удивлению Верзилы, Певерейл, казалось, тут же утратил к этому интерес. Он не стал ждать ответа и снова обратился к Верзиле.
Он спросил:
— Где Старр?
Верзила раскрыл рот, но ничего не сказал. Наконец он умудрился проговорить:
— А почему вы спрашиваете?
— Он по-прежнему в шахтах?
— Ну…
— Или на солнечной стороне?
— Ну…
— Великий Космос, он на солнечной стороне?
Верзила сказал:
— Я хочу знать, почему вы спрашиваете.
— Майндс в своём флиттере патрулирует область кабелей, — нетерпеливо ответил Певерейл. — Он часто это делает.
— Ну и что?
— Либо он спятил, либо действительно видел там Старра.
— Где? — немедленно спросил Верзила.
Доктор Певерейл неодобрительно сморщился.
— Значит, он действительно там. Это совершенно ясно. Что ж, у вашего друга, очевидно, какие-то неприятности с механическим человеком, роботом…
— Роботом!
— По словам Майндса, который не стал высаживаться, а ждёт прибытия группы, Дэвид Старр мертв!
Глава 14
ПРЕЛЮДИЯ К СУДУ
Лежа в неумолимых объятиях робота, Дэвид ждал мгновенной смерти; когда она не наступила, он почувствовал слабую надежду.
Неужели робот, решивший убить человека, всё-таки обнаружил, что не может этого сделать?
Не может быть. Давление рук робота плавно нарастало.
Старр изо всех сил воскликнул:
— Выпусти меня! — и поднял свободную руку, вымазанную чёрной пылью. Есть ещё один шанс, последний и очень слабый.
Он поднес руку к голове робота. Сам он голову повернуть не мог, она была плотно прижата к груди робота. Рука его скользнула по гладкой поверхности головы робота, дважды, трижды, четырежды. И бессильно опустилась.
Больше он ничего не мог сделать.
И тут… Показалось ему, или хватка робота действительно ослабла? Неужели большое Солнце Меркурия всё-таки оказалось на его стороне?
— Робот! — воскликнул он.
Робот издал слабый звук, словно движущиеся части терлись друг о друга.
Да, его хватка слабела. Пора было вводить в действие то, что ещё сохранилось от Трёх законов.
Счастливчик выдохнул:
— Ты не должен причинять вред человеку.
Робот ответил:
— Я… не могу… — и без всякого предупреждения упал.
Он продолжал удерживать Дэвида, будто застыв.
Тот сказал:
— Робот! Отпусти меня!
Робот рывками поднял голову. Дэвид не полностью высвободился, но мог теперь двигаться.
Он спросил:
— Кто приказал тебе уничтожать оборудование?
Он больше не боялся неконтролируемой реакции робота на этот вопрос. Он знал, что сам привел позитронный мозг на грань гибели. Но, возможно, перед гибелью сработают остатки Второго закона. Старр повторил:
— Кто приказал тебе уничтожать оборудование?
Робот неразборчиво проговорил:
— Зе… Зе…
И тут радиосвязь прервалась, робот дважды раскрыл и закрыл рот, как будто пытался общаться при помощи обычных звуков.
И всё.
Робот был мертв.
Теперь, когда непосредственная опасность гибели миновала, мозг самого Старра слегка помутился. Ему не хватало сил, чтобы полностью высвободиться. Управление радиосвязью было повреждено рукой робота.
Счастливчик знал, что должен вначале восстановить силы. Нужно как можно быстрее уйти из-под прямых лучей большого Солнца Меркурия. Добраться до ближайшей тени, куда он не смог попасть во время дуэли с роботом.
Он с трудом согнул ноги. С трудом потащил тело к тени, потащил вместе с собой и робота. И ещё. И ещё раз. Движение продолжалось вечно, вселенная вокруг переставала существовать.
Ещё. И ещё.
У него не оставалось сил, он не чувствовал своих ног, а робот весил тысячи фунтов.
Даже при слабой силе тяжести Меркурия задача казалась непосильной для слабеющих мышц, и двигала им только сила воли.
Вначале в тени оказалась его голова. Свет исчез. Дэвид ждал, тяжело дыша, потом с усилием, от которого затрещали мышцы, снова потащил себя по поверхности.
Он в тени. Одна из ног робота была ещё на солнце, она во все стороны отбрасывала отражения. Старр взглянул через плечо и смутно отметил это. И благодатно погрузился в беспамятство.
Спустя много времени чувства начали к нему возвращаться.
Ещё довольно долго он спокойно лежал, сознавая, что под ним мягкая постель; он пытался восстановить события. В памяти мелькали обрывочные видения приближающихся людей, слабое воспоминание о ракетном корабле, резкий и беспокойный голос Верзилы. Потом, немного отчетливее, врачебные процедуры.
После этого снова тьма, только перед этим как будто доктор Певерейл вежливо задавал какие-то вопросы. Дэвид помнил, что отвечал связно, значит, худшее тогда было уже позади. Он открыл глаза.
На него серьёзно глядел доктор Гардома, держа в руке шприц.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он.
Счастливчик улыбнулся.
— А как я себя должен чувствовать?
— После всего пережитого вы должны быть мертвы. Но у вас удивительный организм, так что вы выжили.
Верзила, в беспокойстве державшийся на краю поля зрения друга, оказался перед ним.
— И не благодаря Майндсу. Почему он сразу не помог Дэвиду, когда увидел ногу робота? Чего он ждал? Он хотел, чтобы тот умер?
Доктор Гардома отложил шприц и принялся мыть руки. Стоя спиной к Верзиле, он ответил:
— Скотт Майндс был уверен, что Старр мертв. Он специально оставался в стороне, чтобы его не обвинили в убийстве. Он знал, что все помнят, как он пытался убить его.
— Но как он мог в этот раз? Робот…
— Майндс все эти дни находился в напряженном состоянии. Он вызвал помощь: это лучшее, что он мог сделать.
Дэвид сказал:
— Спокойнее, Верзила. Мне не угрожала опасность. Я просто спал в тени, а теперь всё уже позади. Что с роботом, Гардома? Его принесли?
— Он в Куполе. Мозг погиб, изучению не поддаётся.
— Это плохо, — сказал Старр.
Врач заговорил громче:
— Ну хорошо, Верзила. Пошли. Пусть он поспит.
— Эй… — возмущенно начал Верзила.
Дэвид сразу вмешался:
— Всё в порядке, Гардома. Кстати, мне нужно поговорить с ним наедине.
Доктор Гардома колебался, потом пожал плечами.
— Вам нужно поспать, но полчаса могу вам дать. Потом он должен будет уйти.
— Он уйдёт.
Как только они остались одни, Верзила схватил друга за плечо и яростно встряхнул. Сдавленным голосом он сказал:
— Ты глупая обезьяна. Если бы жара вовремя не доконала робота… как в субэфирном шоу…
Счастливчик невесело улыбнулся.
— Это не случайность, Верзила, — сказал он. — Если бы я ждал субэфирной концовки, я бы погиб. Мне пришлось вывести робота из строя.
— Как?
— Его черепная коробка отполирована. Отражает большую часть излучения Солнца. Температура позитронного мозга повысилась, и робот спятил, но повысилась не настолько, чтобы он полностью прекратил функционировать. К счастью, большая часть поверхности Меркурия здесь покрыта чёрным порошком. Я вымазал им голову робота.
— Зачем?
— Чёрное поглощает тепло, Верзила. Оно не отражает его. Температура мозга робота быстро поднялась, и он почти сразу же умер. Но я был очень близок к… Ну, неважно. Что случилось, пока меня не было? Рассказывай всё!
— Всё? Ну! Ты только послушай! — Верзила говорил, Старр слушал, и выражение его лица становилось всё более серьёзным.
К концу рассказа он уже гневно хмурился.
— Зачем ты вообще дрался с Зертейлом? Это глупо!
— Счастливчик, — сердито возразил Верзила, — это была хитрость! Ты всегда говоришь, что я иду напролом и не могу придумать ничего хитрого. Это была уловка. Я знал, что побью его при низкой силе тяжести…
— Тебя самого чуть не побили. У тебя перевязана лодыжка.
— Я поскользнулся. Случайность. Ведь я победил. Мы договорились. Он мог принести много вреда Совету своими лживыми выдумками, но если бы я победил, он от нас отвязался бы.
— И ты поверил ему на слово?
— Ну… — обеспокоенно начал Верзила.
Дэвид оборвал его:
— Ты сказал, что спас ему жизнь. Он знал это, но не отказался от своей цели. Думаешь, он отказался бы от неё после вашей драки?
— Ну… — снова сказал Верзила.
Вот что я тебе скажу, Верзила. Ты сделал это, потому что хотел побить его и отомстить за насмешки. Твой разговор о сделке — всего лишь предлог, это давало тебе возможность подраться. Разве я не прав?
— Счастливчик! Пески Марса!..
— Ну, я ошибаюсь?
— Я хотел с ним договориться…
— Но главным образом хотел подраться, и посмотри, что получилось.
Верзила опустил глаза.
— Прости, Счастливчик.
Дэвид немедленно смягчился.
— Великая Галактика, Верзила, я совсем не сержусь на тебя. На самом деле я сержусь на себя. Я неверно оценил робота и чуть не погиб, потому что вовремя не подумал. Я видел, что он не в порядке, но не связал это с высокой температурой позитронного мозга… а потом уже чуть не стало поздно… Ну, прошлое даёт уроки будущему, но в остальном забудем об этом. Вопрос в том, что делать с ситуацией с Зертейлом?
Верзила сразу приободрился.
— Ну в любом случае этот подонок от нас отвязался.
— Он-то да, — сказал Дэвид, — а как сенатор Свенсон?
— Гм.
— Как мы объясним случившееся? Расследуются дела Совета Науки, и в ходе расследования доверенный человек сенатора погибает в инспирированной драке с почти членом Совета. Плохо выглядит.
— Это случайность. Псевдогравитационное поле…
— Это нам не поможет. Мне придётся поговорить с Певерейлом и…
Верзила покраснел и хрипло сказал:
— Он просто старик. Он не обратил на это никакого внимания.
Старр схватил его за локоть.
— Что ты этим хочешь сказать? Как это не обратил внимания?
— Не обратил, — яростно подтвердил Верзила. — Он пришёл, когда Зертейл уже лежал мертвым, и почти не взглянул на него. Спросил: «Он мертв?» — и всё.
— И всё?
— Да. Потом спросил, где ты, и сказал, что вызывал Майндс и что робот тебя убил.
Счастливчик пристально смотрел на Верзилу.
— И это всё?
— Да, — неуверенно ответил Верзила.
— А что случилось после этого? Давай, Верзила. Ты ведь не хочешь, чтобы я говорил с Певерейлом. Почему?
Верзила отвел взгляд.
— Давай, Верзила.
— Ну, меня собираются судить.
— Судить!
— Певерейл говорит, что это убийство и на Земле очень рассердятся. Что мы должны определить виновного.
— Ну хорошо. Когда суд?
— Дэвид, я не хотел тебе говорить. Доктор Гардома сказал, что тебе нельзя волноваться.
— Не кудахтай, как курица, Верзила. Когда суд?
— Завтра в два часа дня по стандартному времени. Но беспокоиться не о чем.
— Позови Гардому, — сказал Старр.
— Зачем?
— Делай, что я говорю.
Верзила направился к двери. Вернулся он с доктором Гардомой.
Старр спросил:
— Есть ли причины, по которым мне нельзя будет завтра к двум часам дня встать с постели?
Доктор Гардома колебался.
— Я предпочел бы, чтобы вы полежали.
— Меня не интересует это. Если я встану, я не умру?
— Вы не умрете, даже если встанете немедленно, мистер Старр, — обиженно ответил доктор Гардома. — Но я не советую.
— Хорошо. Передайте доктору Певерейлу, что я буду на суде над Верзилой. Вы ведь знаете об этом?
— Да.
— Знают все, кроме меня. Верно?
Вы были не в состоянии…
— Скажите доктору Певерейлу, что я буду на суде. Пусть без меня не начинает.
— Скажу, — ответил Гардома, — а вам теперь лучше поспать. Идёмте со мной, Верзила.
Верзила пропищал:
— Ещё одну секунду.
Он быстро подошёл к кровати друга и сказал:
— Слушай, Счастливчик, не расстраивайся. У меня ситуация под контролем.
Брови Дэвида приподнялись.
Верзила чуть не лопнул от важности.
— Я хотел удивить тебя, чёрт возьми. Я могу доказать, что не виноват в том, что Зертейл сломал себе шею. Я разгадал этот случай. — Он поколотил себя в грудь. — Я! Я сам! Верзила! Я знаю, кто виноват.
Старр спросил:
— Кто?
Но Верзила негодующе возразил:
— Нет! Я ничего не скажу! Хочу показать тебе, что у меня есть не только кулаки, но и ум. На этот раз я даю шоу, а ты зритель. Узнаешь на суде.
Маленький марсианин сморщил лицо в радостной улыбке, слегка протанцевал к двери и в сопровождении доктора Гардомы вышел с торжествующим видом.
Глава 15
СУД
На следующий день незадолго до двух часов Старр вошёл в кабинет доктора Певерейла.
Все уже собрались. Доктор Певерейл сидел за своим старым загромождённым столом, он приветливо кивнул, и Дэвид серьёзно ответил:
— Добрый день, сэр.
Всё очень напоминало вечер банкета. Здесь, конечно, был и Кук; как всегда, он выглядел озабоченно и чуть больше обычного осунулся. Сидел он в большом кресле справа от доктора Певерейла, а Верзила почти утонул в таком же кресле слева.
Был здесь и Майндс, его худое лицо мрачно дергалось, он сплетал и расплетал пальцы и изредка начинал постукивать ими по коленям. Рядом с ним сидел флегматичный доктор Гардома, он неодобрительно взглянул на вошедшего Дэвида. Присутствовали и все старшие астрономы.
В сущности, отсутствовал лишь один человек из тех, что были на банкете. Зертейл.
Доктор Певерейл сразу начал в своей вежливой манере:
— Мы можем начинать. Вначале несколько слов для мистера Старра. Я слышал, что Верзила назвал предстоящую процедуру судом. Пожалуйста, имейте в виду, что это не так. Если суд и состоится — а я надеюсь, этого не будет, — то пройдёт он на Земле с участием квалифицированных судей и с соблюдением всех требований закона. Мы просто собираем данные для отчета Совету Науки.
Доктор Певерейл переложил несколько предметов на своём столе и сказал:
— Позвольте объяснить, почему необходим подробный отчет. Во-первых, благодаря смелой вылазке мистера Старра на солнечную сторону саботажник, мешавший осуществлению проекта доктора Майндса, остановлен. Он оказался роботом сирианского производства, теперь он полностью выведен из строя. Мистер Старр…
— Да? — спросил Дэвид.
— Вопрос настолько важен, что я взял на себя смелость расспросить вас, когда вас только привезли и вы находились в полубессознательном состоянии.
— Я хорошо помню это, — ответил Счастливчик.
— Не подтвердите ли некоторые свои ответы для протокола?
— Хорошо.
— Прежде всего, есть ли здесь другие роботы, кроме погибшего?
— Робот об этом ничего не говорил, но думаю, что других нет.
— Но он не говорил, что действует на Меркурии в одиночку?
— Нет.
— Значит, могут быть и другие?
— Не думаю.
— Это только ваше мнение. Робот не говорил, что других нет.
— Не говорил.
— Хорошо. Сколько же сирианцев участвуют в этом?
— Робот не сказал. Ему приказали не говорить об этом.
— Он сказал, где размещается база сирианцев?
— Он не говорил об этом и вообще не упоминал сирианцев.
— Но ведь он сирианского производства?
— Он признал это.
— Ага! — Доктор Певерейл невесело усмехнулся. — В таком случае очевидно, что на Меркурии есть сирианцы и что они действуют против нас. Совет Науки должен быть немедленно извещен об этом. Нужно организовать поиски, и, если они окажутся безрезультатными и сирианцы успеют покинуть планету, должны быть приняты дополнительные меры против сирианской опасности.
Кук беспокойно вмешался:
— Есть ещё вопрос о туземной меркурианской жизни, доктор Певерейл. Совет должен быть информирован и об этом. — Он обратился ко всем присутствующим: — Вчера мы захватили одно такое существо и…
Старый астроном раздраженно прервал его:
— Да, доктор Кук, Совет будет проинформирован об этом. Тем не менее самый важный вопрос — опасность со стороны сирианцев. Остальными вопросами придётся пожертвовать во имя непосредственной опасности. Например, я считаю, что доктор Майндс должен отказаться от осуществления проекта «Свет», пока Меркурий не станет безопасным для землян.
— Подождите! — сразу воскликнул Майндс. — Сюда вложено столько денег, сил и времени…
— Я сказал, пока Меркурий не будет в безопасности. Я не предлагал навсегда отказаться от проекта «Свет». И поскольку самое важное — вопрос безопасности, нужно, чтобы сенатор Свенсон не ставил нам палки в колеса из-за этого проекта.
Старр сказал:
— Вы хотите дать сенатору козла отпущения в виде Верзилы, связанного по рукам и ногам. А пока он будет цепляться к Верзиле, можно будет обезопасить Меркурий от сирианцев.
Астроном поднял свои седые брови.
— Козел отпущения, мистер Старр? Я только представлю факты.
— Ну давайте, — сказал Верзила, беспокойно ёрзая в кресле. — Вы получите все факты.
— Хорошо, — сказал доктор Певерейл. — Начнем с центральной фигуры, если не возражаете. Будьте добры, расскажите своими словами, что произошло между вами и Зертейлом. Рассказывайте своими словами, но я оценил бы краткость. И помните, это расследование записывается на пленку.
Верзила спросил:
— Хотите, чтобы я поклялся?
Певерейл покачал головой:
— Это не формальный суд.
— Как хотите. — И с поразительной бесстрастностью Верзила рассказал всю историю. Начиная с насмешек Зертейла по поводу его роста, потом происшествие в шахтах и наконец дуэль. Он не упомянул только об угрозах Зертейла в адрес Старра и Совета.
Следующим выступил доктор Гардома; он подтвердил, что произошло при первой встрече Зертейла с Верзилой и описал для протокола сцену за банкетным столом. Потом начал описывать меры, которые были применены после возвращения Зертейла из шахт.
Он сказал:
— Зертейл быстро оправился от гипотермии. Я его не спрашивал о подробностях, а сам он ничего не говорил. Однако он спросил, что с Верзилой, а когда я ответил, что всё в порядке, по его выражению можно было заключить, что его неприязнь к Верзиле не уменьшилась. Он не действовал так, будто Верзила спас его жизнь. Впрочем, могу по своим наблюдениям сказать, что Зертейлу вообще не свойственна была благодарность.
— Это только ваше мнение, — торопливо прервал доктора Певерейл, — и я рекомендую, чтобы мы не записывали подобные утверждения.
Следующим говорил Кук. Он сосредоточился на дуэли. Он сказал:
— На дуэли настаивал Верзила. Я считал, что, если по просьбе Верзилы в присутствии свидетелей установлю низкую силу тяжести, никакого вреда это не принесет. Мы могли бы вмешаться в случае необходимости. Я опасался, что, если я откажусь, они будут драться без свидетелей, а это могло иметь серьёзные последствия. Конечно, вряд ли могли быть последствия более серьёзные, чем мы теперь имеем, но этого я не ожидал. Признаю, что мне следовало посоветоваться с вами, доктор Певерейл.
Доктор Певерейл кивнул:
— Несомненно. Но самое главное: на дуэли настаивал Верзила и он же требовал низкой силы тяжести. Это верно?
— Да.
— И он уверял вас, что убьет Зертейла при таких условиях.
— Да, он выразился в таких словах. Я считал, что это просто фигуральное выражение. Я не думал, что он планирует убийство.
Доктор Певерейл повернулся к Верзиле.
— У вас есть какие-нибудь соображения в связи с этим?
— Да. И поскольку показания даёт доктор Кук, я хочу подвергнуть его перекрестному допросу.
Доктор Певерейл удивился.
— Мы не на суде.
— Послушайте, — горячо сказал Верзила. — Смерть Зертейла не была случайной. Это убийство, и я могу это доказать.
Тишина, наступившая после этого утверждения, длилась не больше мгновения. За ней последовал хор голосов.
Верзила перекричал всех своим высоким голосом:
— Я настаиваю на перекрестном допросе доктора Хэнли Кука.
Старр холодно сказал:
— Я предлагаю позволить Верзиле вести дело по-своему, доктор Певерейл.
Старый астроном был в смятении.
— Я не думаю… Верзила не может… — Он смолк.
Верзила сказал:
— Прежде всего, доктор Кук, откуда Зертейлу стал известен наш со Старром маршрут в шахтах?
Кук покраснел.
— Я не знал, что ему был известен ваш маршрут.
— Он не пошёл непосредственно за нами. Он пошёл параллельно, как будто хотел выйти к нам в спину, когда мы будем уверены, что мы одни и никто за нами не следит. Чтобы это сделать, он должен был точно знать наш маршрут. Этот маршрут мы обсуждали с Дэвидом при вашем участии. Больше никого не было. Старр Зертейлу не говорил, я тоже. Кто же сказал?
Кук огляделся в поисках помощи.
— Не знаю.
— Разве не ясно, что это вы?
— Нет. Может, он подслушал.
— Невозможно подслушать пометки на карте, доктор Кук… Но оставим это пока. Я дрался с Зертейлом, и, если бы сила тяжести оставалась на уровне Меркурия, он и сейчас был бы жив. Но она такой не осталась. Она неожиданно подскочила до земного уровня и именно в тот момент, когда могла убить Зертейла. Кто это сделал?
— Не знаю.
— Вы первым оказались возле Зертейла. Что вы делали? Хотели удостовериться, что он мертв?
— Я протестую. Доктор Певерейл… — Кук повернул побагровевшее лицо к своему шефу.
Доктор Певерейл возбуждённо спросил:
— Вы обвиняете доктора Кука в убийстве Зертейла?
Верзила ответил:
— Послушайте. Неожиданное изменение силы тяжести свалило меня на землю. Когда я встал, все либо тоже вставали, либо ещё лежали. Когда тебе на спину без предупреждения обрушатся от 75 до 150 фунтов, вставать не торопишься. Но Кук встал. Он единственный удержался на ногах и успел подойти к Зертейлу и нагнуться к нему.
— И что это доказывает? — спросил Кук.
— Это доказывает, что вы не упали, когда сила тяжести выросла, иначе вы не смогли бы оказаться возле Зертейла. А почему вы не упали, когда возросла сила тяжести? Потому что ожидали, что она возрастет, и подготовились. А почему вы ожидали этого? Потому что именно вы подняли рубильник.
Кук повернулся к доктору Певерейлу:
— Я подвергаюсь преследованию. Это безумие.
Но доктор Певерейл смотрел на своего заместителя, пораженный ужасом.
Верзила сказал:
— Я попробую восстановить происшедшее. Кук действовал совместно с Зертейлом. Только таким способом Зертейл мог узнать о нашем маршруте по шахтам. Возможно, Зертейл шантажировал его. И Кук мог избавиться от него, только убив. Когда я сказал, что мог бы убить этого подонка при низком тяготении, я, должно быть, подал ему идею. И когда мы начали драться, он стоял у рубильника. Вот и всё.
— Подождите, — настойчиво, почти задыхаясь, сказал Кук, — это всё… это всё…
— Не нужно полагаться только на мои слова, — продолжал Верзила. — Если я прав, у Зертейла должны быть записи, пленки или фильм, с помощью которых он держал Кука за глотку. В противном случае Кук не пошёл бы на убийство. Поэтому нужно осмотреть вещи Зертейла. Найдёте доказательства, и всё будет решено.
— Я согласен с Верзилой, — сказал Старр.
Доктор Певерейл в замешательстве сказал:
— Вероятно, это единственный способ решить дело, но как…
Из Хэнли Кука, казалось, выпустили воздух; он сидел бледный, потрясенный и беспомощный.
— Подождите, — тихо сказал он. — Я всё объясню.
Все лица повернулись к нему.
Худые щеки Хэнли Кука покрылись испариной. Руки, которые он поднял в умоляющем жесте, сильно дрожали. Он сказал:
— Зертейл пришёл ко мне вскоре после своего прибытия на Меркурий. Он сказал, что расследует деятельность обсерватории. Сказал, что у сенатора Свенсона есть доказательства неэффективности и бесполезных трат. Сказал, что доктор Певерейл должен уйти в отставку; что он старик и не справляется больше с обязанностями. Он сказал, что логичной заменой его буду я.
Доктор Певерейл, который с изумленным видом слушал его, воскликнул:
— Кук!
— Я с ним согласился, — мрачно продолжал Кук. — Вы действительно старик. Я всем занимаюсь, а вы заняты только своей сирианской манией. — Он снова повернулся к Старру. — Зертейл сказал, что, если я помогу ему в его расследовании, он позаботится, чтобы следующим директором стал я. Я поверил ему: все знают, что сенатор Свенсон влиятельный человек. Я дал ему много информации. Кое-что в письменном виде и с моей подписью. Он сказал, что это ему нужно для законного оформления дела. А потом… а потом он начал шантажировать меня этой информацией. Оказалось, что его интересуют проект «Свет» и Совет Науки. Он хотел, чтобы я использовал своё положение и стал его личным шпионом. Он совершенно ясно дал понять, что в противном случае представит все доказательства того, что я делал, доктору Певерейлу. Это означало бы в лучшем случае конец моей карьеры. Мне пришлось шпионить для него. Пришлось сообщить ему сведения о маршруте Старра и Верзилы в шахтах. Я сообщал ему всё, что делает Майндс. И каждый раз, как я передавал ему новую информацию, я всё больше попадал в его власть. И понял, что рано или поздно он сломает меня, как бы я ни старался. Я подумал, что единственный способ избавиться от него — это убить. Если бы только знать, как… И тут появляется Верзила со своим планом драки при низкой силе тяжести. Он был уверен, что сможет перебросить Зертейла. И я подумал, что могу… Шансов один на сотню, может, один на тысячу, но что я теряю? Поэтому я остался у контроля псевдогравитации, ожидая возможности. Она настала, и Зертейл умер. Всё сработало отлично. Я думал, что сойдёт за несчастный случай. Даже если Верзила попадет в беду, Совет вытащит его. Никто не пострадает, кроме Зертейла, а он это заслужил сто раз. Вот и всё.
Последовало напряженное молчание. Наконец доктор Певерейл хрипло сказал:
— В данных обстоятельствах, Кук, вы, разумеется, освобождаетесь от своих обязанностей и будете находиться под ар…
— Эй, подождите, подождите! — закричал Верзила. — Это ещё не полное признание. Послушайте, Кук, ведь вы во второй раз пытались убить Зертейла?
— Во второй раз? — Кук поднял на него трагический взгляд.
— Ну, повреждённый костюм. Зертейл предупредил, чтобы мы его проверили, значит, он знал, что мы обнаружим. Он старался убедить нас, что это дело Майндса, но Зертейл был лживым подонком, и ни одному его слову нельзя верить. Я говорю, что вы таким образом пытались убить его, но он вас поймал и заставил перенести костюм в нашу комнату. Потом предупредил нас, чтобы мы поверили, что он на нашей стороне, и чтобы настроить против Майндса. Верно?
— Нет! — закричал Кук. — Я не имею отношения к костюму. Никакого.
— Послушайте, — начал Верзила. — Мы не собираемся верить…
Но тут встал Старр.
— Всё в порядке, Верзила. Кук не имеет отношения к костюму. Можешь ему поверить. За повреждение костюма отвечает тот же, кто и за робота.
Верзила недоверчиво смотрел на своего друга.
— Ты имеешь в виду сирианцев, Дэвид?
— Нет, — ответил Старр. — Никаких сирианцев на Меркурии нет. И никогда не было.
Глава 16
РЕЗУЛЬТАТЫ СУДА
В глубоком хриплом голосе доктора Певерейла звучало отчаяние.
— Никаких сирианцев? Вы понимаете, что говорите, Старр?
— Да. — Старр подошёл к столу доктора Певерейла, сел на его угол и осмотрел собравшихся. — Доктор Певерейл поддержит меня в этом, я уверен, когда выслушает мои объяснения.
— Я поддержу вас? На это и не надейтесь, уверяю вас, — раздраженно сказал старый астроном, и его лицо приняло крайне неодобрительное выражение. — Я не считаю возможным даже обсуждать… Кстати, нужно поместить Кука под арест. — И он привстал.
Дэвид мягко усадил его снова.
— Всё в порядке, не беспокойтесь. Верзила проследит, чтобы Кук оставался под контролем.
— Я не доставлю никаких неприятностей, — приглушенным голосом заверил Кук. Тем не менее Верзила придвинулся поближе к нему.
Старр сказал:
— Вспомните, доктор Певерейл, вечер банкета и ваши собственные слова относительно сирианских роботов… Кстати, доктор Певерейл, вы ведь давно знали, что на планете робот?
Астроном тревожно спросил:
— Что вы этим хотите сказать?
— Доктор Майндс рассказывал вам о том, что видел фигуру в металлическом костюме, которая переносит солнечную радиацию лучше человека.
— Да, — вмешался Майндс, — и мне следовало бы догадаться, что я видел робота.
— Вы не так хорошо знакомы с роботами, как доктор Певерейл, — сказал Счастливчик. Он снова повернулся к старому астроному. — Я уверен, вы заподозрили существование на планете робота сирианского образца, как только Майндс рассказал, что видел. Его описание полностью им соответствует.
Астроном молча кивнул.
— Сам я, — продолжал Дэвид, — думал о роботах не больше, чем Майндс, когда услышал его рассказ. Однако после банкета, когда вы, доктор Певерейл, рассказывали о Сириусе и его роботах, мне пришла в голову мысль, что, возможно, это и есть объяснение. Вы, должно быть, тоже подумали об этом.
Доктор Певерейл снова медленно кивнул. Он сказал:
— Я понял, что сами по себе мы не справимся с сирианским вторжением. Поэтому и не стал ничего говорить Майндсу.
Майндс при этих словах побледнел и что-то забормотал про себя.
Старр сказал:
— Но вы не сообщили и Совету Науки.
Доктор Певерейл колебался.
— Я боялся, что мне не поверят и что это только приведет к моему смещению. Откровенно говоря, я не знал, что делать. Было очевидно, что я не могу использовать для этого Зертейла. Его интересовали только собственные планы. Когда вы появились, Старр, — голос его стал глубже, ровнее, — я почувствовал, что наконец-то у меня есть союзник, что впервые я могу свободно говорить о сирианцах, об опасности с их стороны, об их роботах.
— Да, — согласился Дэвид, — а помните, как вы описывали привязанность сирианцев к своим роботам? Вы использовали слово «любовь». Вы сказали, что сирианцы балуют своих роботов; что они любят их; им для них ничего не жаль. Вы сказали, что для них робот ценнее сотни землян.
— Конечно, — подтвердил доктор Певерейл, — и это правда.
— Но если они так любят своих роботов, неужели они пошлют одного из них на Меркурий, незащищенного, не приспособленного к солнечной радиации? Неужели обрекут одного из роботов на медленную, мучительную смерть под лучами Солнца?
Доктор Певерейл замолчал, его верхняя губа задрожала.
Счастливчик сказал:
— Я сам не мог решиться выстрелить в робота из бластера, хотя он угрожал моей жизни, а я не сирианец. Неужели сирианцы могут быть так жестоки к своим роботам?
— Важность задачи… — начал доктор Певерейл.
— Допустим, — сказал Старр. — Я не говорю, что сирианцы не могут послать робота на Меркурий с целью саботажа, но, великая Галактика, они бы вначале защитили его мозг. Даже если не принимать во внимание их любовь к роботам, это просто здравый смысл. Так робот прослужит дольше.
Все одобрительно закивали и зашумели.
— Но если не сирианцы, — запинаясь, начал доктор Певерейл, — тогда кто же…
— Что ж, — сказал Дэвид, — давайте посмотрим, какие у нас есть нити. Номер один. Майндс дважды заметил робота, и тот дважды исчезал, когда Майндс пытался приблизиться. Позже робот сообщил мне, что ему было приказано избегать людей. Очевидно, его предупредили, что Майндс ищет саботажника. Очевидно также, что его предупредил кто-то из Купола. Насчёт меня его не предупредили, потому что я сказал, что иду в шахты. Нить номер два. Когда робот умирал, я снова спросил его, кто дал ему приказ. Он смог только сказать: «Зе… зе…» Потом его радио отключилось, но рот его двинулся так, словно он произносит два слога.
Верзила, светло-рыжие волосы которого взъерошились в возбуждении, закричал:
— Зертейл! Робот пытался сказать «Зертейл»! Этот грязный подонок всё время саботировал. Всё совпадает! Всё сходится…
— Может быть, — заметил Дэвид, — может быть. Увидим. Но мне пришло в голову, что робот говорит «землянин».
— А может, — сухо сказал Певерейл, — эти звуки умирающего робота вообще не имели смысла.
— Возможно, — согласился Старр. — А теперь мы подходим к нити номер три, решающей. Вот она. Робот сирианского производства, а какой человек в Куполе мог оказаться обладателем такого робота? Был ли кто-нибудь на планетах Сириуса?
Глаза доктора Певерейла сузились.
— Я был.
— Совершенно верно, — сказал Дэвид, — только вы один. Таков ответ.
Последовало всеобщее смятение, и Старр потребовал тишины. Голос его звучал властно, лицо стало строгим.
— Как член Совета Науки, — сказал он, — объявляю, что в обсерватории с этого момента распоряжаюсь я. Доктор Певерейл смещен с должности директора. Я связался с штаб-квартирой Совета на Земле, сюда вылетел корабль. Будут предприняты соответствующие меры.
— Я требую, чтобы меня выслушали! — воскликнул доктор Певерейл.
— Вас выслушают, — ответил Дэвид, — но сначала прослушайте обвинение. Вы единственный человек, у которого была возможность украсть сирианского робота. Доктор Кук говорил нам, что к вам для личных услуг приставили робота во время вашего пребывания на Сириусе. Верно?
— Да, но…
— Улетая, вы приказали ему пойти на корабль. Каким-то образом сумели обмануть сирианцев. Вероятно, они и не думали что кто-то совершит такое ужасное преступление, с их точки зрения, — украдет робота. Поэтому, вероятно, они не приняли никаких мер предосторожности. Больше того, получает смысл попытка робота сказать в ответ на мой вопрос «землянин». Вы были единственным землянином на Сириусе. Когда робота впервые привели к вам на службу, о вас, вероятно, говорили как о землянине. И он называл вас землянином. Наконец, кто лучше вас мог знать, когда кто-нибудь направлялся на солнечную сторону? Кто всегда мог предупреждать по радио робота, когда безопасно выходить, а когда нужно скрываться?
— Я всё отрицаю, — напряженно заявил доктор Певерейл.
— Отрицать нет смысла, — сказал Старр. — Если вы настаиваете на вашей невиновности, Совет вынужден будет направить запрос на Сириус. Робот сообщил мне свой серийный номер — РЛ-726. Если сирианские власти подтвердят, что этот робот был прикреплен к вам во время вашего пребывания на Сириусе и что он исчез во время вашего отлёта, это всё докажет. Больше того, ваше преступление — кража робота — совершено на Сириусе; у нас с сирианскими планетами заключен договор о выдаче преступников; мы вынуждены будем отправить вас туда. Советую вам, доктор Певерейл, сознаться и позволить земной юстиции заняться вами; иначе вы предстанете перед правосудием сирианцев, любимого робота которых вы украли и обрекли на мучительную смерть.
Доктор Певерейл невидящими глазами жалобно смотрел на собравшихся. Медленно — у него слабели сустав за суставом — он упал на пол.
Доктор Гардома подбежал к нему и послушал сердце.
— Он жив, но думаю, лучше уложить его в постель.
Два часа спустя, с доктором Гардомой и Старром в качестве свидетелей, при субэфирной связи с Советом, доктор Лэнс Певерейл продиктовал своё признание.
Меркурий быстро уменьшался. Зная, что ситуация в крепких руках представителей Совета, что больше на нём нет никакой ответственности, Старр всё равно никак не мог успокоиться. Выражение лица у него было задумчивое.
Верзила беспокойно спросил:
— В чём дело, Счастливчик?
Мне жаль старого Певерейла, — ответил Дэвид. — По-своему, он хотел добра. Сирианцы действительно представляют опасность, хоть и не такую непосредственную, как он считал.
— Но Совет не передаст его им?
— Вероятно, нет, но страх перед ними в основном и вынудил его сознаться. Жестокий, но необходимый шаг. Какими бы патриотичными ни были его мотивы, он пытался совершить убийство. Кука тоже вынудили совершить убийство, но всё равно это преступление, что бы мы ни думали о Зертейле.
Верзила спросил:
— А что у старика было против проекта «Свет»?
— Певерейл ясно дал понять это на банкете, — мрачно сказал Дэвид. — В тот вечер вообще всё было ясно. Помнишь, он жаловался, что Земля ослабляет себя, завися от импортируемой пищи и ресурсов? Он сказал, что проект «Свет» поставит Землю в зависимость от космических станций. Он хотел, чтобы Земля была независима, чтобы успешнее противостоять сирианской опасности. Своим слегка неуравновешенным рассудком он решил, что будет способствовать независимости Земли, саботируя проект «Свет». Возможно, он вначале решил привезти с собой робота, чтобы продемонстрировать мощь сирианцев. Вернувшись, он обнаружил, что проект «Свет» начал осуществляться, и превратил робота в саботажника. Когда появился Зертейл, Певерейл вначале испугался, что тот будет расследовать всё связанное с проектом «Свет» и разоблачит его. Поэтому он дал Зертейлу повреждённый костюм, но Зертейл это обнаружил. Похоже, Зертейл считал виновным в этом Майндса.
Верзила сказал:
— Конечно, если подумать. Когда мы впервые встретились со стариком, он даже не захотел говорить о Зертейле, так он на него был сердит.
— Совершенно верно, — сказал Дэвид, — а ведь у него для этого не было очевидных причин, как, например, у Майндса. Я подумал, что существует причина, о которой я не знаю.
— Это тебя впервые навело на подозрение?
— Нет, кое-что другое. Повреждённый костюм в нашей комнате. Лучшие возможности сделать это были у самого Певерейла. У него же была возможность избавиться от костюма, когда человек в нём погибнет. Он знал, какую комнату нам отвели, мог сам отобрать костюм. Меня смущало одно — мотив.
Зачем ему захотеть убивать меня? Моё имя, очевидно, для него ничего не значило. Когда мы впервые встретились, он спросил меня, не инженер ли я, как Майндс. Майндс узнал меня и пытался получить от меня помощь. Доктор Гардома слышал обо мне в связи с пищевыми отравлениями на Марсе. Зертейл, разумеется, всё обо мне знал. И вот я подумал: может, и доктор Певерейл обо мне слышал. Например, была Церера, где мы с тобой находились во время нападения пиратов. Там расположена самая большая в Системе обсерватория. Мог доктор Певерейл тогда находиться там? Я спросил его, и он сказал, что не видел там меня. Он признал, что бывал на Церере, а потом Кук сказал, что старик летал на Цереру часто. Певерейл без всяких моих вопросов объяснил, что был тогда в больнице, и Кук позже это подтвердил. Этим Певерейл себя выдал. Волнуясь, он слишком много говорил.
Маленький марсианин посмотрел на Счастливчика.
— Не понимаю.
— Очень просто. Если Певерейл бывал на Церере много раз, зачем ему упоминать о своём алиби именно тогда, когда на Цереру напали пираты? Почему именно этот раз? Очевидно, он знал, что я делал на Церере, но старался это скрыть. Очевидно, он знал также, кто я такой. Но если он меня узнал, то почему попытался убить? И Зертейла тоже? Ты помнишь, у нас обоих оказались разрезанные костюмы. Но мы оба вели расследование. Значит, Певерейл боялся его? Потом он заговорил на банкете о сирианцах и роботах, и всё начало становиться на место. Приобрел смысл рассказ Майндса, и я сразу понял, что привезти робота на Меркурий могли либо сирианцы, либо доктор Певерейл. Мне казалось, что ответ — Певерейл, что он говорит о сирианцах для отвлечения. Если робота найдут и саботаж остановят, разговоры о сирианцах послужат дымовой завесой и скроют его участие в этом деле; к тому же это хорошая антисирианская пропаганда. Мне нужно было доказательство. Иначе сенатор Свенсон обвинил бы нас в том, что мы создаем дымовую завесу, чтобы скрыть некомпетентность и напрасные расходы Совета. Хорошее доказательство. И поскольку здесь был замешан Зертейл, я не решался говорить об этом ни с кем, даже с тобой, Верзила.
Верзила застонал в отчаянии.
— Когда ты будешь мне доверять, Счастливчик?
— Когда ты научишься не ввязываться в драки с людьми вдвое тяжелее тебя, — ответил Старр и улыбнулся, чтобы подсластить пилюлю. — Я решил отправиться на солнечную сторону, найти робота и использовать его как доказательство. Из этого ничего не вышло, и я вынужден был заставить Певерейла признаться.
Дэвид покачал головой.
Верзила спросил:
— А как же теперь сенатор Свенсон?
— Ничья, я думаю, — ответил Старр. — Он ничего не может сделать в связи со смертью Зертейла, потому что мы можем использовать доктора Кука как свидетеля грязных трюков Зертейла. Мы ничего не можем сделать с ним, потому что двух высших руководителей обсерватории нам пришлось сместить за уголовные преступления. Ничья.
— Пески Марса! — простонал Верзила. — Но он опять сядет нам на шею.
Но Счастливчик покачал головой.
— Нет, из-за сенатора Свенсона не надо беспокоиться. Он безжалостен и опасен, но именно потому держит Совет постоянно в хорошей форме, мешает нам становиться слабыми. К тому же, — задумчиво добавил он, — Совет Науки нуждается в критике, точно так же, как конгресс и правительство. Если когда-нибудь Совет сочтёт себя выше критики, может наступить время, когда он установит диктатуру на Земле, а я не хотел бы, чтобы это случилось.
— Может быть, — сказал неубеждённый Верзила, — но мне не нравится Свенсон.
Старр рассмеялся и потрепал марсианина за волосы.
— Мне тоже, но не будем беспокоиться об этом. Мир велик, и кто знает, где мы окажемся на следующей неделе и почему?
Книга V. СЧАСТЛИВЧИК СТАРР И СПУТНИКИ ЮПИТЕРА
Глава 1
НЕПРИЯТНОСТИ НА ЮПИТЕРЕ-9
Юпитер казался почти правильным кругом кремового цвета, в половину диаметра Луны, видимой с Земли, но с яркостью только в одну седьмую лунной, из-за большего расстояния от Солнца. Но и так он представлял прекрасное и внушительное зрелище.
Дэвид Старр задумчиво смотрел на него. Свет в контрольной рубке был выключен, и всё освещение приходило только от Юпитера на экране; в этом тусклом свете фигуры Старра и его товарища казались тенями. Дэвид сказал:
— Если бы Юпитер был полым, Верзила, в него можно было бы поместить три тысячи планет размером с Землю и ещё осталось бы место. Он весит больше всех остальных планет, вместе взятых.
Джон Верзила Джонс, который никому не позволял звать себя иначе, чем Верзила, и рост которого достигал пяти футов двух дюймов, слегка потянулся. Он не одобрял ничего крупнее себя, кроме Счастливчика. Он сказал:
— И что в этом хорошего? Никто не может на него высадиться. И не может даже приблизиться.
— Вероятно, мы на него никогда не высадимся, — ответил Старр, — но подлетим совсем близко, как только будет завершен аграв-корабль.
— Раз уж здесь замешаны сирианцы, — сморщился Верзила, — нам придётся позаботиться, чтобы корабль взлетел.
— Посмотрим, Верзила.
Верзила ударил маленьким кулаком в открытую ладонь другой руки.
— Пески Марса, Счастливчик, долго ли нам тут ждать?
Они находились в корабле Старра «Метеор», который вращался по орбите вокруг Юпитера-9, самого внешнего из крупных спутников планеты.
Этот спутник неподвижно висел в тысяче миль от них. Официальное его название было Адрастея, но, за исключением самых крупных и близких, спутники Юпитера обычно называются по номерам. Юпитер-9 достигал только восемнадцати миль в диаметре; в сущности, это был всего лишь астероид, но с такого близкого расстояния он казался больше далекого Юпитера, находившегося в пятнадцати миллионах миль. Спутник представлял собой неровную скалу, серую, негостеприимную в слабом солнечном свете, вряд ли достойную интереса. И Счастливчик, и Верзила сотни раз видели подобные в поясе астероидов.
Впрочем, в одном отношении он отличался. Под его поверхностью тысяча человек и миллиарды долларов создавали корабль, неподвластный силе тяготения.
Тем не менее Старр предпочитал смотреть на Юпитер. Даже на таком удалении от корабля (три пятых кратчайшего расстояния между Землей и Венерой) Юпитер казался диском, и его горизонтальные полосы видны были невооруженным глазом. Они были светло-розового и зеленовато-синего цвета, будто ребенок окунул пальцы в водянистую краску и провёл ими по изображению Юпитера.
Из-за красоты Юпитера Дэвид почти забыл о смертельно опасной хватке его гравитации. Верзиле пришлось громче повторить свой вопрос:
— Эй, Счастливчик, сколько нам ещё здесь ждать?
— Ты сам знаешь ответ, Верзила. Пока нас не подберёт командующий Донахью.
— Это я знаю. Я хочу знать, почему мы должны его ждать.
— Потому что он попросил нас об этом.
— Ага, попросил. А с какой стати?
— Он возглавляет проект «Аграв», — терпеливо сказал Дэвид.
— Но ты ведь не обязан его слушаться, кем бы он ни был. Ты сам это знаешь.
Верзила глубоко и остро осознавал власть Старра. Как полноправный член Совета Науки, этой бескорыстной могущественной организации, сражавшейся с врагами Земли в Солнечной системе и за её пределами, он мог поступать вопреки распоряжениям самых значительных лиц.
Но Дэвид не собирался так поступать. Юпитер опасен — это планета с ядовитой атмосферой и смертельной силой тяжести; но ситуация на Юпитере-9 гораздо опаснее, потому что источник опасности точно неизвестен, а пока он не узнает гораздо больше, то будет продвигаться с большой осторожностью.
— Терпение, Верзила, — сказал он.
Верзила что-то проворчал и включил свет.
— Мы ведь не будем целый день смотреть на Юпитер?
Он подошёл к маленькому венерианскому существу, которое плавало вверх и вниз в герметически закрытом аквариуме в углу пилотской рубки. Ласково посмотрел на существо, улыбаясь широким ртом от удовольствия. Венлягушка всегда оказывала такое действие на Верзилу, да и на всех остальных.
Венлягушка — обитатель венерианского океана, крошечное существо, которое, казалось, состоит только из глаз и лап. Его два больших глаза выпячивались, как сверкающие чёрные ягоды, сильный кривой клюв периодически открывался и закрывался. Шесть лап были втянуты, и лягушка сидела на дне аквариума, но когда Верзила постучал по стеклу, они раздвинулись, как линейка столяра, и стали похожи на стебельки.
Маленькое существо было уродливо, но Верзила любил его. Он ничего с этим не мог сделать. Все испытывали подобное чувство. Об этом заботилась венлягушка.
Верзила тщательно проверил цилиндр с двуокисью углерода, который насыщал этим веществом воду; убедился, что температура воды 29 градусов. (Теплые океаны Венеры насыщаются из атмосферы, состоящей из азота и двуокиси углерода. Кислород, который на Венере существует только в закрытых куполами подводных городах, был бы очень вреден для венлягушки.)
Верзила сказал:
— Как ты думаешь, хватает ли ей водорослей? — И как будто венлягушка услышала эти слова: она схватила клювом зеленый стебелек венерианской водоросли, росшей в аквариуме, и начала медленно жевать.
Счастливчик ответил:
— Она продержится, пока мы не высадимся на Юпитере-9.
И тут же оба подняли головы, услышав сигнал вызова.
Пальцы Старра быстро провели нужные манипуляции, и на экране появилось строгое пожилое лицо.
— Говорит Донахью, — послышался резкий голос.
— Да, командующий, — ответил Дэвид. — Мы вас ждем.
— Тогда подготовьте шлюз к переходу.
На лице командующего ясно, будто написанные буквами размером в метеоры первого класса, читались тревога и беспокойство.
За последние недели Старр привык к такому выражению. Например, на лице главы Совета Гектора Конвея. Для него Счастливчик был почти сыном, и старшему члену Совета не нужно было скрывать от него что-то.
Розовое лицо Конвея, обычно дружелюбное и уверенное под короной белоснежных волос, теперь напряженно хмурилось.
— Я несколько месяцев ждал возможности поговорить с тобой.
— Неприятности? — негромко спросил Дэвид. Он меньше месяца назад вернулся с Меркурия и провёл всё это время в своей нью-йоркской квартире. — Вы мне не звонили.
— Ты заслужил отпуск, — угрюмо сказал Конвей. — Я бы хотел, чтобы ты отдохнул подольше.
— Но в чём дело, дядя Гектор?
Глава Совета смотрел прямо в глаза молодого человека; казалось, твёрдый взгляд карих глаз Счастливчика успокоил его.
— Сириус! — сказал он.
Дэвид почувствовал прилив возбуждения. Неужели наконец самый главный враг?
Много столетий назад экспедиции с Земли колонизировали планеты ближайших звёзд. На этих мирах за пределами Солнечный системы выросли новые общества. Независимые и забывшие о своём земном происхождении.
Старейшее и сильнейшее из таких обществ образовали планеты Сириуса. Это общество развилось на новых планетах, где самая передовая наука использовала нетронутые природные ресурсы. Не секрет, что сирианцы, считавшие, что представляют собой лучшую часть человечества, стремились стать во главе всех людей и считали Землю, свою древнюю родину, величайшим врагом.
В прошлом они не раз поддерживали врагов Земли, но ни разу не рискнули начать открытые военные действия.
Но теперь?
— Так что с Сириусом? — спросил Дэвид.
Конвей откинулся назад. Он легко постучал пальцами по столу. Сказал:
— С каждым годом Сириус становится всё сильнее. Мы знаем это. Но их планеты слабо населены, у них всего несколько миллионов. В нашей Солнечной системе всё ещё больше людей, чем во всей остальной Галактике. У нас больше кораблей и учёных. У нас по-прежнему преимущество. Но, клянусь космосом, если дела и дальше пойдут так, мы недолго его удержим.
— Почему?
— Сирианцам всё становится известно. Совет имеет неопровержимые доказательства, Сириус во всех подробностях знает наши исследования аграва.
— Что? — Старр был изумлен. Мало было тайн, более тщательно скрываемых, чем проект «Аграв». Одна из причин, почему проект осуществлялся на внешнем спутнике Юпитера, заключалась именно в необходимости сохранения тайны. — Великая Галактика, как это произошло?
Конвей горько улыбнулся.
— Действительно, вопрос. Как это произошло? Им становится известно всё, и мы не знаем, каким образом. Данные по аграву — самые важные. Мы пытались остановить это. Нет в проекте человека, которого мы бы самым тщательным образом не проверили. Нет такой меры предосторожности, которую мы бы не приняли. Но сведения по-прежнему уходят. Мы пытались передать дезинформацию, но это было обнаружено. Мы знаем это по сообщениям своей разведки. Мы давали информацию таким образом, чтобы она не могла уйти, и тем не менее она уходит.
— Что значит «не могла уйти»?
— Мы рассеяли её так, что ни один человек не знал всего. И тем не менее сирианцы узнали. Это означает, что множество людей участвуют в шпионаже, а это просто невероятно.
— Или один человек, имеющий доступ ко всему, — сказал Старр.
— Что точно так же невозможно. Это что-то новое, Дэвид. Понимаешь ли ты, что это значит? Если сирианцы нашли способ просвечивать наши головы, мы больше не в безопасности. Мы никогда не сможем от них защититься. Никогда не сможем составить успешный план против них.
— Подождите, дядя Гектор. Великая Галактика, передохните минутку. Что вы имеете в виду? Как это — просвечивают наши головы? — Он пристально посмотрел на старшего.
Лицо главы Совета вспыхнуло.
— Великий Космос, Дэвид, я прихожу в отчаяние. Я не вижу другого объяснения. Сирианцы разработали какой-то способ чтения мыслей или овладели телепатией.
— А почему вы стыдитесь этого предположения? Ведь это возможно. Мы знаем о существовании практической телепатии. Венерианские венлягушки.
— Ну хорошо, — сказал Конвей. — Я думал и об этом, но у них нет венерианских венлягушек. Я знаю, что показали исследования. Нужны совместные действия тысяч лягушек, чтобы телепатия стала возможна. Держать тысячи лягушек не на Венере чрезвычайно сложно, и их легко обнаружить. А без венлягушек телепатия невозможна.
— Мы не знаем, как её осуществить, — пока, — негромко сказал Счастливчик. — Возможно, сирианцы опередили нас в исследованиях телепатии.
— Без венлягушек?
— Даже и без венлягушек.
— Я в это не верю, — яростно заявил Конвей. — Не могу поверить, чтобы сирианцы разрешили проблему, которая сделала Совет Науки совершенно беспомощным.
Старр чуть не улыбнулся этой гордости старика за свою организацию, но должен был признать, что тут не просто гордость. Совет Науки представлял собой величайшее собрание разума, известное Галактике, и уже в течение столетия все относительно крупные научные достижения исходили только от Совета.
Тем не менее он не удержался от легкого укола:
— Они впереди нас в роботехнике.
— Вовсе нет! — выпалил Конвей. — Только в её приложениях. Земляне изобрели позитронный мозг, который сделал возможным существование механического человека. Не забывай об этом. Земле принадлежат все важнейшие достижения. Просто сирианцы строят больше роботов и… — он слегка заколебался… — усовершенствовали некоторые инженерные решения.
— Я в этом убедился на Меркурии, — мрачно заметил Счастливчик.
— Да, я знаю, Дэвид. Ты чуть не погиб.
— Но с этим покончено. Подумаем, что стоит теперь перед нами. Ситуация такова: Сириус ведет успешный шпионаж, и мы не можем прекратить его.
— Да.
— И наиболее затронут проект «Аграв».
— Да.
— Я полагаю, дядя Гектор, вы хотите, чтобы я отправился на Юпитер-9 и посмотрел, не смогу ли что-нибудь узнать.
Конвей мрачно кивнул.
— Да, я прошу тебя об этом. Это несправедливо по отношению к тебе. У меня выработалась привычка считать тебя своей козырной картой, человеком, перед которым я могу поставить любую проблему, зная, что он её решит. Но что ты здесь можешь сделать? Совет испробовал всё, и мы не обнаружили ни шпиона, ни метод шпионажа. Мы не можем ожидать от тебя большего.
— Не от меня одного. У меня будет помощь.
— Верзила? — Старик не сдержал улыбки.
— Не только Верзила. Позвольте задать вам вопрос. По вашим сведениям, известно ли сирианцам о наших исследованиях венлягушек?
— Нет, — ответил Конвей. — Неизвестно, насколько я знаю.
— Тогда я прошу разрешения взять с собой венлягушку.
— Венлягушку? Одну?
— Да.
— Но что это тебе даст? Ментальное поле одной венлягушки чрезвычайно слабо. Ты не сможешь читать мысли.
— Правда, но я смогу улавливать сильные эмоции.
Конвей задумчиво сказал:
— Возможно. Но что это даст тебе?
— Пока не знаю. Но всё равно: это преимущество, которого не было у предыдущих следователей. Неожиданная вспышка эмоций может помочь мне, даст основания для подозрений, направит ход расследования. И потом…
— Да?
— Если кто-то обладает телепатическими способностями, природными или развитыми искусственно, я смогу уловить нечто большее, чем сильные эмоции. Могу уловить мысль, прежде чем этот человек начнет экранировать свои мысли. Понимаете, что я имею в виду?
— Но он может уловить и твои эмоции.
— Теоретически да, но я буду вслушиваться в эмоции, так сказать. А он нет.
Взгляд Конвея просветлел.
— Слабая надежда, но, клянусь космосом, надежда! Я добуду тебе венлягушку… Но ещё одно, Старр. — Он называл его так только в моменты глубочайшей озабоченности. — Я хочу, чтобы ты понял всю важность этого дела. Если мы не узнаем, как сирианцы это делают, это будет значить, что они действительно опередили нас. А это значит, что война больше не будет откладываться. От этого зависит — война или мир.
— Понимаю, — негромко ответил Счастливчик.
Глава 2
КОМАНДУЮЩИЙ РАЗГНЕВАН
Вот почему Дэвид Старр, землянин, и его маленький друг Верзила Джонс, родившийся и выросший на Марсе, пересекли пояс астероидов и оказались на окраине освоенной части Солнечной системы. И именно поэтому житель Венеры, совсем не человек, а маленькое животное, читающее мысли и навязывающее эмоции, сопровождал их.
Они висели в тысяче миль над Юпитером-9 и ждали, пока закрепят гибкую трубу между «Метеором» и кораблем командующего. Труба соединяла шлюзы кораблей, и по ней человек мог перейти из одного корабля в другой, не надевая космического костюма. Воздух кораблей смешивался, и человек, привыкший к космосу, пользуясь невесомостью, мог пролететь по всей трубе от одного толчка, меняя направление при изгибах трубы прикосновениями локтя.
В отверстии вначале показались руки командующего. Они ухватились за край отверстия, потом командующий перепрыгнул через край и опустился в искусственном поле тяготения «Метеора» (официально оно именовалось псевдогравитационным полем), не пошатнувшись. Проделано это было прекрасно, и Верзила, который предъявлял высокие требования к любой космической технике, одобрительно кивнул.
— Добрый день, член Совета Старр, — мрачно сказал Донахью.
В космосе трудно определить, когда говорить «доброе утро» «добрый день» или «добрый вечер»: строго говоря в космосе не бывает ни утра, ни дня, ни вечера. Космонавты обычно используют нейтральную форму «добрый день».
— Добрый день, командующий, — ответил Счастливчик. — Возникли какие-нибудь трудности, из-за чего задерживается наша посадка на Юпитер-9?
— Трудности? Ну, как посмотреть. — Донахью огляделся и сел в одно из пилотских кресел. — Я связывался со штаб-квартирой Совета, но мне ответили, чтобы я говорил непосредственно с вами, поэтому я здесь.
Командующий Донахью был худощавым, жилистым человеком; от него исходило сильное внутреннее напряжение. Лицо его было покрыто глубокими морщинами, волосы седые, но видно, что когда-то они были каштановыми. На тыльной стороне ладоней проступали выпуклые синие вены, и говорил он взрывчато, стремительным потоком слов.
— О чём вы с ними говорили, сэр? — спросил Дэвид.
— Вот о чём, член Совета. Я хочу, чтобы вы вернулись на Землю.
— Почему, сэр?
Говоря, командующий не смотрел на молодого человека.
— У нас моральная проблема. Наших людей проверяли, и проверяли, и проверяли. И каждый раз ничего не находили, и каждый раз начиналось новое расследование. Им это не нравится, вам тоже не понравилось бы. Им не нравится то, что они постоянно находятся под подозрением. И я полностью на их стороне. Наш аграв-корабль почти готов, и сейчас не время тревожить моих людей. Они поговаривают о забастовке.
Старр спокойно ответил:
— Возможно, ваши люди не виновны, но информация всё равно уходит.
Донахью пожал плечами.
— Значит, она идёт откуда-то ещё. Должно быть… — Он смолк, а когда заговорил снова, в его голове звучало совершенно неуместное дружелюбие: — А это что?
Верзила проследил за его взглядом и немедленно ответил:
— Это наша венлягушка, командующий, а я Верзила.
Командующий не обратил на него внимания. Напротив, он подошёл к венлягушке, глядя на заполненный водой аквариум.
— Она с Венеры?
— Да, — сказал Верзила.
— Я о них слышал. Но никогда не видел. Симпатичная малышка.
Счастливчик почувствовал мрачное удовлетворение. Ему не показалось странным, что в середине такого серьёзного разговора командующий вдруг начал восхищаться маленьким водным существом с Венеры. Венлягушка сделала это неизбежным.
Маленькое существо смотрело на Донахью чёрными глазами, раскачиваясь на стеблеобразных лапах и негромко щелкая клювом попугая. Во всей известной вселенной оно одно обладает уникальным приспособлением для выживания. У него нет защитного вооружения, нет никакой брони. Нет ни когтей, ни зубов, ни рогов. Клюв его может укусить, но даже этот укус не причинил бы никакого вреда существу большего размера.
Но лягушки свободно размножаются в покрытых водорослями океанах Венеры, и ни один из свирепых хищников океанских глубин их не тревожит. Просто потому, что венлягушки способны контролировать эмоции. Они заставляют все другие формы жизни любить себя, относиться к себе дружественно, не испытывая никакого желания вредить. Так они выживают. И не просто выживают. Процветают.
Именно эта венлягушка внушила командующему Донахью дружеские чувства, так что суровый военный указал на неё пальцем и рассмеялся, глядя, как она склоняет голову и опускается на своих выдвижных лапах.
— Нельзя ли нам получить несколько таких для Юпитера-9, Старр? — спросил Донахью. — Мы очень любим животных. Животные нам напоминают о доме.
— Это не очень практично, — ответил Счастливчик. — Венлягушек трудно содержать. Им нужно находиться в насыщенной двуокисью углерода среде. Кислород для них ядовит. Это усложняет содержание.
— Значит, их нельзя держать в открытом аквариуме?
— Иногда можно. На Венере их так держат: там двуокись углерода дешёва, да и лягушку всегда можно выпустить в океан, если ей станет плохо. Но на корабле или на безвоздушной планете нельзя постоянно выпускать двуокись углерода, поэтому закрытая система лучше.
— Ага! — Командующий выглядел слегка опечаленным.
— Вернемся к первоначальной теме разговора, — резко сказал Дэвид. — Не могу согласиться с вашим предложением. У меня есть поручение, и я обязан его выполнить.
Командующему потребовалось несколько секунд, чтобы очнуться от чар венлягушки. Лицо его потемнело.
— Я уверен, вы не понимаете ситуации. — Он неожиданно повернулся и посмотрел на Верзилу. — Вот, к примеру, ваш товарищ…
Маленький марсианин застыл и начал краснеть.
— Я Верзила, — сказал он. — Я уже говорил вам.
— Не такой уж верзила, — заметил командующий.
И хотя Старр сразу положил руку на плечо маленького человека, это не помогло. Верзила закричал:
— Дело не в габаритах, мистер! Моё имя Верзила, и я не меньше вас или любого другого человека, что бы ни говорила линейка. А если вы в это не верите… — Он яростно дёргал левым плечом. — Отпусти меня, Счастливчик! Этот тип…
— Подожди минутку, Верзила, — попросил Старр. — Узнаем, что хочет сказать командующий.
Донахью удивленно смотрел на разозлившегося Верзилу. Он сказал:
— Я не хотел обидеть вас своим замечанием. Простите, если я вас задел.
— Задели меня? — визгливо спросил Верзила. — Меня? Послушайте, я вам вот что скажу: я никогда не теряю голову, и, как только вы извинились, дело забыто. — Он подтянул пояс и резко хлопнул ладонями по голенищам своих оранжево-зеленых сапог высотой по колено, которые являются обязательной принадлежностью каждого марсианского фермера и без которых ни одного фермера не увидишь на людях (разве что он наденет другие сапоги, ещё более кричащие).
— Я хочу, чтобы вы меня поняли, член Совета, — Донахью снова обратился к Дэвиду. — У меня на Юпитере-9 тысяча человек, и всё это сильные люди. Им приходится быть такими. Они далеко от дома. У них тяжелая работа. Они очень рискуют. У них здесь свой взгляд на жизнь, и нелёгкий взгляд. Например, они подшучивают над новичками, и шутки эти не из ласковых. Иногда после таких шуток новичок не может встать и пойти домой. Иногда бывает ранен. Но когда он проходит через это, всё в порядке.
Старр спросил:
— Это официально разрешено?
— Нет. Но позволено неофициально. Людям нужно как-то отвлекаться, и мы не можем вызывать их вражду, вмешиваясь в эти розыгрыши. Хорошего работника сюда заманить трудно. Вы знаете, мало кто готов работать на спутниках Юпитера. К тому же посвящение помогает отсеять неприспособленных. Если человек не прошёл посвящение, он и в других обстоятельствах подведет. Вот почему я упомянул вашего друга.
Командующий торопливо поднял руку.
— Не делайте ошибки. Я согласен, что он внутренне велик, способен и всё что хотите. Но выдержит ли он то, что вас ждёт? А вы выдержите, член Совета?
— Вы имеете в виду подшучивание?
— Это будут жестокие шутки, член Совета, — сказал Донахью. — Люди знают, что вы прибываете. Новости каким-то образом просачиваются.
— Да, я знаю, — ответил Счастливчик.
Командующий нахмурился.
— Во всяком случае, они знают, что вы прилетели расследовать, и не испытывают к вам нежных чувств. У них дурное настроение, и они постараются причинить вам вред, член Совета Старр. Я прошу вас не высаживаться на Юпитере-9, ради проекта, ради моих людей, ради вас самого. Вот вам самый прямой ответ.
Верзила смотрел, как меняется товарищ. Обычное спокойствие и добродушие исчезли. Тёмно-карие глаза стали жесткими, и красивое худое лицо исказилось выражением, которое Верзила редко на нём видел, — гневом. Каждая мышца стройного тела Дэвида, казалось, напряглась.
Он звонко произнес:
— Командующий Донахью, я член Совета Науки. Я подчиняюсь только главе Совета Науки и Президенту Солнечной Федерации Миров. Я выше вас по должности, и вы должны выполнять мои приказы и распоряжения. Я считаю предупреждение, которое вы только что мне изложили, свидетельством вашей некомпетентности. Ничего не говорите, пожалуйста; слушайте. Вы очевидно не контролируете своих людей и непригодны к командованию. Теперь следующее: я высажусь на Юпитере-9 и проведу своё расследование. Я справлюсь с вашими людьми, чего вы не можете сделать.
Он помолчал, глядя, как собеседник хватает ртом воздух, тщетно пытаясь сказать слово. Потом рявкнул:
— Вы меня поняли, командующий?
Командующий Донахью с неузнаваемо искаженным лицом сумел ответить:
— Я обращусь в Совет Науки. Ни один высокомерный мальчишка не смеет так со мной разговаривать. Я руковожу людьми не хуже любого другого человека моего ранга. Моё предупреждение будет записано, и, если на Юпитере-9 вы будете ранены, я с радостью рискну трибуналом. Я ничего для вас не сделаю. Я даже надеюсь… надеюсь, вас поучат манерам, вы…
Он больше не мог говорить. Повернулся и прошёл к открытому люку, к трубе, всё ещё соединявшей два корабля. В гневе он чуть не упал, выбираясь в люк.
Верзила со страхом смотрел, как ноги командующего исчезают в трубе. Гнев Донахью был настолько ощутим, что марсианин чувствовал его волны в себе.
Он сказал:
— Вот это да! Ты его действительно расшевелил!
Старр кивнул.
— Он сердит. Несомненно.
— Послушай, может, он и есть шпион? Он много знает. У него много возможностей.
— Но его также больше всех проверяли, так что твоя теория сомнительна. Однако он помог нам в маленьком эксперименте, так что при следующей встрече мне придётся извиниться.
— Извиниться? — Верзила пришёл в ужас. Он твёрдо считал, что извинения — это то, что должны делать только другие. — Почему?
— Слушай, Верзила, ты что, считаешь, что я всё это говорил серьёзно?
— Ты не рассердился?
— Нет.
— Это была игра?
— Можно назвать и так. Я хотел рассердить его, по-настоящему рассердить, и мне это удалось. Я могу это засвидетельствовать.
— Засвидетельствовать?
— А ты разве нет? Ты разве не почувствовал в себе его гнев?
— Пески Марса! Венлягушка!
— Конечно. Она принимала гнев командующего и передавала его нам. Я знал, что венлягушки могут это делать. Мы это проверили на Земле, но я хотел проверить в полевых условиях. Теперь я уверен.
— Она здорово передаёт.
— Да, знаю. Так что у нас всё-таки есть оружие.
Глава 3
АГРАВ-КОРИДОР
— Прекрасно, — сказал Верзила. — Значит, приступаем?
— Подожди, — сразу ответил Счастливчик. — Подожди, друг мой. Это особое оружие. Мы сможем улавливать сильные эмоции, но, возможно, так и не уловим ту, что служит ключом к разгадке. Всё равно что глаза. Мы видим, но можем увидеть не то.
— Ты увидишь всё, что нужно, — уверенно заявил Верзила.
Спуск на Юпитер-9 очень напомнил Верзиле манёвры в астероидном поясе. Дэвид объяснил ему, что астрономы считают этот спутник настоящим астероидом — большим астероидом, много миллионов лет назад захваченным чудовищным полем тяготения Юпитера.
Вообще Юпитер захватил множество астероидов, и в пятнадцати миллионах миль от гигантской планеты располагается миниатюрный пояс астероидов, принадлежащих только Юпитеру. Четыре самых больших астероида этого пояса имеют в диаметре от сорока до ста миль — это Юпитер-12, 11, 8 и 9. Существует также больше ста спутников свыше мили в диаметре; они не пронумерованы и обычно игнорируются. Их орбиты вычислили только десять лет назад, когда было решено разместить на Юпитере-9 центр антигравитационных исследований; необходимость связываться с этим спутником заставила обратить внимание на население окружающего пространства.
Приближающийся спутник заполнил небо и превратился в жесткий мир вершин и пропастей, не смягченных прикосновением атмосферы за миллиарды лет свой истории. Верзила, всё ещё задумчивый, спросил:
— Счастливчик, а почему вообще его называют Юпитер-9?
По атласу, он не самый близкий к Юпитеру. Например, Юпитер-12 гораздо ближе.
Дэвид улыбнулся.
— Беда в том, Верзила, что ты избалован. Ты родился на Марсе и потому считаешь, что человечество бродит по космосу с сотворения мира. Послушай, парень, человечество изобрело первый космический корабль всего тысячу лет назад.
— Это я знаю, — возмущенно ответил Верзила, — я не невежа. Я ходил в школу. Не разбрасывай свои большие мозги повсюду.
Старр улыбнулся ещё шире и постучал костяшками двух пальцев по черепу Верзилы.
— Есть кто-нибудь дома?
Кулак Верзилы устремился в живот друга, но тот перехватил его в воздухе, и малыш неподвижно застыл.
— Всё очень просто, Верзила. До изобретения космического корабля люди были прикованы к Земле и знали только то, что можно увидеть в телескоп. Спутники нумеровали в порядке их открытия, понятно?
— Ага! — сказал Верзила и высвободился. — Бедные предки! — Он рассмеялся, как всегда, когда думал о человечестве, привязанном к одной планете и с тоской глядящем к космос.
Старр продолжал:
— Четыре самых крупных спутника Юпитера имеют номера один, два, три и четыре, хотя по номерам их обычно не называют. Это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Самый близкий спутник — маленький номер пять, а потом были открыты спутники по двенадцатый. Все последующие были обнаружены уже тогда, когда люди вышли в космос, побывали на Марсе и в поясе астероидов… А теперь внимание. Начинаем посадку.
«Поразительно, — думал Дэвид, — во что превращается крошечный астероид восьмидесяти девяти миль в диаметре, когда находишься от него в непосредственной близости. Он становится настоящим миром. Конечно, этот мир мал по сравнению с Юпитером или даже Землей. Положить его на Землю, и он поместится в штате Коннектикут; вся его поверхность меньше Пенсильвании. И всё же, когда оказываешься на этом мире, когда гигантские захваты (гравитация тут ничтожна, но инерция сохраняется в полной мере) помещают твой корабль в большую пещеру, способную вместить сотню таких кораблей, как «Метеор», этот мир больше не кажется крохотным. А когда видишь на стене подробную карту Юпитера-9, всю эту сложную сеть подземных коридоров и помещений, сооруженных по сложной программе, мир начинает казаться большим».
На карте изображались горизонтальная и вертикальная проекции Юпитера-9, и, хотя в основном использовалась небольшая часть спутника, Старр видел, что отдельные коридоры уходят в глубину на две мили, а всего они протянулись на сотни миль.
— Грандиозная работа, — негромко сказал он стоявшему рядом лейтенанту.
Лейтенант Августас Невски коротко кивнул. Его безупречный мундир сверкал чистотой. У него были маленькие светлые усики, широко расставленные голубые глаза и привычка смотреть прямо перед собой, как будто он постоянно находился в стойке «смирно».
Он с гордостью ответил:
— Мы продолжаем расти.
Когда четверть часа назад Счастливчик и Верзила вышли из корабля, лейтенант представился им в качестве личного сопровождающего, назначенного командующим Донахью.
Старр, внутренне смеясь, спросил:
— Сопровождающий? Или конвоир? Вы вооружены, лейтенант.
С лица лейтенанта исчезли всякие проявления чувств.
— Я нахожусь на службе, член Совета, и мне по инструкции полагается иметь оружие. Вы увидите, что сопровождающий здесь необходим.
Но, когда прибывшие стали хвалить проект, он расслабился и как будто стал испытывать обычные человеческие чувства. Он сказал:
— Конечно, отсутствие сколько-нибудь заметного гравитационного поля позволяет применять такие инженерные хитрости, которые невозможны на Земле. Подземные коридоры сооружаются практически без подпорок.
Дэвид кивнул, потом сказал:
— Я понял, что первый аграв-корабль почти готов к взлету.
Лейтенант некоторое время молчал. Лицо его снова стало непроницаемым. Потом он напряженно ответил:
— Вначале я покажу вам ваше помещение. Его легко достигнуть при помощи аграв-коридора, и если вы захотите воспользоваться…
— Эй, Счастливчик! — неожиданно возбуждённо крикнул Верзила. — Ты только посмотри.
Дэвид повернулся. Это был всего лишь котенок, серый, как дым, с обычным для кошек выражением серьёзной печали; он с готовностью изогнул спину под пальцами Верзилы. И замурлыкал.
Старр сказал:
— Командующий говорил, что тут любят животных. Это ваш, лейтенант?
Офицер вспыхнул.
— Они общие. Тут есть ещё несколько кошек. Их иногда привозят грузовые суда. У нас есть ещё канарейки, попугай, белая мышь, золотые рыбки. Но ничего подобного вашему как-там-оно-называется. — И в глазах его, устремленных на аквариум с венлягушкой, зажатый у Верзилы под локтем, мелькнула зависть.
Но Верзила не отрывался от кошки. На Марсе нет домашних животных, и пушистые любимцы землян для марсианина всегда обладают очарованием новизны.
— Я ему понравился, Счастливчик.
— Это она, — заметил лейтенант, но Верзила не обратил на это внимания.
Кошка, вертикально задрав хвост, так что опускался только его кончик, ходила мимо Верзилы, подставляя ему то один, то другой бок.
Но тут мурлыканье прервалось, и Верзила ощутил прилив лихорадочного голодного желания.
Вначале это его удивило, но тут он заметил, что кошка перестала мурлыкать и стоит в напряженной охотничьей позе, выработанной инстинктом миллионнолетней давности.
Её зеленые раскосые глаза смотрели прямо на венлягушку.
Но эта кошачья эмоция исчезла почти сразу же, как появилась. Кошка потёрлась о край аквариума и снова негромко и довольно замурлыкала.
Кошке тоже понравилась венлягушка. Другой возможности у неё и не было.
Дэвид сказал:
— Вы говорили, лейтенант, что мы доберёмся до своих помещений при помощи аграва. И хотели объяснить нам, что это значит.
Лейтенант, который ласково смотрел на венлягушку, помолчал, чтобы собраться с мыслями, потом ответил:
— Да. Это очень просто. У нас на Юпитере-9 искусственное поле тяготения, как на любом корабле. Эти поля организованы во всех главных коридорах так, чтобы можно было падать в них в любом направлении. Всё равно что прыгнуть в ствол шахты на Земле.
Старр кивнул.
— И насколько быстро вы падаете?
— В этом-то и дело. Обычно сила тяжести действует непрерывно, и вы падаете всё быстрее и быстрее…
— Поэтому-то я и задал вопрос, — сухо прервал Дэвид.
— Но не при аграве. Аграв — это ведь а-грав, отсутствие тяготения. Аграв используется для поглощения гравитационной энергии или для преобразования её. Вы падаете с любой нужной вам скоростью. Если гравитационное поле направлено в противоположную сторону, вы начинаете замедляться. Аграв-коридор с двумя противоположно направленными псевдо-гравитационными полями использовался как начальный этап разработки аграв-кораблей, работающих в едином гравитационном поле. Помещения инженеров, где вы будете жить, всего лишь в миле отсюда, и туда можно добраться по коридору А-2. Готовы?
— Будем готовы, как только вы объясните работу аграва.
— Это не проблема. — Лейтенант Невски снабдил их чем-то вроде упряжи, закреплявшейся на поясе и плечах; прилаживая её, он быстро объяснял способ управления.
А потом сказал:
— Пройдёмте со мной, джентльмены; коридор всего в нескольких ярдах в том направлении.
Верзила остановился в нерешительности у входа в коридор. Он не боялся ни пространства, ни падения. Но за свою жизнь он привык преодолевать препятствия при марсианском или ещё меньшем тяготении. А тут нормальное земное псевдополе, и коридор кажется ярко освещенной дырой, уходящей, по-видимому, прямо вниз, хотя на самом деле (сознание говорило это Верзиле) он параллелен близкой поверхности спутника.
Лейтенант сказал:
— Эта линия ведет к помещениям инженеров. Если бы мы двигались с той стороны, «низ» казался бы нам в противоположном направлении. Мы можем поменять «верх» и «низ» местами с помощью контроля аграва.
Он увидел выражение лица Верзилы и сказал:
— Привыкнете. Через какое-то время это становится второй натурой.
Он вышел в коридор и не опустился ни на дюйм. Как будто стоял на невидимой платформе.
Он небрежно спросил:
— Поставили шкалу на ноль?
Верзила сделал это, и мгновенно сила тяжести исчезла. Он ступил в коридор.
Лейтенант резко повернул кнопку своего прибора и начал опускаться, набирая скорость. Дэвид последовал за ним, и Верзила, который предпочел бы упасть под двойной силой тяжести и расплющиться в лепешку, чем не сделать того же, что он, глубоко вдохнул и тоже начал падать.
— Снова вернитесь к нулю, — крикнул лейтенант, — и начнете двигаться с постоянной скоростью. Привыкайте.
Периодически они пролетали мимо светящихся надписей «Держитесь этой стороны». Один раз мимо них промелькнул человек (он и правда падал) в противоположном направлении. Он двигался гораздо быстрее их.
— Бывают ли столкновения, лейтенант? — спросил Старр.
— Нет, — ответил лейтенант. — Опытные люди следят за теми, кого перегоняют или кто перегоняет их, и легко замедляются или ускоряются. Конечно, иногда парни сталкиваются нарочно. Грубоватая игра, и может закончиться сломанной ключицей. — Он быстро взглянул на Дэвида. — Наши парни играют грубо.
Тот ответил:
— Понимаю. Командующий предупредил меня.
Верзила, который смотрел вниз в хорошо освещенный туннель, возбуждённо воскликнул:
— Эй, Счастливчик, забавно, когда привыкнешь! — и повернул ручку своего прибора.
Неожиданно лейтенант Невски тревожно крикнул:
— Перестаньте сейчас же! Переключите назад!
Дэвид властно приказал:
— Верзила, медленнее!
Они догнали Верзилу, и лейтенант гневно объяснил:
— Никогда этого не делайте! В коридоре множество препятствий и перегородок, и вы разобьетесь об одну из них, считая себя в безопасности.
— Эй, Верзила, — сказал Старр. — Держи венлягушку. Это придаст тебе чувство ответственности.
— Ну, — смущенно ответил Верзила, — я просто позабавился немного. Пески Марса, Счастливчик…
— Хорошо, — сказал Дэвид. — Вреда ты не причинил. — И Верзила сразу просиял.
Он снова посмотрел вниз. Спуск с равномерной скоростью совсем не то, что свободное падение в пространстве. В космосе кажется, что ничего не движется. Космический корабль может идти со скоростью в сотни тысяч миль в час, и всё равно в нём будет ощущение неподвижности. Отдаленные звёзды никогда не движутся.
Здесь всё было пронизано движением. Мимо мелькали огни, отверстия, различные приспособления на стенах коридора.
В космосе не бывает «верха» и «низа», здесь тоже их не было, и это казалось неправильным. Когда Верзила смотрел «вниз», мимо своих ног, ему казалось, что «низ» там, и всё было в порядке. Но когда он взглянул «наверх», у него мгновенно возникло ощущение, что «верх» это на самом деле «низ» и что он, стоя на голове, падает «вверх». Он быстро посмотрел себе под ноги, чтобы избавиться от этого ощущения.
Лейтенант сказал:
— Не слишком наклоняйтесь вперёд, Верзила. Аграв направляет ваше падение, но если вы слишком перегнетесь, начнете вертеться.
Верзила выпрямился.
Лейтенант сказал:
— Ничего опасного во вращении нет. Всякий, кто привык к аграву, тут же может остановиться. Но для начинающих это трудно. Мы начинаем замедляться. Поставьте шкалу на минус и держите так. Примерно минут пять.
Говоря это, он замедлил свой полёт и двинулся мимо них. Теперь его ноги висели на уровне глаз Верзилы.
Верзила передвинул шкалу, отчаянно пытаясь сравняться с лейтенантом. И тут появились «верх» и «низ», только неправильные. Он определённо стоял на голове.
Он крикнул:
— Эй, у меня кровь отливает от головы!
Лейтенант резко сказал:
— Вдоль коридора есть опоры. Как можно быстрее зацепитесь за одну из них ногой.
Сам он поступил именно так, и тут же его голова и ноги поменялись местами. Он продолжал поворачиваться, но остановил вращение, взявшись рукой за опору.
Дэвид последовал его примеру, и Верзила, широко расставив свои короткие ноги, наконец умудрился поймать одну опору. Он резко повернулся и сильно ударился локтем о стену, но всё же сумел остановиться.
Теперь он снова оказался головой вверх. Он не падал, а поднимался, как будто им выстрелили из пушки, и поднимался всё медленнее под действием силы тяжести.
Когда скорость их совсем уменьшилась, Верзила, беспокойно глядя под ноги, подумал: «Мы опять начнем падать». Коридор опять показался ему бездонным колодцем, и мышцы живота у него напряглись.
Но лейтенант сказал:
— Переключите на ноль.
Они перестали замедляться. Спокойно двигались наверх, как в ровном медленном лифте; наконец показалось пересечение; лейтенант, ухватившись за опору, легко остановился.
— Помещения инженеров, джентльмены, — объявил он.
— И комиссия по встрече, — негромко добавил Старр.
В коридоре их ждало не менее пятидесяти человек.
Дэвид сказал:
— Вы говорили, они любят грубую игру, лейтенант. Похоже, они хотят поиграть сейчас.
Он твёрдо шагнул в коридор. Верзила, ноздри которого раздувались от возбуждения, довольный, что он снова на прочной поверхности, крепко сжал аквариум с венлягушкой и встал рядом с товарищем, глядя на ожидающих жителей Юпитера-9.
Глава 4
ПОСВЯЩЕНИЕ!
Лейтенант Невски, положив руку на рукоять бластера, постарался, чтобы голос его звучал властно:
— Эй, парни, что вы тут делаете?
Кое-кто что-то забормотал, но большинство молчали. Все смотрели на стоявшего впереди, как будто ждали, чтобы он заговорил.
Предводитель улыбался, лицо его расплывалось в добродушном выражении. У него были прямые, с пробором посредине волосы светло-оранжевого цвета. Скулы широкие, он жевал резинку. Костюм из синтетической ткани, как и у всех, но, в отличие от остальных, у предводителя рубашка и брюки были украшены большими и массивными медными пуговицами. Четыре на передке рубашки, по одной на каждом из карманов и по четыре вдоль каждой брючины — всего четырнадцать. Никакой прагматической цели у этих пуговиц не было — всего лишь украшение.
— Ну хорошо, Саммерс, — обратился лейтенант к этому человеку, — что здесь делают эти люди?
Саммерс заговорил мягким вкрадчивым голосом:
— Ну, лейтенант, мы подумали, хорошо бы встретить новичка. Он захочет с нами увидеться. Будет задавать много вопросов. Почему бы не встретиться сразу?
Говоря это, он взглянул на Старра, и на мгновение во взгляде его сверкнул лёд, но тут же взгляд снова стал дружелюбным и мягким.
Лейтенант сказал:
— Вы должны находиться на работе.
— Будьте человеком, лейтенант, — ответил Саммерс, по-прежнему медленно жуя резинку. — Мы всё время работаем. Просто хотим поздороваться.
Лейтенант, очевидно, не знал, что делать. Он с сомнением взглянул на Дэвида.
Тот спросил:
— Какие комнаты нам отвели, лейтенант?
— Комнаты 2А и 2Б, сэр. Чтобы их найти…
— Я их найду. Я уверен, один из этих людей нам покажет. Лейтенант, вы отвели нас к нашим помещениям. Теперь, я думаю, ваше задание кончилось. Всего хорошего.
— Я не могу уйти! — сказал лейтенант напряженным шёпотом.
— Можете.
— Конечно, можете, лейтенант, — сказал Саммерс, улыбаясь ещё шире. — Простое приветствие парню не повредит. — Кто-то в толпе засмеялся. — К тому же он просит вас уйти.
Верзила подошёл к Старру и настойчиво прошептал:
— Счастливчик, позволь мне отдать венлягушку лейтенанту. Я не могу держать её и драться.
— Просто держи, — ответил Дэвид. — Я хочу, чтобы она была здесь… Всего хорошего, лейтенант. Вы свободны!
Лейтенант стоял в нерешительности, и Старр голосом, который, несмотря на всю вежливость, звучал как сталь, сказал:
— Это приказ, лейтенант.
Лицо лейтенанта Невски стало по-военному застывшим. Он чётко ответил:
— Есть, сэр.
Как ни удивительно, он ещё мгновение поколебался, посмотрел на венлягушку в руках Верзилы, которая спокойно жевала стебелек водоросли.
— Поберегите эту малышку.
Повернулся и в два шага оказался в аграв-коридоре, почти тут же исчезнув.
Дэвид снова повернулся лицом к ожидавшим его людям. Никаких иллюзий у него не было. Они стояли с мрачными лицами и настроены были решительно, но, если он не сможет смотреть им в лицо, не сможет доказать, что он тоже настроен решительно, его поручение тут же пойдёт на дно, наткнувшись на скалу их враждебности. Каким-то способом нужно их завоевать.
Улыбка Саммерса стала волчьей. Он сказал:
— Ну, друг, мальчишка в форме ушёл. Теперь можно поговорить. Я Ред Саммерс. А как ваше имя?
Старр улыбнулся в ответ.
— Меня зовут Дэвид Старр. Моего друга зовут Верзила.
— Кажется, я слышал кое-какие разговоры о Счастливчике.
— Друзья называют меня Счастливчик.
— Отлично. И хотите оставаться Счастливчиком?
— А вы знаете как?
— Между прочим, Счастливчик Старр, знаю. — Неожиданно его лицо превратилось в свирепую маску. — Убирайся с Юпитера-9!
Послышался хриплый одобрительный гул, несколько голосов подхватили:
— Убирайтесь! Убирайтесь!
Толпа приблизилась, но Старр не отступал.
— У меня есть важные причины оставаться на Юпитере-9.
— В таком случае, боюсь, ты не Счастливчик, — сказал Саммерс. — Ты новичок и кажешься мягким, а мягким новичкам на Юпитере-9 несладко. Мы о тебе беспокоимся.
— Думаю, ничего со мной не случится.
— Ты думаешь? — переспросил Саммерс. — Арман, иди сюда.
Из рядов вышел огромный человек, круглолицый, плотный, с широкими плечами и бочкообразной грудью. Он был на полголовы выше Дэвида с его шестью футами одним дюймом и смотрел сверху вниз на молодого члена Совета, обнажая в улыбке желтые, широко расставленные зубы.
Люди начали усаживаться на полу. Они перебрасывались веселыми репликами, будто им предстояло присутствовать на футбольном матче.
Один из них крикнул:
— Смотри, Арман, не наступи на парнишку!
Верзила вздрогнул и свирепо взглянул в сторону голоса, но не смог определить кричавшего.
Саммерс сказал:
— Ты ещё можешь улететь, Старр.
Дэвид ответил:
— Не собираюсь. Особенно сейчас. Ведь у вас тут предстоит какое-то развлечение.
— Не для тебя, — сказал Саммерс. — Теперь слушай, Старр. Мы приготовились к твоему прибытию. Начали готовиться, как только услышали, что ты появишься. Хватит с нас ищеек с Земли, больше мы не потерпим. На всех уровнях стоят мои люди. Мы будем знать, если командующий вздумает вмешаться, а если он вмешается, мы начнем забастовку. Правду я говорю, парни?
— Правду, — хором ответили все.
— И командующий это знает, — говорил Саммерс. — Не думаю, чтобы он стал вмешиваться. Так что у нас есть возможность посвятить вас. А после этого я ещё раз спрошу у тебя, не хочешь ли ты улететь. Конечно, если будешь в сознании.
— Вы поднимаете шум из-за ерунды, — сказал Старр. — Я вам не причинил никакого вреда.
— И не причинишь, — ответил Саммерс. — Это я гарантирую.
Верзила своим высоким напряженным голосом сказал:
— Слушай ты, подонок, ты говоришь с членом Совета! Представляешь, что с тобой будет, если он пострадает?
Саммерс неожиданно посмотрел на него, прижал кулаки к бокам и, откинувшись, расхохотался.
— Эй, парни, оно говорит. Я всё гадал, что это такое? Похоже, ищейка Старр привез с собой младенца-братца.
Верзила смертельно побледнел, но Дэвид нагнулся и под всеобщий смех прошептал ему, не разжимая губ:
— Твоё дело — держать венлягушку, Верзила. Я позабочусь о Саммерсе. И, великая Галактика, Верзила, перестань испускать гнев! Я ничего не могу уловить от венлягушки, кроме этого.
Верзила трижды с трудом глотнул.
Саммерс мягко спросил:
— Ну, член Совета Ищеек, умеешь управляться с агравом?
— Только что научился, мистер Саммерс.
— Мы хотим в этом убедиться. Немного испытаем тебя. Нельзя допускать сюда тех, кто с ним незнаком. Это слишком опасно. Верно, парни?
— Верно! — снова заревели вокруг.
— Арман — наш лучший учитель, — сказал Саммерс, положив руку на широкое плечо Армана. — Покончив с ним, ты всё узнаешь об управлении агравом. Или научишься уступать ему дорогу. Предлагаю пройти в аграв-коридор. Арман присоединится к вам.
Старр спросил:
— А если я откажусь?
— Тогда мы выбросим тебя в коридор, а Арман последует за тобой.
Дэвид кивнул.
— Вы решительно настроены. Есть ли какие-то правила у урока, который я должен получить?
Раздался дикий смех, но Саммерс поднял руки.
— Просто уступай Арману дорогу, член Совета. Это единственное правило, которое ты должен запомнить. Мы будем смотреть с края коридора. Если попытаешься сбежать до конца урока, я швырну тебя назад; на всех уровнях стоят люди, они готовы сделать то же самое.
Верзила воскликнул:
— Пески Марса, ваш человек тяжелее Счастливчика на пятьдесят фунтов, и он привык к аграву!
Саммерс с насмешливым удивлением повернулся к нему.
— Да ну! Никогда об этом не думал. Какой стыд! — Все рассмеялись. — В путь, Старр. Иди в коридор, Арман. Стащи его, если понадобится.
— Не понадобится, — заверил Дэвид.
Он повернулся и шагнул в открытое пространство широкого аграв-коридора. Ноги его оказались в воздухе, он слегка коснулся пальцами стены, медленно начал переворачиваться, столь же лёгким прикосновением к стене остановил вращение. И стоял в воздухе, глядя на собравшихся.
Послышались негромкие одобрительные возгласы. Впервые заговорил Арман — раскатистым басом:
— Эй, мистер, неплохо!
Губы Саммерса скривились, на лбу появилась сердитая морщина. Он резко ударил Армана в спину.
— Не разговаривай, идиот! Отправляйся и покажи ему!
Арман медленно двинулся вперёд. Он сказал:
— Эй, Ред, давай не слишком.
Лицо Саммерса исказилось от ярости.
— Отправляйся! И делай, что тебе сказано! Я тебе сказал, кто он такой. Если мы от него не избавимся, появятся новые. — Говорил он резким шёпотом, который не разносился далеко.
Арман вошёл в коридор и остановился лицом к Дэвиду.
Старр ждал, стараясь ни о чём не думать. Он сосредоточился на слабом потоке эмоций, которые транслировала венлягушка. Некоторые он распознавал без труда — и природу их, и владельца. Легче всего было выделить Реда Саммерса: страх и гложущая ненависть, смешанные с беспокойным торжеством. Воспринималось и лёгкое напряжение Армана. Изредка доносились волны возбуждения от одного или другого зрителя; иногда эти волны совпадали с возбуждённым или угрожающим криком, и тогда Дэвид узнавал владельца эмоции. И всё это, конечно, приходилось отделять от мощного потока гнева, шедшего от Верзилы.
Но теперь Старр смотрел в маленькие глазки Армана, который чуть покачивался вверх и вниз. Пальцы Армана лежали на приборах контроля на груди.
Дэвид немедленно насторожился. Его противник менял направление поля, передвигая шкалу вперёд и назад. Неужели он думает этим его запутать?
Старр ясно понимал, что, несмотря на весь свой опыт в космосе, он совсем незнаком с тем видом невесомости, что порождает аграв: это не абсолютная невесомость, как в космосе, её можно изменять по желанию.
Неожиданно Арман упал, будто в люк ловушки, — но только он падал вверх.
Когда ноги Армана пролетали мимо головы Счастливчика, они разошлись, как будто Арман собирался зажать ему голову.
Автоматически голова Старра откинулась назад, но при этом его ноги двинулись вперёд, тело повернулось вокруг центра тяжести, и мгновение он беспомощно бил руками и ногами. Со стороны зрителей долетела буря смеха.
Дэвид понимал, в чём дело. Он поступил неправильно. Ему следовало управлять тяготением. Когда Арман поднимается, он должен так отрегулировать приборы, чтобы тоже подниматься. Теперь придётся включить силу тяжести, чтобы выпрямиться. При невесомости он будет поворачиваться бесконечно.
Но прежде чем пальцы его легли на приборы, Арман достиг верхней точки своего подъёма и, набирая скорость, устремился назад. Он снова пролетел мимо Старра и резко ударил его локтем в бедро. Опускаясь, он схватил своими толстыми пальцами лодыжки Дэвида и потащил его за собой вниз. Продолжая тянуть вниз, он приподнялся и схватил Старра за плечи. Его хриплое дыхание шевельнуло волосы Счастливчика. Он сказал:
— Тебе нужно много тренироваться, мистер.
Старр резко поднял на высоту головы руки и вырвался.
Потом включил силу тяготения так, чтобы полететь вверх, и при этом резко оттолкнулся ногой от плеча противника. Самому ему казалось, что он падает головой вперёд; к тому же ему показалось, что его реакция замедлилась. Или медлительно реагируют приборы аграва? Он проверил их. Опыта не хватало, чтобы сказать уверенно, но он чувствовал, что что-то не так.
Теперь на него с рёвом набросился Арман, пытаясь при помощи своего большего веса прижать противника к стене.
Дэвид протянул руку к приборам, собираясь переменить направление тяготения. Поджал ноги, чтобы при столкновении отбросить Армана.
Но первым изменилось направление поля Армана, и отброшен оказался Старр.
Арман откинул назад ноги, оттолкнулся от пролетавшей мимо стены коридора, и оба они отлетели к противоположной стене. Счастливчик с силой ударился о стену и скользил по ней несколько футов, пока не зацепился ногой за опору и не развернулся обратно в коридор.
Арман горячо прошептал ему на ухо:
— Достаточно, мистер? Скажи Реду, что улетишь. Я не хочу слишком повредить тебе.
Дэвид покачал головой. Странно, подумал он: поле Армана каким-то образом подавляет его собственное. Арман переключил приборы, но Старр знал, что успел это сделать первым.
Неожиданно резко повернувшись, Счастливчик нацелился локтем в живот Армана. Арман рявкнул, и на мгновение ноги Старра оказались между ним и противником. Он распрямил их. Противники разъединились, и Дэвид высвободился.
Он отлетел за мгновение до того, как Арман вернулся, и в течение следующих нескольких минут Дэвид только старался уклониться. Он учился пользоваться приборами и видел, что они реагируют замедленно. И только благодаря искусному использованию опор и мгновенным поворотам ему удавалось избежать столкновения.
И вот, летя в невесомости, позволив Арману стремительно пронестись мимо, Старр притронулся к приборам контроля и обнаружил, что они вообще не действуют. Направление поля тяготения не изменилось; не было ни внезапного ускорения, ни замедления.
Арман немедленно оказался рядом, и Дэвид со страшной силой ударился о стену.
Глава 5
ИГОЛЬНЫЕ РУЖЬЯ И СОСЕДИ
Верзила был абсолютно уверен в способности Счастливчика справиться с огромным противником и, хотя и ощущал гнев из-за такого недружественного приёма, нисколько не опасался.
Саммерс подошёл к краю коридора; с ним был ещё один человек со смуглым лицом, который сообщал остальным об увиденном хриплым резким голосом, как комментатор игры в поло на субэфире.
Когда Арман в первый раз ударил Старра о стену, послышались торжествующие крики. Верзила с презрением отмахнулся от них. Конечно, эти кричащие глупцы постараются сделать вид, что поединок складывается в их пользу. Подождите пока Дэвид освоится с управлением агравом: он разрежет этого парня Армана на кусочки. Верзила был в этом уверен.
Но тут смуглый закричал:
— Арман вторично захватил ему голову; начал падение; ноги о стену; отскочил, нацелился — удар! Ну что за удар!
Верзила почувствовал тревогу.
Он сам подошёл к краю коридора. Никто не обратил на него внимания. Одно из преимуществ малого роста. Люди, не знающие тебя, склонны недооценивать, не считаться с тобой.
Верзила посмотрел вниз и увидел, как Дэвид отталкивается от стены; Арман в ожидании висел поблизости.
— Счастливчик! — громко закричал Верзила. — Осторожнее!
Голос его потерялся в шуме, но тут Верзила уловил приглушенный разговор смуглого и Саммерса.
Смуглый человек сказал:
— Дай ищейке немного энергии, Ред. Так неинтересно.
И Саммерс в ответ огрызнулся:
— Мне не нужно, чтобы было интересно. Хочу, чтобы Арман побыстрее закончил.
Вначале Верзила не понял значения этого короткого разговора, но только вначале. В следующее мгновение он пристально посмотрел на Рея Саммерса и увидел, что тот прижимает к груди какой-то предмет. Что это такое, Верзила определить не мог.
— Пески Марса! — воскликнул он, задыхаясь. И отскочил назад. — Ты! Саммерс! Лживый подонок!
В который раз Верзила обрадовался, что, несмотря на неодобрение Дэвида, носит с собой игольное ружье. Старр считал его ненадёжным оружием, так как его трудно точно нацелить, но Верзила скорее усомнился бы в своём высоком росте, чем в искусстве обращаться с оружием.
Когда Саммерс не обернулся в ответ на его крик, Верзила захватил оружие в кулак (ствол, сужавшийся до толщины иглы, всего лишь на полдюйма высовывался между указательным и средним пальцами его правой руки) и сжал достаточно для выстрела.
Одновременно в шести дюймах перед носом Саммерса что-то блеснуло, раздался лёгкий хлопок. Ионизированными оказались лишь молекулы воздуха. Саммерс, однако, отпрыгнул, и его страх тут же передала венлягушка.
— Эй, вы, все! — крикнул Верзила. — Всем стоять на месте! Вы, безголовые недоразвитые ничтожества! — Снова раздался хлопок, на этот раз над головой Саммерса. Вспышку увидели все.
Мало кто из них имел дело с игольным ружьем — это оружие дорогое, и на него трудно получить разрешение, — но все знали, хотя бы по субэфирным программам, как выглядит выстрел из него; знали, что может сделать такой разряд.
Как будто пятьдесят человек одновременно затаили дыхание.
Верзилу окутала холодная волна страха пятидесяти человек. Он попятился к стене.
И сказал:
— Теперь слушайте все. Кто из вас знает, что этот подонок Саммерс вывел из строя управление агравом моего друга? Схватка нечестная!
Саммерс отчаянно, сквозь сжатые зубы сказал:
— Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь.
— Да? Ты смел, Саммерс, когда пятьдесят против двух. Хватит ли тебе смелости против игольного ружья? Из него трудно прицеливаться, и я могу случайно попасть не туда, куда хочу.
Он снова сжал кулак, на этот раз хлопок был гораздо громче; все на мгновение ослепли — все, кроме Верзилы: он один знал, в какой момент зажмуриться.
Саммерс сдавленно крикнул. Он был невредим, не хватало только одной пуговицы на рубашке.
Верзила сказал:
— Хороший выстрел, но, мне кажется, слишком уж долго мне везет. Советую тебе не шевелиться, Саммерс. Притворись камнем, подонок, потому что, если ты шевельнешься, я промахнусь, и тогда ты потеряешь не пуговицу, а кусок тела.
Саммерс закрыл глаза. Лоб его блестел от пота. Верзила рассчитал расстояние и нажал дважды.
Хлопок! Ещё один! Ещё двух пуговиц не стало.
— Пески Марса, мне сегодня везет! Как хорошо, что вы позаботились нас встретить. Ну, ещё одну — на дорожку!
На этот раз Саммерс закричал от боли. В его рубашке образовалась дыра, в ней виднелась покрасневшая кожа.
— Ах — сказал Верзила, — не совсем точно. Теперь я расстроен и в следующем промахнусь на два дюйма… А может, ты скажешь что-нибудь, Саммерс?
— Ну, ладно, — закричал тот, — я это подстроил!
Верзила сказал спокойно:
— Твой человек тяжелее. Он опытнее, и всё равно ты не допустил честной схватки. Не хотел рисковать?.. Брось то, что держишь. С этого момента в коридоре честная схватка. Никто не двинется, пока из коридора не выйдет один из них.
Он помолчал и взглянул на свой кулак с зажатым игольным ружьем, ствол медленно поворачивался из стороны в сторону.
— Но если покажется ваш комок жира, я буду очень разочарован. А когда я разочарован, невозможно предсказать, как я поступлю. Я могу так расстроиться, что выстрелю прямо в толпу, и ничто в мире не может помешать мне десять раз сжать кулак. Так что если десяти из вас надоела жизнь, можете молиться, чтобы ваш парень побил Счастливчика Старра.
Верзила напряженно ждал, сжимая в правой руке игольное ружье, а в левой держа аквариум с венлягушкой. Ему хотелось приказать Саммерсу вызвать двоих из коридора, прекратить схватку, но он боялся рассердить Дэвида. Он слишком хорошо его знал и понимал, что тот не может допустить, чтобы схватка кончилась его выходом из боя.
Мимо них в коридоре промелькнула фигура, потом другая. Послышался удар тела о стену, второй удар, третий. Затем тишина.
Пролетела назад фигура, она держала вторую за ногу.
Первая легко вышла из коридора, вторая упала, как мешок с песком.
Верзила обрадованно вскрикнул. Стоял Старр. Щека его была исцарапана, он прихрамывал. Но лежал без сознания Арман.
Армана с некоторым трудом привели в себя. На голове у него была шишка размером с небольшой грейпфрут, один глаз распух и заплыл. Хотя из его нижней губы шла кровь, он с трудом улыбнулся и сказал:
— Клянусь Юпитером, этот парень — просто дикая кошка.
Он встал и обнял Дэвида медвежьим объятием.
— Как только он привык, я всё равно что с десятью схватился. Парень что надо.
Как ни удивительно, но собравшиеся радостно приветствовали Старра. Венлягушка вначале передавала чувство облегчения, затем возбуждение.
Улыбка Армана стала шире, он тыльной стороной руки вытер кровь.
— Этот член Совета в порядке. Если он кому не нравится, пусть дерётся со мной. Где Ред?
Но Ред Саммерс исчез. Инструмент, которым он вывел из строя прибор Дэвида, тоже.
Арман сказал:
— Послушайте, мистер Старр, вот что я вам скажу. Это была не моя идея, но Ред сказал, что мы должны от вас избавиться, иначе всем нам придётся плохо.
Старр поднял руку.
— Это ошибка. Послушайте, вы все. Я гарантирую, что ни у одного верного землянина не будет никаких неприятностей. Этой схватки не было. Немного повеселились и можем забыть. В следующий раз встречаемся, будто ничего не произошло. Согласны?
Все его шумно поддержали, послышались крики: «Всё в порядке!» и «Да здравствует Совет!»
Дэвид повернулся, собираясь уходить, когда Арман сказал:
— Эй, погодите. — Он перевел дыхание и показал на аквариум пальцем. — А это что? — Он показывал на венлягушку.
— Венерианское животное, — ответил Старр. — Наше домашнее животное.
— Хорошее. — Гигант улыбнулся.
Все столпились вокруг, делая одобрительные замечания, пожимали Дэвиду руку и уверяли, что отныне все на его стороне.
Верзила, рассерженный толчками, наконец закричал:
— Пошли к себе, Счастливчик, или я подстрелю несколько этих парней!
Все сразу замолчали и расступились, давая им дорогу.
Дэвид сморщился, когда Верзила приложил холодный компресс к его разбитой щеке.
И сказал:
— Я слышал что-то об игольном ружье, но не совсем понял, в чём дело. Не расскажешь ли, Верзила?
Верзила неохотно рассказал.
Старр задумчиво заметил:
— Я понял, что мой прибор не действует, но решил, что это результат механического повреждения после удара о стену. Не знал, что вы с Редом Саммерсом дерётесь из-за этого.
Верзила улыбнулся.
— Великий Космос, Счастливчик, ты ведь не думаешь, что я позволю так с тобой обращаться?
— Можно было воспользоваться другими средствами, не игольным ружьем.
— Больше ничего их не остановило бы, — удручённо ответил Верзила. — Ты хотел бы, чтобы я погрозил им пальцем и сказал: «Нехорошо, нехорошо!»? К тому же мне нужно было испугать их.
— Почему? — резко спросил Дэвид.
— Пески Марса, Счастливчик, я увидел это после двух столкновений и не знал, остались ли у тебя силы. Я хотел заставить Саммерса прекратить дуэль.
— Это было бы плохо, Верзила. Мы этим ничего бы не добились.
— Но я о тебе беспокоился.
— Не нужно было. Как только мои приборы начали реагировать нормально, всё пошло хорошо. Арман был уверен, что победил, и, когда обнаружил, что я ещё дерусь, вся сила его куда-то ушла. Это иногда случается с людьми, которые раньше никогда не проигрывали. Если они не побеждают сразу, это приводит их в смятение и они проигрывают.
— Да, Счастливчик, — ответил Верзила с улыбкой.
Старр минуты две сидел молча, потом сказал:
— Мне не понравилось это твоё «Да, Счастливчик». Что ты сделал?
— Ну… — Верзила нанес последний мазок телесной краски на ушиб и откинулся, критически разглядывая свою работу. — Я мог только надеяться, что ты победишь, верно?
— Да, вероятно.
— И я сказал всем, что, если победит Арман, я пристрелю столько, сколько смогу.
— Ты говорил несерьёзно.
— Может быть. Но они-то поверили; они видели, как я срезал четыре пуговицы с рубашки этого подонка. И вот все пятьдесят парней, включая самого Саммерса, изо всех сил захотели, чтобы Арман проиграл.
Дэвид сказал:
— Вот оно что…
— Но ведь я ничего не мог поделать с венлягушкой. Она передавала их желание.
— И Арман потерял всякую волю к борьбе. Его перекрыли мысли тех, кто желал, чтобы он проиграл. — Старр выглядел огорченным.
— Вспомни, Счастливчик. Тебя дважды ударили. Это была нечестная драка.
— Да, я знаю. Что ж, может, мне и правда нужна была помощь.
В этот момент прозвучал дверной сигнал, и Старр вопросительно приподнял брови.
— Интересно, кто это?
Он нажал кнопку, и дверь ушла в щель в стене.
Невысокий полный человек с редеющими волосами и голубыми глазами не мигая смотрел на них, стоя в двери. В одной руке он держал странно изогнутый металлический предмет, который непрерывно поворачивал проворными пальцами. Предмет время от времени начинал передвигаться вдоль руки, как будто обладал собственной жизнью. Верзила с интересом следил за ним.
Человек сказал:
— Меня зовут Гарри Норрич. Я ваш сосед.
— Добрый день, — ответил Дэвид.
— Вы Счастливчик Старр и Верзила Джонс, верно? Не хотите ли на несколько минут заглянуть ко мне? В гости. Немного выпьем.
— Вы очень добры, — сказал Дэвид. — Мы с радостью навестим вас.
Норрич как-то неловко повернулся и направился по коридору к соседней двери. Изредка он касался рукой стены. Старр и Верзила последовали за ним. Верзила нёс венлягушку.
— Входите, джентльмены. — Норрич отступил, пропуская их. — Садитесь. Я о вас много слышал.
— Что слышали? — спросил Верзила.
— О драке Старра с Большим Арманом, о том, как искусно владеет Верзила игольным ружьем. Все об этом говорят. Сомневаюсь чтобы к утру остался на Юпитере-9 хоть один человек который бы об этом не слышал. Это одна из причин моего приглашения. Я хочу с вами поговорить.
Он осторожно налил в два стакана красноватую жидкость и предложил гостям. На мгновение Дэвид протянул руку к стакану, остановил её в трёх дюймах и ждал результата. Ничего не произошло. Тогда он взял стакан из руки Норрича.
— Что это у вас на верстаке? — спросил Верзила.
В комнате Норрича, помимо обычной мебели, было что-то вроде верстака вдоль всей стены со скамьей перед ним. На верстаке в беспорядке были расставлены металлические приспособления и устройства, в центре находилось странное сооружение; шести дюймов в высоту.
— Это? — Норрич осторожно провёл рукой по поверхности верстака и задержал её на сооружении. — Это головоломка.
— Что?
— Трёхмерная головоломка. Японцы делают их тысячи лет, но в других местах они мало известны. Они состоят из множества частей, которые вместе составляют некую структуру. Вот эта, например, когда я её закончу, будет моделью генератора аграва. Я сам изобретаю и делаю эти головоломки.
Он взял металлическую деталь, которую держал в руке, и вложил в отверстие сооружения. Деталь вошла гладко и осталась на месте.
— Теперь нужно взять другую часть. — Его левая рука двинулась по поверхности, а правой он пошарил среди частей, нашёл одну и поставил её на место.
Верзила, заинтересованный, придвинулся ближе и тут же отпрыгнул, когда из-под верстака неожиданно послышалось звериное рычание.
Из-под верстака выбралась собака и положила передние лапы на скамью. Большая немецкая овчарка спокойно смотрела на Верзилу.
Тот нервно сказал:
— Эй, я наступил на неё случайно.
— Это всего лишь Мэтт, — ответил Норрич. — Он никого не тронет без серьёзной причины. Это моя собака. Мои глаза.
— Ваши глаза?
Дэвид негромко сказал:
— Мистер Норрич слеп, Верзила.
Глава 6
В ИГРУ ВСТУПАЕТ СМЕРТЬ
Верзила отскочил.
— Простите.
— Не извиняйтесь, — добродушно ответил Норрич. — Я привык и справляюсь. Я ведущий инженер и руковожу испытаниями. И мне не нужна помощь на работе, как и в сооружении головоломок.
— Вероятно, эти головоломки дают вам возможность потренироваться, — сказал Старр.
Верзила спросил:
— Вы собираете эти штуки, не видя их? Пески Марса!
— Это не так трудно, как можно подумать. Я упражняюсь много лет и сам их делаю, так что знаю все хитрости. Вот, Верзила, одна из самых простых. Просто яйцо. Можете разобрать его?
Верзила взял овоид из лёгкого сплава и начал вертеть его, разглядывая прилегающие друг к другу части.
— В сущности, — продолжал Норрич, — Мэтт мне нужен только для одного: для ходьбы по коридорам. — Он нагнулся, чтобы почесать собаку за ухом, и собака широко зевнула, обнажив большие белые клыки и длинный розовый язык. Дэвид через венлягушку ощутил поток теплой привязанности Норрича к собаке.
— Я не могу пользоваться аграв-коридорами, — продолжал Норрич, — потому что не знаю, когда нужно сбрасывать скорость, и мне приходится ходить по обычным коридорам, и Мэтт ведет меня. Идти долго, но это хорошее упражнение, и теперь мы с Мэттом знаем Юпитер-9 лучше всех, верно, Мэтт?.. Ну как, Верзила?
— Не могу, — ответил тот. — Оно сплошное.
— Нет. Дайте его мне.
Верзила протянул яйцо, и искусные пальцы Норрича скользнули по его поверхности.
— Видите вот этот маленький квадратик? Надо на него нажать, он немного поддается. Возьмитесь с другой стороны за выступившую часть, сделайте пол-оборота по часовой стрелке и вытащите. Вот так. Теперь остальное легко разделится. Вот это, потом это, потом это и так далее. Ставьте части в том порядке, в каком отделяете их. Их всего восемь. Соберите их в обратном порядке. Поставьте на место ключевую часть, и она будет держать вместе все остальные.
Верзила с сомнением посмотрел на разложенные части и склонился к ним.
Счастливчик сказал:
— Мне кажется, вы хотите поговорить об оказанном нам приёме, мистер Норрич. Вы сказали, что хотите поговорить о моей драке с Арманом.
— Да, член Совета, да. Я хочу, чтобы вы поняли. Я здесь, на Юпитере-9, с самого начала проекта «Аграв» и знаю людей. Некоторые улетают, когда кончается срок их контракта, их место занимают новички; другие остаются; но у всех у них есть нечто общее. Они чувствуют себя неуверенно.
— Почему?
— По нескольким причинам. Во-первых, сам проект опасен. У нас было с десяток несчастных случаев, и мы потеряли сотни людей. Я потерял зрение пять лет назад, и мне ещё повезло. Я мог погибнуть. Во-вторых, эти люди оторваны от семьи и друзей. Они по-настоящему одиноки.
Дэвид сказал:
— Вероятно, есть и такие, кому это одиночество нравится.
Он мрачно улыбнулся, говоря это. Не секрет, что люди, вступившие в столкновение с законом, иногда умудрялись скрыться на внешних мирах. Здесь, для работы на безвоздушных планетах, под куполами с псевдогравитацией, всегда нужны люди. И добровольцев обычно не расспрашивают. И в этом нет ничего плохого. Такие добровольцы служат Земле и её населению в трудных условиях и тем самым расплачиваются за свои преступления.
Норрич кивнул, услышав слова Старра.
— Я рад, что вы не заблуждаетесь на этот счёт. Если не считать военных и профессиональных инженеров, вероятно, половиной рабочих интересуется полиция Земли, а остальных разыскивают в других мирах. Не думаю, чтобы хоть один из пяти сообщал своё подлинное имя. Понимаете, как они себя чувствуют, когда начинается какое-нибудь расследование? Вы ищете сирианских шпионов; мы всё это знаем; но каждый думает, что в процессе расследования может выясниться его собственное дело и его отправят в тюрьму на Землю. Все они хотят вернуться на Землю, но анонимно, а не в наручниках. Поэтому Ред Саммерс смог их так легко поднять.
— А почему Саммерс их предводитель? У него особенно плохой послужной список на Земле?
Верзила на мгновение поднял голову от головоломок:
— Может быть, убийство?
— Нет, — энергично возразил Норрич. — Вам следует понять Саммерса. У него несчастливая жизнь: ни дома, ни настоящих друзей. Он связался не с теми людьми. Побывал в тюрьме, да, но за незначительные проступки. Если бы он остался на Земле, его жизнь была бы окончательно загублена. Но он прилетел на Юпитер-9. Начал здесь жизнь заново. Начинал как простой рабочий, но всё время учился. Стал специалистом в области строительства при низкой силе тяжести, а также в механике силовых полей и технике аграва. Занял высокое положение и прекрасно справляется с работой. Его здесь уважают, им восхищаются, его любят. Он понял, что такое репутация и положение в обществе, и ничего не боится больше, чем мысли о возвращении на Землю к старой жизни.
— Настолько боится, что попытался убить Счастливчика, — заметил Верзила.
— Да, — нахмурился Норрич, — я слышал, что он использовал субфазовый осциллятор, чтобы привести в негодность приборы управления агравом у члена Совета. Это глупо с его стороны, но он в панике. Послушайте, это очень добрый человек. Когда сдох мой старый Мэтт…
— Ваш старый Мэтт? — переспросил Старр.
— У меня была собака-поводырь до этой. Её тоже звали Мэтт. Она погибла при коротком замыкании силового поля. С ней погибло два человека. Собака не должна была там находиться, но иногда она уходила бродить. Эта тоже уходит, когда она мне не нужна, но всегда возвращается. — Он наклонился, погладил Мэтта, и собака закрыла глаза и застучала хвостом по полу.
— Так вот, после смерти старого Мэтта, казалось, нового мне не получить и придётся отправляться на Землю. Здесь я без неё бесполезен. Таких собак немного, за ними большая очередь. Администрация Юпитера-9 не хотела нажимать на свои пружины, потому что не хотела, чтобы стало известно, что в качестве инженера работает слепой. Конгрессмены всегда ждут чего-нибудь такого, чтобы поднять шум о неоправданных расходах. Но мне помог Саммерс. Он использовал свои земные связи и выписал сюда Мэтта. Не вполне законно, можно даже назвать это чёрным рынком, но Саммерс рискнул своим положением здесь, чтобы помочь мне, и я очень ему обязан. Надеюсь, вы будете помнить, что Саммерс способен и на такое, когда станете вспоминать сегодняшний инцидент.
Дэвид ответил:
— Я ничего не собираюсь предпринимать против него. И не собирался до нашего разговора. Я уверен, что Совету известно подлинное имя Саммерса и его досье, и ещё раз всё тщательно проверю.
Норрич вспыхнул.
— Конечно. Вы обнаружите, что он не так уж плох.
— Надеюсь. Но скажите мне кое-что. За всё время этого происшествия администрация ни разу не попыталась вмешаться. Не кажется ли вам это странным?
Норрич коротко рассмеялся.
— Вовсе нет. Не думаю, чтобы командующий Донахью расстроился, даже если бы вас убили. Правда, пришлось бы приложить немало усилий, чтобы замять это дело. У него здесь гораздо большие неприятности, чем вы и ваши расследования.
— Большие неприятности?
— Конечно. Глава проекта ежегодно сменяется: это армейская политика ротации. Донахью — шестой наш командующий и лучший из всех. Вынужден это признать. Он покончил с бюрократией и не пытался превратить проект в воинский лагерь. При нём стало посвободнее, и это принесло результаты. Первый аграв-корабль вскоре будет готов к старту. Говорят, через несколько дней.
— Так быстро?
— Может быть. Дело в том, что меньше чем через месяц командующего Донахью должны сменить. Задержка старта означала бы, что корабль взлетит уже при преемнике Донахью. И тот получит всю славу, попадет в исторические книжки, а Донахью совершенно забудут.
— Неудивительно, что он не хотел пускать тебя на Юпитер-9, — горячо сказал Верзила.
— Не кипятись, Верзила, — Счастливчик пожал плечами. Но Верзила продолжал:
— Грязный подонок! Ему не важно, что Сириус может проглотить Землю, лишь бы запустить свой несчастный корабль. — Он поднял сжатый кулак, и тут же послышалось ворчание Мэтта.
Норрич резко спросил:
— Что вы делаете, Верзила?
— Что? — Верзила был искренне удивлен. — Ничего не делаю.
— Будьте осторожней рядом с Мэттом. Он обучен оберегать меня… Смотрите, я вам покажу. Сделайте шаг ко мне и покажите, что хотите меня ударить.
Старр сказал:
— Не нужно. Мы понимаем…
— Пожалуйста, — сказал Норрич. — Это не опасно. Я его вовремя остановлю. Кстати, это для него будет неплохой тренировкой. Все здесь так обо мне заботятся, что, боюсь, он забыл своё обучение. Давайте, Верзила.
Верзила сделал шаг вперёд и нерешительно поднял руку. Мгновенно Мэтт прижал уши, обнажил клыки, мышцы его напряглись для прыжка, а из горла послышалось хриплое рычание.
Верзила торопливо отступил, а Норрич сказал:
— Лежать, Мэтт!
Собака подчинилась. Дэвид ясно различал, как нарастало и спадало напряжение Верзилы, ощущал мягкое торжество Норрича. Норрич спросил:
— Как дела с яйцом-головоломкой, Верзила?
Маленький марсианин раздраженно ответил:
— Сдаюсь. Сложил две части вместе и больше ничего не могу.
Норрич рассмеялся.
— Дело в тренировке, вот и всё. Смотрите.
Он взял из рук Верзилы две части и сказал:
— Неудивительно. Вы их неправильно сложили. — Он перевернул части, совместил их, добавил ещё одну, потом ещё, пока семь частей не превратились в овоид с дырой посередине. Норрич подобрал восьмую часть, ключевую, вставил её, сделал пол-оборота против часовой стрелки и протолкнул. — Готово.
Он подбросил яйцо в воздух и поймал на глазах у огорченного Верзилы.
Старр встал.
— Ну, мистер Норрич, до свидания. Я запомню ваши слова о Саммерсе и всем остальном. Спасибо за выпивку. — Она стояла на столе нетронутой.
— Рад был познакомиться, — ответил Норрич, вставая и пожимая руки.
Дэвид смог уснуть далеко не сразу. Он лежал в темноте комнаты в сотнях футов под поверхностью Юпитера-9, прислушивался к негромкому храпу Верзвды в соседней комнате и думал о событиях дня. Вспоминал их снова и снова.
Он был обеспокоен. Что-то было не так! Произошло что-то такое, что не должно было произойти; или не произошло то, что должно было произойти.
Но он устал, всё казалось нереальным в окружающем мире полусна. Что-то таилось на самом краю сознания. Он пытался ухватиться за него, но оно ускользало.
А утром от него не осталось и следа.
Верзила окликнул Дэвида из своей комнаты; он как раз просыхал под потоком теплого воздуха после душа.
Маленький марсианин крикнул:
— Эй, Счастливчик, я перезарядил источник двуокиси углерода в аквариуме венлягушки и добавил водорослей. Ты ведь возьмешь её с собой на встречу с этим чёртовым командующим?
— Обязательно, Верзила.
— Всё готово. А можно мне сказать командующему, что я о нём думаю?
— Ну послушай, Верзила…
— Ерунда! Мне пора в душ.
Подобно всем, кто вырос не на Земле, Верзила наслаждался водой, и душ для него был роскошью. Старр приготовился к сеансу тенорового мяуканья, которое Верзила называл пением.
Дэвид уже кончил одеваться, а Верзила был поглощен какой-то особенно фальшиво звучащей мелодией, когда зазвенел интерком.
Счастливчик подошёл к нему и включил.
— Старр слушает.
— Старр! — На экране показалось морщинистое лицо командующего Донахью. Губы его были сжаты, на лице откровенно враждебное выражение. — Я слышал что-то о драке между вами и одним из рабочих.
— Да?
— Вижу, вы невредимы.
Дэвид улыбнулся.
— Всё в порядке.
— Помните, я предупредил вас.
— Я не жалуюсь.
— Поскольку вы не жалуетесь, в интересах проекта я просил бы вас не сообщать об этом в своём отчете.
— Если только этот инцидент не имеет прямого отношения к моему поручению, я о нём не упомяну.
— Хорошо. — На лице Донахью отразилось облегчение. — Нельзя ли распространить это согласие и на нашу встречу? Она будет записываться, и я предпочел бы…
— Мы не будем обсуждать это дело, командующий.
— Очень хорошо! — Командующий расслабился и почти сердечно сказал: — Встретимся через час.
Старр смутно сознавал, что прекратился шум душа, пение сменилось приглушенным бормотанием. Но вот и оно смолкло, на мгновение наступила тишина.
Он ответил в передатчик:
— Да, командующий, хорошо… — и тут же услышал дикий вопль:
— Дэвид!
Старр мгновенно вскочил и в два шага оказался у двери, соединяющей комнаты.
Но Верзила появился там раньше, глаза его были полны ужаса.
— Дэвид! Венлягушка! Она мертва! Кто-то её убил!
Глава 7
В ИГРУ ВСТУПАЕТ РОБОТ
Пластиковый аквариум лягушки был разбит и смят, пол залит водой. Труп венлягушки лежал среди перепутавшихся водорослей.
Теперь, когда она была мертва и не могла контролировать эмоции, Дэвид смотрел на неё без навязанной нежности, которую он, как и все остальные, ощущал, попадая в радиус её действия. Напротив, он испытывал гнев — главным образом на самого себя за то, что позволил себя переиграть.
Верзила, только что из душа, в одних шортах, сжимал и разжимал кулаки.
— Это моя вина! Моя вина. Я вопил в душе так громко, что не слышал, как кто-то вошёл.
Слово «вошёл» не вполне подходило. Убийца не просто вошёл — он прожег себе вход. Дверной замок расплавился под действием энергетического проектора очень крупного калибра.
Дэвид вернулся к интеркому.
— Командующий Донахью?
— Да, что случилось? Всё ли в порядке?
— Увидимся через час. — Старр отключился и вернулся к опечаленному Верзиле. Он сказал серьёзно:
— Виноват я, Верзила. Дядя Гектор сказал, что сирианцы ещё не знают о телепатическом воздействии венлягушек, и я слишком легко в это поверил. Если бы я не так верил в неведение сирианцев, один из нас ни на минуту не выпускал бы из виду это маленькое существо.
Их позвал лейтенант Невски. Когда Старр и Верзила вышли из своего помещения, лейтенант вытянулся.
Он негромко сказал:
— Я рад, сэр, что вы не пострадали во вчерашнем происшествии. Я не оставил бы вас, сэр, если бы вы сами не приказали.
— Забудьте об этом, лейтенант, — с отсутствующим видом ответил Дэвид.
Он думал о том моменте перед сном, когда на короткое мгновение на пороге сознания возникла мысль, а потом исчезла. Но сейчас она не возвращалась, и он в конце концов стал думать о другом.
Они вошли в аграв-коридор, который на этот раз оказался заполнен людьми, точно и беззаботно двигавшимися в обоих направлениях. Во всем чувствовалась атмосфера начала рабочего дня. Люди работали под землей, где нет смены дня и ночи, по двадцатичетырёхчасовому расписанию. Во все миры, куда он попадал, человек приносит с собой земные сутки. И, хотя работа идёт круглосуточно, больше всего работает людей во время «дневной смены» — с девяти до пяти по стандартному солнечному времени.
Было почти девять, и коридоры были забиты людьми, спешащими на свои рабочие места. Утро чувствовалось почти так же сильно, как если бы на восточном горизонте вставало солнце и на траве лежала роса.
Когда Старр и Верзила вошли в конференц-зал, за столом сидели двое. Один — командующий Донахью, на его морщинистом лице застыло выражение сдержанного напряжения.
Командующий встал и холодно представил второго присутствующего:
— Джеймс Пеннер, главный инженер и гражданский глава проекта.
Пеннер оказался коренастым человеком со смуглым лицом, глубоко посаженными тёмными глазами и толстой шеей. На нём была тёмная рубашка с открытым воротом и без всяких знаков различия.
Лейтенант Невски отсалютовал и вышел. Командующий подождал, пока он закроет дверь, и сказал:
— Поскольку мы остались вчетвером, перейдем к делу.
— Вчетвером и с кошкой, — заметил Дэвид, гладя котенка, который потягивался, выпуская коготки, на столе. — Это та же кошка, что мы видели вчера?
Командующий нахмурился.
— Может быть. А может, и нет. У нас на спутнике их несколько. Однако, я полагаю, мы собрались не для того, чтобы говорить о домашних животных.
Старр ответил:
— Напротив, командующий. Я не зря выбрал для начала эту тему. Вы помните наше домашнее животное, сэр?
— Ваше венерианское существо? — с неожиданной теплотой спросил командующий. — Помню. Это… — Он смущенно смолк, не понимая, что могло вызвать его неожиданный энтузиазм.
— Маленькое венерианское существо, — сказал Дэвид, — обладает особыми свойствами. Оно отыскивает эмоции. Оно может передавать эмоции. И даже навязывать их.
Глаза командующего широко раскрылись, но Пеннер хрипло заметил:
— Я слышал об этом эффекте, член Совета. Были слухи, до смешного наивные.
— Это вовсе не смешно. Это правда. В сущности, командующий Донахью, на этом совещании я собирался просить вас организовать мне встречу с каждым участником проекта в присутствии венлягушки. Мне нужно было проанализировать эмоции людей.
Командующий удивленно спросил:
— Что бы это вам дало?
— Может быть, ничего. Но я хотел попробовать.
Вмешался Пеннер:
— Хотели попробовать? Вы использовали прошедшее время, член Совета Старр.
Дэвид серьёзно посмотрел на двух высших руководителей проекта.
— Моя венлягушка мертва.
Верзила яростно добавил:
— Её убили сегодня утром.
— Кто её убил? — спросил командующий.
— Мы не знаем.
Командующий откинулся в кресле.
— Значит, ваше расследование откладывается, поскольку это существо невозможно заменить.
Старр ответил:
— Ждать не будем. Сам факт этой смерти сказал мне очень многое, и ситуация становится всё более серьёзной.
— Что вы этим хотите сказать?
Все смотрели на Дэвида. Даже Верзила удивленно смотрел на нет.
Он сказал:
— Я вам говорил, что венлягушка способна навязывать эмоции. Вы сами, командующий Донахью, испытали это. Вспомните, что вы почувствовали, впервые увидев вчера венлягушку. Вы находились в напряженном состоянии, но когда вы увидели венлягушку… что вы почувствовали?
— Мне это существо понравилось, — командующий смолк.
— А почему? Попробуйте ответить сейчас.
— Не знаю. Уродливое создание.
— Но оно вам понравилось. Вы с этим ничего не могли сделать. Вы могли бы причинить ему вред?
— Вероятно, нет.
— Я уверен, что не смогли бы. Никто испытывающий эмоции этого бы не сделал. Но кто-то сделал. Кто-то убил.
Пеннер спросил:
— Вы можете объяснить этот парадокс?
— Очень легко. Убил тот, кто не испытывает эмоций. Такого человека нет. Но робот эмоций не испытывает. Предположим, на Юпитере-9 находится робот, механический человек.
— Гуманоид? — взорвался командующий Донахью. — Невозможно. Они есть только в волшебных сказках.
Старр сказал:
— Вероятно, командующий, вы не осведомлены, какого искусства достигли сирианцы в сооружении роботов. Они могли бы использовать одного из участников проекта, верного человека, в качестве модели; соорудить робота с его внешностью и подменить этого человека. Такой гуманоидный робот обладал бы особыми свойствами, которые превращают его в идеального шпиона. Он может, например, видеть в темноте или сквозь материю. И, конечно, с помощью встроенного передатчика сможет передавать информацию в субэфире.
Командующий покачал головой.
— Нелепо. Человек может легко убить венлягушку. Если он в отчаянном положении, страх победит… умственное воздействие этого существа. Вы об этом подумали?
— Да, — ответил Дэвид. — Но почему человек может оказаться в таком отчаянном положении, чтобы убить безвредную венлягушку? Самая очевидная причина — венлягушка представляет для него серьёзную опасность, она совсем не безвредна. Единственная опасность со стороны венлягушки связана с её способностью воспринимать и передавать эмоции убийцы. Возможно, эти эмоции сразу покажут, что убийца шпион.
— Но как это может быть? — спросил Пеннер.
Старр повернулся и взглянул на него.
— А что, если у нашего убийцы вообще нет эмоций? Разве человек, не испытывающий эмоций, не будет сразу раскрыт как робот?.. Или посмотрим с другой стороны. Зачем убивать венлягушку? Он незаметно проник в наше помещение, застал одного из нас в душе, другого у интеркома, оба мы ничего не подозревали, не были готовы. Почему он убил не нас, а маленькую венлягушку? Почему не убил и нас, и венлягушку?
— Вероятно, не было времени, — сказал командующий.
— Возможна другая, более правдоподобная причина, — сказал Дэвид. — Вы знаете о Трёх законах роботехники, правилах поведения, которым следует любой робот?
— В общих чертах знаю, — ответил командующий. — Но процитировать не смог бы.
— Я могу, — сказал Старр. — И, с вашего разрешения, сделаю это: они имеют прямое отношение к делу. Первый закон: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон: робот должен повиноваться командам, которые даёт ему человек, кроме тех случаев, когда эти команды противоречат Первому закону. Третий закон: робот должен заботиться о своей безопасности постольку, поскольку это не противоречит Первому и Второму законам.
Пеннер кивнул.
— Ну хорошо, член Совета, что же это доказывает?
— Роботу можно приказать убить венлягушку, потому что она животное. При этом он рискует своим существованием — Третий закон, но подчиняется приказу — Второй закон. Но ему нельзя приказать убить Верзилу или меня, потому что мы люди, а Первый закон превыше всех остальных. Человек убил бы и нас, и венлягушку; робот убивает только венлягушку. Всё указывает в одном направлении, командующий.
Командующий надолго задумался, сидя неподвижно; морщины на его лице углубились. Потом он сказал:
— Что же вы предлагаете делать? Просветить всех участников проекта рентгеном?
— Нет, — сразу ответил Дэвид. — Это не так просто. Успешный шпионаж происходит повсюду. Если здесь есть гуманоидный робот, такие же роботы есть, по-видимому, и в других местах. Нам нужно захватить их как можно больше; всех, если сумеем. Если мы слишком открыто схватим одного, остальных могут тут же убрать и использовать в другое время.
— Но что же вы предлагаете?
— Действовать не торопясь. Мы заподозрили существование робота. Есть способы заставить его выдать себя. И начинаю я не с пустого места. Например, командующий, я знаю, что вы не робот, поскольку вчера тестировал ваши эмоции. В сущности, я сознательно рассердил вас, чтобы проверить свою венлягушку, и прошу у вас за это прощения.
Лицо командующего приобрело лиловый оттенок.
— Я робот?!
— Я сказал, что только испытывал свою венлягушку.
Пеннер сухо заметил:
— Но во мне вы не уверены, член Совета. Я вашу венлягушку не видел.
— Совершенно верно, — ответил Старр. — С вас подозрение не снято. Снимите рубашку!
— Что? — негодующе воскликнул Пеннер. — Зачем?
Дэвид спокойно ответил:
— Подозрение с вас только что снято. Робот просто выполнил бы приказ.
Командующий стукнул кулаком по столу.
— Прекратите! Это должно кончиться немедленно! Я не позволю вам испытывать своих людей любым способом. У меня есть задание, член Совета Старр: мне нужно поднять в космос аграв-корабль, и я подниму его. Моих людей неоднократно проверяли, они чисты. Ваша история с роботом — нелепая выдумка, и я не собираюсь её дальше слушать. Я сказал вам вчера, Старр, что не хочу вашего появления на спутнике. Вы мешаете моим людям, беспокоите их. Вы сочли возможным вчера оскорбить меня. Теперь говорите, что просто проверяли своё животное, но от этого оскорбление не становится меньшим. Я не чувствую желания сотрудничать с вами и не буду этого делать. Сейчас я вам скажу, что сделаю. Я прерву всякую связь с Землей. Объявлю на Юпитере-9 чрезвычайное положение. С этого момента я военный диктатор Юпитера-9. Вы поняли?
Глаза Старра чуть сузились.
— Как член Совета Науки, я старше вас по должности.
— А как вы намерены этим воспользоваться? Мои люди подчиняются мне, они уже получили приказы. Если вы попытаетесь что-нибудь сделать, вас арестуют, и вы не сможете ни словом, ни делом помешать мне.
— А каковы эти приказы?
— Завтра, в шесть часов по стандартному солнечному времени, первый экспериментальный аграв-корабль отправится в полёт с Юпитера-9 на Юпитер-1, то есть на Ио, — сказал командующий Донахью. — После нашего возвращения — после, член Совета Старр, и ни на одну минуту раньше — вы сможете продолжить своё расследование. И если свяжетесь с Землей и потребуете трибунала, я готов.
Командующий Донахью смотрел на Старра.
Дэвид спросил у Пеннера:
— Корабль готов?
— Да.
Донахью презрительно сказал:
— Мы вылетаем завтра. Ну, член Совета Старр, вы подчинитесь или я должен приказать арестовать вас?
Последовала напряженная тишина. Верзила буквально затаил дыхание. Командующий сжимал и разжимал кулаки, нос его побелел и заострился. Пеннер медленно достал из кармана рубашки жевательную резинку, разорвал пластифолевую оболочку и сунул резинку в рот.
Дэвид хлопнул в ладоши, откинулся в кресле и сказал:
— Рад буду сотрудничать с вами, командующий.
Глава 8
СЛЕПОТА
Верзила мгновенно рассердился.
— Счастливчик! Ты позволишь им запретить тебе вести расследование?
Тот ответил:
— Не совсем. Мы будем находиться на борту аграв-корабля и там продолжим расследование.
— Нет, сэр, — отрезал командующий. — Вас на борту не будет. Ни на минуту.
Дэвид спросил:
— А кто будет на борту, командующий? Вы сами, вероятно?
— Да, я. И Пеннер как главный инженер. Два моих офицера, пять инженеров и пять обычных членов экипажа. Все отобраны заранее. Мы с Пеннером — как главы проекта; пять инженеров — вести корабль; остальные — в знак благодарности за службу.
Старр задумчиво спросил:
— Что за служба?
Вмешался Пеннер, сказав:
— Лучший пример того, о чём говорит командующий, это Гарри Норрич, который…
Верзила застыл от удивления.
— Это тот слепой парень?
— Вы знаете его? — спросил Пеннер.
— Познакомились вчера вечером, — объяснил Счастливчик.
— Норрич здесь с самого начала проекта, — продолжал Пеннер. — Потерял зрение, бросившись между двумя контактами, чтобы не дать полю свернуться. Пять месяцев провёл в больнице: не удалось восстановить только зрение. Если бы не его храбрость, из спутника вырвало бы кусок размером с гору. Он спас жизни двухсот человек и сам проект: серьёзный несчастный случай в самом начале строительства сделал бы невозможными дальнейшие ассигнования со стороны Конгресса. Это и дало ему место в первом полёте аграв-корабля.
— Жаль, что он не сможет близко увидеть Юпитер, — сказал Верзила. Но тут глаза его сузились. — А как он будет передвигаться по кораблю?
— Мы, конечно, возьмем с собой и Мэтта, — ответил Пеннер. — Очень воспитанная собака.
— Это всё, что мне нужно знать, — горячо сказал Верзила. — Если вы берёте с собой собаку, можете взять и нас со Старром.
Командующий Донахью нетерпеливо взглянул на часы. Положил руки на стол и сделал вид, будто собирается встать.
— Мы закончили, джентльмены.
— Не совсем, — сказал Счастливчик. — Нужно выяснить один небольшой вопрос. Верзила выразился грубовато, но он совершенно прав. Мы с ним будем на аграв-корабле в момент старта.
— Нет, — ответил Донахью. — Это невозможно.
— Неужели добавочная масса двух человек так затруднит управление кораблем?
Пеннер рассмеялся.
— Да мы можем прихватить с собой гору.
— Может, не хватает места?
Командующий с открытой неприязнью смотрел на Дэвида.
— Я не собираюсь объяснять вам причины. Вы не полетите, потому что таково моё решение. Ясно?
В глазах его мелькнул мстительный огонек, и Старру нетрудно было догадаться, что он сводит счёты за приём на борту «Метеора».
Дэвид спокойно сказал:
— Вам лучше взять нас с собой, командующий.
Донахью сардонически улыбнулся.
— Почему? Иначе меня освободят от должности по приказу Совета Науки? Вы не сможете связаться с Землей до моего возвращения; а потом пусть освобождают.
— Мне кажется, вы не всё продумали, командующий, — сказал Старр. — Вас освободят от должности приказом, имеющим обратную силу. Заверяю вас, так и будет сделано. Во всех документах будет сообщаться, что первый полёт аграв-корабль совершил не под вашей командой, а под командой вашего преемника. Будет сделано официальное сообщение, что вы на борту не находились.
Командующий Донахью побледнел. Он встал; на мгновение показалось, что он бросится на Старра.
Тот спросил:
— Ваше решение, командующий?
Голос Донахью казался неестественным:
— Вы полетите.
Остаток дня Дэвид провёл в архиве, изучая досье людей, занятых в проекте, а Верзилу под присмотром Пеннера водили из лаборатории в лабораторию и от одного испытательного стенда к другому.
Только после ужина, вернувшись в свои помещения, они остались наедине. То, что Старр молчал, было неудивительно: он никогда не отличался разговорчивостью; но между глаз его пролегла маленькая складка. Верзила знал, что это признак сосредоточенности.
Он спросил:
— Есть какие-нибудь успехи?
Дэвид покачал головой.
— Должен признаться, ничего интересного.
Он прихватил с собой из библиотеки книгофильм, и Верзила разглядел название: «Современная роботехника». Счастливчик начал методично просматривать фильм.
Верзила нетерпеливо заерзал.
— Ты будешь смотреть его до конца?
— Боюсь, что да, Верзила.
— Ничего, если тогда я пойду к Норричу?
— Иди. — Старр на мгновение оторвался от фильма и снова склонился к нему. Руки его были скрещены на груди.
Верзила закрыл за собой дверь и на мгновение остановился. Он слегка нервничал. Он знал, что сначала нужно бы обсудить с Дэвидом, но искушение…
Он сказал себе: «Я ничего не собираюсь делать. Просто кое-что проверю. Если я ошибся, значит, ошибся, и ни к чему беспокоить Счастливчика. Но если я прав, то у меня будет что ему сказать».
Он позвонил, дверь сразу открыли. Норрич — его слепые глаза были направлены на дверь — сидел за столом с шахматной доской и необычными фигурами.
Он сказал:
— Да?
— Это Верзила, — сказал маленький марсианин.
— Верзила! Входите. Садитесь. Член Совета Старр с вами?
Дверь закрылась, и Верзила осмотрел ярко освещенную комнату. Губы его сжались.
— Он занят. А с меня хватит на сегодня аграва. Меня водил доктор Пеннер, но я вряд ли что понял.
— Вы не один такой, но, если отбросить математику, основной принцип понять нетрудно.
— Да? Не хотите ли объяснить? — Верзила сел в большое кресло и принялся рассматривать верстак Норрича. Под ним лежал Мэтт, положив голову на лапы и не отрывая взгляда от Верзилы.
«Пусть себе говорит, — думал Верзила. — Пусть говорит, а я найду возможность».
— Ну, слушайте, — сказал Норрич. Он взял одну круглую фигуру. — Тяготение есть одна из форм энергии. Вот такой предмет, какой я держу, находится под действием гравитационного поля; если ему не дать двигаться, говорят, что он обладает потенциальной энергией. Если я его выпущу, эта потенциальная энергия преобразуется в движение — это называется кинетической энергией. Под действием поля тяготения он будет падать всё быстрее и быстрее. — Он выпустил фигуру, и та упала.
— Пока — бах! — сказал Верзила.
Фигура ударилась о пол и откатилась.
Норрич наклонился, как будто хотел её подобрать, но потом сказал:
— Не достанете ли её, Верзила? Я не уверен, куда она откатилась.
Верзила сдержал своё разочарование. Он поднял фигуру и дал её Норричу.
Тот сказал:
— До недавнего времени это была единственная возможность преобразования потенциальной энергии — превращение её в кинетическую. Конечно, и кинетическую энергию можно использовать. Например, водопад Ниагара производит электричество, но это совсем другое дело. В космосе гравитация вызывает только движение. Возьмем систему спутников Юпитера. Мы на Юпитере-9, на краю системы. В пятнадцати миллионах миль от центра. По отношению к Юпитеру мы обладаем гигантским количеством потенциальной энергии. Если мы попытаемся перебраться на Юпитер-1 — спутник Ио, который всего в двухстах восьмидесяти пяти тысячах миль от Юпитера, мы должны будем падать много миллионов миль. При этом мы приобретем огромную скорость, и, чтобы этого не случилось, нам пришлось бы с помощью гиператомного двигателя замедлять движение, направляя импульс в противоположную сторону Для этого нужно очень много энергии. И если мы хоть немного промахнемся, то будем продолжать падать — в сторону вполне конкретного места, к самому Юпитеру. А это означает верную смерть. Даже если мы благополучно приземлимся на Ио возникает проблема возвращения на Юпитер-9: нам придётся подниматься на миллионы миль, преодолевая чудовищное притяжение Юпитера. Чтобы совершать полёты меж спутниками Юпитера, нужна очень большая энергия.
— А аграв? — спросил Верзила.
— Ага! Это совсем другое дело. С помощью конвертера аграва потенциальная энергия может превращаться в другие виды энергии, помимо кинетической. В аграв-коридоре, например, сила тяготения в одном направлении используется для поддержания гравитационного поля в другом направлении. Люди, двигающиеся в одном направлении, снабжают энергией тех, кто движется в противоположном. Таким образом, пользуясь этой энергией, вы падаете, но ваша скорость не растет. Вы можете даже передвигаться со скоростью, меньшей скорости падения. Понятно?
Верзила не был в этом уверен, но сказал:
— Продолжайте.
— В космосе всё по-другому. Тут нет второго поля тяготения, куда можно переместить энергию. Энергия преобразуется в гиператомное поле и запасается. Таким образом, корабль может переместиться от Юпитера-9 на Ио с любой скоростью, меньшей скорости падения, и при этом ему не нужна энергия для замедления. Вообще никакая энергия не нужна, за исключением той, которая используется для уравнивания скорости с орбитальной скоростью Ио. И полная безопасность, так как корабль всё время под контролем. В случае необходимости тяготение Юпитера может быть совсем нейтрализовано. Возвращение на Юпитер-9, конечно, требует энергии. Это обязательно. Но теперь можно использовать энергию, запасенную в конденсаторах гиператомного поля. Энергия гравитационного поля Юпитера теперь будет выталкивать вас из его поля.
Верзила сказал:
— Звучит неплохо. — Он поёрзал в кресле. Так он ни к чему не придёт. Неожиданно он спросил:
— Что это у вас на столе?
— Шахматы, — ответил Норрич. — Играете?
— Немного, — признался Верзила. — Меня научил Счастливчик, но с ним играть неинтересно. Он всегда выигрывает. — И небрежно спросил: — А вы как играете в шахматы?
— Будучи слепым?
— Гм…
— Ничего. Я не обижаюсь… Объяснить легко. Доска намагничена, фигуры из лёгкого металлического сплава, они не упадут и не сдвинутся, если я их случайно задену. Попробуйте, Верзила.
Верзила взялся за одну фигуру. Она подавалась так, будто застряла в густом сиропе, потом высвободилась.
— И вы видите, — продолжал Норрич, — что это не совсем обычные шахматные фигуры.
— Больше похоже на шашки, — согласился Верзила.
— Это чтобы я их не сбивал. Но они не совсем плоские. На них вырезаны рисунки, которые я легко могу нащупать. С другой стороны, они напоминают обычные шахматные фигуры, и те, кто играет со мной, привыкают в считаные минуты. Посмотрите сами.
Действительно, Верзила понял легко. Круг с выступами, очевидно, ферзь, крест в центре другой фигуры — король. Шашки с параллельными наклонными чёрточками — слоны, квадрат — ладья, заостренные конские уши — кони, а круглые шашки без рисунка — пешки.
Верзила почувствовал, что зашёл в тупик.
— А что вы сейчас делали? Играли с собой?
— Нет, решал задачу. Фигуры расставлены таким образом, что есть один и только один способ выигрыша белых в три хода, и я пытаюсь найти этот способ.
Верзила неожиданно спросил:
— А как вы отличаете белых от чёрных?
Норрич рассмеялся.
— Приглядитесь внимательней. У белых фигур канавки по краю, у чёрных нет.
— Ага. Значит, вы просто запоминаете расположение фигур?
— Это нетрудно, — ответил Норрич. — Может показаться, что для этого нужна фотографическая память, на самом же деле мне просто нужно каждый раз проводить рукой по доске. Заметьте, что клетки тоже разделены канавками.
Верзила дышал с трудом. Он забыл о квадратах доски: они действительно были разделены бороздками. Ему казалось, что он сам ведёт шахматную партию и проигрывает.
— Не возражаете, если я посмотрю? — спросил он. — Может, найду нужный ход.
— Пожалуйста, — ответил Норрич. — Может, подскажете. Я сижу уже с полчаса и начинаю злиться.
Наступило молчание. Немного погодя Верзила встал; тело его было напряжено, он старался двигаться совершенно бесшумно. Одним движением достал из кармана фонарик и подошёл к стене. Норрич не менял своей позы над доской. Верзила бросил быстрый взгляд на Мэтта. Собака тоже не шевелилась.
Верзила поднял руку и, сдерживая дыхание, бесшумно выключил свет. Мгновенно стало абсолютно темно.
Верзила помнил, в каком направлении находится Норрич. Он посветил фонариком, услышал негромкий топот, а потом удивленный и слегка недовольный голос Норрича:
— Зачем вы выключили свет, Верзила?
— Вы себя выдали! — торжествующе закричал Верзила. Он осветил фонариком широкое лицо Норрича. — Вы совсем не слепы, вы шпион.
Глава 9
АГРАВ-КОРАБЛЬ
Норрич воскликнул:
— Не знаю, что вы делаете, но, ради космоса, не делайте резких движений: Мэтт может броситься на вас!
— Вы хорошо знаете, что я делаю, — ответил Верзила, — потому что видите: на вас направлено игольное ружье. Вы, наверно, слышали, что я стреляю метко. Если ваша собака сделает шаг ко мне, я её прикончу.
— Не трогайте Мэтта. Пожалуйста!
Верзилу смутила боль в голосе Норрича. Он сказал:
— Пусть сидит спокойно, и я его не трону. Мы увидимся со Старром. И если встретим кого-нибудь в коридоре, не говорите ничего, кроме «Добрый вечер». Я иду сразу за вами.
Норрич сказал:
— Я не могу идти без Мэтта.
— Можете, — ответил Верзила. — Всего пять шагов по коридору. Даже если вы и в самом деле слепы, сможете пройти.
Ведь головоломки собирать можете?
При звуке открывшейся двери Дэвид оторвался от книгофильма и поднял голову.
— Добрый день, Норрич. Где Мэтт?
Верзила заговорил, прежде чем Норрич ответил:
— Мэтт в комнате Норрича, и Норричу он не нужен. Пески Марса, Счастливчик, Норрич слеп не больше нас с тобой!
— Что?
Норрич начал:
— Ваш друг ошибается, мистер Старр. Я хочу сказать…
Верзила выпалил:
— Заткнитесь! Я буду говорить, а вы ответите, когда вас попросят.
Старр сложил руки.
— Если не возражаете, мистер Норрич, я хотел бы послушать, что хочет сказать Верзила. И, кстати, Верзила, убери ружье.
С недовольным выражением лица Верзила послушался. Он сказал:
— Понимаешь, Счастливчик, я с самого начала заподозрил этого подонка. Эти головоломки заставили меня призадуматься. Он слишком хорошо с ними справляется. Я сразу подумал, что он и есть шпион.
— Вы вторично называете меня шпионом! — воскликнул Норрич. — Я этого не потерплю.
— Слушай, Дэвид, — продолжал Верзила, не обращая внимания на слова Норрича, — очень хитро придумано: его считают слепым. Он может увидеть всё, что захочет, и никто не подумает, что он видит. От него не будут скрываться. Не будут ничего прятать. Он может смотреть прямо на самый важный документ, а они подумают: «Это всего лишь бедняга Норрич. Он ничего не видит». Больше того, о нём вообще не подумают. Пески Марса, для шпиона это просто отличное укрытие.
Норрич с каждым моментом выглядел всё более удивленным.
— Но я действительно слеп. А что касается головоломок и шахмат, я объяснил…
— Конечно, объяснили, — презрительно ответил Верзила. — Вы уже много лет объясняете. А почему вы сидите в своей комнате в одиночестве и при свете? Когда я с полчаса назад вошёл, Дэвид, свет горел. Он не зажёг его для меня. Выключатель слишком далеко от него. Почему?
— А почему бы и нет? — ответил Норрич. — Мне всё равно, но я сижу при свете для удобства тех, кто ко мне приходит, как вы.
— Ну хорошо, — сказал Верзила, — он может всему придумать объяснение: как играть в шахматы, как различать фигуры — всё. Однажды он чуть не забылся. Уронил фигуру и наклонился, чтобы подобрать её, но вовремя опомнился и попросил меня подобрать.
— Обычно я по звуку определяю, куда что-нибудь упало. Но фигура покатилась.
— Давайте объясняйте, — сказал Верзила. — Это вам не поможет, потому что одно вы объяснить не сможете. Счастливчик, я решил проверить его. Хотел тихонько выключить свет и посветить ему в глаза фонариком. Если он не слеп, то подпрыгнет или мигнет — как-нибудь себя выдаст. Я был уверен, что прижму его. Но мне даже и этого не понадобилось. Как только я выключил свет, бедняга забылся и спросил: «Зачем вы выключили свет?..» Но откуда он знал, что я выключил свет? Откуда?
— Но… — начал Норрич.
Верзила продолжал:
— Он может на ощупь различать шахматные фигуры и собирать головоломки и всё прочее, но определить на ощупь, светло или нет, нельзя. Он должен это видеть.
Дэвид сказал:
— Я думаю, пора предоставить слово мистеру Норричу.
Норрич ответил:
— Благодарю вас. Я слеп, член Совета, но моя собака не слепа. Когда я вечером выключаю свет, для меня это безразлично, но для Мэтта это сигнал ложиться спать, и он отправляется на свою подстилку. Я слышал, как Верзила на цыпочках подошёл к стене в направлении выключателя. Он старался двигаться беззвучно, но человек, который слеп уже пять лет, слышит и шаги на цыпочках. Когда он остановился, я услышал, как Мэтт направился в свой угол. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, что случилось. Верзила стоял у выключателя, а Мэтт направился спать. Очевидно, Верзила выключил свет.
Инженер повернул своё искаженное ненавистью лицо вначале в сторону Верзилы, потом Старра, как будто ожидал ответа.
Дэвид сказал:
— Да, понимаю. Похоже, мы должны извиниться перед вами.
Маленькое лицо Верзилы несчастно сморщилось.
— Но, Счастливчик…
Тот покачал головой.
— Оставь, Верзила! Никогда не цепляйся за теорию, если она не подтверждается. Надеюсь, вы поймете, мистер Норрич, что Верзила делал только то, что считал своим долгом.
— Я хотел бы, чтобы он сначала задавал вопросы, а потом действовал, — холодно ответил Норрич. — Я могу идти? Не возражаете?
— Пожалуйста. Но у меня официальная просьба: никому не рассказывайте о происшедшем. Это очень важно.
Норрич ответил:
— Вообще-то это похоже на арест без законных оснований, но пусть. Не буду об этом говорить. — Он направился к двери, безошибочно отыскал сигнальную плиту и вышел.
Верзила сразу же повернулся к другу.
— Это хитрость? Ты не должен был выпускать его.
Старр оперся подбородком на руку; его спокойные карие глаза были задумчивы.
— Нет, Верзила, он не тот человек, которого мы ищем.
— Не может быть. Даже если он слеп, по-настоящему слеп, это довод против него. Ну, конечно, Счастливчик. — Верзила приходил всё в большее возбуждение. — Он мог подойти к венлягушке, мог убить её, не видя.
Дэвид покачал головой.
— Нет, Верзила. Воздействие венлягушки на мозг не зависит от зрения. Это прямой мозговой контакт. Обойти этот факт мы не можем. — Он медленно сказал: — Это мог сделать только робот. Только. А Норрич не робот.
— А это ты откуда знаешь?.. — Верзила смолк.
— Я вижу, ты сам ответил на свой вопрос. Мы чувствовали его эмоции при первой встрече, когда венлягушка была жива. У него есть эмоции, значит, он не робот и не тот, кого мы ищем.
Но на лице у Старра было выражение глубокой тревоги, он отшвырнул в сторону книгу по роботехнике, будто отчаялся найти в ней помощь.
Первый аграв-корабль назвали «Спутник Юпитера», и он не был похож на корабли, виденные Старром. Размером с роскошный космический лайнер, но жилые помещения очень тесные, потому что девять десятых объёма корабля занимали аграв-конвертер и конденсаторы гиператомного поля. От середины корабля отходили изогнутые лопасти, напоминавшие крылья летучей мыши. Пять в одну сторону, пять — в другую. Всего десять.
Дэвиду объяснили, что эти лопасти разрезают силовые линии гравитационного поля и превращают энергию тяготения в гиператомную. Очень прозаично, но они придавали кораблю зловещий вид.
Корабль стоял в огромном колодце, выкопанном в теле Юпитера-9. Крышка из сверхпрочного бетона отошла, и теперь в колодце была обычная для Юпитера-9 сила тяжести и обычное отсутствие атмосферы.
Почти весь персонал проекта, около тысячи человек, собрался в природном амфитеатре. Старру никогда не приходилось видеть одновременно столько людей в космических костюмах. Царило вполне естественное возбуждение; оно иногда проявлялось в возне, насколько это возможно при низкой силе тяжести.
Старр мрачно подумал: «И один из этих людей в космических костюмах вовсе не человек».
Но который? Как это определить?
Командующий произнес короткую речь; все слушали, охваченные волнением; Счастливчик, глядя на Юпитер, увидел рядом с ним огонек, не звезду, но полумесяц толщиной в ноготь, такой маленький, что его с трудом можно было рассмотреть. Если бы на Юпитере-9 была атмосфера, а не вакуум, полумесяц превратился бы в светлое пятнышко.
Старр знал, что это Ганимед, Юпитер-3, самый большой спутник Юпитера, луна, достойная гигантской планеты. Она втрое больше земной Луны, больше планеты Меркурий. Она почти с Марс размером. Когда построят флот аграв-кораблей, Ганимед быстро займет важное место среди миров Солнечной системы.
Командующий Донахью хриплым от волнения голосом провозгласил название корабля, и все собравшиеся группами по пять-шесть человек ушли под поверхность через многочисленные шлюзы.
Дэвид и Верзила поднимались последними. Когда они вошли, командующий Донахью недружелюбно отвернулся от них.
Верзила наклонился к Счастливчику и прошептал:
— Ты заметил, Ред Саммерс на борту.
— Знаю.
— Это тот, кто пытался тебя убить.
— Знаю, Верзила.
Корабль поднимался величественно, медленно. Поверхностная сила тяжести на Юпитере-9 составляет одну восемнадцатую земной, и, хотя вес корабля всё же достигал сотен тонн, не он был причиной этой медлительности. Даже если бы силы тяжести совсем не было, корабль оставался материальным и сохранял всю инерцию. Его было бы так же трудно привести в движение или же изменить направление движения, если он его начал.
Вначале медленно, потом всё быстрее и быстрее колодец уходил вниз. Юпитер-9 съежился и превратился на экране в неровную серую скалу. Чёрное небо заполнилось созвездиями, Юпитер казался ярким шаром.
Подошёл Джеймс Пеннер и положил руки на плечи Старру и Верзиле.
— Не хотите ли заглянуть в мою каюту? В смотровой рубке пока ничего не предвидится. — Он широко улыбался, жилы на его мощной шее, казавшейся продолжением головы, натянулись.
— Спасибо, — ответил Дэвид, — вы очень добры.
— Ну, командующий вас уж точно не пригласит, и остальные побаиваются. Не хочу, чтобы вам было одиноко. Путь у нас долгий.
— А вы меня не опасаетесь, мистер Пеннер? — сухо спросил Счастливчик.
— Конечно, нет. Вы ведь меня проверили, и я выдержал испытание.
Пеннер открыл три банки концентрированного рациона — обычная пища в космосе. Дэвид и Верзила чувствовали себя почти что дома: запах разогреваемой пищи, ощущение сомкнувшихся вокруг стен, за которыми — бесконечная пустота пространства, постоянный гул гиператомных двигателей, превращающих полевую энергию в импульс.
Если бы древняя вера в «музыку сфер» подтвердилась, ею было бы гудение гиператомных двигателей — основа космических полётов.
Пеннер сказал:
— Мы превысили скорость убегания Юпитера-9; теперь можно не опасаться, что упадем на его поверхность.
— Значит, мы в свободном падении к Юпитеру, — заметил Счастливчик.
— Да, и падать предстоит пятнадцать миллионов миль. Как только наберём достаточную скорость, включим аграв.
Говоря это, он достал из кармана часы — большой диск блестящего бесцветного металла. Нажал на выступ, и на поверхности появились светящиеся цифры. Их окружала белая полоска, она постепенно покраснела, потом снова стала белой.
Дэвид спросил:
— Мы так скоро переходим на аграв?
— Да, — ответил Пеннер. Он положил часы на стол, и все принялись молча есть.
Пеннер снова поднял часы.
— Чуть меньше минуты. Всё действует автоматически. — Хотя главный инженер говорил спокойно, рука, которой он держал часы, чуть дрожала. — Сейчас, — сказал Пеннер, и наступила тишина. Полная тишина.
Прекратился гул гиператомных двигателей. Теперь вся энергия, освещавшая корабль, поддерживавшая на нём псевдогравитацию, исходила от поля тяготения Юпитера.
— Точно! — сказал Пеннер. — Прекрасно! — Он убрал часы, и на его лице появилась широкая улыбка облегчения. — Теперь мы на настоящем аграв-корабле.
Старр тоже улыбался.
— Поздравляю. Я рад находиться на борту.
— Представляю себе. Вы этого усиленно добивались. Бедный Донахью.
Дэвид серьёзно сказал:
— Мне жаль, что пришлось так надавить на командующего, но у меня не было выбора. Так или иначе я должен был оказаться на борту.
Глаза Пеннера сузились от его серьёзного тона.
— Должны были?
— Да! Мне кажется несомненным, что на борту корабля находится и шпион, которого мы ищем.
Глава 10
ВО ВНУТРЕННОСТЯХ КОРАБЛЯ
Пеннер пораженно смотрел на Старра. Потом спросил:
— Почему вы так считаете?
— Сирианцам нужно знать, как работает корабль. Если их метод шпионажа надежен — а до сих пор так и было, — почему не продолжить и на борту корабля?
— Вы хотите сказать, что один из четырнадцати человек на борту «Спутника Юпитера» робот?
— Совершенно верно.
— Но этих людей отобрали давно.
— Сирианцы должны знать способ отбора, как знают всё остальное относительно проекта. Они сумели добиться, чтобы их гуманоидный робот попал в число отобранных.
— Вы очень высоко их оцениваете, — сказал Пеннер.
— Согласен, — ответил Счастливчик. — Но есть и альтернатива.
— Какая?
— Гуманоидный робот пробрался на борт зайцем.
— Маловероятно, — сказал Пеннер.
— Однако возможно. В суматохе перед речью командующего было легко проникнуть на борт. Я пытался наблюдать за кораблем, но это оказалось невозможно. Девять десятых корабля занимают механизмы, там достаточно места, чтобы спрятаться.
Пеннер не разделял его подозрений.
— Не так много места, как вы считаете.
— Но мы всё же должны обыскать корабль. Вы это сделаете, доктор Пеннер.
— Я?
— Конечно. Как главный инженер, вы знаете корабль лучше других. Мы пойдем с вами.
— Подождите. Это бесцельное занятие.
— Если зайца не окажется, всё равно мы кое-чего добьемся доктор Пеннер. Мы сосредоточим внимание на тех, кто законно прошёл на корабль.
— Только мы втроем?
Дэвид негромко ответил:
— А кому ещё мы можем доверять? Ведь каждый может оказаться именно тем роботом, которого мы ищем. Не будем больше обсуждать это, доктор Пеннер. Поможете ли вы в поисках на корабле? Я прошу вас как член Совета Науки.
Пеннер неохотно встал.
— Вероятно, придётся.
Они спустились по узкой шахте, ведущей на первый машинный уровень. Спускались, держась за скобы. Свет был приглушенный и непрямой, так что массивные машины не отбрасывали тени.
Было тихо. Ни малейший гул не сопровождал действие могучей энергии, запасавшейся здесь. Верзила, оглядываясь, приходил в смятение оттого, что не видел ничего знакомого: ничего не осталось от обычного оборудования космического корабля, такого, как их «Метеор».
— Всё закрыто, — сказал он.
Пеннер кивнул и негромко ответил:
— Всё, что возможно, действует автоматически. Мы должны были до минимума сократить потребность в людях.
— А как ремонт?
— Его не должно быть, — мрачно ответил инженер. — Все системы корабля задублированы, все обладают самоконтролем и самовосстанавливаются.
Пеннер двинулся вперёд, в узкий проход, шёл он медленно, как будто ежеминутно ожидал, что на него кто-то набросится.
Уровень за уровнем, методично продвигаясь от центрального ствола в стороны, Пеннер с уверенностью специалиста обходил все помещения.
Наконец они оказались на самом дне, у больших хвостовых двигателей, в которых гиператомные силы (когда корабль в обычном полёте) рвутся назад, толкая корабль вперёд.
Верзила сказал:
— Трубы! Внутри!
— Нет, — ответил Пеннер.
— Почему? Робот может там спрятаться. Там открытый космос, но роботу всё равно.
— Гиператомный толчок его бы уничтожил, а мы шли на гиператомных двигателях всего час назад, — сказал Старр. — Нет, двигатели исключаются.
— Что ж, — заметил Пеннер, — значит, в машинном отделении никого нет.
— Вы уверены?
— Да. Мы всё осмотрели и двигались таким маршрутом, что невозможно было спрятаться и зайти нам за спину.
Голоса их отдавались слабым эхом в стволе.
Верзила сказал:
— Пески Марса, остаётся четырнадцать человек.
Счастливчик задумчиво ответил:
— Меньше. Трое из людей на корабле проявляли эмоции: командующий Донахью, Гарри Норрич и Ред Саммерс. Остаётся одиннадцать.
Пеннер сказал:
— Не забудьте меня. Я не подчинился приказу. Остаётся десять.
— Кстати, это интересный вопрос, — сказал Дэвид. — Вы разбираетесь в роботехнике?
— Я? — переспросил Пеннер. — В жизни своей не имел дела с роботами.
— В том-то всё и дело, — сказал Старр. — Земляне изобрели позитронного робота и придумали большую часть усовершенствований, но, за исключением нескольких специалистов, земные инженеры не разбираются в роботехнике, потому что мы не используем роботов. В школе это не учат, на практике с этим не встречаются. Я сам знаю Три закона, но мало что ещё. Командующий Донахью не смог даже процитировать Три закона. С другой стороны, сирианцы, у которых экономика насыщена роботами, должны разбираться в роботехнике во всех тонкостях. Вчера и сегодня я провёл много времени, изучая книгофильм по современной роботехнике, который нашёл в библиотеке. Кстати, это единственная книга в ней на эту тему.
— Ну и что? — спросил Пеннер.
— Для меня стало очевидно, что Три закона не так просты, как кажутся на первый взгляд… Кстати, идёмте отсюда. На обратном пути можем вторично всё осмотреть. — Говоря это, он шёл по нижнему уровню и с живым интересом осматривался по сторонам.
Дэвид продолжал:
— Например, я мог бы подумать, что достаточно каждому человеку на корабле отдать нелепый приказ и посмотреть, будет ли он выполнен. Кстати, я вначале так и думал. Но это не совсем так. Оказывается, теоретически возможно так приспособить позитронный мозг, чтобы робот исполнял лишь те приказы, которые связаны с его непосредственными обязанностями. Приказы, противоречащие его обязанностям или не связанные с ними, тоже могут исполняться, но если отданы с использованием ключевых слов. Это шифр, с помощью которого человек, отдающий приказ, определяет себя. Таким образом, робот может управляться его истинным хозяином, а приказы других людей исполнять не будет.
Пеннер, взявшийся руками за опору, чтобы подниматься на следующий уровень, отпустил руки. Повернулся лицом к Старру.
— То есть, когда вы приказали мне снять рубашку и я не подчинился, это ничего не значит?
— Я говорю, доктор Пеннер, что это ничего не значит, потому что снятие рубашки не входит в ваши прямые обязанности, а мой приказ не был дан в нужной форме.
— Значит, вы обвиняете меня в том, что я робот?
— Нет. Маловероятно, чтобы вы им были. Сирианцы, подбирая кандидатуру человека для замещения роботом, вряд ли остановились бы на главном инженере. Чтобы выполнять работу главного инженера, робот должен хорошо знать проект аграва. Сирианцы не могли бы снабдить его этими знаниями. А если бы могли, у них не было бы необходимости в шпионаже.
— Спасибо, — мрачно сказал Пеннер, снова поворачиваясь к опорам, но тут прозвенел голос Верзилы.
— Подождите, Пеннер! — Маленький марсианин держал наготове в руке игольное ружье. Он сказал: — Минутку. Счастливчик, откуда мы знаем, что ему что-нибудь известно об аграве? Мы это только предполагаем. Он никаких знаний пока не проявил. Когда «Спутник Юпитера» перешёл на аграв, где он был? Сидел с нами в своей каюте, вот где.
Дэвид ответил:
— Я думал об этом, Верзила, и в этом одна из причин, зачем я привел сюда Пеннера. Он явно знаком с оборудованием. Я следил за ним. Он не делал бы этого так уверенно, если бы не был специалистом.
— Устраивает это вас, марсианин? — со сдержанным гневом спросил Пеннер.
Верзила убрал игольное ружье, и Пеннер, ни слова не говоря, начал подниматься.
Они остановились на следующем уровне и вторично осмотрели его.
Пеннер сказал:
— Ну хорошо, остаётся десять человек: два офицера, четыре инженера, четверо рабочих. Что вы предполагаете делать дальше? Просветить их всех рентгеном? Что-нибудь такое?
Старр покачал головой.
— Слишком рискованно. Очевидно, сирианцы что-нибудь предприняли для защиты. Известно, что роботы могут передавать сообщения и выполнять тайные поручения. Но если человек задаёт вопрос правильным образом, робот обязан ответить. В таком случае сирианцы монтируют в робота взрывное устройство, которое действует тогда, когда робот должен выдать свою тайну.
— То есть если просветить робота рентгеном, он может взорваться?
— Очень вероятно. Его величайшая тайна — это его сущность, и он взорвётся при малейшей опасности проверки, это сирианцы наверняка предусмотрели. — С сожалением Дэвид добавил: — На венлягушку они не рассчитывали; против неё защиты не было. Им пришлось приказать роботу убить венлягушку. Они сделали это, чтобы скрыть сущность робота, не уничтожая его.
— Но ведь робот, взрываясь, причинит вред окружающим. Разве это не нарушение Первого закона? — с ноткой сарказма спросил Пеннер.
— Нет. Ведь сам робот взрыв не контролирует. Взрыв является результатом определённого вопроса или действия, а не результатом действий самого робота.
Они поднялись на следующий уровень.
— И что вы собираетесь делать, член Совета? — спросил Пеннер.
— Не знаю, — откровенно ответил тот. — Робот должен каким-то образом себя выдать. Как бы ни приспосабливали робота Три закона должны действовать. Надо только хорошо знать роботехнику, чтобы этим воспользоваться. Если бы только я мог заставить робота произвести какое-нибудь выдающее его действие, не активируя взрывное устройство; если бы можно было вызвать противоречие между Тремя законами, настолько сильное, чтобы парализовать робота; если бы…
Пеннер нетерпеливо прервал его:
— Если ждёте от меня помощи, член Совета, то напрасно. Я уже сказал вам, что не разбираюсь в роботехнике. — Он неожиданно повернулся. — Что это?
Верзила тоже огляделся.
— Я ничего не заметил.
Пеннер молча протиснулся мимо них. Рядом с металлическими гигантами по обе стороны он казался карликом.
Он отошёл в глубину, Счастливчик и Верзила последовали за ним. Пеннер сказал:
— Он может прятаться за очистителями. Я взгляну.
Старр, нахмурившись, смотрел на лес кабелей, которым заканчивался тупик.
— Мне кажется, тут никого нет, — сказал он.
— Нужно проверить, — напряженно ответил Пеннер. Он открыл щиток в ближайшей стене и осторожно просунул туда руку, оглядываясь через плечо.
— Не двигайтесь, — сказал он.
Верзила язвительно ответил:
— Тут никого нет.
Пеннер расслабился.
— Я это знаю. Я попросил вас не двигаться, потому что не хотел отрезать вам руку или ногу, включая силовое поле.
— Что за силовое поле?
— Я перегородил коридор силовым полем. Вы не сможете выйти. Перед вами всё равно что стальная стена в три дюйма толщиной.
Верзила закричал:
— Пески Марса! Он робот! — Рука его взметнулась.
Пеннер тоже крикнул:
— Не стреляйте! Убейте меня — и вы отсюда не выйдете. — Он смотрел на них горящими глазами, согнув широкие плечи. — Помните, энергия может пройти через силовое поле, а материя нет, даже молекулы воздуха не пройдут. Вы заперты герметически. Убейте меня — и вы задохнетесь задолго до того, как вас отправятся искать.
— Я говорил, что он робот! — в отчаянии сказал Верзила.
Пеннер коротко рассмеялся.
— Вы ошибаетесь. Я не робот. Но если робот существует, то я знаю, кто он.
Глава 11
ВНИЗ МИМО СПУТНИКОВ
— Кто? — сразу спросил Верзила.
Ответил Счастливчик:
— Очевидно, он считает, что один из нас.
— Спасибо! — сказал Пеннер. — Как вы объясните это? Вы говорили о зайцах — людях, тайно проникших на борт «Спутника Юпитера». Говорили о нервах! Но разве нет двух человек, которые силой проникли на борт? Разве я сам не был свидетелем этого? Вы двое!
— Совершенно верно, — заметил Старр.
— И вы привели меня вниз, чтобы иметь возможность осмотреть весь корабль. Вы занимали меня разговорами о роботах, надеясь, что я не замечу, как вы изучаете корабль, как под микроскопом.
Верзила сказал:
— У нас есть на это право. Это Дэвид Старр!
— Он говорит, что он Дэвид Старр. Если он член Совета, то может это доказать и знает как. Если бы я вовремя подумал, то потребовал бы доказательств до того, как вести вас сюда.
— Ещё не поздно, — спокойно сказал Старр. — Вы хорошо видите на расстоянии? — Он поднял руку ладонью вперёд и закатал рукав.
— Я ближе не подойду, — гневно ответил Пеннер.
Старр на это ничего не сказал. Он дал возможность говорить своему запястью. На внутренней стороне запястья, казалось, у него была обычная кожа, но её обработали гормональными препаратами очень сложным способом. И теперь, отвечая на приказ его определённым образом выраженной воли, на коже появилось тёмное овальное пятно, постепенно ставшее чёрным. В нём маленькие желтые искорки образовали знакомый рисунок Большой Медведицы и Ориона.
Пеннер выдохнул, как будто кто-то выдавил силой воздух из его лёгких. Мало кто видел знак Совета, но с самого детства все знали о его существовании — это окончательное и неоспоримое подтверждение личности члена Совета Науки.
У Пеннера не оставалось выбора. Молча, неохотно он отключил силовое поле и отступил.
Верзила в гневе устремился к нему.
— Мне следовало бы разбить тебе голову, ты, кривой…
Счастливчик оттащил его.
— Забудь об этом, Верзила. У него такое же право подозревать нас, как у нас — его. Успокойся.
Пеннер пожал плечами.
— Мне казался логичным мой вывод.
— Согласен с вами. Думаю, теперь мы можем доверять друг другу.
— Может быть, — язвительно ответил главный инженер. — Вы установили свою личность. А как насчёт этого малыша с Громким голосом? Кто установит его личность?
Верзила нечленораздельно зафыркал, и Дэвид встал между ними.
— Я ручаюсь за него и принимаю на себя всю ответственность. А теперь предлагаю вернуться в каюту, прежде чем нас не начали искать. Всё происшедшее, разумеется, строго конфиденциально.
И как будто ничего не случилось, они снова стали подниматься.
Им отвели каюту с двухъярусной кроватью и умывальником, из которого вода текла тонкой струйкой. В каюте больше ничего не было. Даже тесные спартанские помещения «Метеора» казались роскошью по сравнению с этим.
Верзила сидел на верхней постели, скрестив ноги, а Дэвид влажной губкой протирал шею и плечи. Разговаривали они шёпотом, сознавая, что по другую сторону стены могут оказаться чьи-нибудь уши.
Верзила сказал:
— Послушай, Счастливчик, допустим, я займусь по очереди каждым на корабле. Ну, теми десятью, в ком мы не уверены. Буду задираться, обзову как-нибудь, всё такое. Разве не ясно, что тот, кто меня не ударит, робот?
— Вовсе нет. Он может не захотеть нарушать дисциплину на корабле, или не захочет связываться с Советом Науки, или просто не такой человек, чтобы драться с тем, кто его меньше.
— Ну, Счастливчик? — Верзила немного помолчал, потом осторожно сказал: — Я вот всё думаю: почему ты так уверен, что робот на корабле? Может, он остался на Юпитере-9? Это возможно.
— Да, знаю, и всё же я уверен, что робот на борту. Вот и всё. Уверен и не знаю почему, — задумчиво сказал Старр. Он лег и постучал по зубам ногтем. — В первый же день, как мы высадились на Юпитер-9, что-то произошло.
— Что?
— Если бы я знал! У меня было озарение; я знал или подумал, что знаю, как раз перед сном, но потом исчезло. И я не смог его вернуть. На Земле я бы попросил сделать психопробу. Великая Галактика, клянусь, попросил бы! Я испробовал всё, что мог. Напряженно думал, пытался избавиться от всех других мыслей. Когда мы были внизу с Пеннером, я попробовал выговориться. Думал, что, если буду обсуждать все стороны проблемы, мысль внезапно снова возникнет в голове. Не вышло. Но всё равно. Именно из-за этой мысли я уверен, что робот — один из людей на корабле. Я сделал подсознательное заключение. Если бы только я мог его выразить, мы получили бы ответы на все вопросы.
В голосе его звучало почти отчаяние.
Верзила никогда не видел друга таким расстроенным. Он обеспокоенно сказал:
— Эй, давай лучше поспим.
— Да, ты прав.
Несколько минут спустя в темноте Верзила прошептал:
— Эй, Счастливчик, а почему ты так уверен, что я не робот?
Тот ответил тоже шёпотом:
— Потому что сирианцы не смогли бы создать робота с такой уродливой физиономией, — и увернулся от брошенной в него подушки.
Проходили дни. На полпути к Юпитеру они миновали внутренний, редко населенный пояс малых спутников, из которых только Шестой, Седьмой и Девятый были пронумерованы Юпитер-7 казался яркой звездой, остальные находились далеко и сливались с созвездиями.
Сам Юпитер вырос до размеров Луны, видимой с Земли. И так как корабль приближался к нему со стороны Солнца, Юпитер всегда находился в полной фазе. Вся его видимая поверхность освещалась Солнцем. Ночной тени нигде не было видно.
Но хотя Юпитер сравнялся по видимому размеру с Луной, её яркости он не достиг. Его затянутая облаками поверхность отражает в восемь раз больше доходящего до неё солнца, чем голые запыленные лунные скалы. Но беда в том, что Юпитер получает только одну двадцать седьмую того количества света, что Луна, на квадратную милю. В результате Юпитер кажется в три раза менее ярким, чем Луна с Земли.
Зато это было гораздо более интересное зрелище, чем Луна. Пояса стали отчетливо видны — коричневатые полосы с расплывчатыми краями на кремово-желтом фоне. Легко было разглядеть, как расплющенный соломенного цвета овал — Большое Красное Пятно — появился на краю, пересек поверхность планеты и исчез на другом краю.
Верзила сказал:
— Эй, Счастливчик, Юпитер кажется совсем не круглым. Это оптический обман?
— Нет, — ответил Дэвид. — Юпитер действительно не круглый. Он приплюснут у полюсов. Ты ведь знаешь, что Земля сплюснута у полюсов?
— Конечно. Но это незаметно.
— Да. Экватор Земли — двадцать пять тысяч миль, он поворачивается за двадцать четыре часа, значит, каждая точка на экваторе проходит за час около тысячи миль. В результате действия центробежной силы Земля на экваторе выпячивается, так что диаметр Земли по экватору на двадцать семь миль больше, чем диаметр от Северного полюса до Южного. Разница в длине диаметров составляет только одну треть процента, так что из космоса Земля кажется идеальным шаром.
— Ага!
— Теперь возьмем Юпитер. Длина экватора у него 276 000 миль, в одиннадцать раз больше окружности Земли, а оборачивается он вокруг оси за десять часов, точнее, на пять минут меньше. Точка на экваторе движется со скоростью почти двадцать восемь тысяч миль в час, в двадцать восемь раз быстрее, чем на Земле. Тут центробежная сила гораздо больше и соответственно на экваторе планета больше выпячивается, тем более что вещество Юпитера легче земной коры. Диаметр Юпитера по экватору почти на шесть тысяч миль больше, чем от полюса к полюсу. Разница в диаметрах составляет пятнадцать процентов, а это легко заметить на глаз.
Верзила посмотрел на сплющенный круг света — Юпитер и сказал: «Пески Марса!»
Солнце оставалось за ними, они приближались к Юпитеру. Пересекли орбиту Каллисто, Юпитера-4, внешнего из крупных спутников Юпитера, но не увидели его. Этот спутник расположен в полутора миллионах миль от Юпитера и размером с Меркурий, но он находился по другую сторону своей орбиты — маленькая горошина, близкая к Юпитеру и скрывающаяся в его тени.
Ганимед, Юпитер-3, прошёл достаточно близко, чтобы казаться диском размером в треть Луны. Часть его скрывалась в ночной тени, видны были три четверти поверхности, светлобелые, бесцветные.
Счастливчик и Верзила обнаружили, что остальные члены экипажа их игнорируют. Командующий никогда с ними не разговаривал, даже не смотрел на них, проходил мимо, глядя в пустоту. Норрич, проходя со своим Мэттом, приветливо кивал, как всегда, когда чувствовал присутствие человека. Но когда Верзила ответил на приветствие, дружелюбное выражение исчезло с лица слепого. Он слегка потянул Мэтта за поводок и пошёл дальше.
Они чувствовали себя лучше всего в своей каюте.
Верзила проворчал:
— Что они о себе думают? Даже этот парень Пеннер становится занятым, когда я оказываюсь рядом.
Старр ответил:
— Прежде всего, Верзила, когда капитан показывает своё нерасположение к кому-то, подчиненные редко бывают к тому человеку дружески настроены. Во-вторых, наши встречи с некоторыми из них не были приятными.
Верзила задумчиво сказал:
— Я встретил сегодня этого подонка Реда Саммерса. Он выходил из машинного помещения, а я ему навстречу.
— Ну и что? Ты ведь не…
— Я ничего не сделал. Просто стоял и ждал, пока он начнет что-нибудь, надеялся, что он что-нибудь начнет. Но он только улыбнулся и прошёл мимо.
Все на борту «Спутника Юпитера» ждали дня, когда Ганимед закроет Юпитер. Это не полное затмение. Ганимед покрывает лишь ничтожную часть Юпитера. Он находился в 600 000 миль и казался вдвое меньше Луны. Юпитер находился вдвое дальше, но был распухшим шаром, в четырнадцать раз больше Ганнмеда, грозным и пугающим.
Ганимед встретился с Юпитером чуть ниже экватора гигантской планеты, два шара, казалось, медленно сплавляются воедино. Врезавшись, Ганимед образовал круг более тусклого цвета, потому что у Ганимеда атмосфера гораздо более разрежена и соответственно отражает меньше солнечного света. Но даже если бы не это, Ганимед всё равно выделялся бы, разрезая пояса Юпитера.
Когда Ганимед полностью показался на фоне Юпитера, за ним стал виден чёрный полумесяц. Люди шёпотом объясняли друг другу, что это на Юпитер падает тень Ганимеда.
Тень двигалась вместе с Ганимедом, но медленно опережала его. Чёрная полоска становилась всё тоньше и тоньше, пока в центре Юпитера, когда сам Юпитер, Ганимед и «Спутник Юпитера» образовали с Солнцем прямую линию, тень совершенно не исчезла, закрытая отбрасывавшим её спутником.
Ганимед продолжал двигаться, и тень снова появилась, на этот раз перед ним, вначале как нить, потом полумесяц, а потом она покинула поверхность Юпитера.
Всё затмение продолжалось три часа.
«Спутник Юпитера» пересек орбиту Ганимеда, когда тот находился по другую сторону своей семидесятидневной орбиты вокруг Юпитера.
Это событие отметили специальным праздником. Люди на обычных кораблях (не часто, конечно) добирались до Ганимеда, но никто, ни один человек не оказывался к Юпитеру ближе. Теперь это сделал «Спутник Юпитера».
Корабль прошёл в ста тысячах миль от Европы, Юпитера-2.
Это самый маленький из крупных спутников Юпитера, всего 19 сотен миль в диаметре. Он меньше Луны, но близость делала его вдвое больше видимой с Земли Луны. Можно было разглядеть горные вершины и хребты. Корабельные телескопы показали, что это именно так. Горы напоминали горы Меркурия, не было и следа лунных кратеров. Виднелись яркие полосы, похожие на ледяные поля.
Корабль продолжал спускаться и оставил Европу за собой.
Ио — самый внутренний из крупных спутников Юпитера, размером он почти с земную Луну. И расстояние от Юпитера у него 285 000 миль, то есть чуть больше, чем от Луны до Земли.
На этом сходство, однако, кончается. Относительно слабое земное поле тяготения оборачивает Луну за четыре недели. Ио, захваченная тяготением Юпитера, по своей чуть большей орбите пролетает за сорок два часа. Луна вокруг Земли движется со скоростью чуть больше тысячи миль в час, а Ио движется вокруг Юпитера со скоростью в двадцать две тысячи миль в час, и посадка на Ио гораздо труднее.
Корабль, однако, совершил манёвр идеально. Он обогнал Ио и в нужный момент отключил аграв.
Мгновенно вернулся гул гиператомных двигателей, заполнив корабль шумом после недель тишины.
«Спутник Юпитера» повернул, подчиняясь полю тяготения Ио. Он находился на орбите на расстоянии в десять тысяч миль от спутника, и Ио заполнила небо.
Они перешли от дневной на ночную сторону, спускаясь всё ниже. Крылья аграв-корабля втянулись, чтобы их не оторвала разреженная атмосфера.
Послышался тонкий свист от трения корабля о верхние слои атмосферы.
Скорость падала, высота тоже. Боковые двигатели корабля развернулись и направились назад, ожили гиператомные двигатели, смягчая падение. И вот с лёгким толчком корабль застыл на поверхности Ио.
На борту «Спутника Юпитера» началась настоящая истерия. Даже Дэвида и Верзилу хлопали по спинам люди, которые на протяжении всего пути старательно их избегали.
Шестнадцать человек. Первые люди, высадившиеся на Ио.
Поправка, подумал Старр. Пятнадцать человек.
И один робот!
Глава 12
НЕБЕСА И СНЕГА ДЕСЯТОГО
Они остановились взглянуть на Юпитер. Он заставил их заедать. Все молчали. Говорить об этом невозможно.
Гигантский шар Юпитера протянулся на восьмую часть видимого неба. В полнолуние он светил бы в две тысячи раз ярче земной Луны, но теперь треть его поверхности покрывала ночная тень.
Яркие зоны и более тёмные пояса, пересекавшие их, казались теперь не только коричневыми. Они теперь находились достаточно близко, чтобы различались отдельные цвета: розовый, зеленый, синий и пурпурный, поразительно яркий. Края поясов оставались неровными и на глазах меняли форму, будто в атмосфере бушевали гигантские бурные ветры; впрочем, так оно, вероятно, и было. Чистая редкая атмосфера Ио не закрывала ни малейшей подробности разноцветной меняющейся поверхности.
Показалось грандиозное Большое Красное Пятно. Оно производило впечатление газовой воронки, неторопливо вращавшейся.
Люди смотрели долго, но Юпитер не менял положения. Звёзды двигались мимо него, а он оставался на месте, низко висел в западной части неба. Он и не мог двигаться: Ио при вращении всегда обращена к Юпитеру одной стороной. Примерно с половины поверхности Ио Юпитер никогда нельзя увидеть, на другой половине он никогда не заходит. А в пограничном районе, занимающем примерно пятую часть поверхности спутника, Юпитер всегда на горизонте, часть его видна, часть скрыта.
— Какое место для телескопа! — произнес Верзила на волне, отведенной для Старра перед посадкой.
Дэвид ответил:
— Скоро тут будет и телескоп, и многое другое.
Верзила коснулся лицевой пластины Счастливчика, чтобы привлечь внимание, и быстро указал:
— Посмотри на Норрича. Бедняга, он не может это увидеть!
Старр сказал:
— Я его заметил. С ним Мэтт.
— Да. Пески Марса, на многое идут ради Норрича! Особый костюм для собаки. Я смотрел, как его надевали на Мэтта, когда ты наблюдал за посадкой. Пришлось проверять, слышит ли он приказы в костюме и будет ли повиноваться им, когда Норрич тоже наденет костюм. Очевидно, всё в порядке.
Счастливчик кивнул. Повинуясь порыву, он зашагал к Норричу. Сила тяжести Ио чуть выше лунной, и они с Верзилой легко к ней приспособились.
Двигался Старр длинными пологими прыжками.
— Норрич, — сказал он, переходя на волну инженера.
Конечно, невозможно определить направление, откуда приходит звук радио, поэтому слепые глаза Норрича смотрели беспомощно.
— Кто это?
— Старр. — Он смотрел на лицо Норрича и видел на нём радостное выражение. — Вы счастливы, что находитесь здесь?
— Счастлив? Можно сказать и так. Красив ли Юпитер?
— Очень. Хотите, я опишу его вам?
— Нет. Не нужно. Я смотрел в телескоп, когда… когда у меня были глаза, и в памяти всё ещё его вижу. Просто… Не знаю, поймете ли вы. Очень мало кто из людей первый стоял на новом мире. Вы понимаете, какие мы теперь особые?
Он протянул руку, чтобы погладить по голове Мэтта, но рука его коснулась только металла шлема. Через изогнутую лицевую пластину Дэвид видел свесившийся язык и беспокойные глаза собаки; она явно встревожилась из-за того, что знакомый голос хозяина не сопровождается присутствием его тела.
Норрич негромко сказал:
— Бедный Мэтт! Низкая сила тяжести смущает его. Не буду его долго держать здесь.
И снова заговорил со страстью:
— Подумайте о триллионах людей в Галактике. Подумайте, сколь немногие из них имели счастье первыми ступить на новый мир. Вы сможете почти всех их назвать по именам. Яновский и Стерлинг — первые люди на Луне, Чинг — первый человек на Марсе, Лабелл и Смит — на Венере. Сосчитайте. Даже если учесть астероиды и планеты других систем. Сосчитайте и увидите, как их мало. И мы теперь среди этих немногих. И я среди них.
Он развел руки, будто готов был обнять весь спутник.
— Я обязан этим Саммерсу. За то, что он разработал новую технику изготовления свинцовых контактов — всего лишь изогнутый ротор, но это сберегает ежегодно два миллиона долларов. а ведь он даже не механик по образованию, — ему в качестве награды предложили участие в первом полёте. Знаете, что он ответил? Что я больше этого заслуживаю. Конечно, сказали ему но ведь он слепой. Тогда он напомнил им, почему я ослеп, и сказал, что без меня не полетит. И взяли нас обоих. Я знаю, вам не очень нравится Саммерс, но когда я о нём думаю, то всегда вспоминаю это.
В шлемах прозвучал голос командующего:
— За работу, парни. Юпитер никуда не денется. Посмотрим на него позже.
Много часов разгружали корабль, размещали оборудование, устанавливали палатки. Временные герметически изолированные палатки наполнили воздухом, теперь стало возможно долго находиться за пределами корабля.
Но удержать людей от взглядов на небо было невозможно. В это время видны были все три крупных спутника Юпитера.
Ближе всех Европа, казавшаяся чуть меньше земной Луны. Это был полумесяц вблизи восточного горизонта. Ганимед, казавшийся меньше, находился в зените и был полным. Каллисто, вчетверо меньше Луны, висела вблизи Юпитера и, как и Юпитер, видна была на две трети. Все три спутника вместе давали примерно четверть света, который Земля получает в полнолуние, и были совершенно неприметны в присутствии Юпитера.
Верзила возбуждённо сказал об этом.
Счастливчик посмотрел на своего маленького марсианского друга. Перед этим он задумчиво рассматривал восточный горизонт.
— Ты считаешь, ничто не может побить Юпитер?
— Не здесь, — упрямо ответил Верзила.
— Продолжай смотреть.
В разреженной атмосфере Ио нет никаких сумерек, следовательно, не было и предупреждения. На замерзших вершинах невысоких холмов сверкнула алмазно-яркая искра, и семь секунд спустя над горизонтом появилось Солнце.
Маленькая горошина, небольшой ослепительно белый кружок, и несмотря на гигантский размер Юпитера, Солнце светило гораздо-гораздо ярче.
Телескоп установили вовремя, чтобы взглянуть на уходящую за Юпитер Каллисто. Один за другим то же проделают все три спутника. Ио, хотя она постоянно повернута одной стороной к Юпитеру, обращается за сорок два часа. Это означает, что Солнце и все звёзды кажутся обходящими небо Ио за те же сорок два часа.
Ио движется быстрее всех остальных спутников и постоянно обгоняет их в гонке вокруг Юпитера. Быстрее всего она обгоняет самый далекий и медленный спутник — Каллисто; поэтому Каллисто обходит небо Ио за два дня. Ганимед — за четыре, Европа — за семь. Каждый спутник движется с востока на запад, и все по очереди удаляются за Юпитер.
Первым предстояло наблюдать затмение Каллисто. Людей охватило крайнее возбуждение. Даже Мэтт, казалось, заразился им. Он всё больше привыкал к низкой силе тяжести, и Норрич иногда отпускал его на свободу. Пес гротескно кувыркался и тщетно пытался с помощью носа обследовать многочисленные незнакомые предметы. Когда Каллисто достигла Юпитера и медленно зашла за него, все притихли, и Мэтт тоже; он сел на задние лапы и, высунув язык, смотрел на небо.
Но на самом деле все ждали Солнца. Оно движется по небу быстрее всех спутников. Оно догнало Европу (чей полумесяц постепенно утончался, превращаясь в нить) и прошло за ней, оставаясь в затмении чуть меньше тридцати секунд. Потом оно появилось, и Европа снова стала полумесяцем, но его рога теперь были обращены в противоположную сторону.
Ганимед зашёл за Юпитер, прежде чем Солнце догнало его, а Каллисто находилась ниже горизонта.
Солнце приближалось к Юпитеру.
Все напряженно смотрели на огненную горошину, всё выше поднимавшуюся в небе. При этом Юпитер стал уже, потому что его освещенная поверхность, конечно, всегда обращена к Солнцу. Юпитер стал «полумесяцем», который становился всё тоньше.
Освещенное Солнцем небо Ио стало тёмно-пурпурным, на нём теперь виднелись только самые яркие звёзды. Горел гигантский полумесяц Юпитера, и к нему безжалостно приближалось Солнце.
Как камень Давида, выпущенный из космической пращи, устремился ко лбу Голиафа.
Освещенная поверхность Юпитера всё уменьшалась, затем превратилась в изогнутую нить. Солнце почти касалось планеты.
Они соприкоснулись, и все закричали. Людям пришлось затемнить свои лицевые пластины, но теперь в этом не было необходимости, потому что свет резко сократился.
Но Солнце полностью не исчезло. Оно зашло за край Юпитера, но продолжало туманно светить сквозь толстую густую водородно-гелиевую атмосферу гигантской планеты.
Юпитер теперь весь потемнел, но зато ожила его атмосфера, изгибая и отражая солнечные лучи. Солнце всё дальше заходило за Юпитер, и светлая полоска атмосферы становилась шире, два светлых рога встретились на противоположной стороне Юпитера. Исчезнувшее тело Юпитера было окружено светлой, с одной стороны выпяченной полосой. В небе повисло, алмазное кольцо, достаточно большое, чтобы вместить две тысячи таких дисков, как видимая с Земли Луна.
Солнце продолжало заходить за Юпитер, и свет тускнел, пока наконец не исчез совсем; небо, за исключением тонкого полумесяца Европы, потемнело и теперь принадлежало только звёздам.
— Так будет пять часов, — сказал Дэвид Верзиле. — А потом всё повторится в обратном порядке, когда Солнце будет выходить с противоположной стороны.
— И так бывает каждые сорок два часа? — с благоговением спросил Верзила.
— Да, — ответил Счастливчик.
На следующий день к ним подошёл Пеннер.
— Здравствуйте. Мы почти закончили. — Он широко развел руки, указывая на долину Ио, заполненную различным оборудованием. — Скоро улетим и большую часть этого оставим.
— Неужели? — удивился Верзила.
— Конечно. На спутнике ничто не может его повредить, стихий здесь нет. Всё покрыто защитной оболочкой от аммиака в атмосфере и сохранится до появления второй экспедиции. — Неожиданно он понизил голос: — Есть ли кто-нибудь ещё на вашей частной волне, джентльмены?
— Как будто нет.
— Не хотите ли пройтись? — Он пошёл по долине к невысоким холмам поблизости, Старр и Верзила за ним.
Пеннер сказал:
— Должен просить у вас прошения за недружеское отношение на корабле.
— Мы не обижаемся, — заверил его Дэвид.
— Понимаете, я хотел сам провести расследование и подумал, что лучше мне не считаться вашим другом. Я был уверен, что, если присмотрюсь внимательно, обязательно кто-то себя выдаст, поведет себя не по-человечески. Понимаете, о чём я? Боюсь, я потерпел неудачу.
Они достигли вершины первого холма, и Пеннер оглянулся. Он с интересом сказал:
— Посмотрите на собаку. Она привыкла к слабому тяготению.
Мэтт многому научился за прошедшие дни. Тело его выгибалось и распрямлялось, когда он передвигался низкими двадцатифутовыми прыжками. Казалось, он прыгает из чистого удовольствия.
Пеннер переключил радио на волну Норрича и позвал:
— Эй, Мэтт, парень, сюда, Мэтт.
И свистнул.
Собака, конечно, услышала и высоко подпрыгнула. Счастливчик тоже переключил волну и услышал возбуждённый лай.
Пеннер помахал руками, и собака побежала к ним, потом остановилась и оглянулась на хозяина. Тот двигался медленнее.
Пошли дальше. Старр сказал:
— Сирианский робот, внешне похожий на человека, очень тонкой работы. Поверхностные наблюдения ничего не дадут.
— Мои наблюдения не были поверхностными, — возразил Пеннер.
В голосе Дэвида звучала горечь:
— Мне начинает казаться, что наблюдения любого человека, кроме опытного роботехника, будут поверхностными.
Они миновали сугроб снегообразного материала, блестевшего в свете Юпитера, и Верзила с удивлением посмотрел на него.
— Тает при взгляде, — сказал он. Взял немного в перчатку, и снег растаял, как масло на печи.
Верзила оглянулся и увидел глубокие следы.
Дэвид сказал:
— Это не снег, а замерзший аммиак. Он тает при температуре на восемьдесят градусов ниже, чем лёд, и на него действует тепло костюмов.
Верзила прыгнул в сугроб, проделывая большие отверстия, и закричал:
— Это забавно!
Старр окликнул:
— Проверь нагреватель, пока играешь в снегу.
— Он включен, — отозвался Верзила и длинными прыжками побежал по склону, а потом прыгнул прямо в сугроб. Он двигался, как ныряльщик в замедленной съёмке, коснулся замерзшего аммиака и исчез на мгновение. Потом вскочил.
— Будто ныряешь в облако, Счастливчик. Ты слышишь меня? Попробуй. Лучше, чем на лыжах по песку Луны.
— Позже, Верзила, — ответил Дэвид. И повернулся к Пеннеру: — Например, пытались ли вы как-то проверить всех людей?
Краем глаза он видел, как Верзила снова прыгнул в сугроб. Когда он спустя несколько секунд не появился, Старр повернулся туда. Ещё мгновение, и он беспокойно позвал:
— Верзила!
Потом ещё громче и беспокойней:
— Верзила!
И побежал.
Послышался слабый прерывающийся голос Верзилы:
— Дыхание… перехватило… ударился о скалу… тут внизу река…
— Держись. Я иду к тебе. — Старр и Пеннер длинными прыжками пожирали пространство.
Счастливчик, конечно, понял, что случилось. Поверхностная температура Ио близка к точке замерзания аммиака. Под аммиачными сугробами существуют целые реки из аммиака, этого дурно пахнущего удушливого газа, которого много в атмосферах внешних планет и их спутников.
Верзила закашлялся.
— Разорвал шланг… подачи воздуха… попал аммиак… задыхаюсь…
Старр добрался до отверстия, оставленного телом Верзилы, и посмотрел вниз. Хорошо видна была аммиачная река, она медленно текла по острым камням. Должно быть, один из этих острых краев и повредил шланг Верзилы.
— Где ты, Верзила?
И хоть Верзила слабо ответил: «Здесь», — его нигде не было видно.
Глава 13
ПАДЕНИЕ
Дэвид бесстрашно прыгнул в реку, медленно опускаясь при низкой силе тяжести Ио. Его сердила эта медлительность падения, сердил детский энтузиазм Верзилы, охвативший его так неожиданно. Но больше всего он сердился на себя за то, что вовремя не остановил товарища.
Он коснулся реки, и брызги аммиака взлетели высоко, потом начали падать с удивительной быстротой. Даже при слабом тяготении разреженная атмосфера Ио не удерживала капли.
Ощущения подъёмной силы не было. Впрочем, Дэвид его и не ожидал. Вода гораздо плотнее жидкого аммиака и потому обладает большей подъёмной силой. И течение медленное. Если бы Верзила не повредил шланг, ему нужно было бы только выйти на берег и пробраться через сугробы.
А так…
Старр лихорадочно устремился вниз по течению. Где-то впереди маленький марсианин из последних сил сражается с ядовитым аммиаком. Если отверстие в шланге настолько велико, что пропустит жидкий аммиак, он опоздает.
Возможно, он уже опоздал. Его сердце сжалась при этой мысли.
Кто-то обогнал Дэвида и углубился в порошкообразный аммиак. И исчез, оставив за собой медленно опадающий туннель.
— Пеннер? — неуверенно спросил Старр.
— Я здесь. — Инженер сзади тронул его за плечо. — Это был Мэтт. Когда вы крикнули, он побежал. Мы ведь оба на его волне.
Они вместе двинулись по следу собаки. И встретили её. Она возвращалась.
Дэвид крикнул:
— Он нашёл Верзилу.
Верзила руками держался за одетые в металл задние лапы собаки, и, хотя это задерживало Мэтта, слабая сила тяжести позволила ему протащить Верзилу довольно далеко.
Когда Дэвид склонился к Верзиле, руки маленького марсианина разжались и он упал.
Счастливчик подхватил его. Он не стал тратить время на осмотр или расспросы. Оставалось сделать только одно. Он до предела увеличил подачу кислорода в костюме Верзилы, взвалил его на плечо и побежал к кораблю. Даже учитывая слабое тяготение Ио, так отчаянно он не бежал никогда в жизни. Он с такой силой отталкивался от поверхности, что со стороны казалось, будто он летит.
Пеннер остался сзади, Мэтт возбуждённо бежал рядом со Старром.
Счастливчик по радио предупредил экипаж, и, когда он подбегал к кораблю, один из шлюзов был уже открыт.
Не прерывая бега, он ворвался в шлюз. Вход закрылся, и изнутри корабля начали подавать под давлением воздух, чтобы ликвидировать утечку через открытую дверь.
Старр торопливо снял с Верзилы шлем, потом медленнее — остальной костюм.
Послушал сердце и, к своему облегчению, услышал его биение. В шлюзе, конечно, находилась аптечка первой помощи. Счастливчик сделал необходимые инъекции укрепляющих препаратов и стал ждать, пока тепло и кислород сделают остальное.
Глаза Верзилы дрогнули и с некоторым трудом сфокусировались на Дэвиде. Губы его шевельнулись, как будто он произнес «Счастливчик», хотя не прозвучало ни звука.
Дэвид облегченно рассмеялся и наконец сам выбрался из костюма.
У входа в помещение на борту «Спутника Юпитера», где приходил в себя Верзила, показался Норрич. В его невидящих голубых глазах светилась нескрываемая радость.
— Как больной?
Верзила сел на койке и крикнул:
— Отлично! Пески Марса, я себя прекрасно чувствую! Если бы Счастливчик не заставлял меня лежать, я был бы уже на ногах.
Дэвид недоверчиво хмыкнул.
Верзила не обратил на это внимания. Он сказал:
— Эй, пусть войдёт Мэтт. Добрый старина Мэтт! Сюда, парень, сюда!
Норрич выпустил поводок, Мэтт подошёл к Верзиле, возбуждённо колотя хвостом; его умные глаза, казалось, беззвучно говорят.
Верзила обнял собаку за шею.
— Вот это друг! Вы слышали, что он сделал, Норрич?
— Все слышали. — Ясно было, что Норрич очень гордится своей собакой.
— Я почти ничего не помню, — сказал Верзила, — потому что почти сразу потерял сознание. Набрал полные лёгкие аммиака и не мог выдохнуть. Покатился вниз по холму, сквозь сугроб аммиака, как через пустоту. Потом увидел, что кто-то приближается. Я был уверен, что это Счастливчик. Но тут он стряхнул снег, и при свете Юпитера я увидел, что это Мэтт. Последнее, что я помню: я ухватился за него.
— И правильно сделал, — вмешался Старр. — Мне бы потребовалось ещё время, чтобы тебя найти, и с тобой было бы кончено.
Верзила пожал плечами.
— Ну, Счастливчик, ты такой шум поднял. Ничего не случилось бы, если бы я не повредил свой шланг. И если бы у меня хватило мозгов увеличить подачу кислорода, я бы вообще не впустил аммиак. Первый глоток аммиака выбил меня из равновесия. Я не мог думать.
Подошёл Пеннер.
— Как вы, Верзила?
— Пески Марса! Все считают меня инвалидом или больным! Со мной всё в порядке. Даже командующий заглянул и что-то сказал.
— Ну, что ж, — заметил Пеннер, — может, он перестал сердиться.
— Нет, — ответил Верзила. — Он просто хотел убедиться, что в его первом полёте не произошло никаких несчастных случаев. Хочет, чтобы в отчете всё было в порядке, вот и всё.
Пеннер рассмеялся.
— Все готовы к отлёту?
Старр спросил:
— Мы покидаем Ио?
— Можем улететь в любой час. Заканчивается погрузка оборудования, которое мы берём с собой; принимаются меры для сохранности остающегося. Когда сможете, приходите в пилотскую рубку. Интересно будет ещё раз взглянуть на Юпитер.
Он почесал Мэтта за ухом и ушёл.
На Юпитер-9 сообщили, что вылетают, как несколько дней раньше сообщали, что сели.
Верзила сказал:
— А почему мы не свяжемся с Землей? Глава Совета Конвей должен знать, что мы сделали.
— Официально мы ничего не сделали, пока не вернемся на Юпигер-9, — ответил Старр.
Он не стал добавлять, что не торопится возвращаться на Юпитер-9, тем более разговаривать с Конвеем. Пока что он ничего не достиг.
Его карие глаза осматривали контрольную рубку. Всё было готово к отлёту. В рубке находились командующий, Пеннер и два офицера.
Дэвид подумал об этих офицерах, как время от времени думал о всех остальных десяти членах экипажа, из которых не успел сделать выбор с помощью венлягушки. Он тоже разговаривал с ними, как и Пеннер, даже чаще. Обыскивал их каюты. Они с Пеннером просмотрели их досье. И ничего не добились.
Он возвращается на Юпитер-9, не обнаружив робота, и ему придётся сообщить Совету о своей неудаче.
Снова он подумал о рентгене или другом насильственном способе обследования. И, как всегда, его остановила мысль о взрыве, возможно, ядерном.
Конечно, робот будет уничтожен. Но взрыв погубит тринадцать человек и бесценный корабль. Хуже всего то, что так и не будет найден безопасный способ устранения роботов-шпионов, которые, он был уверен, во множестве проникли во все районы Солнечной Конфедерации.
Он вздрогнул от неожиданного возгласа Пеннера:
— Пошли!
Послышался знакомый звук начального толчка, ускорение стремительно возрастало, и Ио начала всё быстрее и быстрее уменьшаться.
Юпитер не поместился на экране: слишком он был велик. На экране находилось Большое Красное Пятно.
Пеннер сказал:
— Скоро снова перейдем на аграв, но ненадолго, только чтобы отойти от Ио.
— Но мы по-прежнему падаем к Юпитеру, — сказал Верзила.
— Да, но только до определённого момента. Потом перейдем на гиператомные двигатели и начнем уходить от Юпитера по гиперболической орбите. Когда окажемся на ней, выключим двигатели и предоставим Юпитеру делать остальное. Мы подойдем к нему на сто пятьдесят тысяч миль. Тяготение Юпитера раскрутит нас, как камень в праще, и потом выбросит. В нужном месте мы снова включим гиператомные двигатели. Используя эффект пращи, мы сбережём очень много энергии по сравнению с полётом непосредственно с Ио и побываем вблизи Юпитера.
Он взглянул на часы.
— Пять минут.
Старр знал, что он говорит о моменте, когда корабль перейдёт с аграва на гиператомные двигатели и начнет двигаться по рассчитанной орбите вокруг Юпитера.
По-прежнему глядя на часы, Пеннер сказал:
— Время рассчитано так, чтобы мы направлялись прямо к Юпитеру-9. Чем меньше поправок курса, тем меньше затраты энергии. Мы должны вернуться на Юпитер-9 с максимальным запасом энергии. Чем больше мы её сбережём, тем лучше будет выглядеть аграв. По моим расчётам, мы сбережём восемьдесят пять процентов. Если девяносто — просто превосходно.
Верзила спросил:
— А если мы вернемся с большим запасом энергии, чем при вылете? Что тогда?
— Сверхпревосходно, Верзила, но невозможно. Существует второй закон термодинамики, который не даёт при этом получать прибыль или даже оставаться при своих. Что-то мы должны потерять. — Он широко улыбнулся и сказал: — Одна минута.
Точно в рассчитанную секунду корабль заполнился звуком гиператомных двигателей, и Пеннер с довольным выражением спрятал часы.
— Отныне и до самой посадки на Юпитер-9 всё делается автоматически, — заявил он.
Не успел он это сказать, как гудение прекратилось, свет мигнул и погас. Почти тут же он зажегся снова, но на контрольном щите загорелась красная лампа. Чрезвычайное положение.
Пейнер вскочил.
— Какого космоса…
Он выбежал из контрольной рубки. Остальные с ужасом смотрели друг на друга. Командующий смертельно побледнел, его морщинистое лицо превратилось в тигриную маску.
Дэвид, неожиданно приняв решение, последовал за Пеннером, а Верзила, конечно, за ним.
Им навстречу попался один из инженеров. Он бежал из машинного отделения. Он тяжело отдувался.
— Сэр!
— Что случилось? — выпалил Пеннер.
— Отключился аграв, сэр. Мы не можем его включить.
— А гиператомные двигатели?
— Основные запасы энергии заканчиваются. Мы вовремя выключили двигатели, иначе они бы взорвались. Если мы их включим, корабль взорвётся.
— Значит, мы работаем на резервных запасах?
— Так точно, сэр.
Смуглое лицо Пеннера налилось кровью.
— Что это нам даст? Мы не удержимся на орбите вокруг Юпитера на резервных запасах. Прочь с дороги! Пропустите меня вниз.
Инженер отступил в сторону, и Пеннер углубился в ствол. Старр и Верзила — за ним.
С первого дня полёта Дэвид и Верзила не бывали в машинном отделении. Теперь оно было другим. Не было торжественной тишины, ощущения работающих могучих сил.
Слышались голоса людей.
Пеннер спустился на третий уровень.
— Что вышло из строя? — спросил он. — Скажите точно, что вышло из строя.
Люди расступились, давая ему дорогу. Все они собрались у сложного механизма с развороченными внутренностями, в отчаянии и гневе указывая на отдельные детали.
Послышались быстрые шаги, и появился сам командующий. Он заговорил со Старром, с серьёзным видом стоявшим в стороне.
— В чём дело, член Совета?
Впервые со времени отлёта с Юпитера-9 он обратился непосредственно к нему. Старр ответил:
— Серьёзное повреждение, командующий.
— Но что случилось? Пеннер!
Пеннер оторвался от механизма. Он раздраженно крикнул:
— Что вам нужно?
Ноздри командующего Донахью раздулись.
— Почему вы позволили, чтобы что-то вышло из строя?
— Я ничего не позволял.
— Тогда что же это?
— Саботаж, командующий. Сознательный саботаж!
— Что?
— Пять гравитационных реле разбиты, все запасные реле исчезли, мы не смогли их обнаружить. Приборы, контролирующие гиператомные двигатели, расплавились и не могут быть восстановлены. И всё это произошло не случайно.
Командующий смотрел на главного инженера. Он медленно спросил:
— Можно что-нибудь сделать?
— Возможно, пять реле мы могли бы снять с других механизмов корабля. Не могу сказать точно. Вероятно, можно было бы самостоятельно изготовить приборы контроля. На это потребуется много дней, и положительный исход я не гарантирую.
— Дней! — воскликнул командующий. — У нас нет этих дней. Мы падаем на Юпитер!
Несколько мгновений стояла полная тишина, затем Пеннер выразил в словах то, что все знали:
— Да, командующий. Мы падаем на Юпитер и не можем остановиться. С нами покончено, командующий. Все мы уже мертвы!
Глава 14
ЮПИТЕР ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Последовавшее за этим мертвое молчание нарушил Старр.
Он заговорил резко и решительно:
— Никто не умер, пока мы способны мыслить. Кто быстрее всего работает с корабельным компьютером?
Командующий Донахью ответил:
— Майор Брант. Он у нас всегда рассчитывает траектории.
— Он в контрольной рубке?
— Да.
— Пошли туда. Мне нужны подробные эфемериды планет. Пеннер, вы с остальными останетесь здесь. Попробуйте снять недостающие части и произвести ремонт.
— Но какой прок… — начал Пеннер.
Старр оборвал его:
— Может, никакого. В таком случае мы упадем на Юпитер и умрем после нескольких часов напрасной работы. Я отдал вам приказ. Начинайте!
— Но… — попытался вмешаться командующий Донахью, и тут же смолк.
Дэвид сказал:
— Как член Совета Науки, я принимаю на себя командование этим кораблем. Если попытаетесь спорить, я прикажу Верзиле закрыть вас в вашей каюте, и тогда сможете поспорить на трибунале, если, конечно, мы вернемся.
Он отвернулся и быстро направился к центральному стволу. Верзила поманил командующего и начал подниматься последним.
Пеннер хмуро посмотрел им вслед, повернулся к инженерам и сказал:
— Ну, что, смертнички, нечего ждать и сосать пальцы. Начинаем.
Старр ворвался в контрольную рубку.
Офицер, сидевший у приборов, спросил:
— Что там внизу?
Губы его побелели.
— Вы майор Брант? — сказал Счастливчик. — Хоть мы и не знакомы, сейчас это неважно. Я член Совета Дэвид Старр, и отныне вы исполняете только мои приказы. Садитесь за компьютер, делайте, что я скажу, как можно скорее.
Он положил перед собой справочник по эфемеридам планет. Как все большие справочники, это была книга, а не фильм. Перелистывать страницы быстрее, чем разворачивать фильм во всю длину.
Старр уверенно перелистывал страницы, роясь в длинных колонках цифр. Эти цифры указывали орбиты всех материальных тел Солнечной системы крупнее десяти миль в диаметре (а некоторых и меньше) в определённые моменты стандартного времени, вместе с плоскостью вращения и скоростью движения.
Дэвид сказал:
— Я буду называть координаты и направление движения. Рассчитайте орбиту и положение этого пункта на протяжении ближайших сорока восьми часов.
Пальцы майора быстро двигались, при помощи специального устройства он переносил цифры на перфорированную ленту, которая затем направлялась в компьютер.
Пока это продолжалось, Старр говорил:
— Расчёт ведите от нашего теперешнего положения и скорости относительно Юпитера и точки пересечения с тем объектом, координаты которого я вам указал.
Майор продолжал работать.
Компьютер выдал результаты на перфорированной ленте, которая перешла к машинке, где данные уже появились на бумаге.
Дэвид спросил:
— Каково расхождение во времени между кораблем и этим объектом в рассчитанной точке его орбиты?
После некоторых расчётов майор ответил:
— Мы разойдёмся на четыре часа двадцать одну минуту и сорок четыре секунды.
— Рассчитайте скорость, которую должен иметь корабль, чтобы точно встретиться с объектом. Отсчёт начните через час с этого момента по стандартному времени.
Вмешался командующий Донахью:
— Мы не можем так приближаться к Юпитеру, член Совета. У нас не хватит резервной энергии, чтобы вырваться. Разве вы не понимаете?
— Я не прошу, чтобы майор рассчитывал орбиту от Юпитера. Наоборот, мы ускорим движение корабля к Юпитеру, сколько позволяют наши запасы энергии.
Командующий откинулся на пятках.
— К Юпитеру?
Компьютер произвел расчёты, появились результаты. Старр спросил:
— Хватит ли энергии для нужного ускорения?
— Кажется, да, — не очень уверенно ответил майор.
— Действуйте.
Командующий Донахью снова спросил:
— К Юпитеру?
— Да. Совершенно верно. Ио не самый близкий к Юпитеру спутник. Ближе всех Амальтея, Юпитер-5. Если мы в нужном месте пересечем её орбиту, сможем высадиться. Ну, а если промахнемся, что ж, смерть наступит на два часа раньше.
Верзила почувствовал внезапный прилив надежды. Он никогда не отчаивался, пока действовал Старр, просто до сих пор он не понимал, что тот делает. Он вспомнил свой разговор с Дэвидом на эту тему. Спутники нумеровались в порядке их открытия. Амальтея — маленький спутник, всего сто миль в диаметре, и открыт он был после четырёх больших спутников. Поэтому, будучи ближе всех к Юпитеру, он получил пятый номер. Об этом обычно забывают. Считается, что если у спутника первый номер, то он ближе всех к планете.
Через час «Спутник Юпитера» начал тщательно рассчитанное ускорение к Юпитеру, стремясь прямо в смертоносную ловушку.
Юпитера больше на экране не было. Хоть он увеличивался с каждым часом, на экране оставался участок звёздного неба на значительном удалении от края Юпитера. Применялось максимальное увеличение. В этом месте должен был показаться Юпитер-5, с его орбитой должна была пересечься орбита корабля, стремившегося вниз, к Юпитеру. Либо слабое поле тяготения крошечной скалы захватит корабль, либо он пролетит мимо и погибнет.
— Вот он! — возбуждённо воскликнул Верзила. — Вон та звёздочка.
— Рассчитайте наблюдаемое положение и движение, — приказал Старр, — и сопоставьте с расчётной орбитой.
Это было сделано.
— Нам необходимо замедлить скорость на…
— Цифры не нужны. Делайте!
Юпитер-5 обходит гигантскую планету за двенадцать часов, двигаясь по орбите со скоростью почти в три тысячи километров в час. Это в полтора раза быстрее движения Ио, а поле тяготения Амальтеи в двенадцать раз меньше поля Ио. По этим причинам попасть в цель очень трудно. Руки майора Бранта дрожали. Двигатели «Спутника Юпитера» ожили, изменяя орбиту корабля навстречу Юпитеру-5. Корабль обогнал спутник, повернул, уровнял скорость, позволяя полю тяготения спутника захватить корабль.
Юпитер-5 превратился в большой сверкающий объект. Если он таким и останется, хорошо. Если начнёт уменьшаться, они промахнулись.
Майор Брант прошептал:
— Получилось, — и его голова упала на руки, лежавшие на приборах.
Даже Счастливчик на мгновение облегченно закрыл глаза.
В одном отношении ситуация на Юпитере-5 решительно отличалась от положения на Ио. Там все были прежде всего зрителями: великолепное зрелище неба занимало больше внимания, чем неторопливая работа в долине.
На Юпитере-5 никто не выходил из корабля. Посмотреть было на что, но никто не смотрел.
Люди оставались на борту и работали над ремонтом двигателей. Всё остальное не имело значения. Если они потерпят неудачу, высадка на Юпитере-5 только отсрочит гибель и продлит агонию.
Обычный корабль прилететь к Юпитеру-5 и спасти их не может, а других аграв-кораблей, кроме их собственного, не существует и не появится по крайней мере в течение года. Если они потерпят неудачу, у них будет достаточно времени, чтобы, ожидая смерти, смотреть на небо.
Но в менее критических обстоятельствах посмотреть было на что. Всё как на Ио, только вдвое и втрое поразительней.
С того места, где приземлился «Спутник Юпитера», нижний край Юпитера висел над плоским песчаным горизонтом. Гигант был так близок, что наблюдателю казалось: стоит протянуть руку, и коснёшься этого светлого круга.
От горизонта Юпитер поднимался вверх, занимая половину расстояния до зенита. В момент приземления он был почти в полной фазе, и на огромной поверхности из ярких движущихся поясов можно было бы разместить не менее десяти тысяч лунных дисков. Юпитер закрывал почти шестнадцатую часть видимого неба.
И поскольку Юпитер-5 обходит планету за двенадцать часов, видимые спутники — их здесь четыре, а не три, как на Ио, потому что Ио тоже превратилась в спутник, — движутся в три раза быстрее, чем на небе Ио. То же касается звёзд и всех остальных небесных объектов, за исключением застывшего Юпитера, к которому вечно обращена одна сторона спутника и который поэтому никогда не движется.
Через пять часов взошло Солнце, и повторилась картина, виденная с Ио. Но Юпитер был вчетверо больше, и Солнце двигалось втрое быстрее, и потому затмение казалось в сотни раз прекрасней.
Но никто не видел этого. Затмение происходило двенадцать раз, пока «Спутник Юпитера» оставался на Амальтее, и его никто не видел. Ни у кого не было времени. И желания.
Наконец Пеннер сел и устало огляделся. Глаза его распухли, говорил он хриплым шёпотом.
— Ну хорошо. Все по местам. Сделаем попытку взлететь. — Он не спал сорок часов. Остальные работали посменно, но Пеннер не делал перерывов ни для еды, ни для сна.
Верзила, который занимался неквалифицированной работой, подносил и уносил, поддерживал и читал показания приборов, при пробной попытке оказался не у дел. Поэтому он пошёл бродить по кораблю в поисках Дэвида и обнаружил его в контрольной рубке вместе с командующим Донахью.
Старр снял рубашку и растирал плечи, руки и лицо большим пушистым пластиковым полотенцем.
Увидев Верзилу, он резко сказал:
— Корабль полетит, Верзила. Скоро старт.
Верзила поднял брови.
— Это только попытка, Счастливчик.
— Получится. Джим Пеннер способен на чудеса.
Командующий Донахью неловко сказал:
— Член Совета Старр, вы спасли мой корабль.
— Нет, нет. Всё сделал Пеннер. Половина приборов соединена проволокой, но сработает.
— Вы знаете, о чём я, член Совета. Вы повели нас к Юпитеру-5, когда остальные впали в панику и готовы были сдаться. Вы спасли мой корабль, и я расскажу об этом на трибунале, которому буду предан за отказ сотрудничать с вами на Юпитере-9.
Дэвид смущенно покраснел.
— Я этого не могу допустить, командующий. Важно, чтобы о членах Совета было известно как можно меньше. Что касается официального отчёта, в нём будет указано, что командование всё время принадлежало вам. Никакого упоминания о моих действиях.
— Невозможно. Я не могу допустить, чтобы меня хвалили за то, чего я не делал.
— Придётся. Это приказ. И никаких разговоров о трибунале.
Командующий Донахью гордо выпрямился.
— Я заслуживаю трибунала. Вы предупредили меня о присутствии сирианского агента. Я не прислушался, и в результате корабль подвергся саботажу.
— Я тоже виноват, — спокойно ответил Старр. — Я находился на борту и не предотвратил этого. Тем не менее, если мы обнаружим саботажника, никаких разговоров о трибунале не будет.
Командующий сказал:
— Разумеется, саботажник — это робот, о котором вы меня предупреждали. Как я мог быть так слеп!
— Боюсь, что вы по-прежнему не всё видите. Это не робот.
— Не робот?
— Робот не может подвергнуть опасности корабль. Это причинило бы вред людям и было бы нарушением Первого закона.
Командующий задумался.
— Возможно, он не сознавал, что причиняет вред.
— Все на корабле, включая гуманоида, понимают действие аграва. Робот знал бы, что приносит вред. Во всяком случае я думаю, что мы знаем, кто саботажник, или скоро узнаем.
— Да! И кто же он, член Совета Старр?
— Подумайте. Человек, который выводит из строя корабль, чтобы тот либо взорвался, либо упал на Юпитер, и остаётся на корабле, сумасшедший или фанатик.
— Да, вы правы.
— Со времени отлёта с Ио шлюзы корабля ни разу не открывались. Если бы они открылись, слегка упало бы давление, а корабельный барометр свидетельствует, что этого не было. Значит, саботажник не вошёл в корабль на Ио. Он там, если его не подобрали.
— Как его могли подобрать? Ни один корабль, кроме нашего, не может там сесть.
Старр мрачно улыбнулся.
— Ни один земной корабль.
Глаза командующего широко раскрылись.
— Но ведь не сирианский же?
— А вы уверены?
— Да, уверен. — Командующий нахмурился. — Кстати, подождите. Перед отлётом с Ио все доложили о своём присутствии на борту. Мы не стартовали бы без проверки.
— Значит, все на борту.
— Я так считаю.
— Что ж, — сказал Дэвид, — Пеннер приказал, чтобы все находились на постах по чрезвычайному расписанию. Местоположение каждого человека известно. Свяжитесь с Пеннером и выясните, все ли на месте.
Командующий повернулся к интеркому и вызвал Пеннера.
После небольшой задержки послышался усталый голос Пеннера:
— Я как раз собирался позвонить, командующий. Испытание прошло успешно. Мы можем стартовать. Нам везёт, продержимся, пока не сядем на Юпитере-9.
Командующий ответил:
— Очень хорошо. Ваша работа будет отмечена должным образом, Пеннер. Все ли на посту?
Лицо Пеннера на экране сразу застыло.
— Нет! Клянусь космосом, я только что собирался вам сказать. Мы не можем обнаружить Саммерса.
— Ред Саммерс! — внезапно возбуждённо воскликнул Верзила. — Подонок!..
— Минутку, Верзила, — сказал Старр. — Доктор Пеннер, вы хотите сказать, что Саммерса нет в его каюте?
— Его нигде нет. Если бы это не было невозможно, я бы сказал, что его нет на борту.
— Спасибо. — Дэвид отключился. — Ну, командующий?
Верзила сказал:
— Послушай, Счастливчик. Помнишь, я как-то тебе сказал, что встретил его выходящим из машинного отделения? Что он там делал?
— Теперь мы знаем, — сказал Дэвид.
— И мы знаем достаточно, чтобы схватить его, — сказал побледневший командующий. — Мы высадимся на Ио…
— Подождите, — сказал Старр, — это не самое срочное. Есть нечто гораздо более важное, чем предатель.
— Что?
— Вопрос о роботе.
— Это подождёт.
— Может быть, и нет. Командующий, вы сказали, что все доложились перед стартом с Ио. Значит, один из докладов лживый.
— Ну и что?
— Мне кажется, нужно в этом разобраться. Робот не может саботировать, но человек может; и робот поможет ему уйти с корабля.
— Вы хотите сказать, что тот, кто дал ложное сообщение о Саммерсе, тот и есть робот?
Член Совета помолчал. Он пытался заставить себя не слишком надеяться, но ему казалось, что ход его мысли безупречен.
Он сказал:
— Похоже, что так.
Глава 15
ПРЕДАТЕЛЬ!
Командующий Донахью сказал:
— Значит, майор Левинсон. — Глаза его потемнели. — И всё же я не могу поверить.
— Не можете поверить? — переспросил Дэвид.
— В то, что он робот. Он принимал доклад. Он ведет все записи. Я знаю его и готов поклясться, что он не робот.
— Мы расспросим его, командующий. И ещё одно. — У Старра было серьёзное выражение лица. — Не обвиняйте его в том, что он робот; не спрашивайте и даже не подразумевайте в вопросах. Не дайте ему почувствовать, что его подозревают.
Командующий выглядел удивленным.
— Почему?
— Сирианцы могут защитить своего робота. Открытое подозрение может привести в действие взрывное устройство в майоре, если он действительно робот.
Командующий взволнованно воскликнул:
— Великий Космос!
Майор Левинсон не проявлял признаков напряжения, обычного теперь для экипажа «Спутника Юпитера»; он вытянулся по стойке «смирно».
— Да, сэр.
Командующий осторожно сказал:
— Член Совета Старр хочет задать вам несколько вопросов.
Майор повернулся к Старру. Высокий, выше даже Счастливчика, с узким лицом, голубыми глазами и светлыми волосами.
Старр сказал:
— Все члены экипажа доложили о том, что находятся на борту, когда мы улетали с Ио. Верно, майор?
— Да, сэр.
— Вы всех видели лично?
— Нет, сэр. Я пользовался интеркомом. Каждый отвечал из своей каюты.
— Каждый? Вы слышали голоса всех людей? Все индивидуальные голоса?
Майор Левинсон удивленно ответил:
— Кажется, да. Но я точно не помню.
— Это очень важно, и я прошу вас вспомнить.
Майор нахмурился и наклонил голову.
— Подождите. Я вспомнил: Норрич ответил за Саммерса, потому что Саммерс был в ванной. — Потом с неожиданным возбуждением воскликнул: — Подождите! Мы ведь сейчас разыскиваем Саммерса.
Дэвид поднял руку.
— Ничего, майор. Будьте добры, пришлите сюда Норрича.
Майор Левинсон привел за руку Норрича. Тот выглядел удивленным. Он сказал:
— Командующий, никто не может отыскать Реда Саммерса. Что с ним случилось?
Старр предупредил ответ командующего. Он сказал:
— Мы как раз пытаемся это установить. Вы сообщили, что Саммерс на борту, когда майор Левинсон проверял экипаж перед вылетом с Ио?
Слепой инженер покраснел. Он напряженно ответил:
— Да.
— Майор говорит, что, по вашим словам, Саммерс был в ванной. Он там был?
— Гм… Нет, не был, член Совета. Он вышел из корабля на минуту, чтобы подобрать оставленное оборудование. Он не хотел, чтобы командующий отругал его… простите, сэр… за безалаберность, и попросил меня прикрыть его. Он сказал, что вернётся до старта.
— Вернулся?
— Я… я считал… у меня было впечатление, что он вернулся. Мэтт залаял, и я был уверен, что это возвращается Саммерс, но мне нечего делать во время старта, поэтому я прилег вздремнуть и больше об этом не думал. Потом началась суматоха в машинном отделении, а после этого вообще не было времени подумать.
Неожиданно из центрального интеркома послышался голос Пеннера:
— Внимание. Мы взлетаем. Всем занять места.
«Спутник Юпитера» снова был в космосе, он поднимался, преодолевая мощными толчками тяготение гигантской планеты. Он тратил энергию в таких количествах, что любой обычный корабль уже давно исчерпал бы все запасы; только лёгкий гул гиператомных двигателей свидетельствовал, что механизмы корабля зависели от наскоро сделанных приспособлений.
Пеннер мрачно думал о том, что корабль мало запасет энергии. Он сказал:
— Мы придём назад с семьюдесятью процентами энергии, а могли бы с восемьюдесятью или даже девяноста. Если же сядем на Ио и снова стартуем, вернёмся только с пятьюдесятью. И не уверен, что мы выдержим ещё один старт.
Но Старр ответил:
— Мы должны взять Саммерса, и вы знаете почему.
Когда Ио снова заметно увеличилась на экране, Дэвид задумчиво сказал:
— Я не вполне уверен, что мы его найдем, Верзила.
Верзила недоверчиво спросил:
— Ты ведь не думаешь, что его подобрал сирианский корабль?
— Нет, но Ио велика. Если он отправился в какой-то район для встречи, мы его не найдем. Я рассчитываю на то, что он останется на месте. Ему пришлось бы нести с собой воздух, пищу и воду, так что логично оставаться на месте. Особенно потому, что он не ожидает нашего возвращения.
Верзила сказал:
— Мы с самого начала должны были знать, что это тот самый подонок. Он сразу попытался тебя убить. Зачем ему это, если он не с сирианцами?
— Верно, Верзила, но помни: мы искали шпиона. Саммерс не может быть шпионом. У него нет доступа к просочившейся информации. Как только мне стало ясно, что шпион робот, я о Саммерсе больше не думал. Венлягушка восприняла его эмоции, так что он не мог быть роботом и, следовательно, шпионом. Конечно, это не помешало ему быть предателем и саботажником, и мне не следовало допускать, чтобы поиски шпиона закрыли мне глаза на такую возможность.
Он покачал головой и добавил:
— Похоже, в этом деле сплошные разочарования. Если бы кто-нибудь, кроме Норрича, покрывал Саммерса, мы бы знали своего робота. Беда в том, что Норрич единственный человек, у которого вполне невинный повод помогать Саммерсу. Он дружил с Саммерсом, мы это знаем. И Норрич действительно мог не знать, что Саммерс не вернулся на корабль до старта. Ведь он слеп.
Верзила сказал:
— К тому же он проявил эмоции, значит, он не робот.
Счастливчик кивнул:
— Совершенно верно.
Он нахмурился и замолчал.
Они опустились на поверхность Ио почти в том же месте, с которого взлетели. Точки и тени в долине превратились в оставленное оборудование.
Старр напряженно разглядывал ландшафт через свою лицевую пластину.
— Оставили ли мы на Ио палатки с воздухом?
— Нет, — ответил командующий.
— Тогда мы его нашли. Вон за той скалой герметическая палатка с воздухом. У вас есть перечень материалов, недостающих на корабле?
Командующий молча протянул ему лист бумаги, и член Совета изучил его. Он сказал:
— Мы с Верзилой отправимся за ним. Не думаю, чтобы нам понадобилась помощь.
Крошечное Солнце стояло высоко в небе, и Дэвид и Верзила наступали на собственные тени. Юпитер казался тонким серпом.
Старр заговорил на волне Верзилы:
— Он должен был видеть корабль, если только не спит.
— Наверно, сбежал, — предположил Верзила.
— Сомневаюсь.
И почти сразу же Верзила воскликнул:
— Пески Марса, Счастливчик, посмотри туда!
На вершине скалы появилась фигура. Она чётко вырисовывалась на фоне тонкой желтой линии Юпитера.
— Не двигайтесь, — послышался низкий усталый голос на волне Старра. — У меня бластер.
— Саммерс, — сказал Дэвид, — спуститесь оттуда и сдавайтесь.
В напряженном голосе послышалась лёгкая насмешка:
— Я верно угадал длину волны, так ведь, член Совета? Нетрудно догадаться по величине вашего друга… Возвращайтесь на корабль, или я убью вас обоих.
Старр ответил:
— Не нужно бесцельно блефовать. На таком расстоянии вы и с десятого выстрела не попадете.
Верзила в ярости добавил:
— Я тоже вооружен, и я на таком расстоянии попаду. Помните это и не шевелите пальцем у курка.
Дэвид сказал:
— Отбросьте бластер и сдавайтесь.
— Никогда! — ответил Саммерс.
— Почему? Кому вы сохраняете верность? Сирианцам? Они обещали вас подобрать? Если так, то они солгали и предали вас. Они не стоят вашей верности. Скажите, где находится сирианская база в системе Юпитера?
— Вы слишком много знаете. Найдите сами.
— На какой комбинации субволн вы с ними связывались?
— И это сами узнайте… Не подходите ближе!
Старр сказал:
— Помогите нам сейчас, Саммерс, и я сделаю всё, что смогу, чтобы облегчить вашу участь на Земле.
Саммерс рассмеялся.
— Слово члена Совета?
— Да.
— Не хочу. Возвращайтесь на корабль.
— Почему вы обратились против собственного мира, Саммерс? Что предложили вам сирианцы? Деньги?
— Деньги! — В голосе Саммерса звучала ярость. — Хотите знать, что они мне предложили? Я вам скажу. Возможность приличной жизни. — Дэвид услышал скрежещущий звук: это зубы Саммерса. — Что у меня было на Земле? Жалкая жизнь. Перенаселённая планета, где нет возможности продвинуться, создать себе имя и положение. Повсюду окружают миллионы людей, сражающихся друг с другом за существование. А когда я тоже попытался сражаться, меня отправили в тюрьму. Я принял решение отомстить Земле и отомстил.
— А какую приличную жизнь вы ожидали у сирианцев?
— Меня пригласили эмигрировать на планеты Сириуса, если хотите знать. — Он замолчал и дышал со свистом. — Там новые миры. Чистые миры. Там есть место для множества людей; им нужны люди и таланты. Там у меня есть шанс.
— Вы туда не попадете. Когда они должны за вами прилететь?
Саммерс молчал.
Старр сказал:
— Посмотрите правде в лицо. Они за вами не придут. У них нет для вас приличной жизни, вообще никакой жизни. Только смерть. Они ведь уже должны были прилететь, верно?
— Нет.
— Не лгите. Это не улучшит ваше положение. Мы проверили отсутствующие на «Спутнике Юпитера» припасы. Мы точно знаем, сколько кислорода вы унесли с корабля. Кислородные цилиндры трудно нести даже при слабом тяготении Ио, особенно когда приходится уносить их незаметно и в спешке. Ваш запас воздуха почти кончился, верно?
— У меня достаточно воздуха, — ответил Саммерс.
Старр сказал:
— А я говорю: запас почти кончился. Разве вы не понимаете, что сирианцы не придут? Без аграва прийти за вами невозможно, а у них нет аграва. Великая Галактика, да вас обвели вокруг пальца! Скажите, что вы для них сделали.
Саммерс ответил:
— Сделал то, что они просили, а просили они немного. И если о чём-то сожалею, — в голосе его зазвучали отчаянные нотки, — то только о том, что не взорвал «Спутник Юпитера». Кстати, как вы уцелели? Я ведь повредил его. Повредил этот проклятый… — Он смолк, задыхаясь.
Дэвид сделал знак Верзиле и побежал стремительным летящим бегом, характерным для планет с малой силой тяжести. Верзила последовал за ним, но бежал в стороне, чтобы не создавать одну цель для бластера.
Ожил бластер Саммерса. Раздался лёгкий хлопок — всё, что возможно в разреженной атмосфере Ио. В ярде от бегущего Старра взметнулся песок и образовался небольшой кратер.
— Вы меня не возьмете, — слабеющим голосом кричал Саммерс. — Я не вернусь на Землю. Они придут за мной. Сирианцы придут за мной.
— Вверх, Верзила, — сказал Дэвид.
Они добежали до скалы. Подпрыгнув, Старр ухватился за выступ и бросил своё тело вверх. При тяготении в одну шестую нормы человек, даже в космическом костюме, прыгает лучше горного козла.
Саммерс пронзительно закричал. Руки его устремились к шлему, он откинулся назад и исчез.
Старр и Верзила добрались до вершины. Скала с противоположной стороны круто уходила вниз, внизу виднелись острые утесы. Саммерс, растопырив руки и ноги, медленно падал вниз, ударяясь о скалу и отскакивая.
Верзила сказал:
— Давай возьмем его, Счастливчик. — И прыгнул вперёд, подальше от стены.
Дэвид — за ним.
На Земле, даже на Марсе такой прыжок смертелен. На Ио он закончился толчком, от которого задрожали зубы.
Они приземлились, согнув колени, и покатились, чтобы смягчить удар. Старр первым вскочил и побежал к Саммерсу, который неподвижно лежал навзничь.
Подбежал, отдуваясь, Верзила.
— Эй, не самый лёгкий прыжок в… Что с подонком?
Дэвид мрачно ответил:
— Он мертв. Я слышал по его голосу, что у него кончается кислород. Он был почти без сознания. Вот почему я его торопил.
— Можно долго лежать без сознания, — заметил Верзила.
Старр покачал головой.
— Он постарался действовать наверняка. И правда не хотел, чтобы его взяли. Перед прыжком он открыл доступ в шлем ядовитой атмосфере Ио.
Он сделал шаг в сторону, и Верзила увидел разбитое лицо.
Дэвид сказал:
— Несчастный глупец!
— Несчастный предатель! — завопил Верзила. — У него был ответ, но он его скрыл. Кто теперь скажет нам?
Член Совета ответил:
— Для этого он нам не нужен, Верзила. Я думаю, что теперь знаю ответ.
Глава 16
РОБОТ!
— Знаешь? — Голос марсианина поднялся до писка. — Каков ответ, Счастливчик?
Старр сказал:
— Не сейчас. — Он взглянул на Саммерса, мертвые глаза которого невидяще смотрели в чуждое небо. — У Саммерса есть по крайней мере одна заслуга. Он первый человек, умерший на Ио.
Он посмотрел вверх. Солнце заходило за Юпитер. Планета превратилась в слабо светящийся атмосферный серебристый круг.
Дэвид сказал:
— Сейчас будет темно. Идём на корабль.
Верзила расхаживал по полу их каюты. Можно было сделать только три шага в одну сторону, три в другую, но он расхаживал. Он сказал:
— Если ты знаешь, почему же не…
Старр ответил:
— Я не могу предпринять обычные действия и рисковать взрывом. Дай мне время и возможность действовать по-своему, Верзила.
Голос его звучал твёрдо, и Верзила подчинился. Он сменил тему и спросил:
— Ну тогда зачем терять время здесь, на Ио? Этот подонок мертв. Делать нам здесь больше нечего.
— Нужно сделать ещё одно дело, — ответил Дэвид. Прозвучал дверной сигнал, и он добавил: — Открой, Верзила. Должно быть, это Норрич.
Голубые невидящие глаза Норрича быстро мигали.
— Я слышал о Саммерсе, член Совета. Ужасно думать, что он пытался… Ужасно, что он предатель. Но мне жаль его.
Старр кивнул.
— Я понимаю. Поэтому я и попросил вас зайти. На Ио сейчас темно. Солнце в затмении. Когда затмение кончится, пойдёте со мной хоронить Саммерса?
— С радостью. Ведь этого заслуживает любой человек? — Рука Норрича как бы в поисках утешения опустилась на морду Мэтта, собака подошла ближе и прижалась к хозяину, как будто поняла его потребность в сочувствии.
Дэвид сказал:
— Я так и думал, что вы захотите пойти. Ведь он был вашим другом. Вы должны отдать ему последний долг.
— Спасибо. Я пойду. — Глаза Норрича увлажнились.
Перед тем как надеть шлем, Старр сказал командующему Донахью:
— Это последний выход. Когда мы вернемся, полетим на Юпитер-9.
— Хорошо, — ответил командующий, и в их встретившихся взглядах читалась молчаливая договоренность.
Старр надел шлем. В другом углу чувствительные пальцы Норрича надевали на Мэтта гибкий костюм. Норрич проверял прочность швов. Внутри изогнутого шлема видно было, как движутся челюсти Мэтта, доносился слабый звук лая. Очевидно, собака знала, что предстоит прогулка при низкой силе тяжести, и радовалась этому.
Первая могила на Ио была готова. Её вырубили в скале с помощью силового резака. Сверху насыпали груду обломков и положили памятный плоский камень.
Трое людей стояли вокруг могилы, а Мэтт убежал в сторону, стараясь, как всегда тщетно, исследовать окрестности, хотя металл шлема не давал ему возможности пользоваться обонянием.
Верзила, который знал, что он должен сделать, хотя не понимал почему, напряженно ждал.
Норрич, который стоял со склоненной головой, негромко сказал:
— Этот человек очень сильно хотел чего-то, он поступил из-за этого неправильно и был наказан.
— Он делал то, что велели ему сирианцы, — добавил Старр. — В этом его преступление. Он совершил саботаж и…
Норрич застыл, пауза затянулась. Норрич спросил:
— И что?
— И провёл вас на борт корабля. Он отказался лететь без вас. Вы сами сказали мне, что только благодаря ему попали на борт «Спутника Юпитера».
Голос Старра стал строг.
— Вы шпион-робот, подосланный сирианцами. Ваша слепота сделала вас невинным в глазах остальных, но вам не нужно зрение. Вы убили венлягушку и позволили Саммерсу бежать с корабля. Ваша смерть для вас самого ничего не значит, как свидетельствует Третий закон. И вы одурачили меня поддельными эмоциями, которые уловила венлягушка, синтетическими эмоциями, которыми вас снабдили сирианцы.
Это были ключевые слова, которых ждал Верзила. Подняв в воздух бластер, он набросился на Норрича, который нечленораздельно протестовал.
— Я знал, что это вы, — кричал Верзила, — с самого начала я вас раскусил!
— Это неправда, — наконец обрел голос Норрич.
Он поднял руки и пошатнулся.
Неожиданно Мэтт будто превратился в полоску бледного света. Он стремительно пронесся через четверть мили, отделявшие его от людей, нацелившись на Верзилу.
Верзила не растерялся. Одной рукой он ухватил Норрича за плечо. Другой поднял бластер.
Мэтт упал!
Когда он находился в десяти футах от них, ноги его вдруг подогнулись, он покатился по земле и застыл. Сквозь прозрачный шлем были видны раскрытые, словно в прерванном лае, челюсти.
Верзила сохранил угрожающую позу, но тоже застыл.
Старр быстро подошёл к животному. С помощью силового ножа он взрезал космический костюм Мэтта от шеи до хвоста.
Потом осторожно разрезал шкуру на шее и начал щупать одетыми в перчатки пальцами. Они нащупали маленький шар. Это была не кость. Член Совета потянул: шар не поддавался. Затаив дыхание, он перерезал державшие шар провода, и встал, ослабев от облегчения. Основание мозга — самое логичное место для размещения механизма, который приводится в движение мозгом, и он его нашёл. Мэтт теперь не опасен.
Норрич вскрикнул, будто инстинктивно ощутив свою потерю.
— Моя собака! Что вы сделали с моей собакой?
Дэвид мягко ответил:
— Это не собака, Норрич. И никогда не была собакой. Это робот. Пошли, Верзила, отведи его на корабль. Я понесу Мэтта.
Старр и Верзила сидели в каюте Пеннера. «Спутник Юпитера» снова находился в полёте, Ио быстро уходил назад, превратившись уже в яркую монету.
— Что его выдало? — спросил Пеннер.
Дэвид серьёзно ответил:
— Многое, чего я сперва не понял. Всё указывало на Мэтта, но я так настроился на гуманоидного робота, был так убеждён внутренне, что робот обязательно должен походить на человека, что не видел фактов, которые были прямо передо мной.
— А когда увидели?
— Когда Саммерс покончил с собой, спрыгнув с утеса. Я смотрел, как он лежит, и вспомнил, как упал и чуть не погиб Верзила. И подумал: «Не было тут Мэтта, чтобы спасти этого…» И сразу всё понял.
— Как? Я не понимаю.
— Как Мэтт спас Верзилу? Когда собака пробежала мимо нас, Верзила находился подо льдом, его не было видно. Но Мэтт прыгнул вниз, без колебаний направился к Верзиле и вытащил его. Мы приняли это без размышлений: собака может отыскивать то, что не видит, благодаря обонянию. Но голова Мэтта была в шлеме. Он не мог ни видеть, ни чуять Верзилу, но сумел его отыскать. Надо было сразу понять, что тут что-то необычное. Точно узнаем, когда наши роботехники изучат его тело.
— Теперь, когда вы объяснили, — сказал Пеннер, — всё кажется ясным. Собака должна была себя выдать, потому что Первый закон не позволял допускать вред человеку.
— Верно, — согласился Дэвид. — Как только я заподозрил Мэтта, всё остальное встало на место. Саммерс добился того, чтобы взяли Норрича. Но тем самым он провёл на борт и Мэтта. Больше того, именно Саммерс раздобыл Мэтта для Норрича. Вероятно, на Земле существует целая шпионская сеть, задача которой — распределение таких собак-роботов в самые критические места. Собаки — превосходные шпионы. Если вы увидите, что собака роется носом в сверхсекретных документах или проходит через закрытую лабораторию, разве вы встревожитесь? Вероятно, вы приласкаете собаку и угостите её печеньем. Я осмотрел Мэтта. Мне кажется, у него есть встроенный субэфирный передатчик, и он находился в постоянной связи со своими хозяевами-сирианцами. Они видели то, что он видит, слышали, что он слышит. Например, они глазами Мэтта увидели венлягушку, распознали опасность и приказали ему убить её. Он, вероятно, способен был держать энергетический проектор, которым расплавил замок на двери. Даже если бы его застали за этим занятием, вполне возможно, посчитали бы неосторожной игрой собаки с оружием. Но, когда эта мысль пришла мне в голову, я был только в начале практического решения. Мне нужно было получить собаку нетронутой. Я был уверен, что любое подозрение вызовет взрыв. Поэтому я вначале удалил Норрича, а с ним и Мэтта на безопасное расстояние от корабля, предложив выкопать могилу для Саммерса. Если бы Мэтт взорвался, по крайней мере уцелели бы корабль и экипаж. Естественно, я оставил записку, которую командующий Донахью должен был прочесть, если я не вернусь. Земля бы всё равно начала проверку собак в исследовательских центрах… Затем я обвинил Норрича…
Его прервал Верзила:
— Пески Марса, я поверил, когда ты сказал, что Норрич убил венлягушку и дурачил нас встроенными эмоциями.
Дэвид покачал головой.
— Нет, Верзила, если бы у него были эти ложные эмоции, зачем убивать венлягушку? Нет, я постарался, чтобы сирианцы, если они слушают через Мэтта, поверили, что я иду по неверному следу. Вдобавок я подстроил ситуацию, чтобы обезвредить Мэтта. Видите ли, Верзила по моему приказу напал на Норрича. Как в собаку-поводыря в Мэтта был встроен строгий приказ защищать хозяина — это соответствует Второму закону. Обычно здесь проблем не возникает. Мало кто нападает на слепого, а если и нападут, то отступят, когда собака зарычит и оскалит клыки. Но Верзила не отступил, и Мэтту впервые с момента создания пришлось выполнять приказ до конца. Но как он мог это сделать? Повредить Верзиле он не мог. Первый закон. Но он не мог и позволить, чтобы причинили вред Норричу. Дилемма, которую он не мог разрешить, вывела его из строя. Как только это произошло, я решил, что бомбу, которая в нём заключена, теперь взорвать нельзя. Я извлек её, и после этого мы оказались в безопасности.
Пеннер перевел дыхание.
— Очень аккуратно проделано.
Дэвид фыркнул.
— Аккуратно? Да я мог это проделать в первый же день, как высадился на Юпитере-9, если бы только подумал. Я почти догадался. Мысль была на самом краю сознания, но я так и не смог уловить её.
Верзила спросил:
— Но что за мысль, Счастливчик? Я так и не понял.
— Очень просто. Венлягушка воспринимает эмоции животных не хуже человеческих. Пример у нас был сразу после высадки на Юпитере-9. Мы почувствовали голод в мозгу кошки. Потом мы встретились с Норричем, и он попросил тебя имитировать удар, чтобы показать привязанность Мэтта. Ты послушался. Я отметил твои эмоции и эмоции Норрича, но, хотя Мэтт внешне проявлял все признаки гнева, ни следа его эмоций не было. Это абсолютное доказательство того, что у Мэтта нет эмоций и, следовательно, он не собака, а робот. Но я так был убеждён, что робот должен быть человекоподобным, что закрыл мозг перед этой мыслью… Ну ладно, пойдем пообедаем и заодно навестим Норрича. Я хочу пообещать ему, что разыщу для него собаку, на этот раз настоящую.
Они встали, и Верзила сказал:
— Во всяком случае, Счастливчик, хоть это и заняло много времени, мы остановили сирианцев.
Старр негромко ответил:
— Я не уверен, что мы их остановили, но что задержали — это точно.
Книга VI. СЧАСТЛИВЧИК СТАРР И КОЛЬЦА САТУРНА
Глава 1
ПРИШЕЛЬЦЫ
Солнце превратилось в яркий алмаз на небе, и невооруженным глазом лишь с трудом можно было заметить, что это не обычная звезда: виднелся крошечный, размером с горошину, горячий белый диск.
Здесь, в пустом пространстве вблизи второй по величине планеты системы, Солнце давало лишь один процент того света, что получает родина человечества. И тем не менее это всё-таки был самый яркий небесный объект, в четыре тысячи раз ярче Луны.
Дэвид Старр задумчиво смотрел на экран, где виднелось изображение Солнца. Джон Верзила Джонс, полная противоположность высокому и худому Старру, следил за ним искоса. Вытянувшись во весь рост, Джон Верзила Джонс достигал точно пяти футов двух дюймов. Но он не измерял свой рост в дюймах и позволял называть себя только вторым именем — Верзила.
Верзила сказал:
— Знаешь, Счастливчик, до него почти девятьсот миллионов миль. До Солнца. Я никогда не был так далеко.
Третий человек в каюте, Бен Василевский, улыбнулся через плечо со своего места у приборов. Он тоже был рослым, хотя и не таким высоким, как Старр, у него были светлые волосы и лицо, покрывшееся космическим загаром на службе Совету Науки.
Он спросил:
— В чём дело, Верзила? Испугался?
Верзила пропищал:
— Эй, Бен, ну-ка убери руки от приборов и повтори, что сказал!
Он обогнул Дэвида, собираясь броситься на Василевского, но Счастливчик взял его за плечи и остановил. Ноги Верзилы по-прежнему двигались, будто он продолжал бежать, однако Дэвид вернул своего марсианского друга в первоначальное положение.
— Сиди спокойно, Верзила.
— Но ты ведь слышал! Эта жердь считает себя лучшим человеком, потому что его немного больше. Если в Бене шесть футов, значит, лишних шесть футов придурка и…
— Ну хорошо, Верзила, — сказал Старр. — Бен, прибереги свои шуточки для сирианцев.
Он говорил спокойно, но властно.
Верзила прочистил горло и спросил:
— Где Марс?
— По другую сторону от нас.
— Ну да, — сказал малыш недоверчиво. Но тут лицо его прояснилось. — Подожди, Счастливчик, мы ведь в ста миллионах миль под плоскостью эклиптики. Мы должны видеть Марс под Солнцем. Он из-за него должен выглядывать.
— Конечно. Но он всего в градусе от Солнца, слишком близко, чтобы можно было разглядеть его в солнечном сиянии. Землю, кажется, можно увидеть.
На лице Верзилы появилось надменное выражение.
— Кому нужна Земля? На ней ничего нет, кроме людей; все эти сурки и на сто миль не отрывались от поверхности. Я не стал бы на неё смотреть, даже если бы больше ничего не было. Пусть Бен на неё смотрит. Это как раз для него.
И он отошёл от экрана.
Василевский сказал:
— Эй, Счастливчик, нельзя ли вывести на экран Сатурн и посмотреть на него с этого угла? Я обещал себе это удовольствие.
— Не знаю, можно ли теперь, после случившегося, назвать вид Сатурна удовольствием, — ответил Дэвид.
Он сказал это между прочим, но в маленькой рубке «Метеора» наступило молчание.
Все трое ощутили, как изменилась атмосфера. Сатурн означал опасность. Для населения Земной федерации Сатурн стал ликом судьбы. Для шести миллиардов жителей Земли, для миллионов на Марсе, Луне, Венере, на научных станциях Меркурия, Цереры и внешних спутников Юпитера Сатурн превратился в новую и неожиданную угрозу.
Старр первым отбросил мрачные мысли, и, повинуясь прикосновениям его пальцев, чувствительные электронные сканеры, установленные в корпусе «Метеора», легко повернулись на своих универсальных шарнирах. Поле зрения экрана изменилось.
По экрану потянулись звёзды, и Верзила, с ненавистью оттопырив верхнюю губу, спросил:
— Есть среди них Сириус?
— Нет, — ответил Дэвид, — мы смотрим на Южное небесное полушарие, а Сириус находится в Северном. Хочешь увидеть Канопус?
— Нет, — сказал Верзила. — Зачем?
— Я думал, тебе интересно. Это вторая по яркости звезда. Можешь вообразить, что это Сириус. — Старр слегка улыбнулся. Его всегда забавляло, что Верзила воспринимал как оскорбление собственных патриотических чувств то, что Сириус, звезда величайших врагов Солнечной системы, впрочем происходивших из неё же, — самая яркая звезда на земном небе.
Верзила сказал:
— Забавно. Давай, Счастливчик, посмотрим на Сатурн, а когда вернемся на Землю, повторишь это в каком-нибудь шоу и всех напугаешь.
Звёзды продолжали своё ровное движение, потом они остановились. Дэвид сказал:
— Вот он — тоже без увеличения.
Василевский заблокировал приборы и повернулся в пилотском кресле, чтобы тоже взглянуть.
Полумесяц, чуть больше третьей четверти, желтый, более яркий по краям, чем в центре.
— Далеко мы от него? — удивленно спросил Верзила.
— Я думаю, около тридцати миллионов миль, — ответил Старр.
— Тут что-то не так, — сказал Верзила. — А где кольца? Я на них хотел взглянуть.
«Метеор» приближался к Сатурну со стороны Южного полюса. Из этого положения кольца должны были быть хорошо видны.
Дэвид объяснил:
— Кольца на расстоянии сливаются с планетой, Верзила. Можно увеличить изображение и посмотреть с более близкого расстояния.
Пятно света — Сатурн — начало расти во всех направлениях. И полумесяц разбился на три части.
Центральная часть по-прежнему виднелась как полумесяц. Но вокруг неё, нигде с нею не соприкасаясь, появилась изогнутая светлая лента, разделенная тёмной линией на две неравные части. Огибая Сатурн, лента оказывалась в его тени и исчезала.
— Да, сэр Верзила, — лекторским тоном произнес Василевский. — Сам Сатурн всего лишь семьдесят восемь тысяч миль в диаметре. На расстоянии в сто миллионов миль это точка, но если учесть отражательную поверхность колец от одного конца до другого, получится двести тысяч миль.
— Я всё это знаю, — возмущенно сказал Верзила.
— Более того, — не обращая на его слова внимания, продолжал Василевский, — с расстояния в сто миллионов миль семитысячемильное пространство между кольцами и поверхностью Сатурна, не говоря уже о щели в две с половиной тысячи миль, которая делит кольца надвое, не видно. Кстати, Верзила, эта чёрная линия называется щель Кассини.
— Я сказал, что знаю! — взревел Верзила. — Слушай, Счастливчик, этот парень считает, что я не учился в школе. Может, не очень долго учился, но ему нечему учить меня в космосе. Ну скажи ему: пусть перестанет прятаться за тобой, и я раздавлю его, как жука.
— Можно увидеть Титан, — сказал Старр.
Верзила и Василевский воскликнули хором:
— Где?
— Прямо перед нами. — При увеличении Титан казался таким же полумесяцем, как Сатурн и его система колец с этого расстояния без увеличения. Он находился на краю экрана.
Титан — единственный большого размера спутник системы Сатурна. Но не размер заставлял Василевского смотреть на него с любопытством, а Верзилу — с ненавистью.
Все трое знали, что Титан — единственное небесное тело в Солнечной системе, населенное людьми, не признающими господства Земли. Внезапно и неожиданно он превратился во враждебный мир.
Все почувствовали приближение опасности.
— Когда мы будем в системе Сатурна, Счастливчик?
Дэвид сказал:
— Точной границы системы Сатурна не существует, Верзила. Большинство считает, что система кончается там, где движется самое далекое небесное тело, удерживаемое полем тяготения центрального светила. Если это так, то мы всё ещё за пределами системы Сатурна.
— Однако сирианцы утверждают… — начал Василевский.
— В Солнце тебя с твоими сирианцами! — заревел Верзила, в гневе хлопая себя по голенищам сапог. — Кому интересно, что они утверждают! — И он снова ударил себя по голенищу, будто бил всех сирианцев в системе. Сапоги сразу выдавали в Верзиле марсианина. Кричащие цвета, оранжевый и чёрный, чередующиеся в шахматном порядке, ясно свидетельствовали, что их владелец родился и вырос под куполом марсианской фермы.
Старр отключил экран. Детекторы на поверхности корпуса втянулись, и корпус снова стал гладким и ровным, если не считать кольцеобразного утолщения на корме. Там размещался аграв «Метеора».
Дэвид сказал:
— Мы не можем позволить себе такую роскошь, как не обращать внимания на их слова, Верзила. Сейчас перевес на стороне сирианцев. Может, со временем мы вытесним их из Солнечной системы, а пока придётся играть по их правилам.
Верзила негодующе проворчал:
— Мы в своей системе.
— Конечно, но Сириус занял эту часть её. И мы ничего не можем сделать, разве что созвать межзвёздную конференцию. Если, конечно, не собираемся начинать войну.
Ответить на это было нечего. Василевский вернулся к приборам, и «Метеор», не расходуя энергии, пользуясь притяжением Сатурна, продолжал опускаться к полюсу планеты.
Всё ниже и ниже, в пространство, кишащее сирианскими кораблями в пятидесяти триллионах миль от системы Сириуса, но всего в семистах миллионах миль от Земли. Одним гигантским шагом Сириус покрыл 99,999 процента расстояния между собой и Землей и основал военную базу на самом пороге Земли.
Если ему будет позволено тут оставаться, в один прекрасный момент Земля может превратиться во второсортную планету под властью Сириуса. И межзвёздная политическая ситуация была такова, что Земля, несмотря на всю свою военную мощь, на свои могучие корабли и вооружение, не в состоянии сейчас справиться с этой угрозой.
Только три человека в одном маленьком корабле, действуя на свой страх и риск, без поддержки с Земли, умом и хитростью должны были изменить ситуацию. И они знали, что, если будут пойманы, их казнят на месте как шпионов — в их собственной Солнечной системе, — и Земля ничем не сможет им помочь.
Глава 2
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
А ещё месяц назад не было и мысли об опасности, ни малейшего намека. И вдруг она возникла перед самым носом у земного правительства. Совет Науки настойчиво и методично разматывал шпионскую сеть роботов, которая окутала всю Землю и её владения и чье существование было обнаружено Старром в снегах Ио.
Это была тяжелая и опасная работа, потому что шпионаж действовал повсеместно и крайне эффективно и с его помощью едва не удалось нанести Земле огромный ущерб.
И вот в тот момент, когда процесс выздоровления, казалось, подошёл к концу, появилась новая угроза, и Гектор Конвей, глава Совета, разбудил Дэвида Старра ранним утром. Было видно, что Конвей одевался наспех, его белоснежные волосы взъерошились.
Дэвид, мигая, чтобы прогнать сон, заказал кофе и удивленно сказал:
— Великая Галактика, дядя Гектор, — молодой человек так называл его с дней своего сиротского детства, когда Конвей и Августас Хенри стали его опекунами, — неужели видеофоны не работают?
— Я не мог говорить по видеофону, мой мальчик. Мы в ужасном положении.
— А в чём дело? — спокойно спросил Дэвид, но при этом снял пижаму и начал умываться.
Зевая и потягиваясь, появился Верзила.
— Эй, что это за проклятый шум? — Узнав главу Совета, он сразу забыл о сне. — Неприятности, сэр?
— Агент X выскользнул у нас между пальцев.
— Агент X? Загадочный сирианец? — Глаза Дэвида слегка сузились. — Когда я в последний раз о нём слышал, Совет решил, что его не существует.
— Это было ещё до дела со шпионами-роботами. Он умён, Дэвид, очень умён. Только очень умный шпион мог убедить Совет в том, что он не существует. Мне следовало пустить тебя по его следу, но всегда находились другие дела. А теперь…
— Да?
— Ты знаешь: расследование дела шпионов-роботов показало, что на Земле существует центр сбора информации. Мы узнали также местонахождение этого центра. Мы снова вышли на след агента X, и существует очень большая вероятность, что им является некто Джек Дорранс из «Акме Эйр Продактс» — прямо здесь, в Интернациональном Городе.
— Я этого не знал.
— Было много и других подозреваемых. Но Дорранс сел в частный корабль и улетел, нарушив запрет на старты. Нам повезло, что в Порт-Центре находился член Совета, он немедленно предпринял все необходимые действия. Как только до нас дошло сообщение об этом, мы в течение нескольких минут установили, что только Дорранс не находится под наблюдением. Он ушёл от нас. Совпали и другие детали — он агент X. Теперь мы в этом уверены.
— Ну хорошо, дядя Гектор. Но в чём беда? Он ведь ушёл.
— Теперь мы знаем кое-что ещё. Он прихватил с собой персональную капсулу, и мы не сомневаемся в том, что в ней содержится вся информация, собранная шпионской сетью и ещё не полученная сирианцами. Космос его знает, что у него там, но, видимо, это достаточно важно, чтобы пренебречь своей маскировкой, лишь бы передать её в руки хозяев.
— Вы сказали, что его преследовали. Поймали?
— Нет. — Утомленный глава Совета раздраженно сказал: — Разве в таком случае был бы я тут?
Старр неожиданно спросил:
— Его корабль оборудован для прыжка?
— Нет! — воскликнул покрасневший глава Совета и пригладил волосы, будто они встали дыбом при одном упоминании о прыжке.
Дэвид облегченно перевел дыхание. Прыжок — это, конечно, прыжок в гиперпространстве, когда корабль уходит за пределы обычного пространства и возвращается в него снова уже на расстоянии многих световых лет, и всё это за мгновение.
Будь у агента X такой корабль, он, несомненно, ушёл бы.
Конвей сказал:
— Он действовал в одиночку и ушёл тоже один. Отчасти именно поэтому ему удалось уйти от нас. И улетел он на одноместном корабле, предназначенном для межпланетных перелетов.
— А корабли, способные совершить прыжок, не бывают одноместными. Пока во всяком случае. Но, дядя Гектор, если он взял межпланетный корабль, значит, другого ему не нужно.
Счастливчик кончил умываться и быстро одевался. Неожиданно он повернулся к Верзиле.
— А ты? Одевайся быстрее, Верзила.
Верзила, сидевший на краю дивана, буквально совершил сальто.
Дэвид сказал:
— Вероятно, где-то в космосе его ждёт сирианский корабль, приспособленный для гиперпрыжка.
— Верно. А корабль у него быстрый, он нас опередил, и, возможно, он не окажется в пределах досягаемости нашего оружия. Остаётся…
— «Метеор». Я вас опережаю, дядя Гектор. Мы с Верзилой будем на нём через час, если, конечно, Верзила успеет одеться. Сообщите мне нынешнее местонахождение и курс кораблей-преследователей и все данные о корабле агента X, и мы отправимся.
— Хорошо. — Встревоженное лицо Конвея несколько прояснилось. — И, Старр… — так он обращался к Счастливчику только в минуты волнения, — будь осторожен.
— Экипажи остальных десяти кораблей вы тоже попросили об этом, дядя Гектор? — спросил молодой человек, но голос его звучал мягко и ласково.
Верзила уже надел один сапог и держал второй в руке. Он похлопал по маленькой кобуре на внутренней бархатной поверхности голенища.
— Мы снова в путь, Счастливчик? — В глазах его горела решимость, проказливое лицо улыбалось.
— Да, — ответил Дэвид, взъерошив светлые волосы Верзилы. — Сколько мы уже ржавеем на Земле? Шесть недель? Достаточно долго.
— Ещё как! — радостно согласился Верзила и натянул второй сапог.
Они миновали орбиту Марса, прежде чем с помощью направленного луча им удалось связаться с кораблями-преследователями.
Ответил член Совета Василевский с корабля «Гарпун».
Он воскликнул:
— Счастливчик! Ты к нам присоединяешься? Отлично! — Лицо его на экране улыбалось, он подмигнул. — Есть место, чтобы втиснуть урода Верзилу в угол твоего экрана? Или он не с тобой?
— Я с ним! — взревел Верзила, вставая между Дэвидом и передатчиком. — Думаешь, Конвей выпустит куда-нибудь этого большого тупицу без меня? Кто же тогда присмотрит, чтобы он не споткнулся о свои большие ноги?
Старр поднял протестующего Верзилу и зажал под мышкой.
— Какая шумная связь, Бен. Какова позиция преследуемого корабля?
Василевский, сразу посерьёзнев, сообщил позицию:
— Корабль «Сеть космоса». Частный, построенный и проданный на законных основаниях. Агент X купил его, должно быть, под вымышленным именем и давно подготовил для неожиданного отлёта. Быстрый корабль и со времени старта всё время ускоряется. Мы отстаем.
— Каковы у него запасы энергии?
— Мы об этом подумали. Проверили через строителей данные. Получается, что при нынешней скорости ему либо придётся вскоре выключить двигатели, либо пожертвовать манёвренностью, когда он будет в месте назначения. Мы рассчитываем на это.
— Допустим, он увеличит нагрузку на двигатели.
— Вероятно, — ответил Василевский, — но долго так продержаться не сможет. Меня беспокоит то, что он может сбить с толку наши масс-детекторы, используя астероиды. Если он прорвётся в пояс астероидов, мы его потеряем.
Старру эта хитрость была знакома. Поместите между собой и преследователем астероид, и масс-детектор преследователя зарегистрирует астероид, а не корабль. Когда поблизости окажется другой астероид, корабль перелетит к нему, а преследователь по-прежнему будет нацеливать свои приборы на первый астероид.
Дэвид сказал:
— Он движется слишком быстро для такого манёвра. Ему пришлось бы полдня тормозиться.
— Для этого нужно чудо, — откровенно признал Василевский, — но ведь мы чудом вышли на его след, и потому я жду, что второе чудо уничтожит первое.
— А что за первое чудо? Шеф что-то говорил о запрете на вылеты.
— Да. — Василевский коротко рассказал, в чём дело. Дорранс (или агент X; Василевский называл его и так, и так) ушёл от наблюдения с помощью прибора, искажающего следящий луч (прибор обнаружили, но он оказался выведенным из строя, и не удалось установить, сирианского ли он происхождения). Он добрался до своего корабля «Сеть космоса» без всякого труда. Уже готов был стартовать, активировал микрореактор, получил разрешение — но тут в стратосфере появился повреждённый торговец, попавший под удар метеорита. Он просил разрешения на аварийную посадку.
Были запрещены все вылеты. Все корабли в порту остались на месте. Все должны были остановить процедуру старта.
«Сеть космоса» тоже должна была это сделать, но не сделала. Старр хорошо понимал, что испытывал тогда агент X. В его распоряжении находился самый разыскиваемый в Солнечной системе предмет, и счёт шёл на секунды. Теперь, когда он начал действовать в открытую, Совет сразу пойдёт по его следу. Если он прервёт старт, придётся долго ждать, пока посадят повреждённый корабль, пока эвакуируют его экипаж. А потом снова активирование двигателей и все проверки. Он не мог допустить такой задержки.
И потому сразу стартовал.
И мог бы уйти. Прозвучал сигнал тревоги, полиция порта начала вызывать «Сеть космоса», но член Совета Василевский, выполнявший рутинную работу в порту, сразу начал действовать. Он участвовал в поисках агента X, и корабль, стартовавший, несмотря на запрет, сразу вызвал у него подозрение. Догадка невероятная, но он начал действовать.
Властью Совета (а она превышает власть всех остальных органов, кроме прямых приказов президента Земной федерации) он поднял в пространство корабли космической стражи и сам на борту «Гарпуна» возглавил преследование. Он уже несколько часов находился в космосе, когда Совет получил всю информацию. И тут подтвердилось, что он действительно преследует агента X и все корабли обязаны его поддерживать.
Дэвид серьёзно выслушал и сказал:
— Случайность, но ты ею хорошо воспользовался. Отличная работа.
Василевский улыбнулся. Члены Совета обычно избегают известности и славы, но одобрение со стороны другого члена Совета ценится высоко.
Старр сказал:
— Мы приближаемся. Пусть один из твоих кораблей установит со мной масс-контакт.
Он прервал связь, и его сильные красивые руки ласково коснулись приборов «Метеора» — самого быстрого космического корабля.
На «Метеоре» находились самые мощные протонные микрореакторы, какие только можно разместить на корабле такого размера; такие реакторы способны разогнать военный крейсер; эти реакторы почти позволяли совершить гиперпрыжок. На корабле были и ионные двигатели, которые устраняли эффект ускорения, действуя одновременно на все атомы корабля, в том числе и на атомы живых тел Старра и Верзилы. И даже аграв, недавно разработанный и всё ещё считающийся экспериментальным, тоже был, что давало возможность маневрировать вблизи самых крупных планет с их огромными полями тяготения.
И вот могучие двигатели «Метеора» ровно загудели, и Дэвид почувствовал лёгкое повышение тяжести, которое не компенсировалось ионными двигателями. Корабль всё быстрее и быстрее устремлялся в дальние пределы Солнечной системы…
Но агент X находился впереди, и «Метеор» нагонял его слишком медленно. Когда позади остался пояс астероидов, Старр сказал:
— Похоже, дело плохо, Верзила.
Верзила удивленно посмотрел на него.
— Мы его возьмем, Счастливчик.
— Всё дело в том, куда он направляется. Я был уверен, что на сирианский корабль, который способен совершить прыжок. Но такой корабль либо должен быть вне эклиптики, либо прятаться за поясом астероидов. Однако агент X остаётся в плоскости эклиптики и ушёл за пределы пояса.
— Может, просто пытается сбить нас со следа, а потом отправится на встречу с кораблем.
— Может быть, — согласился Старр, — но, может быть, у сириан есть база на внешних планетах.
— Да ну! — Маленький марсианин рассмеялся. — Прямо у нас под носом?
— Иногда трудно увидеть что-то у себя под носом. Он движется прямо к Сатурну.
Верзила сверился с корабельным компьютером, который постоянно следил за курсом преследуемого. И сказал:
— Слушай, Счастливчик, этот подонок всё ещё на баллистическом курсе. Двадцать миллионов миль он не притрагивается к своим двигателям. Может, энергию истратил?
— А может, бережёт её для манёвров в системе Сатурна. Там сильное поле тяготения. Надеюсь, что это так. Великая Галактика, надеюсь! — Худое красивое лицо Дэвида стало серьёзным, он плотно сжал губы.
Верзила удивленно смотрел на него.
— Пески Марса, Счастливчик, но почему?
— Потому что если в системе Сатурна есть база сирианцев, агент X должен привести нас к ней. У Сатурна один большой спутник, восемь спутников среднего размера и множество мелких. Агент X показал бы нам точно, где база.
Верзила нахмурился.
— Ну, он не так туп, чтобы вести нас туда…
— Или позволить нам догнать его… Верзила, рассчитай курс вперёд, до пересечения с орбитой Сатурна.
Верзила послушался. Это была обычная для компьютера работа.
Старр сказал:
— Каково положение Сатурна в момент пересечения? Далеко ли будет Сатурн от корабля агента X?
Последовала небольшая пауза. Нужно было взять элементы орбиты Сатурна из «Эфемерид». Несколько секунд расчёта, и Верзила в тревоге вскочил на ноги.
— Счастливчик! Пески Марса!
Дэвиду не потребовалось спрашивать о подробностях.
— Мне кажется, агент X решил не показывать нам, где расположена база. Если он продолжит свой баллистический курс, он ударится о Сатурн — а это верная смерть.
Глава 3
СМЕРТЬ В КОЛЬЦАХ
Проходили часы, и сомнений не оставалось. Даже на кораблях-преследователях, далеко отставших от «Метеора», встревожились.
Василевский связался со Старром.
— Великий Космос, Счастливчик, — сказал он, — куда он нацелился?
— Похоже, прямо в Сатурн, — ответил Дэвид.
— Может, его там ждёт корабль? Я знаю, у Сатурна тысячемильная атмосфера с давлением в миллионы тонн, и без аграва они не могут… Неужели у них есть аграв и защитные силовые поля?
— Думаю, он просто разобьется, чтобы мы его не схватили.
Василевский сухо заметил:
— Если ему так не терпится умереть, почему он не повернется к нам и не схватится, заставит нас его уничтожить и прихватит с собой парочку кораблей?
— Да, — согласился Старр, — или просто замкнет свои двигатели в сотнях миллионов миль от Сатурна? Меня беспокоит, что он таким образом привлекает наше внимание к Сатурну. — Он погрузился в задумчивость.
Василевский прервал тишину:
— Ты сможешь догнать его, Дэвид? Мы слишком далеко.
Верзила отозвался со своего места у приборов управления:
— Пески Марса, Бен, если мы увеличим ионную тягу, скорость не позволит нам маневрировать у Сатурна.
— Но сделайте что-нибудь!
— Великий Космос, вот это разумный приказ, — сказал Верзила. — И очень полезный. «Сделайте что-нибудь».
Старр ответил:
— Продолжайте движение, Бен. Я что-нибудь сделаю.
Он прервал связь и повернулся к Верзиле.
— Он ответил на наши сигналы, Верзила?
— Ни слова.
— Перестань пробовать и постарайся уловить его коммуникационный луч.
— Мне кажется, он им не пользуется.
— Может воспользоваться в последнюю минуту. Ему придётся рискнуть, чтобы сказать хоть что-то. А мы тем временем отправимся к нему.
— Как?
— Выстрелим в него. Маленьким снарядом.
Наступила его очередь согнуться над компьютером. Поскольку «Сеть космоса» двигалась без ускорения, потребовались несложные расчёты, чтобы послать снаряд прямо в неё.
Старр подготовил снаряд. Он не предназначался для взрыва. Всего в четверть дюйма в диаметре, но протонный микрореактор швырнет его со скоростью пятьсот миль в секунду. Ничто не сможет уменьшить эту скорость, и снаряд пройдёт сквозь корпус «Сети космоса», как сквозь масло.
Но Дэвид не думал, что это произойдёт. Снаряд достаточно велик, чтобы быть зарегистрированным масс-детектором добычи. «Сеть космоса» автоматически изменит курс, чтобы избежать встречи, и это собьет её с курса на Сатурн. Агенту X потребуется какое-то время, чтобы заново рассчитать курс и ввести поправки, и, возможно, «Метеор» успеет подойти и использовать свой магнитный захват.
Слабый шанс, может быть, ничтожно слабый. Но других возможных способов действия не было.
Старр коснулся контакта. Снаряд бесшумно устремился вперёд, стрелка корабельного масс-детектора дрогнула, но быстро вернулась на место: снаряд улетел.
Дэвид откинулся в кресле. Потребуется два часа, чтобы снаряд вступил (или почти вступил) в контакт. Старру пришло в голову, что, возможно, агент X совершенно лишен энергии, что автоматы выработают поправки курса, а корабль не сможет их осуществить, снаряд пронзит корпус, корабль взорвётся или, во всяком случае, не изменит своего курса на Сатурн.
Но он тут же отбросил эту мысль. Невозможно предположить, чтобы, направив корабль на столкновение, агент X полностью исчерпал все запасы энергии. Конечно, у него что-то осталось.
Медленно тянулись часы ожидания. Даже Гектор Конвей устал от чтения и непосредственно связался с кораблем.
— Но где, по твоему мнению, в системе Сатурна может находиться база? — с тревогой спросил он.
— Если она существует, — осторожно ответил Дэвид, — и если агент X действительно пытается увести нас от неё, я бы сказал, что наиболее вероятное место — Титан. Это единственный по-настоящему большой спутник Сатурна, он в три раза превышает Луну по массе и в два раза по площади. Если база Сириуса находится под поверхностью, прочесать весь Титан в поисках её невозможно.
— Трудно поверить, что они на это решились. Это буквально начало военных действий.
— Может, и так, дядя Гектор, но ведь совсем недавно они пытались основать базу на Ганимеде.
Верзила резко воскликнул:
— Счастливчик, он включил двигатель!
Старр удивленно взглянул на него.
— Кто включил двигатель?
— «Сеть космоса». Этот сирианский подонок.
Дэвид торопливо сказал:
— Я свяжусь с вами позже, дядя Гектор, — и прервал связь. А Верзиле заметил: — Но он не должен двигаться. Наш снаряд он ещё не может заметить.
— Посмотри сам. Говорю тебе, он включил двигатель.
Старр одним прыжком оказался у масс-детектора «Метеора». Прибор уже давно был постоянно нацелен на убегающую добычу. Корабль отражался на экране ярким пятном.
Но теперь пятно двинулось. Оно превратилось в короткую линию.
Дэвид напряженно сказал:
— Великая Галактика, конечно! Всё обретает смысл. Как я мог думать, что он всего лишь избегает захвата? Верзила…
— Конечно, Счастливчик. Что? — Маленький марсианин был готов ко всему.
— Нас перехитрили. Нужно уничтожить его, если даже самим придётся врезаться в Сатурн. — Впервые со дня установки дополнительных ионных двигателей на корабле Старр заставил их помогать основному двигателю. Корабль покачнулся: вся его энергия до последнего атома устремилась назад, а «Метеор» соответственно — вперёд.
Верзила с трудом перевел дыхание.
— Но в чём дело, Счастливчик?
— Он вовсе не к Сатурну направляется, Верзила. Просто использовал его поле тяготения, чтобы опередить нас. Теперь он выходит на орбиту вокруг Сатурна. Он направляется к кольцам. К кольцам Сатурна. — Лицо молодого члена Совета было напряжено. — Следи за его коммуникационным лучом, Верзила. Теперь он будет говорить. Теперь или никогда.
С участившимся сердцебиением Верзила склонился к анализатору волн, хотя никак не мог понять, почему мысль о кольцах Сатурна так встревожила Дэвида.
Снаряд с «Метеора» промахнулся более чем на пятьдесят тысяч миль. Но теперь сам «Метеор» превратился в снаряд, идущий на столкновение; но и он промахнется.
Старр простонал:
— Ничего не выйдет. Мы уже слишком близко.
Сатурн теперь казался гигантом, кольца перечеркивали его диск. Желтый диск Сатурна был почти полным: «Метеор» сближался с ним со стороны Солнца.
Верзила внезапно взорвался:
— Грязный подонок! Он спрячется за кольцами. Теперь я понимаю, что тебя встревожило.
Он напряженно работал у масс-детектора, но всё было бесполезно. В фокусе оказалась часть кольца, каждая из бесчисленных частичек, образующих кольцо, отразилась на экране точкой. Экран побелел, и «Сеть космоса» исчезла.
Старр покачал головой.
— Эту проблему можно разрешить. Мы сейчас достаточно близко, чтобы увидеть его. Нет, тут что-то другое.
Бледный и напряженный, Дэвид дал на экран максимально увеличенное изображение с телескопа. Крошечный металлический цилиндр «Сети космоса» не закрывали частицы кольца. Самые крупные из этих частиц, размером с обычный гравий, сверкали в лучах отдаленного Солнца.
Верзила сказал:
— Счастливчик, я поймал его коммуникационный луч… Нет, нет, подожди… Да, поймал.
В рубке послышался далекий искаженный голос. Верзила ловкими пальцами настраивал дешифратор, хотя передача велась на сирианском шифре.
Слова затихали, потом становились снова слышны. В рубке установилась тишина, слышался лишь слабый шорох записывающего устройства.
— … не… во… кировать (пауза, во время которой Верзила напряженно работал ручками настройки)… по следу… не мог уйти… сделано для того, чтобы… я должен был… кольцо… рна… на нормальной орб… же запущена… следуйте… координаты…
И тут всё оборвалось: голос, треск разрядов — всё.
Верзила закричал:
— Пески Марса, Счастливчик! Что-то взорвалось!
— Не у нас, — отозвался Старр. — Это «Сеть космоса».
Он видел, как это произошло через две секунды после прекращения передачи. Передача в субэфире идёт, по существу, мгновенно. А свет, который они видели на экране, проходит в секунду всего 186 000 миль.
Свету потребовалось две секунды, чтобы достичь Старра. Он видел, как задняя часть «Сети космоса» покраснела, потом превратилась в огненный цветок из расплавленного металла.
Верзила увидел только конец, и они молча смотрели, как сияние медленно гасло.
Дэвид покачал головой.
— Так близко к кольцу, хотя и не совсем в нём, в пространстве очень много быстрых частиц материи. Может, ему не хватило энергии, чтобы свернуть от одного из них. А может, два куска приближались одновременно с разных направлений. Это был храбрый человек и сильный противник.
— Не понимаю, Счастливчик. Чего же он хотел?
— Даже сейчас не понимаешь? Ему было важно не попасть к нам в руки, но всё же не настолько, чтобы умереть. Мне следовало догадаться раньше. Самое главное для него было передать важную информацию сирианцам. Он не мог передать через субэфир тысячи слов информации: его преследовали и луч засекли бы. Сообщение должно было быть кратким и содержать самое существенное. Ему необходимо было передать капсулу с информацией в руки сирианцев.
— Но как он мог это сделать?
— В его передаче мы услышали слог «орб». Это, конечно, орбита. «Же запущена», значит, «уже запущена».
Верзила схватил Дэвида за руку, его маленькие пальцы вцепились в мускулистое запястье.
— Он запустил капсулу, верно? В кольце она неотличима от миллионов кусков гравия, как… булыжник на Луне… как капля воды в океане.
— Или как кусок гравия в кольцах Сатурна, и это хуже всего, — сказал Старр. — Конечно, он погиб до того, как передал координаты орбиты капсулы, так что мы с сирианцами начинаем на равных, и нужно приниматься за дело не откладывая.
— Искать? Прямо сейчас?
— Да! Если он готов был сообщить координаты, зная, что я у него на хвосте, значит, сирианцы где-то рядом… Свяжись с кораблями, Верзила, и передай им новости.
Верзила повернулся к передатчику, но так и не притронулся к нему. На нём горела красная лампа, означающая наличие радиопередачи. Радио! Обычная эфирная связь! Очевидно, кто-то совсем рядом (в пределах системы Сатурна), причем, не скрываясь, вызывает их на радиоволне, которую, в отличие от субэфирной, очень легко перехватить.
Глаза Старра сузились.
— Принимай, Верзила.
Послышался голос с акцентом: долгие гласные, чёткое произношение согласных. Голос сирианца.
— … вите себя, иначе мы воспользуемся магнитным захватом и арестуем вас. У вас четырнадцать минут для подтверждения приёма. — Последовала минутная пауза. — Именем Центрального правительства приказываю: назовите себя, иначе мы воспользуемся магнитным захватом и арестуем вас. У вас тринадцать минут для подтверждения приёма.
Старр холодно произнес:
— Подтверждаю приём. Корабль Земной федерации «Метеор» находится с мирными целями в космическом пространстве Земной федерации. На это пространство распространяется власть только Земной федерации.
Последовала одна-две секунды молчания (радиоволны распространяются со скоростью света), потом голос ответил:
— Власть Земной федерации не признается на мирах, колонизированных сирианскими народами.
— А что за мир? — спросил член Совета.
— Незаселённая система Сатурна именем нашего правительства присоединена к Сириусу согласно межпланетному закону, по которому незаселенный мир принадлежит тем, кто его колонизирует.
— В этом законе речь идёт только о незаселенных звёздных системах.
Ответа не было. Голос бесстрастно произнес:
— Вы находитесь в пределах системы Сатурна, вам приказано немедленно их покинуть. Если вы не уйдёте, мы вас захватим. Все корабли Земной федерации в дальнейшем будут захватываться без всяких предупреждений. Вы должны начать ускорение через восемь минут, иначе мы начнем действовать.
Лицо Верзилы радостно вспыхнуло. Он прошептал:
— Пусть попробуют, Счастливчик. Покажем им, чего стоит наш «Метеор».
Но Дэвид не обратил на это внимания. Он сказал в передатчик:
— Ваше сообщение получено. Мы не признаем власть Сириуса, но уходим добровольно.
И он прервал связь.
Верзила пришёл в ужас.
— Пески Марса, Счастливчик! Мы убежим от своры сирианцев? Оставим капсулу, чтобы они её нашли?
Дэвид ответил:
— Сейчас, Верзила, придётся уходить.
Голову он наклонил, лицо его побледнело и приняло напряженное выражение, но взгляд не был взглядом человека, потерпевшего поражение. Всё, что угодно, только не это.
Глава 4
МЕЖДУ ЮПИТЕРОМ И САТУРНОМ
Старшим офицером на кораблях-преследователях (не считая, разумеется, члена Совета Василевского) был капитан Майрон Бернольд, лет пятидесяти, с фигурой человека на десять лет моложе. На мундире его было четыре полоски. Волосы седели, но брови оставались ещё чёрными, а на бритом подбородке была видна синева пробивающейся бороды.
С нескрываемым презрением он смотрел на гораздо более молодого Старра.
— И вы отступили?
«Метеор» по дороге к Солнцу встретился с кораблями-преследователями на полпути между орбитами Сатурна и Юпитера. Старр перебрался на борт флагмана.
Он негромко ответил:
— Я сделал то, что было необходимо.
— Когда враг вторгся в нашу собственную систему, отступление не может быть необходимым. Вас могли взорвать, но вы успели бы предупредить нас, и мы тут же отправились бы туда.
— И сколько у вас бы осталось энергии, капитан?
Капитан вспыхнул.
— Какая разница? Мы погибли бы, но, в свою очередь, предупредили бы Землю.
— И начали войну?
— Они начали войну. Сирианцы… Я собираюсь направиться к Сатурну и напасть на них.
Стройная фигура Старра напряглась. Он был выше капитана, его холодный взгляд не дрогнул.
— Как полноправный член Совета Науки, капитан, я старше вас по должности, и вы это знаете. Никакого нападения. Я приказываю возвращаться на Землю.
— Да я скорее… — Капитан явно пытался справиться с собой. Он сжал кулаки. И сказал напряженным голосом: — Могу я спросить о причине такого приказа, сэр? — В почтительном обращении звучала ирония. — Будьте добры, объясните причины такого приказа, сэр. Моё собственное мнение основано на такой мелочи, как традиции флота. И не в традициях флота отступать, сэр.
Старр ответил:
— Если хотите узнать причину, капитан, садитесь, и я вам объясню. И не говорите мне, что флот не отступает. Отступление есть один из способов ведения боевых действий, и тот командир, который предпочитает отступлению гибель своих кораблей, не должен командовать. Мне кажется, сейчас в вас говорит только гнев. Итак, капитан, вы готовы начать войну?
— Я уже сказал вам, что начали они. Они вторглись на территорию Земной федерации.
— Не совсем. Они заняли ненаселенную планету. Беда вот в чём, капитан. Гиперпрыжок сделал путешествие к звёздам совсем простым делом, и потому люди заселили планеты других звёзд прежде, чем колонизовали отдаленные районы Солнечной системы.
— Земляне высаживались на Титан. В году…
— Я знаю о полёте Джеймса Френсиса Хогга. Он также высаживался на Обероне в системе Урана. Но это исследование, а не колонизация. Система Сатурна оставалась пустой и ненаселенной, а ненаселённая планета принадлежит первой колонизовавшей её группе.
— Если эта планета или планетная система — часть ненаселенной звёздной системы, — возразил капитан. — Вы должны признать, что Сатурн таким не является. Это часть нашей Солнечной системы, а она, клянусь воющими демонами космоса, заселена.
— Верно, но мне кажется, официального соглашения на этот счёт нет. Возможно, будет решено, что Сириус имеет право на занятие Сатурна.
Капитан ударил кулаком по колену.
— Мне всё равно, что скажут космические законники. Сатурн наш, и всякий землянин с этим согласится. Мы вышвырнем оттуда сирианцев, и пусть оружие решает, кто прав.
— Но именно этого и хотят от нас сирианцы!
— Так дадим им то, что они хотят.
— И нас обвинят в агрессии… Капитан, среди звёзд расположено пятьдесят заселенных планет. Они никогда не забывают, что были когда-то колониями Земли. Мы дали им свободу без войны, но об этом они забыли. Помнят только, что мы по-прежнему самая населённая и передовая система. Если Сириус объявит о нашей неспровоцированной агрессии, все объединятся вокруг него. Именно поэтому он пытается заставить нас напасть и именно поэтому я решил вернуться.
Капитан прикусил губу. Он собрался что-то сказать, но Дэвид продолжал:
— С другой стороны, если мы ничего не предпримем, мы можем обвинить сирианцев в агрессии, и общественное мнение внешних миров расколется. Мы используем это и привлечем к себе сторонников.
— Внешние миры на нашей стороне?
— Почему бы и нет? Во всех звёздных системах сотни незаселенных планет всех размеров. И они не захотят создавать прецедент. Иначе каждая система будет стремиться усыпать другие своими базами. Но нельзя вызвать у них панику, заставить думать, что могущественная Земля нападает на собственные бывшие колонии.
Капитан встал и прошёлся взад и вперёд по своей каюте. Он сказал:
— Повторите ваш приказ.
— Вы понимаете необходимость отступления?
— Да. Могу я получить приказ?
— Хорошо. Приказываю вам доставить эту капсулу, которую я передаю сейчас, главе Совета Науки Гектору Конвею. Вы не должны ни с кем обсуждать случившееся ни в субэфире, ни другими способами. Вы не предпримете никаких враждебных действий — повторяю, никаких враждебных действий — против сирианцев, если только не подвергнетесь прямому нападению. И если вы встретите силы сирианцев и спровоцируете их на нападение, я добьюсь, чтобы вас предали трибуналу и осудили. Я ясно выразился?
Капитан стоял с застывшим лицом. Губы его шевелились с трудом, будто были вырезаны из дерева.
— Выражая искреннее уважение, сэр, предлагаю вам, как члену Совета, принять команду над моим кораблем и лично доставить капсулу.
Старр слегка пожал плечами и ответил:
— Вы очень упрямы, капитан, я даже восхищаюсь вами. Иногда в сражении такое упрямство необходимо… Я не могу лично доставить капсулу, потому что намерен на «Метеоре» снова лететь к Сатурну.
Воинственность капитана разбилась.
— Что? Воющий космос, что?
— Мне кажется, я ясно выразился, капитан. У меня там кое-что недоделано. Первейшая моя обязанность — предупредить Землю о серьёзной политической угрозе. Если вы доставите моё предупреждение, я смогу заняться другими делами… в системе Сатурна.
Капитан широко улыбнулся.
— Ну, это другое дело. Я хотел бы отправиться с вами.
— Я знаю это, капитан. Для вас трудно уклоняться от боя, но я прошу вас об этом, потому что вы привыкли к трудным заданиям. Я хочу, чтобы все ваши корабли поделились энергией с «Метеором». И мне понадобится ещё кое-что из ваших запасов.
— Только скажите.
— Хорошо. Я возвращаюсь на свой корабль и попрошу члена Совета Василевского отправиться со мной.
Он попрощался за руку с капитаном, теперь настроенным дружески, и они с Василевским по соединительной трубе перешли с флагмана на «Метеор».
Соединительная труба вытянулась почти на всю длину, и на преодоление её ушло несколько минут. В трубе не было воздуха, но члены Совета могли разговаривать: металл передавал голоса искаженно, но понятно. К тому же никакой способ сообщения не защищен так хорошо от подслушивания, как звуковые волны на коротком расстоянии. Поэтому в трубе Дэвид смог коротко поговорить с Василевским.
Наконец Василевский, слегка изменив тему, сказал:
— Послушай, Счастливчик, если сирианцы хотели причинить неприятности, почему они тебя отпустили? Почему не вынудили тебя повернуть и напасть?
— Бен, тебе нужно послушать запись. Слова звучали скованно, да и грозили они только магнитным захватом. Я убеждён, что со мной говорил робот.
— Робот! — Глаза Василевского распахнулись шире.
— Да. Можно по твоей реакции судить, как восприняли бы это на Земле. Земляне беспричинно боятся роботов. Но дело в том, что корабль, управляемый роботом, не может причинить вред кораблю с живыми людьми. Первый закон роботехники — робот не может причинить вред человеку — запрещает это. Но от этого опасность только больше. Если бы я напал — а сирианцы этого и ожидали, — они могли бы утверждать, что я напал на беззащитный корабль. А на всех внешних мирах роботов ценят, не то что на Земле. Нет, Бен, я мог только отступить, что я и сделал.
С этими словами они оказались в шлюзе «Метеора».
Их ждал Верзила. На лице его, как обычно при встрече с Дэвидом даже после короткой разлуки, расцвела улыбка.
— Эй, — сказал он, — какие новости? Тебе, значит, удалось не вывалиться из трубы и… А что Бен здесь делает?
— Он летит с нами, Верзила.
Маленький марсианин выглядел раздраженным.
— Зачем? Корабль двухместный.
— Временно придётся потесниться. А теперь лучше начать перекачивать энергию с других кораблей и принимать по трубе оборудование. После этого сразу вылетим.
Голос Старра звучал твёрдо, возврат к прежней теме был невозможен. Верзила понял, что лучше не спорить.
Он пробормотал:
— Конечно, — и ушёл в машинное помещение, бросив злобный взгляд в сторону Василевского.
Бен спросил:
— Что это с ним? Я ни слова не сказал о его росте.
— Ну, ты должен понять малыша. Официально он не член Совета, хотя фактически им и является. Только он один этого не понимает. Ну вот, он и думает, что, раз уж ты член Совета, мы с тобой будем общаться, а его отстраним, что у нас будут от него тайны.
Василевский кивнул:
— Понятно. Ты предлагаешь сказать ему…
— Нет! — Слово было произнесено мягко, но безапелляционно. — Всё, что нужно, я ему сам скажу. Ты ничего не говори.
В этот момент в пилотской рубке снова появился Верзила и сказал:
— Энергия поступает. — Он перевел взгляд с одного на другого и проворчал: — Простите, что помешал. Мне покинуть корабль, джентльмены?
— Тебе придётся сначала нокаутировать меня, Верзила, — ответил Дэвид.
Верзила нацелился на удар и сказал:
— Ну, парень, это нетрудно. Думаешь, лишний фут твоего роста мне помешает?
Он мгновенно оказался внутри кольца рук Счастливчика и нанес два удара ему в живот.
Дэвид спросил:
— Ну, остыл?
Верзила отскочил.
— Я не стал бить по-настоящему, не то Конвей мне уши надерёт.
Старр рассмеялся.
— Спасибо. А теперь послушай. Ты должен рассчитать орбиту и передать данные капитану Бернольду.
— Конечно. — Верзила, по-видимому, успокоился, обида его рассеялась.
Василевский сказал:
— Слушай, Дэвид, не хочу тебя расхолаживать, но мы совсем недалеко от Сатурна. Мне кажется, что сирианцы нас тут же засекут и будут знать, где мы и куда направляемся.
— Я тоже так считаю, Бен.
— Но как же мы тогда сможем незаметно проникнуть в систему Сатурна?
— Хороший вопрос. Я всё думал, догадаешься ли ты. Если ты не догадаешься, сирианцы — тем более; они ведь знают нашу систему не так хорошо, как мы.
Василевский откинулся назад в пилотском кресле.
— Не делай из этого загадку, Счастливчик.
— Всё совершенно ясно. Все корабли, включая наш, находятся рядом и, учитывая расстояние, отражаются на масс-детекторе сирианцев как одна точка. Мы полетим в таком строю до тех пор, как не окажемся вблизи астероида Гидальго, который сейчас приближается к афелию.
— Гидальго?
— Ну, Бен, ты ведь знаешь. Астероид, известный ещё с до-космических времен. Самое интересное в нём то, что он не остаётся всё время в поясе астероидов. На кратчайшем удалении от Солнца он приближается к орбите Марса, а на самом дальнем — к орбите Сатурна. Когда мы приблизимся к нему, Гидальго тоже отразится на масс-детекторе сирианцев, и по величине массы они будут знать, что это астероид. И не смогут засечь наш корабль на фоне Гидальго, не смогут заметить и десятипроцентное уменьшение массы эскадры, летящей к Земле. «Метеор» спрячется за Гидальго. Конечно, Гидальго летит не к Сатурну, но через два дня мы от него сможем оторваться, окажемся далеко от плоскости эклиптики и направимся к Сатурну.
Василевский поднял брови.
— Надеюсь, это сработает, Дэвид.
Он понял уловку. Все планеты и корабли, торговые и военные, остаются в плоскости эклиптики. Поэтому обычно никто на обращает внимания на то, что выше или ниже этой зоны. Поэтому вполне вероятно, что их корабль, вышедший из плоскости эклиптики, останется не замеченным приборами сирианцев. Но всё же на лице Василевского отразилась неуверенность.
Старр спросил:
— Как ты думаешь, получится?
— Может быть, — ответил Василевский. — Но даже если мы туда вернемся… Дэвид, я выполню свою часть плана и больше никогда не скажу того, что говорю сейчас. Мне кажется, мы уже всё равно что мертвецы.
Глава 5
СКОЛЬЗЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ САТУРНА
«Метеор» скрылся за Гидальго, а потом покинул плоскость эклиптики и вновь устремился к Южному полюсу второй по размерам планеты Солнечной системы.
Никогда раньше за короткую историю своих космических приключений Старр и Верзила не проводили столько времени в пространстве без перерыва. Почти месяц назад они покинули Землю. Но маленький клочок воздуха и тепла — «Метеор» — оставался для них Землей и мог поддерживать жизнь неопределённо долго.
Запаса энергии благодаря передаче её с других кораблей хватит на год, если не придётся участвовать в бою. Воздуха и воды, которые проходят очистку в баках с водорослями, хватит на всю жизнь. Водоросли даже снабдят пищей, если кончатся обычные концентраты.
Настоящее неудобство представляло только присутствие третьего человека. Как заметил Верзила, «Метеор» — двухместный корабль. Необычное сосредоточение энергии, скорости и вооружения стало возможно именно из-за экономии жилой площади. Приходилось по очереди спать на стеганом одеяле в пилотской рубке.
Дэвид заметил, что неудобства компенсируются введением четырёхчасовых вахт вместо обычных шестичасовых.
На что Верзила горячо ответил:
— Конечно, и когда я пытаюсь уснуть на этом проклятом одеяле, а толстолицый Бен сидит у приборов, он всеми сигнальными огнями светит мне прямо в лицо.
— Дважды за вахту, — терпеливо ответил Василевский, — я проверяю сигналы чрезвычайного положения, чтобы убедиться, что они действуют. Таково правило.
— И он свистит сквозь зубы, — продолжал Верзила. — Послушай, Счастливчик, если он ещё раз угостит меня «Моей сладкой Афродитой с Венеры» — ещё хоть раз, — я сломаю ему руку между плечом и локтем, а обломком забью его до смерти.
Дэвид серьёзно сказал:
— Бен, пожалуйста, воздержись от свиста. Если Верзила примется за дело, вся рубка будет залита кровью.
Верзила ничего не сказал, но когда он в следующий раз сидел у приборов, а Василевский спал на одеяле и музыкально храпел, Верзила, направляясь на своё место, наступил ему на пальцы вытянутой руки.
— Пески Марса, — сказал он, протягивая руки ладонями вверх и закатывая глаза в ответ на неожиданный тигриный рёв, — я ничего не почувствовал под своими марсианскими сапогами. Боже мой, Бен, неужели это были твои пальчики?
— Ну, теперь усни только, — яростно вопил Василевский. — Если уснёшь, когда я в рубке, ты, марсианская песчаная крыса, я раздавлю тебя, как паразита.
— Как я испугался, — ответил Верзила и притворно захныкал.
Старр устало встал с койки.
— Послушайте, — сказал он, — тот, кто в следующий раз меня разбудит, остальную часть пути проделает в космическом костюме на буксире за «Метеором».
Но когда на экране с близкого расстояния стали видны Сатурн и его кольца, все собрались в пилотской рубке. Даже если смотреть со стороны экватора, Сатурн — самое прекрасное зрелище в Солнечной системе, а уж с полюса…
— Если я правильно припоминаю, — сказал Старр, — даже исследовательский полёт Хогга коснулся в этой системе только Япета и Титана, так что он видел Сатурн лишь с экватора. Если сирианцы этого не сделали, то мы первые люди, которые видят Сатурн вблизи с такого угла.
Как и на Юпитере, мягкое желтое свечение поверхности Сатурна на самом деле — солнечный свет, отражённый верхними слоями его бурной атмосферы глубиной в тысячу и больше миль. И как на Юпитере, атмосферные вихри виднелись как разноцветные зоны. Но с экватора эти зоны казались полосками. А с полюса были видны концентрические круги светло-коричневого, светло-желтого и пастельно-зеленого цвета. Центром кругов был полюс Сатурна.
Но даже это меркло рядом с кольцами. С близкого расстояния кольца занимали двадцать пять градусов площади неба — в пятьдесят раз больше полной земной Луны. Внутренний край колец отделялся от поверхности планеты пространством в сорок пять угловых минут: тут вполне мог разместиться объект размером с Луну и свободно катиться по кругу.
Кольца окружали Сатурн, нигде не касаясь его. Видны были примерно три пятых окружности, остальное скрывалось в тени планеты. Примерно в трёх четвертях от внешнего края колец находилась чёрная полоса, известная, как «щель Кассини». Шириной в пятнадцать минут, чёрная лента делила кольца на две неравные по величине и освещенности части. Между кольцами и планетой видны были искорки, они поблескивали, но не образовывали сплошной белизны. Это было так называемое «креповое кольцо».
Общая площадь колец в восемь раз превышает площадь Сатурна. К тому же кольца ярче, чем Сатурн, так что не менее девяноста процентов света планеты исходит от колец. Общая светимость составляет примерно сотую часть светимости Луны.
Даже Юпитер с близкого Ио не кажется таким потрясающим. Когда Верзила наконец смог заговорить, он говорил шёпотом.
— Счастливчик, почему кольца такие яркие? Из-за них сам Сатурн кажется тусклым. Это оптическая иллюзия?
— Нет, — ответил Дэвид, — так и есть. Сатурн и кольца получают одинаковое количество солнечного света, но отражают его по-разному. Свет Сатурна — это отражение солнечного света от водородно-гелиевой атмосферы с примесью метана. Такая атмосфера отражает примерно 63 процента света. Кольца же в основном просто куски льда, отражают они не менее 80 процентов и потому кажутся гораздо ярче. Смотреть на кольца — всё равно что смотреть на ледяное поле.
Василевский проговорил:
— И мы должны отыскать снежинку на этом снежном поле.
— Тёмную снежинку, — возбуждённо воскликнул Верзила. — Слушай, Счастливчик, если там куски льда, а капсула металлическая…
— Чистая алюминиевая поверхность, — ответил Старр, — отражает больше света, чем лёд. Тоже светящаяся точка.
— Ну, тогда… — Верзила в отчаянии смотрел на кольца, казавшиеся огромными даже на расстоянии в полмиллиона миль, — тогда это безнадёжно.
— Посмотрим, — уклончиво ответил Дэвид.
Верзила сидел за приборами, меняя орбиту короткими толчками ионного двигателя. Аграв помогал проводить манёвры в непосредственной близости от Сатурна.
Дэвид наблюдал за масс-детектором. Этот прибор отыскивал в пространстве любые массы, определял их местонахождение по воздействию гравитационного поля корабля, если частицы были малы, или по их воздействию на корабль, если они были велики.
Василевский только что проснулся и вошёл в пилотскую рубку. Все молчали. Корабль приближался к Сатурну. Краем глаза Верзила смотрел на Старра. По мере приближения Сатурна он становился всё напряженней и неразговорчивей. Верзила не раз наблюдал такое и раньше. Дэвид чувствовал неуверенность: он считал, что шансы на удачу невелики, но не желал говорить об этом.
Василевский сказал:
— Не думаю, что стоит так надрываться у масс-детектора. Кораблей здесь не может быть. Мы их найдем у колец. И много. Сирианцы будут искать капсулу.
— Согласен, — ответил Счастливчик. — К этому всё идёт.
— А может, эти подонки уже нашли капсулу, — мрачно предположил Верзила.
— Такое тоже возможно, — согласился Старр.
Они поворачивали, начиная огибать шар Сатурна, сохраняя расстояние в восемьдесят тысяч миль от его поверхности. Дальняя часть колец, та, что была на свету, сливалась с огромным телом планеты.
Зато вблизи стало заметней внутреннее «креповое кольцо».
Верзила сказал:
— Знаете, я не вижу внутреннего края кольца.
Василевский ответил:
— Его, вероятно, и нет. Внутренний край кольца всего в шести тысячах миль от видимой поверхности планеты, и до него дотягивается атмосфера Сатурна.
— Шесть тысяч миль!
— Лишь верхние слои, но достаточно, чтобы создавать трение, и ближайшие куски гравия всё больше сближаются с планетой. Они-то и образуют «креповое кольцо». Но чем они ближе, тем сильней трение, так что они ещё больше приближаются. Вероятно, частицы есть до самой поверхности, они сгорают, попадая в более плотные слои атмосферы.
Верзила сказал:
— Значит, кольца не вечны?
— Вероятно, нет. Но продержатся ещё много миллионов лет. Для нас достаточно. — Василевский мрачно добавил: — Предостаточно.
Дэвид прервал:
— Джентльмены, я покидаю корабль.
— Пески Марса, Счастливчик! Зачем?
— Хочу оглядеться снаружи, — коротко ответил Дэвид. Он уже надевал космический костюм.
Верзила быстро взглянул на масс-детектор. Поблизости не было никаких кораблей. Кое-где искорки, но ничего важного. Всего лишь крошечные метеориты, какие можно встретить повсюду в Солнечной системе.
Старр сказал:
— Садись за масс-детектор, Бен. Будем следить круглосуточно. — Он надел и закрепил шлем. Проверил подачу воздуха и двинулся к шлюзу. Теперь голос его доносился из приёмника на контрольном щите. — Я воспользуюсь магнитным кабелем, неожиданно не дёргайте.
— Когда ты снаружи? Думаешь, я спятил? — сказал Верзила.
Счастливчик показался в одном из иллюминаторов, магнитный кабель тянулся за ним кольцами; в отсутствие тяготения кольца не разворачивались.
Маленький двигатель в перчатке Старра выбросил струю пара, она была чуть видна в свете Солнца, обратившись в облачко ледяных кристаллов, быстро улетающее прочь. Старр по закону действия и противодействия двинулся в противоположную сторону.
Верзила сказал:
— Ты думаешь, что-то с кораблем?
— Согласно приборам, всё в порядке, — ответил Василевский.
— Тогда что же там делает этот великан?
— Не знаю.
Верзила подозрительно взглянул на члена Совета, потом снова стал следить за другом.
— Если ты думаешь, что я как не член Совета…
— Может, он просто захотел немного отдохнуть от твоего голоса, Верзила, — сказал Василевский.
Масс-детектор методично поворачивался, обшаривая пространство; когда он смотрел в сторону Сатурна, экран белел.
Верзила покосился на Василевского, но сдержался и не стал отвечать на его слова.
— Хоть бы что-нибудь случилось! — проговорил он.
И что-то случилось.
Василевский, взглянув на масс-детектор, уловил подозрительное пятно на экране. Он торопливо настроил прибор, подключил дополнительные детекторы и следил за пятном в течение двух минут.
Верзила возбуждённо сказал:
— Это корабль, Бен.
— Похоже, — неохотно ответил Василевский. Судя по массе, это может быть и большой метеорит, но с этого же направления приходит и энергия, которая может быть только излучением двигателя корабля: энергия соответствующего типа и в соответствующем количестве. Это столь же неопровержимо, как отпечатки пальцев. Можно было даже утверждать по слабым отличиям в рисунке, что корабль сирианский.
Верзила сказал:
— Он направляется к нам.
— Не прямо. Вероятно, не хочет шутить с полем тяготения Сатурна. Но приближается и через час сможет преградить нам путь… Чем ты так доволен, марсианский фермер?
— Разве не ясно, ты, комок жира? Понятно, почему Счастливчик там снаружи. Он знал, что приближался корабль, и готовит ему ловушку.
— Откуда он мог это знать? — удивленно спросил Василевский. — Десять минут назад на масс-детекторе ничего не было. Он даже не смотрел в нужном направлении.
— Не беспокойся о Дэвиде. Он знает. — Верзила улыбался.
Василевский пожал плечами, подошёл к передатчику и сказал:
— Счастливчик! Ты меня слышишь?
— Конечно, Бен. Что?
— Сирианский корабль в пределах досягаемости масс-детектора.
— Насколько близко?
— Примерно двести тысяч, и он приближается.
Верзила, смотревший в иллюминатор, заметил струю ледяных кристаллов. Старр возвращался.
— Я иду, — сказал он.
Как только с головы Дэвида сняли шлем, Верзила заговорил:
— Ты ведь знал, что корабль приближается, Счастливчик?
— Нет, Верзила. Понятия не имел. Не понимаю, как они сумели нас так быстро обнаружить. Слишком большое совпадение, что они следили за этим направлением.
Верзила постарался скрыть своё разочарование.
— Ну, значит, выстрелим по нему, Старр?
— Не будем снова подвергать опасности политическую ситуацию, Верзила. К тому же у нас более важное дело, чем игра с чужими кораблями.
— Знаю, — нетерпеливо ответил Верзила. — Надо найти капсулу, но…
Он покачал головой. Капсула — это капсула, и он понимал её важность. Но хорошая драка — это хорошая драка, и политические рассуждения Дэвида о необходимости избегать агрессии вовсе не значат, что нужно уклоняться от хорошей драки. Верзила спросил:
— Что же нам делать? Двигаться прежним курсом?
— И даже быстрее. К кольцам.
— Если мы это сделаем, — ответил Верзила, — они просто полетят за нами.
— Вот и хорошо. Посостязаемся.
Верзила медленно передвинул рычаг, и распад протонов в двигателе усилился. Корабль ещё быстрее устремился к Сатурну.
Ожила приёмная станция.
— Будем принимать? — спросил Василевский.
— Нет, мы знаем, что они скажут. Сдавайтесь, или мы применим магнитный захват.
— Ну?
— Единственная возможность — бежать.
Глава 6
СКВОЗЬ ЩЕЛЬ
— От одного вшивого корабля? — взвыл Верзила.
— Ещё будет время подраться, Верзила. Прежде всего дело.
— Значит, снова бежать от Сатурна?
Старр невесело улыбнулся.
— На этот раз нет, Верзила. Мы должны основать базу в планетной системе — и как можно скорее.
Корабль с огромной скоростью несся к кольцам. Дэвид оттеснил Верзилу от приборов и взял управление на себя.
Василевский сказал:
— Ещё корабли.
— Где?! К какому спутнику они ближе всего?
Василевский быстро работал.
— Они в районе кольца.
— Что ж, — сказал Старр, — значит, всё ещё ищут капсулу. Сколько их?
— Пока пять.
— Есть кто-нибудь между нами и кольцами?
— Показался шестой корабль. Мы не в безвыходном положении. Они слишком далеко, чтобы стрелять, но будут преследовать нас, пока мы не покинем систему Сатурна.
— Или пока наш корабль не погибнет, — мрачно заметил Старр.
Кольца постепенно увеличивались, пока не заполнили своей снежной белизной весь экран; корабль продолжал двигаться вперёд. Дэвид не делал попыток снизить скорость.
На какое-то ужасное мгновение Верзиле показалось, что Старр сознательно хочет разбить корабль о кольца. Он невольно воскликнул:
— Счастливчик!
И тут кольца исчезли.
Верзила был ошеломлен. Руки его устремились к управлению экраном. Он крикнул:
— Где они? Что случилось?
Василевский, трудившийся у масс-детектора и всё время убиравший со лба волосы, бросил через плечо:
— Щель Кассини.
— Что?
— Промежуток между кольцами.
— Ага! — Шок постепенно проходил. Верзила развернул приёмники экрана на корпусе корабля и снова увидел белоснежные кольца. Он точнее настроил приём.
Сначала одно кольцо. Потом пространство, чёрное пространство. Потом другое кольцо, чуть более тусклое. Внешнее кольцо более плотное. Снова пространство между кольцами. Щель Кассини. Здесь нет никакого гравия. Только чёрный промежуток.
— Какая большая, — сказал Верзила.
Василевский вытер пот со лба и взглянул на Дэвида.
— Пройдём, Счастливчик?
Тот не отрывал взгляда от приборов.
— Пройдём, Бен, через несколько минут. Затаите дыхание и надейтесь.
Василевский повернулся к Верзиле и коротко бросил:
— Конечно, щель велика. Я тебе говорил, что она шириной в две с половиной тысячи миль. Достаточно места для корабля, если она тебя испугала.
Верзила ответил:
— Ты сам слишком нервничаешь для парня шести футов размером. Может, Счастливчик ведёт корабль слишком быстро для тебя?
— Послушай, Верзила, если мне взбредет в голову сесть на тебя…
— Тогда в том, на чём ты сидишь, будет больше мозгов, чем в твоей голове, — выпалил Верзила и закатился писклявым смехом.
Старр сказал:
— Через пять минут будем в щели.
Верзила поперхнулся и снова взглянул на экран. Он сказал:
— Там что-то мерцает внутри.
— Это гравий, Верзила, — отозвался Старр. — По сравнению с самими кольцами, в щели Кассини его мало, но всё же она не на сто процентов чиста. Если мы столкнемся с таким куском…
— Один шанс из тысячи, — сказал Василевский.
— Один шанс на миллион, — холодно поправил Дэвид, — но именно этот один шанс и погубил агента X на «Сети космоса»… Мы на границе. — Рука его твёрдо лежала на управлении.
Верзила глубоко вздохнул, напрягшись в ожидании удара. Корпус корабля будет пробит, микрореактор вспыхнет ослепительным красным блеском. Но по крайней мере всё будет кончено прежде, чем…
Дэвид сказал:
— Прошли.
Василевский шумно выпустил воздух.
— Прошли? — переспросил Верзила.
— Конечно, прошли, ты, тупой марсианин, — сказал Василевский. — Кольца всего в десять миль толщиной, а сколько нам нужно секунд, по-твоему, чтобы пройти десять миль?
— Значит, мы по другую сторону?
— Конечно. Попытайся отыскать кольца на экране.
Верзила развернул экран в одном направлении, потом в другом.
— Пески Марса, тут какая-то тёмная полоса.
— И больше ты ничего не увидишь, малыш. Мы на теневой стороне колец. Солнце освещает другую сторону, и свет не проходит сквозь мили густого гравия. Слушай, Верзила, чему вас учат в марсианских школах, кроме песенки «Блесни, блесни, звёздочка»?
Нижняя губа Верзилы начала медленно выпячиваться.
— Знаешь, свиная голова, тебе не мешало бы провести один сезон на марсианской ферме. Я уж постарался бы, чтобы весь жир с тебя сошёл.
Дэвид сказал:
— Мне хотелось бы, Бен, чтобы вы с Верзилой прекратили спор и отложили его на потом. Займись масс-детектором.
— Конечно. Эй, тут непорядок. Счастливчик, насколько резко ты изменил курс?
— Сколько смог выдержать корабль. Будем оставаться под кольцами, сколько возможно.
Василевский кивнул:
— Ладно. Так они не смогут воспользоваться масс-детекторами.
Верзила улыбнулся. Всё получается прекрасно. Никакой масс-детектор не зарегистрирует массу «Метеора» из-за вмешательства колец, и даже визуальное наблюдение здесь бесполезно.
Старр вытянул длинные ноги, мышцы его спины задвигались, он разминал руки и плечи.
— Сомневаюсь, чтобы хоть один сирианский корабль решился последовать за нами, — сказал он. — У них нет аграва.
— Пока всё хорошо, — заметил Верзила. — А куда дальше? Кто-нибудь мне скажет?
— Это не секрет, — отозвался Счастливчик. — Мы направляемся к Мимасу. Подойдем под кольцами как можно ближе, потом пройдём через щель. Мимас всего в тридцати тысячах миль над кольцами.
— Мимас? Это один из спутников Сатурна, верно?
— Верно, — вмешался Василевский. — Самый близкий к планете.
Их курс выпрямился, они продолжали огибать Сатурн, но теперь с запада на восток, в плоскости, параллельной кольцам.
Василевский сел на одеяло, скрестив под собой ноги, как портной, и сказал:
— Хочешь ещё немного поучиться астрономии? Если в твоей пустой голове найдётся чуть-чуть места, я могу рассказать, почему существует щель в кольцах.
Любопытство и презрение боролись в маленьком марсианине. Он сказал:
— Давай, только побыстрее, ты, невежа. Начинай. Но если блефуешь…
— Никакого блефа, — надменно ответил Василевский. — Слушай и учись. Внутренняя часть двух колец обращается вокруг Сатурна за пять часов. Внешняя — за пятнадцать. На месте щели Кассини материал кольца, будь он здесь, обращался бы за двенадцать часов.
— Ну и что?
— А то, что спутник Мимас, к которому мы направляемся, совершает оборот вокруг Сатурна за двадцать четыре часа.
— Опять ну и что?
— Все частицы кольца притягиваются спутниками в их движении по орбитам. Сильнее всех притягивает Мимас, потому что он ближайший. В большей части колец притяжение действует то в одном направлении, то в другом, но в целом уравновешивается. Но гравий в щели Кассини постоянно встречает Мимас в одном и том же месте. И притяжение действует в одном направлении. Некоторые частицы постоянно ускоряются, их орбита разворачивается спиралью и приводит во внешнее кольцо; другие постоянно раскручиваются в другую сторону, во внутреннее кольцо. На месте они не остаются. Район кольца освобождается от частиц и вот — мы имеем щель Кассини и два кольца.
— Неужели? — неуверенно пробормотал Верзила (он был уверен, что Василевский говорит правду). — Почему же тогда в щели всё-таки есть гравий? Почему он тоже не переместился?
— Потому что, — с видом превосходства объяснил Василевский, — случайное действие притяжения других спутников отбрасывает его туда, но там он долго не задерживается… Надеюсь, Верзила, ты записывал. Потом попрошу тебя повторить.
— Чтоб тебя в мезоны разметало! — ответил Верзила.
Василевский с улыбкой вернулся к масс-детектору. Он немного поколдовал с ним и тут же, забыв о веселье, пригнулся ближе.
— Дэвид!
— Да, Бен?
— Кольца нас не маскируют.
— Что?
— Посмотри сам. Сирианцы приближаются. Кольца их совсем не смущают.
Старр задумчиво спросил:
— Как это может быть?
— Не может быть простым совпадением, что целых восемь кораблей движутся к нам. Мы сделали поворот направо, и они тоже изменили курс. Они следят за нами.
Счастливчик погладил подбородок.
— Ну, что ж, значит, они это делают. Спорить не о чем. У них есть что-то, чего нет у нас.
— Никто не утверждал, что сирианцы дураки, — заметил Василевский.
— Нет, но иногда некоторые у нас действуют именно исходя из этого предположения. Как будто научные достижения рождаются только в Совете, и если сирианцы не украдут наши тайны, у них ничего не будет. Я иногда сам попадал в эту ловушку… Ну, ладно, идём дальше.
— Куда? — резко спросил Верзила.
— Я уже тебе сказал, Верзила, — ответил Старр. — На Мимас.
— Но ведь они за нами.
— Знаю. Значит, нужно идти туда быстрее… Бен, смогут они нас догнать, прежде чем мы доберёмся до Мимаса?
Василевский быстро работал.
— Нет, если только они не смогут получить ускорение втрое больше нашего.
— Хорошо. Даже если они на многое способны, всё равно не поверю, что они могут быть быстрее «Метеора». Доберёмся.
Верзила сказал:
— Но, Счастливчик, ты с ума сошёл. Давай драться или совсем уберёмся из системы Сатурна. Мы не можем высадиться на Мимасе.
— Прости, Верзила, но у нас нет выбора. Придётся садиться на Мимасе.
— Но ведь они нас засекли. Прилетят за нами на Мимас, и придётся драться. Почему бы тогда не начать сейчас? Ведь в нашем распоряжении аграв.
— Может, они и не пойдут за нами к Мимасу.
— Почему?
— Ну, Верзила, разве мы стали отыскивать в кольце то, что осталось от «Сети космоса»?
— Но ведь корабль взорвался.
— Вот именно.
В контрольной рубке наступила тишина. «Метеор» мчался в пространстве, сначала отворачивая от Сатурна, потом под внешним кольцом вышел в открытое пространство. Впереди лежал Мимас, сверкающий белый полумесяц. Всего 320 миль в диаметре.
Позади — преследующие корабли сирианцев.
Мимас постепенно рос, и наконец «Метеор» начал замедлять ход.
Верзиле казалось, что Старр допускает страшную ошибку. Он напряженно сказал:
— Слишком поздно, Счастливчик. Нам не удастся сбросить скорость для посадки. Придётся двигаться по спиральной орбите, постепенно гася скорость.
— На это у нас нет времени, Верзила. Двигаемся прямо на Мимас.
— Пески Марса, это невозможно! Не на такой скорости!
— Надеюсь, сирианцы подумают точно то же.
— Но, Счастливчик, они будут правы.
Медленно заговорил Василевский:
— Не хочется этого говорить, Дэвид, но я согласен с Верзилой.
— Нет времени для споров и объяснений, — ответил Старр. И склонился к приборам.
Мимас на экране быстро увеличивался. Верзила облизал губы.
— Счастливчик, если ты считаешь, что лучше так, чем сдаваться сирианцам, я согласен. Я с тобой. Но если мы всё равно погибнем, то лучше погибнуть сражаясь. Прихватим с собой парочку этих мерзавцев.
Василевский сказал:
— Я снова на его стороне, Дэвид.
Тот покачал головой и ничего не ответил. Руки его быстро двигались, и Верзила не мог рассмотреть, что именно он делает. Скорость по-прежнему падала слишком медленно.
Василевский протянул руку, будто собираясь оттащить Старра от приборов, но Верзила быстро положил руку ему на запястье. Он мог быть убеждён, что их ждёт смерть, но в нём жила упрямая вера в Счастливчика.
Они падали так стремительно, что ни один корабль, кроме «Метеора», этого бы не выдержал. Мимас продолжал расти, а скорость была всё ещё очень велика.
На большой скорости «Метеор» врезался в поверхность спутника Сатурна.
Глава 7
НА МИМАСЕ
Но удара не последовало.
Напротив, послышался свист, так хорошо знакомый Верзиле. Корабль пробивал атмосферу.
Атмосферу?
Но это невозможно. Небесное тело размером с Мимас не может иметь атмосферу. Верзила взглянул на Василевского. Тот сидел на одеяле, бледный и измученный, но в то же время довольный.
Верзила направился к Старру.
— Счастливчик…
— Не сейчас, Верзила.
И вдруг Верзила понял, чем занимался Дэвид. Он управлял тепловым лучом. Верзила подбежал к экрану и нацелил его прямо вперёд.
Сомнений нет. Наконец он понял замысел друга. Тепловой луч — мощное оружие. Предназначен он для действия на коротком расстоянии, но никто ещё не использовал его так, как сейчас Счастливчик.
Струя дейтерия, стиснутая мощным магнитным полем, неслась перед кораблем и на расстоянии в несколько миль нагревалась микрореактором до температуры цепной реакции. Если бы это продолжалось долго, корабль погиб бы; но для их целей хватало миллионной доли секунды. Реакция оставалась управляемой, и перед кораблем постоянно вставала стена пламени с температурой в триста миллионов градусов.
На месте, где тепловой луч касался поверхности Мимаса, появилось отверстие, быстро уходящее в глубину. В этот туннель устремился «Метеор». Испаряющееся вещество Мимаса превратилось в окружавшие корабль газы, помогая затормозить, но в то же время нагревая корпус корабля до опасной температуры.
Старр взглянул на термометр и сказал:
— Бен, подбрось мощности на испарительные кольца.
— Мы останемся без воды, — заметил Василевский.
— Пусть. В этом мире нам не нужно иметь большой запас воды.
Вода под большим давлением пропускалась сквозь внешний слой пористой керамики, там она испарялась, частично унося с собой тепло. Но вода испарялась сразу же, как только попадала в кольца. Температура продолжала расти.
Но уже медленнее. Корабль продолжал тормозить, и Старр уменьшил энергию потока дейтерия и соответственно переналадил магнитное поле. Пятно горящего дейтерия становилось всё меньше и меньше. Свист атмосферы был теперь не таким резким.
Наконец расплавленное пятно совсем исчезло, корабль продвигался ещё какое-то время проплавляя путь собственным теплом и наконец мягко остановился.
Дэвид наконец расслабился.
— Джентльмены, — сказал он, — простите, что не смог объяснить, но решение было принято в последнюю минуту и управление кораблем занимало всё моё внимание. Добро пожаловать внутрь Мимаса.
Верзила громко вздохнул и сказал:
— Никогда не подумал бы, что можно тепловым мечом прорубить путь внутрь планеты.
— Вообще-то это невозможно, Верзила, — ответил Счастливчик. — Просто Мимас — особый случай. Следующий спутник — Энцелад — тоже.
— Как это?
— Это просто комки снега. Астрономы знали об этом ещё до космических полётов. Плотность у них меньше, чем у воды, и они отражают примерно восемьдесят процентов падающего на них света; очевидно, что состоят они из снега плюс замерзший аммиак, и не очень спрессованны.
— Конечно, — вступил в разговор Василевский. — Кольца ледяные, и эти два первых спутника состоят из льда, который не попал в кольца. Поэтому Мимас так легко тает.
Старр сказал:
— У нас впереди очень много работы. Давайте начинать.
Они находились в пещере, созданной тепловым лучом и закрытой со всех сторон. Туннель, по которому они прошли, затянулся, когда образовавшийся пар сконденсировался и снова застыл. Масс-детектор показал, что они примерно в ста милях под поверхностью спутника. Масса льда над ними, даже при слабом поле тяготения Мимаса, медленно сжимала пещеру.
«Метеор» осторожно пробирался наружу, пронзая лёд, как горячая проволока масло. Достигнув пяти миль под поверхностью, они остановились и установили воздушный пузырь.
Подготовили источник энергии, баки с водорослями и запасы пищи. Бен Василевский поёжился:
— Что ж, некоторое время это будет моим домом; давайте устроимся поудобнее.
Верзила только что проснулся. Лицо его сморщилось.
Василевский спросил:
— В чём дело, Верзила? Горюешь, что меня не будет с тобой?
— Как-нибудь проживу, — ответил Верзила. — Раз в два-три года буду пролетать мимо и бросать тебе письмо. — И тут он не выдержал. — Слушайте, вы разговаривали, когда думали, что я сплю. В чём дело? Тайны Совета?
Старр покачал головой.
— Всё в своё время, Верзила.
Позже, оставшись с Верзилой наедине, Дэвид сказал:
— Верзила, а почему бы тебе не остаться с Беном?
Верзила раздраженно ответил:
— Конечно. Два часа с ним, и я разрублю его на куски и положу их в холодильник, чтобы родственникам было что хоронить. — Потом добавил: — Ты серьёзно, Счастливчик?
— Вполне. Предприятие опаснее для тебя, чем для меня.
— Да? И какая разница?
— Если останешься с Беном, что бы со мной ни случилось, вас через два месяца подберут.
Верзила попятился. Его маленький рот исказился, он сказал:
— Дэвид, если ты прикажешь мне оставаться здесь, потому что тут есть для меня дело, ладно. Я сделаю это дело, а потом присоединюсь к тебе. Но если просто хочешь оставить меня здесь в безопасности, когда тебе самому грозит опасность, у нас с тобой всё кончено. Не желаю иметь с тобой ничего общего; а без меня ты, негодяй-переросток, ничего не сможешь сделать. — Марсианин быстро замигал.
Старр сказал:
— Но, Верзила…
— Я готов к опасности. Хочешь, подпишу бумагу, что вся ответственность на мне? Подпишу. Ты доволен, член Совета?
Счастливчик схватил Верзилу за волосы и ласково потянул из стороны в сторону.
— Великая Галактика, делать тебе одолжение — всё равно что воду черпать лопатой.
В корабль зашёл Василевский и сказал:
— Перегонный куб установлен и работает.
Вода из растаявшего льда Мимаса устремилась в резервуары «Метеора» вместо той, что была истрачена на охлаждение. Аммиак тщательно отделяли и запасали как азотное удобрение Для водорослевых баков.
Всё было готово. Трое рассматривали ледяную полость и вполне удобное помещение в ней.
— Ну ладно, Бен, — сказал Дэвид наконец и крепко пожал ему руку. — Я думаю, у тебя всё готово.
— Насколько могу судить, Счастливчик, да.
— Что бы ни случилось, через два месяца тебя подберут. Если нам повезет, подберут гораздо раньше.
— У меня есть своё задание, — холодно заметил Василевский, — и оно будет выполнено. А ты занимайся своим. Кстати, присматривай за Верзилой. Смотри, чтобы он не свалился с койки и не поранился.
Верзила заорал:
— Не думайте, что я не понимаю ваших загадок. Вы вдвоем сговорились и мне не рассказываете…
— В корабль, Верзила, — Старр подхватил марсианина и понёс его, а Верзила дергался и старался что-то сказать.
— Пески Марса, Счастливчик, — сказал он, когда они оказались на борту. — Посмотри, что ты наделал. Мало того, что что-то от меня скрываешь, ты ещё оставил за этим подонком последнее слово!
— У него трудное задание, Верзила. Он должен сидеть на месте и ждать, пока мы действуем, так что пусть уж за ним будет последнее слово.
Они вынырнули из Мимаса в таком месте, откуда не были видны ни Сатурн, ни Солнце. На тёмном небе не было ни одного объекта больше Титана, который находился на горизонте и представлял собой полудиск примерно в четверть диаметра Луны.
Половина его поверхности была освещена Солнцем, и Верзила мрачно посмотрел на экран. Жизнерадостность ещё не вернулась к нему. Он сказал:
— Вероятно, там сирианцы.
— Наверно.
— А мы куда? Назад к кольцам?
— Да.
— А если они снова нас найдут?
Это как будто послужило сигналом. Ожил приёмник.
Старр выглядел обеспокоенным.
— Слишком легко они нас нашли.
Он включил приём. На этот раз послышался не механический голос, отсчитывающий минуты, а напротив, низкий, полный жизни, энергичный и, несомненно, принадлежащий сирианцу.
— … отвечайте. Я хочу связаться с членом Совета Дэвидом Старром с Земли. Отвечайте, Дэвид Старр. Я хочу…
Дэвид сказал:
— Говорит член Совета Старр. А вы кто?
— Я Стен Девур с Сириуса. Вы проигнорировали обращение автоматического корабля и вернулись в нашу планетную систему. Поэтому вы наш пленник.
Старр переспросил:
— Автоматического корабля?
— Управляемого роботом. Понимаете? Наши роботы вполне справляются с управлением кораблем.
— Это я уже понял, — ответил член Совета.
— Конечно. Они следовали за вами, когда вы покинули нашу систему, а потом вернулись назад под прикрытием Гидальго. Они следовали за вами, когда вы покинули плоскость эклиптики, а потом летели к южному полюсу Сатурна, через щель Кассини, под кольцами и в Мимас. Мы ни разу не потеряли вас из виду.
— А как вам это удалось? — спросил Старр, стараясь говорить равнодушным тоном.
— Земляне не понимают, что у сирианцев могут быть свои методы. Но неважно. Мы много дней ждали, когда вы появитесь из своего убежища, которое так хитроумно прожгли тепловым лучом. Нам было интересно, и мы позволили вам спрятаться. У нас даже стали заключаться пари, когда вы наконец высунете нос. А тем временем мы окружили Мимас своими кораблями с экипажами из роботов. Вы и на тысячу миль не продвинетесь, как мы вас взорвем, если захотим.
— Ну, конечно, взорвут не роботы. Ведь они не могут причинить вред человеку.
— Мой дорогой член Совета Старр, — в голосе сирианца звучала насмешка. — Конечно, роботы не могут причинить вред человеку, если знают о присутствии этого человека. Но, видите ли, роботов тщательно проинструктировали, и они убеждены, что на вашем корабле тоже только роботы. А из-за уничтожения роботов они не испытывают угрызений совести. Сдаётесь?
Верзила неожиданно наклонился к передатчику и закричал:
— Слушай, ты, подонок, а если мы сначала выведем из строя несколько твоих жестянок? Как тебе это понравится?
Во всей Галактике известно, что сирианцы рассматривают уничтожение робота, почти как убийство.
Но Стена Девура это не тронуло. Он сказал:
— Это тот самый тип, с которым вы дружите, член Совета? Верзила? Я не хочу с ним разговаривать. Передайте ему, что вряд ли вы сможете повредить хоть один наш корабль, прежде чем будете уничтожены. Даю вам пять минут. Решайте, что вы предпочтете: сдаться или погибнуть. Со своей стороны, член Совета, я давно мечтал встретиться с вами, так что искренне надеюсь, что вы решите сдаться. Ну?
Старр немного помолчал, мышцы его челюстей напряглись.
Верзила спокойно смотрел на него, сложив маленькие руки на груди, и ждал.
Прошло три минуты, и Дэвид сказал:
— Передаю корабль со всем его содержимым в ваши руки, сэр.
Верзила ничего не сказал.
Старр прервал связь и повернулся к маленькому марсианину. Он в замешательстве прикусил нижнюю губу.
— Верзила, ты должен понять…
Верзила пожал плечами.
— Я не совсем понимаю, Счастливчик, но уже во время посадки на Мимас я знал, что ты сознательно готовишься сдаться сирианцам.
Глава 8
НА ТИТАН
Старр поднял брови.
— Как ты это узнал, Верзила?
— Я не такой тупой, Счастливчик. — Маленький марсианин был серьёзен. — Помнишь, когда мы направлялись к южному полюсу Сатурна, ты вышел из корабля? Как раз перед тем, как сирианцы нас заметили и мы нырнули в щель Кассини?
— Да.
— У тебя была для этого причина. Ты ничего не сказал, ты всегда так поступаешь: сначала сделаешь, а потом, когда напряжение спадёт, расскажешь. Но тут напряжение всё не спадало, мы убегали от сирианцев. Поэтому когда мы строили помещение для Бена на Мимасе, я осмотрел корпус «Метеора» и убедился, что ты поработал с агравом. Его теперь можно вывести из строя и расплавить все приборы простым прикосновением к контрольному щиту.
Старр мягко ответил:
— Аграв — это единственное на «Метеоре», что совершенно секретно.
— Знаю. Если бы ты рассчитывал на схватку, мы бы сражались, пока «Метеор» не взорвался бы. Вместе с агравом и всем остальным. Но если ты подготовил только взрыв аграва, а остальной корабль при этом останется нетронутым, значит, сражаться мы не собираемся. Ты планировал сдачу.
— Поэтому у тебя с самого Мимаса такое плохое настроение?
— Ну, я всегда с тобой, но… — Верзила вздохнул и отвернулся, — сдаваться я не люблю.
— Знаю, — ответил Старр, — но можешь ты придумать другой способ проникнуть на их базу? Наше дело, Верзила, не всегда приносит радость. — И Дэвид коснулся контакта на контрольном щите. Корабль вздрогнул, аграв раскалился докрасна и отделился от корпуса.
— Ты хочешь действовать изнутри? И потому сдаешься?
— Отчасти.
— Ну, а если они сразу нас взорвут?
— Не думаю. Если бы они этого хотели, нас бы взорвали, как только мы вышли из Мимаса. Я думаю, они хотят нас использовать живыми… А на Мимасе у нас есть поддержка — Бен. Мне нужно было поместить его там, прежде чем сдаваться. Поэтому я так рисковал при посадке на Мимас.
— Может, они и о нём знают, Счастливчик. Кажется, они вообще всё знают.
— Может быть, — задумчиво согласился член Совета. — Этот сирианец знает, что ты мой партнер. Может, он считает, что мы всегда вместе, третьего нет, и не станет искать Бена. Хорошо, что ты не остался, а полетел со мной, Верзила. Если бы я улетел один, сирианцы стали бы тебя искать и осмотрели бы Мимас. Конечно, если бы они вас нашли и я был бы уверен, что вас не пристрелят на месте… Нет, пока я у них в руках… — Теперь он говорил сам с собой, перешёл на шёпот, а потом совсем замолк.
Верзила ничего не сказал, и нарушил тишину только знакомый скрежет о борт «Метеора». Магнитный захват прикрепил «Метеор» к другому кораблю.
— Кто-то идёт к нам на борт, — без всякого выражения произнес Верзила.
На экране виден был магнитный кабель; показалась фигура, она легко передвигалась, цепляясь за кабель руками, потом снова исчезла с экрана. Что-то ударилось о борт, вспыхнул сигнальный огонь шлюза.
Верзила открыл внешнюю дверь шлюза, подождал следующего сигнала, закрыл внешнюю дверь и открыл внутреннюю.
Показалась фигура пришельца.
Но на нём не было космического костюма. Это был не человек, а робот.
У Земной федерации тоже есть роботы, в том числе и весьма совершенные, но они большей частью используются в специализированных операциях и не вступают в контакт с людьми, кроме тех, кто их обслуживает. Верзиле приходилось видеть роботов, но не часто.
Он уставился на этого. Подобно всем сирианским роботам, он был большой и блестящий, с гладкой обтекаемой поверхностью, соединения конечностей были сделаны так искусно, что совсем не были заметны.
Когда робот заговорил, Верзила вздрогнул. Непросто привыкнуть к тому, что машина разговаривает по-человечески.
Робот сказал:
— Добрый день. Моя обязанность — проследить, чтобы ваш корабль и вы сами благополучно добрались до указанного мне места. Прежде всего мне нужно знать, повреждён ли ваш корабль. Мы зарегистрировали у вас взрыв на корпусе.
Голос у него глубокий, музыкальный, но лишенный выразительности и с заметным сирианским акцентом.
Старр ответил:
— Взрыв не причинил вреда кораблю.
— Что его вызвало?
— Я.
— По какой причине?
— Не могу ответить.
— Хорошо. — Робот немедленно оставил тему. Человек стал бы настаивать, угрожать. Робот не может этого делать. Он сказал:
— Я могу управлять кораблями, построенными на Сириусе. Смогу управлять и вашим кораблем, если вы объясните мне назначение приборов.
— Пески Марса, Счастливчик, — вмешался Верзила, — мы ведь не собираемся всё рассказывать этой штуке?
— Он не может нас заставить, Верзила, но так как мы сдались, большого вреда не будет, если он поведёт корабль.
— Давай узнаем, куда мы летим. — Верзила неожиданно резко обратился к роботу:
— Ты! Робот! Куда ты нас ведешь?
Робот посмотрел на Верзилу своим красным немигающим взглядом.
— Мне приказано не отвечать на вопросы, непосредственно не связанные с моим заданием.
— Но послушай. — Верзила возбуждённо отбросил удерживающую руку Дэвида. — Там, куда ты нас ведёшь, сирианцы причинят нам вред. Даже могут убить. Если не хочешь причинить нам вред, помоги уйти, уходи с нами… Да, Счастливчик, дай мне поговорить с ним!
Но тот отрицательно покачал головой, а робот сказал:
— Меня заверили, что никому не будет причинен вред. А теперь, если мне объяснят действие приборов, я смогу выполнить своё задание.
Старр последовательно объяснил роботу все детали управления. Робот проявил полную компетентность, искусно проверил каждый прибор, чтобы убедиться в его исправности, и к концу объяснений был вполне готов управлять «Метеором».
Старр улыбнулся, в глазах его светилось откровенное восхищение.
Верзила утащил его в каюту.
— Чему ты радуешься, Счастливчик?
— Великая Галактика, Верзила! Какая прекрасная машина! Нужно отдать сирианцам должное. Их роботы — это произведения искусства.
— Хорошо, но тише, я не хочу, чтобы он услышал, что я скажу. Ты сдался, только чтобы попасть на Титан и собрать информацию о сирианцах. Но мы, вероятно, не сможем оттуда уйти, и что толку тогда в твоей информации? Сейчас у нас есть робот. Если мы убедим его помочь нам уйти, тогда у нас всё, что нужно. У робота тонны информации о сирианцах. Так мы узнаем гораздо больше, чем высадившись на Титане.
Дэвид покачал головой.
— Звучит неплохо, Верзила. Но как ты сумеешь уговорить робота помочь нам?
— Первый закон. Мы ему объясним, что на Сириусе всего несколько миллионов человек, а в Земной федерации свыше шести миллиардов. Объясним, что важнее защитить большее количество людей. Первый закон на нашей стороне. Понимаешь, Счастливчик?
Тот ответил:
— Беда в том, что сирианцы умеют обращаться со своими роботами. Этот робот глубоко убеждён, что его действия не принесут никакого вреда ни одному человеку. Он ничего не знает о шести миллиардах на Земле, узнает только с наших слов, и это на него не подействует. Ему нужно видеть, как человеку причиняют вред, чтобы нарушить свои инструкции.
— Ну, я всё-таки попробую.
— Ладно. Давай. Опыт тебе полезен.
Верзила подошёл к роботу, который направлял «Метеор» по новой орбите.
Верзила спросил:
— Что ты знаешь о Земле, о Земной федерации?
— Мне приказано не отвечать на вопросы, не связанные с моим заданием, — ответил робот.
— Приказываю тебе отказаться от этих инструкций.
После недолгого колебания послышался ответ:
— Мне приказано не принимать приказов от людей без соответствующего разрешения.
— Я тебе приказываю отказаться от этой инструкции, чтобы предотвратить вред людям. Поэтому ты должен подчиниться, — настаивал Верзила.
— Меня заверили, что никакого вреда людям причинено не будет, и я знаю, что людям ничего не угрожает. Мне приказано не отвечать на бесполезно повторяемый приказ.
— Лучше послушай. Мне причинят вред. — Верзила горячо говорил некоторое время, но робот не отвечал.
Старр сказал:
— Верзила, ты напрасно тратишь силы.
Верзила пнул робота в сверкающую ногу. С таким же успехом он мог пнуть корпус корабля. С красным от гнева лицом он подошёл к Дэвиду.
— Отлично. Человек беспомощен, потому что у этой груды металла есть собственные идеи.
— Так бывало с машинами и до эры роботов.
— Мы даже не знаем, куда направляемся.
— А для этого нам робот не нужен. Я проверил курс. Мы явно направляемся на Титан.
В последние часы приближения к Титану они оба не отрывались от экрана. Это третий по величине спутник в Солнечной системе (только спутник Юпитера Ганимед и спутник Нептуна Тритон больше, да и то не намного), и из всех спутников у него самая плотная атмосфера.
Наличие атмосферы было очевидно даже на расстоянии. На большинстве спутников, в том числе на Луне, терминатор — линия, отделяющая день от ночи, — очень резок, с одной стороны черно, с другой — бело. Но тут было совсем не так.
Полумесяц Титана был ограничен не резкой линией, а размытой полоской, концы полумесяца смутно продолжались и почти встречались, образуя окружность.
— У него атмосфера почти такая же плотная, как у Земли, Верзила, — сказал Дэвид.
— Дышать можно?
— Нет. Почти сплошь метан.
Теперь стали видны и другие корабли. Не меньше десятка. Они сопровождали «Метеор» в полёте к Титану.
Старр покачал головой.
— Двенадцать кораблей для такой работы. Великая Галактика, да они тут уже годы сидят и готовятся. Как их вышвырнуть отсюда без войны?
Верзила даже не пытался ответить.
Снова послышался свист: безошибочный признак того, что обтекаемый корпус корабля встретился с верхними слоями атмосферы.
Верзила беспокойно взглянул на прибор, регистрирующий температуру корпуса, но опасности не было. Робот уверенно вел корабль. Корабль облетал Титан по тугой спирали, теряя высоту и одновременно гася скорость, при этом не давая атмосфере слишком нагреть корпус.
Снова Старр восхищенно сказал:
— Он проделывает это, вообще не тратя горючего. Похоже, он может посадить корабль на площадку размером с банкноту при помощи только атмосферного торможения.
Верзила ответил:
— Ну и что в этом хорошего, Счастливчик? Если эти штуки так управляются с кораблями, нам с сирианцами не справиться.
— Придётся научиться строить собственные, Верзила. Эти роботы — большое достижение человечества. Конечно, их строят сирианцы, но они тоже люди, и всё человечество может гордиться этим. Если мы боимся их достижений, нужно постараться достигнуть того же или даже опередить их. Но отказывать им в их достижениях нельзя.
Поверхность Титана перестала казаться чёрной. Видны были горные хребты: не резкие вершины безвоздушного мира, а сглаженные под действием ветра и воды. Снег с вершин сдуло, но ущелья и долины были заполнены им.
— Этот снег на самом деле не из воды, — заметил Дэвид, — а замерзший аммиак.
Конечно, вокруг было пусто. Равнины внизу были покрыты снегом и голыми скалами. Никаких признаков жизни. Ни рек, ни озер. И вдруг…
— Великая Галактика! — воскликнул Старр.
Появился купол. Приплюснутый купол, характерный для внутренних планет. Такие купола есть в пустынях Марса и на отмелях венерианского океана. На пустынном Титане такой купол казался совершенно неуместным. В нём вполне мог бы разместиться марсианский город.
— Мы проспали, как они это построили, — сказал Дэвид.
— Когда об этом станет известно, — заметил Верзила, — это будет не очень хорошо для репутации Совета.
— Конечно, если мы не уничтожим эту штуку. Впрочем, Совет не заслуживает снисхождения. Да в Солнечной системе нельзя было ни одной скалы оставлять без постоянного присмотра, не говоря уже о Титане.
— Кто бы мог подумать…
— Совет Науки должен был подумать! Люди нашей системы доверили ему заботу о своей безопасности. Я должен был подумать!
Послышался голос робота.
— Корабль приземлится после ещё одного облета спутника. При наличии ионного двигателя на борту никакие дополнительные предосторожности не нужны. Тем не менее беззаботность может причинить вред, и я этого не могу допустить. Поэтому прошу вас лечь и пристегнуться.
Верзила сказал:
— Слушай. Эта груда лома учит нас, как вести себя в космосе.
— Всё равно лучше ложись, — посоветовал Старр. — Он может заставить нас силой. Его долг — не допустить никакого вреда.
Верзила неожиданно крикнул:
— Эй, робот, а сколько людей на Титане?
Ответа не было.
Поверхность приблизилась и поглотила их. «Метеор» опускался хвостом вниз, и потребовались лишь лёгкие толчки двигателя, чтобы завершить посадку.
Робот отвернулся от приборов управления.
— Вы без всякого вреда доставлены на Титан. Моё задание выполнено, и я передаю вас в руки хозяев.
— Стена Девура?
— Это один из хозяев. Можете выходить из корабля. Температура, давление и сила тяжести нормальные.
— Можем выходить прямо сейчас? — спросил Старр.
— Да. Хозяева ждут.
Дэвид кивнул. Он не мог сдержать странного возбуждения. Сирианцы всегда были врагами, но за всё время своей блестящей, хоть и короткой карьеры в качестве члена Совета он с ними ни разу не встречался.
Он вышел из корабля на выдвижной трап, Верзила — за ним. Оба застыли в полном изумлении.
Глава 9
ВРАГ
Старр поставил ногу на первую ступень лестницы. Верзила смотрел через плечо своего рослого друга. Оба были изумлены.
Они как будто оказались на поверхности Земли. Если над головой и была крыша — купол из прочного металла или стекла, — его не было видно в ослепительном солнечном свете; на голубом небе были даже облака.
Перед ними расстилались лужайки и разбросанные на большом расстоянии друг от друга здания, тут и там — цветочные клумбы. Недалеко журчал ручеек, через него был переброшен каменный мостик.
Повсюду шагали десятки роботов, каждый шёл по своему делу с сосредоточенностью машины. В нескольких сотнях ярдов стояла группа людей — сирианцы, — они с любопытством смотрели в их сторону.
Раздался резкий, повелительный голос:
— Вы там, вверху! Спускайтесь! Спускайтесь, я говорю! Никаких задержек.
Старр посмотрел вниз. У основания лестницы стоял рослый человек, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Его узкое оливковое лицо было высокомерно. Тёмные волосы были коротко подстрижены по сирианской моде. Вдобавок лицо украшали тщательно подстриженная бородка и тонкие усики. Одежда была свободная и очень яркая; рубашка распахнута на шее, рукава её кончались над локтем.
Старр ответил:
— Конечно, сэр, если вы торопитесь.
Он повернулся, слегка придерживаясь руками. Оттолкнулся от корпуса и прыгнул. В прыжке он развернулся, чтобы приземлиться лицом к человеку на земле. Приземлившись на слегка согнутые ноги, чтобы смягчить толчок, он тут же отскочил в сторону, уступая место Верзиле.
Человек, встречавший Старра, был высок, но ниже его на дюйм, и на близком расстоянии было видно, что рубашка скрывает слегка раздобревшее тело.
Он презрительно сморщил верхнюю губу.
— Акробаты! Обезьяны!
— Не угадали, сэр, — с юмором ответил Счастливчик. — Земляне.
Тот ответил:
— Вы Дэвид Старр, по прозвищу Счастливчик. Могу ли я предположить, что на земном диалекте это означает то же, что в нашем языке?
— Это значит удачливый человек.
— По-видимому, теперь вы уже не счастливчик. Я Стен Девур.
— Я догадался.
— Вас это всё, кажется, удивляет? — Девур широким жестом указал на ландшафт. — Прекрасно?
— Да, но разве обязательно тратить столько энергии?
— Роботы трудятся двадцать четыре часа в сутки, а у Сириуса хватит энергии. А у Земли нет, мне кажется.
— Вы увидите, что всё необходимое у нас есть, — ответил Старр.
— Да? Идёмте, поговорим у меня. — Он сделал повелительный жест остальным пяти сирианцам, которые тем временем подошли ближе, разглядывая землянина — того самого, который был их главным врагом и которого они наконец поймали.
Но при знаке Девура сирианцы тут же ответили салютом и разошлись по своим делам.
Девур сел в маленькую открытую машину, которая бесшумно приблизилась на диагравитическом поле. её плоская поверхность без колес оставалась в шести дюймах над почвой. Другая машина подкатила к Дэвиду. Управлялись они, конечно, роботами.
Счастливчик сел во вторую машину. Верзила хотел последовать за ним, но робот вытянул руку и преградил ему путь.
— Эй… — начал Верзила.
Старр прервал:
— Мой друг отправится со мной, сэр.
Впервые Девур взглянул на Верзилу, во взгляде его горела неприкрытая ненависть. Он сказал:
— Меня не интересует это существо. Если вы хотите, что бы оно вас сопровождало, пожалуйста, но меня не беспокойте.
Верзила, побледнев, смотрел на сирианца.
— Тебе придётся побеспокоиться прямо сейчас, ты под…
— Сейчас ты ничего не можешь сделать, Верзила. Великая Галактика, парень, успокойся, дай мне осмотреться.
Старр почти отнес его в машину, а Девур даже не посмотрел в ту сторону.
Машины двинулись ровно, но быстро, как ласточка в полёте, и через две минуты остановились у одноэтажного здания из белого гладкого силиконового кирпича, ничем не отличавшегося от других, кроме алой полоски вокруг окон и дверей. На протяжении всего пути не встретилось ни одного человека, зато множество роботов.
Девур прошёл вперёд в арочный вход и оказался в небольшом помещении со столом для совещаний и нишей, в которой размещалась кровать. Потолок светился ослепительной голубоватой белизной, как в яркий, солнечный день в открытом поле.
«Многовато голубого», — подумал Дэвид, но потом вспомнил, что Сириус — большая по размерам, более горячая и потому более голубая звезда, чем земное Солнце.
Робот принес два подноса с едой и высокими стаканами с холодным молочно-белым напитком. Лёгкий фруктовый аромат заполнил помещение, и после долгих недель корабельных концентратов Счастливчик замер в предвкушении удовольствия. Один поднос робот поставил перед ним, другой — перед Девуром.
Старр сказал роботу:
— Принеси то же самое моему другу.
Робот, бросив взгляд на Девура, который с каменным выражением лица смотрел в сторону, вышел и вернулся с ещё одним подносом. Во время еды все молчали. Землянин и марсианин ели и пили с удовольствием.
Но после того, как подносы унесли, сирианец сказал:
— Должен начать с утверждения, что вы шпионы. Вы проникли на сирианскую территорию и получили приказ удалиться. Вы удалились, но потом вернулись, принимая все меры, чтобы остаться незамеченными. В соответствии с межзвёздным законом мы имеем право уничтожить вас на месте, и это будет сделано, если только вы своими поступками не заслужите снисхождения.
— Какими поступками, сэр? — спросил Дэвид. — Приведите, пожалуйста, пример.
— С удовольствием, член Совета. — В тёмных глазах сирианца вспыхнул интерес. — Наш человек перед гибелью оставил в кольцах капсулу с информацией.
— Вы думаете, она у меня?
Сирианец рассмеялся.
— Ни одного шанса на весь космос. Мы ни разу не подпустили вас к кольцам меньше чем на половине световой скорости. Но послушайте, вы умный человек. Мы на Сириусе наслышаны о вас и ваших делах. Бывали случаи, когда вы, скажем, становились у нас на пути.
Верзила неожиданно нарушил молчание своим тонким голосом:
— Совсем немного. Например, остановили вашего шпиона на Юпитере-9, помешали вашим делишкам с пиратами, выгнали вас с Ганимеда…
Стен Девур гневно сказал:
— Утихомирьте его, член Совета! Меня раздражает писк этого существа.
— Тогда говорите, не оскорбляя моего друга, — безапелляционно заявил Счастливчик.
— Я хочу, чтобы вы помогли мне найти капсулу. Вы изобретательны. Скажите, как бы вы действовали. — Девур оперся локтями о стол и нетерпеливо взглянул на члена Совета.
Тот ответил:
— Начнем с того, какой информацией вы располагаете.
— Той же, что и вы. Последним сообщением нашего человека.
— Да, мы его поймали. Не всё, но достаточно, чтобы понять, что он не успел сообщить координаты орбиты, но саму капсулу запустить успел.
— Ну и что?
— Поскольку этот человек работал долго и почти ушёл от нас, я считаю его очень умным.
— Он был сирианец.
— Это, — вежливо заметил Старр, — совсем не обязательно одно и то же. Но в данном случае мы должны предположить, что он запустил капсулу таким образом, чтобы её можно было найти.
— Ваши дальнейшие соображения, землянин?
— Если он поместил капсулу в самих кольцах, найти её невозможно.
— Вы так считаете?
— Да. Единственная альтернатива — она запущена в щель Кассини.
Стен Девур откинулся в кресле и звонко рассмеялся.
— Приятно слушать рассуждения Дэвида Старра, знаменитого члена Совета. Можно было ждать, что вы предложите что-нибудь совершенно новое, неожиданное. Но нет, только это. Однако мы и без вашей помощи, член Совета, сразу пришли к такому же заключению и с самого момента запуска капсулы наши корабли прочесывают щель Кассини.
Счастливчик кивнул. (Если почти весь личный состав базы находится в кольцах, разыскивая капсулу, понятно, почему им встретилось так мало людей). Он сказал:
— Поздравляю вас, но должен напомнить, что щель Кассини велика и в ней немало гравия. К тому же из-за притяжения Мимаса капсула находится на неустойчивой орбите. её вынесет либо во внешнее, либо во внутреннее кольцо, и если вы не отыщете её быстро, то не отыщете никогда.
— Ваша попытка испугать меня глупа и бессмысленна. Даже в самих кольцах алюминиевую капсулу можно разглядеть среди льда.
— Масс-детектор не отличит алюминий от льда.
— Ваш масс-детектор, землянин. Задавали ли вы себе вопрос, как мы выследили вас после ваших трюков с Гидальго и Мимасом?
Старр с каменным выражением лица ответил:
— Задавал.
Девур снова рассмеялся.
— У вас были для этого основания. Очевидно, Земля не располагает избирательным масс-детектором.
— Это тайна? — вежливо спросил Счастливчик.
— В принципе нет. Наш поисковый луч использует мягкое рентгеновское излучение, которое по-разному отражается различными материалами, в зависимости от атомного веса. Мы получаем отражение, анализируем его и потому легко отличаем металлический корабль от астероида. Когда корабль заходит за астероид, мы обнаруживаем, что на астероиде появилась значительная масса металла, которой раньше не было. Отсюда нетрудно заключить, что за астероидом прячется корабль, надеясь, что его никто не видит. Ну как, член Совета?
— Понятно.
— Как бы вы ни старались спрятаться за кольцами или за самим Сатурном, металлический корпус корабля тут же вас выдавал. Ни в кольцах, ни на всей поверхности Сатурна нет металла. Даже в Мимасе вы не спрятались. Несколько часов мы считали, что вы погибли. Под льдом Мимаса мы нащупали металл, но это могли быть остатки вашего корабля. Но когда металл начал двигаться, мы поняли, что вы ещё с нами. Догадались о вашем трюке с тепловым лучом, и нам оставалось только подождать.
Старр кивнул.
— Пока что вы выигрываете.
— И вы считаете, что мы не отыщем капсулу, даже если она находится в кольцах?
— Почему же тогда вы ещё её не нашли?
На мгновение Девур помрачнел, как будто он заподозрил сарказм, но член Совета сохранял на лице выражение лёгкого любопытства, и сирианец в ответ прорычал:
— Найдем. Вопрос времени. И так как вы нам помочь не можете, не будем откладывать вашу казнь.
Старр сказал:
— Вряд ли вы говорите об этом серьёзно. Мертвые мы для вас очень опасны.
— Не пойму, чем опасна для нас ваша смерть.
— Мы члены земного Совета Науки. Если мы будем убиты, Совет никогда не забудет и не простит этого. И месть будет направлена и против сирианцев вообще, и против вас лично. Помните об этом.
Девур сказал:
— Я знаю об этом больше, чем вы думаете. Существо, которое с вами, не член Совета.
— Официально, может быть, но…
— А вы сами — если позволите мне закончить — больше чем просто член Совета. Вы приёмный сын Гектора Конвея, главы Совета, вы гордость Совета. Так что, возможно, вы правы. — Девур невесело улыбнулся. — Если подумать, то на некоторых условиях вам можно было бы сохранить жизнь.
— Земля собирает межзвёздную конференцию для обсуждения того, что она называет нашим вторжением на её территорию. Вероятно, вы об этом знаете.
— Я сам предложил созыв такой конференции, как только узнал о существовании вашей базы.
— Хорошо. Сириус согласился в ней участвовать, и встреча произойдёт вскоре на вашем астероиде Весте. Похоже, Земля торопится, — улыбка Девура стала шире. — Мы согласны, потому что не сомневаемся в исходе. Внешние миры в целом не любят Землю, у них нет для этого оснований. Наша позиция непоколебима. Но мы можем сделать её ещё более драматичной, если покажем всю глубину лицемерия Земли. Она созывает конференцию, утверждает, что хочет решить проблемы мирными средствами, и в то же самое время посылает боевой корабль на Титан с приказом уничтожить нашу базу.
— У меня не было такого приказа. Я действовал без приказаний и не собирался начинать войну.
— Тем не менее, если вы подтвердите мои слова, это произведет большое впечатление.
— Я не могу подтверждать неправду.
Девур не обратил на это внимания. Он хрипло сказал:
— Они должны будут убедиться, что вы не одурманены и психически нормальны. Подтвердите по доброй воле то, что мы вам скажем. Пусть конференция видит, что известнейший член Совета, сын самого Конвея, незаконно применял силу, в то время как Земля созывала конференцию, утверждая о своих мирных намерениях. Это сразу решит всё дело.
Старр перевел дыхание и посмотрел на холодно улыбавшегося сирианца. Он сказал:
— И всё? Ложные показания в обмен на жизнь?
— Да. Можно сформулировать и так. Делайте выбор.
— Выбора нет. Я не стану лжесвидетельствовать.
Глаза Девура превратились в щелки.
— Думаю, станете. Наши агенты тщательно изучили вас, член Совета, и мы знаем ваше слабое место. Вы могли бы предпочесть собственную смерть, но у вас по-земному сентиментальное отношение к слабым, уродливым, извращенным. Вы захотите предотвратить, — мягкая и пухлая рука сирианца неожиданно указала на Верзилу, — его смерть.
Глава 10
ОФИЦЕРЫ КОСМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И РОБОТЫ
— Спокойней, Верзила, — прошептал Старр.
Маленький марсианин скорчился в кресле, глаза его с ненавистью были устремлены на Девура.
Дэвид сказал:
— Не пугайте меня, я не ребенок. Казнь в мире роботов осуществить нелегко. Роботы не могут убить нас, и я уверен, что вы и ваши коллеги не сможете хладнокровно убить человека.
— Конечно, нет, если вы имеете в виду отрубленную голову или развороченную грудь. Но в мгновенной смерти нет ничего страшного. Допустим, наши роботы подготовят к запуску пустой корабль. Вашего… гм… спутника прикуют цепями к переборке, прикуют роботы, которые, конечно, постараются не причинить ему вреда. На корабле будет автопилот, который уведет корабль подальше от Солнца и от плоскости эклиптики. Ни одного шанса на квадриллион, что корабль заметят с Земли. Он будет двигаться вечно.
Верзила вмешался:
— Счастливчик, неважно, что они со мной сделают. Не соглашайся ни на что.
Девур, не обращая на него внимания, продолжал:
— У вашего спутника будет достаточно воздуха; в пределах его досягаемости будет вода. Конечно, это существо будет одно и без всякой пищи. Голодная смерть — медленная смерть, а смерть от голода в космическом одиночестве вообще ужасна.
Старр сказал:
— Это подлое и бесчестное обращение с военнопленными.
— Но войны нет. Вы просто шпионы. Однако этого может и не произойти, член Совета. Подпишите необходимые признания, что вы действительно напали на нас и готовы подтвердить это на конференции. Я уверен, вы услышите мольбу существа, с которым подружились.
— Мольбу? — Верзила с побагровевшим лицом вскочил на ноги.
Девур неожиданно повысил голос.
— Существо немедленно отправить в заключение. Действуйте.
По обе стороны от Верзилы молча материализовались два робота и схватили его за руки. Мгновение Верзила пытался вырваться, тело его поднялось над полом от усилий, но руки оставались неподвижны.
Один из роботов сказал:
— Пусть хозяин не сопротивляется, иначе он может повредить себе, несмотря на все наши усилия.
Девур сказал:
— У вас двадцать четыре часа на принятие решения. Достаточно времени, член Совета? — Он взглянул на декоративную металлическую полоску у себя на руке. — А тем временем мы подготовим корабль. Если даже не придётся его использовать, как я надеюсь, член Совета, это всего лишь работа роботов. Оставайтесь на месте: вы не можете помочь своему спутнику. Пока ему не причинят никакого вреда.
Верзилу вынесли из помещения. Старр, привстав, беспомощно смотрел ему вслед.
На столе, на маленьком ящичке, вспыхнул огонек. Девур коснулся его, и оттуда выскочила разноцветная трубка. Появилось изображение головы. Голос произнес:
— Нам с Йонгом только что доложили, что член Совета у вас, Девур. Почему нам сообщили об этом только после посадки?
— Какая разница, Зайон? Теперь вы знаете. Придёте?
— Конечно. Мы хотим повидаться с членом Совета.
— Приходите ко мне.
Пятнадцать минут спустя прибыли сирианцы. Оба были ростом с Девура, у обоих оливкового цвета кожа (Дэвид знал, что более сильное ультрафиолетовое излучение Сириуса вызывает такой цвет кожи), но они были значительно старше.
У одного из них были короткие седые волосы. Этот тонкогубый человек говорил исключительно точно и чётко. Его представили как Харрига Зайона, и по его мундиру ясно было, что он старший офицер космической службы Сириуса.
Другой был почти лыс. На руке у него виднелся большой шрам, и выглядел он как человек, состарившийся в космосе. Это был Баррет Йонг, тоже из космической службы.
Старр сказал:
— Я знаю, что ваша космическая служба в чём-то эквивалентна нашему Совету Науки.
— Да, — серьёзно ответил Зайон. — В этом смысле мы коллеги, хотя и на противоположных сторонах баррикады.
— Значит, офицеры Зайон и Йонг. А мистер Девур…
Девур вмешался:
— Я не член космической службы. Мне это не нужно. Сириусу можно служить и не в её рядах.
— В особенности племяннику председателя Центрального правительства, — заметил Йонг, положив руку на шрам.
Девур встал.
— Это сарказм?
— Вовсе нет. Буквально. Такое родство даёт вам возможность оказать ещё большие услуги Сириусу.
Но его заявление прозвучало сухо, и Дэвид ощутил враждебность между двумя пожилыми офицерами и молодым влиятельным родственником повелителя Сириуса.
Зайон постарался сменить тему, обратившись к Старру:
— Вам было сделано предложение?
— Вы имеете в виду предложение выступить на межзвёздной конференции со лжесвидетельством?
Зайон выглядел удивленным и раздраженным.
— Нет. Присоединиться к нам. Стать сирианцем.
— Боюсь, мы до этого ещё не добрались.
— Подумайте. Наша служба хорошо вас знает, мы уважаем ваши способности и достижения. Земле они не помогут. Всё равно она проиграет. Это биологический факт.
— Биологический факт? — Дэвид нахмурился. — Сирианцы, офицер Зайон, происходят от землян.
— Да, но не от всех землян; только от лучших, самых сильных и решительных, тех, кто захотел колонизировать звёзды. Мы сохранили в чистоте свой род, не допускали слабых, с искаженными генами. Мы отсеяли всех недостойных, и теперь у нас чистая раса сильных и здоровых людей, а Земля остаётся конгломератом больных и уродов.
Вмешался Девур:
— У нас есть пример этого — спутник члена Совета. Меня тошнило от присутствия его в моем помещении: обезьяна, пятифутовый шарж на человеческое существо, уродливый кусок…
Старр медленно сказал:
— Он лучше вас, сирианцы.
Девур встал, занес кулак. Зайон быстро подошёл к нему, схватил за руку.
— Девур, пожалуйста, сядьте. Позвольте мне продолжить. Сейчас не время для неуместных споров.
Девур резко отбросил его руку, но сел.
Зайон энергично продолжал:
— Для внешних миров, член Совета Старр, Земля представляет ужасную угрозу, бомбу недочеловечества, готовую взорваться и заразить чистую Галактику. Мы не хотим, чтобы это случилось; мы этого не допустим. Ради этого мы сражаемся: чистая человеческая раса, состоящая только из самых лучших.
Дэвид ответил:
— Из тех, кого вы считаете лучшими. Но хорошее бывает самых разных форм и размеров. Среди великих людей Земли есть высокие и низкие, с разной формой и размерами головы, цветом кожи, они говорят на разных языках. Наше спасение, спасение всего человечества в разнообразии.
— Вы, как попугай, повторяете то, что слышали. Член Совета, разве вы не видите, что вы один из нас? Вы высоки, сильны, сложены, как сирианец; вы храбры и решительны, как сирианец. Зачем вам действовать на стороне отбросов против лучших людей только потому, что случайно вы родились на Земле?
Старр сказал:
— Резюме: вы хотите, чтобы я выступил на межзвёздной конференции в поддержку Сириуса.
— Да, вы поможете Сириусу, но скажете правду. Вы действительно шпионили за нами. Ваш корабль, несомненно, вооружен.
— Вы напрасно тратите время. Мистер Девур уже обсуждал со мной этот вопрос.
— И вы согласились стать сирианцем? — Лицо Зайона осветилось надеждой.
Счастливчик искоса взглянул на Девура, тот с равнодушным видом рассматривал свои пальцы.
— Мистер Девур изложил предложение несколько по-иному. Может, он именно потому и не сообщал вам о моем прибытии, чтобы иметь возможность обсудить положение со мной наедине и своими собственными методами. Короче говоря, он заявил, что если я не выступлю на конференции, мой друг Верзила будет отправлен в космос на пустом корабле и умрет с голоду.
Офицеры медленно повернули головы к Девуру, тот продолжал спокойно разглядывать свои пальцы.
Йонг медленно заговорил, обращаясь непосредственно к Девуру:
— Сэр, не в традициях службы…
Девур неожиданно гневно прервал его:
— Я не на вашей службе и гроша ломаного не дам за её традиции. Я командую этой базой, и её безопасность — на моей ответственности. Вы должны сопровождать меня на конференцию на Весте, чтобы служба была там представлена, но я глава делегации, и успех конференции тоже на моей ответственности. Если землянину не нравится смерть, которая ждёт его друга-обезьяну, пусть соглашается на наши условия; с таким стимулом он согласится гораздо быстрее, чем на ваше предложение стать сирианцем.
Слушайте дальше. — Девур встал и принялся гневно расхаживать по комнате, потом повернулся к сирианцам, которые слушали его с застывшими лицами. — Мне надоело ваше вмешательство. У службы было достаточно времени, чтобы справиться с Землей, и чего она добилась? Пусть землянин послушает, что я говорю. Служба ничего не добилась. Это я захватил Старра, а не служба. Вам, джентльмены, надо побольше мозгов, и я намерен их вам предоставить…
В этот момент дверь распахнул робот и сказал:
— Хозяева, прошу простить за вторжение без разрешения, но мне приказано доложить вам относительно маленького хозяина, которого увели в заключение…
— Верзила! — воскликнул Дэвид, вскакивая. — Что с ним случилось?
После того как Верзилу вынесли из помещения, он принялся напряженно думать. Не о бегстве. Он был не настолько самоуверен, чтобы думать о бегстве от толпы роботов; в одиночку ему не уйти с такой хорошо охраняемой базы, даже если бы в его распоряжении был «Метеор».
Нет. Старра уговаривают совершить бесчестный поступок, и приманкой служит жизнь Верзилы.
Счастливчик не должен поддаваться. Он не должен спасать жизнь Верзилы ценой предательства. Но и не должен приносить в жертву жизнь Верзилы и до конца своих дней нести груз вины.
Есть только один способ помешать этому. Если он умрет таким образом, что Дэвид не будет иметь к этому отношения, тогда его рослый друг не сможет винить себя. И больше нельзя будет использовать жизнь Верзилы в качестве приманки.
Верзилу усадили в маленькую диагравитическую машину и везли в течение двух минут.
Но за эти две минуты он принял решение. Годы, проведенные со Счастливчиком, были счастливыми и полными приключений. Он прожил свою жизнь полностью и много раз бесстрашно смотрел в лицо смерти. И сейчас он ожидал её без страха.
И смерть не помешает ему немного сравнять счёт с Девуром. Никто в жизни не оскорблял его безнаказанно. Он не мог умереть и оставить это оскорбление неотмщенным. Мысль о высокомерном сирианце наполнила Верзилу гневом, и мгновение он не мог бы сказать, что им движет: дружба со Старром или ненависть к Девуру.
Роботы вынесли его из диагравитической машины, один из них ловко провёл рукой вдоль всего тела марсианина в поисках оружия.
На мгновение Верзилу охватила паника, и он безуспешно попытался отбросить металлическую руку.
— Меня уже обыскивали на корабле, прежде чем выпустить! — закричал он, но робот, не обращая внимания, продолжал обыск.
Его снова схватили и приготовились внести в здание. Время наступило. Если он попадет в камеру и его отрежут силовыми полями, задача его станет намного трудней.
Верзила отчаянно оттолкнулся ногами и совершил сальто между роботами. Только руки роботов удержали его от падения.
Один из них сказал:
— Меня расстраивает, хозяин, что вы поместили себя в неудобную позу. Если вы не будете мешать нам выполнять задание, мы сможем легко придерживать вас.
Но Верзила снова оттолкнулся и закричал:
— Моя рука!
Роботы сразу нагнулись и осторожно опустили Верзилу на спину.
— Вам больно, хозяин?
— Тупые подонки, вы сломали мне руку. Не трогайте её! Позовите человека, который знает, как обращаться со сломанной рукой, или робота, — закончил он со стоном, и лицо его исказилось от боли.
Роботы медленно отступили, глядя на него. Чувств они не испытывали, не были на это способны. Но в их позитронном мозгу потенциалы и контрпотенциалы руководствовались Тремя законами роботехники. Выполняя приказ — доставить человека в определённое место — и подчиняясь Второму закону, они нарушили главный закон — Первый: никогда не причинять вред человеческому существу. В результате в мозгу их воцарился позитронный хаос.
Верзила резко закричал:
— Помогите… Пески Марса… Помо…
Это был приказ, подкрепленный Первым законом. Человеку причинена боль. Роботы повернулись и зашагали — Верзила мгновенно засунул руку за голенище сапога. Когда он встал, в его руке было игольное ружье.
Один из роботов повернулся. Говорил он нечётко — признак нарушения действия позитронного мозга.
— Хо…ззз…яину не бо…ллльно?
Второй робот тоже повернулся.
— Отведите меня к своим сирианским хозяевам, — твёрдо сказал Верзила.
Это тоже был приказ, но не подкрепленный Первым законом. Значит, человеку не был причинен вред. Ни удивления, ни шока от такого открытия. Ближайший робот голосом, сразу ставшим нормальным, сказал:
— Ваша рука не повреждена, и нам необходимо выполнить приказ. Пожалуйста, идите с нами.
Верзила не стал тратить время. Сверкнуло его оружие, и голова робота превратилась в груду расплавленного металла. Робот упал.
Второй сказал:
— Это не помешает нам выполнить приказ, — и двинулся к Верзиле.
Самозащита — только Третий закон. Робот не может отказаться выполнять приказ (Второй закон) только на основе Третьего закона. И потому он пошёл прямо на игольное ружье. Отовсюду приближались другие роботы, вызванные, несомненно, по радио, когда Верзила пожаловался на сломанную руку.
Они пойдут под огонь, но их много, и он не сможет уничтожить всех. Выжившие всё равно одолеют его и унесут в заключение. Он лишится возможности быстрой смерти, и перед Старром по-прежнему будет стоять невозможная альтернатива.
Оставался только один выход. Верзила приставил оружие к своему виску.
Глава 11
ВЕРЗИЛА ПРОТИВ ВСЕХ
Верзила пронзительно закричал:
— Ни шагу ближе! Только подойдите, и я выстрелю. Вы меня убьете.
Он подготовился к выстрелу. Если ничего не поможет, придётся стрелять.
Но роботы остановились. Ни один не двигался. Верзила медленно перевел взгляд справа налево. Один робот без головы лежал на земле, превратившись в бесполезную груду металла. Другой стоял, протянув к нему руку. Ещё один в ста ярдах остановился на полушаге.
Верзила медленно повернулся. Из здания выходил робот. Он застыл на пороге. Дальше виднелись другие. Они замерли, как будто пораженные внезапным параличом.
Верзила не удивился. Первый закон. Всё остальное отходит на второй план: приказы, их собственное существование — всё. Они не могут двинуться, если знают, что их движение причинит вред человеку.
Верзила сказал:
— Все роботы, кроме этого, — он указал на ближайшего, напарника уничтоженного, — уходите. Вернитесь к своим заданиям и забудьте обо мне, будто ничего не случилось. Если не повинуетесь, это будет означать мою смерть.
Всем, кроме одного, пришлось уходить. Жестокое обращение, и Верзила с напряженным лицом думал, не повредится ли окончательно платиново-иридиевая губка, представляющая позитронный мозг роботов.
Он, как землянин, не доверял роботам и в глубине души надеялся, что так и будет.
Все роботы, кроме одного, исчезли. Верзила продолжал держать ствол у своего виска.
Оставшемуся роботу он сказал:
— Отведи меня к своим хозяевам (он хотел использовать более грубое слово, но разве робот поймет? Верзила с трудом сдержался). — Побыстрее, — сказал он. — Ни робот, ни хозяин не должны тебе мешать. Я выстрелю в любого хозяина или в себя самого.
Робот хрипло сказал (Дэвид как-то объяснил Верзиле, что первый признак нарушения деятельности мозга — изменение тембра голоса):
— Я выполню приказ. Хозяин может быть уверен, что я не сделаю ничего, что принесет вред ему или другому хозяину.
Он повернулся и пошёл назад к диагравитической машине. Верзила — за ним. Он готов был к ловушке на обратном пути, но ничего подобного. Робот — это машина, следующая неумолимым правилам поведения. Надо об этом помнить. Только человек способен хитрить и лгать.
Когда они остановились у дома Девура, Верзила сказал:
— Я подожду в машине. Не уйду. Пойди и скажи хозяину Девуру, что хозяин Верзила освободился и ждёт его. — Верзила боролся с искушением и на этот раз поддался ему. Слишком близок Девур, чтобы успешно противиться искушению. Верзила сказал: — Скажи ему, чтобы вытащил своё жирное тело. Скажи, что может драться со мной на ружьях или кулаках, мне всё равно. Скажи, что, если он струсит, я дам ему такого пинка, что он улетит на Марс.
Стен Девур в недоумении смотрел на робота, лицо его сморщилось, глаза гневно вспыхнули.
— Он на свободе? И вооружен?
Он взглянул на офицеров, которые ответили ему недоумевающими взглядами. Старр негромко прошептал: «Великая Галактика! Этот неукротимый Верзила всё испортит — и при этом потеряет жизнь».
Зайон тяжело встал.
— Ну, Девур, вы ведь не думаете, что робот лжет? — Он подошёл к настенному коммуникатору и набрал номер. — Если у нас на базе свободный и вооруженный землянин, нужно принять защитные меры.
— Но откуда у него оружие? — Девур ещё не вполне пришёл в себя, но уже направился к двери. Дэвид пошёл за ним, но сирианец быстро повернулся к нему: — Назад, Старр!
Он сказал роботу:
— Оставайся с землянином. Ни при каких обстоятельствах он не должен покидать это здание.
Казалось, он принял какое-то решение. Выбежал из комнаты, на ходу доставая тяжелый бластер. Зайон и Йонг бросили быстрый взгляд на Дэвида, потом на робота, тоже приняли решение и последовали за Девуром.
Широкое пространство перед домом Девура было залито ярким искусственным светом, воспроизводящим слегка голубоватое сияние Сириуса. В центре стоял одинокий Верзила, в ста ярдах от него виднелись пять роботов. С разных направлений приближались ещё.
— Схватить это! — закричал Девур, указывая на Верзилу.
— Они ближе не подойдут! — крикнул в ответ Верзила. — Если подойдут, я прожгу твоё чёрное сердце, и они это знают. Они не могут рисковать. — Он насмешливо улыбался.
Девур вспыхнул и выхватил бластер.
Верзила сказал:
— Смотри не повреди себя бластером. Он у тебя слишком близко к телу.
Правым локтем он опирался на ладонь левой руки. Говоря, он легко сжал правую руку, и из игольного ружья, торчавшего между указательным и средним пальцем, вылетела струя дейтерия, направляемая мгновенно возникшим магнитным полем. Требовалось величайшее искусство, чтобы так стрелять, но Верзила им владел. Владел лучше всех в Системе.
Ствол бластера Девура побелел, Девур закричал от боли и выронил оружие.
Верзила сказал:
— Не знаю, кто остальные двое, но, если вы только попробуете достать оружие, это будет ваше последнее движение.
Все застыли. Наконец Йонг осторожно спросил:
— Где вы раздобыли оружие?
— Робот не умнее подонка, который ему приказывает, — ответил Верзила. — Робот, обыскивавший меня на корабле, не знал, что марсиане пользуются сапогами не только как обувью.
— А как вы освободились от роботов?
Верзила холодно ответил:
— Мне пришлось уничтожить одного.
— Вы уничтожили робота? — От ужаса все трое сирианцев замерли.
Верзила чувствовал, что напряжение усиливается. Окружавшие роботы его не тревожили, но в любой момент могут появиться ещё сирианцы и выстрелить ему в спину с безопасного расстояния.
Место между плечами заныло в ожидании выстрела. Ну, это будет быстро. Он ничего не почувствует. А свою власть над Счастливчиком они потеряют, и тогда, живой или мертвый, победителем будет Верзила.
Но сначала он хотел посчитаться с Девуром, с этим холодным сирианским мерзавцем, который говорил такие вещи, какие не позволено никому в Галактике.
Верзила сказал:
— Я вас всех могу перестрелять. Договоримся?
— Вы не можете стрелять в нас, — спокойно ответил Йонг. — Это значило бы, что землянин начал враждебные действия на одной из сирианских планет. Это начало войны.
— К тому же, если ты нападешь на нас, это освободит роботов! — крикнул Девур. — Они предпочтут защищать троих, а не одного. Бросай своё ружье и отправляйся в камеру.
— Отошлите роботов, и я сдамся.
— Роботы с тобой справятся, — ответил Девур. Он небрежно бросил другим сирианцам: — У меня по коже мурашки бегут от разговора с этим выродком.
Верзила мгновенно выстрелил, и в футе перед глазами Девура взорвался огненный шар.
— Скажи ещё что-нибудь подобное и ослепнешь навсегда. Если роботы сделают шаг, вы все трое погибнете. Возможно, это война, но вы о её ходе ничего не узнаете. Отошлите роботов, и я сдамся Девуру, если он сможет со мной справиться. Брошу вам двоим ружье и сдамся.
Зайон напряженно сказал:
— Звучит разумно, Девур.
Девур всё ещё тёр глаза.
— Возьмите у него ружье. Идите и возьмите.
— Минутку, — сказал Верзила, — пока не шевелитесь. Мне нужно твоё слово чести, что меня не застрелят и не отдадут роботам. Меня может взять только Девур.
— Моё слово чести тебе? — взорвался Девур.
— Мне. Но не твоё. Слово одного из этих двоих. На них форма Сирианской космической службы, и их слову я поверю. Если я отдам им своё ружье, будут ли они стоять в стороне и позволят ли тебе взять меня голыми руками?
— Даю слово, — сказал Зайон.
— Я тоже, — добавил Йонг.
Девур сказал:
— Что это значит? Я не собираюсь дотрагиваться до этого существа.
— Боишься? — негромко спросил Верзила. — Я слишком велик для тебя, Девур? Ты обзывал меня по-всякому. Хочешь попробовать руки вместо трусливого рта? Держите моё ружье, офицеры.
Он неожиданно бросил ружье в сторону Зайона. Тот протянул руку и без усилий поймал его.
Верзила ждал. Смерти?
Но Зайон сунул оружие в карман.
Девур крикнул:
— Роботы!
Зайон не менее строго отозвался:
— Роботы, оставьте нас!
Зайон сказал Девуру:
— Мы дали ему слово. Вам придётся самому отвести его в камеру.
— Может, мне тебя отвести? — насмешливо спросил Верзила.
Девур нечленораздельно рявкнул и торопливо направился к Верзиле. Маленький марсианин ждал, слегка пригнувшись, потом сделал небольшой шаг в сторону, уворачиваясь от протянутой руки, и развернулся, как сжатая пружина.
Первый его удар пришёлся в лицо, послышался глухой звук, как от деревянного молотка о капусту, Девур пошатнулся и сел. Он изумленно смотрел на Верзилу. Правая его щека покраснела, из угла рта потекла медленная струйка крови. Он поднес к ней руку, отвел её и с комическим недоверием смотрел на окровавленные пальцы.
Йонг сказал:
— Землянин выше, чем кажется.
— Я не землянин, я марсианин, — заметил Верзила. — Вставай, Девур. Неужели ты такой неженка? Ничего не можешь сделать без помощи роботов? Они тебе и рот вытирают после еды?
Девур хрипло заревел и вскочил на ноги, но не торопился к Верзиле. Он начал медленно кружить, тяжело дыша, глядя воспаленными глазами.
Верзила тоже поворачивался, внимательно наблюдая за этим мягким телом, отмечая следы хорошей жизни и постоянной заботы роботов, видя неумелые движения рук и ног. Верзила был уверен, что сирианцу раньше никогда не приходилось драться на кулаках.
Верзила сделал неожиданный шаг вперёд, уверенно поймал руку противника, рванул и повернул. Девур с криком дернулся и упал.
Верзила отступил.
— В чём дело? Я ведь не «он», я всего лишь «оно». Что случилось?
Девур посмотрел на двух офицеров. Он встал на колени и со стоном прижал руку к боку.
Сирианцы не сделали ни шага к нему на помощь. Они смотрели, как Верзила снова и снова укладывает его на землю.
Наконец Зайон подошёл.
— Марсианин, если это будет продолжаться, ты его серьёзно поранишь. Мы договорились, что Девур возьмет тебя голыми руками. Я думаю, ты добился того, чего хотел. Всё. Сдавайся мне, или я вынужден буду использовать игольное ружье.
Но Девур, тяжело дыша, крикнул:
— Прочь, Зайон! Убирайтесь! Слишком поздно. Назад, я сказал.
И пронзительно закричал:
— Роботы! Ко мне!
Зайон сказал:
— Он мне сдался.
— Никакой сдачи, — ответил Девур. Его распухшее лицо дергалось от боли и ярости. — Никакой сдачи. Слишком поздно. Ты, робот, самый близкий… неважно, какой у тебя серийный номер… Возьми этого… это существо. — Он указал на Верзилу и истошно закричал: — Уничтожь его! Разбей! Разорви на части!
Йонг крикнул:
— Девур! Вы с ума сошли? Робот не может этого сделать.
Робот продолжал стоять. Он не шевельнулся.
Девур сказал:
— Ты не можешь причинить вреда человеку, робот. Я и не прошу тебя об этом. Но это не человек.
Робот повернулся и посмотрел на Верзилу.
Верзила крикнул:
— Он не поверит! Ты можешь считать меня недочеловеком, но робот знает лучше.
Девур сказал:
— Посмотри на него, робот. Оно говорит, и оно похоже на человека, ты тоже, но ты ведь не человек. Я могу доказать, что это не человек. Ты когда-нибудь видел взрослого человека такого роста? Это доказывает, что он не человек. Это животное, и оно… оно причинило мне боль. Ты должен его уничтожить.
— Беги к маме роботу! — насмешливо крикнул Верзила.
Но робот сделал шаг к нему.
Йонг выступил вперёд и встал между роботом и Верзилой.
— Я не могу позволить это, Девур. Робот не должен этого делать; помимо всего прочего, напряжение потенциалов уничтожит его.
Но Девур хрипло прошептал:
— Я ваш начальник. Если сделаете ещё один шаг, завтра же я вышвырну вас из службы.
Привычка к повиновению оказалась слишком сильна. Йонг отступил, но на лице его было выражение отчаяния и ужаса.
Робот двинулся быстрее, и Верзила начал осторожно отступать.
— Я человек, — сказал он.
— Это не человек! — как безумный, закричал Девур. — Это не человек. Разорви его на части. Медленно.
Холод охватил Верзилу, во рту его пересохло. На это он не рассчитывал. Быстрая смерть — да, но это…
Отступать было некуда, а мгновенная смерть от игольного ружья невозможна. Сзади виднелось ещё много роботов, и все слышали, что он не человек.
Глава 12
СДАЧА
На распухшем окровавленном лице Девура появилась улыбка. Должно быть, она причинила ему боль, так как одна губа его была разбита, и он с отсутствующим видом прикладывал к ней платок. Но глаза его не отрывались от робота, и казалось, он ничего больше не замечает.
У маленького марсианина оставалось только шесть футов для отступления, и Девур не торопил приближавшегося робота.
Йонг сказал:
— Девур, ради Сириуса, не нужно.
— Никаких возражений, Йонг, — злобно ответил Девур. — Этот гуманоид уничтожил робота и, возможно, повредил других. Нам придётся проверить всех роботов, которые были свидетелями его насилий. Он заслуживает смерти.
Зайон положил руку на плечо Йонга, но тот нетерпеливо отбросил её в сторону. Йонг сказал:
— Смерти? Хорошо. Отправьте его на Сириус, пусть его там судят и казнят, но по закону. Или устройте суд здесь, на базе, и он будет казнен после приговора. Но это не казнь. Просто потому, что он избил…
Девур с неожиданной яростью крикнул:
— Довольно! Вы слишком часто вмешивались. Вы арестованы. Зайон, возьмите его бластер и передайте мне.
Он на мгновение отвернулся, не желая надолго отрываться взглядом от Верзилы.
— Выполняйте, Зайон, или, клянусь всеми дьяволами космоса, я и вас уничтожу!
С горькой гримасой, молча Зайон протянул руку к Йонгу. Йонг колебался, рука его в гневе устремилась к рукояти бластера.
Зайон настойчиво прошептал:
— Нет, Йонг. Не давайте ему повода. Он отменит арест, когда придёт в себя. Будет вынужден.
Девур крикнул:
— Давайте бластер!
Йонг дрожащей рукой вырвал его из кобуры и протянул Зайону рукоятью вперёд. Тот бросил оружие к ногам Девура, и Девур подобрал его.
Верзила, который напряженно искал выход, закричал:
— Не трогай меня! Я хозяин! — когда чудовищная рука робота сомкнулась на его запястье.
Робот заколебался, но потом сжал руку сильнее. Второй рукой он потянулся к локтю Верзилы. Девур рассмеялся высоким пронзительным смехом.
Йонг повернулся и придушенно сказал:
— Я не обязан смотреть на это трусливое преступление. — И в результате не видел, что произошло дальше.
Трое сирианцев вышли; Старр с трудом сохранял спокойствие. С чисто физической точки зрения он не справится с роботом голыми руками. Возможно, где-то в здании есть оружие, которым можно уничтожить робота; он сможет выбраться и даже застрелить троих сирианцев.
Но он не сможет ни покинуть Титан, ни сражаться со всей базой.
Хуже того, если его убьют — а в конце концов так и случится, — цель его не будет достигнута, а этим рисковать он не мог.
Он сказал роботу:
— Что случилось с хозяином Верзилой? Расскажи самое существенное.
Робот повиновался, и Счастливчик напряженно и внимательно слушал. Он слышал, что робот запинается и пропускает слоги, слышал его хриплый голос и решил, что Верзила повредил робота, заявив, что тот причинил ему вред.
Дэвид про себя застонал. Робот уничтожен. Строгий сирианский закон в полной мере будет применён к Верзиле. Старр достаточно хорошо был знаком с сирианской культурой и отношением сирианцев к роботам, чтобы понимать, что при убийстве робота смягчающих обстоятельств не будет.
Как же спасти теперь импульсивного Верзилу?
Он вспомнил свою нерешительную попытку удержать Верзилу на Мимасе. Таких именно обстоятельств он не предвидел, но опасался характера Верзилы в предстоящем деликатном деле. Он должен был настоять, чтобы Верзила остался, но какой в этом смысл? Даже сейчас он сознавал, что общество Верзилы ему необходимо.
Однако он должен спасти его. Любым способом, но спасти обязательно.
Он быстро направился к выходу из здания, но робот преградил ему путь.
— В сс…тветствии с приказом хозз…яин ни при каких об…ст…ятельствах не должен покидать ззз…дания.
— Я не выхожу из здания, — резко ответил Дэвид. — Я только иду к двери. Тебе не приказывали мешать этому.
Мгновение робот молчал, потом повторил:
— В сс…тветствии с приказом хозз…яин ни при каких об…ст…ятельствах не должен покидать ззз…дания.
Старр в отчаянии попытался его оттолкнуть, но его схватили, лишили возможности двигаться и вернули назад.
Он нетерпеливо прикусил губу. Исправный робот может широко толковать свой приказ. Но этот робот был не исправен. Он понимает приказ только буквально.
Нужно увидеть Верзилу. Дэвид повернулся к столу. В центре стола стоял приёмник трёхмерного изображения. Девур использовал его, когда к нему обратились офицеры службы.
— Ты! Робот! — позвал Старр.
Робот загромыхал к столу.
— Как работает этот приёмник?
Робот был медлителен. Голос его становился всё более хриплым. Он сказал:
— Уппр…вление в эт…м углублении.
— Что за углубление?
Робот неуклюже сдвинул панель.
— Ну хорошо, — сказал Дэвид. — Можно увидеть площадку перед этим зданием? Покажи. Делай.
Он отступил в сторону. Робот возился с кнопками.
— Сдд…лано, хозз…яин.
— Дай-ка взглянуть. — Над столом появилось маленькое изображение, крошечные фигурки людей. Робот отошёл и неподвижно стоял в стороне.
Счастливчик не стал звать его назад. Звука не было, но, когда он искал управление звуком, он увидел, что идёт драка. Девур дерётся с Верзилой. Дерётся с Верзилой!
Как маленькому чертенку удалось уговорить двоих офицеров не вмешиваться? Конечно, Верзила разрежет противника на ленточки. Но Дэвид не почувствовал при этом радости.
Это может кончиться смертью Верзилы, и Счастливчик знал, что Верзила это понимает, но ему всё равно. Марсианин пойдёт на смерть, чтобы отомстить за оскорбление… Ага, вмешался один из офицеров.
Старр нашёл управление звуком. Громко послышался безумный приказ Девура роботам: схватить Верзилу и разорвать его на части.
На мгновение Дэвид даже усомнился, что услышал правильно, потом ударил кулаками по столу и в отчаянии повернулся.
Нужно выбраться отсюда, но как?
Он один, с ним только робот, в искалеченном позитрон-ном мозгу которого только один приказ: не выпускать его любой ценой.
Великая Галактика, есть ли что-нибудь, что пересилило бы потенциал этого приказа? У него нет даже оружия, чтобы угрожать самоубийством или вывести робота из строя.
Глаза его остановились на стенном телефоне. Он слышал, как Зайон по нему отдавал приказ, когда вырвался на свободу Верзила.
Старр сказал:
— Робот. Быстро. Какой был дан приказ?
Робот подошёл, посмотрел на комбинацию горящих огоньков и с мучительной медлительностью ответил:
— Хозз…яин приккк…зал всс…м роботам готовит…ся к бо…вым дейссс. тв…ям.
— Как приказать, чтобы все роботы немедленно заняли посты по боевому расписанию? Чтобы все другие приказы были оставлены?
Робот смотрел на него, Старр схватил его за руку и потянул:
— Говори! Говори!
Понимает ли его робот? Или в его полуразрушенном мозгу сохранилась какая-то инструкция не давать таких сведений?
— Говори! Или лучше сделай!
Робот молча протянул палец и неуверенно нажал две кнопки. Приподнял палец на дюйм и застыл.
— Это всё? Сделал? — в отчаянии спросил Счастливчик.
Но робот только повернулся и неуверенной походкой (одну ногу он заметно волочил) подошёл к двери и вышел.
Огромными шагами Старр поспешил за ним, вышел из здания и пробежал сотню ярдов, отделявших его от Верзилы и троих сирианцев.
Йонг, повернувшийся, чтобы не видеть гибели человека, не услышал крика боли, как ожидал. Напротив, Зайон удивленно вскрикнул, а Девур дико закричал.
Йонг повернулся назад. Робот больше не держал Верзилу. Он торопливо убегал. И все остальные роботы поступали так же.
И каким-то образом рядом с Верзилой оказался землянин Дэвид Старр.
Старр склонился к Верзиле. Маленький марсианин растирал руку и яростно качал головой. Йонг услышал, как он говорит:
— Ещё минута, Счастливчик, ещё минута…
Девур хрипло и бесполезно кричал на роботов, но тут загремел громкоговоритель:
— КОММОДОР ДЕВУР, ПРОСИМ ИНСТРУКЦИЙ. НАШИ ПРИБОРЫ НЕ ВИДЯТ НЕПРИЯТЕЛЯ. ПОЯСНИТЕ ПРИКАЗ О НАЧАЛЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. КОММОДОР ДЕВУР…
— Боевые действия, — ошеломленно прошептал Девур. — Неудивительно, что роботы… — Его взгляд упал на Дэвида. — Вы это сделали?
Тот кивнул:
— Да, сэр.
Девур сжал разбитые губы, потом хрипло сказал:
— Хитрец! Вы на какое-то время спасли свою обезьяну. — Бластер его был нацелен в живот Верзиле. — Ко мне в кабинет. Вы все. Вы тоже, Зайон. Все.
Приёмник изображений на его столе напряженно гудел. Очевидно, невозможность застать Девура в кабинете заставила подчиненных воспользоваться громкоговорителем.
Девур отключил звук, но оставил изображение. Он рявкнул:
— Приказ о военных действиях отменяется. Это была ошибка.
Человек на другом конце что-то заговорил, но Девур резко сказал:
— С изображением всё в порядке. Всем заниматься своими делами.
Почти против воли рукой он прикрывал лицо, как будто боялся, что подчиненный его увидит — и призадумается.
Ноздри Йонга раздувались, он медленно растирал шрам на руке.
Девур сел.
— Остальным стоять, — сказал он, переводя взгляд с лица на лицо. — Марсианин умрет, может, не от руки робота и не в пустом корабле. Что-нибудь придумаю; хорошо, что вы его спасли, землянин: можно придумать что-нибудь поинтереснее. У меня хорошее воображение.
Старр сказал:
— Я требую, чтобы с ним обращались как с военнопленным.
— Войны нет, — ответил Девур. — Он шпион. И заслуживает смерти. Он совершил убийство робота. И потому заслуживает смерти вдвойне. — Голос его неожиданно задрожал. — Он поднял руку на меня. Он десятки раз заслужил смерть.
— Я выкуплю своего друга, — шёпотом сказал Дэвид.
— Он не продаётся.
— Я могу заплатить хорошо.
— Как? — яростно спросил Девур. — Выступив свидетелем на конференции? Слишком поздно. И недостаточно.
— Я бы не мог этого сделать в любом случае, — сказал Старр. — Я не стану давать ложную информацию, могущую повредить Земле, но есть правда, которую я смогу рассказать. Вы этого не знаете.
Верзила резко сказал:
— Не торгуйся с ним, Счастливчик.
— Обезьяна права, — сказал Девур. — Не торгуйтесь. Ничто не сможет его выкупить. За всю Землю я бы не отдал его.
Йонг резко прервал его:
— Я бы отдал за гораздо меньшее. Послушайте члена Совета. Их жизнь стоит той информации, которая у них есть.
Девур ответил:
— Не провоцируйте меня. Вы арестованы.
Но Йонг поднял стул и с грохотом опустил его на пол.
— Я не признаю ваш арест. Я офицер службы. Вы не можете просто так казнить меня. Не посмеете. Должен состояться суд. А на суде у меня будет что сказать.
— Что именно? — презрительно спросил Девур.
Вся ненависть пожилого офицера к молодому аристократу вырвалась наружу.
— Например, что произошло сегодня: пятифутовый марсианин чуть не разорвал вас на кусочки, и вы вынуждены были звать на помощь, а Зайон должен был спасать вам жизнь. Зайон будет свидетелем. И все на базе запомнят, что вы не решались показать своё лицо — или всё же покажете, пока не зажило?
— Молчать!
— Не буду! Мне ничего не понадобится говорить, если вы подчините свои личные чувства интересам Сириуса. Выслушайте, что скажет член Совета. — Он повернулся к Старру. — Гарантирую вам справедливую сделку.
Верзила запищал:
— Какая справедливая сделка? Вы с Зайоном однажды утром погибнете от несчастного случая, Девур выскажет сожаление и даже пошлет вам на могилу цветы, но потом никто не сможет свидетельствовать, как он прятал свою жалкую шкуру за спинами роботов от марсианина. Какая тут сделка?
— Ничего подобного, — сухо ответил Йонг, — потому что в течение часа всё будет сообщено одному из роботов. Какому именно, Девур не узнает и не сможет узнать. Если я или Зайон погибнем неестественной смертью, всё будет сообщено через субэфир. Думаю, Девур очень постарается, чтобы с нами ничего не случилось.
Зайон покачал головой:
— Мне это не нравится, Йонг.
— Придётся сделать это, Зайон. Вы присутствовали при драке. Думаете, он ничего с вами не сделает, если не принять мер предосторожности? Послушайте, мне надоело приносить честь службы в жертву этому племяннику председателя.
Зайон с несчастным видом сказал:
— Какая же у вас информация, член Совета Старр?
Дэвид негромко ответил:
— Это более чем информация. Это сдача. Здесь, на том, что вы называете территорией Сириуса, есть ещё один член Совета. Согласитесь обращаться с моим другом как с военнопленным и забыть об уничтоженном им роботе, и я выдам вам этого члена Совета.
Глава 13
ПРЕЛЮДИЯ К ВЕСТЕ
Верзила, который до конца считал, что Старр задумал какую-то хитрость, пришёл в ужас. Он отчаянно закричал:
— Нет, Счастливчик! Нет! Я не хочу, чтобы меня спасали так!
Девур откровенно удивился.
— Где? Ни один корабль не прошёл через нашу защиту. Это ложь.
— Я выдам вам этого человека, — устало сказал Дэвид, — если мы придём к соглашению.
— Великий Космос! — прорычал Йонг. — Договорились!
— Подождите, — гневно сказал Девур. — Признаю, что это представляет для нас ценность, но согласен ли Старр открыто подтвердить на конференции на Весте, что этот другой член Совета вторгся на нашу территорию и что Старр добровольно указал нам, где он скрывается?
— Это правда, — ответил Старр. — Я буду свидетельствовать.
— Слово чести члена Совета? — насмехался Девур.
— Я сказал, что буду свидетельствовать.
— Ну, что ж, — сказал Девур, — поскольку наша служба настаивает, можете получить в обмен свои жизни. — В глазах его внезапно вспыхнул гнев. — На Мимасе. Верно, член Совета? На Мимасе?
— Да.
— Клянусь Сириусом! — Девур возбуждённо вскочил. — Чуть не упустили. И службе в голову не приходило.
Зайон задумчиво спросил:
— Мимас?
— Служба всё ещё не понимает, — со злобной усмешкой сказал Девур. — Очевидно, на «Метеоре» находилось трое. Трое высадились на Мимасе, двое улетели, один остался. Ведь в вашем докладе, Йонг, сообщалось, что Старр всегда работает в паре.
— Так он всегда работал, — подтвердил Йонг.
— И вам не хватило гибкости предположить наличие третьего? Отправляемся на Мимас? — Девур, казалось, забыл о мести. К нему даже вернулась насмешливая ироничность, с какой он впервые встретил землян на Титане. — Доставите нам удовольствие своим обществом, член Совета?
— Конечно, мистер Девур, — ответил Дэвид.
Верзила, отвернувшись, отошёл. Он чувствовал себя хуже, чем в руках робота, когда ждал смерти в его металлических объятиях.
«Метеор» снова был в космосе, но не как независимый корабль. Его прочно держали магнитные зажимы, и он двигался под действием импульсов сирианских кораблей.
Полёт от Титана к Мимасу занял почти два дня, для Старра это было трудное время, горькое и беспокойное.
Ему не хватало Верзилы, который находился на одном из сирианских кораблей. (Девур заметил, что они, находясь на разных кораблях, будут заложниками хорошего поведения друг друга.)
Вторым на его корабле был Харриг Зайон. Держался он отчуждённо. Не повторял своей попытки переманить его на сторону Сириуса, и Дэвид не мог на него обижаться. Он спросил Зайона, является ли, по его мнению, Девур образцом высшей расы, проживающей на внешних планетах.
Зайон неохотно ответил:
— Девуру не хватает дисциплины и опыта службы. Он слишком эмоционален.
— Ваш коллега Йонг, кажется, так не считает. Он не делает тайны из своего мнения о Девуре.
— Йонг… представляет крайние взгляды сирианцев. Шрам на его руке появился во время беспорядков, которые сопровождали приход к власти нынешнего председателя Центрального правительства.
— Дяди Девура?
— Да. Служба выступила на стороне прежнего председателя, и Йонг подчинился приказам. В результате при новом режиме его не стали повышать. Да, его прислали сюда для участия в конференции, но он полностью в подчинении Девура.
— Племянника председателя?
— Да. Йонгу это не нравится. Йонг не понимает, что служба — орудие государства, она не вмешивается в политику и не склоняется на сторону той или иной группы или отдельных правителей. Но во всех остальных отношениях он образцовый офицер.
— Но вы не ответили на вопрос, считаете ли Девура образцом новой элиты.
Зайон гневно ответил:
— А у вас на Земле? Неужели не бывало плохих правителей? И даже преступных?
— Сколько угодно, — признал Старр. — Но население Земли неоднородно, мы сильно различаемся. И ни один правитель не сохранит свою власть, если не достигнет компромисса со всеми. Правители компромиссного типа не динамичны, но они и не тираны. На Сириусе вы выработали однообразие, и правитель может доходить до любых крайностей в этом однообразии. Поэтому у вас автократия и применение силы в политике — не кратковременные эпизоды, как на Земле, а правило.
Зайон вздохнул, и прошло несколько часов, прежде чем он снова заговорил с Дэвидом. Уже показался на экране Мимас, началось торможение.
Зайон спросил:
— Скажите мне, член Совета… Спрашиваю вас именем вашей чести. Это какая-то хитрость?
Внутри у Счастливчика всё напряглось, но ответил он спокойно:
— Что вы имеете в виду?
— На Мимасе действительно есть член Совета?
— Да. А чего вы ожидали? Что у меня там установка, которая разнесет нас в клочья?
— Что-то вроде этого.
— И что я этим выиграю? Уничтожу один сирианский корабль и десяток сирианцев?
— Вы спасете свою честь.
Дэвид пожал плечами.
— Мы заключили сделку. Внизу член Совета. Я выдам его вам, и он не будет сопротивляться.
Зайон кивнул.
— Хорошо. Вы всё-таки не станете сирианцем. Лучше вам оставаться землянином.
Старр горько улыбнулся. Вот в чём причина дурного настроения Зайона. Чувство чести у него протестовало против поведения Дэвида, хотя Сириус от этого и выигрывал.
На Земле в Центр-Порту Интернационального Города Гектор Конвей, глава Совета Науки, ждал отправки на Весту. Он не разговаривал непосредственно с Дэвидом с того момента, как «Метеор» скрылся за Гидальго.
В капсуле, которую доставил капитан Бернольд, содержалось короткое специальное сообщение, проникнутое обычным для Счастливчика здравым смыслом. Единственный возможный выход из сложившейся ситуации — созыв межзвёздной конференции. Президент понял это сразу, и, хотя члены кабинета проявили большую неуступчивость, он их переубедил.
Даже Сириус (как и предсказывал Дэвид) сразу одобрил эту меру. Но ясно было, что правительство Сириуса стремится к провалу конференции и войне на своих условиях. И внешне всё было на стороне Сириуса.
Именно поэтому необходимо было как можно дольше хранить всё в тайне от общественности. Если подробности будут сообщены по субэфиру без соответствующих разъяснений и подготовки, негодующая публика поднимет крик, который неизбежно перерастет в войну против всей Галактики. Созыв конференции сделает положение ещё хуже, поскольку будет интерпретирован как предательский и трусливый шаг со стороны Земли.
Но полная тайна была невозможна, и пресса сердилась, получая выхолощенные правительственные сообщения и коммюнике. Положение с каждым днём ухудшалось.
Президенту нужно было каким-то образом продержаться до начала конференции. И всё же, если конференция не удастся, нынешняя ситуация покажется раем по сравнению с тем, что начнется тогда.
В последующем всеобщем негодовании не только начнется война, но и будет распущен Совет Науки, и Земная федерация утратит своё самое мощное оружие в тот момент, когда будет больше всего в нём нуждаться.
Много недель Гектор Конвей не мог спать без снотворного и впервые за время своей карьеры искренне подумал, что пора в отставку.
Он тяжело встал и направился на корабль, готовившийся к старту. Через неделю он встретится на Весте с Доремо для предварительного обсуждения положения. Старый розовоглазый политик постарается сохранить баланс сил. В этом нет сомнений. Именно слабость его крошечной планеты делала его таким авторитетным. Он ближе всего подходит к определению честной и незаинтересованной нейтральной стороны, и даже Сириус прислушается к его мнению.
Если Конвею удастся с ним поговорить…
Он почти не замечал подходившего человека, пока чуть не столкнулся с ним.
— А? В чём дело? — раздраженно спросил Конвей.
Человек коснулся полей шляпы.
— Жан Дьеп из транссубэфира, шеф. Не ответите ли на несколько вопросов?
— Нет, нет. Сейчас уже старт.
— Я знаю это, сэр. Именно поэтому я вас и остановил. Другой возможности у меня не будет. Вы, конечно, направляетесь на Весту.
— Да, конечно.
— Чтобы разобраться в ситуации с Сатурном.
— Гм…
— Чего вы ждёте от конференции, шеф? Считаете ли вы, что Сириус подчинится её резолюции и результатам голосования?
— Да, считаю.
— Думаете, голосование будет против Сириуса?
— Я в этом уверен. Позвольте пройти.
— Простите, сэр, но есть одно очень важное обстоятельство, которое должны знать люди Земли.
— Прошу вас. Не нужно говорить мне, что, по вашему мнению, они должны знать. Заверяю вас, что интересы населения Земли я принимаю близко к сердцу.
— И поэтому земное правительство позволяет другим государствам решать, состоялось ли вторжение на его территорию? Вопрос, который должны решать только мы одни?
Конвей не мог не заметить угрожающие нотки во внешне вежливых, но настойчивых вопросах. Он взглянул через плечо репортера и увидел государственного секретаря, окруженного группой журналистов.
Он спросил:
— К чему вы ведете?
— Боюсь, шеф, что под вопросом вера людей в Совет. В связи с этим… Наш транссубэфир поймал сообщение сирианских новостей, которое пока не стало широко известно общественности. Мы хотим, чтобы вы прокомментировали его.
— Никаких комментариев. Сирианские новости, распространяемые на Сириусе, недостойны комментариев.
— Сообщение очень подробное. Например, где сейчас член Совета Дэвид Старр, легендарный Счастливчик? Где он?
— Что?
— Послушайте, шеф, я знаю, что агенты Совета избегают известности, но разве член Совета Старр не был направлен с тайным поручением к Сатурну?
— Даже если это так, молодой человек, неужели вы думаете, что я стану говорить об этом?
— Да, поскольку Сириус уже об этом говорит. Для них это не тайна. Они сообщили, что Дэвид Старр вторгся в систему Сатурна и был захвачен. Это правда?
Конвей сдержанно ответил:
— Я не знаю нынешнего местонахождения члена Совета Дэвида Старра.
— Значит, он в системе Сатурна?
— Это значит, что я не знаю, где он.
Репортер наморщил нос.
— Ну ладно. Если вы считаете, что лучше признать, будто глава Совета не знает, где находится его самый известный агент, это ваше дело. Но в публике усиливаются настроения против Совета. Говорят о неэффективности Совета, о том, что он позволил сирианцам закрепиться в системе Сатурна и в своих политических интересах держал это в тайне.
— Вы меня оскорбляете. Всего хорошего, сэр.
— Сирианцы вполне определённо утверждают, что Дэвид Старр захвачен в системе Сатурна. Ваши комментарии?
— Нет. Разрешите пройти.
— Сирианцы утверждают, что Дэвид Старр будет на конференции.
— Да? — Конвей не сумел скрыть своего интереса.
— Кажется, это вас пробрало, шеф. Но дело-то в том, что, как утверждают сирианцы, он будет свидетелем с их стороны.
Конвей с трудом ответил:
— Посмотрим.
— Вы признаете, что он будет на конференции?
— Я ничего об этом не знаю.
Репортер сделал шаг в сторону.
— Хорошо, шеф. Просто сирианцы говорят, что Дэвид Старр уже дал ценную информацию и на её основе они сумеют доказать, что мы начали агрессию. Что же делает Совет? Он на нашей стороне или на их?
Чувствуя огромную усталость, Конвей ответил:
— Никаких комментариев, — и попробовал уйти.
Репортер ему в спину крикнул:
— Старр ведь ваш приёмный сын, не так ли, шеф?
На мгновение Конвей повернулся. Потом, ни слова не говоря, быстро пошёл на корабль.
Что он мог сказать? Кроме того, что впереди конференция, более важная для Земли, чем любая встреча в её истории.
И что перевес на стороне Сириуса. Очень велика вероятность, что мир, Совет Науки и сама Земная федерация будут уничтожены.
И на пути всего этого стояли только усилия Дэвида.
Но больше всего Конвея угнетало — даже больше, чем перспектива проигранной войны, — мысль о том, что если сообщение сирианцев верно и если тем не менее конференция окончится неудачей, Дэвид Старр войдёт в историю Земли как архипредатель! И только несколько человек будут знать правду.
Глава 14
НА ВЕСТЕ
Государственный секретарь Ламонт Финней, профессиональный политик, прослужил пятнадцать лет в Конгрессе, и его отношение к Совету Науки никогда не было дружеским. Теперь он постарел, у него ухудшилось здоровье, он стал раздражителен. Официально он возглавлял земную делегацию на Весте. Но Конвей понимал, что именно он, глава Совета Науки, должен нести всю ответственность за неудачу — если конференция окончится неудачей.
Финней дал это ясно понять ещё до того, как корабль, один из самых больших на Земле, стартовал.
Он сказал:
— Пресса совершенно неконтролируема. Вы в трудном положении, Конвей.
— Вся Земля в трудном положении.
— Вы — прежде всего.
Конвей мрачно ответил:
— У меня нет иллюзий, что в случае провала правительство будет поддерживать Совет.
— Боюсь, вы правы. — Государственный секретарь тщательно закрепил ремни, проверил, под рукой ли пузырек с таблетками от космической болезни. — Правительственная поддержка в этом случае означала бы только падение правительства, а в условиях военного положения неприятностей и без того хватит. Мы не можем допустить политическую нестабильность.
Конвей подумал: «Финней не верит в благополучный исход конференции. Ожидает войны».
Он сказал:
— Слушайте, Финней, если дело дойдёт до худшего, мне понадобится поддержка, чтобы защитить репутацию члена Совета Старра от…
Финней на мгновение оторвал седую голову от гидравлической подушки и тревожно взглянул на Конвея.
— Невозможно. Ваш член Совета отправился в систему Сатурна по своей воле, он не просил разрешения и не получал никаких приказов. Он добровольно пошёл на риск. Если дело обернется плохо, с ним покончено. Мы ничего не сможем сделать.
— Вы знаете, он…
— Я ничего не знаю, — сердито ответил политик. — Официально я ничего не знаю. Вы достаточно долго занимаетесь политикой, чтобы понять, что в таких обстоятельствах нужен козел отпущения. Им и станет член Совета Старр.
Он откинулся на подушку, закрыл глаза, и Конвей тоже лег. Все на корабле заняли места, зашумели двигатели, корабль медленно поднялся над стартовой площадкой и устремился к звёздам.
«Метеор» повис в тысяче миль над Вестой, захваченный её слабым полем тяготения; он медленно кружил с заблокированными двигателями. К нему магнитным зажимом крепилась шлюпка с сирианского корабля.
Зайон покинул «Метеор» и присоединился к сирианской делегации, а его место занял робот. В шлюпке находились Верзила и Йонг.
Старр вначале удивился, когда на экране появилось лицо Йонга. Он сказал:
— Что вы делаете в космосе? С вами ли Верзила?
— Да. Я его стражник. Вероятно, вы ожидали увидеть робота?
— Да. Или после того случая роботов не подпускают к Верзиле?
— Нет, просто Девур таким образом показывает, что я не буду участвовать в конференции. Пощечина службе.
Дэвид сказал:
— Зайон там будет.
— Зайон, — Йонг застыл. — Это хороший офицер, но он исполнитель. Он не понимает, что служба — это не просто слепое исполнение приказов сверху, что мы должны добиться, чтобы в политике Сириуса соблюдались законы чести нашей службы.
— Как Верзила? — спросил Старр.
— Нормально. Но он кажется несчастным. Странно, что такой необычно выглядящий человек лучше понимает честь, чем вы.
Дэвид плотнее сжал губы. Оставалось совсем немного времени, и его не устраивало, что офицеры начинают задумываться о потере его чести. Отсюда недалеко и до мыслей о возвращении этой чести, а тогда они задумаются над его истинными намерениями и…
Йонг пожал плечами.
— Ну, я только хотел сообщить, что всё в порядке. Теперь я отвечаю за вас, пока вы не предстанете перед конференцией.
— Подождите. Вы оказали мне услугу на Титане…
— Я ничего вам не оказывал. Я только следовал своему представлению о долге.
— Тем не менее вы спасли жизнь Верзилы, а может, и мою. Может так случиться, что на конференции в опасности окажется ваша жизнь.
— Моя жизнь?
Старр осторожно сказал:
— Как только я выступлю, Девур по той или иной причине может захотеть избавиться от вас, несмотря на риск, что сирианцы узнают о его драке с Верзилой.
Йонг горько рассмеялся.
— На пути сюда его никто не видел. Сидит в своей каюте и ждёт, чтобы зажило лицо. Я в безопасности.
— Всё равно. Если вам будет грозить опасность, обратитесь к Гектору Конвею, главе Совета Науки. Даю слово, что он предоставит вам политическое убежище.
— Вероятно, у вас добрые намерения, — сказал Йонг, — но я думаю, что после конференции именно Конвею понадобится политическое убежище. — И он прервал связь.
А Дэвид смотрел на Весту и печально думал о том, что слова Йонга, вполне вероятно, окажутся истинными.
Веста — один из самых больших астероидов. Не такой, как Церера, гигант пятисот миль в диаметре, но двухсотпятнадцатимильный размер помещает Весту во второй класс, где с ней соперничают только ещё два астероида: Паллада и Юнона.
С Земли Веста кажется самым ярким среди астероидов, потому что её поверхность в основном состоит из карбоната кальция, а другие, более тёмные астероиды покрыты в основном окислами металлов и силикатами.
Учёные спорили об этом странном расхождении в химическом составе (о нём не подозревали, пока не высадились на Весту; древние астрономы считали, что Весту покрывает лёд или замерзшая двуокись углерода), но ни к каким выводам не пришли. А писатели назвали её «мраморным миром».
«Мраморный мир» с первых космических полётов превратился в базу флота в его действиях против пиратов астероидов. Природные полости под поверхностью расширили, загерметизировали, и там оказалось достаточно места, чтобы разместить весь персонал и запасы продовольствия на два года.
Теперь база изрядно устарела, но потребовались лишь небольшие усовершенствования, чтобы она превратилась в удобное место встречи делегатов со всей Галактики.
Завезли воды и продовольствия, добавили деликатесов и предметов роскоши, которые никогда не требовались офицерам флота. И теперь, после гладкой мраморной поверхности, внутренние помещения напоминали роскошный земной отель.
Земляне как хозяева (Веста — земная территория; даже сирианцы этого не оспаривали) распределяли помещения и заботились, чтобы всем делегациям было удобно. Для этого требовались незначительные изменения в тяготении и составе атмосферы, чтобы приблизить их к тем, к каким привыкли члены делегаций. Например, в помещениях делегации с Уоррена поддерживалась относительно низкая температура, что соответствует суровому климату этой планеты.
Не случайно больше всех хлопот доставляла делегация Элама. Это небольшая планета, вращающаяся вокруг красного карлика. Никто не подумал бы, что в её среде может жить человек. Но сами эти трудности неутомимой изобретательностью человека были превращены в преимущества.
Для земных растений там недостаточно света, поэтому всюду использовалось искусственное освещение и выращивались специально выведенные растения; и постепенно зерно и сельскохозяйственная продукция Элама своим высоким качеством прославились по всей Галактике. Процветание Элама основывалось на экспорте сельхозпродукции, чего не могли достичь другие планеты, с гораздо более благоприятными природными условиями.
Вероятно, из-за слабого света звезды Элама у его жителей почти не было пигментации кожи. Все они были белокожими до предела. Например, глава делегации Элама был почти альбиносом. Его звали Агас Доремо, и в течение тридцати лет он был признанным лидером нейтралистов в Галактике. Во всех вопросах соперничества между Землей и Сириусом (который, разумеется, являлся выразителем крайних антиземных настроений в Галактике) Доремо старался поддерживать равновесие.
Конвей и в данном случае рассчитывал на него. Он с дружеским видом вошёл в помещения эламитов. Постарался не быть слишком экспансивным, обмениваясь крепкими рукопожатиями. Помигал, приспосабливаясь к неяркому красному свету, и принял стакан эламитского вина.
Доремо сказал:
— Ваши волосы поседели со времени нашей последней встречи. Мои тоже.
— Мы много лет не встречались, Доремо.
— Значит, они поседели не за последние месяцы?
Конвей печально улыбнулся.
— Если бы они оставались тёмными, думаю, что поседели бы.
Доремо кивнул и отпил вина. Он сказал:
— Земля оказалась в чрезвычайно неприятном положении.
— Да, и тем не менее по всем законам логики Земля права.
— Да? — Доремо держался уклончиво.
— Я знаю, вы много думали над этой проблемой…
— Достаточно.
— Не хотите ли заранее обсудить её?
— Почему бы и нет? Сирианцы уже у меня побывали.
— Уже?
— Я сделал остановку на Титане по пути сюда. — Доремо покачал головой. — У них там прекрасно, насколько я мог разглядеть, когда мне дали тёмные очки. Ужасный голубой свет Сириуса ничего не даёт увидеть. Нужно отдать им должное, Конвей: они всё быстро проделали.
— Вы считаете, что у них было право колонизировать Сатурн?
Доремо ответил:
— Мой дорогой Конвей, я считаю только, что хочу мира. Война никому не принесет добра. Ситуация, однако, такова: сирианцы обосновались в системе Сатурна. Как их оттуда вытеснить без войны?
— Способ есть, — ответил Конвей. — Если все остальные планеты ясно покажут, что считают Сириус агрессором, он не сможет противостоять вражде всей Галактики.
— Да, но как убедить остальные планеты выступить против Сириуса? — спросил Доремо. — Большинство из них — прошу прощения — традиционно подозрительно относятся к Земле; они скажут, что в конце концов система Сатурна была необитаемой.
— Но со времен предоставления независимости внешним мирам согласно доктрине Хегеллана считалось, что правом на независимость обладают только звёздные системы. Ненаселённая планетная система не означает ничего, если это не часть ненаселённой звёздной системы.
— Я с вами согласен. Признаю, что таково допущение. Но это допущение никогда не испытывалось. Сейчас первый случай.
— Вы думаете, — негромко сказал Конвей, — было бы мудро отказаться от этого допущения, признать новый принцип, по которому всякий может вторгнуться в систему и занять любую ненаселённую планету, которая ему встретится?
— Нет, — выразительно ответил Доремо, — я так не думаю. Я считаю, что лучше по-прежнему считать независимым объектом только звёздную систему, однако…
— Однако?
— На конференции делегациям трудно будет рассуждать с точки зрения логики. Если я могу предложить совет Земле…
— Прошу вас. Наша беседа неофициальная и не записывается.
— Я бы сказал: не рассчитывайте на поддержку конференции. Разрешите сирианцам остаться в системе Сатурна. Сириус перегнет палку, и тогда вы сможете созвать вторую конференцию с большими надеждами на успех.
Конвей покачал головой.
— Невозможно. Если мы проиграем, у нас начнется буря. Она уже началась.
Доремо пожал плечами.
— У всех свои трудности. Я в этом отношении пессимист.
Конвей убедительно заговорил:
— Но если вы сами считаете, что Сириус не должен оставаться на Сатурне, не можете ли вы попробовать переубедить остальных? Вы влиятельный человек, вас уважают во всей Галактике. Не прошу вас ни о чём, только действуйте в соответствии со своим мнением. Ведь речь идёт о войне и мире.
Доремо отставил стакан и промокнул губы платком.
— Я бы очень хотел это сделать, Конвей, но на этой конференции не смею даже попробовать. Сириус стал настолько влиятелен, что для Элама опасно противиться ему. Мы маленькая планета… В конце концов, Конвей, вы ведь созвали эту конференцию, чтобы достичь мирного соглашения, зачем же вы одновременно послали военный корабль в систему Сатурна?
— Об этом вам рассказали сирианцы, Доремо?
— Да. И представили доказательства. Я даже видел земной корабль над Вестой в магнитном захвате сирианцев. И мне сообщили, что на борту не кто иной, как сам Счастливчик Старр, о котором мы слышали даже на Эламе. Мне сообщили, что Старр выступит свидетелем на конференции.
Конвей медленно кивнул.
Доремо сказал:
— Если Старр признает военные действия против сирианцев — а он признает, иначе сирианцы не допустили бы его выступления, — это всё, что нужно конференции. Никакой аргумент против этого не устоит. Ведь Старр, по-моему, ваш приёмный сын.
— Да, — прошептал Конвей.
— Тем хуже. И если вы скажете, что он действовал без санкций с Земли, как, вероятно, вам следует поступить…
— Это правда, — сказал Конвей, — но я не готов сказать, что именно мы станем утверждать.
— Если вы откажетесь от него, вам никто не поверит. Он ведь ваш сын. Делегаты внешних миров поднимут крик о «вероломных землянах», о лицемерии Земли. Сириус этим воспользуется, а я ничего не смогу сделать. Я даже лично не смогу голосовать в пользу Земли… Земле сейчас лучше уступить.
Конвей покачал головой. «Невозможно».
— Тогда война, — с бесконечной печалью ответил Доремо, — и мы все будем против Земли.
Глава 15
КОНФЕРЕНЦИЯ
Конвей допил вино. Он встал и печально пожал Доремо руку.
Как бы напоследок он сказал:
— Но ведь мы ещё не слышали показаний Дэвида. Если они будут не так плохи, если даже окажутся безвредными, будете ли вы по-прежнему стремиться к миру?
Доремо пожал плечами.
— Вы хватаетесь за соломинку. Да, да, если конференция после показаний вашего сына не впадет в панику, я сделаю, что смогу. Как я вам уже говорил, я на вашей стороне.
— Благодарю вас, сэр. — Они снова обменялись рукопожатием.
Доремо, слегка качая головой, смотрел вслед уходящему главе Совета Науки. За дверью Конвей остановился, чтобы перевести дыхание. Всё, как он и ожидал. Только бы сириане позволили Дэвиду выступить.
Как и следовало ожидать, конференция открылась предельно дипломатично. Все были очень вежливы, и когда земная делегация занимала своё место впереди справа, все делегаты, даже сириане, сидевшие впереди слева, встали.
Приветственную речь от лица хозяев конференции произнес государственный секретарь. Он произнес несколько банальностей о необходимости мира и о двери, открытой для дальнейшего заселения Галактики, об общем происхождении и братстве всех людей, о том, как опасна и разрушительна война. Он постарался никак не упоминать причину созыва конференции, ни разу не назвал Сириус и не произнес ни одной угрозы.
Ему щедро аплодировали. Потом конференция избрала своим председателем Агаса Доремо (это был единственный человек, с кандидатурой которого согласились обе стороны), и началось обсуждение главного вопроса.
Обсуждение, как обычно на таких конференциях, велось на интерлингве, международном языке, распространенном по всей Галактике.
В своём коротком выступлении Доремо подчеркнул преимущества компромисса и попросил всех в виду угрозы войны не упрямиться и проявлять благоразумие. Потом он вторично предоставил слово государственному секретарю Земли.
На этот раз секретарь выступал как защитник своей стороны в спорном вопросе. Выступил он умело и искусно.
Однако нельзя было не видеть враждебного отношения большинства делегаций. Оно, как туман, повисло в зале конференции.
Конвей сидел рядом с выступающим секретарем, опустив подбородок на грудь. Обычно считается ошибкой с самого начала выступать с большой защитительной речью. Это означает показать своё оружие ещё до начала боевых действий. И Сириус получит возможность для сокрушительного ответа.
Но в данном случае Конвей хотел именно этого.
Он достал носовой платок, провёл им по лбу, потом торопливо спрятал, надеясь, что никто этого не заметил. Он не хотел, чтобы заметили, как он волнуется.
Сириус воздержался от ответа, и явно по предварительной договоренности коротко выступили представители трёх внешних планет, находящихся в сильной зависимости от Сириуса. Каждый избегал касаться конкретных случаев, но все трое говорили об агрессивных намерениях Земли и её попытках вернуть себе прежнее господство в Галактике. Они подготовили сцены для главных актеров — сирианцев. После этого объявили перерыв для ланча.
И вот, шесть часов спустя после начала конференции, слово было предоставлено главе делегации Сириуса Стену Девуру. Он медленно встал. Вышел к трибуне и стоял, уверенно и с достоинством глядя на делегатов (на его оливковом лице не было и следа побоев).
Делегаты зашевелились, но постепенно затихли, а Девур ждал, не делая попытки начать.
Конвей был уверен, что все делегаты знают о предстоящем выступлении Счастливчика Старра. Все с возбуждением предвкушали окончательное унижение Земли.
Наконец очень негромко заговорил Девур. Начало его выступления было построено на материале истории. Он обратился к дням, когда Сириус был земной колонией, и вспоминал беды и горести тех дней. Охарактеризовал доктрину Хегеллана, предоставившую независимость Сириусу и другим внешним планетам, как неискреннюю и готовящую почву для восстановления господства Земли.
Переходя к настоящему, он сказал:
— Нас обвиняют в том, что мы колонизировали незаселенную планету. Мы признаем себя виновными в этом. Нас обвиняют в том, что мы взяли пустой мир и сделали его прекрасным местом для жизни человека. Мы признаем себя виновными в этом. Нас обвиняют в том, что мы взяли мир, пригодный для обитания, но ранее не использовавшийся. Мы признаем себя виновными в этом.
Нас не обвиняют в применении насилия. Нас не обвиняют в начале военных действий, в убийствах и ранениях в ходе нашей оккупации. Нас вообще не обвиняют ни в каких преступлениях. Утверждается только, что в миллиарде миль от планеты, которую мы сейчас мирно населяем, находится другая населённая планета — Земля.
Мы не считаем, что это имеет отношение к нашей планете — Сатурну. Мы не проявили насилия по отношению к Земле, и нас не обвиняют в этом. Мы просим только, чтобы нас оставили в покое, и будем рады ответить тем же.
Земляне утверждают, что Сатурн принадлежит им. Почему? Заселили ли они его спутники? Нет. Проявили ли интерес к нему? Нет. В течение тысячелетий Сатурн ждал их, но разве они этим воспользовались? Нет. Только после нашей высадки они вдруг проявили интерес к нему.
Земляне говорят, что Сатурн вращается вокруг того же Солнца, что и Земля. Мы это признаем, но говорим, что это не имеет значения. Незаселенный мир — это незаселенный мир, независимо от его орбиты в пространстве. Мы первыми заселили его, и он принадлежит нам.
Я сказал, что Сириус занял систему Сатурна без применения силы и без угрозы применения силы; что нас побуждает только стремление к миру. Мы не так много говорим о мире, как Земля, но мы применяем его на практике. Когда Земля созвала конференцию, мы немедленно согласились ради мира, хотя у нас нет никаких сомнений в нашей правоте.
Но что же Земля? Как она подтверждает свои мирные намерения? Она очень красноречиво говорит о мире, но её действия противоречат её речам. Земля призывает к миру и ведет войну. Она созывает мирную конференцию и в то же время отправляет военную экспедицию. Короче, пока ради мира Сириус рискует своими интересами, Земля начинает против нас неспровоцированную войну. Я могу это доказать устами одного из членов земного Совета Науки.
Произнося последнюю фразу, он поднял руку — первый жест за всю речь — и драматично указал на проход, куда был сразу же нацелен прожектор. Там стоял Дэвид Старр, высокий и прямой. По обеим сторонам от него стояли роботы.
Когда Старра привезли на Весту, он наконец увидел Верзилу. Маленький марсианин подбежал к нему, а Йонг с интересом смотрел с расстояния.
— Счастливчик, — взмолился Верзила. — Пески Марса, не делай этого. Они не могут заставить тебя говорить, а что со мной будет, неважно.
Дэвид медленно покачал головой.
— Подожди, Верзила. Подожди ещё один день.
Подошёл Йонг и взял Верзилу за локоть.
— Простите, Старр, но мы задержим его, пока вы не выступите. Девур верит в заложников, и я считаю, что в данном случае он прав. Вам придётся предстать перед своими, и угроза бесчестья может на вас подействовать.
Старр подготовился к этому, когда стоял в проходе и чувствовал, что все, затаив дыхание, смотрят на него. Освещенный прожектором, он видел делегатов как смутную безликую массу. Только когда роботы отвели его на скамью свидетеля, он стал различать отдельные лица и увидел в переднем ряду Гектора Конвея.
Конвей устало улыбнулся ему, но Дэвид не посмел ответить тем же. Наступал критический момент, и он должен был ничем не насторожить сириан.
Девур жадно смотрел на землянина, наслаждаясь предстоящим торжеством. Он сказал:
— Джентльмены. Я хочу временно превратить эту конференцию в нечто, напоминающее суд. У меня есть свидетель, и я хочу, чтобы делегаты выслушали его. Я основываюсь на его показаниях. Он землянин и один из известнейших агентов Совета по науке.
Потом он резко обратился к Старру:
— Ваше имя, гражданство и должность.
Счастливчик ответил:
— Я, Дэвид Старр, уроженец Земли и член Совета Науки.
— Подвергали ли вас воздействию наркотиков или психическому воздействию перед вашим выступлением?
— Нет, сэр.
— Значит, вы говорите добровольно и скажете всю правду?
— Я говорю добровольно и скажу всю правду.
Девур повернулся к делегатам.
— Некоторым может прийти в голову, что Дэвида Старра подвергли воздействию так, что он об этом не знал. Если это так, его может осмотреть любой член конференции, имеющий медицинскую подготовку, — я знаю, что здесь присутствуют несколько таких людей, — если кто-то требует такого осмотра.
Никто не потребовал этого, и Девур продолжал, обращаясь к Старру:
— Когда вам впервые стало известно о существовании сирианской базы в системе Сатурна?
Коротко, невыразительно, с каменным выражением лица глядя вперёд, тот рассказал о своём первом посещении системы и о требовании покинуть её.
Конвей слегка кивнул, заметив, что Старр ни словом не упомянул ни об агенте X, ни о капсуле. Агент X — всего лишь земной преступник. Очевидно, Сириус не хотел упоминаний о его деятельности и так же очевидно, Дэвид тоже стремился к этому.
— Получив предупреждение, вы улетели?
— Да, сэр.
— Насовсем?
— Нет, сэр.
— Что вы сделали потом?
Дэвид описал уловку с Гидальго, приближение к Сатурну со стороны южного полюса, укрытие за кольцами и полёт к Мимасу.
Девур прервал его:
— За всё это время были ли проявлены по отношению к вашему кораблю враждебные действия?
— Нет, сэр.
Девур снова обратился к делегатам.
— Нет необходимости опираться только на слова члена Совета. У меня есть телефото преследования корабля Старра до самого Мимаса.
Старр оставался на свету, всё остальное помещение было погружено в полутьму, и делегаты смотрели на трёхмерное изображение «Метеора», летящего к кольцам и скрывающегося в Щели между ними.
Следующие кадры показывали его полёт к Мимасу и исчезновение в облаке красного света и пара.
К этому времени Девур почувствовал растущее восхищение смелостью землянина, потому что торопливо и раздраженно сказал:
— Наша неспособность догнать корабль члена Совета объясняется тем, что у него был аграв. Манёвры вблизи Сатурна для нас более затруднительны, чем для него. По этой причине мы раньше не приближались к Мимасу и не были готовы к тому, что он это сделает.
Если бы Конвей посмел, он бы закричал вслух. Дурак! За это проявление зависти Девур дорого заплатит. Конечно, упоминая об аграве, он одновременно хочет вызвать у других делегаций страх перед научными достижениями Земли, но это тоже ошибка. Страх может стать слишком сильным.
Девур спросил у Старра:
— Что же произошло, когда вы покинули Мимас?
Тот описал своё пленение, и Девур, намекнув на обладание сирианцами усовершенствованным масс-детектором, сказал:
— Будучи на Титане, дали ли вы нам сведения, касающиеся вашей деятельности на Мимасе?
— Да, сэр. Я сообщил вам, что на Мимасе находится другой член Совета, а потом сопровождал вас в полёте на Мимас.
Этого делегаты, очевидно, не знали. Началось смятение, которое прервал своим возгласом Девур:
— У меня есть телефото, на которых зафиксировано удаление этого второго члена Совета с Мимаса, где он основал тайную военную базу именно в то время, когда Земля созывала мирную конференцию.
Снова затемнение, и снова трёхмерное изображение. Во всех подробностях конференция увидела высадку на Мимас, увидела, как образуется туннель, как исчезает в нём Старр и возвращается на борт корабля вместе с членом Совета Беном Василевским. Последние кадры показывали помещения Бена под поверхностью Мимаса.
— Как видите, настоящая база со всем необходимым оборудованием, — сказал Девур. Потом, повернувшись к Старру, спросил: — Имели ли ваши действия официальное одобрение со стороны Земли?
Это был главный вопрос, и никто не сомневался, какой последует ответ, но тут Дэвид заколебался, а аудитория ждала, затаив дыхание.
Наконец он сказал:
— Я скажу всю правду. Я не получил разрешения вернуться в систему Сатурна, но знаю, что все мои действия встретят полную поддержку со стороны Совета Науки.
При этом признании началась давка среди репортеров и смятение среди делегатов. Все вставали, слышались крики:
— Голосовать! Голосовать!
Похоже, конференция кончалась полным поражением Земли.
Глава 16
ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ КУСАЛСЯ
Агас Доремо вскочил на ноги и совершенно бесполезно стучал традиционным деревянным молотком. Конвей с трудом пробился сквозь лес угрожающих жестов и выкрики и включил сирену, некогда возвещавшую о нападениях на базу. Резкий звук перекрыл шум, и делегаты удивленно смолкли.
Конвей выключил сирену, и в наступившей тишине Доремо быстро сказал:
— Предлагаю дать возможность главе Совета Науки Гектору Конвею из Земной федерации провести перекрестный допрос члена Совета Старра.
Послышались выкрики: «Нет! Нет!» — но Доремо упрямо заявил:
— Прошу конференцию отнестись справедливо ко всем участникам. Глава Совета заверил меня, что перекрестный допрос не займет много времени.
Под всеобщий шорох и шёпот Конвей приблизился к Старру.
Он улыбнулся, но заговорил официально:
— Член Совета Старр, мистер Девур не спрашивал вас о ваших намерениях. Скажите, зачем вы направились в систему Сатурна.
— С целью колонизировать Мимас, шеф.
— Вы считали, что имеете на это право?
— Это был незаселенный мир, шеф.
Конвей повернулся к застывшим делегатам.
— Не повторите ли, член Совета Старр?
— Я хотел основать базу на Мимасе, поскольку этот пустой мир принадлежал Земной федерации, шеф.
Девур вскочил и яростно крикнул:
— Мимас — часть системы Сатурна!
— Совершенно верно, — сказал Старр, — а Сатурн — часть Солнечной системы. Но согласно вашей интерпретации, Мимас — всего лишь незаселенный мир. Только что вы сами признали, что раньше сирианские корабли никогда не совершали посадок на Мимасе.
Конвей улыбнулся. Молодой член Совета тоже поймал эту ошибку Девура.
Конвей сказал:
— Мистер Девур, член Совета Старр не присутствовал, когда вы произносили свою вступительную речь. Позвольте процитировать из неё отрывок слово в слово: «Незаселенный мир — это незаселенный мир, независимо от его орбиты в пространстве. Мы первыми заселили его, и он принадлежит нам».
Глава Совета повернулся к делегатам и, тщательно подбирая слова, сказал:
— Если справедлива точка зрения земной делегации, Мимас принадлежит нам, потому что обращается вокруг планеты, которая, в свою очередь, вращается вокруг нашего Солнца. Если справедлива точка зрения делегации Сириуса, Мимас тоже принадлежит нам, потому что он был не заселен и мы колонизировали его первыми. В соответствии с утверждениями самих сирианцев, тот факт, что другой спутник Сатурна ими уже заселен, не имеет отношения к данному случаю.
В любом случае, вторгнувшись на планету, принадлежащую Земной федерации, и силой удалив оттуда колониста, Сириус начал военные действия и показал всё своё лицемерие, поскольку считает для себя возможным делать то, что не позволено другим.
Снова началось смятение, и следующим заговорил Доремо.
— Джентльмены, я хочу кое-что сказать. Факты, приведенные Конвеем и членом Совета Старром, неопровержимы. Это показывает, в какую анархию погрузится Галактика, если победит точка зрения Сириуса. Каждая незаселённая скала станет источником споров, каждый астероид будет угрозой для мира. Сирианцы собственными действиями доказали свою неискренность…
Произошёл полный и окончательный поворот событий.
Если бы позволяло время, Сириус мог бы ещё призвать к порядку своих союзников, но Доремо, искусный и опытный политик, провёл голосование, когда просирианские делегации ещё были деморализованы и не могли решиться выступить против очевидных фактов.
За Сириус голосовали три делегации. Делегации Пентесилеи, Дуварна и Муллена, все небольшие планеты, где влияние сирианцев было очень сильно. Остальные голоса, свыше пятидесяти, были поданы в пользу Земли. Постановили, что Сириус должен освободить взятых в плен землян. Постановили демонтировать базу и покинуть Солнечную систему в течение месяца.
Конечно, заставить выполнить эти приказы можно было только оружием, но Земля была готова к войне, а Сириусу пришлось считаться с мнением остальных миров. И никто на Весте не думал, что в таких обстоятельствах Сириус решится на войну.
Девур, тяжело дыша, с лицом, искаженным яростью, сказал Старру:
— Грязный трюк. Вы сознательно вынудили нас…
— Это вы вынудили меня, — спокойно ответил Счастливчик, — угрожая жизни Верзилы. Помните? Или предпочтете, чтобы были опубликованы все подробности?
— Ваш друг-обезьяна всё ещё у меня, — злобно сказал Девур, — и что бы там ни говорили на конференции…
Глава Совета Конвей, тоже присутствовавший при разговоре, улыбнулся.
— Если вы имеете в виду Верзилу, мистер Девур, то он не у вас. Он в наших руках вместе с офицером Йонгом, которого Дэвид Старр заверил в моей поддержке. Очевидно, Йонг считает, что при вашем нынешнем настроении ему лучше не сопровождать вас в обратном полёте на Титан. Может, и вам небезопасно возвращаться на Сириус? Если хотите обратиться с просьбой об убежище…
Девур, потеряв дар речи, встал и ушёл.
Доремо широко улыбался, прощаясь с Конвеем и Дэвидом.
— Думаю, вы будете рады снова оказаться на Земле, молодой человек.
Дэвид кивнул в знак согласия.
— Через час я отправляюсь домой на лайнере, сэр, а несчастный «Метеор» пойдёт на буксире, и, откровенно говоря, я этим доволен.
— Хорошо. Поздравляю с великолепно выполненной работой. Когда глава Совета Конвей попросил меня перед началом заседания дать ему возможность устроить перекрестный допрос, я согласился, но решил, что он сошёл с ума. Когда вы давали показания, а он с ними соглашался, я уверился в том, что он сумасшедший. Но, очевидно, вы всё спланировали заранее.
Конвей ответил:
— Дэвид направил мне послание, в котором рассказал, что собирается делать. Конечно, до самого последнего момента мы не были уверены, что план удастся.
— Я думаю, вы верили в члена Совета, — возразил Доремо. — Во время нашей первой беседы вы спросили меня, буду ли я на вашей стороне, если его показания не произведут эффекта. Тогда я, конечно, не понял, в чём дело, понял только потом.
— Благодарю вас за поддержку.
— Я поддержал сторону, за которой справедливость… Вы серьёзный противник, молодой человек, — сказал он Дэвиду.
Тот улыбнулся.
— Я сделал ставку на неискренность сирианцев. Если бы они на самом деле верили в то, что говорят, они не тронули бы моего друга на Мимасе, и мы остались бы с базой на маленьком куске льда и предстоящей войной.
— Вы правы. Конечно, когда делегаты вернутся домой, многие передумают, начнут гневно обвинять Землю и меня тоже, но, я думаю, всё уляжется. Успокоившись, они поймут, что установили прецедент — принцип независимости звёздных систем, и я думаю также, что этот принцип важнее всей их оскорбленной гордости и предрассудков. Я считаю, что историки будут рассматривать эту конференцию как очень важный шаг к миру и процветанию всей Галактики. Я очень доволен.
И он энергично пожал землянам руки.
Дэвид и Верзила снова оказались вместе, и хоть пассажирский корабль был велик и места в нём было много, они не расставались. Марс остался позади (Верзила больше часа с довольным видом смотрел на него), приближалась Земля.
Наконец Верзила решил высказать, что его мучит.
— Великий Космос, Счастливчик, — сказал он, — как это я не понял, что ты делаешь? Я думал… Ну не хочу говорить, что я думал. Только, пески Марса, тебе следовало предупредить меня.
— Верзила, я не мог. Это единственное, чего я не мог сделать. Разве ты не понимаешь? Мне нужно было заставить сирианцев вывезти Бена с Мимаса так, чтобы они не задумались о последствиях. Мне нельзя было показывать им, что я хочу этого, иначе они сразу заподозрили бы ловушку. Нужно было действовать так, будто я иду на это вопреки своему желанию, что я вынужден так поступать. Уверяю тебя, я с самого начала и не знал, как это сделать, но понимал одно: если бы ты, Верзила, знал о моем плане, ты бы его сорвал.
Верзила страшно рассердился.
— Сорвал? Да знаешь ли ты, земной слизняк, что от меня и бластером ничего бы не добились?
— Знаю. Никакая пытка не помогла бы. Но ты выдал бы план сам. Ты очень плохой актер и знаешь это. Стоило тебе по-настоящему рассердиться, и так или иначе всё вышло бы на поверхность. Вот почему я хотел, чтобы ты остался на Мимасе, помнишь? Я знал, что не могу тебе рассказать всё, знал, что ты не понимаешь, что я делаю, и мне было плохо из-за этого. Но ты оказался настоящей находкой.
— Я? Потому что побил этого подонка?
— В каком-то смысле да. Это дало мне возможность показать, что я искренне обмениваю Бена на твою жизнь. Это было легче, чем выдавать его на каких-то других условиях. Я как будто вообще не играл. Ты за меня всё сделал.
— Ах, Счастливчик!
— Ах, Верзила! К тому же ты так расстроился, что они не заподозрили ловушку. Все, кто наблюдал за тобой, были убеждены, что я действительно предаю Землю.
— Пески Марса! — Верзила был поражен. — Мне следовало знать, что ты ничего подобного не можешь сделать. Я придурок.
— Ну я рад, что это так, — сказал Дэвид и ласково взъерошил волосы Верзилы.
Когда за обедом к ним присоединились Конвей и Бен, Бен сказал:
— Не о такой встрече нас дома думал Девур: субэфир и газеты полны рассказами о нас, особенно о тебе, Счастливчик.
Дэвид нахмурился.
— Тут нет ничего хорошего. Теперь нам станет трудней работать. Известность! Только подумай, что говорили бы, если бы сирианцы оказались хоть немного сообразительней и в последнюю минуту сорвались бы с крючка.
Конвей поёжился.
— Не буду об этом думать. Но теперь Девур получает заслуженное.
Старр сказал:
— Переживёт. Дядюшка его вытащит.
— Во всяком случае, мы с ним покончили, — сказал Верзила.
— Ты думаешь? — серьёзно спросил Дэвид. — Я в этом не уверен.
После этого несколько минут ели молча.
Конвей, желая развеять сгустившуюся атмосферу, сказал:
— Конечно, сирианцы не могли оставить Бена на Мимасе, так что мы им не дали выбора. В конце концов, они искали капсулу, а Бен находился всего в тридцати тысячах миль от колец и…
Верзила выронил вилку, глаза его превратились в блюдца.
— Взлетающие ракеты!
— В чём дело, Верзила? — спросил Бен. — Ты случайно о чём-то подумал и перенапряг мозг?
— Заткнись, тупоголовый, — сказал Верзила. — Послушай, Счастливчик, во всей этой суматохе мы забыли о капсуле агента X. Она всё ещё там, если сирианцы её не нашли; а если не нашли, у них ещё есть несколько недель для поисков.
Конвей сразу ответил:
— Я думал об этом, Верзила. Откровенно говоря, я считаю, что она навсегда потеряна. В кольцах ничего не найти.
— Но, шеф, разве Дэвид не рассказывал вам об особых масс-детекторах, которые у них есть, и…
К этому времени все смотрели на Старра. У того на лице появилось странное выражение, как будто он не мог решить, что ему делать: смеяться или браниться.
— Великая Галактика! — воскликнул он. — Я о ней совершенно забыл!
— О капсуле? — спросил Верзила. — Ты забыл о капсуле?
— Да. Я забыл, что она у меня. Вот. — И он достал из кармана металлический предмет размером с дюйм и положил его на стол.
Первым схватил его Верзила, потом его выхватили остальные; все поворачивали капсулу, рассматривая её.
Верзила сказал:
— Это капсула? Ты уверен?
— Да. Конечно, совершенно точно будем знать, когда откроем её.
— Но как, где, когда… — все задавали вопросы одновременно.
Дэвид постарался ответить.
— Простите. Я на самом деле… Помните слова, которые мы перехватили перед тем, как агент X взорвался? Там были слова «на нормальной орб…». Мы, конечно, решили, что это значит «на нормальной орбите». Сирианцы тоже подумали, что «нормальный» значит «обычный», что капсула находится на орбите, обычной для частиц кольца, и стали обыскивать кольца.
Однако «нормальная» может значить также «перпендикулярная». Кольца Сатурна вращаются с запада на восток, перпендикулярная орбита означает вращение с севера на юг или с юга на север. Это имеет смысл, так как в таком случае капсула не затеряется в кольцах.
Но любая орбита, по которой тело движется с севера на юг или с юга на север, должна проходить над Северным и Южным полюсами, независимо от других элементов. Мы приближались к Сатурну со стороны южного полюса, и я следил по масс-детектору, отмечая все подходящие орбиты. В полярном пространстве частиц почти нет, и я думал, что смогу её обнаружить, если она там. Но говорить об этом не хотел, потому что шансы были невелики и мне не хотелось возбуждать ложные надежды.
На детекторе что-то отразилось, и я решил попробовать. Сравнял скорости и вышел из корабля. Как ты догадался, Верзила, я при этом воспользовался возможностью вывести из строя аграв, готовясь к предстоящей сдаче, но одновременно я подобрал и капсулу.
Когда мы высадились на Мимасе, я оставил её в кольцах кондиционера Бена. Потом, когда мы за ним прилетели и я сдал его Девуру, то прихватил капсулу и сунул её в карман. Конечно, на корабле меня обыскивали в поисках оружия, но я решил, что капсула робота не заинтересует… Использование роботов связано с серьёзными недостатками. Ну вот и вся история.
— Но почему ты не рассказал нам? — завопил Верзила.
Дэвид выглядел смущенным.
— Я хотел. Честно. Но когда я выловил капсулу и вернулся на корабль, нас засекли сирианцы, помнишь, нужно было уходить от них. И потом, если подумаешь, ни одной минуты не было, чтобы что-нибудь не происходило. Ну… и я так и не вспомнил о ней.
— Что за память, — презрительно сказал Верзила. — Неудивительно, что ты без меня ничего не можешь.
Конвей рассмеялся и хлопнул маленького марсианина по спине.
— Правильно, Верзила, и дальше заботься об этом переростке и постарайся, чтобы он всегда понимал, что делает.
— Конечно, — добавил Бен, — после того, как тебе самому объяснят, что ты делаешь.
Корабль вошёл в земную атмосферу. Началась подготовка к посадке.
УЭНДЕЛ ЭРТ (цикл)
Эти рассказы объединены главным героем Уэнделом Эртом, который является самым лучшим специалистом по космосу и планетам, но при этом ни разу не покидал пределов Земли, и обладает замечательной способностью раскрывать любые космические преступления.
Поющий колокольчик
Луис Пейтон никогда никому не рассказывал о способах, какими ему удавалось взять верх над полицией Земли в многочисленных хитроумных поединках, когда порой уже казалось, что его вот-вот подвергнут психоскопии, и все-таки каждый раз он выходил победителем.
Он не был таким дураком, чтобы раскрывать карты, но порой, смакуя очередной подвиг, он возвращался к давно взлелеянной мечте: оставить завещание, которое вскроют только после его смерти, и в нем показать всему миру, что природный талант, а вовсе не удача, обеспечивал ему неизменный успех.
В завещании он написал бы: «Ложная закономерность, созданная для маскировки преступления, всегда несет в себе следы личности того, кто ее создает Поэтому разумнее установить закономерность в естественном ходе событий и приспособить к ней свои действия»
И убить Альберта Корнуэлла Пейтон собирался, следуя именно этому правилу.
Корнуэлл, мелкий скупщик краденого, в первый раз завел с Пейтоном разговор о деле, когда тот обедал в ресторане Гриннела за своим обычным маленьким столиком. Синий костюм Корнуэлла в этот день, казалось, лоснился по-особенному, выцветшие усы топорщились по-особенному
— Мистер Пейтон, — сказал он, здороваясь со своим будущим убийцей без тени зловещих предчувствий, — рад вас видеть. Я уж почти всякую надежду потерял — всякую!
Пейтон не выносил, когда его отвлекали от газеты за десертом, и ответил резко:
— Если у вас ко мне дело, Корнуэлл, вы знаете, где меня найти.
Пейтону было за сорок, его черные волосы уже начали седеть, но годы еще не успели его согнуть, он выглядел молодо, глаза не потускнели, и он умел придать своему голосу особую резкость, благо тут у него имелась немалая практика.
— Не то, что вы думаете, мистер Пейтон, — ответил Корнуэлл. — Совсем не то. Я знаю один тайник, сэр, тайник с… вы понимаете, сэр.
Указательным пальцем правой руки он словно слегка постучал по невидимой поверхности, а левую ладонь на миг приложил к уху.
Пейтон перевернул страницу газеты, еще хранившей влажность телераспределителя, сложил ее пополам и спросил:
— Поющие колокольчики?
— Тише, мистер Пейтон, — произнес Корнуэлл испуганным голосом.
Пейтон ответил:
— Идемте.
Они пошли парком. У Пейтона было еще одно нерушимое правило — обсуждать тайны только на вольном воздухе. Любую комнату можно взять под наблюдение с помощью лучевой установки, но никому еще не удавалось обшаривать все пространство под небосводом.
Корнуэлл шептал:
— Тайник с поющими колокольчиками… накоплены за долгий срок, неотшлифованные, но первый сорт, мистер Пейтон.
— Вы их видели?
— Нет, сэр, но я говорил с одним человеком, который их видел. И он не врал, сэр, я проверил. Их там столько, что мы с вами сможем уйти на покой богатыми людьми. Очень богатыми, сэр.
— Кто этот человек?
У Корнуэлла в глазах зажегся хитрый огонек, словно чадящая свеча, от которой больше копоти, чем света, и его лицо приобрело отвратительное масляное выражение.
— Он был старателем на Луне и умел отыскивать колокольчики в стенках кратеров. Как именно — он мне не рассказывал. Но колокольчиков он насобирал около сотни и припрятал на Луне, а потом вернулся на Землю, чтобы здесь их пристроить.
— И, видимо, погиб?
— Да. Несчастный случай. Ужасно, мистер Пейтон, — упал с большой высоты. Прискорбное происшествие. Разумеется, его деятельность на Луне была абсолютно противозаконной. Власти Доминиона строго преследуют контрабандную добычу колокольчиков. Так что, возможно, его постигла Божья кара… Как бы то ни было, у меня его кара.
Пейтон с выражением холодного безразличия ответил:
— Меня не интересуют подробности вашей сделки. Я хочу знать только, почему вы обратились ко мне?
— Видите ли, мистер Пейтон, — сказал Корнуэлл, — там хватит на двоих, и каждому из нас найдется что делать. Я, например, знаю, где находится тайник, и могу раздобыть космический корабль. А вы…
— Ну?
— Вы умеете управлять кораблем, и у вас такие связи, что пристроить колокольчики будет легко. Очень справедливое разделение труда, мистер Пейтон, ведь так?
Пейтон на секунду задумался о естественном ходе своей жизни — ее существующей закономерности: концы, казалось, сходились с концами.
Он сказал:
— Мы вылетаем на Луну десятого августа.
Корнуэлл остановился.
— Мистер Пейтон, сейчас ведь еще только апрель.
Пейтон продолжал идти, и Корнуэллу пришлось рысцой пуститься за ним вдогонку.
— Вы расслышали, что я сказал, мистер Пейтон?
Пейтон повторил
— Десятого августа. Я своевременно свяжусь с вами и сообщу, куда доставить корабль. До тех пор не пытайтесь увидеться со мной. До свидания, Корнуэлл
Корнуэлл спросил:
— Прибыль пополам?
— Да, — ответил Пейтон. — До свидания.
Дальше Пейтон пошел один, раздумывая о закономерностях своей жизни. Когда ему было двадцать семь лет, он купил в Скалистых горах участок земли с домом; один из прежних владельцев построил этот дом как убежище на случай атомной войны, которой все опасались два столетия назад и которой так и не суждено было разразиться. Однако дом сохранился — памятник стремлению к полной безопасности, стремлению существовать без какой-либо связи с внешним миром, порожденному смертельным страхом.
Здание было выстроено из стали и бетона в одном из самых уединенных уголков Земли; оно стояло высоко над уровнем моря, и почти со всех сторон его защищали горы, поднимавшиеся еще выше. Дом располагал собственной электростанцией и водопроводом, который питали горные потоки, холодильными камерами, вмещавшими сразу десяток коровьих туш; подвал напоминал крепость с целым арсеналом оружия, предназначенного для того, чтобы сдерживать напор обезумевших от страха толп, которые так и не появились. Установка для кондиционирования воздуха могла очищать воздух до бесконечности, пока из него не будет вычищено все, кроме радиоактивности (увы, человек несовершенен!}.
И в этом спасительном убежище Пейтон, убежденный холостяк, из года в год проводил весь август. Он раз и навсегда отключил средства сообщения с внешним миром — телевизионную установку, телераспределитель газет. Он окружил свои владения силовым полем и установил сигнальный механизм в том месте, где ограда пересекала единственную горную тропу, по которой можно было добраться до его дома.
Ежегодно в течение месяца Пейтон оставался наедине с самим собой. Его никто не видел, до него никто не мог добраться. Лишь в полном одиночестве он по-настоящему отдыхал от одиннадцати месяцев пребывания в человеческом обществе, к которому не испытывал ничего, кроме холодного презрения.
Даже полиция (тут Пейтон усмехнулся) знала, как строго он блюдет это правило. Однажды он даже махнул рукой на большой залог и, рискуя подвергнуться психоскопии, все-таки уехал в Скалистые горы, чтобы провести август, как всегда.
Пейтон подумал, что, пожалуй, включит в свое завещание еще один афоризм: самое лучшее доказательство невиновности— это полное отсутствие алиби.
Тридцатого июля, как и ежегодно в этот день, Луис Пейтон в 9 часов 15 минут утра сел в Нью-Йорке на антигравитационный реактивный стратолет и в 12 часов 30 минут прибыл в Денвер. Там он позавтракал и в 1 час 45 минут отправился на полуантигравитационном автобусе в Хампс-Пойнт, откуда Сэм Лейбмен на старинном наземном автомобиле (не антигравитационном) довез его до границы его усадьбы. Сэм Лейбмен невозмутимо принял на чай десять долларов, которые получал всегда, и приложил руку к шляпе, что вот уже пятнадцать лет проделывал тридцатого июля.
Тридцать первого июля, как каждый год в этот день, Луис Пейтон вернулся в Хампс-Пойнт на своем антигравитационном флиттере и заказал в универсальном магазине все необходимое на следующий месяц. Заказ был самым обычным. По сути дела, это был дубликат заказов предыдущих лет.
Макинтайр, управляющий магазином, внимательно проверил заказ, передал его на Центральный склад Горного района в Денвере, и через час все требуемое было доставлено по линии масс-транспортировки. Пейтон с помощью Макинтайра погрузил припасы во флиттер, оставил, как обычно, десять долларов на чай и возвратился домой.
Первого августа в 12 часов 01 минуту Пейтон включил на полную мощность силовое поле, окружавшее его участок, и оказался полностью отрезанным от внешнего мира.
И тут привычный ход событий был нарушен. Пейтон расчетливо оставил в своем распоряжении восемь дней. За это время он тщательно и без спешки уничтожил столько припасов, сколько могло ему потребоваться на весь август. Тут ему помогли мусорные камеры, предназначенные для уничтожения отбросов, — это была последняя модель, с легкостью превращавшая что угодно, в том числе металлы и силикаты, в мельчайшую молекулярную пыль, которую никакими средствами нельзя было обнаружить. Избыток энергии, выделявшейся при этом процессе, он спустил в горный ручей, который протекал возле дома. Всю эту неделю вода в ручье была на пять градусов теплее обычного.
Девятого августа Пейтон спустился на аэрофлиттере в условленное место в штате Вайоминг, где Альберт Корнуэлл уже ждал его с космическим кораблем. Корабль сам по себе, конечно, делал весь план уязвимым, поскольку о нем знали те, кто его продал, и те, кто доставил его сюда и помог готовить к полету. Но все эти люди имели дело только с Корнуэллом, а Корнуэлл, подумал Пейтон с тенью усмешки, скоро будет нем как могила.
Десятого августа космический корабль, которым управлял Пейтон, оторвался от поверхности Земли, имея на борту одного пассажира — Корнуэлла (конечно, с картой). Антигравитационное поле корабля оказалось превосходным. При включении на полную мощность корабль весил меньше унции. Микрореакторы вырабатывали энергию безотказно и бесшумно, и корабль беззвучно прошел атмосферу — такой не похожий на грохочущие, окутанные пламенем ракеты Прошлого, — превратился в крошечную точку и скоро совсем исчез.
Вероятность того, что кто-нибудь увидит взлетающий корабль, была ничтожно мала. И его действительно никто не увидел.
Два дня в космическом пространстве, и вот уже две недели на Луне. Чутье с самого начала подсказало Пейтону, что понадобятся именно две недели. Он не питал никаких иллюзий относительно самодельных карт, составленных людьми, которые ничего не смыслят в картографии. Такая карта могла помочь только самому составителю — ему приходила на помощь память. Для всех остальных такая карта — сложный ребус.
В первый раз Корнуэлл показал Пейтону карту уже в полете. Он подобострастно улыбался.
— В конце концов, сэр, ведь это мой единственный козырь.
— Вы сверили ее с картами Луны?
— Я ведь в этом ничего не смыслю, мистер Пейтон. Целиком полагаюсь на вас.
Пейтон смерил его холодным взглядом и вернул карту. Сомнения на ней не вызывал только кратер Тихо Браге, где находился подземный лунный город.
Хоть в чем-то, однако, астрономия сыграла им на руку. Кратер Тихо Браге находился на освещенной стороне Луны, следовательно, патрульные корабли вряд ли будут нести там дежурство, так что у них были все шансы остаться незамеченными.
Пейтон совершил рискованно быструю антигравитационную посадку в холодной тени, отбрасываемой склоном кратера. Солнце уже прошло зенит, и тень не могла стать меньше.
Корнуэлл помрачнел.
— Какая жалость, мистер Пейтон. Мы ведь не можем начать поиски, пока стоит лунный день.
— У него тоже бывает конец, — оборвал его Пейтон. — Солнце будет здесь приблизительно сто часов. Это время мы используем, чтобы акклиматизироваться и как следует изучить карту.
Загадку Пейтон разгадал быстро; оказалось, что у нее несколько ответов. Он долго изучал лунные карты, тщательно вымеряя расстояния и стараясь определить, какие именно кратеры изображены на самодельной карте, дававшей им ключ… к чему?
Наконец он сказал:
— Колокольчики могут быть спрятаны в одном из трех кратеров — ГЦ-3, ГЦ-5 или МТ-10.
— Как же нам быть, мистер Пейтон? — спросил Корнуэлл расстроенно. /
— Осмотрим все три, — сказал Пейтон. — Начнем с ближайшего.
Место, где они находились, пересекло терминатор, и их окутала ночная мгла. После этого они все дольше оставались на лунной поверхности, постепенно привыкая к извечной тьме и тишине, к резким точкам звезд и к полосе света над краем кратера — это в него заглядывала Земля. Они оставляли глубокие бесформенные следы в сухой пыли, которая не поднималась кверху и не осыпалась. Пейтон в первый раз заметил эти следы, когда они выбрались из кратера на яркий свет, отбрасываемый горбатым полумесяцем Земли. Это случилось на восьмой день их пребывания на Луне.
Лунный холод не позволял надолго покидать корабль. Каждый день, однако, им удавалось удлинять этот промежуток. На одиннадцатый день они убедились, что в ГЦ-5 поющих колокольчиков нет.
На пятнадцатый день холодная душа Пейтона согрелась жаром отчаяния. Они непременно должны обнаружить тайник в ГЦ-3. МТ-10 слишком далеко. Они не успеют добраться до него и исследовать: ведь вернуться на Землю необходимо не позже тридцать первого августа.
Однако в тот же день отчаяние рассеялось: тайник с колокольчиками был найден.
Осторожно, в ладонях, они переносили колокольчики на корабль, укладывали их в мягкую стружку и возвращались за новыми. Им трижды пришлось проделать путь, который на Земле оставил бы их без сил. Но на Луне с ее незначительным тяготением такое расстояние почти не утомляло.
Корнуэлл передал последний колокольчик Пейтону, который осторожно размещал их в выходной камере.
— Отодвиньте их подальше от люка, мистер Пейтон, — сказал он, и его голос в наушниках показался Пейтону слишком громким и резким. — Поднимаюсь.
Корнуэлл пригнулся, готовясь к лунному прыжку — высокому и замедленному, посмотрел вверх и застыл в ужасе. Его лицо, ясно видное за выпуклым лузилитовым иллюминатором шлема, исказилось предсмертной гримасой.
— Нет, мистер Пейтон! Нет!
Пальцы Пейтона сомкнулись на рукоятке бластера, последовал выстрел. Непереносимо яркая вспышка — и Корнуэлл превратился в бездыханный труп, распростертый среди клочьев скафандра и покрытый брызгами замерзающей крови.
Пейтон угрюмо поглядел на мертвеца, но это длилось какое-то мгновение. Затем он уложил последние колокольчики в приготовленные для них контейнеры, снял скафандр, включил сначала антигравитационное поле, затем микрореакторы и, став миллиона на два богаче, чем за полмесяца до этого, отправился в обратный путь на Землю.
Двадцать девятого августа корабль Пейтона бесшумно приземлился кормой вниз в Вайоминге на той же площадке, с которой взлетел десятого августа. Пейтон недаром так заботливо выбирал это место. Его аэрофлитгер по-прежнему спокойно стоял в расселине, которыми изобиловало это каменистое плато
Контейнеры с поющими колокольчиками Пейтон отнес в дальний конец расселины и аккуратно присыпал их землей. Затем он вернулся на корабль, чтобы включить приборы и сделать последние приготовления. Через две минуты после того, как он снова спустился на землю, сработала автоматическая система управления.
Бесшумно набирая скорость, корабль устремился ввысь, он слегка отклонился в полете к западу Под воздействием вращения Земли. Пейтон следил за ним, приставив руку козырьком к прищуренным глазам, и уже почти за пределами видимости заметил крошечную вспышку света и облачко на фоне синего неба.
Его рот искривился в усмешке. Он рассчитал правильно. Стоило только отвести в сторону кадмиевые стержни поглотителя, и микрореакторы вышли из режима; корабль исчез в жарком пламени ядерного взрыва.
Двадцать минут спустя Пейтон был дома. Он устал, все мышцы у него болели — сказывалось земное тяготение. Спал он хорошо.
Двенадцать часов спустя, на рассвете, явилась полиция.
Человек, который открыл дверь, сложил руки на круглом брюшке и несколько раз приветливо кивнул головой. Человек, которому открыли дверь, Сетон Дейвенпорт из Земного бюро расследований, огляделся, чувствуя себя крайне неловко Комната, куда он вошел, была очень большая и тонула в полутьме, если не считать яркой лампы видеоскопа, установленной над комбинированным креслом — письменным столом. По стенам тянулись полки, уставленные кинокнигами. В одном углу были развешены карты Галактики, в другом на подставке мягко поблескивал «Галактический объектив»
— Вы доктор Уэнделл Эрт? — спросил Дейвенпорт так, словно этому трудно было поверить. Дейвенпорт был коренаст и черноволос. На щеке, рядом с длинным тонким носом, виднелся звездообразный шрам — след нейронного хлыста, однажды чуть-чуть задевшего его.
— Я самый, — ответил доктор Эрт высоким тенорком. — А вы — инспектор Дейвенпорт.
Инспектор показал свое удостоверение и объяснил:
— Университет рекомендовал мне вас как специалиста в области экстратеррологии.
— Да, вы мне это уже говорили полчаса назад, когда звонили, — любезно ответил доктор Эрт. Черты лица у него были расплывчатые, нос — пуговкой. Сквозь толстые стекла очков глядели выпуклые глаза.
— Я сразу перейду к делу, доктор Эрт Вы, вероятно, бывали на Луне…
Доктор Эрт, который успел к этому времени вытащить из-за груды кинокниг бутылку с красной жидкостью и две почти не запыленные рюмки, сказал с неожиданной резкостью:
— Я никогда не бывал на Луне, инспектор, и не собираюсь. Космические путешествия — глупое занятие. Я их не одобряю.
Потом добавил, уже мягче: ’
— Присаживайтесь, сэр, присаживайтесь. Выпейте рюмочку.
Инспектор Дейвенпорт выпил рюмочку и сказал:
— Но вы же не…
— Экстратерролог. Да. Меня интересуют другие миры, но это вовсе не значит, что я должен их посещать. Господи, да разве обязательно быть путешественником во времени, чтобы получить диплом историка?
Он сел его круглое лицо вновь расплылось в улыбке, и он спросил:
— Ну а теперь расскажите, что вас, собственно, интересует?
— Я пришел — сказал инспектор, нахмурив брови, — чтобы проконсультироваться с вами относительно одного убийства.
— Убийства? А что я понимаю в убийствах?
— Это убийство, доктор Эрт, совершено на Луне.
— Поразительно!
— Более чем поразительно. Беспрецедентно, доктор Эрт. За пятьдесят лет существования Доминиона Луны были случаи, когда взрывались корабли или скафандры давали течь. Люди сгорали на солнечной стороне, замерзали на теневой и погибали от удушья на обеих. Некоторые даже ухитрялись умереть, упав со скалы, что не так-то просто сделать, принимая во внимание лунное тяготение. Но за все это время ни один человек на Луне не стал жертвой преднамеренного акта насилия со стороны другого человека… Это случилось впервые.
— Как было совершено убийство? — спросил доктор Эрт.
— Выстрелом из бластера. Благодаря счастливому стечению обстоятельств представители закона оказались на месте преступления менее чем через час. Патрульный корабль заметил вспышку света на лунной поверхности. Вы ведь представляете себе, насколько далеко может быть видна вспышка на теневой стороне. Пилот сообщил об этом в Лунный город и пошел на посадку. Делая вираж, он разглядел в свете Земли взлетающий корабль — он клянется, что не ошибся. Высадившись, он обнаружил обгоревший труп и следы.
— Вы считаете, что эта вспышка была выстрелом из бластера? — заметил доктор Эрт.
— Несомненно. Убийство было совершено совсем недавно. Труп еще не успел промерзнуть. Следы принадлежали двум разным людям. Тщательные измерения показали, что углубления в пыли имеют два различных диаметра; другими словами, сапоги, их оставившие, были разных размеров. Следы в основном вели к кратерам ГЦ-3 и ГЦ-5. Это два…
— Мне известна официальная система обозначения лунных кратеров, — любезно объявил доктор Эрт.
— Гм-м. Одним словом, следы в ГЦ-3 вели к расселине на склоне кратера, внутри которой были обнаружены обломки затвердевшей пемзы. Рентгеноанализ показал…
— Поющие колокольчики, — перебил экстратерролог в сильном волнении. — Неужели это ваше убийство связано с поющими колокольчиками?
— А что, если это так? — спросил инспектор растерянно.
— У меня есть один колокольчик. Его нашла университетская экспедиция и подарила мне в благодарность за… Нет, я должен его вам показать, инспектор.
Доктор Эрт вскочил с кресла и засеменил через комнату, сделав знак своему гостю следовать за ним. Дейвенпорт с досадой повиновался.
Они вошли в соседнюю комнату, значительно большую, чем первая. Там было еще темнее и царил совершенный хаос. Дейвенпорт в удивлении воззрился на самые разнообразные предметы, сваленные вместе без малейшего намека на какой-либо порядок.
Он разглядел кусок синей глазури с Марса, которую неизлечимые романтики считали переродившимися останками давно вымерших марсиан, затем небольшой метеорит, модель одного из первых космических кораблей и запечатанную бутылку с жидкостью — на этикетке значилось «Океан Венеры».
Доктор Эрт с довольным видом сообщил:
— Я превратил свой дом в музей. Одно из преимуществ холостяцкой жизни. Конечно, надо еще многое привести в порядок. Вот как-нибудь выберется свободная неделька-другая…
С минуту он озирался в недоумении, потом, вспомнив, отодвинул схему развития морских беспозвоночных — высшей формы жизни на Арктуре V — и сказал:
— Вот он. К сожалению, он с изъяном.
Колокольчик висел на аккуратно впаянной в него тонкой
проволочке. Изъян заметить было нетрудно: примерно на середине колокольчик опоясывала вмятинка, так что он напоминал два косо слепленных шарика. И все-таки его любовно отполировали до неяркого серебристо-серого блеска; на бархатистой поверхности виднелись те крошечные оспинки, которые не удавалось воспроизвести ни в одной лаборатории, пытавшейся синтезировать искусственные колокольчики.
Доктор Эрт продолжал:
— Я немало экспериментировал, пока подобрал к нему подходящее било. Колокольчики с изъяном капризны. Но кость подходит. Вот, — он поднял что-то вроде короткой широкой ложки, сделанной из серовато-белого материала, — это я сам вырезал из берцовой кости быка… Слушайте.
С легкостью, которой трудно было ожидать от его толстых пальцев, он стал ощупывать поверхность колокольчика, стараясь найти место, где при ударе возникал самый нежный звук. Затем он повернул колокольчик, осторожно его придержав. Потом отпустил и слегка ударил по нему широким концом костяной ложки.
Казалось, где-то вдали запели миллионы арф. Пение нарастало, затихало и возвращалось снова. Оно возникало словно нигде. Оно звучало в душе у слушателя, небывало сладостное, и грустное, и трепетное.
Оно медленно замерло, но ученый и его гость еще долго молчали.
Доктор Эрт спросил:
— Неплохо, а?
И легким ударом пальца раскачал колокольчик.
Дейвенпорт с тревогой посмотрел на него:
— Осторожно! Не разбейте!
Хрупкость хороших колокольчиков давно вошла в поговорку.
Доктор Эрт сказал:
— Геологи утверждают, что колокольчики — это всего-навсего затвердевшие под большим давлением полые кусочки пемзы, в которых свободно перекатываются маленькие камешки. Так они утверждают. Но, если этим все и исчерпывается, почему же мы не в состоянии изготовлять их искусственно? И ведь по сравнению с колокольчиком без изъяна этот звучит как губная гармоника.
— Верно, — согласился Дейвенпорт, — и на Земле вряд ли найдется хотя бы десяток счастливцев, обладающих колокольчиком безупречной формы. Сотни людей, музеев и учреждений готовы отдать за такой колокольчик любые деньги, ни о чем при этом не спрашивая. Запас колокольчиков стоит убийства!
Экстратерролог обернулся к Дейвенпорту и пухлым указательным пальцем поправил очки на носу-пуговке.
— Я не забыл про убийство, из-за которого вы пришли. Пожалуйста, продолжайте.
— Все можно рассказать в двух словах. Я знаю, кто убийца.
Они вернулись в библиотеку, и, снова опустившись в
кресло, доктор Эрт сложил руки на объемистом животе, а потом спросил:
— В самом деле? Тогда что же вас затрудняет, инспектор?
— Знать и доказать — не одно и то же, доктор Эрт. К сожалению, у него нет алиби.
— Вероятно, вы хотели сказать «к сожалению, у него есть алиби»?
— Я хочу сказать то, что сказал. Будь у него алиби, я сумел бы доказать, что оно фальшивое, потому что оно было бы фальшивым. Если бы он представил свидетелей, готовых показать, что они видели его на Земле в момент совершения убийства, их можно было бы поймать на лжи. Если бы он представил документы, можно было бы обнаружить, что это подделка или еще какое-нибудь жульничество. К сожалению, ни на что подобное преступник не ссылается.
— А на что же он ссылается?
Инспектор Дейвенпорт подробно описал имение Пейтона в Колорадо и сказал в заключение:
— Он всегда проводит август там в полнейшем одиночестве. Даже ЗБР вынуждено было бы это подтвердить. И присяжным придется сделать вывод, что он этот август провел у себя в имении, если только мы не представим убедительных доказательств того, что он был на Луне.
— А почему вы думаете, что он действительно был на Луне? Может быть, он и не виновен.
— Виновен! — Дейвенпорт почти кричал. — Вот уже пятнадцать лет я напрасно пытаюсь собрать против него достаточно улик. Но преступления Пейтона я теперь нюхом чую. Говорю вам, на всей Земле только у Пейтона хватит наглости попробовать сбыть контрабандные колокольчики — и к тому же он знает нужных людей. Известно, что он первоклассный космический пилот. Известно, что у него были какие-то дела с убитым, хотя последние несколько месяцев они не виделись. К сожалению, все это еще не доказательства.
Доктор Эрт спросил:
— А не проще ли прибегнуть к психоскопии, ведь теперь это узаконено.
Дейвенпорт нахмурился, и шрам у него на щеке побелел.
— Разве вам не известен закон Конского — Хианавы, доктор Эрт?
— Нет.
— Он, по-моему, никому не известен. Внутренний мир человека, заявляет государство, свободен от посягательств. Прекрасно, но что отсюда вытекает? Человек, подвергнутый психоскопии, имеет право на такую компенсацию, какой он только сумеет добиться от суда. Недавно один банковский кассир получил 25 000 долларов возмещения за психоскопическую проверку по поводу необоснованного обвинения в растрате. А косвенные улики, которые как будто указывали на растрату, в действительности оказались связанными с любовной интрижкой. Кассир подал иск, указывая, что он лишился места, был вынужден принимать меры предосторожности, так как оскорбленный муж грозил ему расправой, и, наконец, его выставили на посмешище, поскольку газетный репортер узнал и описал результаты психоскопической проверки, проведенной судом.
— Мне кажется, у этого кассира были основания для иска.
— Конечно. В том-то и беда. А кроме того, следует помнить еще один пункт: человек, один раз подвергнутый психоскопии по какой бы то ни было причине, не может быть подвергнут ей вторично. Нельзя дважды подвергать опасности психику человека, гласит закон.
— Не слишком-то удобный закон.
— Вот именно. Психоскопию узаконили два года назад, и за это время все воры и аферисты старались пройти психоскопию из-за карманной кражи, чтобы потом спокойно приниматься за крупные дела. Таким образом, наше Главное управление разрешит подвергнуть Пейтона психоскопии, только если против него будут собраны веские улики. И не обязательно веские с точки зрения закона — лишь бы поверило мое начальство. Самое скверное, доктор Эрт, что мы не можем передать дело в суд, не проведя психоскопической проверки. Убийство — слишком серьезное преступление, и, если обвиняемый не будет подвергнут психоскопии, даже самый тупой присяжный решит, что обвинение не уверено в своих позициях.
— Так что же вам нужно от меня?
— Доказательство того, что в августе Пейтон побывал на Луне. И оно мне нужно немедленно. Пейтон арестован по подозрению, и долго держать его под стражей я не могу. А если об этом убийстве кто-нибудь проведает, мировая пресса взорвется, как астероид, угодивший в атмосферу Юпитера. Ведь это же сенсационное преступление — первое убийство на Луне.
— Когда именно было совершено убийство? — тон Эрта внезапно стал деловым.
— Двадцать седьмого августа.
— Когда арестовали Пейтона?
— Вчера, тридцатого августа.
— Значит, если Пейтон — убийца, у него должно было хватить времени вернуться на Землю.
— Времени у него было в обрез. — Дейвенпорт сжал губы. — Если бы я не опоздал на день, если бы оказалось, что его дом пуст…
— Как по-вашему, сколько они всего пробыли на Луне, убийца и убитый?
— Судя по количеству следов, несколько дней. Не меньше недели.
— Корабль, на котором они летели, был обнаружен?
— Нет, и вряд ли он будет обнаружен. Часов десять назад обсерватория Денверского университета сообщила об увеличении радиоактивного фона, возникшем позавчера в шесть вечера и державшемся несколько часов. Ведь совсем нетрудно, доктор Эрт, установить приборы на корабле так, чтобы он взлетел без экипажа и взорвался примерно в пятидесяти милях от Земли от короткого замыкания в микрореакторах.
— На месте Пейтона, — задумчиво проговорил доктор Эрт, — я убил бы сообщника на борту корабля и взорвал бы корабль вместе с трупом.
— Вы не знаете Пейтона, — мрачно ответил Дейвенпорт. — Он упивается своими победами над законом. Он их смакует. Труп, оставленный на Луне, — это вызов нам.
— Вот как! — Эрт погладил себя по животу и добавил: — Что ж, возможно, мне это и удастся.
— Доказать, что он был на Луне?
— Составить свое мнение на этот счет.
— Теперь же?
— Чем скорее, тем лучше. Если, конечно, мне можно будет побеседовать с мистером Пейтоном.
— Это я устрою. Меня ждет антигравитационный реактивный самолет. Через двадцать минут мы будем в Вашингтоне.
На толстой физиономии экстратерролога выразилось глубочайшее смятение. Он вскочил и бросился в самый темный угол своей загроможденной вещами комнаты, подальше от агента ЗБР.
— Ни за что!
— В чем дело, доктор Эрт?
— Я не полечу на реактивном самолете. Я им не доверяю.
Дейвенпорт озадаченно уставился на доктора Эрта и пробормотал, запинаясь:
— А монорельсовая дорога?
— Я не доверяю никаким средствам передвижения, — отрезал доктор Эрт. — Не доверяю. Только пешком. Пешком — пожалуйста.
Потом он вдруг оживился.
— А вы не могли бы привезти мистера Пейтона в наш город, куда-нибудь поблизости? В здание муниципалитета, например? До муниципалитета мне дойти не трудно.
Дейвенпорт растерянно обвел глазами комнату. Кругом стояли бесчисленные тома, повествующие о световых годах. В открытую дверь соседнего зала виднелись сувениры далеких миров. Он перевел взгляд на доктора Эрта, который побледнел от одной только мысли о реактивном самолете, и пожал плечами:
— Я привезу Пейтона сюда. В эту комнату. Это вас устроит?
Доктор Эрт испустил вздох облегчения:
— Вполне.
— Надеюсь, у вас что-нибудь получится, доктор Эрт.
— Я сделаю все, что в моих силах, мистер Дейвенпорт.
Луис Пейтон брезгливо осмотрел комнату и смерил презрительным взглядом толстяка, любезно ему кивавшего. Он покосился на предложенный стул и, прежде чем сесть, смахнул с него рукой пыль. Дейвенпорт сел рядом, поправив кобуру бластера.
Толстяк с улыбкой уселся и стал поглаживать свое округлое брюшко, словно он только что отлично поел и хочет, чтобы об этом знал весь мир.
— Добрый вечер, мистер Пейтон, — сказал он. — Я доктор Уэнделл Эрт, экстратерролог.
Пейтон снова взглянул на него:
— А что вам нужно от меня?
— Я хочу знать, были ли вы в августе на Луне.
— Нет.
— Однако ни один человек на Земле не видел вас между первым и тридцатым августа.
— Я проводил август, как обычно. В этом месяце меня никогда не видят. Спросите хоть у него.
И Пейтон кивнул в сторону Дейвенпорта.
Доктор Эрт усмехнулся:
— Ах, если бы у вас был какой-нибудь объективный критерий! Если бы между Луной и Землей существовали какие-то физические различия. Скажем, мы сделали бы анализ пыли с ваших волос и сказали: «Ага, лунные породы». К сожалению, это невозможно. Лунные породы ничем не отличаются от земных. Да если бы даже они и отличались, у вас на волосах все равно не найти ни одной пылинки, разве что вы выходили на лунную поверхность без скафандра, а это маловероятно.
Пейтон слушал его, сохраняя полнейшее равнодушие.
Доктор Эрт продолжал, благодушно улыбаясь и поправляя рукой очки, которые плохо держались на его крохотном носике:
— Человек в космосе или на Луне дышит земным воздухом, ест земную пищу. И на корабле, и в скафандре он остается в земных условиях. Мы разыскиваем человека, который два дня летел на Луну, пробыл на Луне по крайней мере неделю и еще два дня потратил на возвращение на Землю. Все это время он сохранял вокруг себя земные условия, что очень усложняет нашу задачу.
— Мне кажется, — сказал Пейтон, — вы могли бы ее облегчить, если бы отпустили меня и начали поиски настоящего убийцы.
— Это не исключено, — сказал доктор Эрт. — Вы когда-нибудь видели что-либо подобное?
Он пошарил пухлой рукой на полу возле кресла и поднял серый шарик, который отбрасывал приглушенные блики.
Пейтон улыбнулся:
— Я бы сказал, что это поющий колокольчик.
— Да, это поющий колокольчик. Убийство было совершено ради поющих колокольчиков… Как вам нравится этот экземпляр?
— По-моему, он с большим изъяном.
— Рассмотрите его повнимательнее, — сказал доктор Эрт и внезапно бросил колокольчик Пейтону, который сидел от него в двух метрах.
Дейвенпорт вскрикнул и приподнялся на стуле. Пейтон вскинул руки и успел поймать колокольчик.
— Идиот! Кто же их так бросает, — сказал Пейтон.
— Вы относитесь к поющим колокольчикам с почтением, не правда ли?
— Со слишком большим почтением, чтобы их разбивать. И это по крайней мере не преступление.
Пейтон тихонько погладил колокольчик, потом поднял его к уху и слегка встряхнул, прислушиваясь к мягкому шороху осколков лунолита — маленьких кусочков пемзы, сталкивающихся в пустоте.
Затем, подняв колокольчик за вделанную в него проволочку, он уверенным и привычным движением провел ногтем большого пальца по выпуклой поверхности. И колокольчик запел. Звук был нежный, напоминающий флейту, — задрожав, он медленно замер, вызывая в памяти картину летних сумерек.
Несколько секунд все трое завороженно слушали.
А потом доктор Эрт сказал:
— Бросьте его мне, мистер Пейтон. Скорее!
И он повелительно протянул руку.
Машинально Луис Пейтон бросил колокольчик. Он описал короткую дугу и, не долетев до протянутой руки доктора Эрта, с горестным звенящим стоном вдребезги разбился на полу.
Дейвенпорт и Пейтон, охваченные одним чувством, молча смотрели на серые осколки и толком не расслышали, как доктор Эрт спокойно произнес:
— Когда будет обнаружен тайник, где преступник укрыл неотшлифованные колокольчики, я хотел бы получить безупречный и правильно отшлифованный экземпляр в качестве возмещения за разбитый и в качестве моего гонорара.
— Гонорара? За что же? — сердито спросил Дейвенпорт.
— Но ведь теперь все очевидно. Хотя несколько минут назад в моей маленькой речи я не упомянул об этом, но тем не менее одну земную особенность космический путешественник взять с собою не может… Я имею в виду силу земного притяжения. Мистер Пейтон очень неловко бросил столь ценную вещь, а это неопровержимо доказывает, что его мышцы еще не приспособились вновь к земному притяжению. Как специалист, мистер Дейвенпорт, я утверждаю: арестованный последнее время находился вне Земли. Он был либо в космическом пространстве, либо на какой-то планете, значительно уступающей Земле в размерах, например на Луне.
Дейвенпорт с торжеством вскочил на ноги.
— Будьте добры, дайте мне письменное заключение, — сказал он, положив руку на бластер, — и его будет достаточно, чтобы получить санкцию на применение психоскопии.
Луис Пейтон и не думал сопротивляться. Оглушенный случившимся, он сознавал только одно: в завещании ему придется упомянуть, что его блистательный путь завершился полным крахом.
Говорящий камень
Пояс астероидов велик, а его человеческое население мало. Ларри Вернадски на седьмом месяце своего годичного срока работы на станции 5 все чаще задумывался, компенсирует ли его заработок почти абсолютное одиночное заключение в семидесяти миллионах миль от Земли. Это умный юноша, лишенный внешности инженера-астронавта или шахтера астероидов. У него голубые глаза, масляно-желтые волосы и невыразимо невинное выражение, которое маскирует проницательный ум и обостренное изоляцией любопытство.
И невинная внешность, и любопытство хорошо послужили ему на борту «Роберта К.».
Когда «Роберт К.» причалил к внешней платформе станции, Вернадски почти немедленно оказался на борту. В нем чувствовалось радостное возбуждение, которое у собаки проявилось бы размахиванием хвоста и счастливым лаем.
То, что капитан «Роберта К.» встретил его улыбку кислым молчанием и мрачным выражением лица с тяжелыми чертами, не имело значения. По мнению Вернадски, корабль был желанным гостем. И мог пользоваться миллионами галлонов льда и тоннами замороженных пищевых концентратов, заложенных в выдолбленную сердцевину астероида, который и служил станцией 5. Сам Вернадски готов был предоставить любой инструмент и отремонтировать любую поломку гиператомных моторов.
Вернадски широко улыбался всем своим мальчишеским лицом, заполняя обычный бланк, записывая данные для дальнейшей передачи в компьютер. Он записал название корабля, его серийный номер, номер двигателя, номер генератора поля и так далее, порт погрузки («Астероиды, чертовское количество, не помню, как называется последний», и Вернадски записал просто «Пояс» — обычное сокращение вместо «пояс астероидов»); порт назначения («Земля»); причины остановки («перебои гиператомного двигателя»).
— Какой у вас экипаж, капитан? — спросил Вернадски, проглядывая документы.
Капитан ответил:
— Еще двое. Как насчет гиператомного? Нам некогда.
Щеки его были покрыты темной щетиной, внешность у него грубого шахтера, много лет проведшего на астероидах, но речь образованного, почти культурного человека.
— Конечно. — Вернадски прихватил сумку с инструментами и пошел за капитаном. С привычной эффективностью он проверял цепи, степень вакуума, напряженность поля.
Но не переставал удивляться капитану. Хоть самому ему окружение не нравилось, он смутно сознавал, что есть люди, которые находят очарование в обширной пустоте и свободе космоса. Но он понимал, что такой человек, как этот капитан, не станет шахтером из любви к одиночеству.
Он спросил:
— У вас какая-то особая руда?
Капитан нахмурился и ответил:
— Хром и марганец.
— Вот как?.. На вашем месте я бы сменил трубопровод Дженнера.
— Он виноват в неполадках?
— Нет. Но он очень изношен. Вы рискуете еще одной поломкой на ближайшем миллионе миль. И так как ваш корабль все равно здесь…
— Ладно, замените его. Но выясните причину перебоев.
— Стараюсь, капитан.
Последняя реплика капитана была достаточно резка, чтобы смутить и Вернадски. Он некоторое время работал молча, потом распрямился.
— У вас не в порядке отражатель гамма-лучей. Каждый раз как пучок позитронов делает круг, двигатель на мгновение замолкает. Вам придется заменить отражатель.
— Сколько времени это займет?
— Несколько часов. Может быть, двенадцать.
— Что? Я и так выбился из графика.
— Ничего не могу сделать. — Вернадски оставался оживленным. — Быстрее не получится. Систему нужно три часа промывать гелием, прежде чем я смогу войти туда. А потом нужно откалибровать новый отражатель, а на это требуется время. Конечно, я могу подсоединить его и сразу, но вы застрянете, еще не долетев до Марса.
Капитан нахмурился.
— Ладно. Начинайте.
Вернадски осторожно направлял бак с гелием к кораблю. Генераторы псевдогравитации на корабле выключены, и бак буквально ничего не весил, но обладал большой массой и соответствующей инерцией. Маневрирование было тем более затруднено, что сам Вернадски тоже ничего не весил. Он сосредоточил все внимание на цилиндре и потому свернул не туда в тесном корабле и оказался в незнакомом темном помещении.
Успел только удивленно выкрикнуть, и два человека набросились на него, вытолкнули вслед за ним цилиндр и закрыли дверь.
Он молча присоединил цилиндр к клапану мотора и вслушался в негромкий шелестящий звук: это гелий заполнял внутренности, медленно вымывая абсорбировавшийся радиоактивный газ во всеприемлющую пустоту космоса.
Потом любопытство победило благоразумие, и он сказал:
— У вас на борту силиконий, капитан. Большой.
Капитан медленно повернулся к Вернадски. Сказал голосом, лишенным всякого выражения:
— Правда?
— Я его видел. Нельзя ли взглянуть еще раз?
— Зачем?
Вернадски начал упрашивать.
— Послушайте, капитан, я на этой скале больше полугода. Прочел все, что мог об астероидах, значит и о силикониях. И никогда не видел даже маленького. Имейте сердце.
— Мне кажется, вам нужно работать.
— Гелий будет промывать еще несколько часов. Мне нечего тут делать. Как у вас оказался силиконий, капитан?
— Домашнее животное. Некоторые любят собак. Я — силикониев.
— Он говорит?
Капитан покраснел.
— Почему вы спрашиваете?
— Некоторые из них разговаривают. Даже могут читать мысли.
— Вы кто? Специалист по этим проклятым штукам?
— Я о них читал. Я ведь сказал вам. Ну, капитан. Позвольте мне взглянуть.
Вернадски сделал вид, что не замечает пристального взгляда капитана и появившихся у него по бокам двух остальных членов экипажа. Каждый их троих был крупнее его, тяжелее, каждый — он был в этом уверен — вооружен.
Вернадски сказал:
— А что такого? Я не собираюсь его красть. Просто хочу посмотреть.
Возможно, незаконченный ремонт сохранил ему жизнь. А может, видимость оживленной и почти тупоумной наивности сослужила ему хорошую службу.
Капитан сказал:
— Ну, ладно, пошли.
Вернадски пошел за ним, мозг его напряженно работал, пульс заметно участился.
Вернадски в благоговейном ужасе и с легким отвращением смотрел на серое существо. Он и правда не видел раньше силикония, однако видел трехмерные изображения и читал описания. Но в реальной близости есть нечто такое, что не передают никакие изображения и описания.
Кожа — маслянисто-гладкая серость. Движения медленные, как и полагается существу, живущему в камне и наполовину состоящему из камня. Под кожей не видны движения мышц; движется кусками, когда тонкие пластинки камня передвигаются относительно друг друга.
Яйцеобразная форма, закругленная вверху, сплюснутая внизу, с двумя наборами отростков. Внизу радиально размещенные «ноги». Их шесть, и они заканчиваются острыми кремнистыми краями, укрепленными металлическими включениями. Эти острые края разрезают камень, превращая его в съедобные порции.
На плоской нижней поверхности, скрытой от взгляда, если силиконий не перевернут, находится единственное отверстие в его организм. Расколотые камни просовываются в это отверстие. Внутри известняк и гидраты кремния вступают в реакцию, высвобождая кремний, из которого состоят ткани этого существа. Отбросы выходят в отверстие в виде твердых белых экскрементов.
Как ломали себе головы экстратеррологи над происхождением гладких булыжников, которые встречались в углублениях на поверхности астероидов, пока не были обнаружены силиконии! И как они дивились тому способу, которым эти создания заставляют силикон — кремнийорганический полимер с добавочной углеводородной цепью — выполнять так много функций, которые в земном организме выполняет протеин!
В высшей точке спины силикония располагаются еще два отростка, два перевернутых конуса с полостями, идущими в противоположных направлениях; конусы аккуратно укладываются в два углубления на спине, но существо может их слегка поднимать. Когда силиконий прорывает твердый камень, «уши» укрываются в углублениях, чтобы не нарушать обтекаемую форму. Находясь в вырубленной им пещере, силиконий может поднять «уши» для лучшей восприимчивости. Отдаленное сходство с кроличьими ушами делало название «силиконий» неизбежным[4]. Более серьезные экстратеррологи, обычно именующие это существо Siliconeus asteroidea, считали, что «уши» имеют отношения к рудиментам телепатии, которой обладают создания. У меньшинства другое мнение.
Силиконий медленно полз по испачканному нефтью камню. Другие такие же камни лежали в углу помещения и представляли собой, Вернадски это знал, пищу существа. Или по крайней мере то, из чего оно создавало свои ткани. Он читал, что этого недостаточно для необходимой энергии.
Вернадски удивился.
— Да это чудовище! Он больше фута в поперечнике.
Капитан уклончиво хмыкнул.
— Где вы его взяли? — спросил Вернадски.
— На одной из скал.
— Послушайте, никто не находил крупнее двух дюймов. Вы сможете продать этого какому-нибудь музею или университету за много тысяч долларов.
Капитан пожал плечами.
— Ну, посмотрели? Вернемся к гиператомным.
Он крепко сжал руку Вернадски и начал выводить его, когда послышался медленный скрипучий голос, произносимые им звуки чуть сливались.
Звуки произносили трущиеся друг о друга края камня, и Вернадски в ужасе смотрел на говорящего.
Силиконий неожиданно превратился в говорящий камень. Он сказал:
— Человек думает, может ли эта штука говорить.
Вернадски прошептал:
— Клянусь космосом, да!
— Ну, ладно, — нетерпеливо сказал капитан, — теперь вы его видели и слышали. Пошли.
— И он читает мысли, — сказал Вернадски.
Силиконий сказал:
— Марс оборачивается за два по четыре три седьмых и полминуты. Плотность Юпитера равна одной целой и двадцати двум сотым. Уран открыт в один семь восемь один. Плутон — планета, которая самая отдаленная. Масса Солнца два ноль ноль ноль ноль ноль…
Капитан вытащил Вернадски. Вернадски, спотыкаясь, зачарованно слушал, как стихают за ним эти нули.
Он спросил:
— Откуда он все это взял, капитан?
— Мы ему читали старую книгу по астрономии. Очень старую.
— Еще до начала космических путешествий, — с отвращением сказал один из членов экипажа. — Даже не книгофильм. Настоящая печать.
— Заткнись, — сказал капитан.
Вернадски время от времени проверял поступление гелия; наконец наступило время прекратить промывку и войти внутрь. Работа была трудоемкая, и Вернадски прервал ее только раз для кофе и небольшого отдыха.
С добродушной улыбкой на невинном лице он сказал:
— Знаете, как я себе это представляю, капитан? Эта штука всю жизнь провела внутри скалы, в каком-то астероиде. Может быть, сотни лет. Она очень большая и, наверно, гораздо умнее обычного силикония. И вот вы находите ее, и она узнает, что вселенная — это не скала. Она узнает триллионы вещей, о которых даже и не подозревала. Вот почему она заинтересовалась астрономией. Новый мир, новые идеи, которые есть в книге и в головах людей. Как вы думаете?
Он отчаянно хотел разговорить капитана, вытянуть у него что-нибудь конкретное, на чем можно строить свои умозаключения. По этой причине он рискнул сказать часть правды, вернее, то, что он считал правдой, ее меньшую часть.
Но капитан, прислонившись к стене с согнутыми руками, ответил только:
— Когда вы кончите?
Это были его последние слова, и Вернадски пришлось ими удовлетвориться. Он закончил работу, к своему удовлетворению, капитан заплатил требуемую сумму наличностью, получил расписку и улетел в блеске корабельной гиперэнергии.
Вернадски в почти невыносимом возбуждении следил за его отлетом. Он быстро направился к своему субэфирному передатчику.
— Я должен быть прав, — говорил он себе. — Должен быть.
Патрульный Милт Хокинс услышал вызов в своей одинокой квартире на патрульной станции астероида N72. Он утешался двухдневной щетиной, банкой ледяного пива и проектором фильмов, и постоянное меланхолическое выражение его румяного широкоскулого лица было таким же продуктом одиночества, как деланное оживление в глазах Вернадски.
Патрульный Хокинс увидел эти глаза и обрадовался. Хоть это всего лишь Вернадски, но общество есть общество. Он радостно приветствовал Вернадски, вслушиваясь в его голос и не очень вдумываясь в содержание слов.
И вдруг все веселье из его глаз исчезло, уши по-настоящему вступили в работу, и он сказал:
— Минутку. Минутку. О чем это вы говорите?
— Вы что, не слушали, вы, тупой коп? Я весь выкладываюсь!
— Давайте не все сразу, по частям. Что там насчет силикония?
— Он у этого парня на борту. Называет его домашним животным и кормит жирными камнями.
— Да? Шахтер на астероиде готов подружиться даже с куском сыра, если тот будет ему отвечать.
— Это не просто силиконий. Не один из этих маленьких зверьков в дюйм. Он больше фута в поперечнике. Не понимаете? Не понимаете? А я-то считал, что парень, который здесь живет, должен разбираться в астероидах.
— Ну, ладно. Допустим, вы мне объясните.
— Послушайте, из камней силиконий строит свои ткани, но откуда он берет энергию в таких количествах?
— Не могу вам сказать.
— Непосредственно от… рядом с вами никого нет?
— Нет. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь был.
— Через минуту не будете хотеть. Силиконии получают энергию прямым поглощением гамма-лучей.
— Кто это говорит?
— Парень по имени Уэнделл Эрт. Знаменитый экстратерролог. Больше того, он утверждает, что уши силикония именно для этого предназначены. — Вернадски приставил два пальца к вискам и повертел ими. — Совсем не для телепатии. Они поглощают гамма-излучение на таком уровне, какого не могут достигнуть наши приборы.
— Ну, хорошо. И что из этого? — спросил Хокинс. Но он задумался.
— А вот что. Эрт утверждает, что на астероидах гамма-излучения достаточно только для силикониев размером в один-два дюйма. Мало радиоактивности. А мы видим одного в добрый фут, целых пятнадцать дюймов.
— Ну…
— Значит он с астероида, набитого ураном, с огромным количеством гамма-лучей. Астероид этот должен быть теплым наощупь, и у него такая необычная орбита, что до сих пор его никто не обнаружил. Но, допустим, какой-нибудь парень случайно наткнулся на этот астероид, заметил его температуру и задумался. Капитан «Роберта К.» не невежественный шахтер. Он парень образованный.
— Продолжайте.
— Допустим, он начал отбирать образцы для проверки и наткнулся на гигантского силикония. И понял, что ему невероятно повезло. И пробы ему больше не нужны. Силиконий отведет его к богатым жилам.
— Почему?
— Потому что хочет узнать вселенную. Он провел, может быть, тысячу лет под камнем и только что обнаружил звезды. Он умеет читать мысли и может научиться разговаривать. И может заключить договор. Послушайте, капитан ухватится за это. Добыча урана — монополия государства. Шахтерам, не имеющим лицензии, не разрешается даже использовать счетчики. Для капитана это превосходная ситуация.
Хокинс сказал:
— Может, вы и правы.
— Вовсе не может быть. Видели бы вы, как они окружили меня, когда я смотрел на силикония. Готовы были схватить при одном неосторожном слове. И вытолкали через две минуты.
Хокинс провел рукой по щетине, мысленно оценивая, сколько времени потребуется на бритье. Он спросил:
— Сколько времени сможете вы продержать этого парня на станции?
— Продержать его? Космос, да он уже улетел!
— Что? Тогда какого дьявола вы тут треплетесь? Почему вы позволили ему уйти?
— Трое парней, — терпеливо объяснил ему Вернадски, — каждый крупнее меня, каждый вооружен и готов на убийство. Что я мог сделать?
— Но что нам теперь делать?
— Лететь и схватить их. Очень просто. Я исправлял их отражатель и сделал это по-своему. У них полностью отключилась энергия через десять тысяч миль. А в трубопроводе Дженнера я установил трейсер.
Хокинс уставился на улыбающееся лицо Вернадски.
— Святой Толедо!
— И никого с собой не берите. Только вы, я и полицейский крейсер. У них нет энергии, а у нас есть пушки. Они скажут нам, где урановый астероид. Мы его отыщем и только тогда свяжемся со штаб-квартирой Патруля. И доставим туда троих, можете сами пересчитать, троих урановых контрабандистов, одного гигантского силикония, какого никто на Земле и не видывал, и один, повторяю, один гигантский кусок урана. Такого тоже никто не видел. Вас производят в лейтенанты, а я получаю постоянную работу на Земле. Идет?
Хокинс был ошеломлен.
— Идет! выкрикнул он. — Сейчас буду!
Они почти догнали корабль, прежде чем увидели слабый блеск отражения Солнца.
Хокинс сказал:
— Вы им даже для корабельных огней не оставили энергии? Может, совершенно вывели из строя генератор?
Вернадски пожал плечами.
— Они экономят энергию, надеются, что кто-нибудь их подберет. Я уверен, что сейчас вся их энергия ушла на субэфирные вызовы.
— Если это и так, — сухо ответил Хокинс, — то я ничего не слышу.
— Не слышите?
— Ничего.
Полицейский крейсер приблизился. Добыча, с отключенной энергией, продолжала ползти на скорости десять тысяч миль в час.
Крейсер уравнял скорость и подошел еще ближе.
Лицо Хокинса искривилось.
— О, нет!
— В чем дело?
— Корабль пробит. Метеор. Бог свидетель, их достаточно в поясе астероидов.
Вся живость пропала с лица Вернадски и из его голоса.
— Пробит? У них авария?
— В борту отверстие размером с амбарную дверь. Мне жаль, Вернадски, но дело плохо.
Вернадски закрыл глаза и с трудом глотнул. Он знал, что имеет в виду Хокинс. Вернадски сознательно вывел из строя корабль, что может считаться уголовным преступлением. А результатом преступления является убийство.
Он сказал:
— Послушайте, Хокинс, вы ведь знаете, почему я это сделал.
— Знаю то, что вы мне сказали, и расскажу это под присягой, если понадобится. Но если бы корабль не был выведен из строя…
Он не закончил предложение. Незачем было.
В космических костюмах они вошли в разбитый корпус «Роберта К.».
Снаружи и внутри корабль представлял собой жалкое зрелище. Без энергии у него не было ни малейшей возможности создать защитный экран или попробовать избежать ударивший их камень, если они вовремя заметили его. Метеор прорвал борт корабля, как будто тот был сделан из алюминия. Он разбил рулевую рубку, выпустил из корабля воздух и убил весь экипаж.
Один из его членов был от удара прижат к стене и превратился в мороженое мясо. Капитан и другой член экипажа лежала в неожиданных позах, кожа их была покрыта замерзшей кровью: воздух закипел в крови и разорвал сосуды.
Вернадски, который никогда не видел такую смерть, затошнило, но он подавил рвоту, боясь запачкать изнутри скафандр.
Он сказал:
— Давайте проверим их руду. Она должна быть горячей.
Должна быть, повторял он про себя. Должна быть.
Дверь в трюм искривилась от удара, между дверью и рамой образовалась щель в полдюйма шириной.
Хокинс поднял счетчик, встроенный в перчатку, и поднес слюдяное окошко к щели.
Счетчик затрещал, как миллион сорок.
Вернадски с внутренним облегчением сказал:
— Я вам говорил.
Теперь вывод им из строя корабля являлся только выполнением долга законопослушного гражданина, а столкновение с метеором, приведшее к смерти экипаж, всего лишь несчастным случаем.
Потребовалось два выстрела из бластера, чтобы открыть дверь. Лучи их фонариков осветили тонны руды.
Хокинс поднял два куска среднего размера и осторожно положил в карман скафандра.
— Образцы, — сказал он, — для проверки.
— Не держите их долго рядом с собой, — предупредил Вернадски.
— До возвращения на корабль меня защитит скафандр. Это не чистый уран.
— Почти чистый, бьюсь об заклад. — Вернадски снова превратился в наскакивающего петушка.
Хокинс осмотрелся.
— Ну что ж, кое-что ясно. Мы предотвратили контрабандный рейс, может быть, часть крупной операции. Но что дальше?
— Урановый астероид…
— Верно. Но где он? Те, кто знал, мертвы.
— Космос! — Вернадски снова упал духом. Без астероида у них на руках только три трупа и несколько тонн урановой руды. Хорошо, но не великолепно. Он заслужит благодарность, но она ему не нужна. Ему нужна постоянная работа на Земле, а для этого нужно еще кое-что.
Он закричал:
— Ради любви космоса, силиконий! Он живет в вакууме и знает, где астероид.
— Верно! — сказал с ожившим энтузиазмом Хокинс. — Где он?
— На корме! — воскликнул Вернадски. — Сюда.
Силиконий блестел в свете их фонарей. Он двигался и был жив.
Сердце Вернадски сильно забилось.
— Надо перетащить его, Хокинс.
— Зачем?
— Звуки не распространяются в вакууме. Надо его доставить на крейсер.
— Ладно. Ладно.
— Нельзя надеть на него костюм с радиопередатчиком.
— Я сказал ладно.
Они осторожно перенесли силикония, чуть не с любовью касаясь закованными в металл пальцами его кожи.
Хокинс держал его, отталкиваясь от «Роберта К.».
Силиконий находился в контрольной рубке крейсера. Люди сняли шлемы, и Хокинс снимал костюм. Вернадски не стал ждать.
Он спросил:
— Ты можешь читать наши мысли?
И затаил дыхание, пока скрежет камня о камень не превратился в слова. Для Вернадски в тот момент не было звуков приятнее.
Силиконий сказал:
— Да. — И потом: — Пустота вокруг. Ничто.
— Что? — спросил Хокинс.
Вернадски ответил:
— Наверно, путь через пространство только что. На него это произвело впечатление.
Он обратился к силиконию, выкрикивая слова, будто от этого мысль становилась яснее:
— Люди, которые были с тобой, собирали уран, специальные руды, радиацию, энергию?
— Они хотели пищу, — послышался слабый скрипучий ответ.
Конечно! Для силикония это пища. Его источник энергии. Вернадски спросил:
— Ты им показал, где она?
— Да.
Хокинс сказал:
— Я с трудом его слышу.
— Что-то с ним неладно, — обеспокоенно ответил Вернадски. Он снова закричал: — Как ты себя чувствуешь?
— Нехорошо. Воздух ушел сразу. Что-то плохо внутри.
Вернадски прошептал:
— Ему повредила неожиданная декомпрессия. О, Боже! Послушай, ты знаешь, что мне нужно. Где твой дом? Место, где есть пища?
Двое молча ждали.
Силиконий медленно поднял уши, они поднялись очень медленно, дрожа, и снова упали.
— Там, — сказал он.
— Где? — закричал Вернадски.
— Там.
Хокинс сказал:
— Он что-то делает. Куда-то показывает.
— Конечно, но мы не знаем, куда.
— А что он может сделать? Дать координаты?
Вернадски сразу ответил:
— Почему бы и нет?
Он снова повернулся к силиконию, который неподвижно лежал на полу. Его кожа зловеще потускнела.
Вернадски сказал:
— Капитан знал, где твое место пищи. Он знал числа, верно?
Он молился, чтобы силиконий понял: ведь он не только слышал слова, но и читал мысли.
— Да, — ответил силиконий звуком трения камня о камень.
— Три набора чисел, — сказал Вернадски. Должно быть именно три. Три координаты в космосе с обязательным обозначением дат, они дают расположение астероида на его орбите вокруг Солнца. Из этих данных можно рассчитать всю орбиту и положение астероида в любой момент. Даже можно грубо учесть планетарные возмущения.
— Да, — сказал силиконий еще тише.
— Какие они? Какие числа? Запишите, Хокинс. Возьмите бумагу.
Но силиконий сказал:
— Не знаю. Числа не важны. Место еды там.
Хокинс сказал:
— Это ясно. Ему не нужны координаты, поэтому он на них не обратил внимания.
Силиконий произнес:
— Скоро не… — долгая пауза, потом медленно, как будто испытывая незнакомое слово… — живой. Скоро… — еще более долгая пауза… — мертвый. Что после смерти?
— Держись, — умолял Вернадски. — Скажи, капитан записал где-нибудь эти числа?
Силиконий долго не отвечал, двое людей нагнулись над умирающим камнем, так что головы их чуть не столкнулись. Потом повторил:
— Что после смерти?
Вернадски крикнул:
— Один ответ! Только один! Капитан должен был записать эти числа. Где? Где?
Силиконий прошептал:
— На астероиде.
И больше ничего не говорил.
Теперь это был мертвый камень, такой же мертвый, как породившая его скала, как стены корабля, мертвый, как мертвец.
Вернадски и Хокинс поднялись с колен и беспомощно взглянули друг на друга.
— Бессмыслица, — сказал Хокинс. — Зачем ему записывать координаты на астероиде? Все равно что закрыть ключ в шкафу, который он должен открывать.
Вернадски покачал головой.
— Целое состояние в уране. Величайшая находка в истории, а мы не знаем, где это.
Сетон Дейвенпорт огляделся со странным ощущением удовольствия. Даже на отдыхе в его лице с четкими чертами и выдающимся носом было что-то жесткое. Шрам на правой щеке, черные волосы, поразительные брови, смуглая кожа — все соответствовало облику неподкупного агента Земного бюро расследований, кем он на самом деле и был.
Но теперь что-то вроде улыбки появилось на его губах, когда он осматривал большую комнату. Полумгла в ней делала бесконечными ряды книгофильмов, а образцы Бог-знает-чего Бог-знает-откуда — еще более загадочными. Полный беспорядок, впечатление уединения, почти изоляции от мира придавало помещению нечто нереальное. Так же, как и его владельцу.
Этот владелец сидел в кресле-столе, единственном ярком пятне в полумраке. Он медленно просматривал страницы официального отчета. Руки его, помимо этого, поминутно поправляли толстые очки, которые угрожали свалиться с короткого не производящего никакого впечатления носа. Животик медленно поднимался и опускался.
Это был доктор Уэнделл Эрт, который, если мнение экспертов чего-нибудь стоит, являлся самым выдающимся экстратеррологом Земли. По всем вопросам, связанным с внеземным пространством, обращались к нему, хотя сам он в своей взрослой жизни и на час не удалялся за пределы университетского кампуса.
Он серьезно посмотрел на инспектора Дейвенпорта.
— Очень умный человек, этот молодой Вернадски, — сказал он.
— Вывел все это из присутствия силикония? Вы правы, — согласился Дейвенпорт.
— Нет, нет. Этот вывод очевиден. Неизбежен, в сущности. И дебил увидел бы его. Я имел в виду, — взгляд его стал чуть менее строгим, — тот факт, что молодой человек читал мои работы, касающиеся чувствительности к излучению Siliconeus asteroidea.
— А, да, — сказал Дейвенпорт. Конечно, доктор Эрт специалист по силикониям. Именно поэтому Дейвенпорт обратился к нему за консультацией. У него только один вопрос к этому человеку, простой вопрос, но доктор Эрт выпятил свои полные губы, потряс большой головой и затребовал все документы, касающиеся этого случая.
Обычно это желание даже не рассматривалось бы, но доктор Эрт недавно оказался очень полезен ЗБР в деле поющих колокольчиков, и инспектор сдался.
Доктор Эрт кончил читать, положил листки на свой стол, вытащил рубашку из-под пояса и с удовлетворенным видом протер ею очки. Посмотрел сквозь очки на свет, чтобы проверить, хорошо ли он их протер, потом снова ненадежно посадил на нос и сцепил руки на животе, переплетя короткие пальцы.
— Повторите ваш вопрос, инспектор.
Дейвенпорт терпеливо сказал:
— Правда ли, по вашему мнению, что силиконий такого размера, как описанный в отчете, может вырасти на астероиде, богатом ураном…
— Радиоактивными материалами, — прервал его доктор Эрт. — Торием, хотя вероятнее всего — ураном.
— Ваш ответ да?
— Да.
— Какого размера должен быть этот астероид?
— Может, милю в диаметре, — задумчиво ответил экстратерролог. — Возможно, и больше.
— И сколько там может быть тонн урана или радиоактивных материалов?
— Триллионы. Как минимум.
— Не согласитесь ли все это выразить в виде письменного заключения?
— Конечно.
— Очень хорошо, доктор Эрт. — Дейвенпорт встал и протянул одну руку за шляпой, другую — за листочками на столе. — Это все, что нам нужно.
Но доктор Эрт придвинул отчеты к себе и прижал их рукой.
— Подождите. Как вы найдете этот астероид?
— Будем искать. Распределим пространство между кораблями, которые нам доступны, и… будем искать.
— Расходы, время, усилия. И так вы никогда не найдете.
— Один шанс на тысячу. Но можем найти.
— Один шанс на миллион. Не найдете.
— Но мы не можем упустить этот уран, даже не попытавшись. Ваше профессиональное мнение делает цену находки очень высокой.
— Но есть лучший способ найти астероид. Я могу его найти.
Дейвенпорт бросил на экстратерролога неожиданный пристальный взгляд. Вопреки своей внешности, доктор Эрт был чем угодно, только не дураком. Инспектор имел возможность лично в этом убедиться. Поэтому в его голосе появилась надежда, когда он спросил:
— Как вы его найдете?
— Вначале, — сказал доктор Эрт, — моя цена.
— Цена?
— Или оплата, если угодно. Когда правительство отыщет астероид, на нем может оказаться другой силиконий большого размера. Силиконии очень ценны. Это единственная форма жизни с тканями из твердого силикона и кровообращением из жидкого силикона. От них может зависеть ответ на вопрос, были ли когда-то астероиды одной планетой. И множество других проблем… Понимаете?
— Вы хотите, чтобы вам доставили большого силикония?
— Живым и здоровым. И бесплатно. Да.
Дейвенпорт кивнул.
— Я уверен, правительство согласится. Так что у вас на уме?
Доктор Эрт ответил негромко, так, будто его слова все объясняют:
— Ответ силикония.
Дейвенпорт удивленно посмотрел на него.
— Какой ответ?
— Тот, что в отчете. Перед смертью силикония. Вернадски спросил его, записал ли капитан координаты, и силиконий ответил «На астероиде».
На лице Дейвенпорта появилось разочарованное выражение.
— Великий космос, доктор, мы это знаем и продумали все возможности. Все. Это ничего не значит.
— Совсем ничего, инспектор?
— Ничего важного. Перечтите отчет. Силиконий даже не слушал Вернадски. Он чувствовал, что жизнь покидает его, и думал об этом. Он дважды спросил: «Что после смерти?» Потом, когда Вернадски продолжал спрашивать, сказал «На астероиде». Вероятно, он и не слышал вопроса Вернадски. Он отвечал на собственный вопрос. Думал, что после смерти вернется на свой астероид, в свой дом, где снова будет в безопасности. Вот и все.
Доктор Эрт покачал головой.
— Вы поэт, инспектор. У вас слишком сильное воображение. Это интересная проблема, посмотрим, сумеете ли вы решить ее сами. Предположим, слова силикония — это ответ Вернадски.
— Даже если это так, — нетерпеливо ответил Дейвенпорт, — чем это нам поможет? На каком астероиде? На урановом? Но мы не можем найти его, следовательно, не можем найти и координаты. Какой-то другой астероид, который «Роберт К.» использовал в качестве базы? И его мы не можем найти.
— Вы не видите очевидного, инспектор. Почему вы не спрашиваете себя, что слова «на астероиде» значат для силикония? Не для вас или для меня, а для силикония?
Дейвенпорт нахмурился.
— Простите, доктор?
— Я говорю ясно. Что для силикония значит астероид?
— Силиконий узнал о космосе из астрономической книги, которую ему прочли. Наверно, в этой книге объясняется, что такое астероид.
— Совершенно верно, — согласился доктор Эрт и поднес палец к боку своего курносого носа. — А каково определение астероида? Маленькое тело, меньше планет, двигающееся вокруг Солнца по орбите, которая в целом расположена между Марсом и Юпитером. Вы согласны?
— Как будто.
— А что такое «Роберт К.»?
— Вы имеете в виду корабль?
— Это вы его так называете, — сказал доктор Эрт. — Корабль. Но книга по астрономии очень старая. В ней не упоминаются космические корабли. Один из членов экипажа сказал это. Он сказал, что она вышла до космических полетов. Так что такое «Роберт К.»? Разве это не маленькое тело, меньше планет? И с силиконием на борту разве оно не двигалось по орбите, которая в целом расположена между Марсом и Юпитером?
— Вы хотите сказать, что силиконий считал корабль астероидом и, когда он говорил «на астероиде», имел в виду «на корабле»?
— Совершенно верно. Я ведь сказал, что вы сами решите эту проблему.
Мрачное выражение лица инспектора не сменилось радостью или облегчением.
— Это не решение, доктор.
Но доктор Эрт медленно моргнул, и ласковое выражение его лица, если это возможно, стало еще более ласковым и детским, полным искреннего удовольствия.
— Конечно, это решение.
— Вовсе нет. Доктор Эрт, мы не рассуждали, как вы. Мы никакого внимания не обратили на слова силикония. Но разве мы не обыскали «Роберт К.»? Мы разняли его на кусочки, плиту за плитой. Разве что не распаяли его корпус.
— И ничего не нашли?
— Ничего.
— Но, может, вы не там искали.
— Мы искали всюду. — Он встал, как бы собираясь уходить. — Понимаете, доктор Эрт? Когда мы закончили обыск корабля, там не осталось ничего, на чем могут быть записаны координаты.
— Садитесь, инспектор, — спокойно сказал доктор Эрт. — Вы все еще не совсем верно понимаете слова силикония. Силиконий изучил английский, слушая слово здесь, слово там. Он не владеет английскими идиомами. Некоторые его слова показывают это. Например, он сказал «планета, которая самая отдаленная», а не просто «самая далекая планета». Понимаете?
— Ну и что?
— Тот, кто не владеет идиомами языка, либо использует идиомы родного языка, переводя их слово за словом, либо использует иностранные слова в их буквальном значении. У силикония нет собственного разговорного языка, поэтому он должен воспользоваться вторым методом. Поэтому его слова следует понимать буквально. Он сказал «на астероиде», инспектор. На нем. Он не имел в виду листок бумаги, он имел в виду сам корабль, буквально.
— Доктор Эрт, — печально сказал Дейвенпорт, — когда Бюро обыскивает, оно обыскивает. Никаких загадочных надписей на корабле тоже нет.
Доктор Эрт выглядел разочарованным.
— Инспектор, я все еще надеюсь, что вы увидите ответ. У вас ведь столько ключей.
Дейвенпорт медленно вздохнул. Дышалось ему трудно, но голос его стал еще спокойнее.
— Не скажете ли, что вы имеете в виду, доктор?
Доктор Эрт одной рукой похлопал свой уютный животик и поправил очки.
— Разве вы не понимаете, инспектор, что есть на корабле место, где тайные числа будут в полной сохранности? Оставаясь у всех на виду, он в то же время не привлекут ничьего внимания. И хоть на них смотрят сотни глаз, никто ничего не видит. Кроме, разумеется, человека с острым умом.
— Где? Назовите это место?
— Ну, конечно, в таких местах, где уже есть номера. Совершенно нормальные номера. Законные номера. Номера, которые и должны быть здесь.
— О чем вы говорите?
— Серийный номер корабля, выжженный на корпусе. На корпусе, заметьте. Номер двигателя, номер генератора поля. И несколько других. Каждый выточен на неотъемлемой части корабля. На корабле, как и сказал силиконий. На корабле.
В неожиданном понимании взметнулись густые брови Дейвенпорта.
— Вы, возможно, правы. И если вы правы, я надеюсь, мы найдем вам силикония, вдвое больше по размеру «Роберта К.». Такого, который не только говорит, но и высвистывает «Вперед, астероиды, навсегда!» — Он торопливо схватил досье, полистал его и извлек официальный бланк ЗБР. — Конечно, мы записали все найденные идентификационные номера. — Он расправил листок. — Если три из них напоминают координаты…
— Следует ожидать некоторых усилий в маскировке, — заметил доктор Эрт. — Вероятно, будут добавлены буквы или цифры, чтобы выглядело более законно.
Он взял блокнот и протянул другой инспектору. Некоторое время они молча списывали номера, пытались производить перестановки и сопоставления.
Наконец Дейвенпорт испустил вздох смешанного удовлетворения и разочарования.
— Сдаюсь, — сказал он. — Я думаю, вы правы: номера двигателя и калькулятора явно представляют собой зашифрованные координаты и даты. Они не похожи на нормальные серии, и из них легко вывести точные данные. Это дает нам два набора, но я готов принести присягу, что все остальные совершенно законные серийные номера. А вы что обнаружили, доктор?
Доктор Эрт кивнул.
— Я согласен. У нас есть две координаты, и мы знаем, где находится третья.
— Знаем? Но откуда… — Инспектор смолк, прервав собственное восклицание. — Конечно! Номер самого корабля, которого тут нет… потому что именно в это место корпуса ударил метеор… боюсь, что ничего с вашим силиконием не получится, доктор. — Потом его тяжелое лицо прояснилось. — Но я не дурак. Номер исчез, но мы можем его немедленно получить в Межпланетном Регистре.
— Боюсь, — сказал доктор Эрт, — что я вынужден оспорить по крайней мере последнее ваше утверждение. В Регистре зафиксирован первоначальный законный номер, а не замаскированные координаты, нанесенные капитаном.
— И именно это место на корпусе, — сказал инспектор. — И из-за этого случайного попадания астероид может быть потерян навсегда. Какой толк от двух координат без третьей?
— Ну, — рассудительно сказал доктор Эрт, — для двухмерного существа очень большой толк. Но существа нашего измерения, — он похлопал себя по животу, — нуждаются в третьей координате. К счастью, она у меня есть!
— В досье ЗБР? Но мы только что проверили весь список номеров…
— Ваш список, инспектор. Но в досье имеется также первоначальный отчет молодого Вернадски. И, конечно, там имеется серийный номер «Роберта К.», под которым он зарегистрировался на ремонтной станции и который представляет собой замаскированную третью координату: не к чему было давать возможность ремонтнику замечать несоответствие.
Дейвенпорт схватил блокнот и листок Вернадски. Недолгие расчеты, и он улыбнулся.
Доктор Эрт с довольным видом встал из-за стола и направился к двери.
— Всегда приятно повидаться с вами, инспектор Дейвенпорт. Приходите еще. И помните: правительство получит уран, а я хочу получить нечто очень важное для меня: гигантского силикония, живого и в хорошем состоянии.
Он улыбался.
— И предпочтительно, — сказал Дейвенпорт, — умеющего насвистывать.
Что он делал сам, выходя.
Ночь, которая умирает
Это отчасти походило на заранее организованную встречу бывших соучеников, и хотя их свидание было безрадостным, поначалу ничто не предвещало трагедии.
Эдвард Тальяферро, только что прибывший с Луны, встретился с двумя своими бывшими однокашниками в номере Стенли Конеса. Когда он вошел, Конес встал и сдержанно поздоровался с ним, а Беттерсли Райджер ограничился кивком.
Тальяферро осторожно опустил на диван свое большое тело, ни на миг не переставая ощущать его непривычную тяжесть. Его пухлые губы, обрамленные густой растительностью, скривились, лицо слегка передернулось.
В этот день они уже успели повидать друг друга, правда, в официальной обстановке. А сейчас встретились без посторонних.
— В некотором смысле это знаменательное событие, — произнес Тальяферро. — Впервые за десять лет мы собрались все вместе. Ведь это наша первая встреча после окончания колледжа.
По носу Райджера прошла судорога — ему перебили нос перед самым выпуском, и когда Райджер получал свой диплом астронома, его лицо было обезображено повязкой.
— Кто-нибудь догадался заказать шампанское или что там еще под стать такому торжеству? — брюзгливо проворчал он.
— Хватит! — рявкнул Тальяферро. — Первый Межпланетный съезд астрономов не повод для скверного настроения. Тем более оно неуместно при встрече друзей!
— В этом виновата Земля, — точно оправдываясь, проговорил Конес. — Все мы чувствуем себя здесь не в своей тарелке. Я вот, хоть убей, не могу привыкнуть…
Он с силой тряхнул головой, но ему не удалось согнать с лица угрюмое выражение.
— Вполне с тобой согласен, — сказал Тальяферро. — Я сам кажусь себе настолько тяжелым, что еле таскаю ноги. Однако ты, Конес, должен чувствовать себя неплохо, ведь сила тяжести на Меркурии — четыре десятых той, к которой мы когда-то привыкли на Земле, а у нас, на Луне, она составляет всего лишь шестнадцать сотых.
Остановив жестом Райджера, который попытался было что-то возразить, Тальяферро продолжал:
— Что касается Цереры, то там, насколько мне известно, создано искусственное гравитационное поле в восемь десятых земного. Поэтому тебе, Райджер, куда легче освоиться на Земле, чем нам.
— Все дело в открытом пространстве, — раздраженно произнес астроном, недавно покинувший Цереру. — Никак не привыкну, что можно выйти из помещения без скафандра. На меня угнетающе действует именно это.
— Он прав, — подтвердил Конес. — Мне еще вдобавок кажется диким, как тут, на Земле, люди существуют без защиты от солнечного излучения.
У Тальяферро возникло ощущение, будто он переносится в прошлое.
«Райджер и Конес почти не изменились», — подумал он. Да и сам он тоже. Все они, естественно, стали на десять лет старше. Райджер поприбавил в весе, а на худощавом лице Конеса появилось жестковатое выражение. Однако встреться они неожиданно, он сразу узнал бы обоих.
— Не будем вилять. Мне думается, причина не в том, что мы сейчас находимся на Земле, — сказал он.
Конес метнул в его сторону настороженный взгляд. Он был небольшого роста, и одежда, которую он носил, обычно казалась для него чуть великоватой. Движения его рук были быстры и нервны.
— Ты имеешь в виду Вильерса?! — воскликнул он. — Да, я нередко его вспоминаю. — И добавил с каким-то надрывом: — Тут как-то получил от него письмо.
Райджер выпрямился, его оливкового цвета лицо еще больше потемнело.
— Ты получил от него письмо? Давно?
— Месяц назад.
— А ты? — Райджер повернулся к Тальяферро.
Тот, невозмутимо сощурив глаза, утвердительно кивнул.
— Не иначе как он сошел с ума, — заявил Райджер. — Утверждает, будто ему удалось открыть способ мгновенного перенесения любой массы на любые расстояния… Способ телепортации. Он вам писал об этом?.. Тогда все ясно. Он и прежде был с приветом, а теперь, судя по всему, свихнулся окончательно.
Райджер яростно потер нос, и Тальяферро вспомнил тот день, когда Вильерс с размаху вмазал ему кулаком в лицо.
Десять лет образ Вильерса преследовал их как смутная тень вины, хотя на самом деле им не в чем было упрекнуть себя. Тогда их было четверо, и они готовились к выпускным экзаменам. Четверо избранных, всецело посвятивших себя одному делу, осваивавших профессию, которая в этот век межпланетных полетов достигла невиданных доселе высот.
На планетах Солнечной системы, где отсутствие атмосферы создает наиболее благоприятные условия для наблюдений, строились обсерватории.
Появилась обсерватория и на Луне. Ее купол одиноко стоял посреди безмолвного мира, в небе которого неподвижно висела родная Земля.
Обсерватория на Меркурии, самая близкая к Солнцу, располагалась на северном полюсе планеты, где показания термометра почти всегда оставались одни и те же, а Солнце не меняло своего положения по отношению к горизонту, что позволяло изучать его во всех деталях.
Исследования, которые велись обсерваторией на Церере, самой молодой, а потому оборудованной по последнему слову техники, охватывали пространство от Юпитера до дальних галактик.
Работа в этих обсерваториях, безусловно, имела свои недостатки. Люди еще не преодолели всех трудностей межпланетного сообщения, и астрономы редко проводили отпуск на Земле, а создать им нормальные условия жизни на местах пока не удавалось. Тем не менее их поколение было поколением счастливчиков. Ученым, которые придут им на смену, достанется поле деятельности, с которого уже снят обильный урожай, и пока Человек не вырвется за пределы Солнечной системы, едва ли перед астрономами откроются горизонты пошире нынешних.
Каждому из четырех счастливчиков — Тальяферро, Райджеру, Конесу и Вильерсу предстояло оказаться в положении Галилея, который, владея первым настоящим телескопом, мог в любой точке неба сделать великое открытие.
И вот тут-то Ромеро Вильерса свалил тяжелый приступ ревматизма. Кто в том виноват? Болезнь оставила ему в наследство слабое, едва справлявшееся со своей работой сердце.
Из всех четверых он был самым талантливым, самым целеустремленным, подавал самые большие надежды, а в результате даже не смог окончить колледж и получить диплом астронома. Но что хуже всего — ему навсегда запретили покидать Землю: ускорение при взлете космического корабля неминуемо убило бы его.
Тальяферро послали на Луну, Райджера — на Цереру, Конеса — на Меркурий. А Вильерс остался вечным пленником Земли.
Они пытались высказать ему свое сочувствие, но Вильерс с яростью отвергал все знаки внимания, осыпая друзей проклятиями. Однажды, когда Райджер, на миг потеряв самообладание, замахнулся на него, Вильерс с диким воплем бросился на недавнего товарища и размозжил ему нос ударом кулака.
Судя по тому, что Райджер то и дело осторожно поглаживал переносицу, этот случай не изгладился в его памяти.
Конес в нерешительности сморщил лоб, который стал от этого похож на стиральную доску.
— Он ведь тоже приехал на съезд. Ему даже предоставили номер в отеле…
— Мне б не хотелось с ним встречаться, — заявил Райджер.
— Он придет сюда в девять. Сказал, что ему необходимо нас повидать, и мне показалось… Его можно ждать с минуты на минуту.
— Если вы не против, я лучше уйду, — поднимаясь, сказал Райджер.
— Погоди! — остановил его Тальяферро. — Ну что будет, если вы встретитесь?
— Я предпочел бы уйти: не вижу смысла в нашей встрече. Он же чокнутый.
— А если и так? Будем выше этого. Ты что, боишься его?
— Боюсь?! — возглас Райджера был полон презрения.
— Хорошо, скажу иначе: тебя это волнует. Но почему?
— Я совершенно спокоен, — возразил Райджер.
— Брось, это и слепому видно. Каждый из нас чувствует себя виноватым, хотя для этого нет никаких оснований. Все произошло помимо нас.
Но в голосе Тальяферро не было уверенности — он словно перед кем-то оправдывался, сам отлично это сознавая.
В этот миг раздался звонок, все трое невольно вздрогнули и повернули головы к двери, глядя на этот барьер, который пока отделял их от Вильерса.
Дверь распахнулась, и вошел Ромеро Вильерс. Все неловко встали, чтобы поздороваться с ним, да так в замешательстве и остались стоять. Никто не протянул ему руки.
Вильерс смерил их сардоническим взглядом.
«Вот кто сильно изменился», — подумал Тальяферро.
Что правда, то правда. Тело Вильерса словно бы уменьшилось, усохло, да и сутулость не прибавляла роста. Сквозь поредевшие волосы просвечивала кожа черепа, а кисти рук оплетали вздутые синеватые вены. Он выглядел тяжелобольным, в нем ничего не осталось от того Вильерса, каким они его помнили, разве что характерный жест — желая что-либо рассмотреть, он козырьком приставлял руку ко лбу, — да еще ровный сдержанный голос баритонального тембра — они его вспомнили, как только он заговорил.
— Привет, друзья! Мои шагающие по космосу друзья! Мы давно потеряли связь друг с другом, — произнес он.
— Привет, Вильерс, — отозвался Тальяферро.
Вильерс впился в него взглядом:
— Ты здоров?
— Вполне.
— И вы оба тоже?
Конес слабо улыбнулся и что-то пробормотал.
— У нас все в порядке, Вильерс. К чему ты клонишь?! — взорвался Райджер.
— Он все такой же сердитый, наш Райджер, — сказал Вильерс. — Что слышно на Церере?
— Когда я ее покидал, она процветала. А как поживает Земля?
— Сам увидишь, — сразу как-то сжавшись, ответил Вильерс и, немного помолчав, продолжал: — Надеюсь, вы прибыли на съезд, чтобы прослушать мой доклад? Я выступлю послезавтра.
— Твой доклад? Что за доклад? — удивился Тальяферро.
— Я же писал вам. Я собираюсь доложить съезду об изобретенном мною способе мгновенного перенесения массы, о так называемой телепортации.
Райджер криво улыбнулся:
— Да, ты писал об этом. Однако ни словом не обмолвился, что собираешься выступать на съезде. Кстати, я что-то не заметил твоего имени в списке докладчиков. Уж на него-то я несомненно обратил бы внимание.
— Ты прав, меня нет в списке. Я даже не подготовил тезисы для публикации.
Вильерс покраснел, и Тальяферро поспешил успокоить его:
— Будет тебе, Вильерс, пожалей нервы. У тебя нездоровый вид. Вильерс резко повернулся к нему, губы его презрительно скривились.
— Благодарю за заботу. Мое сердце пока еще тянет.
— Послушай-ка, Вильерс, — произнес Конес, — если тебя не внесли в список докладчиков и не опубликовали тезисы, то…
— Нет, это ты послушай. Я ждал своего часа десять лет. У вас у всех есть работа в космосе, а я вынужден преподавать в какой-то паршивой школе на Земле, и это я, который способнее всех вас вместе взятых.
— Допустим… — начал было Тальяферро.
— Я не нуждаюсь в вашем сочувствии. Я проделал свой эксперимент на глазах у самого Мендела. Полагаю, вам знакомо это имя. Здесь, на съезде, Мендел является председателем секции астронавтики. Я продемонстрировал ему свою аппаратуру. Собранная наскоро, она сгорела после первого же эксперимента, однако… Вы меня слушаете?
— Да. Но настолько, насколько твои слова заслуживают внимания, — холодно ответил Райджер.
— Мендел даст мне возможность сделать доклад в той форме, которую я сочту удобной для себя. Бьюсь об заклад, он это сделает. Я буду говорить без предупреждения, без всякой рекламы. Я обрушусь на них, точно бомба. Как только я сообщу основную информацию, съезд закроется. Ученые тут же разбегутся по своим лабораториям, чтобы проверить мои расчеты, и с ходу начнут монтировать аппаратуру. И они убедятся, что она действует. С ее помощью живая мышь исчезала в одном конце лаборатории и мгновенно появлялась в другом. Мендел видел это.
Он пристально посмотрел в лицо каждого.
— Я вижу, вы мне не верите.
— Если ты не хочешь, чтобы об этом изобретении стало известно до твоего выступления на съезде, почему ты решил рассказать нам о нем сегодня? — поинтересовался Райджер.
— О, вы — другое дело. Вы мои друзья, мои однокашники. Бросив меня на Земле, вы отправились в космос.
— А что нам оставалось делать? — каким-то не своим, тонким голосом возразил Конес.
Вильерс не обратил на его слова никакого внимания.
— Я желаю, чтобы вы узнали обо всем сейчас. Аппарат, проделавший такое с мышью, в принципе годен и для человека. Сила, которая может перенести предмет на расстояние в десять футов в стенах лаборатории, перенесет его и через миллионы километров космоса. Я побываю и на Луне, и на Меркурии, и на Церере — везде, где захочу. Я стану таким же, как вы. Я превзойду вас. Хочу заметить, что уже теперь я, школьный учитель, сделал больший вклад в астрономию, чем все вы, вместе взятые, с вашими обсерваториями, телескопами, фотокамерами и космическими кораблями.
— Лично меня это только радует, — сказал Тальяферро. — Желаю тебе успеха. А нельзя ли ознакомиться с твоим докладом?
— О нет! — Вильерс прижал руки к груди, словно пытаясь защитить от посторонних взглядов невидимые листы с записями. — Вы будете ждать, как все остальные. Существует всего лишь один экземпляр моего доклада, и никто не увидит его до тех пор, пока он не будет зачитан. Никто. Даже Мендел.
— Один экземпляр! — воскликнул Тальяферро. — А что если ты потеряешь его?
— Этого не случится. А если даже с ним что-либо произойдет, это не катастрофа — я все помню наизусть.
— Но если ты… — Тальяферро чуть было не сказал «умрешь», но вовремя спохватился и после едва заметной паузы закончил фразу: — …не последний дурак, ты должен на всякий случай хотя бы заснять текст на пленку.
— Нет, — отрезал Вильерс. — Вы услышите меня послезавтра и станете свидетелями того, как в мгновение ока перед человеком распахнутся необъятные дали, беспредельно расширятся его возможности.
Он еще раз внимательно посмотрел в глаза каждому.
— Подумать только, прошло целых десять лет, — произнес он. — До свидания.
— Он рехнулся! — взорвался Райджер, глядя на захлопнувшуюся дверь с таким выражением, будто там еще стоял Вильерс.
— В самом деле? — задумчиво отозвался Тальяферро. — Пожалуй, отчасти ты прав. Он ненавидит нас вопреки разуму, не имея на то никаких оснований. К тому же как еще можно расценить тот факт, что он отказывается сфотографировать свои записи — ведь это необходимо сделать из простой предосторожности…
Произнося последнюю фразу, Тальяферро вертел в руках собственный микрофотоаппарат. Это был ничем не примечательный небольшой цилиндрик чуть толще и короче обычного карандаша. В последние годы такой аппарат стал непременным атрибутом каждого ученого. Скорее можно было представить врача без фонендоскопа или статистика без микрокалькулятора, чем ученого без такого фотоаппарата. Обычно его носили в нагрудном кармане пиджака или специальным зажимом прикрепляли к рукаву, иногда закладывали за ухо, а у некоторых он болтался на шнурке, обмотанном вокруг пуговицы.
Порой, когда на него находило философское настроение, Тальяферро пытался осмыслить, как в былые времена ученые могли тратить столько времени и сил на выписки из трудов своих коллег или на подборку литературы — огромных фолиантов, отпечатанных типографским способом. До чего же это было громоздко! Теперь же достаточно было сфотографировать любой печатный или написанный от руки текст, а в свободное время без труда проявить пленку. Тальяферро уже успел снять тезисы всех докладов, включенных в программу съезда. И он не сомневался, что двое его друзей поступили точно так же.
— Во всех случаях отказ сфотографировать записи смахивает на бред душевнобольного, — сказал Тальяферро.
— Клянусь космосом, никаких записей не существует! — в сердцах воскликнул Райджер. — Так же как не существует никакого изобретения! Он готов на любую ложь, только бы вызвать в нас зависть и хоть недолго потешить свое самолюбие.
— Допустим. Но тогда как он послезавтра выкрутится? — спросил Конес.
— Почем я знаю? Он же сумасшедший.
Тальяферро все еще машинально поигрывал фотоаппаратом, лениво размышляя, не заняться ли ему проявлением кое-каких микропленок, которые находились в специальной кассете, но решил отложить это занятие до более подходящего времени.
— Вы недооцениваете Вильерса. Он очень умен, — сказал он.
— Возможно, десять лет назад так оно и было, — возразил Райджер, — а сейчас он — форменный идиот. Я предлагаю раз и навсегда забыть о его существовании.
Он говорил нарочито громко, как бы стараясь изгнать тем самым все воспоминания о Вильерсе и обо всем, что с ним связано. Он начал рассказывать о Церере и о своей работе, заключавшейся в прощупывании Млечного пути с помощью новых радиоскопов.
Конес, внимательно слушая, время от времени кивал головой, а затем сам пустился в пространные рассуждения о радиационном излучении солнечных пятен и о своем собственном научном труде, который вот-вот должен выйти. Темой его было исследование связи между протонными бурями и гигантскими вспышками на солнечной поверхности.
Что касается Тальяферро, то ему в общем-то рассказывать было не о чем. По сравнению с работой бывших однокашников деятельность Лунной обсерватории была лишена романтического ореола. Последние данные о составлении метеорологических сводок на основе непосредственных наблюдений за воздушными потоками в околоземном пространстве не выдерживали никакого сравнения с радиоскопами и протонными бурями. К тому же его мысли все время возвращались к Вильерсу. Вильерс действительно был очень умен. Все они знали это. Даже Райджер, который все время лез в бутылку, не мог не сознавать, что если телепортация в принципе возможна, то по всем законам логики именно Вильерс мог открыть способ ее осуществления.
Из обсуждения их собственной научной деятельности напрашивался печальный вывод, что никто из друзей не внес в науку сколько-нибудь значительного вклада. Тальяферро внимательно следил за новинками специальной литературы и не питал на этот счет никаких иллюзий. Сам он печатался мало, да и те двое не могли похвастаться трудами, содержащими сколь-нибудь важные научные открытия.
Приходилось признать, что никто из них не произвел переворота в науке об изучении космоса. То, о чем они самозабвенно мечтали в годы учебы, так и не свершилось. Из них получились просто знающие свое дело труженики. Этого у них не отнимешь, но, увы, и большего о них не скажешь, и они отлично сознавали это.
Другое дело — Вильерс. Они не сомневались, что он намного обогнал бы их. В этом-то и крылась причина их неприязни, которая углублялась еще и невольным чувством вины перед бывшим товарищем.
В глубине души Тальяферро был уверен, что вопреки всему Вильерсу еще предстоит великое будущее, и эта мысль лишала его покоя.
Райджер и Конес, несомненно, были того же мнения, и сознание собственной заурядности могло вскоре перерасти в невыносимые муки уязвленного самолюбия. Если по ходу доклада выяснится, что Вильерс на самом деле открыл способ телепортации, он станет признанным гением и произойдет то, что было ему предопределено с самого начала, а его бывших соучеников, несмотря на все их заслуги, предадут забвению. Им достанется всего лишь роль простых зрителей, затерявшихся в толпе, которая до небес превознесет великого ученого.
Тальяферро почувствовал, как душа его корчится от зависти. Ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать.
Разговор постепенно угасал.
— Послушайте, а почему бы нам не заглянуть к старине Вильерсу? — отводя глаза, спросил Конес.
Он пытался говорить тепло и непринужденно, но его фальшивая сердечность никого не могла обмануть.
— К чему эта вражда?.. Какой в ней смысл?..
«Конес хочет выяснить, правда ли то, о чем нам сказал Вильерс, — подумал Тальяферро. — Пока он еще не теряет надежды, что это всего лишь бред сумасшедшего, и хочет убедиться в этом немедленно, иначе ему сегодня не заснуть.»
Но Тальяферро и сам сгорал от любопытства, а потому не стал возражать против предложения Конеса, и даже Райджер, неловко пожав плечами, сказал:
— Черт возьми, это неплохая идея.
Было около одиннадцати вечера.
Тальяферро разбудил настойчивый звонок у двери. Мысленно проклиная того, кто посмел нарушить его сон, он приподнялся на локте. С потолка лился мягкий свет индикатора времени — еще не было четырех.
— Кто там?! — крикнул Тальяферро.
Прерывистые резкие звонки не умолкали. Тальяферро ворча набросил халат. Он открыл дверь, и яркий свет, хлынувший из коридора, заставил его на секунду зажмуриться. Лицо стоявшего перед ним человека было ему хорошо знакомо по часто попадавшимся на глаза трехмерным фотографиям.
— Мое имя — Хьюберт Мендел, — отрывистым шепотом представился тот.
— Знаю, — сказал Тальяферро.
Мендел был одним из крупнейших астрономов современности, достаточно выдающимся, чтобы занимать важный пост во Всемирном бюро астронавтики, и достаточно деятельным, чтобы стать председателем секции астронавтики нынешнего съезда.
Тальяферро вдруг вспомнил, что, по словам Вильерса, именно Менделу демонстрировал он свой опыт по перенесению массы. Мысль о Вильерсе окончательно отогнала сон.
— Вы доктор Эдвард Тальяферро?
— Да, сэр.
— Одевайтесь. Вы пойдете со мной. Произошло очень важное событие, которое касается одного нашего общего знакомого.
— Доктора Вильерса?
Веки Мендела слегка дрогнули. На редкость светлые брови и ресницы делали его глаза какими-то странно незащищенными. У него были мягкие редкие волосы. На вид ему было лет пятьдесят.
— Почему вы назвали Вильерса? — спросил он.
— Он упомянул вчера вечером ваше имя. Кроме него, я не могу вспомнить ни одного человека, с которым мы были бы знакомы оба.
Мендел кивнул и, подождав, пока Тальяферро оденется, вышел следом за ним в коридор. Райджер и Конес ожидали их в номере этажом выше. В покрасневших глазах Конеса застыло тревожное выражение. Нетерпеливо затягиваясь, Райджер курил сигарету.
— Вот мы и снова вместе. Еще один вечер встречи, — произнес Тальяферро, но его острота повисла в воздухе.
Он сел, и все трое молча уставились друг на друга.
Райджер пожал плечами.
Глубоко засунув руки в карманы, Мендел зашагал взад-вперед по комнате.
— Господа, я приношу свои извинения за причиненное вам беспокойство, — начал он, — и благодарю за то, что вы не отказали мне в моей просьбе. Но я жду от вас большего. Дело в том, что около часа назад умер наш общий друг Ромеро Вильерс. Тело его уже увезли из отеля. Врачи считают, что смерть произошла от острой сердечной недостаточности.
Воцарилось напряженное молчание. Райджер попытался было поднести ко рту сигарету, но его рука остановилась на полпути и медленно опустилась.
— Вот бедняга, — произнес Тальяферро.
— Какой ужас, — хрипло прошептал Конес. — Он был…
Слова замерли у него на губах.
— Что поделать, у него было больное сердце, — стряхивая с себя оцепенение, произнес Райджер.
— Следует уточнить кое-какие детали, — спокойно возразил Мендел.
— Что вы имеете в виду? — резко спросил Райджер.
— Когда все вы видели его в последний раз? — поинтересовался Мендел.
— Вчера вечером, — ответил Тальяферро. — Мы встретились как бывшие однокашники. До этого дня мы не видели друг друга десять лет. К сожалению, не могу сказать, что это была приятная встреча. Вильерс считал, что у него имелись основания быть в обиде на нас, и он очень раскипятился.
— И в котором часу это произошло?
— Первая встреча состоялась около девяти вечера.
— Первая?
— Позже мы повидались еще раз.
— Он ушел очень возбужденным, — взволнованно объяснил Конес. — Мы не могли примириться с этим и решили попробовать объясниться с ним начистоту. Ведь когда-то мы были друзьями. Поэтому мы отправились к нему в номер…
— Вы пошли к нему все вместе? — быстро спросил Мендел.
— Да, — с удивлением ответил Конес.
— В котором часу это было?
— Что-то около одиннадцати. — Конес обвел взглядом остальных.
Тальяферро кивнул.
— И как долго вы оставались у него?
— Не больше двух минут, — сказал Райджер. — Он велел нам убираться вон. Похоже, он вообразил, будто мы явились отнять у него его записи. — Он остановился, как бы ожидая, что Мендел поинтересуется, о каких записях идет речь, но тот промолчал, и Райджер продолжил:
— Мне кажется, Вильерс хранил эти записи под подушкой, потому что, выгоняя нас, он как-то странно пытался прикрыть ее телом.
— Возможно, как раз в ту минуту он уже умирал, — с трудом прошептал Конес.
— Тогда еще нет, — решительно сказал Мендел. — Раз вы были у него в номере, значит, там, вероятно, остались отпечатки ваших пальцев.
— Не исключено, — согласился Тальяферро. Его почтительное отношение к Менделу постепенно сменялось нетерпением: было четыре часа утра и плевать он хотел на то, Мендел это или кто другой.
— Может, вы наконец скажете, что означает этот допрос? — спросил он.
— Так вот, господа, — произнес Мендел, — я собрал вас не только для того, чтобы сообщить о смерти Вильерса. Необходимо выяснить ряд обстоятельств. Насколько мне известно, существовал всего один экземпляр его записей. Как оказалось, этот единственный экземпляр был вложен кем-то в окуркосжигатель, и от него остались лишь обгоревшие клочки. Я не читал этих записей и даже никогда их не видел, но достаточно знаком с открытием Вильерса, чтобы, если понадобится, подтвердить на суде под присягой, что найденные обрывки бумаги с сохранившимся на них текстом являются остатками того самого доклада, который он должен был сделать на съезде… Кажется, у вас, доктор Райджер, есть на этот счет какие-то сомнения. Правильно ли я вас понял?
— Я далеко не уверен, собирался ли он всерьез выступить с докладом, — кисло улыбнулся Райджер. — Если хотите знать мое мнение, сэр, Вильерс был душевнобольным. В течение десяти лет он в отчаянии бился о преграду, возникшую между ним и космосом, и в результате им овладела фантастическая идея мгновенного перенесения массы, — идея, в которой он увидел свое единственное спасение, единственную цель жизни. Ему удалось путем каких-то махинаций продемонстрировать эксперимент. Кстати, я не утверждаю, что он старался надуть вас умышленно. Он мог быть с вами искренен и в своей искренности безумен. Вчера вечером кипевшая в его душе буря достигла своей кульминации. Он возненавидел нас за то, что нам посчастливилось работать на других планетах, и пришел к нам, чтобы, торжествуя, показать свое превосходство над нами. Для этой минуты он и жил все прошедшие десять лет. Потрясение от встречи с нами могло в какой-то мере вернуть ему разум, и Вильерс понял, что на самом деле он — полный банкрот, что никакого открытия не существует. Поэтому он сжег записи, и сердце его, не выдержав такого напряжения, остановилось. Как же все это скверно!
Лицо внимательно слушавшего Мендела выражало глубокое неодобрение.
— Ваша версия звучит очень складно, — сказал он, — но вы не правы. Меня, как это вам, вероятно, кажется, не так-то легко провести, демонстрируя мнимый опыт. А теперь я хочу выяснить кое-что еще. Согласно книге регистрации, вы, все трое, являетесь соучениками Вильерса по колледжу. Это верно?
Они кивнули.
— Есть ли среди приехавших на съезд ученых еще кто-нибудь, кто когда-то учился с вами в одной группе?
— Нет, — ответил Конес. — В год нашего выпуска только нам четверым должны были дать диплом астронома. Он тоже получил бы его, если б…
— Да-да, я знаю, — перебил его Мендел. — В таком случае кто-то из вас троих побывал еще один раз в номере Вильерса в полночь.
Его слова были встречены молчанием.
— Только не я, — наконец холодно произнес Райджер. Конес, широко раскрыв глаза, отрицательно покачал головой.
— На что вы намекаете? — спросил Тальяферро.
— Один из вас пришел к Вильерсу в полночь и стал настаивать, чтобы тот показал ему свои записи. Мне не известны мотивы, которые двигали этим человеком. Возможно, все делалось с заранее продуманным намерением довести Вильерса до такого состояния, которое неизбежно приведет к смерти. Когда Вильерс потерял сознание, преступник — будем называть вещи своими именами, — не теряя времени, завладел рукописью, которая действительно могла быть спрятана под подушкой, и сфотографировал ее. После этого он уничтожил рукопись в окуркосжигателе, но в спешке не успел сжечь бумагу до конца.
— Откуда вам известно, что там произошло? — перебил его Райджер. — Можно подумать, что вы при этом присутствовали.
— Вы не далеки от истины, — ответил Мендел. — Случилось так, что Вильерс, потеряв сознание в первый раз, вскоре очнулся. Когда преступник ушел, ему удалось доползти до телефона, и он позвонил мне в номер. Он с трудом выдавил из себя несколько слов, но этого достаточно, чтобы представить, как развернулись события. К несчастью, меня в это время в номере не было: я задержался на конференции. Однако все, что пытался мне сообщить Вильерс, было записано на пленку. Я всегда, придя домой или на работу, первым делом включаю запись телефонного секретаря. Такая уж у меня бюрократическая привычка. Я сразу позвонил ему, но он не отозвался.
— Тогда кто же, по его словам, там был? — спросил Райджер.
— В том-то и беда, что он этого не сказал. Вильерс говорил с трудом, невнятно, и все разобрать оказалось невозможно. Но одно слово Вильерс произнес совершенно отчетливо. Это слово — «однокашник».
Тальяферро достал из внутреннего кармана пиджака свой фотоаппарат и протянул его Менделу.
— Пожалуйста, можете проявить мои пленки, — спокойно сказал он. — Я не возражаю. Записей Вильерса вы здесь не найдете.
Конес последовал его примеру. Нахмурившись, то же самое сделал и Райджер. Мендел взял все три аппарата и холодно сказал:
— Полагаю, что тот из вас, кто это совершил, уже успел сменить пленку, но все же…Тальяферро пренебрежительно поднял брови.
— Можете обыскать меня и номер, в котором я остановился.
С лица Райджера не сходило выражение недовольства.
— Погодите-ка минутку, черт вас дери. Вы что, служите в полиции?
Мендел удивленно взглянул на него.
— А вам очень хочется, чтобы вмешалась полиция? Вам нужен скандал и обвинение в убийстве? Вы хотите сорвать работу съезда и дать мировой прессе сведения, воспользовавшись которыми, она смешает астрономов и астрономию с грязью? Смерть Вильерса вполне можно объяснить естественными причинами. У него на самом деле было больное сердце. Предположим, тот из вас, кто был у него в полночь, действовал под влиянием импульса и совершил преступление непреднамеренно. Если этот человек вернет пленку, нам удастся избежать больших неприятностей.
— И преступник не понесет никакого наказания? — спросил Тальяферро.
Мендел пожал плечами.
— Я не стану обещать, что он выйдет сухим из воды, но, как бы там ни было, если он вовремя сознается, ему не грозит публичное бесчестье и пожизненное тюремное заключение, что произойдет неизбежно, если мы заявим в полицию.
Никто не проронил ни слова.
— Это сделал один из вас, — произнес Мендел.
Снова молчание.
— Я думаю, мне понятны соображения, которыми руководствовался виновный, и я попытаюсь их вам обрисовать. Рукопись уничтожена. Только мы четверо знаем об открытии Вильерса, и только один я присутствовал при эксперименте. Скажу больше: единственным доказательством того, что я был свидетелем этого эксперимента, являются слова самого Вильерса — человека, который, возможно, страдал психическим расстройством. Поскольку Вильерс умер от сердечной недостаточности, а его записи уничтожены, легко можно будет поверить в гипотезу доктора Райджера, который утверждает, что не существует и никогда не существовало никакого способа телепортации. Через один-два года наш преступник, в руках которого находится рукопись Вильерса, начнет постепенно использовать ее, причем не скрываясь, публично. Он будет ставить опыты, осторожно выступать в печати с соответствующими статьями, и дело кончится тем, что именно он окажется автором этого открытия, прославится и получит немалые деньги. Даже его бывшие соученики, и те ничего не заподозрят. В крайнем случае они решат, что давнишняя история с Вильерсом побудила его начать исследования в этой области. Но не более.
Мендел пристально всматривался в их лица.
— Но теперь у него ничего не выйдет. Любой из вас, кто когда-либо осмелится от своего имени опубликовать данные о способе телепортации, тем самым объявит себя преступником. Я присутствовал при опыте и уверен, что там не было подтасовки. Я знаю, что у одного из вас находится пленка, на которой заснята рукопись Вильерса. Как видите, эта рукопись теперь потеряла для вас ценность. Отдайте же мне эту пленку.
Молчание.
Мендел направился к двери, но, прежде чем уйти, еще раз обернулся к ним.
— Я буду вам очень признателен, если вы останетесь здесь до моего возвращения. Я вас долго не задержу. Надеюсь, что виновный воспользуется этим перерывом в наших переговорах и обдумает свое дальнейшее поведение. Если он опасается, что, сознавшись, потеряет работу, пусть вспомнит, что при встрече с полицией его подвергнут зондированию памяти и он лишится свободы.
Взвесив на руке три фотоаппарата, Мендел добавил:
— Я проявлю эти пленки.
Он выглядел мрачным и невыспавшимся.
— А что если мы сбежим в ваше отсутствие? — с вымученной улыбкой спросил Конес.
— Только у одного из вас есть к этому основания, — сказал Мендел. — Мне думается, я вполне могу положиться на двух невиновных. Они проследят за третьим — хотя бы во имя собственных интересов.
И он ушел.
Было пять часов утра.
— Проклятая история! Я хочу спать! — воскликнул Райджер, бросив взгляд на часы.
— При желании мы можем поспать и здесь, — философски заметил Тальяферро. — Кто-нибудь собирается сознаться в содеянном?
Конес отвел взгляд, Райджер презрительно скривил губы.
— Я так и думал. — Тальяферро закрыл глаза и, откинув свою массивную голову на спинку кресла, устало произнес: — Там, на Луне, сейчас период бездействия. Когда ночь, а она у нас длится две недели, работы хоть отбавляй. Но с наступлением лунного дня в течение двух недель не заходит Солнце, и нам остается только заседать да заниматься расчетами и поисками корреляций. Это тяжелое время. Я его ненавижу. Если б там было побольше женщин и если б мне посчастливилось вступить с одной из них в более или менее длительную связь…
Конес шепотом принялся рассказывать о том, что на Меркурии до сих пор не удается рассмотреть в телескоп весь солнечный диск — какая-то часть его постоянно скрыта за горизонтом. Правда, если еще на две мили удлинят дорогу, можно будет передвинуть обсерваторию, но для этого придется провернуть колоссальную работу, используя солнечную энергию.
Только тогда Солнце полностью откроется для наблюдений. Он уверен, что в конце концов это будет сделано.
Вскоре к их бормотанию присоединился голос Райджера, который, не выдержав, начал рассказывать о Церере. Работа там осложнялась слишком кратким периодом обращения Цереры вокруг своей оси, который длится всего лишь два часа. Благодаря этому звезды проносятся по небу с угловой скоростью, в двенадцать раз превышающей скорость движения звезд на земном небосклоне. Поэтому пришлось создать настоящую цепь приборов, состоящую из трех телескопов, трех радиоскопов и прочей аппаратуры, чтобы они по очереди вели наблюдения.
— Почему вы не используете один из полюсов? — спросил Конес.
— Ты подходишь к этому вопросу, исходя из условий, к которым привык на Меркурии, — нетерпеливо возразил Райджер. Даже на полюсах небо там напоминает водоворот… К тому же половина его всегда скрыта от наблюдений. Если б Церера, подобно Меркурию, была обращена к Солнцу только одной стороной, мы имели бы над головой относительно стабильное небо, картина которого менялась бы полностью раз в три года.
За окном постепенно серело, медленно наступал рассвет.
Тальяферро задремал, усилием воли не позволяя сознанию отключиться полностью. Он опасался заснуть, пока бодрствуют остальные. У него мелькнуло, что все они сейчас задают себе один и тот же вопрос: «Кто? Кто же из нас?» Все — за исключением виновного.
Вошел Мендел, и Тальяферро быстро открыл глаза. Видимый из окна кусок неба принял голубой оттенок. Тальяферро был рад, что окно плотно закрыто. В отеле, конечно, имелось кондиционирование, но те из жителей Земли, которые питали, с его точки зрения, странное пристрастие к свежему воздуху, в теплую погоду открывали окна. Тальяферро, который никак не мог забыть об окружающем Луну безвоздушном пространстве, при одной мысли об этом содрогнулся от ужаса.
— Кто-нибудь из вас желает что-то сказать? — спросил Мендел.
Все молча смотрели на него, а Райджер отрицательно покачал головой.
— Я проявил пленки, господа, и ознакомился с заснятым вами материалом. — Мендел бросил на кровать аппараты и проявленные пленки. — И ничего не обнаружил! Боюсь, что у вас теперь будут трудности с монтажом. Приношу вам за это свои извинения. Вопрос о пропавшей пленке остается открытым.
— Если она вообще существует, — широко зевнув, заметил Райджер.
— Господа, я предлагаю спуститься в номер Вильерса, — сказал Мендел.
— Зачем? — испуганно воскликнул Конес.
— Не собираетесь ли вы пустить в ход испытанный психологический прием — привести виновного на место преступления, чтобы раскаяние в содеянном заставило его сознаться? ехидно поинтересовался Тальяферро.
— Цель, с которой я приглашаю вас в номер Вильерса, далеко не столь мелодраматична. Я просто хотел бы, чтобы двое невиновных помогли мне найти пропавшую пленку.
— Вы считаете, что она находится именно там? — вызывающе спросил Райджер.
— Вполне возможно. Наше расследование только начинается. Потом мы обыщем и ваши номера. Симпозиум по астронавтике не начнется раньше десяти часов завтрашнего утра, и нам нужно уложиться в оставшееся время.
— А если мы до тех пор ничего не выясним?
— Тогда мы обратимся за помощью к полиции.
Они осторожно вошли в номер Вильерса. Райджер покраснел, Конес был очень бледен. Тальяферро пытался сохранять спокойствие.
Прошлой ночью они видели комнату при искусственном освещении. Тогда озлобленный растрепанный Вильерс, судорожно обхватив руками подушку и устремив на них полный ненависти взгляд, потребовал, чтобы они убирались вон. Сейчас здесь едва уловимо пахло смертью.
Чтобы улучшить освещение, Мендел занялся оконным поляризатором, и в помещение хлынули лучи восходящего солнца.
Конес быстрым движением закрыл рукой глаза.
— Солнце! — воскликнул он так, что остальные замерли. Лицо его исказил неподдельный ужас, словно он вдруг взглянул незащищенными глазами на то Солнце, которое мгновенно ослепляет в условиях Меркурия.
Вспомнив собственное отношение к возможности выходить из помещения без скафандра, Тальяферро скрипнул зубами. Те десять лет, которые они провели вне Земли, изрядно деформировали их психику.
Конес бросился к окну, ощупью отыскивая рычаг поляризатора, но тут воздух с шумом вырвался из его груди, и он окаменел.
— Что случилось? — кинувшись к нему, спросил Мендел. Остальные последовали за ним.
Далеко внизу, простираясь до самого горизонта, лежала каменно-кирпичная громада города, контуры его четко прорисовывались в лучах восходящего солнца. Сейчас он был обращен к ним своей теневой стороной. Тальяферро исподтишка окинул эту картину тревожным взглядом.
Конес, грудь которого стеснило настолько, что он не мог даже вскрикнуть, не отрываясь смотрел на что-то, находившееся совсем близко.
Снаружи на подоконнике лежал дюймовый кусочек светло-серой пленки, которого коснулись первые лучи солнца. Уголок ее, попавший в трещину, пока еще оставался в тени.
Вскрикнув, Мендел в ярости распахнул окно и схватил пленку. Бережно прикрыв ее рукой, он приказал:
— Ждите меня здесь!
Говорить им было не о чем. Когда Мендел ушел, они сели и молча уставились друг на друга.
Мендел вернулся через двадцать минут.
— Та небольшая часть пленки, что находилась в трещине, не успела засветиться, и мне удалось разобрать несколько слов. На эту пленку действительно кто-то заснял рукопись Вильерса. Остальные записи навсегда погибли, и спасти их невозможно. Открытия Вильерса больше не существует, — спокойно произнес Мендел.
Он был настолько потрясен, что его эмоции уже были за гранью их внешнего проявления.
— Что же дальше? — спросил Тальяферро.
Мендел устало пожал плечами.
— Мне теперь все безразлично — ведь способ телепортации опять стал для человека нерешенной задачей, пока кто-нибудь, обладающий такими же блестящими способностями, как Вильерс, не откроет его заново. Я сам займусь этой проблемой, но я не питаю никаких иллюзий относительно собственных возможностей. Мне кажется, что, поскольку открытия Вильерса больше не существует, не имеет значения, кто из вас в этом виноват. Что даст нам дальнейшее расследование?
Отчаяние Мендела было настолько глубоко, что он весь сник.
— Нет, постойте, — раздался твердый голос Тальяферро. — В ваших глазах каждый из нас троих останется на подозрении. В том числе и я. Вы занимаете высокое положение, и у вас для меня никогда не найдется доброго слова. Меня можно будет обвинить в некомпетентности, а то и приклеить ярлык похуже. Я не желаю, чтобы мою карьеру погубил призрак недоказанной вины. Поэтому я предлагаю довести расследование до конца.
— Я не следователь, — устало возразил Мендел.
— Тогда, черт возьми, пригласите полицию.
— Минутку, Тал, не намекаешь ли ты на то, что преступление совершил я? — спросил Райджер.
— Я только хочу доказать свою невиновность.
— Если мы обратимся в полицию, каждого из нас подвергнут зондированию памяти! — в ужасе воскликнул Конес. — А это может привести к нарушению мозговой деятельности.
Мендел высоко поднял руки.
— Господа! Прошу вас, давайте обойдемся без склок! Осталась еще единственная возможность избежать вмешательства полиции. Вы правы, доктор Тальяферро. Было бы несправедливо по отношению к невиновным оставить вопрос открытым.
Повернувшиеся к нему лица отражали недоверие и враждебность.
— Что вы хотите нам предложить? — спросил Райджер.
— У меня есть друг по имени Уэндел Эрт. Быть может, вы слышали о нем, а если и нет, это сейчас не имеет значения. Так или иначе, я постараюсь устроить, чтобы сегодня вечером он нас принял.
— Какой в этом смысл? — с неприязнью спросил Тальяферро. — Что это нам даст?
— Он странный человек, — неуверенно произнес Мендел. — Очень странный. И в своем роде гениальный. Ему не раз приходилось помогать полиции, и кто знает, вдруг сейчас удастся помочь и нам.
* * *
Когда они вошли в комнату, Эдвард Тальяферро не смог побороть глубочайшего изумления, которое в нем вызывали и само помещение, и находившийся в нем человек. Казалось, и то и другое существовало в полной изоляции от окружающего и являлось частью какого-то иного, непонятного мира. Ни один земной звук не проникал сюда через мягкую обивку лишенных окон стен. Свет и воздух Земли заменяли искусственное освещение и система кондиционирования.
В этой большой, тонувшей в полумраке комнате царил немыслимый беспорядок. Они с трудом пробрались между разбросанными по полу предметами к дивану, с которого сгребли и свалили рядом в кучу микропленки с книжными текстами.
У хозяина комнаты было большое круглое лицо и приземистое шарообразное тело. Он быстро передвигался на своих коротких ножках, так энергично вертя во все стороны головой, что очки едва удерживались на том крохотном бугорке, который был его носом. Усевшись наконец за письменный стол — единственное достаточно освещенное место, он устремил на них добродушный взгляд своих выпуклых близоруких глаз, полускрытых тяжелыми веками.
— Я очень рад вашему приходу, господа, и прошу извинить за беспорядок, — он взмахнул короткопалой рукой. — Сейчас я занимаюсь составлением каталога собранных мною объектов внеземного происхождения, которые имеют огромное значение для науки. Это колоссальная работа. Вот, например…
Он вскочил с места и стал рыться в куче каких-то непонятных предметов, в беспорядке сваленных возле письменного стола, и вскоре извлек дымчато-серый, полупрозрачный цилиндр неправильной формы.
— Может оказаться, что этот цилиндр с Каллисто является наследием неведомой нам внеземной культуры. Вопрос о его происхождении еще окончательно не решен. Таких цилиндров было найдено не больше дюжины, и из всех известных мне образцов данный экземпляр — самый совершенный по форме.
Он небрежно отбросил его в сторону, и Тальяферро вздрогнул.
— Цилиндр сделан из небьющегося материала, — сказал толстяк и проворно уселся обратно за свой стол; его крепко прижатые к животу руки поднимались и опускались в такт дыханию. — Так чем же я могу быть вам полезен? — спросил он.
Пока Мендел представлял их хозяину, Тальяферро упорно старался вспомнить, откуда ему знакомо имя Уэндел Эрт. Несомненно, это был тот самый Уэндел Эрт, который написал недавно опубликованный труд под названием «Сравнительное исследование эволюционных процессов на водно-кислородных планетах», однако в сознании как-то не укладывалось, что это был именно он.
— Доктор Эрт, не вы ли являетесь автором «Сравнительного исследования эволюционных процессов»? — не выдержав, спросил он.
Лицо Эрта расплылось в блаженной улыбке.
— Вы читали эту книгу? — Нет, но…
Радостный блеск в глазах Эрта мгновенно погас, уступив место осуждению.
— Тогда вам необходимо ее прочесть сейчас же, немедленно. У меня есть здесь один экземпляр…
Он снова вскочил со стула, но тут вмешался Мендел.
— Подождите, Эрт, не все сразу. Мы пришли к вам по серьезному вопросу.
Он почти насильно заставил Эрта сесть и быстро стал излагать суть дела, как бы боясь, чтобы тот не перебил его, снова увлекшись какой-нибудь посторонней темой. Предельная лаконичность, с которой Мендел обрисовал события, заслуживала восхищения.
Лицо Эрта побагровело. Он нервно схватил очки и прочно укрепил их на носу.
— Мгновенное перенесение массы! — воскликнул он.
— Я видел это собственными глазами, — подтвердил Мендел.
— А мне ни звука не сказали!
— Я поклялся хранить тайну. Как я уже отметил, изобретатель был… не без странностей.
— Как же вы могли позволить, чтобы такое ценное открытие осталось в распоряжении заведомого чудака? В крайнем случае, чтобы получить необходимые сведения, надо было подвергнуть его зондированию памяти.
— Это бы его убило, — запротестовал Мендел.
Но Эрт, прижав ладони к щекам и в отчаянии раскачиваясь взад и вперед, продолжал:
— Телепортация! Единственный пригодный для нормального цивилизованного человека способ передвижения. Единственно возможный способ! Если б я только знал! Если б я тогда был в отеле! Но, увы, он почти в тридцати милях отсюда.
— Насколько мне известно, — раздраженно перебил эту тираду Райджер, — между вашим домом и отелем существует регулярное воздушное сообщение. У вас ушло бы на дорогу десять минут.
Тело Эрта вдруг напряглось и, бросив на Райджеpa какой-то странный взгляд, он вскочил с места и опрометью выбежал из комнаты.
— Что за черт! — воскликнул Райджер.
— Проклятие, я должен был предупредить вас, — пробормотал Мендел.
— О чем?
— У доктора Эрта есть свой пунктик — он никогда не пользуется никакими транспортными средствами. Он всегда ходит пешком.
— Но ведь он, насколько я понимаю, занимается изучением жизни на других планетах, щурясь в полумраке, — заметил Конес.
Тальяферро, который минуты две назад поднялся с дивана, стоял теперь перед укрепленной на пьедестале чечевицеобразной моделью Галактики, устремив взгляд на мерцающее сияние звездных систем. Никогда в жизни ему не приходилось видеть такую большую и так тщательно выполненную модель.
— Верно. Но он ни разу не посетил ни одной из тех планет, изучением которых занимается, и никогда этого не сделает. Я сомневаюсь, отходил ли он за последние тридцать лет дальше чем за милю от этого дома.
Райджер расхохотался. Мендел вспыхнул.
— Пусть вам такое положение вещей кажется смешным, — рассерженно произнес он, но я буду вам очень признателен, если впредь в присутствии доктора Эрта вы постараетесь избегать этой темы.
Через минуту появился сам Эрт.
— Приношу мои извинения, господа, — прошептал он. — А теперь займемся нашей проблемой. Может, кто-нибудь из вас желает сознаться сам?
Тальяферро презрительно поджал губы. Едва ли этот толстенький специалист по внеземным формам жизни, добровольно приговоривший себя к домашнему аресту, обладает достаточной твердостью, чтобы заставить кого бы то ни было признаться в совершенном преступлении. К счастью, дело обстоит так, что он им как талантливый следователь не понадобится. Если вообще у него есть такой талант.
— Скажите, доктор Эрт, вы связаны с полицией? — спросил Тальяферро. На красном лице Эрта появилось самодовольное выражение.
— Официально нет, но тем не менее мы находимся в наилучших отношениях.
— В таком случае я сообщу вам кое-какие сведения, которые вы сможете передать.
Втянув живот, Эрт стал рывками вытаскивать из брюк подол рубашки, которым он принялся медленно протирать очки. Покончив с этим занятием и небрежно водрузив очки обратно на нос, он произнес:
— Итак, я вас слушаю.
— Я скажу вам, кто был у Вильерса в момент его смерти и кто заснял записи.
— Выходит, вам посчастливилось раскрыть тайну?
— Я думал об этом весь день и, кажется, пришел к правильному выводу. Тальяферро явно наслаждался произведенным его словами эффектом.
— Что же вы собираетесь нам сообщить?
Тальяферро глубоко вздохнул. Несмотря на то что он готовился к этому несколько часов, не так-то легко было наконец решиться.
— В происшедшем, по всей видимости, виновен не кто иной, как доктор Мендел, — наконец произнес он.
Мендел задохнулся от возмущения.
— Послушайте, доктор, — громко начал он, — если у вас есть какие-либо основания для такого страшного…
— Пусть он говорит, Хьюберт, — перебил его высокий голос Эрта. — Я предлагаю выслушать его. Ведь вы сами его подозреваете, и нет такого закона, который запретил бы ему подозревать вас.
Мендел зло поджал губы.
— Это больше, чем простое подозрение, доктор Эрт, — начал Тальяферро, усилием воли заставляя свой голос звучать ровно. — Доказательства налицо. Нам всем четверым было известно об изобретении Вильерса, но только один из нас, доктор Мендел, присутствовал при эксперименте. Только он один знал, что оно не является плодом больного воображения. Только он знал, что записи действительно существуют. Вильерс обладал слишком неуравновешенным характером, и для нас вероятность того, что он говорил правду, была слишком мала. Мы зашли к нему в одиннадцать, чтобы, как мне кажется, окончательно убедиться в этом, хотя никто из нас не назвал вслух истинную причину нашего визита. Но Вильерс был невменяем. Таким мы его прежде никогда не видели.
А теперь рассмотрим этот же вопрос с другой стороны. Что знал доктор Мендел и каковы были его мотивы? Представим себе, доктор Эрт, следующее. Человек, который пришел к Вильерсу в полночь, увидел, что тот потерял сознание, и заснял рукопись. Это лицо (не будем пока называть его по имени), вероятно, пришло в ужас, когда Вильерс очнулся от обморока и стал звонить кому-то по телефону. Охваченному паникой преступнику мгновенно приходит в голову мысль, что необходимо как можно скорее отделаться от единственного вещественного доказательства.
Он должен был немедленно избавиться от непроявленной пленки с заснятыми записями, причем таким образом, чтобы эта пленка не была найдена, и он в том случае, если его ни в чем не заподозрят, смог бы снова завладеть ею. Идеальным местом для этого был наружный подоконник. Быстро раскрыв окно, он положил на подоконник пленку и ушел. А если б Вильерс остался жив или если б его телефонный разговор дал какие-нибудь результаты, единственным доказательством вины этого человека были бы показания самого Вильерса, и можно было бы легко убедить всех в том, что Вильерс — человек с большими странностями.
Тальяферро умолк, смакуя неоспоримость приведенных им доводов.
Уэндел Эрт, сощурившись, взглянул на него и похлопал пальцами прижатых к животу рук по вытащенному из брюк подолу рубашки.
— В чем же вы видите главное доказательство вины доктора Мендела? — спросил он.
— На мой взгляд, самое важное здесь то, что лицо, совершившее преступление, открыло окно и положило пленку на подоконник снаружи. Судите сами: Райджер жил десять лет на Церере, Конес — на Меркурии, я — на Луне, и за этот период нам очень редко случалось бывать на Земле — только во время кратких отпусков, да и сколько их там было! Вчера мы не раз жаловались друг другу, как трудно нам привыкнуть к земным условиям.
Планеты, на которых мы работаем, лишены атмосферы. Мы никогда не выходим из помещения без скафандра. Мы отвыкли даже от мысли, что можно выйти наружу без защитного костюма. Ни один из нас не смог бы открыть окно без отчаянной внутренней борьбы. Что касается доктора Мендела, то он жил только на Земле и для него открыть окно — всего лишь приложение мускульной силы. Он способен сделать это не задумываясь, а мы нет. Отсюда логический вывод — преступление совершил он.
Тальяферро откинулся на спинку стула и позволил себе слегка улыбнуться.
— Клянусь космосом, он прав! — восторженно вскричал Райджер.
— Ни в коей мере! — приподнявшись с дивана, взревел Мендел. Казалось, он вот-вот бросится на Тальяферро с кулаками. — Я категорически протестую против этих жалких измышлений. А имеющаяся у меня запись телефонного звонка Вильерса? Там есть слово «однокашник»… А это как вы объясните?
— Вильерс в ту минуту умирал, — возразил Тальяферро. — Вы ведь сами говорите, что большую часть из сказанного им понять невозможно. Этой записи я не слышал, поэтому я спрашиваю вас, доктор Мендел, в самом ли деле голос Вильерса был искажен до неузнаваемости?
— Видите ли… — смущенно начал Мендел.
— Я уверен, что это так. У меня нет оснований исключить вероятность того, что вы сами заранее сфабриковали запись, ввернув туда это проклятое слово «однокашник».
— О господи, откуда я знал, что на съезд приехали бывшие соученики Вильерса? Откуда мне могло быть известно, что они слышали о его открытии?! — воскликнул Мендел.
— Это мог вам сказать сам Вильерс. Я беру на себя смелость утверждать, что он действительно сделал это.
— Послушайте, — решительно начал Мендел, — вы трое видели Вильерса живым в одиннадцать вечера. Врач, осмотревший его тело вскоре после трех ночи, заявил, что умер он около двух часов назад. Отсюда — смерть наступила между одиннадцатью вечера и часом ночи. В это время я присутствовал на вечернем заседании, и не меньше дюжины свидетелей могут показать, что с десяти часов вечера до двух ночи я находился в нескольких милях от отеля. Вам этого достаточно?
— Даже если это подтвердится, — немного помолчав, упрямо продолжал Тальяферро, можно предположить, что вы вернулись в отель в половине третьего и тут же отправились к Вильерсу, чтобы обсудить какие-то вопросы, связанные с его будущим докладом. Вы нашли дверь открытой или пустили в ход дубликат ключа — это не имеет значения. Главное — вы нашли Вильерса мертвым и, воспользовавшись случаем, засняли рукопись…
— Но если он был уже мертв и не мог никому позвонить, зачем мне тогда понадобилось прятать пленку?
— Чтобы отвести от себя подозрение. Не исключено, что у вас есть второй экземпляр пленки. Кстати, о том, что она засвечена, мы знаем только с ваших слов.
— Хватит! — вмешался Эрт. — Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тальяферро, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств…
— Это с вашей точки зрения… — нахмурившись, попытался возразить Тальяферро.
— Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению. Неужели вы не заметили, что для преступника Хьюберт Мендел был излишне активен?
— Нет, — сказал Тальяферро. Уэндел Эрт мягко улыбнулся.
— Видите ли, доктор Тальяферро, я не сомневаюсь, что в процессе своей научной деятельности вы вряд ли настолько увлекаетесь собственными гипотезами, что начисто отбрасываете противоречащие им факты и логические умозаключения. Очень вас прошу не изменять этому золотому правилу, когда вы выступаете в роли следователя.
А теперь представьте себе, насколько проще была бы стоявшая перед доктором Менделом задача, если б его действия, как вы утверждаете, и впрямь стали причиной смерти Вильерса, и он обеспечил себе алиби. Или же, как опять-таки следует из ваших слов, не застав Вильерса в живых, он воспользовался этим в своих интересах. Зачем ему понадобилось бы фотографировать рукопись или приписать это кому-нибудь из вас? Он же мог просто-напросто взять записи и уйти. Кто еще знал об их существовании? Практически никто. У доктора Мендела не было никаких оснований предполагать, что Вильерс рассказал о них еще кому-то. Ведь известно, что он был патологически скрытен.
Никто, кроме доктора Мендела, не знал, что Вильерс собирался делать доклад. О его выступлении не было объявлено, тезисы доклада не опубликованы. Отсюда следует, что доктор Мендел мог без опаски забрать рукопись и спокойно удалиться. Даже если б он узнал, что Вильерс поделился своей тайной с бывшими однокашниками, что из того? Какими доказательствами располагали его бывшие соученики? На что они могли сослаться, кроме как на слова человека, которого они сами считали душевнобольным?
Однако доктор Мендел поступает иначе. Он заявляет, что бумаги Вильерса уничтожены, он утверждает, что смерть Вильерса нельзя признать в полном смысле слова естественной. Он ищет пленку, на которую была заснята рукопись. Короче, он делает все, чтобы навести на себя подозрение, в то время как единственное, что ему следовало сделать, это остаться в тени. Если б он и вправду совершил это преступление, а потом выбрал для себя такую линию поведения, он был бы самым тупым, самым убого мыслящим человеком из всех, кого я знаю. А о докторе Менделе этого никак не скажешь.
При всем желании Тальяферро не мог опровергнуть очевидную справедливость приведенных Эртом аргументов.
— Тогда кто же совершил это преступление? — спросил Райджер.
— Один из вас троих.
— Но кто именно?
— О, для меня этот вопрос давно решен. Я понял, кто из вас виновен, в ту самую минуту, когда доктор Мендел закончил свой рассказ.
Тальяферро с неприязнью взглянул на толстенького специалиста по изучению внеземных форм жизни. Его не испугали последние слова ученого, но они, судя по всему, произвели сильное впечатление на остальных. У Конеса отвисла челюсть, придав его лицу идиотское выражение, а губы Райджера как-то странно вытянулись в ниточку. Оба они стали похожи на рыб.
— Вы наконец скажете, кто это? — спросил Тальяферро.
Эрт сощурился.
— Во-первых, я хочу, чтобы вы уяснили себе, что самое важное сейчас — это открытие Вильерса. Оно еще может быть восстановлено.
— Черт вас дери, Эрт, что за чушь вы несете? — с раздражением воскликнул Мендел, еще не забывший нанесенной ему обиды.
— Вполне возможно, что этот человек, прежде чем сфотографировать записи, пробежал их взглядом. Сомневаюсь, хватило ли у него времени и присутствия духа прочесть их, а если он даже и успел их просмотреть, вряд ли он что-либо запомнил, во всяком случае сознательно. Но существует зондирование памяти. Если он бросил хоть один взгляд на записи, их можно будет восстановить.
Присутствующие невольно поежились.
— Вы напрасно так боитесь зондирования, — поспешно продолжал Эрт. — Если его проводят по всем правилам, оно совершенно безопасно, особенно когда человек идет на него добровольно. Причиной вредных последствий является внутреннее сопротивление, своего рода духовный отказ подчиниться. Поэтому, если виновный признается сам и добровольно отдаст себя в мои руки…
В тишине слабо освещенной комнаты неожиданно раздался хохот Тальяферро, которого развеселила примитивность этого психологического трюка.
Реакция Тальяферро привела Эрта в замешательство, и он с искренним недоумением воззрился на него поверх очков.
— Я имею достаточное влияние на полицию и могу устроить, чтобы зондирование не стало достоянием гласности, — сказал он.
— Я не виновен! — зло выкрикнул Райджер.
Конес отрицательно мотнул головой. Тальяферро хранил презрительное молчание.
— Что ж, тогда придется мне самому указать виновного, — вздохнув, произнес Эрт. Увы, ничего хорошего из этого не получится. Человек будет травмирован, и возникнет много нежелательных осложнений.
Он теснее прижал к животу руки и пошевелил пальцами.
— Доктор Тальяферро сказал, что пленка была положена на наружный выступ подоконника с целью сокрытия и предохранения от возможных повреждений. В этом я с ним совершенно согласен.
— Благодарю вас, — сухо произнес Тальяферро.
— Однако почему кому-то пришло в голову, что это место является столь безопасным тайником? Явись туда полицейские, они бы несомненно нашли пленку. Фактически она была найдена без их помощи. У кого же могла возникнуть мысль, что предмет, хранящийся вне помещения, находится в полной безопасности? Только у человека, жившего долгое время на планете, лишенной атмосферы, и свыкшегося с тем, что нельзя выйти из закрытого помещения без тщательной подготовки.
Например, если на Луне спрятать какой-нибудь предмет вне Лунного купола, можно считать, что его вряд ли найдут. Люди там редко выходят наружу, да и то с определенной целью, связанной с их работой. Поэтому человек, живший в условиях Луны, чтобы спрятать пленку, мог преодолеть внутреннее сопротивление и, открыв окно, оказаться лицом к лицу со средой, которую он подсознательно воспринимал бы как безвоздушное пространство. «Если какую-нибудь вещь поместить вне жилого помещения, уже одно это обеспечит ее полную сохранность», такова суть импульса, заставившего преступника положить пленку за окно.
— Доктор Эрт, почему вы заговорили именно о Луне? — сквозь стиснутые зубы спросил Тальяферро.
— О, я упомянул о Луне только в качестве примера, — добродушно пояснил Эрт. — Все, о чем я говорил до сих пор, в равной мере относится к вам троим. А теперь я перехожу к вопросу об умирающей ночи.
Тальяферро нахмурился.
— Вы имеете в виду ту ночь, когда умер Вильерс?
— Я имею в виду любую ночь. Сейчас я вам объясню. Если даже мы допустим, что наружный выступ подоконника действительно является вполне надежным тайником, то кто из вас мог до такой степени потерять всякое ощущение реальности, чтобы признать его таковым для непроявленной пленки? Хочу вам напомнить, что пленка, которую используют в наших микрофотоаппаратах, не обладает большой чувствительностью и рассчитана на то, чтобы ее можно было проявлять в самых разнообразных условиях. Всем нам известно, что рассеянное вечернее освещение не может нанести ей серьезных повреждений, однако рассеянный дневной свет погубит ее за минуты, а что касается прямых солнечных лучей, то они засветят ее мгновенно.
— Объясните же наконец, Эрт, к чему вы клоните? — прервал его Мендел.
— Не торопите меня! — обиженно воскликнул Эрт. — Я хочу дать вам возможность как следует во всем разобраться. Самым большим желанием преступника было обеспечить полную сохранность пленки, которая в тот момент стала для него бесценным сокровищем, ведь от нее зависело все его будущее — его вклад в мировую науку. Так почему, спрашивается, он положил пленку туда, где ее неизбежно должно было разрушить утреннее солнце?.. Только потому, что, как ему казалось, солнце никогда не взойдет. Он думал, что ночь, образно говоря, бессмертна.
Но ночи на Земле не бессмертны, они умирают и уступают место дню. Даже полярная ночь, которая тянется шесть месяцев, в конце концов умирает. Ночь на Церере длится всего лишь два часа, ночь на Луне — две недели. Это тоже умирающие ночи, и как доктор Тальяферро, так и доктор Райджер знают, что ночь всегда сменяется днем.
— Погодите… — вскочив, начал было Конес. Уэндел Эрт твердо взглянул ему в глаза.
— Ждать больше незачем, доктор Конес. Меркурий является единственным во всей Солнечной системе небесным телом, которое всегда повернуто к Солнцу одной стороной. Три восьмых его поверхности никогда не освещаются Солнцем, и там царит вечный мрак[5]. Полярная обсерватория расположена как раз на границе теневой части планеты. За десять лет своего пребывания на Меркурии вы, доктор Конес, привыкли считать ночь бессмертной. Вам казалось, что погруженная во тьму поверхность планеты будет оставаться такой вечно. И поэтому вы доверили непроявленную пленку земной ночи, забыв от волнения, что эта ночь обречена на смерть…
— Постойте… — запинаясь, произнес Конес. Но Эрт был неумолим.
— Мне сегодня рассказали, что в тот миг, когда доктор Мендел повернул рычаг оконного поляризатора, вы вскрикнули при виде солнечного света. Что вас побудило к этому страх перед меркурианским Солнцем или вы вдруг поняли, как солнечный свет нарушит ваши планы? Вы бросились к окну. Почему? Чтобы вернуть рычаг в исходное положение или чтобы взглянуть на испорченную пленку?
Конес упал на колени.
— Я не хотел этого. Я собирался только поговорить с ним, только поговорить! Но он закричал и потерял сознание. Мне показалось, что он умер. Записи были под подушкой, и все остальное произошло само собой. Одно потянуло за собой другое, и прежде, чем я понял, что делаю, было уже поздно. Клянусь, я не хотел этого.
Они окружили его, а Уэндел Эрт устремил на рыдающего Конеса взгляд, полный глубокой жалости.
После того как уехала карета «скорой помощи», Тальяферро заставил себя заговорить с Менделом.
— Надеюсь, сэр, то, что было здесь сказано, не посеет между нами вражды, — натянуто произнес он.
— Я думаю, всем нам следует забыть о событиях последних суток, — столь же натянуто ответил Мендел.
Когда они, собираясь уходить, уже стояли в дверях, Уэндел Эрт, склонив голову набок, с улыбкой произнес:
— Мы еще не уточнили вопрос о моем гонораре. От удивления Мендел лишился дара речи.
— Я не имею в виду деньги, — поспешно сказал Эрт. — Я только хочу, чтобы в будущем, когда сконструируют первый рассчитанный на человека аппарат для телепортации, мне позволили совершить путешествие.
— Но до мгновенного перенесения массы в космос пока очень далеко, — еще окончательно не придя в себя, возразил Мендел.
Эрт отрицательно покачал головой.
— Нет-нет, я не имею в виду космическое путешествие. Мне хотелось бы побывать в Лоуерфоллз, что в Нью-Гемпшире.
— По рукам, Эрт, будет сделано. Но почему вы хотите отправиться именно туда?
Эрт вскинул голову. К своему глубочайшему изумлению, Тальяферро увидел на лице специалиста по изучению внеземных форм жизни смущение.
— Когда-то… довольно давно… я ухаживал там за одной девушкой. С тех пор прошло много лет… Но иногда меня мучает вопрос…
Ключ
Карл Дженнингс понимал, что умирает. У него оставалось несколько часов и дело, которое надо закончить.
Спасения здесь, на Луне, при неработающей связи ждать не приходилось.
Даже на Земле остались затерянные уголки, где нет радио, где человек может умереть, и некому будет помочь, некому посочувствовать, некому даже обнаружить труп. На Луне такие места — не исключение, а правило.
Конечно, земляне знают, что он на Луне. Он участвует в геологической — тьфу, селенологической! — экспедиции. Странно все-таки, до чего он зациклен на Земле — так и лезет в голову это «гео».
Карл Дженнингс устало принуждал себя мыслить, ни на минуту не прекращая работы. На пороге смерти мозг сохранял прежнюю искусственную ясность. Дженнингс тревожно огляделся. Ничего не видно. Здесь, под северной стеной кратера, царила вечная ночь, кромешную тьму нарушали лишь редкие вспышки фонарика. Редкие — потому что Дженнингс берег последний запас энергии, а главное, боялся себя выдать.
Слева, на юге, вдоль близкого лунного горизонта, лежал яркий белый серп. Там, за светлой полосой, был дальний, невидимый борт кратера. Сюда, за ближний уступ, Солнце не заглядывает никогда. Дженнингс мог не опасаться солнечной радиации — хотя бы ее.
Он копал старательно, но неуклюже — мешал громоздкий скафандр. Бок болел нестерпимо.
Пыль и щебень не складывались здесь в «сказочные замки», характерные для тех участков Луны, где сменяются свет и тень, жар и стужа. В царстве вечного холода шлейф медленно разрушаемой породы оставался лежать под склоном грудой тонкого, несортированного материала. Никто не догадается, что тут копали.
Дженнингс недооценил высоту темного бугорка и просыпал пригоршню пыли. Частички упали с типично лунной замедленностью, тем не менее казалось, что страшно быстро, ведь они не повисли, как в воздухе, пыльной дымкой.
На мгновение вспыхнул фонарь. Дженнингс отпихнул с дороги зазубренный камень.
Время поджимало. Он глубже зарылся в пыль.
Еще немного. Скоро можно будет затолкать Устройство в ямку и присыпать. Стросс не найдет.
Стросс!
Второй член экспедиции. Напарник. Соавтор открытия. Второй претендент на славу.
Если бы Стросс просто хотел приписать себе всю заслугу, Дженнингс, возможно бы, стерпел. Открытие куда важнее, чем слава, которую оно может принести. Однако Стросс покусился на большее, и Дженнингс готов был сражаться, чтоб его остановить. Готов был пожертвовать собственной жизнью.
И он умирал.
Они нашли его вместе. Вообще-то именно Стросс обнаружил корабль, точнее — останки корабля; еще точнее — нечто, наводящее на мысль об останках корабля.
— Металл, — объявил Стросс, поднимая что-то корявое и почти бесформенное. Его лицо и глаза едва угадывались за толстым стеклом скафандра, но хриплый голос звучал в наушниках вполне отчетливо.
Дженнингс в два прыжка преодолел разделяющие их полмили. Он сказал:
— Странно. На Луне нет свободного металла.
— Не должно быть. Но мы отлично знаем, что исследовано менее процента лунной поверхности. Кто ведает, что здесь можно найти?
Дженнингс согласно засопел и протянул руку в скафандре.
Верно, на Луне возможны самые неожиданные открытия. Их селенографическая экспедиция — первая негосударственная. До сих пор подобные мероприятия финансировало правительство, участникам приходилось за короткое время решать целую кучу задач. Однако освоение космоса идет вперед, и лучшее тому подтверждение — что Геологическое Общество послало двух людей на Луну с чисто селенологическими целями.
Стросс заметил:
— Впечатление такое, будто поверхность прежде была гладкой.
— Вы правы, — сказал Дженнингс. — Давайте поищем вокруг.
Они нашли еще три куска: два маленьких и один большой, зазубренный, со следами сварки.
— Вернемся на корабль, — предложил Стросс.
Они сели в глиссер, добрались до корабля, задраили люки и сняли скафандры, Дженнингс — с особым наслаждением. Он яростно почесал ребра, а щеки растер так, что на светлой коже проступили красные полосы.
Стросс не унизился до такой слабости и сразу приступил к работе. Лазерный луч выжег в металле ямку, спектрограф показал состав паров. Титанистая сталь с небольшой примесью кобальта и молибдена.
— Так и есть, искусственная, — сказал Стросс. Лицо его выражало обычное мрачное недовольство без тени восторга, хотя у Дженнингса бешено забилось сердце.
Видимо, возбуждение и толкнуло Дженнингса начать: «Нам потребуются стальные нервы…» с легким нажимом на «сталь», чтобы подчеркнуть игру слов.
Стросс обдал Дженнингса холодным презрением, и каламбур остался незавершенным.
Дженнингс вздохнул. Он ничего не мог с собой поделать. Помнится, в университете… Ладно, это в сторону. Стросс может сколько угодно строить кислую мину, а все равно открытие заслуживает куда лучшего каламбура, чем по силам Дженнингсу.
Неужели Стросс не понимает, что произошло?
Дженнингс очень мало знал Стросса, только как селенолога. Другими словами, он читал статьи Стросса, а Стросс, надо полагать, читал его. Они учились на соседних курсах, но знакомы не были и впервые встретились перед самой экспедицией, куда их отобрали из числа других добровольцев.
Через неделю Дженнингса начало раздражать в соседе все: коренастая фигура, соломенные волосы, голубые глаза, даже манера тщательно жевать, сильно двигая челюстями. Сам Дженнингс был стройнее, глаза имел тоже голубые, а волосы — темно-русые. Он почти физически ощущал, как разит от Стросса уверенностью и силой.
Дженнингс сказал:
— Нет никаких упоминаний, чтоб в этой части Луны садился, а тем более падал спускаемый аппарат.
— Обломки корабля, — заметил Стросс, — были бы гладкими. Эти все изъедены, а раз воздуха нет, значит, метеориты бомбардировали их много лет.
Тут до него дошло. Дженнингс торжествующе произнес:
— Это сделано не человеком. На Луне побывали внеземные существа. Кто знает, как давно?
— Кто знает? — сухо повторил Стросс.
— В отчете…
— Погодите, — властно перебил Стросс. — Успеем отчитаться, когда будет о чем. Если это корабль, могут отыскаться еще обломки.
Однако не имело смысла сразу идти на поиски. Они пробыли на поверхности несколько часов, пора было есть и спать. Лучше заняться работой на свежую голову и посвятить ей весь день. Это решилось само собой, почти без обсуждения.
Низко над восточным горизонтом висела почти полная Земля, яркая, в синих разводах. Пока они ели, Дженнингс глядел на нее и, как всегда, чувствовал жгучую тоску по дому.
— Она кажется такой тихой, а ведь на ней копошатся шесть миллиардов…
Стросс вышел из задумчивости и сказал:
— Шесть миллиардов ее губят!
Дженнингс нахмурился:
— Вы ведь не Ультра?
Стросс сказал:
— Что вы несете?
Дженнингс вспыхнул. Он легко краснел, его тонкая кожа чуть что становилась розовой, и Дженнингса это страшно смущало.
Он вернулся к еде и больше не заговаривал.
Вот уже целое поколение численность землян оставалась постоянной. Человечество не могло позволить себе дальнейшего роста. С этим соглашались все. Мало того, все больше людей говорило, что этого недостаточно. Население должно сократиться. Дженнингс поддерживал эту точку зрения. Человечество проедало земной шар.
Но как сократить население? Случайным образом, убеждая людей снижать рождаемость, когда и как они захотят? В последнее время все больше появлялось таких, кто считал, что сокращать надо выборочно — пусть выживут наиболее достойные, а кому это быть, мы решим сами.
Дженнингс подумал: «Кажется, я его обидел».
Он уже засыпал, когда ему пришло в голову, что, в сущности, почти ничего не знает о Строссе. Вдруг тот намерен ночью отправиться на вылазку и присвоить себе всю славу?
Дженнингс встревоженно приподнялся на локте, но услышал лишь мерное дыхание Стросса, которое вскоре перешло в раскатистый храп.
Следующие три дня они потратили на поиски. Удалось обнаружить новые обломки, и не только. Нашли скопление бледно фосфоресцирующих бактерий. Эти микроорганизмы широко распространены на Луне, но никто из исследователей не сообщал о такой концентрации, которая вызывала бы видимое свечение.
Стросс сказал:
— Наверное, здесь лежало органическое существо или его останки. Существо умерло, бактерии-паразиты — нет. В конце концов они его съели.
— И, возможно, распространились, — добавил Дженнингс. — Не исключено, что таким образом возникли лунные бактерии. Не зародились на Луне, а были занесены эпохи назад.
— Можно сделать и другой вывод, — сказал Стросс. — Поскольку бактерии эти в корне отличны от любых земных организмов, значит, в корне отличалось и существо, на котором они паразитировали (если мы принимаем эту гипотезу). Еще одно подтверждение его внеземной природы.
След кончался у стенки небольшого кратера.
— Потребуются серьезные раскопки, — произнес Дженнингс упавшим голосом. — Надо послать отчет и просить помощи.
— Нет, — мрачно отвечал Стросс. — Может, помогать будет не в чем. Что, если кратер возник через миллионы лет после аварии?
— И останки корабля уничтожены, кроме тех, что мы уже нашли?
Стросс кивнул.
Дженнингс сказал:
— Давайте все равно копнем. Проведем линию через найденные фрагменты и чуть-чуть поковыряемся на продолжении.
Стросс затею не одобрил и работал вполсилы, так что главную находку сделал именно Дженнингс. Разумеется, это в счет! Пусть Стросс наткнулся на первый кусок металла, зато Дженнингс обнаружил Устройство.
Это было действительно устройство. Оно покоилось на глубине трех футов под неровной глыбой, упавшей так, что под ней осталась пещерка. Здесь-то устройство и пролежало, может быть, более миллиона лет, укрытое от солнечных лучей, от микрометеоритов, от перепадов температур, и потому— как новенькое.
Устройством с большой буквы его окрестил Дженнингс. Оно и отдаленно не напоминало человеческий инструмент, да и с чего бы?
— Я не вижу неровных краев, — сказал он. — Вроде целое.
— Может, какие детали выпали.
— Может, — согласился Дженнингс. — Только не похоже, чтоб оно было разборное. Оно явно цельное и явно не без цели. — Он отметил игру слов и продолжал, тщетно пытаясь одолеть волнение: — Ну теперь-то у нас есть все. Куски искореженного металла и скопление бактерий — только повод для догадок и споров. А это уже верняк — Устройство, явно изготовленное не на Земле.
Они сидели по разные стороны стола и разглядывали таинственный предмет.
Дженнингс сказал:
— Давайте составим предварительный отчет.
— Нет! — резко возразил Стросс. — Нет, черт возьми!
— Почему?
— Потому что, стоит послать доклад. Общество наложит лапу на открытие, а нам не останется места даже в примечаниях. Нет! — Стросс глядел почти умоляюще. — Давайте выясним как можно больше, пока не слетелись коршуны.
Дженнингс задумался. Ему, разумеется, не хотелось терять свою долю известности. И все же…
— По-моему, незачем рисковать, Стросс. — Впервые его потянуло назвать коллегу по имени, но он переборол импульс. — Послушайте, мы не имеем права ждать. Если это внеземное, то скорее всего с другой звезды. Остальные планеты Солнечной системы непригодны для жизни.
— Что еще надо доказать, — проворчал Стросс. — Но даже если так, какая разница?
— А такая, что создатели корабля могли совершать межзвездные перелеты, а следовательно, далеко опередили нас. Кто знает, может, Устройство позволит нам расшифровать их технологии. Возможно, это — ключ к неведомым тайнам. И даже — к немыслимой научной революции.
— Романтические бредни! Если это продукт более высокой цивилизации, мы ничего не разберем. Воскресите Эйнштейна и покажите ему микропротоверп — что он в нем поймет?
— А вдруг все-таки разберем?
— Хорошо, пусть. Что за беда, если мы немного повременим? Сами доставим эту штуковину на Землю, позаботимся, чтоб она не уплыла у нас из рук? Как следует застолбим свое открытие?
— Но, Стросс… — Дженнингс чуть не плакал. Он чувствовал, что непременно должен объяснить всю важность находки. — Что, если мы не доберемся до Земли? Разобьемся на подлете? Этим нельзя рисковать. — Он нежно похлопал Устройство. — Надо сообщить немедленно, пусть высылают корабли. Слишком большая ценность.
Волнение достигло предела. Устройство под рукой, казалось, стало теплее. Часть поверхности, полускрытая металлическим козырьком, засветилась.
Дженнингс отдернул руку, и Устройство померкло. Однако хватило и короткого мига.
Дженнингс потрясенно сказал:
— Как будто окно открылось в вашем мозгу. Я читал мысли.
— А я — ваши, — сказал Стросс. — Читал, или переживал, или испытывал, как хотите.
Он холодно, отстраненно провел рукой по Устройству, но ничего не произошло.
— Вы — Ультра, — сердито произнес Дженнингс. — Когда я его коснулся… — Он снова потрогал металлическую поверхность. — Вот опять. Я читаю ваши мысли. Вы в своем уме? Вы и впрямь считаете гуманным обречь большую часть человечества на уничтожение, истребить различия и многообразие?
Стросс отмахнулся:
— Ради Бога, не будем начинать спор. Эта штука — телепатический усилитель, она помогает общению. А почему бы нет? Мозговые клетки обладают электрическим потенциалом. Мысли — те же микроколебания электромагнитного поля…
Дженнингс отвернулся. Ему не хотелось говорить со Строссом.
Он сказал:
— Мы немедленно пошлем отчет. Плевать мне на славу. Забирайте ее себе. Я хочу одного — сбыть его с рук.
Мгновение Стросс думал.
— Это не просто передатчик. Он реагирует на эмоции. Усиливает их.
— С чего вы взяли?
— Сейчас оно дважды откликнулось на ваше касание, хотя перед этим вы трогали его целый день, и ничего. Оно не включилось от моего прикосновения.
— И что?
— Вы коснулись его в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Видимо, это нужно, чтоб его включить. А потом, когда вы, держа на нем руку, вскипели насчет Ультра, я на миг ощутил ваше негодование.
— Вот и хорошо.
— Послушайте. Так ли вы уверены в своей правоте? На Земле нет мыслящего человека, который бы не понимал, что население в миллиард предпочтительнее населения в шесть миллиардов. Если перейти на полную автоматизацию — чего не позволяет толпа, — можно было бы прекрасно существовать с населением, скажем, в пять миллионов. Послушайте, Дженнингс. Не отворачивайтесь.
Из голоса Стросса исчезла резкость, он почти умолял.
— Однако население нельзя сократить демократическим путем. Вы сами знаете. Дело не в половом влечении, современная медицина давно и полностью решила проблему контроля рождаемости. Дело в национализме. Каждая этническая группа хочет, чтоб прежде сократились другие, и я с этим согласен. Я хочу, чтоб возобладала моя, наша этническая группа. Чтобы Землю унаследовали избранные, то есть такие, как мы. Мы — настоящие люди, а орды полуобезьян сдерживают наше развитие, тянут к погибели. Мы в любом случае обречены; почему не спасти хотя бы себя?
— Нет, — твердо отвечал Дженнингс. — Ни одно сообщество не вправе объявить себя солью Землю. Ваши пять миллионов, лишенные изменчивости и многообразия, вымрут от скуки — и поделом.
— Эмоциональная чепуха, Дженнингс. Вы сами себе не верите. Просто вас оболванили наши так называемые гуманисты. Послушайте, Устройство — это то, чего нам не хватало. Пусть мы не сумеем разобраться в его работе, построить такие же. Достанет и одного. Мы сможем воздействовать на сознание ключевых политических фигур и, мало-помалу, внушить миру наши воззрения. У нас есть организация. Вы должны это знать, раз прочли мои мысли. У нас твердые убеждения и разветвленная структура — самая мощная в мире. Все больше людей вливается в наши ряды. Присоединяйтесь и вы! Вы сами сказали, что этот инструмент — ключ; но не просто к новому знанию. Это ключ к окончательному разрешению человеческих проблем. Будьте с нами! Будьте с нами!
Он говорил с жаром, какого Дженнингс в нем прежде не замечал.
Стросс положил руку на Устройство, оно мигнуло и сразу погасло.
Дженнингс печально улыбнулся. Он понимал, что за этим кроется. Стросс нарочно распалял себя, чтобы включить Устройство, но так и не сумел.
— Оно вас не слушает, — сказал Дженнингс, — и виной тому ваша сверхчеловеческая выдержка. Вы даже сорваться не можете, ведь так? — Он дрожащими руками коснулся Устройства, и оно снова засветилось.
— Тогда вы будете им управлять. Вы спасете человечество.
— Никогда! — Дженнингс задыхался от обуревающих его чувств. — Я немедленно отправлю отчет.
— Нет. — Стросс схватил со стола нож. — Имейте в виду — острый.
— Не остроумно, — произнес Дженнингс, даже в такую минуту заметив каламбур. — Я вижу, чего вы добиваетесь Заполучив Устройство, вы внушите всем, будто меня никогда не существовало. Вы приведете Ультра к победе.
Стросс кивнул:
— Вы верно читаете мои мысли.
— Ничего у вас не выйдет, — проговорил Дженнингс, — покуда Устройство у меня. — Он мысленно приказал Строссу не шевелиться.
Стросс зашатался. Рука с ножом дрожала, он не мог сделать и шага.
Оба вспотели.
Стросс выговорил сквозь зубы:
— Вы не… сможете… держать его… весь день.
Ощущение было очень четкое, но Дженнингс не знал,
можно ли описать его словами. Ему казалось, что он держит бьющегося, скользкого, неимоверно сильного зверя. Главное было — сосредоточиться на мысли о неподвижности.
Дженнингс впервые пользовался Устройством, у него не было ни навыка, ни знаний. Попробуйте впервые взять шпагу и сражаться с ловкостью мушкетера.
— Вот именно, — сказал Стросс, читая его мысли, и с трудом шагнул вперед.
Дженнингс знал, что ему не совладать с безумной решимостью Стросса. Они оба это знали. Но оставался глиссер. Дженнингсу надо было бежать. С Устройством.
Однако Дженнингс не мог ничего утаить. Стросс прочел его мысли и шагнул наперерез.
Дженнингс удвоил усилия. Не неподвижность, но обморок. Спать, Стросс, спать, думал он в отчаянии. Спать!
У Стросса подогнулись колени, глаза закрылись.
Дженнингс метнулся вперед. Сердце колотилось. Если бы чем-нибудь ударить, вырвать нож…
Однако за этими мыслями он отвлекся от своей сосредоточенности на сне. В то же мгновение Стросс ухватил его за щиколотку и дернул.
Дженнингс упал. Стросс не колебался. Блеснул нож, Дженнингс почувствовал острую боль, в глазах потемнело от страха и отчаяния.
От такого прилива чувств мигавшее до той поры Устройство вспыхнуло красным. Стросс молча разжал пальцы, из его мозга рвалась сумятица отчаяния и страха.
Стросс рухнул, лицо его страшно исказилось.
Дженнингс неуверенно встал и попятился. Он не смел думать ни о чем, кроме Стросса и его обморока. Любая попытка ответных действий потребовала бы слишком больших умственных усилий, тех самых бестолковых усилий, которые он не мог направить в нужное русло.
Он пятился к глиссеру. Там должен быть скафандр… бинты…
Глиссер не годился для дальнего перелета. И Дженнингс, в его теперешнем состоянии — тоже. Повязка на правом боку намокла, кровь хлюпала в скафандре.
Преследования не было видно, но Дженнингс понимал, что рано или поздно Стросс его догонит. Корабль гораздо мощнее глиссера, а его детекторы различат оставленный ионными двигателями заряженный след.
Дженнингс лихорадочно вызывал станцию Луна, но радио не отвечало, и он бросил безуспешные попытки. Позывные только быстрее наведут Стросса на след.
Дотянуть до станции Луна? Нет, Стросс догонит раньше. Или смерть наступит в полете, глиссер разобьется. Ему не долететь. Надо спрятать Устройство, а уж потом взять курс на станцию.
Устройство…
Может быть, он не прав. Может быть, Устройство погубит человеческий род, но оно — бесценно. Уничтожить его? Единственное свидетельство внеземного разума? В нем заключена разгадка передовой технологии, оно служило орудием высочайшей науки. Как ни велика опасность, ценность… потенциальная ценность…
Нет, надо спрятать так, чтоб Устройство нашли — но не Ультра, а просвещенные умеренные из правительства…
Глиссер остановился у северного внутреннего края кратера. Дженнингс знал, что это за кратер. Он спрячет Устройство здесь. Если не удастся достичь станции Луна или передать сообщение, он хотя бы улетит от места, где закопает Устройство — улетит далеко, чтоб тело не навело на след. И еще: надо оставить какое-то указание, ключ для будущих поисков.
Он дивился ясности своих мыслей. Может быть, Устройство, которое он по-прежнему держит в руках, стимулирует работу мозга, подсказывает идеальный шифр? Или это бред умирающего, который никто не разберет?
Карл Дженнингс понимал, что умирает. У него оставалось несколько часов и дело, которое надо закончить.
X. Сетон Дейвенпорт из Американского отдела Земного бюро расследований машинально потер звездочку шрама на левой щеке.
— Я прекрасно знаю, сэр, как опасны Ультра.
Начальник отдела М. Т. Эшли пристально глядел на Дейвенпорта. Худое лицо собралось неодобрительными морщинами. Он снова бросил курить, и сейчас, вытащив пластинку жевательной резинки, смял ее и с отвращением сунул в рот. С годами он стал еще раздражительнее, его короткие сивые усы топорщились, когда он тер их костяшками пальцев.
— Вы не знаете, насколько они опасны. Их мало, но они сильны среди имеющих власть, а те, куда ни кинь, всегда склонны почитать себя избранными. Никто не знает, сколько их и кто они.
— Даже в Бюро?
— Бюро пока держится. Но и мы, кстати, не без того. Вот вы?
Дейвенпорт нахмурился:
— Я не Ультра.
— Я не говорю, что вы состоите в организации, — сказал Эшли. — Я спросил, вполне ли вы свободны от предрассудков? Не размышляли вы о том, что творится с Землей в последние два столетия? Не приходило вам в голову, что умеренное снижение численности пошло бы ей на пользу? Не думается вам порой, что хорошо бы избавиться от безмозглых, бесчувственных, неспособных? Мне, черт возьми, думается.
Да, я ловил себя на подобных мыслях. Но считать что-либо желательным еще не значит возрождать Третий Рейх в масштабах планеты.
Путь от желания к действию не так велик, как вам кажется. Убедите себя, что цель достаточно важна, опасность достаточно велика, и средства не покажутся вам такими уж чудовищными. Ладно, теперь, когда в Стамбуле уладилось, я введу вас в курс следующего дела. Стамбульское по сравнению с ним — безобидный пустяк. Вы знали агента Феррана?
— Это который пропал? Понаслышке.
— Так вот, два месяца назад на Луне отыскали пропавший корабль. Его экипаж проводил селенографические исследования Экспедицию финансировало Русско-Американское геологическое общество, оно и сообщило, что корабль не вышел на связь. Поисковая группа без труда отыскала его на порядочном расстоянии от места, с которого поступили последние сигналы.
Корабль оказался цел, но на нем не хватало глиссера и одного из членов экипажа — Карла Дженнингса. Второй участник экспедиции, Джеймс Стросс, был жив, но нес какую-то ахинею. На теле ни царапины, а рассудок совершенно помутился. Он и сейчас не в себе, и это важно.
— Почему?
— Потому что врачи обследовали его и нашли неизвестные науке нейрохимические и нейроэлектронные расстройства. Первый случай в мировой практике. Ничто человеческое не могло вызвать такой формы безумия.
По суровому лицу Дейвенпорта пробежала усмешка:
— Вы подозреваете космических пришельцев?
— Возможно, — без улыбки отвечал Эшли. — Однако слушайте дальше. Поисковая группа прочесала окрестности корабля, но глиссера не нашла. Со станции Луна сообщили, что недавно были приняты слабые сигналы неизвестного происхождения. Они исходили с западной оконечности Моря Дождей, но, поскольку там никто не должен был находиться, их сочли случайными помехами и оставили без внимания. Пользуясь этим указанием, поисковая партия направилась в Море Дождей и действительно обнаружила глиссер. Дженнингс был на борту, мертвый. С ножевой раной в боку. Удивительно, как он вообще столько протянул.
Тем временем бред Стросса все больше смущал врачей. Они обратились в Бюро, и два наших человека на Луне — один из них Ферран — прибыли на корабль.
Ферран прослушал пленки с записью бреда. Спрашивать самого Стросса было бессмысленно: между ним и остальной Вселенной — непроницаемая стена, и, возможно, она останется навсегда. Однако в том, что он говорит, пусть сбивчиво, пусть повторяясь, есть определенный смысл. Ферран сложил обрывки его бреда, словно куски головоломки.
Видимо, Дженнингс и Стросс нашли нечто, по их мнению — очень древнее и внеземное; некий предмет с разбившегося давным-давно корабля. Видимо, это нечто способно влиять на человеческий рассудок.
Дейвенпорт перебил:
— И это нечто повлияло на рассудок Стросса? Так?
— Именно так. Стросс был Ультра — мы можем говорить «был», потому что как личность он умер, — а Дженнингс не захотел отдавать ему находку. И правильно. В бреду Стросс говорил, что использовал бы ее для ликвидации, как он выразился, «нежелательных». Он хотел довести население Земли до идеальных пяти миллионов. Произошла стычка, в которой, видимо, только Дженнингс мог управлять внушателем, но у Стросса был нож. Дженнингс скрылся — раненый, а Стросс помешался.
— И где теперь внушатель?
— Агент Ферран действовал решительно. Он снова обыскал корабль и соседнюю местность, но не нашел ничего, что не было бы явно лунным или явно человеческим. Ничего, похожего на внушатель. Тогда он обшарил глиссер и поверхность вблизи. Опять ничего.
— Не могла ли первая поисковая группа — та, что ничего не подозревала — нечаянно прихватить внушатель с собой?
— Они клянутся, что ничего не брали, и нет оснований им не верить. Напарник Феррана…
— Кто это?
— Горбанский, — сказал начальник отдела.
— Я его знаю. Мы вместе работали.
— Мне это известно. Какого вы о нем мнения?
— Толковый и честный.
— Горбанский кое-что нашел. Не орудие пришельцев. Кое-что вполне земное и привычное. Обыкновенную записку, свернутую в трубочку и засунутую в средний палец правой перчатки скафандра. Видимо, Дженнингс оставил ее перед смертью как ключ к тому месту, где спрятал находку.
— Почему вы думаете, что спрятал?
— Я же сказал, мы ее не нашли.
— Нет, почему именно спрятал? Может быть, он счел ее слишком опасной и уничтожил?
— Вряд ли. Если основываться на их со Строссом разговоре — а Ферран восстановил его по пленкам почти дословно, — то Дженнингс придавал внушателю ключевое значение. Он так и сказал: «ключ к немыслимой научной революции». Он не стал бы уничтожать такую вещь, скорее спрятал бы от Ультра и попытался известить правительство. Иначе зачем оставлять указание?
Дейвенпорт покачал головой:
— Порочный круг, шеф. Вы считаете, что он оставил ключ, потому что есть спрятанный предмет, и что предмет спрятан, поскольку остался ключ.
— Согласен, все очень шатко. Есть ли смысл в бормотаниях Стросса? Достоверен ли воссозданный разговор? Можно ли считать открытку ключом? Существует ли внушатель, или, как назвал его Дженнингс, Устройство? Бессмысленно задавать вопросы. Сейчас мы должны действовать, исходя из допущения, что внушатель существует и может быть обнаружен.
— Потому что Ферран исчез?
— Вот именно.
— Его похитили Ультра?
— Отнюдь. Записка исчезла вместе с ним.
— А, понятно.
— Феррана давно подозревали в принадлежности к Ультра. И не его одного в Бюро. Материалы не позволяли предпринять ничего конкретного: мы не можем опираться на одни подозрения, тогда придется разгонять все Бюро. За ним присматривали.
— Кто?
— Горбанский, конечно. К счастью, Горбанский переснял записку и послал копию в штаб, на Землю. Он признает, что отнесся к ней несерьезно, просто удивился, а в отчет включил, потому что полагается включать все. Ферран — полагаю, гораздо более сообразительный — сразу понял ее значение и предпринял свой шаг. Ему пришлось многим пожертвовать — он засветился и больше не сможет помогать Ультра. Впрочем, возможно, им и не потребуется больше помощь. Если они завладеют Устройством…
— Может быть, Ферран уже им завладел.
— Не забывайте, за ним велся надзор. Горбанский клянется, что Устройство еще не найдено.
— Горбанский не помешал Феррану сбежать с запиской. Возможно, он проглядел и остальное.
Эшли отрывисто постучал пальцами по столу. Потом сказал:
— Я не хочу об этом думать. Если мы найдем Феррана, то узнаем, что он успел натворить. А до тех пор наша задача — искать Устройство. Если Дженнингс его спрятал, то попытался убраться подальше. Иначе зачем оставлять ключ? Вблизи глиссера мы ничего не найдем.
— Он мог умереть раньше, чем ему удалось улететь.
Эшли снова забарабанил пальцами.
— Глиссер явно проделал большой путь. Топливо было на исходе. Все говорит за то, что Дженнингс старался оказаться как можно дальше от того места.
— Можно определить, в каком направлении он летел?
— Можно, но это ничего не даст. Судя по состоянию боковых сопл, он нарочно сбивал след.
Дейвенпорт вздохнул:
— Полагаю, у вас есть копия записки?
— Есть. Вот она. — Эшли протянул подчиненному листок. Дейвенпорт несколько мгновений смотрел. Выглядело это так:
…
— He вижу никакого смысла.
— Я сам сперва не увидел, и те, с кем я советовался — тоже. Однако порассуждайте. Дженнингс думал, что Стросс его преследует; он не знал, что тот навсегда выведен из игры. Он смертельно боялся, как бы Ультра не нашли внушатель раньше умеренных. Он не решался оставить слишком явное указание. Перед нами, — начальник отдела постучал пальцами по листку, — ключ, который кажется невразумительным на первый взгляд, но должен быть совершенно прозрачен при известной доле смекалки.
— Можно ли на это надеяться? — с сомнением произнес Дейвенпорт. — Дженнингс был при смерти, перепуган, возможно, находился под действием внушателя. Он совсем не обязательно мыслил четко и даже по-человечески. Например, почему он не попытался достичь станции Луна? Он облетел чуть не половину планеты. Может, он просто помешался и не доверял даже сотрудникам станции? Хотя нет, он пробовал с ними связаться, когда на станции поймали сигнал… Я хочу сказать, бессмысленная с виду записка действительно бессмысленна.
Эшли мрачно помотал головой, словно качнул колокол.
— Дженнингс был в панике, да. Думаю, поэтому он и не полетел к станции. Им владела одна мысль — бежать. И все же в записке может быть смысл. Каждый значок поддается расшифровке, а все в целом — прочтению.
— Какому же? — спросил Дейвенпорт.
— Обратите внимание: слева — семь значков. Справа — два. Разберем сперва левые. Третий сверху похож на знак равенства. Это наводит вас на какую-нибудь мысль?
— Алгебраическое уравнение?
— Это вообще. А в частности?
— Сдаюсь.
— Что, если это две параллельные прямые?
— Пятый постулат Эвклида? — наугад предположил Дейвенпорт.
— Хорошо! На Луне есть кратер, который зовется Эвклид.
Дейвенпорт кивнул:
— Я вижу, куда вы клоните. F/A, то есть сила, деленная на ускорение — определение массы по второму закону Ньютона…
— Да, и кратер Ньютон на Луне есть…
— А прямоугольный треугольник вверху — теорема Пифагора, в честь которого тоже назвали кратер.
— Да.
— Но погодите. Нижний значок — астрономический символ Урана, и я точно знаю, что кратера с таким названием нет.
— Вы правы. Однако Уран был открыт Уильямом Гершелем. Кратер с таким именем на Луне есть, и даже три — второй в честь сестры Гершеля Каролины, а третий в честь сына Джона.
Дейвенпорт задумался, потом сказал:
— РС/2 — давление на скорость света пополам. Такой формулы я не встречал.
— Попробуйте кратеры. Р — первая буква в латинском написании слова Птолемей, с С начинается фамилия Коперника.
— И вывести среднее? Получится место точно посередине между Коперником и Птолемеем.
— Я разочарован, Дейвенпорт, — ехидно произнес Эшли. — Думал, вы лучше знаете историю астрономии. Птолемей разработал геоцентрическую модель Вселенной с Землей посредине, Коперник — гелиоцентрическую, и в центр поместил Солнце. Некий астроном пытался совместить обе системы, сделать среднее из Коперника и Птолемея…
— Тихо Браге! — воскликнул Дейвенпорт.
— Верно. А кратер Тихо — одно из самых заметных лунных образований.
— Ладно. Попробуем дальше. LN можно написать маленькими буквами и получится In — обозначение натурального логарифма. Это понятие ввел математик Непер. Насколько я знаю, такой кратер на Луне имеется.
— Отлично. Что с SU?
— Ума не приложу, шеф.
— Выскажу догадку. Когда-то в международных документах так обозначался Советский Союз — древнее государство на месте теперешней Российской области. Советские ученые первыми нанесли на карту обратную сторону Луны, и SU может обозначать какой-то из названных ими кратеров — например, Циолковский. Итак, за левыми символами скрываются названия кратеров: Пифагор, Тихо, Эвклид, Ньютон, Циолковский, Непер, Гершель.
— А что тогда правые символы?
— Проще простого. Разделенный на четверти кружок — астрономическое обозначение Земли. Стрелка, направленная на него, должна означать, что Земля — прямо вверху.
— Ага, — протянул Дейвенпорт. — Центральный Залив, над которым Солнце всегда в зените. Это не кратер, поэтому он помещен справа, отдельно от остальных.
— Ладно, — сказал Эшли, — все значки разгаданы или могут быть разгаданы, значит, записка скорее всего не бессмысленна и пытается что-то нам сообщить. Но что именно? Мы получили семь кратеров и один не-кратер, и что с ними делать? Устройство-то спрятано в одном-единственном месте.
— Ну, — устало проговорил Дейвенпорт, — обыскать целый кратер нелегко. Допустим, Дженнингс выбрал теневую сторону, чтоб укрыться от солнечной радиации. Нам все равно придется обшаривать десятки миль. Предположим, стрелка, указывающая на Землю, означает, что искомое место в кратере — то, над которым Солнце стоит ближе всего к зениту.
— До этого я тоже допетрил. Тогда мы имеем место — южная оконечность кратеров, лежащих к северу от экватора, и северная — у тех, что расположены к югу. Но какого кратера из семи?
Дейвенпорт задумался. До сих пор он не предложил ничего такого, что прежде не пришло бы в голову шефу.
— Обыскать их все, — буркнул он.
Эшли хохотнул:
— Вот уже несколько недель как мы именно этим и занимаемся.
— И какие успехи?
— Никаких. Мы ничего не нашли. Впрочем, поиски продолжаются.
— Очевидно, один из символов расшифрован неверно.
— Очевидно!
— Вы сами сказали, что название Гершель объединяет три кратера. SU, если это Советский Союз и обратная сторона Луны, может быть любым из тамошних кратеров — Ломоносовым, Жюль Верном, Жолио-Кюри — да любым! Стрелкой можно обозначить Прямую Стену.
— Не спорю. Но даже если мы верно разгадаем значки, как отличить правильную интерпретацию от ложной и как выбрать нужный кратер? Что-то должно с ходу бросаться в глаза и сразу говорить, где суть, а где — дымовая завеса. Мы в тупике, и нам нужен свежий взгляд. Что вы тут видите?
— Я скажу, что мы можем сделать, — неохотно произнес Дейвенпорт. — Мы можем обратиться к одному человеку… О Господи! — Он привстал.
Эшли мгновенно напружинился:
— Что вы увидели?
У Дейвенпорта дрожали руки и, кажется, губы. Он сказал:
— Вы изучали прошлое Дженнингса?
— Конечно!
— Что он заканчивал?
— Восточный университет.
Дейвенпорт задохнулся от радости, но старался сдерживаться. Это еще не доказательство.
— Он слушал курс экстратеррологии?
— Разумеется, как все геологи.
— Вы знаете, кто читает экстратеррологию в Восточном университете?
Эшли щелкнул пальцами:
— Такой чудик. Как его… Уэнделл Эрт
— Правильно. Чудик, который в своем роде гениален. Чудик, который несколько раз консультировал Бюро и всякий раз находил блестящее решение. Чудик, чье имя я уже собирался назвать, когда понял, что к нему и велит прибегнуть записка. Стрелка указывает на символ Земли. Это значит — отправляйтесь на Землю. А всякий ученик Эрта знает, к кому обратиться на Земле.
Эшли всмотрелся в листок.
— Возможно, вы и правы. Но что этот Эрт скажет такого, до чего б мы не додумались сами?
Дейвенпорт с вежливым спокойствием отвечал:
— Предлагаю спросить это у него, шеф.
Эшли с изумлением огляделся по сторонам и несколько раз сморгнул. Он попал не то к колдуну, не то в экзотическую антикварную лавку; казалось, сейчас из полумрака с воплем вылетит демон.
Освещение было слабое, углы прятались в тени. Стены едва угадывались, заставленные полками с микрофильмами. За трехмерной Галактический Линзой можно было с трудом различить схемы звездного неба. Карта Луны в дальнем углу вполне могла оказаться картой Марса.
Лампа освещала лишь одно место — стол в середине комнаты, заваленный бумагами и открытыми книгами. Здесь же стояло устройство для чтения микрофильмов с заправленной пленкой и весело тикал старинный круглый будильник.
Эшли с трудом верил, что на улице — ранний вечер и светит солнце. Здесь царила вечная ночь. Окна он не приметил, и хотя в комнату явно поступал свежий воздух, начальник отдела почувствовал приступ клаустрофобии.
Он придвинулся ближе к Дейвенпорту, которого странная обстановка явно не смущала.
Дейвенпорт тихо сказал:
— Сейчас придет, сэр.
— Здесь всегда так? — спросил Эшли.
— Всегда. Насколько я знаю, он никуда не ходит, только в университет через студенческий городок.
— Господа, господа! — раздался пронзительный тенор. — Рад вас видеть. Как мило, что вы зашли.
В комнату вкатился кругленький человечек, пересек тень и оказался на свету.
Он широко улыбался и поправлял сползшие вниз очки с толстыми стеклами, чтобы разглядеть гостей. Едва он отпустил руку, очки снова съехали на самый кончик носа картофелиной и повисли, грозя свалиться совсем.
— Я — Уэнделл Эрт.
Жидкий седой клинышек на пухлом круглом подбородке не прибавлял достоинства, которым не могли похвастать улыбка и яйцевидное туловище.
— Господа! Как мило, что вы зашли! — повторил Эрт и не глядя плюхнулся в кресло. Ноги его не доставали до пола на целый дюйм и болтались в воздухе. — Мистер Дейвенпорт, вероятно, помнит, как… э… важно для меня не выходить отсюда. Я путешествую только пешком, и прогулки через студенческий городок мне вполне хватает.
Эшли оторопел. Он продолжал стоять, а Эрт в растущем недоумении пялился на него. Потом вытащил носовой платок, протер очки, нацепил их на нос и сказал:
— Я вижу ваше затруднение. Вам некуда сесть. Ладно. Берите стулья. Если на них что-нибудь лежит, смахните. Смахните на пол! Рассаживайтесь, пожалуйста.
Дейвенпорт снял со стула книги и осторожно положил их на пол. Пододвинул стул Эшли. С другого стула он снял человеческий череп и еще осторожнее поставил на стол. При этом плохо прикрученная нижняя челюсть отвисла, и череп оказался перекошенным.
— Пустяки, — милостиво сказал Эрт. — Ему не больно. Теперь рассказывайте, господа, что вас ко мне привело?
Дейвенпорт подождал, чтобы Эшли заговорил первым, и поскольку тот молчал, с явным облегчением начал:
— Доктор Эрт, помните вы студента по фамилии Дженнингс? Карла Дженнингса?
Эрт задумался. Улыбка исчезла с его лица. Чуть выкаченные глаза заморгали.
— Нет, — сказал он. — Сейчас не припоминаю.
— Геолог. Несколько лет назад он слушал у вас курс экстратеррологии. У меня есть фотография, если это вам поможет.
Эрт близоруко вгляделся в снимок, однако лицо его по-прежнему выражало сомнение.
Дейвенпорт продолжил:
— Он оставил шифрованную записку — ключ к очень важному делу. До сих пор нам не удавалось правильно ее разгадать, но одно мы поняли — она велит обратиться к вам.
— Вот как? Любопытно! И зачем же обращаться ко мне?
— Вероятно, чтоб вы посоветовали, как прочесть записку.
— Можно на нее взглянуть?
Эшли молча передал листок Уэнделлу Эрту. Экстратерролог скользнул глазами по бумаге, перевернул ее и некоторое время тупо смотрел на пустую сторону.
— Где тут сказано обратиться ко мне?
Эшли вздрогнул, но Дейвенпорт опередил его:
— Стрелка указывает на символ Земли. Мы решили, что это отсылает нас к вам.
— Да, стрелка явно направлена на символ планеты Земля. Я полагаю, это может означать буквально «отправляйтесь на Землю», если записку нашли на какой-то другой планете.
— Ее нашли на Луне, доктор Эрт, и, конечно, значение может быть именно таким. Но когда мы узнали, что Дженнингс учился у вас, мы решили, что тут подразумеваетесь вы. Понимаете, при своем домоседстве вы… э… очень земной человек.
— Он слушал экстратеррологию здесь, в университете?
— Да.
— В каком году, мистер Дейвенпорт?
— В восемнадцатом.
— A-а. Загадка разрешилась.
— Вы хотите сказать, что поняли записку? — спросил Дейвенпорт.
— Нет-нет. Она по-прежнему ничего мне не говорит. Под загадкой я разумел, что забыл Дженнингса, потому что теперь я его вспомнил. Он был очень тихий, серьезный, робкий, всегда держался в тени — такие не западают в память. Без этого, — доктор постучал по листку, — я бы его не вспомнил.
— А что изменила открытка? — спросил Дейвенпорт.
— Она составлена в форме ребуса. Не очень удачного, конечно, но в этом — весь Дженнингс. Его недосягаемой мечтой были каламбуры. Все, что я о нем помню, — это попытки играть словами. Я люблю каламбуры, я обожаю каламбуры, но Дженнингс — теперь я вижу его совершенно явственно— каламбурил ужасно. Или банально, или, как в данном случае, — маловразумительно. У него не было ни малейших способностей к игре слов, тем не менее он постоянно пытался острить…
Эшли перебил:
— Это послание целиком построено на словесной игре, доктор Эрт. По крайней мере мы так полагаем, и это сходится с тем, что вы сказали.
— Ах! — Эрт поправил очки и снова вгляделся в непонятные символы. Покусал пухлые губы, потом сказал бодро: — Ничего не понимаю.
— В таком случае… — Эшли сжал кулаки.
— Но если вы объясните, к чему это написано, — продолжал Эрт, — я, может быть, что-нибудь разберу.
Дейвенпорт быстро сказал:
— Разрешите, сэр? Я уверен, что доктору Эрту можно доверять, а вдруг это поможет?
— Валяйте, — буркнул Эшли. — Хуже уже не будет.
Дейвенпорт в сжатом, телеграфном стиле изложил предысторию записки. Эрт слушал внимательно, водя короткими пальцами по столу, словно смахивал невидимый пепел. К концу рассказа он подобрал ноги по-восточному и остался сидеть этаким благожелательным Бумой.
Когда Дейвенпорт закончил, Эрт на секунду задумался, потом сказал:
— Нет ли при вас случайно сделанной Ферраном реконструкции разговора?
— Есть. Хотите взглянуть?
— Да, если позволите.
Эрт вставил микрофильм в сканер и быстро проглядел, время от времени невнятно шепча губами. Потом постучал пальцами по загадочному листку.
— Говорите, это ключ к разгадке?
— Мы так полагаем, доктор Эрт.
— Но это не оригинал, а копия.
— Верно.
— Оригинал исчез вместе с Ферраном и, как вы считаете, попал к Ультра.
— Очень возможно.
Эрт с растерянным видом покачал головой:
— Все знают, что я не люблю Ультра. Я готов всеми силами сражаться против них и не хочу создавать впечатление, будто отказываюсь вам помочь, но — где уверенность, что Устройство действительно существует? У вас есть бормотания сумасшедшего и ваши собственные домыслы на основании копии листка с таинственными значками, которые могут не значить ровным счетом ничего.
— Да, доктор Эрт, но мы не имеем права рисковать.
— Уверены ли вы, что копия точна? Быть может, оригинал содержал нечто, его проясняющее, и без этого сообщение не прочесть?
— Мы уверены, что копия точна.
— Как насчет другой стороны? На обороте у листка ничего нет. А у оригинала?
— Человек, снимавший копию, говорит, что оборотная сторона была белой.
— Люди ошибаются.
— У нас нет оснований подозревать его в ошибке, и мы должны исходить из допущения, что копия верна. По крайней мере пока не разыщем оригинал.
— Значит, вы утверждаете, — сказал Эрт, — что любая интерпретация должна строиться исключительно на том, что мы сейчас ищем?
— Мы так думаем. Мы практически уверены, — сказал Дейвенпорт, чувствуя, как на него накатывает разочарование.
Доктор Эрт по-прежнему выглядел расстроенным.
— Почему не оставить Устройство в покое? Если ни вы, ни Ультра его не найдете — тем лучше. Я против всякого воздействия на мозг и не хотел бы способствовать его проникновению в жизнь.
Дейвенпорт, видя, что Эшли сейчас вспылит, успокаивающе тронул его за руку и сказал сам:
— Позвольте заметить, доктор Эрт, что воздействие на мозг — не единственная функция Устройства, Положим, земные космонавты на далекой примитивной планете обронили старинный радиоприемник, и, положим, местное население уже открыло электрический ток, но еще не изобрело электролампы.
Местные жители догадываются подключить радио к сети, видят, что какие-то стеклянные штучки нагреваются и начинают светиться, но, разумеется, не слышат понятных звуков, разве что хрипы и треск. Предположим, они роняют включенный приемник в ванну, где моется человек, и его убивает током. Должно ли население гипотетической планеты заключить, что оставленное землянами устройство предназначено исключительно убивать?
— Я понимаю ваше сравнение, — сказал Эрт. — Вы считаете, что воздействие на мозг — всего лишь побочная функция Устройства?
— Я в этом уверен, — с жаром отвечал Дейвенпорт. — Если мы разгадаем его истинное назначение, земная техника шагнет на столетия вперед!
— Так вы согласны с Дженнингсом, что это… — Эрт сверился с микрофильмом, — ключ к немыслимой научной революции?
— Всецело!
— Однако способность действовать на мозг остается и безумно опасна. Радио, каково бы ни было его истинное назначение, действительно может убить.
— Тем более нельзя допустить, чтобы им завладели Ультра.
— Возможно, и правительство тоже?
— На это я отвечу, что существуют разумные пределы осторожности. Подумайте: люди всегда соприкасались с опасностью. Первый кремневый нож каменного века, первая деревянная дубина еще раньше могли убивать. С их помощью сильный принуждал слабого к покорности, а это — тоже форма воздействия на мозг Важно не само устройство, доктор Эрт, и не опасность, которая в нем заключена, а намерения людей, которые им управляют. Ультра хотят истребить 99,9 процента человечества. Правительство тоже состоит не из ангелов, но такой цели у него нет
— А какая же у него цель?
— Исследовать Устройство. То же влияние на мозг можно обратить на великое благо, если подойти к нему с позиций науки и просвещения. Возможно, мы разгадаем физическую природу мышления, научимся лечить психические расстройства или даже сумеем исправить Ультра. Все человечество может поумнеть.
— Почему я должен верить, что благие пожелания воплотятся?
— Я верю. Подумайте: если вы нам поможете, остается малая вероятность, что правительство употребит Устройство во вред; если ж Устройство попадет к Ультра, возникает уже не гипотетическая угроза человечеству.
Эрт задумчиво кивнул:
— Возможно, вы правы. Однако я вынужден попросить вас об одолжении. У меня есть племянница, которая, я полагаю, меня любит. Ее постоянно огорчает мое твердое нежелание губить свою жизнь в путешествиях. Она говорит, что не успокоится, пока я не поеду с ней в Европу, Северную Каролину или еще в какую-нибудь страшную даль…
Эшли с жаром подался вперед, не обращая внимания на предупреждающий жест Дейвенпорта.
— Доктор Эрт, если вы поможете нам найти Устройство и мы сумеем пустить его в ход, то, уверяю, охотно поможем вам освободиться от фобии. Вы поедете с племянницей, куда пожелаете.
Выкаченные глаза Эрта расширились, сам он весь сжался. С минуту маленький ученый озирался, словно попал в ловушку.
— Нет! — выдохнул он. — Нет! Никогда!
Он хрипло зашептал:
— Давайте я объясню, какой мне нужен гонорар. Если я вам помогу и вы найдете Устройство, научитесь им управлять, если мое участие станет известным, племянница начнет осаждать правительство. Это очень решительная, громогласная женщина, которая способна собирать подписи и устраивать демонстрации. Она не остановится ни перед чем. Не отдавайте ей Устройство! Ни под каким видом, сколько бы она ни требовала! Я хочу оставаться таким, каков я есть. Это мой окончательный и минимальный гонорар.
Эшли вспыхнул.
— Да, конечно, если вы так хотите.
— Ваше слово?
— Мое слово.
— Пожалуйста, не забудьте. Я рассчитываю и на вас, мистер Дейвенпорт.
— Все будет, как вы пожелаете, — успокоил Дейвенпорт. — А теперь, я полагаю, вы объясните, что значат символы?
— Символы? — Эрт с трудом сосредоточил взгляд на листке. — Вы хотите сказать, треугольник, буковки и так далее?
— Да. Что они значат?
— Не знаю. Ваше толкование не хуже любого другого.
Эшли взорвался:
— Так что вы нам тут вкручивали? Что болтали насчет гонорара?
Эрт смутился:
— Я не отказываюсь вам помочь.
— Но вы не знаете, что значат символы.
— Н-не знаю. Но я знаю, что значит записка.
— Знаете?! — воскликнул Дейвенпорт.
— Конечно. Она совершенно прозрачна. Я заподозрил это довольно давно. Пленка с реконструкцией разговора убедила меня окончательно. Вы бы и сами догадались, господа, если б хоть на минуту задумались.
— Слушайте, — в отчаянии выговорил Эшли, — вы же говорите, что не понимаете символов.
— Не понимаю. Я знаю, что говорит записка.
— А что есть в записке, кроме символов? Бумага, что ли?
— В некотором смысле, да.
— Вы хотите сказать, невидимые чернила или что-то вроде того?
— Нет! Вы так близки к разгадке — неужели вы не можете понять?
Дейвенпорт наклонился к Эшли и произнес тихо:
— Пожалуйста, позвольте мне, сэр.
Эшли фыркнул, потом с усилием выдавил:
— Валяйте.
— Доктор Эрт, — сказал Дейвенпорт, — не изложите ли вы нам свои рассуждения?
— Ладно, ладно. — Кругленький экстратерролог удобнее сел в кресле и вытер потный лоб рукавом. — Разберем послание. Если вы согласны, что разделенный на четверти кружок отсылает ко мне, то остается семь значков. Если ими зашифрованы кратеры, то по меньшей мере шесть написаны для маскировки, ведь Устройство может быть только в одном. Оно неразборное и неразъемное.
Далее: ни один из значков не трактуется однозначно. SU может, по вашему толкованию, означать любое место на обратной стороне Луны, которая занимает площадь Южной Америки. РС/2 может означать «Тихо», как остроумно предложил мистер Эшли, или «на полпути между Коперником и Птолемеем», как думал мистер Дейвенпорт, или с таким же успехом «посредине между Платоном и Кассини». Также и LN может означать Непера, а может указывать на точку между Непером и Лаперузом. За F/A может скрываться Ньютон или кратер, расположенный между Фабрицием и Архимедом.
Короче, символы дают такой простор для толкований, что оказываются бессмысленными. Даже если один из них что-то и значит, его невозможно вычленить из остальных, и разумно предположить, что все семь написаны для отвода глаз.
Значит, надо определить, что в послании совершенно недвусмысленно и не вызывает сомнений. Ответ ясен: послание — ключ к решению загадки. Это — единственное, в чем мы уверены, не так ли?
Дейвенпорт кивнул, потом сказал осторожно:
— По крайней мере мы считаем, что уверены.
— Да, вы сами называли записку ключевой. Дженнингс считал Устройство ключом к немыслимой научной революции. Если мы соединим это его серьезное отношение и склонность к каламбурам, которая под воздействием Устройства могла еще обостриться… Итак, позвольте рассказать вам одну историю.
Во второй половине шестнадцатого века жил в Риме немецкий иезуит, математик и астроном. В 1582 году он помог римскому папе Григорию XII в реформе календаря, выполнив необходимые громоздкие расчеты. Он восхищался Коперником, но не принимал гелиоцентрическую систему, предпочитая по старинке считать Землю центром Вселенной.
В 1650 году, спустя почти сорок лет после смерти математика, другой иезуит, итальянский астроном Джованни Баттиста Риччоли составил карту Луны. Он называл кратеры в честь великих астрономов прошлого, а поскольку тоже отвергал систему Коперника, то посвятил самые большие и заметные тем, кто помещал в середину Вселенной Землю, — Птолемею, Гиппарху, Альфонсо X, Тихо Браге. Самый крупный кратер, который Риччоли смог отыскать, он оставил для немецкого собрата по ордену.
На самом деле этот кратер — второй по величине из видимых с Земли. Больше его только Бэйи, расположенный на самом краю лунного диска и потому почти не различимый с Земли. Риччоли его не заметил, и кратер назвали в честь астронома, жившего почти сто лет спустя и казненного во время Французской революции.
Эшли не выдержал:
— Какое отношение это имеет к записке?
— Самое прямое, — удивленно отвечал Эрт. — Разве вы не сказали, что записка — ключ к решению?
— Да, конечно.
— Разве не очевидно, что мы имеем дело с неким ключом?
— Очевидно, — сказал Эшли.
— Так вот, немецкого иезуита, о котором я говорю, звали Кристоф Клау. Разве имя Клау не созвучно слову ключ?
Эшли даже обмяк от разочарования.
— Притянуто за уши, — пробормотал он.
Дейвенпорт сказал с тревогой:
— Доктор Эрт, насколько мне известно, на Луне нет образования, которое носило бы имя Клау.
— Разумеется, нет, — с жаром произнес Эрт. — В том-то и дело. В то время, в конце шестнадцатого века, среди европейских ученых было принято латинизировать свои имена. Вот и Клау заменил немецкое «и» латинским «V» и добавил типичное для римских имен окончание. Кристоф Клау стал Христофором Клавием — пишется Clavius — и, я думаю, вы знаете об исполинском кратере Клавий…
— Ну, доктор Эрт…
— Не нукайте, — сказал Эрт, — лучше подумайте. Латинское clavis означает ключ. Видите двуязычный каламбур — Клавий — Clavius — clavis — ключ? Дженнингсу никогда бы до такого не додуматься, если б не Устройство. А так, я полагаю, он умер, торжествуя. И направил вас ко мне, зная: я сам имею такую склонность и вспомню его страсть к каламбурам.
Двое сотрудников Бюро вытаращились на маленького ученого.
Эрт сказал торжественно:
— Предлагаю вам поискать на северной стороне Клавия, в той его точке, где Земля ближе всего к зениту.
Эшли встал:
— Где у вас видеофон?
— В соседней комнате.
Эшли рванулся звонить, Дейвенпорт задержался на пороге.
— Вы уверены, доктор Эрт?
— Совершенно уверен. Но, даже если я ошибаюсь, неважно.
— Что неважно?
— Найдете ли вы Устройство. Ультра если его и отыщут, скорее всего не смогут пустить в ход.
— Почему вы так считаете?
— Вы спросили, учился ли у меня Дженнингс, но не поинтересовались насчет Стросса, а ведь он тоже геолог. Он учился у меня на курс-два позже Дженнингса. Я отлично его помню.
— И?..
— Неприятный тип. Холодный — полагаю, как все Ультра. Они очень холодные, очень жесткие, очень самоуверенные. Они не способны сопереживать, иначе не мечтали бы истребить миллиарды людей. Их чувства — ледяные, эгоистические, неспособные преодолеть расстояние до другого человека.
— Кажется, я понимаю.
— Конечно, понимаете. Из реконструкции разговора ясно, что Стросс не справился с Устройством. Ему не хватило душевного пыла, или он не смог создать нужный настрой. Думаю, все Ультра такие. Дженнингс — не Ультра — включил Устройство. Полагаю, с ним справится лишь тот, кто не способен хладнокровно причинять боль. Он может ударить под влиянием панического страха, как Дженнингс — Стросса, но не по расчету, как Стросс — Дженнингса. Короче, я считаю, что Устройство подчинится любви, а ненависти — никогда, Ультра же способны только ненавидеть.
Дейвенпорт кивнул:
— Надеюсь, вы правы. Но если вы уверены, что злому человеку Устройство не покорится, зачем было с пристрастием выяснять намерения правительства?
Эрт пожал плечами:
— Я хотел убедиться, что вы способны с ходу приводить доводы и заболтаете кого угодно. В конце концов, вдруг вам придется говорить с моей племянницей?
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (цикл)
Действие цикла разворачивается в микромире. Уменьшенные до размеров атома герои по своей воле или вынужденно проникают во внутреннее пространство человеческого тела. И оказывается, что, несмотря на крошечные размеры, их ждут вовсе нешуточные испытания, подлинные приключения, реальные опасности, роковые страсти…
Книга I. ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Глава 1
САМОЛЕТ
Самолет был стар, четыре его плазменных двигателя давно уже были списаны, и все же он находился в полете. Путь, который он прокладывал сквозь пелену облаков, должен был занять у него двенадцать часов, в то время как ракетному сверхзвуковому потребовалась бы для этого не более пяти.
Оставалось лететь еще около часа.
Агент на борту понимал, что его часть работы не кончится, пока самолет не приземлится, и последний час казался ему самым длинным.
Он взглянул на единственного человека в огромном пассажирском салоне — тот дремал, опустив подбородок на грудь.
В пассажире не было ничего особо привлекательного, но в данный момент он был самым важным человеком в мире.
* * *
Генерал Алан Картер мрачно взглянул на появившегося в кабинете полковника. Глаза у генерала были припухшими, уголки губ скорбно опущены. Он крутил в руках скрепку для бумаг, тщетно пытаясь придать ей первоначальную форму и наконец отшвырнул ее.
— Еле успел, — спокойно сказал полковник Дональд Рейд. Его волосы песочного цвета были аккуратно причесаны, но короткие, с проседью усы топорщились. В аккуратности подогнанной по фигуре формы была какая-то странная неестественность, свойственная и хозяину кабинета. Оба они были специалистами, призванными на службу в армию из-за уникальности своих знаний; военные звания были им присвоены лишь ради удобства, но, учитывая круг их занятий, в них не было никакой необходимости…
У обоих на петлицах были одни и те же обозначения из четырех букв ОССМ, каждая из которых была заключена в маленький шестиугольник: два наверху, два внизу; между нижними буквами размещался такой же шестиугольник с символом, который говорил о роде занятий их обладателя. У Рейда что были кадуцеи, означавшие принадлежность к медицинской службе.
— Догадайтесь, чем я занимаюсь, — сказал генерал.
— Крутите скрепку для бумаг.
— Естественно. И кроме того, считаю часы. Как дурак! — В голосе его чувствовалось напряжение. — Я сижу тут с потными руками, волосы торчком, сердце колотится — и считаю часы. Теперь уже минуты. Осталось семьдесят две, Дон. Семьдесят две минуты — и они приземлятся в аэропорту.
— Ну и отлично. Стоит ли нервничать? Что-нибудь не так?
— Нет. Ничего. Он в полном порядке. Насколько я знаю, его передали с рук на руки без сучка и задоринки. И беспрепятственно посадили на самолет, на тот старый…
— Да. Я знаю.
Картер покачал головой. Он не сообщал своему собеседнику никаких новостей: просто ему было нужно говорить.
— Мы догадываемся, что Они догадываются, насколько важно для нас время. Если уж мы засунули его в Х-52 и запустили в стратосферу. Только мы догадываемся, что Они об этом тоже догадываются, и привели противоракетную систему в полную боевую готовность…
— Паранойя, — сказал Рейд — вот как мы называем такое состояние. Свойственное, я хочу сказать, любому, кто верит, что Они это сделали. В таком случае Они идут на риск войны и всеобщего уничтожения.
— Они могут рискнуть лишь для того, чтобы предотвратить то, что происходит. И я почти убежден, что и нам придется рискнуть, если ситуация изменится… Поэтому мы и использовали коммерческую машину с четырьмя плазменными двигателями. Она настолько стара, что я сомневался, взлетит ли…
— Ну, и взлетела?
— Да, да. Пока все идет отлично. Я получил сообщение от Гранта.
— Кто он такой?
— Агент на борту. Я его знаю. Когда он при деле, я чувствую себя в полной безопасности, насколько о ней вообще можно говорить. И уровень ее очень высок. Грант все и организовал: выковырял Бенеса из Их рук, как семечко из дыни.
— Так в чем дело?
— Я все же волнуюсь. Рейд, только такой мошеннический способ давал надежную гарантию, что удастся справится с делом. Можете в это поверить. Они не менее хитры, чем мы, и на каждое наше действие Они предпринимают контрдействие; на каждого нашего человека, которого мы посылаем на Их сторону, приходится один Их человек на нашей. Это тянется вот уже полстолетия, и мы просто обязаны идти с Ними голова в голову, как повелось издавна.
— Спокойнее, Ал.
— Откуда у меня возьмется спокойствие? Наконец-то то новое здание, что несет с собой Бенес, может положить конец гонке — раз и навсегда. И нам достанутся лавры победителей.
— Надеюсь, что Другие так не думают, — сказал Рейд. — Если бы Они так считали… Вы же знаете, Ал, до сих пор игра велась по определенным правилам. Ни одна из сторон не ставила другую в безвыходное положение, не загоняла в угол, когда единственным выходом была бы ядерная кнопка. Ты должен оставить им безопасное пространство, дать возможность сделать шаг назад. Давить, но не слишком сильно. Когда Бенес окажется здесь, Они могут придти к выводу, что оказались в безвыходном положении.
— У нас не было иного выхода, кроме как пойти на этот рискованный шаг.
Затем, словно ему в голову с запозданием пришла основная мысль, он добавил: — Если мы его доставим сюда.
— Но он же прибывает, не так ли?
Картер поднялся на ноги, позволив себе предаться бесцельному хождению взад и вперед. Затем, взглянув на собеседника, он решительно опустился в кресло.
— Ладно, не стоит волноваться. У вас такие мягкие спокойные глаза, доктор. Я не нуждаюсь ни в каких пилюлях счастья. Но, предположим, он в самом деле окажется здесь через семьдесят две… точнее, через шестьдесят шесть минут. Предположим, самолет уже садится в аэропорту. Но его еще надо доставить сюда, разместить, обеспечить безопасность… Может быть столько накладок…
— …и прочих неполадок, — в унисон ему подхватил Рейд. — Послушайте, генерал, не можем ли мы взяться за ум и поговорить о последующих событиях? То есть — что произойдет после того, как он окажется здесь?
— Бросьте, Дон, давайте подождем, пока он в самом деле прибудет.
— Бросьте, Ал, — передразнил его полковник, точно сымитировав интонацию голоса генерала. — Это не может ждать его появления. Тогда будет слишком поздно. Вы будете по уши заняты. Вся эта мелкая сошка из штаб-квартиры начнет носиться сломя голову, и не будет сделано ничего из того, что, по моему мнению, необходимо сделать.
— Я вам обещаю… — генерал сделал неопределенный жест.
Рейд не обратил на него внимания.
— Нет. Потом вы окажетесь на в силах выполнить ни одного обещания, которое даете на будущее. Звоните шефу тут же, сейчас, ясно? Немедленно! Вы можете пробиться к нему. Сию секунду, не откладывая, потому что вы единственный, кому это под силу. Дайте ему понять, что наша служба не просто обслуживает нужды обороны. Или свяжитесь с комиссаром Фурналдом. Он на нашей стороне. Скажите ему, что мне нужны любые крохи сведений о биоисследованиях. Дайте ему понять, что у вас есть право голоса. Послушайте, Ал, нам придется орать во всю глотку, чтобы нас услышали. И, скорее всего, нам придется вступить в драку. Как только Бенес окажется здесь, на него навалятся настоящие генералы, черт бы их побрал, и они вообще отстранят нас от работы в комиссии.
— Я не могу, Дон. И не хочу… Как бы вы ни настаивали, я и пальцем не шевельну, пока Бенес не окажется на месте. И мне не нравится, что в такое время вы пытаетесь схватить меня за горло.
У Рейда побелели губы.
— Что прикажете делать, генерал?
— Ждать, как и я. Считать минуты.
Полковник повернулся, собираясь уходить. Как
бы ни был он разгневан, Рейд держал себя в руках.
— На вашем месте я бы взял транквилизатор, генерал.
Картер молча проводил его взглядом и посмотрел на часы.
— Шестьдесят одна минута! — пробормотал он, снова принимаясь терзать скрепку.
* * *
Рейд испытал подлинное облегчение, когда переступил порог кабинета доктора Микаэлса, гражданского главы Медицинской службы. Выражение широкого лица Микаэлса обычно колебалось между мягкой спокойной расположенностью и неопределенной озабоченностью, которую, впрочем, не стоило воспринимать слишком серьезно.
Перед ним были разложены неизменные графики и схемы, изучением которых он, как правило, бывал занят. Для полковника Рейда все они были одинаковы: головоломки, в которых невозможно разобраться, и, собранные воедино, они вызывали в нем’ чувство безнадежного отчаяния.
Время от времени Микаэлс пытался объяснить Рейду их смысл, вкладывая в эти импровизированные лекции изрядную долю пафоса.
Выяснялось, что кровоток можно проследить, если ввести в него слабый радиоактивный реагент и отметить его путь в организме (неважно, человека или мыши), ибо появлялась возможность его отснять и, так сказать, пользуясь принципом лазерного сканирования, получить трехмерное изображение кровеносной системы.
— Впрочем, подробности несущественны, — обычно на этом этапе объяснений Микаэлс прерывал себя. — Словом, вы получаете изображение всей системы кровообращения в трех измерениях, любая часть или проекция которой может быть переведена в двухмерный план и увеличена в той мере, в какой это нужно для работы. При достаточном увеличении можно добраться и до мельчайших капилляров.
— Так что я превращаюсь в настоящего географа, — добавлял Микаэлс. — Географа человеческого тела, путешествующего по его рекам и заливам, от истоков до устья; и заверяю вас, сеть эта куда сложнее, чем что-либо на Земле.
Из-за плеча Микаэлса Рейд посмотрел на схему и спросил:
— Это чья, Макс?
— Не стоит внимания. — Микаэлс отбросил схему в сторону. — Я сижу и жду, вот и все. В ожидании принято читать книги. Я читаю кровеносную систему.
— И ты ждешь, да? Как и он. — Движением головы Рейд показал в направлении кабинета Картера. — И ты ждешь того же самого?
— Бенеса, который должен прибыть сюда. Конечно, но все же мне как-то не верится.
— Во что не верится?
— Я не уверен, что этот человек именно таков, каким он себя представляет. Я физиолог, в чем не сомневаюсь, а не физик. — С самоуничижительным юмором Микаэлс пожал плечами. — И мне приходится верить экспертам. Они говорят, что выхода нет. Я слышал, как они говорили, что, мол, в силу Принципа Неопределенности у нас есть только строго отмеренное время. А можешь ли ты позволить себе спорить с Принципом Неопределенности?
— Я тоже не эксперт, Макс, но те же самые специалисты заверили нас, что в данной области Бенес — самый крупный эксперт из всех них. Другая Стороца, имея его в своем распоряжении, держалась на одном уровне с нами только благодаря ему; именно только с его помощью. У нас есть Залецкий, Крамер, Рихтхейм, Линдсей и все прочие, а у них нет никого, кто мог бы сравниться с этими светилами… Но наши самые крупные шишки считают, у него должно что-то быть, раз он так говорит.
— В самом деле? Или они просто считают, что мы не имеем права упускать ни малейшей возможности? В любом случае, если даже выяснится, что у него ничего нет на руках, мы все равно выиграем этот ход, организовав его бегство. И они не смогут больше пользоваться его услугами.
— Чего ради ему врать?
— А почему бы и нет? — возразил Микаэлс. — Это помогло ему унести ноги. Это поможет ему очутиться здесь, чего, как я предполагаю, он и хотел. И если выяснится, что у него ничего нет, мы же не будем отсылать его обратно, так? Кроме того, он, может, и не врет — просто ошибается.
— Хмм, — Рейд откинулся на спинку стула и задрал ноги на стол, что явно не соответствовало его статусу полковника. — Ты попал в самую точку. И даже если он надул нас, Картеру это пойдет только на пользу. Как и всем им, идиотам.
— Тебе ничего не удалось добиться от Картера?
— Ничего. Он решил ровным счетом ничего не предпринимать до появления Бенеса. Он сидит и считает минуты, как и я. Осталось сорок две.
— До чего?
— До прибытия самолета с ним в аэропорт. Биоисследования пока ничего не сообщают. Если Бенес все это организовал, только для того, чтобы удрать от Другой Стороны, мы вытянули пустышку, да и в любом случае у нас все равно ничего нет. Все достанется системе обороны — все до ломтика, до крошки, до капли. Они будут так счастливы этим игрушкам, что ни за что не откажутся от них.
— Чепуха. Может, поначалу они и вцепятся в них, но и у нас есть возможность надавить. Мы можем напустить на них Дюваля, этого напористого богобоязненного Питера.
По лицу Рейда скользнула тень отвращения.
— Я бы с удовольствием напустил его на военных. И исходя из того, что я сейчас чувствую, напустил бы его и на Картера. Если Дюваль будет настроен добиваться своего, а Картер не пойдет ему навстречу, я бы свел их воедино и пусть бы они загрызли друг друга до смерти…
— Откажись от этих разрушительных идей, Дон. Ты слишком всерьез воспринимаешь Дюваля. Хирург — это художник, скульптор, работающий с живой плотью. Великий хирург — это великий художник, обладающий его же темпераментом.
— Ну, темперамент есть и у меня, но я не хочу, чтобы все болячки доставались только мне. Почему только Дюваль обладает монопольным правом быть надменным и хамоватым?
— Обладай таким правом только он, я был бы счастлив. Я бы искренне поблагодарил его и оставил в покое. Беда в том, что в мире слишком много надменных и оскорбляющих личностей.
— Пожалуй, что так. Пожалуй, что так, — пробормотал Рейд, не в силах освободиться от гнетущего его беспокойства. — Тридцать семь минут.
* * *
Если бы кто-нибудь повторил краткую характеристику, данную Рейдом хирургу, самому доктору Питеру Лоуренсу Дювалю, она была бы встречена таким же кратким хмыканьем, с каким он выслушал бы признание в любви. Это отнюдь не означало, что Дюваль был нечувствителен к восхвалениям или оскорблениям; дело было в том, что он позволял себе реагировать на них, только когда у него было свободное время, каковое выпадало ему очень редко.
Мрачное выражение, неизменно присутствовавшее на его лице, было, скорее, результатом напряжения мышц, проистекавшего от перманентного мыслительного процесса в его голове. У каждого есть свой способ бегства от окружающего мира; Дюваль пользовался самым простым: он с головой погружался в работу.
К сорока с лишним годам он обрел международную известность как нейрохирург и статус убежденного холостяка, на что он не обращал никакого внимания.
Когда открылась дверь, он не позволил себе оторваться от внимательного изучения трехмерного рентгеновского снимка, который лежал перед ним на столе. Привычно бесшумными шагами вошла его ассистентка.
— В чем дело, мисс Петерсон? — спросил он, до боли в глазах вглядываясь в снимок. Глубина изображения была вполне достаточной для поверхностной оценки, но подлинное проникновение в суть требовало точнейшего расчета углов, плюс изощренное знание того, что кроется в глубине.
Кора Петерсон застыла на месте, собираясь с мыслями. Ей минуло двадцать пять лет, она была на двадцать лет младше Дюваля, и полученную ею всего год назад степень магистра она почтительно преподнесла к ногам хирурга.
В письмах домой она при каждом удобном случае объясняла, что день рядом с Дювалем равен курсу колледжа; просто невозможно было представить изощренность его методов диагностики, его технику обследования, его виртуозное мастерство владения инструментарием. При ее преданности работе, при ее стремлении лечить, состояние Коры можно было оценить как непрерывное вдохновение.
Едва только она зашла в комнату, ее, как профессионального физиолога, обеспокоили углубившиеся морщины на лице шефа, склоненного над работой.
Ее лицо осталось бесстрастным, хотя она никак не могла справиться с глупыми беспорядочными сокращениями сердечной мышцы.
Зеркало достаточно откровенно Говорило, что ее внешнему облику недостает скромности и сдержанности. У нее были на удивление широко расставленные темные глаза; движения губ выдавали незаурядное чувство юмора, когда она позволяла себе улыбаться, что бывало нечасто, а пропорции фигуры раздражали ее тем, что привлекали внимание куда большее, чем ее профессиональная компетентность. Ей хотелось огрызаться (во всяком случае, выдавать интеллектуальный эквивалент такой реакции), когда обращали внимание не на ее способности, а на ее формы, с которыми она ничего не могла поделать.
Дюваль же оценивал лишь эффективность ее работы, не обращая никакого внимания на ее привлекательную внешность, что заставляло Кору еще больше восхищаться им.
Наконец она сказала:
— Бенес приземлится меньше, чем через тридцать минут, доктор.
— Хмм. — Он поднял на нее глаза. — А почему вы еще здесь? Ваш рабочий день уже закончился.
Кора могла возразить, что и его тоже, но она знала, что его день подходит к концу лишь по завершении всей работы. Порой она оставалась рядом с ним все шестнадцать непрерывных часов, хотя припоминала, как он обещал ей (и совершенно искренне), что ее ждет лишь восьмичасовой рабочий день.
— Я хочу Дождаться встречи с ним, — сказала она.
— С кем?
— С Бенесом. Разве вас это не волнует, доктор?
— Нет. А почему я должен волноваться?
— Он великий ученый и, говорят, у него важнейшая информация, которая сможет революционизировать все, Что мы делаем.
— Неужто так и будет? — Дюваль взял снимок из стопки, отложил его в сторону и потянулся за другим. — Каким образом это поможет нам справиться с работой по лазерам?
— Может, мне удастся легче попадать в цель.
— Вам это уже удалось. Из всего, что может сообщить Бенес, извлекут пользу лишь те, кто занимается войной. Он сможет увеличить шансы на уничтожение всего мира.
— Но, доктор Дюваль, вы же говорили, что развитие техники может иметь огромное значение для нейрофизиологии.
— В самом деле? Ладно, значит, так я и говорил. И все же я считаю, что вам лучше пойти отдохнуть, мисс Петерсон. — Он снова поднял глаза (кажется, голос у него стал чуть мягче?) — У вас усталый вид.
Кора собралась было пригладить волосы, ибо в переводе на женский язык слово «усталая» означает «растрепанная».
— Как только появится Бенес, — сказала она, я последую вашему совету. Обещаю. Кстати…
— Да?
— Вы завтра будете пользоваться лазером?
— Как раз это я сейчас и решаю… С вашего разрешения, мисс Петерсон.
— Моделью 6951 нельзя пользоваться.
Положив снимки, Дюваль откинулся на спинку стула.
— Почему?
— Она не настроена. Я никак не могу поймать ее фокус. Подозреваю, что барахлит один из туннельных диодов, но еще не выяснила, какой именно.
— Хорошо. На тот случай, если аппаратура мне все же понадобится, до того, как уйдете, настройте ту, которой можно доверять. Затем завтра…
— А завтра я уже установлю, в чем неполадки на 6951-й.
— Да.
Повернувшись, она быстро взглянула на свои часики.
— Осталась двадцать одна минута — и говорят, что самолет идет по расписанию.
Он издал какой-то неопределенный звук, и Кора поняла, что он ее не слышит. Бесшумно выйдя, она тихо закрыла за собой, двери.
* * *
Капитан Уильям Оуэнс, расслабившись, развалился на мягком сидении лимузина. Он устало провел пальцами вдоль крыльев хрящеватого носа и по широким скулам. Его чуть качнуло, когда машина приподнялась на мощной струе сжатого воздуха и ровно двинулась вперед. Турбодвигатель работал совершенно бесшумно, хотя в нем бесновались пятьсот лошадиных сил.
Сквозь пуленепробиваемые стекла он видит слева и справа эскорт мотоциклистов. Остальные машины шли впереди и сзади, заливая ночь потоками спасительного света.
Когда в качестве охраны тебя сопровождает чуть ли не половина армии, невольно начинаешь чувствовать себя важной персоной, но, конечно, все это было не для него. И даже не для того человека, которого предстояло встречать; не для него, как такового. А только ради содержимого его могучего мозга.
Слева от Оуэнса сидел глава Секретной Службы.
В силу анонимности Службы Оуэнс не знал даже имени этого ничем не примечательного на вид человека, который с головы до ног, от очков без оправы до туфель консервативной модели напоминал профессора заштатного колледжа или даже продавца в галантерейной лавке.
— Полковник Гандер, — осторожно сказал Оуэнс, пожимая ему руку.
— Гондер, — последовал тихий ответ. — Добрый вечер, капитан Оуэнс.
Наконец они добрались до края взлетного поля. Где-то впереди над головами заходила на посадку старая машина.
— Великий день, а? — тихо сказал Гондер. Все, связанное с этим человеком, воспринималось как шепот, даже сухой шелест его гражданского одеяния.
— Да, — сказал Оуэнс, стараясь этим односложным ответом не выдать охватившего его напряжения. Впрочем, особо он его не испытывал, но оно вообще было свойственно тональности его голоса, выражалось в резком рисунке носа и в прищуренных глазах, в чуть выступающей челюсти, напружиненных скулах.
Порой он чувствовал, что начинает поддаваться влиянию этого внутреннего напряжения. Люди воспринимали его как невротика, хотя он не был таковым. Во всяком случае, не больше, чем другие. С другой стороны, случалось, ему уступали дорогу, хотя он для этого и пальцем не шевелил. Может, так и должно было быть.
— Ну, бы и откололи номер, доставив его сюда. Ваша фирма заслуживает самых высоких поощрений.
— Все заслуги принадлежат нашему агенту. Он у нас лучший сотрудник. Его секрет, я думаю, заключается в том, что он полностью отвечает романтическому представлению об агенте.
— То есть?
— Высокий и стройный. Играл в футбол в колледже. Приятная внешность. Всегда с иголочки одет. Стоит взглянуть на него, и любой противник скажет: вот он. Именно так и должны выглядеть их секретные агенты, так что, вне всякого сомнения, он не может быть таковым. Теряя его след, они слишком поздно спохватываются, кто он такой на самом деле.
Оуэнс нахмурился. Неужели этот человек говорит серьезно? Или просто шутит, считая, что это поможет стряхнуть напряжение.
— Вы понимаете, конечно, что ваша роль в этой ситуации заключается в том, чтобы все держать под контролем и избавить нас от неожиданностей. Вы узнаете его, не так ли?
— Узнаю, — с коротким нервным смешком ответил Оуэнс, — Я встречался с ним несколько раз на научных конференциях на Другой Стороне. Как-то вечером мы даже пили с ним. Ну, не то чтобы пили, а просто веселились.
— Он о чем-нибудь говорил?
— Я не настолько напоил его, чтобы он разговорился. Но в любом случае он не стал бы много болтать. Его все время кто-то сопровождал. Их ученые не отходили от него.
— А вы о чем-то говорили? — Вопрос был легок и небрежен, за ним не чувствовалось настойчивости.
Оуэнс снова засмеялся.
— Поверьте мне, полковник, в моих знаниях не было ничего, чего бы он не знал. Я без малейшего опасения мог бы болтать с ним весь день.
— Я бы хотел быть в курсе дела и разобраться хотя бы в общих чертах. Примите мое восхищение, капитан. Существует некое технологическое чудо, способное преобразить весь мир и понимают его всего лишь несколько человек. Предмет размышлений одного человека просто недоступен для других.
— По сути, все не так плохо, — сказал Оузнс. — Таких, как я, более чем достаточно. А вот Бенес — уникален, он единственный, и мне никогда и близко не подойти к его уровню. Фактически я знаю немногим больше того, что позволяет разбираться в устройстве моего корабля. Вот и все.
— Но вы узнаете Бенеса? — Глава Секретной Службы, казалось, хотел окончательно удостовериться в этом.
— Даже если у него есть брат-близнец, которого, насколько я знаю, у него нет, я все равно узнаю.
— Речь идет не об академическом интересе, капитан. Наш агент, Грант, отменный специалист, как я уже говорил, но в этом случае я даже несколько удивлен, что ему удалось справиться с задачей. Я должен задать себе вопрос: что, если тут произошла двойная перекрестная подмена? Вдруг Они предполагали, что мы попытаемся добраться до Бенеса и подготовили для нас псевдо-Бенеса?
— Я смогу заметить разницу, — тихо сказал ему Оуэнс.
— Вы не представляете, чего в наши дни можно добиться с помощью пластической хирургии и наркогипноза.
— Неважно. Лицо еще может ввести меня в заблуждение, но только не речь. Или он знает Технику (понизив голос, Оуэнс дал понять, что это слово произносится с большой буквы) лучше, чем я, или он не Бенес, как бы он ни выглядел. Они могут подделать тело Бенеса, но не его мозг.
Они уже стояли на поле. Полковник Гондер глянул на часы.
— Я его уже слышу. Лайнер сядет через несколько минут — точно по расписанию.
Вооруженные люди и бронированные машины, окружавшие взлетное поле, стали подтягиваться друг к другу, чтобы надежно изолировать пространство от тех, кто не имел права находиться в его пределах.
Огни города окончательно померкли, оставив лишь слабое свечение на горизонте с левой стороны.
Сдерживая мучающее его нетерпение, Оуэнс вздохнул. Еще несколько минут, и Бенес окажется на месте.
Счастливое завершение?
Он нахмурился, поняв, что когда эти два слова
пронеслись у него в мозгу, завершались они вопросительным знаком.
— Счастливое завершение! — мрачно подумал он, но интонация выскользнула из-под контроля и он снова увидел вопросительный знак.
Глава 2
МАШИНА
Когда лайнер стал заходить на посадку, Грант с нескрываемым облегчением посмотрел на приближающиеся огни города. Никто ему толком так и не объяснил, в чем заключается важность доктора Бенеса — кроме того очевидного факта, что он был беглым ученым, обладающим жизненно важной информацией. Он был на сегодня самым важным человеком в мире, — так было ему сказано — но Грант получил решительный отказ на просьбу объяснить почему.
«Не дави, — было ему сказано. — Не гони волну. Это дело жизни и смерти, И никак не меньше».
«Расслабься, — сказали ему, — но помни, что теперь все лежит на весах: твоя страна, твой мир, человечество».
Так что он справился с делом. Ему бы это никогда не удалось, если бы Они не боялись убить Бенеса.
Когда они дошли до той черты, у которой поняли, что спасти ситуацию Они могут только убийством Бенеса, было уже слишком поздно и он успел унести ноги.
Пуля лишь царапнула ему бок. Он расплатился скользнувшей по ребру пулей, но успел залепить ссадину пластырем из пакета первой помощи.
Тем не менее усталость сейчас навалилась на него, разлилась по всему телу. Конечно, речь шла о физической усталости, но он был и морально измотан всем этим идиотизмом. Десять лет назад в колледже его называли Гранитным Грантом, и на футбольном поле он старался соответствовать своему прозвищу, ведя себя, как тупой идиот. Результатом была сломанная рука, но, по крайней мере, удалось сохранить нетронутыми зубы и нос, что обеспечило ему благообразный вид. (Его губы дрогнули в легкой усмешке).
С тех пор его практически не называют по имени. Только Грант — односложный короткий звук. Очень мужественно. Очень внушительно.
Да черт с ним, с именем. Хотя, что его ждет, кроме постоянного чувства усталости и, скорее всего, короткой жизни? Недавно ему минуло тридцать лет и настало время обрести подлинное имя. Чарльз Грант. Может, даже Чарли Грант. Добрый старый Чарли Грант!
Он было расслабился, но затем, закрыв глаза, снова собрался. Так и должно быть. Добрый старый Чарли. Пусть будет так. Добрый, мягкий Чарли, который любит, покачиваясь, сидеть в кресле-качалке. Привет, Чарли, прекрасный денек. Эй, Чарли, вроде дождичек собирается.
Обеспечь себе спокойную работу, добрый старый Чарли, а потом посапывай носом до пенсии.
Грант искоса посмотрел на Яна Бенеса. Даже ему была знакома эта взлохмаченная копна седоватых волос, это лицо с крупным мясистым носом над жесткой щеткой усов. Карикатуристам достаточно было изобразить его нос и усы, но у объекта были еще и глаза в добродушной сеточке морщин, а лоб прорезали глубокие продольные борозды. Одежда Бенеса была с бору по сосенке, но собирались они второпях, — у них не было времени подбирать себе портного. Ученому, насколько знал Грант, минуло пятьдесят лет, но он выглядел старше.
Бенес склонился к иллюминатору, рассматривая приближающееся свечение города.
— Вам доводилось бывать в этой части страны, профессор? — спросил Грант.
— Я вообще не был в вашей стране, — сказал Бенес. — Или в вашем вопросе есть какой-то хитрый подтекст? — В его речи слышался слабый, но ясно различимый акцент.
— Нет. Я просто разговариваю с вами. Перед нами лежит наш второй по величине город. Хотя вы сами его увидите. Я-то родом из других мест.
— Для меня это не имеет значения. Этот конец. Тот конец. Поскольку я уже здесь… — Он не окончил предложения, но в глазах его застыла печаль.
«Рвать с прошлым всегда тяжело, — подумал Грант, — даже когда ты понимаешь, что нет другого выхода».
— Мы позаботимся, чтобы у вас не было времени грустить, профессор, — сказал Грант. — Мы привлечем вас к работе.
Бенес встрепенулся. — В чем я не сомневаюсь. И жду. Такова цена, которую с меня спросят, не так ли?
— Боюсь, что так. Как вы знаете, вы нам недешево достались.
Бенес коснулся рукава Гранта.
— Вы ради меня рисковали своей жизнью. И я признателен вам за это. Вы могли погибнуть.
— Это вполне привычный для меня вариант. Профессиональный риск. За который мне и платят. Не так хорошо, как за игру на гитаре, понимаете ли, или за точные броски в бейсболе, но столько, по их мнению, стоит моя жизнь.
— Вы никак не можете отделаться от этих мыслей.
— Приходится. По возвращении мне пожмут руку и обнимут со словами «Хорошая работа!» Ну, понимаете, мужская сдержанность и все такое. А потом: «Ну-с, теперь новое задание, но предварительно надо с тебя вычесть стоимость пакета первой помощи, которым ты залепил себе бок. Придется подсчитать расходы».
— Ваша игра в цинизм не обманет меня, молодой человек.
— Мне приходится обманывать самого себя, профессор, иначе я бы давно сбежал. — Грант сам был удивлен внезапной горечи, прозвучавшей в его голосе. — Застегните ремень, профессор. Это летающее корыто может споткнуться при посадке.
* * *
Несмотря на опасения Гранта, лайнер коснулся земли достаточно мягко и, замедляя ход, стал разворачиваться.
Контингент Секретной Службы сомкнул ряды. Солдаты посыпались из грузовиков, чтобы организовать плотный кордон вокруг самолета, оставив лишь узкий проход, по которому к дверям салона двигался самоходный трап.
Вереница из трех лимузинов следовала за ним.
Оуэнс иронично заметил:
— О безопасности вы более чем позаботились, полковник.
— Лучше пере, чем недо.
Его губы молча шевелились, и Оуэнс не без удивления понял, что полковник молится.
— Я рад, что он наконец здесь, — сказал Оуэнс.
— Но далеко не так, как я. Вы же понимаете, что самолет мог взорваться на полпути.
Дверь салона откинулась, и на пороге ее мгновенно возник Грант. Осмотревшись, он помахал рукой.
— Во всяком случае, он-то цел и невредим. Где Бенес?
Словно отвечая на его вопрос, Грант прижался к двери, давая Бенесу возможность протиснуться мимо себя. Какое-то мгновение тот, улыбаясь, стоял на пороге, после чего быстро спустился по трапу, помахивая потрепанным саквояжем. Грант последовал за ним. Замыкали шествие пилоты.
Полковник Гондер ждал у подножия трапа.
— Профессор Бенес! Рад приветствовать вас. Моя фамилия Гондер, и с этой минуты я отвечаю за вашу безопасность. Это Уильям Оуэнс. Вы, думаю, знаете его.
У Бенеса вспыхнули глаза, и он поднял руки, для чего ему пришлось бросить свой багаж. (Полковник Гондер успел перехватить его).
— Оуэнс! Ну, конечно. Как-то вечером мы напились с ним на пару. Я все отлично помню. Днем было какое-то длинное нудное заседание, но там не было ровным счетом ничего интересного, так что я пребывал в полном унынии. За ужином мы и встретились с Оуэнсом. С ним было пятеро его коллег, но я их толком не рассмотрел.
— Мы с Оуэнсом потом направились в маленький клуб с танцами под джаз, где пили шнапс, а Оуэнс усиленно ухаживал за одной из девочек. Вы помните Ярославика, Оуэнс?
— Того парня, что был с вами? — невпопад спросил Оуэцс.
— Совершенно верно. Он страстно и преданно любил шнапс, но ему было запрещено даже смотреть на него. Он должен был хранить трезвость. Строгий приказ.
— Чтобы оберегать вас?
Бенес подтвердил это предположение энергичным кивком головы и печально отвесил нижнюю губу. — А я все предлагал ему выпить. Слушай, Милан, говорил я ему, пора промочить горло, как подобает мужчине, а ему приходилось отказываться, но в глазах у него стояла такая боль! То была злая шутка с моей стороны.
Улыбнувшись, Оуэнс кивнул.
— Давайте займем места в машине и двинемся в Штаб-квартиру. Первым делом мы должны дать вам осмотреться, да и вас показать. И после этого я обещаю, что вы можете спать хоть двадцать четыре часа, прежде чем мы начнем задавать вам вопросы.
— Шестнадцать часов меня вполне устроят. Но первым делом… — Он обеспокоенно огляделся. — А где Грант? Ах, вот он. Грант!
Он сделал шаг навстречу молодому агенту.
— Грант! — протянул он ему руку. — Всего хорошего. Благодарю вас от всей души. Мы еще увидимся, не так ли?
— Вполне возможно, — сказал Грант. — Я вообще легок на подъем. Вот только выясню, какая еще паршивая работенка меня ожидает и, справившись с нею, буду в вашем распоряжении.
— Я счастлив, что вы успешно справились с этой паршивой работенкой.
Грант покраснел.
— В любом случае она была важна, профессор. Рад, что оказался полезным вам. Вот что мне хотелось сказать.
— Понимаю. Пока! Пока! — махнул ему рукой Бенес, направляясь к лимузину.
Грант повернулся к полковнику.
— Нарушу ли я систему безопасности, если позволю себе свалить, шеф?
— Валяйте… И кстати, Грант…
— Да, сэр?
— Хорошая работа!
— Верно подмечено, сэр, почти как: «Отличный номер ты отколол!» Ни на что иное я уже не реагирую. — С сардоническим выражением на лицу он постучал себя по лбу и удалился.
«Выход Гранта, — подумал он. — Появится ли потом Добрый Старый Чарли?»
Полковник повернулся к Оуэнсу.
— Садитесь вместе с Бенесом и завяжите с ним беседу. Я буду в первой машине. Когда мы прибудем в Штаб-квартиру, я хочу, чтобы вы были готовы недвусмысленно признать его, если вы сможете это сделать, или столь же недвусмысленно отвергнуть, если вы так посчитаете. Больше ничего мне не надо.
— Он вспомнил ту историю с нашей пьянкой, — начал Оуэнс.
— Совершенно верно, — с досадой перебил его полковник, — и вспомнил ее чересчур быстро. И слишком отчетливо. Словом, поговорите с ним.
Все разместились по машинам, и кавалькада снялась с места, стремительно набирая скорость. Оставшись в одиночестве, Грант посмотрел им вслед и махнул рукой, не адресуя этот жест никому в частности, после чего тоже двинулся.
Его ожидало свободное время, и он уже предвкушал, как, выспавшись, распорядится им. Он весело улыбнулся и зашагал прочь.
* * *
Вереница машин следовала по четко обозначенному маршруту. Оживление, сменявшееся спокойствием на дорогах, варьировались от района к району в зависимости от времени суток: учтено было все, чего можно было ждать в это время в данном районе.
Машины прокладывали себе путь по пустынным улицам вдоль темных складских зданий заброшенной части города. Кавалькаде предшествовал отряд мотоциклистов, сидя в первой машине, полковник пытался еще и еще раз оценить, как Другие могут отреагировать на эту операцию, которая явилась для них ударом.
Всегда надо было учитывать возможность саботажа даже на уровне Штаб-квартиры. Он не мог себе представить, какие еще надо было предпринять меры предосторожности, но в его работе краеугольным было убеждение, что осторожность никогда не помешает.
Вспышка?
На долю мгновения ему показалось, что на фоне одного из строений, к которому они приближались, спет вспыхнул и тут же померк. Его рука рванулась к радиотелефону в машине, чтобы предупредить мотоциклетный эскорт.
Он бросил в микрофон несколько быстрых резких слов. Следовавшие за ним мотоциклы рванулись вперед.
Не успел он положить трубку, как где-то впереди и сбоку взревел двигатель автомобиля (который они едва услышали из-за грохота несущейся кавалькады) и тут же из боковой аллеи вылетела сама машина.
Фары у нее были погашены, и находясь в шоке от ее внезапного появления никто ничего не успел заметить. Впоследствии так и не смогли восстановить полной картины того, что произошло.
Автомобиль, нацелившийся точно в машину с Бенесом, столкнулся с рванувшим вперед мотоциклистом. Мотоцикл был смят и раздавлен, а его мертвый водитель отлетел на пару десятков футов и покатился по земле. Отброшенная в сторону машина успела лишь ударить в хвост охраняемому лимузину.
Все произошло в мгновение ока. Лимузин, от сильного удара потерявший управление, столкнулся с телефонным столбом и замер на месте. Машина неизвестного камикадзе, тоже потерявшая управление, врезалась в кирпичную стену и взорвалась.
Машина полковника остановилась, как вкопанная. Мотоциклы с ревом разворачивались на месте, спеша к ним.
Гондер, выскочив из нее, кинулся к искореженному лимузину и рванул на себя дверцу.
Потрясенный Оуэнс, с кровоточащей раной на скуле успел только спросить:
— Что случилось?
— Неважно. Как Бенес?
— Ранен.
— Он жив?
— Да. Помогите мне.
Они, приподняв на пару, волоком вытащили тело Бенеса из машины. Глаза его были открыты, но смотрели куда-то в пространство и он только глухо стонал.
— Как вы себя чувствуете, профессор?
— Он ударился головой о ручку двери, — тихим голосом бросил Оуэнс. — Скорее всего, сотрясение мозга. Но он подлинный Бенес. Вне всякого сомнения.
— Теперь-mo мы это знаем, ты… — рявкнул Гондер, не без усилия проглотив последнее слово.
Дверца первой машины оставалась открытой. Едва только они разместили в ней Бенеса, как откуда-то сверху грохнул выстрел. Кинувшись в машину, Гондер своим телом прикрыл ученого.
— Давайте кончать спектакль! — заорал он.
Лимузин с половиной мотоциклетного эскорта рванулся вперед, оставив за собой всех прочих. Полицейские кинулись к зданию, откуда прозвучал выстрел из снайперского ружья. Последние отблески догоравшей машины-камикадзе бросали зловещие тени на окружающую обстановку.
В отдалении стала собираться толпа зевак, доносились возбужденные голоса.
Гондер осторожно положил голову Бенеса себе на колени. Ученый был в глубоком забытьи, дыхание его было почти не слышно и пульс еле прощупывался.
Гондер не отрываясь смотрел на человека, который мог скончаться до того, как машина остановится; полный отчаяния он бормотал про себя:
— Мы уже почти на месте… почти на месте!
Глава 3
ШТАБ-КВАРТИРА
Едва только Грант успел погрузиться в счастливый сон, как его разбудил стук в дверь. Вскочив, он вылетел из спальни, ступая босыми ногами по холодному полу и непроизвольно зевая.
— Иду…
Он чувствовал себя как под наркозом и хотел, чтобы это ощущение не покидало его. Он был готов в ходе выполнения того или иного задания вскидываться от каждого необычного шороха, мгновенно просыпаться, готовым к действию.
Но сейчас ему было предоставлено свободное время — и черт бы их всех побрал.
— Что вам надо?
— От полковника, сэр, — донеслось с другой стороны двери. — Открывайте поскорее.
Грант непроизвольно вернулся к бодрствованию. Он прижался к стене по одну сторону двери. Затем, протянув руку, он приоткрыл ее на длину цепочки и сказал:
— Просуньте-ка сюда ваше удостоверение.
Когда в руку ему упала карточка, он отнес ее в спальню. Из кармана брошенного на стул пиджака он вытащил свой идентификатор, ввел в него карточку и прочел результат на засветившемся экране.
Вернув карточку владельцу, он откинул цепочку, готовый, тем не менее, и к появлению пистолета или любого другого знака враждебности.
Но появившийся в прихожей молодой человек выглядел вполне безобидно.
— Вы должны отправиться вместе со мной в Штаб-квартиру, сэр.
— Сколько сейчас времени?
— Примерно 6.45, сэр.
— Утра?
— Да, сэр.
— Почему я им понадобился в такое время?
— Не могу знать, сэр. Я всего лишь исполняю приказ. Я должен доставить вас. Прошу прощения. — Он неловко пытался шутить. — Я сам не хотел вставать, но вот пришлось…
— Успею ли я побриться и принять душ?
— Ну…
— Ладно. Я хоть успею одеться?
— Да, сэр, но только быстро!
Грант провел подушечкой большого пальца по щетине на скулах и порадовался, что успел побриться накануне вечером.
— Дайте мне пять минут на сборы.
Из ванной он крикнул:
— Что там случилось?
— Не знаю, сэр.
— В какую из штаб-квартир мы направляемся?
— Не знаю…
— Ладно.
Шум пущенной воды на несколько секунд сделал переговоры невозможными.
Выбравшись из ванной, Грант не без грусти ощутил, что в какой-то мере вернулся в лоно цивилизации.
— Но мы отправляемся в Штаб-квартиру? Вы так сказали, верно?
— Да, сэр.
— Хорошо, сынок, — с удовольствием дал ему почувствовать дистанцию Грант, — но если я решу, что ты водишь меня за нос, я разрежу тебя пополам.
— Да, сэр.
* * *
Когда машина затормозила, Грант нахмурился. Рассвет был серым и влажным, вроде собирался дождь. Они оказались среди запущенных складских помещений, и в четверти мили позади остались заграждения, ограничивающие доступ в этот район.
— Что здесь такое? — спросил Грант, но его спутник отделался уже привычным молчанием.
Наконец они застыли на месте, и Грант небрежным движением положил руку на покоящийся в кобуре револьвер.
— Вам бы лучше сообщить, что нас ждет.
— Мы на месте. Тут секретное правительственное учреждение. Трудно поверить, но это так и есть.
Молодой человек вылез из машины, за ним последовал и водитель.
— Будьте любезны, оставайтесь в машине, мистер Грант.
Парочка отошла на сотню футов, пока Грант озабоченно озирался. Из-за внезапного рывка он на долю секунды потерял равновесие. Оправившись, он толкнул дверцу машины, но замер в изумлении, увидев, что вокруг него вздымаются, уплывая вверх, гладкие стены.
Ему потребовалось не более секунды, чтобы сообразить, что он опускается вместе с машиной, ибо она стояла на платформе подъемного устройства. Когда это до него дошло, было уже слишком поздно пытаться покинуть машину.
Крышка шахты над головой скользнула на место и Грант очутился в полной темноте. Он включил было фары, но их лучи бессмысленно уперлись в плавную округлость ползущих кверху стен.
Не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и ждать те бесконечные три минуты, в течение которых продолжался спуск.
После остановки раздвинулись массивные створки, и мускулы Гранта напряглись, готовые к решительным действиям. Но он сразу же расслабился. Подкатил двухместный мотороллер, за рулем которого сидел Эм-Пи — только у военной полиции бывает такая новая, с иголочки форма — и остановился в ожидании его. На шлеме у водителя были четыре буквы: ОССМ, которые украшали и мотороллер.
Грант автоматически попытался расшифровать аббревиатуру.
— Оборонительный Союз Смелых Мужчин… — пробормотал он. — Общий Слет Северных Моржей…
— Что? — громко переспросил он, не расслышав слов Эм-Пи.
— Не будете ли вы любезны выйти, сэр, — четко проговорил тот, показывая на пустое сидение мотороллера.
— Да, конечно. Ну и местечко у вас тут.
— Да, сэр.
— Насколько оно велико?
В это время они проезжали пустое пространство, смахивающее на огромную пещеру, вдоль стен которой стояли грузовики и мотоциклы, на каждом из которых были те же четыре буквы.
— Да уж большое, — сказал полицейский.
— Что мне всегда жутко нравилось, — сказал Грант, — так это когда тебе сообщают столь бесценные данные.
Мотороллер неторопливо поднялся по пандусу, который вел на1 следующий уровень, здесь встречалось куда больше людей. Все в форменной одежде, мужчины и женщины, — они деловито спешили в разных направлениях, и чувствовалась неопределенная, но безошибочная атмосфера возбуждения.
Грант поймал себя на том, что прилип взглядом к ножкам девушки, на которой был вроде наряд медсестры (холмик груди подчеркивал аккуратно вышитые все те же четыре буквы) и припомнил планы, которые он строил не далее, чем предыдущим вечером.
Если ему сейчас всучат другое задание…
Мотороллер резко свернул за угол и остановился перед конторкой. Эм-Пи слез с сиденья.
— Чарльз Грант, сэр.
Офицер за конторкой и глазом не повел при этом сообщении.
— Имя? — спросил он.
— Чарльз Грант, как вам только что сообщил этот достойный молодой человек.
— Удостоверение личности, будьте любезны.
Грант протянул его. На нем были только выпуклые цифры, которые офицер лишь бегло просмотрел. Под равнодушным взглядом Гранта он ввел удостоверение в идентификатор, стоящий на столе. На сером экране высветилась физиономия, в анфас и профиль, с выражением — как всегда казалось Гранту — мрачным и бандитским.
Где открытый дружелюбный взгляд? Где очаровательная улыбка? Где ямочки на щеках, от которых девушки буквально сходили с ума? Насупленные темные брови придавали лицу зловещее выражение.
Просто удивительно, что кто-то может опознать его на этом снимке.
Но офицер сделал это без особых усилий — один взгляд на экран, другой на Гранта. Удостоверение личности было извлечено из щели, возвращено владельцу, небрежный жест офицера позволил продолжить путь.
Мотороллер повернул направо, миновал арку и двинулся по длинному коридору, с обеих сторон которого было отведено по полосе для пешеходов. Движение здесь было тоже оживленным, но Грант был единственным, на ком не было формы.
Двери по обе стороны коридора повторялись в гипнотической последовательности, и вдоль стен все тянулись пешеходные дорожки. Народу становилось все меньше.
Мотороллер вырулил под очередную арку, над которой была надпись «Медицинское отделение».
Эм-Пи, стоящий на посту в прозрачном «стакане», словно уличный регулировщик, нажал кнопку. Тяжелые стальные двери пришли в движение, пропуская мотороллер, который, проскочив мимо них, тут же остановился.
Грант попытался прикинуть, под какой частью города они находятся.
Человек в генеральском мундире, который чуть не бегом приближался к нему, показался Гранту смутно знакомым. Когда тот протянул руку, Грант узнал его.
— Никак Картер? Мы встречались на Трансконтинентале несколько лет назад. Но тогда на вас не было этой формы, не так ли?
— Привет, Грант. Ох, да черт с ней, с этой формой. Я ношу ее лишь потому, что здесь так полагается. Только в таком виде мы можем отдавать команды. Идемте со мной… Гранитный Грант, так?
— Ну, пусть так.
Миновав двери, они оказались в помещении, которое, по всей видимости было операционной. Сквозь стекло Грант увидел несколько мужчин и женщин в белом, толпившихся в асептической атмосфере; вокруг сухо и остро поблескивали металлические кожухи аппаратуры, электронная начинка которых превратила хирургию в некий подвид инженерного искусства.
Когда вкатили операционный стол, он с ужасом увидел распростертую на белоснежной наволочке копну седоватых волос.
Несколько мгновений Грант не мог прийти в себя.
— Бенес? — шепотом спросил он.
— Бенес. — мрачно подтвердил генерал Картер.
— Что с ним случилось?
— Они все же добрались до него. Наша ошибка. Мы живем в век электроники, Грант. Все, что мы делаем, совершается с помощью наших полупроводниковых помощников, которые всегда под рукой. Любого врага мы стараемся вычислить и обезвредить потоком электронов. Все подходы сюда мы обставили электронными ловушками — но они могли воздействовать лишь на врагов, вооруженных тем же оружием. Мы не приняли в расчет появления автомобиля с человеком за рулем и снайперских винтовок, курок которых тоже нажимает человек.
— Предполагаю, что никого из них не осталось в живых.
— Ни одного. Человек в машине сгорел при столкновении. Остальных мы уложили пулями. И сами потеряли несколько человек.
Грант снова опустил глаза. Теперь он видел отрешенное лицо Бенеса, который пребывал в глубоком забытьи.
— Насколько я понимаю, он еще жив, так что есть надежда.
— Он жив. Но надежд немного.
— Кто-то успел переговорить с ним?
— Капитан Оуэнс… Уильям Оуэнс… вы его знаете?
Грант покачал головой.
— Припоминаю лишь, что в аэропорту Гондер представил мне кого-то с этим именем.
— Оуэнс говорил с Бенесом, — сказал Картер, — но не извлек никакой существенной информации. Говорил с ним и Гондер. А вот вы говорили с ним больше, чем кто-либо из них. Он вам что-нибудь рассказывал?
— Нет, сэр. Да я бы ничего и не понял. Моя задача заключалась лишь в том, чтобы доставить его в страну — и ничего больше.
— Конечно. Но все же вы говорили с ним и, может, он сказал вам больше, чем предполагал.
— В этом случае у меня все вылетело бы из головы. Но не думаю, чтобы он делился со мной. На Другой Стороне вошла в плоть и кровь привычка держать язык за зубами.
Картер ухмыльнулся.
— Не стоит так уж возвышаться в собственных глазах, Грант. Та же самая практика знакома и нам. И если вы не знаете, что… прошу прощения, в этом нет необходимости.
— Все в порядке, генерал, — бесстрастно сказал Грант, пожимая плечами.
— Словом, дело в том, что он не успел ни с кем толком переговорить. Его вывели из строя прежде, чем нам удалось что-то извлечь из него. С таким же успехом он мог и не покидать Другой Стороны.
— По пути сюда, — сказал Грант, — я миновал место, огороженное кордоном…
— Там-то все и произошло. Еще пять кварталов — и он был бы в безопасности.
— Так что с ним случилось?
— Травма мозга. Нам придется его оперировать — вот поэтому и возникла необходимость в вас.
— Во мне? — искренне изумился Грант. — Послушайте, генерал, в том, что касается нейрохирургии, я сущий ребенок. Я провалил зачет по строению лобных долей в старом добром университете Юты.
Картер никак не отреагировал на эти слова, которые для самого Гранта ничего не значили.
— Идемте со мной, — сказал Картер.
Следуя за ним, Грант прошел по короткому коридору и оказался в соседнем помещении.
— Центральная диспетчерская, — коротко бросил Картер.
Стены были покрыты телевизионными экранами. В центре полукружья контрольной консоли, усеянной кнопками управления, стояло кресло.
Картер сел в него, оставив Гранта стоять.
— Я бы хотел разъяснить вам суть ситуации, — сказал Картер. — Вы понимаете, что идет гонка между Нами и Ими.
— И довольно давно. Да, конечно.
— Хотя гонка, как таковая, сама по себе вещь неплохая. Она заставляет все время быть в форме и напрягать все силы, чтобы не отставать; таким образом и удалось кое-чего добиться. Обеим сторонам. Но прекратиться гонка может только победой одной из сторон. Надеюсь, вы это понимаете?
— Думаю, что да, генерал, — сухо сказал Грант.
— С Бенесом связана возможность такого прекращения. И если бы он смог сообщить нам то, что ему известно…
— Могу ли я задать вопрос, сэр?
— Валяйте.
— А что именно он знает? Какого рода данные?
— Подождите. Подождите. Сейчас. Подлинная суть его информации в данный момент не так уж важна. Разрешите мне продолжить… Если бы он смог передать ее нам, то победа склонилась бы на нашу сторону. Если он умрет или если даже он поправится, но не сможет ничего сообщить нам из-за мозговых травм, то гонка продолжится.
Грант сказал:
— Если не принимать во внимание чисто человеческую скорбь из-за потери такого великого ума, можно сказать, что продолжение гонки — не самый плохой выход.
— Да, если ситуация останется такой, как я ее описал, но, возможно, она и изменится.
— Каким образом?
— Учитывая присутствие у Них Бенеса. Он пользовался репутацией оппозиционной личности, но не было никаких примет того, что он причинял беспокойство своему правительству. Четверть столетия он был к нему лоялен, пользуясь взамен хорошим отношением. И тут он внезапно бежит…
— Потому что он хотел, чтобы гонка кончилась нашей победой.
— Так ли? Или, может, потому, что с головой уйдя в свои труды и еще даже не осознавая в полной мере их значимость, он уже дал Другой стороне ключ к решению проблемы. И когда ситуация предстала перед ним во всей объемности, он подсознательно понял, что безопасность мира теперь зависит лишь от его стороны, и, может, Бенеса далеко не в полной мере удовлетворяли те принципы, которых она придерживалась. Поэтому он и перешел к нам — не столько для того, чтобы обеспечить нам победу, сколько чтобы победа не склонилась ни на чью сторону. Он явился к нам, чтобы сохранить неизменным положение обеих соревнующихся сторон.
— Есть ли какие-либо доказательства такой точки зрения, сэр?
— Ни малейших. Но я считаю, что мы не должны исключать такую возможность. И вы не можете не понимать, что нет доказательств противного.
— Продолжайте.
— Если вопрос жизни и смерти Бенеса означает для нас выбор между окончательной победой и продолжением гонки — ну что ж, это мы можем принять. Просто позор, если мы упустим шанс одержать окончательную победу, но, в крайнем случае, завтра может представиться и другая возможность. Тем не менее, мы можем столкнуться с выбором между продолжением гонки и сокрушительным поражением, а эта альтернатива для нас абсолютно неприемлема. Вы согласны?
— Конечно.
— Так что если существует хоть минимальная вероятность того, что смерть Бенеса повлечет за собой полное наше поражение, его надо будет вернуть к жизни любой ценой, любым образом, не считаясь ни с каким риском.
— Насколько я понимаю, вы не случайно мне все это рассказываете, а собираетесь потребовать от меня каких-то действий. В любом случае я готов поставить на кон свою жизнь, чтобы спасти нас от поражения. Если вам нужно мое признание, радости мне это не доставит — но я это сделаю. Но, тем не менее, какой толк от меня будет в операционной? Когда вчера мне понадобилось пустить в ход пакет первой помощи, помог мне справиться с ним сам Бенес. И если уж говорить о моем знании медицины, я могу только накладывать пластыри.
Картер никак не отреагировал на его слова.
— Вас рекомендовал Гондер. Первым делом, вы подходите по основным параметрам. Он считает вас исключительно способным человеком. Как и я.
— Генерал, я не нуждаюсь в похвалах. Я считаю, что нормального человека они только раздражают.
— Да бросьте, человече. Я не льщу вам. Я вам должен кое-что объяснить. При всем том, что Гондер в общем и целом отдает вам должное, он считает, что ваша миссия не завершена. Вы должны были доставить к нам Бенеса целым и невредимым, а этого не было сделано.
— Он был цел и невредим, когда я передал его Гондеру.
— Тем не менее, сейчас его жизнь под угрозой.
— Вы взываете к моей профессиональной гордости, генерал?
— Если хотите.
— Хорошо. Я буду подавать скальпели. Я буду вытирать пот со лба хирурга; я буду даже подмигивать медсестричкам. Думаю, что в операционной больше я ничем не смогу помочь.
— Вы будете не один. Вам предстоит стать частью команды.
— Я ожидал услышать нечто подобное, — сказал Грант. — Кто-то еще должен выбирать нужные скальпели и передавать их. Я же лишь буду держать поднос с ними.
Уверенными движениями Картер переключил несколько тумблеров. На одном из экранов немедленно возникли две фигуры в темных очках. Они стояли, склонившись над лазером, из тубуса которого исходил тонкий, как нить, красный луч. Он исчез, и двое сняли очки.
— Это Питер Дюваль, — сказал Картер. — Вы когда-нибудь слышали о нем?
— Прошу прощения, нет.
— Он лучший нейрохирург в стране.
— А кто эта девушка?
— Она ассистирует ему.
— Ха!
— Не будьте столь примитивны. Она техник высшей квалификации.
Грант несколько смутился.
— Не сомневаюсь, сэр.
— Вы говорили, что видели в аэропорту Оуэнса?
— Очень бегло, сэр.
— Он тоже будет с вами. А также шеф нашего медицинского отдела. Он и проинструктирует вас.
Еще один щелчок тумблера, и на этот раз из монитора пошло низкое гудение, давшее понять, что установлена двустороння звуковая связь.
В нижней части экрана показалась выразительная лысина, обладатель которой, не отрываясь, изучал схему системы кровообращения.
— Макс! — обратился к нему Картер.
Микаэлс взглянул на него. Глаза его сузились. Он выглядел растерянным и огорченным.
— Да, Ал.
— Грант готов к встрече. И поторопись. У нас не так много времени.
— Это уж точно, времени в самый обрез. Посылай его сюда. — На мгновение Микаэлс перехватил взгляд Гранта. Он сказал, медленно выговаривая слова:
— Я надеюсь, мистер Грант, что вы готовы к самому необычному событию в вашей жизни… как, впрочем, и в жизни всех других.
Глава 4
ИНСТРУКТАЖ
Очутившись в кабинете Микаэлса, Грант поймал себя на том, что открыв рот, смотрит на огромную карту, изображающую систему кровообращения.
— При всей чертовой сложности, — сказал Микаэлс, — это карта территории. Каждая линия — это дорога, каждое их сплетение — это перекресток. Она не менее сложна, чем дорожный атлас Соединенных Штатов. Более того, она представлена в трех измерениях.
— Боже милостивый!’
— Сто тысяч миль кровеносных сосудов. Вы видите лишь малую часть из них; большинство из имеет настолько микроскопические размеры, что их и не рассмотреть без соответствующего увеличения, но если вытянуть их все в нитку, то ее четыре раза можно обернуть вокруг Земли или же, если хотите, это половина расстояния до Луны… Вам хоть удалось поспать, Грант?
— Примерно часов шесть. И еще вздремнул в самолете. В любом случае, я в отличной форме.
— Прекрасно. У вас еще будет возможность поесть, побриться и, если надо, сделать все, что необходимо. Хотел бы и я поспать. — Он только развел руками при этих словах. — Не то, чтобы я был в плохой форме. Я не жалуюсь. Вы когда-нибудь принимали морфоген?
— Никогда не слышал о нем. Это какое-то модное лекарство?
— Да. Относительно новое. Понимаете, оно не вводит вас в долгое сонное состояние, необходимое организму. Но морфоген ввергает человека в этакое забытье, заставляет видеть сны, в которых тот нуждается. Время от времени он должен погружаться в них: в противном случае нарушается координация работы мозга, вас начинают одолевать галлюцинации, за которыми может последовать смерть.
— И морфоген обеспечивает такой отдых?
— Совершенно верно. Вы отключаетесь буквально на полчаса, проваливаясь в крепчайший сон, после которого вас весь день не покидает бодрость. Тем не менее, послушайтесь моего совета и держитесь подальше от таких штучек, пока в них не возникнет настоятельная необходимость.
— Почему? Разве они ведут к переутомлению?
— Нет. Особого переутомления не чувствуется. Все дело в этих сонных видениях. Морфоген буквально продувает все извилины; вычищает тот умственный мусор, что скапливается в течение дня, а это дает довольно своеобразное ощущение. Так что без нужды не прибегайте к нему… Но у меня не было выбора. Эту карту надо было срочно приготовить, и я сидел над ней всю ночь.
— Карту?
— Это кровеносная система Бенеса вплоть до последнего капилляра, и я должен был досконально изучить ее. И вот тут, наверху, почти в центре черепной коробки, рядом с гипофизом расположился тромб, сгусток крови.
— В нем и заключается проблема?
— Так оно и есть. Все остальное не так уж и важно. Синяки, ссадины, шок, сотрясение. До тромба же не добраться без хирургического вмешательства. И сделать это нужно как можно быстрее.
— Сколько еще он может протянуть, доктор Микаэлс?
— Трудно сказать. Остается надеяться, что нам удастся оттянуть фатальный исход, но мозг может выйти из строя задолго до наступления смерти как таковой. А для этого человека повреждение мозга станет равносильным смерти. Окружающие ждут от Бенеса чуда, и теперь их может постичь жуткое разочарование. Особенно Картера, который используя все возможности вытащил вас.
— Вы хотите сказать, что, по его мнению, Другая Сторона предпримет еще одну попытку?
— Он этого не говорил, но я предполагаю, что он опасается такого развития событий, для чего и решил включить вас в команду.
Грант осмотрелся.
— Есть ли какие-то основания считать, что сюда можно проникнуть извне? Они внедрили сюда своих агентов?
— Не имею представления, но Картер преисполнен подозрениями. Я думаю, он предполагает, что попытка покушения может состояться со стороны медиков.
— Дюваль?
Микаэлс пожал плечами.
— Характер у него не из приятных. А стоит инструменту в его руках отклониться на волосок, как последует смерть.
— Каким образом это можно предотвратить?
— Никаким.
— Так используйте кого-то другого, того, кому можно доверять.
— Никто, кроме него, не обладает таким изощренным мастерством. И Дюваль уже тут, на месте. Кроме того, пока не было никаких сомнений в его безоговорочной преданности.
— Но если даже меня поставить рядом с ним в роли брата милосердия, чтобы я не спускал с него глаз, от меня все равно не будет никакого толку. Я понятия не имею, что он будет делать, и не смогу оценит, правильны ли его действия. Откровенно говоря, когда он вскроет череп, я могу вырубиться.
— Он не будет вскрывать череп, — сказал Микаэлс. — Извне до тромба не добраться. Он в этом убежден.
— Но в таком случае…
— Мы доберемся до него изнутри.
Грант нахмурился и медленно покачал головой.
— Вам это понятно. А я и представить себе не могу, о чем вы ведете речь.
— Мистер Грант, — тихо сказал Микаэлс, — все привлеченные к работе над этим проектом знают его суть и в курсе дела, чем занимается каждый из них, он или она. Вы же человек со стороны и вряд ли удастся дать вам полное представление обо всем. Тем не менее, мне придется познакомить вас с некоторыми теоретическими выкладками, над которыми идет работа в данной организации.
Грант насмешливо усмехнулся.
— Прошу прощения, доктор, но ваши слова привели меня просто в ужас. В колледже я главным образом занимался футболом и уж во вторую очередь — девчонками. Так что не тратьте время впустую, излагая мне теории.
— Я знаком с вашим личным делом, мистер Грант, и оно не соответствует этой самооценке. Тем не менее, я не буду уничижать вашу мужественность, обвиняя вас в том, что вы достаточно умны и получили хорошее образование, пусть даже мы с вами беседуем с глазу на глаз. Я не буду тратить время, излагая вам теории, а просто выдам вам конечную информацию без научного обоснования…
Предполагаю, что вы уже обратили внимание на наши нашивки — ОССМ?
— Конечно, обратил.
— Вы имеете представление, что это значит?
— Кое-какие мысли приходили мне в голову. Как насчет «Общества Селенитов С Моторами»? Есть и другие, но они абсолютно непечатны.
— Расшифровка аббревиатуры звучит как Объединенные Сдерживающие Силы Миниатюризации.
— Еще непонятнее, чем мой вариант, — сказал Грант.
— Объясню. Довелось ли вам слышать о дискуссиях по поводу миниатюризации?
Грант подумал.
— Тогда я учился в колледже. Но курсе физики у нас было пара обсуждений.
— Между футбольными матчами?
— Да. Точнее, по завершению сезона. Насколько мне помнится, группа физиков утверждала, что может произвольно уменьшать размеры любого объекта, но их слова были расценены, как обман. Ну, может, не как обман, а как заблуждение, ошибка. Я припоминаю, что было выдвинуто несколько убедительных аргументов, почему невозможно уменьшить человека до размеров, скажем, мыши, при сохранении всех его человеческих свойств и качеств.
— Не сомневаюсь, что такая же точка зрения господствовала во всех колледжах в стране. А вы помните, какие выдвигались возражения?
— Да. При изменении размеров можно избрать тот или иной путь. Можно сблизить друг с другом атомы, составляющие сам объект; или же вы можете изменить пропорции самих атомов. Сближение их, учитывая взаимные силы отталкивания, потребует исключительной мощи давления. Скажем, давления, существующего в центре ядра Юпитера было бы достаточно, чтобы уменьшить человека до размеров мыши. Можно считать, что пока я не ошибаюсь?
— Вы излагаете все просто блистательно.
— Но даже если вам удастся достичь такого давления, оно уничтожит всякую жизнь. Кроме того, если объект будет уменьшен путем сближения атомов, изначальная его масса не изменится и объект, обладающий размерами мыши и весом взрослого человека, будет не в состоянии двигаться.
— Великолепно, мистер Грант. Этими романтическими разговорами вы можете час за часом очаровывать ваших девушек. А другой метод?
— Другой метод заключается в продуманном и рациональном изменении размеров самих атомов таким образом, чтобы при изменении массы и размеров объекта соотношение составляющих его частей оставалось неизменным. Только, если вы уменьшите человека до размеров той же мыши, из каждых примерно семидесяти тысяч атомов у вас останется только один. В таком случае оставшаяся часть мозга вряд ли будет более сложна, чем мозг самой мышки. Да и, кроме того, как вы вернете объекту прежние размеры, хотя физики, занимающиеся миниатюризацией, утверждают, что эта задача им под силу? Как вы вернете изъятые атомы и расположите их на прежних местах?
— Совершенно верно, мистер Грант. Но каким образом некоторые весьма уважаемые физики все же пришли к выводу, что миниатюризация, тем не менее, возможна с практической точки зрения?
— Не знаю, доктор, но разговоров на эту тему больше не велось.
— Частично потому, что колледжи, получив соответствующий приказ, старательно позаботились все вышибить из ваших голов. Технические решения тщательно скрывались как у нас, так и на Другой Стороне. Именно так. Именно здесь. Скрывались, — эмоции Микаэлса прорвались, и он стал с силой хлопать ладонью по столу при каждом слове. И нам приходилось проводить специальные курсы по технике миниатюризации для дипломированных физиков, которые могут получить эти знания только здесь, у нас — если не считать аналогичных школ на Другой Стороне. Миниатюризация возможна, но не теми методами, которые вы описали. Вы когда-нибудь видели процесс увеличения фотографий? Или создания микрофильмов?
— Конечно.
— Не прибегая к теоретическим выкладкам, скажу вам, что точно такой же процесс может быть применен и по отношению к трехмерным объектам, и даже к человеку.
Грант улыбнулся.
— Учитель, пока это только слова.
— Да, но вы же отказались от теории, так? Вот что удалось открыть физикам десять лет назад — практическое использование гиперпространства, то есть пространства, в котором есть больше, чем три измерения. Его концепция не поддается осмыслению, как и математический аппарат, но самое смешное заключается в том, что это можно сделать. Любой объект можно миниатюризировать. Мы не избавляемся от части атомов, не сжимаем их. Мы уменьшаем размеры самих атомов, мы уменьшаем все, и масса автоматически изменяется. И при желании мы восстанавливаем первоначальные объемы.
— Ваши слова звучат достаточно серьезно, — сказал Грант. — Вы хотите убедить меня, что в самом деле можете уменьшить человека до размеров мыши?
— В принципе, мы можем уменьшить человека до размеров бактерии, или вируса, или даже атома. Теоретических пределов для миниатюризации не существует. Армию со всем оснащением можно засунуть в спичечную коробку. В идеальном случае такую армию можно доставить на место будущих боевых действий и, приведя в нормальное состояние, бросить в бой. Вы понимаете все значение такого подхода?
— Но, насколько я понимаю, Другая Сторона тоже обладает такими же возможностями, — сказал Грант.
— Б чем мы не сомневаемся… Однако двинулись,
Грант, события развиваются полным ходом, время у нас ограничено. Идемте со мной.
* * *
Он только и слышал «пройдите сюда» и «идемте туда». С тех пор как он проснулся сегодня утром, Гранту не удалось пробыть в одном месте дольше пятнадцати минут. Это порядком изматывало, но, похоже, ему ничего не оставалось делать, как только подчиняться. Может, все было специально так организовано, чтобы у него не было времени как следует все обдумать? Что еще свалится ему на голову?
Теперь они с Микаэлсом оседлали мотороллер, и Микаэлс вел его с лихостью ветерана.
— Если и Нам, и Им удалось достичь одинаковых успехов, — сказал Грант, — то мы взаимно нейтрализуем друг друга.
— Да, но надо добавить, — сказал Микаэлс, — никто из нас пока не извлек из этого никакой пользы. Существует некое препятствие.
— Ну?
— Мы работали десять лет, чтобы научиться справляться с линейными размерами, чтобы расширить пределы миниатюризации и добиться ее протяженности во времени, для чего приходилось вторгаться в пределы гиперпространства. К сожалению, мы достигли теоретического предела при движении в этом направлении.
— Что он собой представляет?
— Ничего хорошего. Сказывается Принцип Неопределенности. Пределы миниатюризации находятся в прямой зависимости от ее продолжительности, что определяется уравнением с постоянной Планка. Если человек уменьшен вдвое, он может находиться в таком состоянии хоть несколько столетий. Уменьшенный до размеров мыши, он может пребывать в таком виде несколько дней, а до размеров бактерии — лишь несколько часов. После чего обретает свои подлинные размеры.
— Но его можно опять уменьшить.
— Только после соответствующего промежутка времени. Хотите выслушать соответствующее математическое объяснение?
— Нет. Верю вам на слово.
Они прибыли к эскалатору. Устало кряхтя, Микаэлс слез с мотороллера. Грант легко спрыгнул с сиденья.
Ступени эскалатора повлекли их наверх, и он в раздумье прислонился к перилам.
— И чего же удалось достичь Бенесу?
— Как говорят, он утверждает, что ему удалось обойти Принцип Неопределенности. Иными словами, он знает, как продлить миниатюризацию на неопределенно долгое время.
— Похоже, вы не очень в это верите.
Микаэлс пожал плечами.
— Я скептик. Если ему в самом деле удалось добиться интенсивности миниатюризации и ее протяженности во времени, то это может быть сделано только за счет чего-то другого, но я готов отдать жизнь на заклание, ибо не в состоянии представить, что тут еще можно сделать. Может быть, потому что я не Бенес. Во всяком случае, так он утверждает, и мы не можем отвергнуть эту возможность лишь потому, что она вызывает у нас сомнения. Точно так же считает и Другая Сторона, почему она и сделала попытку расправиться с ним.
Теперь они оказались на самом верху, и Микаэлс заканчивал фразу уже сходя с эскалатора. После чего он двинулся к другому, который должен был доставить их на очередной уровень.
— Итак, Грант, теперь ясно, что нам предстоит спасти Бенеса. И почему мы обязаны это сделать: ради информации, которой он обладает. И каким образом — миниатюризацией.
— Почему именно с ее помощью?
— Потому что до мозгового тромба нельзя добраться извне. Что я вам уже не раз объяснял. Так что мы уменьшим до миниатюрных размеров подводную лодку, введем ее в кровоток артерии и с капитаном Оуэнсом за штурвалом и со мной в роли штурмана поплывем к тромбу. И там Дюваль и его ассистентка мисс Петерсон прооперируют его.
Грант вытаращил глаза:
— А я?
— А вы будете с нами в качестве члена команды. Осуществлять общее наблюдение, так сказать.
— Только не я, — с нажимом сказал Грант. — На это я не вызывался. И представить себе не мог.
Повернувшись, он попытался спуститься по идущему вверх эскалатору, что не принесло ему успеха. Насмешливо хмыкнув, Микаэлс последовал за ним.
— Но ведь в ваши обязанности входит рисковать, не так ли?
— Рисковать по собственному выбору. В той мере, в которой я готов к данному риску. И с которым умею справляться. Будь у меня столько времени, чтобы заниматься миниатюризацией, сколько у вас, может, я и пошел бы на этот шаг.
— Мой дорогой Грант. Вашего согласия никто не спрашивал. Насколько я понимаю, вам поручена эта работа. А теперь вы знаете всю ее важность. Кстати, я тоже отправляюсь в это путешествие, а я далеко не так молод, как вы, и не блистал на футбольном поле. Я вам скажу больше того. Ваше мужество должно служить мне поддержкой во время этого путешествия, поскольку ваш удел — быть смелым.
— В таком случае я довольно паршиво справляюсь с обязанностями, — пробормотал Грант. И, уже сдаваясь, буркнул: — мне не помешал бы кофе.
Он покорно позволил эскалатору поднять себя наверх. На верхней площадке была дверь с надписью «Конференц-зал». Они вошли в него.
* * *
Грант даже представить себе не мог, сколько же помещений расположено на этом этаже. Первым делом в глаза ему бросился конец длинного стола, стоявшего в центре комнаты: он весь был заставлен чашками с кофе, который исправно выдавала объемистая кофеварка, а рядом стоял большой поднос с сэндвичами.
Сразу же очутившись рядом с ним, он одним глотком опустошил чашку горячего черного кофе и отхватил солидный кусок сэндвича, лишь после чего его внимание привлекли еще двое присутствующих.
Одной из них была ассистентка Дюваля — кажется, ее звали мисс Петерсон? — которая, несмотря на свою молчаливую сдержанность, была очень привлекательной, если не сказать красивой, и стояла она едва ли не прижимаясь к Дювалю. Грант сразу же решил, что ему трудновато будет проникнуться симпатией к хирургу, после чего стал приглядываться к обстановке в помещении.
На другом конце стола с предельно утомленным видом сидел полковник. Одной рукой он медленно крутил пепельницу, не обращая внимания на осыпающийся на пол столбик пепла от его сигареты. Подчеркивая каждое слово, он обратился к Дювалю:
— Я выразился достаточно ясно.
Грант узнал и капитана Оуэнса, стоявшего под портретом Президента. От горячности, которая была свойственна ему при встрече в аэропорту, теперь не осталось и следа, а на скуле у него виднелся синяк. Чувствовалось, что он нервничает. Грант вполне разделял его эмоции.
— Кто этот полковник? — тихо спросил он Микаэлса.
— Дональд Рейд, мой партнер из военных по ту сторону забора.
— Мне кажется, что Дюваль его явно раздражает.
— Как и всегда. Дюваль способен вывести из себя кого угодно. Мало кто ему симпатизирует.
У Гранта появилось подсознательное желание кое-что уточнить. Вот она явно тянется к нему, но мысленно представив себе это, он отбросил эти мысли. Господи, ну и красотка! Что у нее общего с этим надутым мясником?
Рейд продолжал говорить тихим спокойным голосом, тщательно контролируя каждое слово.
— И кстати, доктор, что она тут делает?
— Мисс Кора Петерсон, — ледяным тоном ответил Дюваль, — моя ассистентка. И она помогает мне исполнять свои профессиональные обязанности.
— Миссия достаточно опасна…
— Отлично понимая все размеры опасности, мисс Петерсон, тем не менее, добровольно вызвалась участвовать в ней.
— Немалое количество мужчин, обладающих не меньшей квалификацией, также изъявляли желание. И мы сможем избежать ненужных осложнений, если вам будет сопутствовать один из них. Я смогу выбрать лучшего.
— Никого не нужно мне подбирать, полковник, ибо в таком случае я отказываюсь оперировать, и не существует сил, способных заставить меня. Мисс Петерсон — это моя лишняя пара рук, третья и четвертая. Она идеально сработалась со мной, и ей не нужно подсказывать, что делать: не успеваю я подумать о каком-либо действии, как инструмент оказывается у меня под руками. Я не потерплю радом с собой чужого человека, на которого, возможно, придется орать. Я не могу ручаться за успех, если я потеряю хоть долю секунды из-за того, что мы с помощником не поймем друг друга, и я не возьмусь ни за одно дело, в котором рядом со мной не будет этой пары рук, присутствие которых может обеспечить шансы на успех.
Грант снова перевел взгляд на Кору Петерсон. Лицо ее заливала краска смущения, но в глазах, устремленных на Дюваля, было то выражение, которое однажды Грант видел в зрачках гончей, когда она встречала вернувшегося из школы своего юного хозяина. Грант почувствовал, что это ему жутко не нравится.
Рейд яростно вскочил на ноги, но голос Микаэлса прервал стычку:
— Я считаю, Дон, что, поскольку конечный этап операции всецело зависит от рук и глаз доктора Дюваля, мы не можем диктовать ему порядок действий и должны проявить уважение к его точке зрения, отказавшись от предубеждений. Я готов взять на себя ответственность.
Он предложил Рейду выход, при помощи которого тот мог сохранить лицо, понял Грант, и насупившемуся Рейду пришлось согласиться.
Тот хлопнул ладонью по столу.
— Хорошо. Только пусть в протоколе будет записано, что я возражал. — Он снова сел с подрагивающими от злости губами.
Дюваль тоже сел, не скрывая раздражения. Грант было сделал шаг вперед, чтобы подать стул Коре, но она опередила его и уселась без посторонней помощи.
— Доктор Дюваль, — сказал Микаэлс, — это Грант, молодой человек, который будет сопровождать нас.
— Только в качестве мускульной силы, доктор, — сказал Грант. — Это моя единственная квалификация.
Дюваль мрачно посмотрел на него, лишь еле заметным кивком дав понять, что воспринимает его присутствие.
— И мисс Петерсон.
Грант выдал ослепительную улыбку. Она, сохраняя серьезность, бросила ему:
— Здравствуйте.
— Привет, — ответил Грант и, опустив глаза на то, что оставалось от его сэндвича, понял, что он единственный, кто отдал должное еде; после чего осторожно положил недоеденный кусок на тарелку.
Стремительно вошел Картер, коротко раскланиваясь с присутствующими. Сев на место, он спросил:
— Так вы присоединяетесь к нам, капитан Оуэнс? Грант?
Оуэнс неохотно подошел к столу и занял место напротив Дюваля. Подыскав себе стул, Грант сел так, чтобы, не упуская из виду Картера, лицезреть профиль Коры.
Неужели он не справится с любой работой, если она будет присутствовать рядом?
Микаэлс, который занял место рядом с Грантом, склонившись к его уху, прошептал:
— В общем-то, не такая плохая идея иметь в команде женщину. Мужчины, возможно, будут проявлять большую ретивость. Что меня вполне устраивает.
— Поэтому вы за нее заступились?
— Строго говоря, нет, не поэтому. Требование Дюваля достаточно серьезно. Без нее он бы не согласился.
— Он так от нее зависит?
— Скорее всего, нет. Но он привык настаивать на своем. Особенно, когда дело касается Рейда. Он не испытывает к нему особой симпатии.
— К делу, — сказал Картер. — В ходе обсуждения вы можете и есть, и пить. Кто хочет высказаться?
Грант внезапно бросил:
— Я не вызывался на это, дело, генерал. Я отклоняю ваше предложение и надеюсь, что вы найдете мне замену.
— Вы не доброволец, Грант, и я не принимаю ваш отказ. Джентльмены и мисс Петерсон — мистер Грант был отобран для участия в экспедиции в силу целого ряда причин. Во-первых, именно он доставил Бенеса в страну, с исключительным мастерством справившись с заданием.
Все взгляды обратились к Гранту, который поймал себя на мысли, что сейчас он должен услышать вежливые аплодисменты. Но их не последовало, и он расслабился.
Картер продолжал:
— Он специалист по средствам связи и опытный водолаз. Он изобретателен, находчив и обладает профессиональной способностью к принятию быстрых решений. В силу этих причин я доверяю ему с момента начала путешествия право принимать решения, так сказать, глобального характера. Это понятно?
Возражений не последовало, и Грант, в отчаянии уставившись на свои пальцы, сказал:
— Словом, вы все будете заниматься своими делами, я же позабочусь, чтобы с нами ничего не случилось. Прошу прощения, но я хотел бы внести в протокол замечание, что лично я не считаю себя достаточно подготовленным к этим обязанностям.
— Замечание принято, — невозмутимо сказал Картер, — и мы продолжаем. Капитан Оуэнс подобрал экспериментальную подводную лодку, предназначенную для океанографических исследований. Она не самым лучшим образом отвечает поставленной задаче, но она под руками, да и не существует другого судна, способного решить эту проблему. За штурвалом «Протеуса», конечно, будет сам Оуэнс.
— Доктор Микаэлс будет штурманом. Он подготовил и тщательно изучил схему системы кровообращения Бенеса, которую помнит почти наизусть. Доктор Дюваль и его ассистент будут готовы к проведению операции по устранению тромба.
— Всем вам понятна важность миссии. Мы надеемся, что операция пройдет успешно и что все вы благополучно вернетесь. Существует вероятность, что Бенес может и не вынести операции, но можно не сомневаться, что без нее он, вне всякого сомнения, погибнет. Существует опасность, что судно будет потеряно, но боюсь, что в данных обстоятельствах придется исходить из того, что и судно, и ее команду можно будет заменить. Цена, которую, возможно, придется заплатить, будет высока, но цель, которую мы стремимся достичь — я имею в виду не только ОССМ, но и все человечество — еще выше
Грант пробормотал:
— Ну да, всего лишь команда.
Услышав его слова, Кора Петерсон бросила на него беглый взгляд из-под темных ресниц. Грант вспыхнул.
— Покажите им схему, Микаэлс, — приказал Картер.
Тот нажал кнопку на панели перед собой, и на засветившейся стене появилось объёмное изображение кровеносной системы Бенеса, которое Грант недавно видел в кабинете Микаэлса. Дрогнув, оно поплыло к ним, увеличиваясь в размерах. На том участке, который наконец застыл на экране, ясно были видны границы шеи и затылка.
От четкого рисунка кровеносных сосудов, шло пробивавшееся сквозь решетку наложенных на них линий флюоресцентное свечение. На экране появилась тонкая черная стрелка, движением которой управлял Микаэлс. Тот продолжал сидеть в кресле, закинув левую руку за голову.
— Тромб, — сказал он, — расположен вот здесь.
Грант не видел пораженного места, пока в него не уткнулась стрелочка, легким круговым движением обрисовавшая размеры тромба — маленького плотного образования, застрявшего в артерии.
— Пока он не представляет собой немедленной угрозы для жизни, но на этом участке мозга сказывается пережатие нервных путей, от чего можно ждать неприятных последствий, которые, как доктор Дюваль объяснил мне, могут сказаться через двенадцать часов или даже раньше. Попытка произвести операцию общепринятым путем связана с необходимостью проникать в черепную коробку тут, тут или тут. Во всех трех вариантах неизбежны серьезные нарушения мозговой деятельности при более чем сомнительных шансах на успех.
— С другой стороны, мы можем попытаться добраться до тромба, двигаясь с потоком крови. Если мы проникнем в сонную артерию вот в этом месте на шее, то отсюда к цели лежит прямой путь. — Стрелка, плывущая по красной ниточке артерии, прокладывая себе путь сквозь синеватую сетку вен, легко добралась до нужного места.
— И если, — продолжил Микаэлс, — если «Протеус» и его команда будут миниатюризированы и введены в…
Внезапно вмешался Оуэнс.
— Минутку, — голос у него был хриплым и с металлическим оттенком. — До каких пределов мы будем уменьшены?
— До таких пределов, которые позволяют избежать защитной реакции со стороны иммунной системы тела. Предполагается, что общая длина судна будет равна трем микронам.
— Сколько это в дюймах? — вмешался Грант.
— Примерно одна десятитысячная дюйма. Размер судна будет соизмерим с величиной крупной бактерии.
— В таком случае, — сказал Оуэнс, — стоит нам оказаться в артериальном кровотоке, нас тут же понесет силой его течения.
— Скорость будет не больше мили в час, — сказал Картер.
— Забудьте об этой системе измерения. Каждую секунду мы будем преодолевать расстояние, равное ста тысячам длин нашего судна. В обычных условиях это означало бы, что мы несемся со скоростью примерно 200 миль в секунду — или что-то вроде этого. В нашем уменьшенном виде мы будем двигаться в десятки раз быстрее любого астронавта. Как минимум.
— Вне всякого сомнения, — сказал Картер, — но и что из этого? Все красные кровяные тельца движутся в кровотоке с такой же скоростью, а у судна куда больший запас прочности, чем у них.
— Нет, не больший, — с силой сказал Оуэнс. — Красное кровяное тельце состоит из миллиардов атомов, а у «Протеуса» в том же пространстве будут сконцентрированы миллиарды миллиардов миллиардов атомов — уменьшенных, конечно, но что из того? В силу этой же причины мы будем обладать куда большей уязвимостью, большей хрупкостью. Далее — окружение красных кровяных телец состоит из атомов, соизмеримых по размерам с теми, которые составляют само тельце; наше же окружение будет состоять из атомов чудовищных — для нас — размеров.
— Можете ли вы ответить, Макс? — спросил Картер.
Микаэлс встрепенулся.
— Я не могу утверждать, что столь сведущ в вопросах миниатюризации, как капитан Оуэнс. Но я предполагаю, что он исходит из сообщений Джеймса и Шварца, которые считают, что с увеличением предела миниатюризации хрупкость объекта соответственно возрастает.
— Именно так, — сказал Оуэнс.
— Возрастание идет относительно медленно, и в ходе своих аналитических выводов Джеймсу и Шварцу пришлось пойти на определенные допущения, чтобы их положение сохраняло хоть какую-то ценность. Кроме того, когда мы увеличиваем объект, его прочность отнюдь не увеличивается.
— Ох, да бросьте, мы никогда не увеличивали никакой объект больше, чем в сто раз, — презрительно сказал Оуэнс, — а тут идет речь об уменьшении в миллионы раз по линейным измерениям. Никто еще и не приближался к таким цифрам. Дело в том, что нет в мире человека, который мог бы предугадать, насколько хрупки и уязвимы мы станем или как мы сможем противостоять напору кровотока или даже, как мы сможем противостоять нападениям белых кровяных телец. Разве не так, Микаэлс?
— Ну… в общем-то, да, — сказал тот.
С трудом сдерживая нетерпение, Картер сказал:
— Иными словами, ясно, что поскольку никто еще не проводил опытов по столь высокому уровню миниатюризации, его последствия остаются неясными. Но мы не в том положении, чтобы проводить программу экспериментов, так что нам придется исходить из имеющихся у нас возможностей. И если судну придется погибнуть, то так тому и быть.
— Что меня страшно радует, — пробормотал Грант.
Склонившись к нему, Кора Петерсон сухо шепнула ему:
— Прошу вас, мистер Грант, вы не на футбольном поле.
— О, так вы, значит, что-то знаете обо мне, мисс?
— Тс-с-с.
— Мы предпримем все меры предосторожности, сделаем все, что в наших силах, — сказал Картер. — Для его же собственной безопасности, Бенес будет погружен в глубокую гипотермию. Охладив его, мы сможем резко сократить поступление кислорода к мозгу. Из чего вытекает, что частота сердцебиения заметно уменьшится, как и скорость движения крови по сосудам.
— Даже в этом случае, — сказал Оуэнс, — я сомневаюсь, что нам удастся справиться с турбулентными потоками…
Микаэлс возразил:
— Капитан, если вы будете держаться в отдалении от стенок артерий, вы попадете в район ламинарных потоков, где не может идти речь о турбулентных завихрениях. По артерии мы будем двигаться буквально несколько минут, а потом попадем в более мелкие сосуды, так что проблем у нас не возникнет. Единственное место, где нам не удалось бы избежать убийственных завихрений, — это само сердце, но мы не собираемся приближаться к нему… Могу я теперь продолжить?
— Будьте любезны, — сказал Картер.
— Когда мы окажемся рядом с тромбом, его предстоит уничтожить лучами лазера. И лазер и его излучение, которые подвергнутся той же миниатюризации, при правильном использовании — а в твердости руки Дюваля я не сомневаюсь — не причинят никакого вреда ни мозгу, ни самим сосудам. Кроме того, нет необходимости в полном и окончательном уничтожении тромба. Достаточно будет располосовать его на части. А белые кровяные тельца позаботятся об остальном.
— Справившись с задачей, мы тут же оставим этот район, двинувшись по венозной системе, пока не окажемся у основания черепа, где нас и извлекут из яремной вены.
Грант спросил:
— Как мы дадим знать, где мы будем и когда?
— Микаэлс будет осуществлять прокладку курса, — позаботившись, чтобы вы оказались в нужное время в нужном месте. Мы же будем держать связь с вами по рации…
— Вы не знаете, будет ли она работать, — вмешался Оуэнс. — Существует проблема прохождения радиоволн при определенном уровне уменьшения, и никто еще не пытался…
— Верно — вот мы и попытаемся. Кроме того, у «Протеуса» ядерный двигатель, и мы сможем уловить следы радиоактивных отходов… В вашем распоряжении будет шестьдесят минут, джентльмены.
— То есть, вы хотите сказать, — спросил Грант, — что мы должны справиться с задачей и вернуться на место всего за шестьдесят минут?
— Именно за шестьдесят. Этот промежуток времени продиктован вашими размерами, и времени должно хватить. Если вы задержитесь, то автоматически начнете принимать свои прежние размеры. Так что дольше продержать вас внутри тела мы не имеем возможности. Обладай мы знаниями Бенеса, вы могли провести там неограниченно долгое время, но если бы они у нас были…
— …то в этом путешествии не было бы необходимости, — с сарказмом закончил за него Грант.
— Совершенно верно. И если вы начнете увеличиваться, находясь в теле Бенеса, то первым делом вы привлечете внимание защитных систем организма, а затем вы просто убьете Бенеса. Вы понимаете, что этого нельзя допустить.
Картер обвел взглядом присутствующих:
— Есть еще замечания? В таком случае, начинайте подготовку. Мы хотим, чтобы вы как можно быстрее оказались в теле Бенеса.
Глава 5
СУБМАРИНА
Лихорадочную активность в палатах и помещениях больницы можно было бы сравнить с непрерывным воплем. Все стремительно, иногда бегом перемещались с места на место. Неподвижным было только тело в операционном зале. Его до самого горла закрывало теплоотводящее покрытие, по которому змеились бесчисленные шланги, наполненные охлаждающим реагентом. Под его покровом распростерлось обнаженное тело, охлаждающееся до того предела, когда жизнь будет едва теплиться в нем.
Голова Бенеса была обрита наголо и покрыта линиями и отметинами, в связи с чем напоминала навигационную карту с обозначением долгот и широт. На его неподвижном лице застыло скорбное выражение.
На стене за ним было еще одно изображение кровеносной системы, увеличенное до таких размеров, что сеть сосудов, проходящих в районе груди, шеи и головы, заполняла все пространство от стенки до стенки и от пола до потолка и была похожа на густой тропический лес. Основные сосуды были толщиной с мужскую руку, а сеть капилляров плотной паутиной заполняла все пространство между ними.
В контрольной рубке, расположенной над операционной, за всем происходящим наблюдали Картер и Рейд. Перед ними тянулся ряд мониторов, за каждым из которых сидел техник, все в белых с молниями формах ОССМ.
Картер подошел к окну, когда Рейд тихим голосом отдал приказ:
— Доставить «Протеус» в Зал миниатюризации.
Это было в порядке вещей — отдавать приказы тихим спокойным голосом, и на всем этаже царила тишина, если можно было считать ее критерием полное отсутствие звуков. Вокруг теплоотводящего покрытия лихорадочно завершались последние приготовления. Техники, отрешившись от всего окружающего, не отрывали глаз — каждый от своего монитора. Медсестры в белых накрахмаленных одеяниях окружали тело Бенеса как стая бабочек.
Когда началась подготовка «Протеуса» к миниатюризации, весь персонал, и мужчины, и женщины, работающие на этом этаже, поняли, что пошел отсчет последнего этапа.
Рейд нажал кнопку.
— Сердце!
Сектор кардиологии тут же выдал все данные на экран, у которого стоял Рейд. Еще до появления этих данных экран неизменно выдавал ломаную линию электрокардиограммы, и в напряженной тишине разносилось гулкое биение сердечной мышцы.
— Как дела, Генри?
— Отлично. Пульс держится на тридцати двух в минуту. Никаких отклонений: ни акустических, ни по данным электроники. Дай Бог, чтобы все остальное у него работало, как сердце.
— Хорошо. — Рейд отключился. Если сердце в норме, что еще может волновать кардиолога?
Он повернулся к секции легких. Представшая перед ним картина говорила о частоте дыхания.
— У тебя все в порядке, Джек?
— Все отлично, доктор Рейд. Я довел частоту дыхания до шести в минуту. Ниже опускать нельзя.
— Я и не прошу. Держитесь на этом уровне.
Следующей шла гипотермия. Ее сектор был крупнее всех прочих. Он держал под контролем все тело и главным его орудием были термометры, которые давали знать об уровне охлаждения конечностей, о температуре в разных точках тела, а тончайшие датчики, введенные под кожу в разных местах, сообщали о температуре в глубинах тела. Данные ползли до шкалам, над каждой из которых была надпись: «Кровеносная система», «Дыхательная», «Сердечная мышца», «Почки», «Кишечник» и так далее.
— Есть проблемы, Сойер? — спросил Рейд.
— Нет, сэр. Общее охлаждение дошло до двадцати восьми по Цельсию, то есть до восьмидесяти двух по Фаренгейту.
— В переводе нет необходимости, благодарю вас.
— Да, сэр.
Рейду казалось, что гипотермия сковывает холодом его собственные жизненные центры. Шестнадцать градусов по Фаренгейту ниже нормальной температуры тела говорят о наступлении критического момента, когда скорость обмена веществ снижается до трети от нормальной, когда кислорода нужно организму едва ли одна треть от нормально потребляемого количества, когда замедляется сердцебиение, падает давление крови в мозгу, заблокированном тромбом… Все подготовлено для удобства движения судна, которое скоро погрузится в джунгли человеческого тела.
Картер повернулся к Рейду.
— Все готово, Дон?
— В той мере, в какой мы успели справиться,
учитывая, что всю ночь работали на скорую руку и импровизировали на ходу.
— В чем я очень сомневаюсь.
Рейд вспыхнул.
— Что вы имеете в виду, генерал?
— В импровизациях не было нужды, Не секрет, что втайне вы давно готовились к биологическим экспериментам с миниатюризацией. И разве в ваши планы не входило специальное исследование кровеносной системы человека?
— Специально — нет. Но моя команда, конечно, занималась этой темой. Это входило в ее обязанности.
— Дон… — Помедлив, Картер все же решился. — Если вас постигнет неудача, правительство потребует чью-то голову, чтобы повесить ее в зале своих охотничьих трофеев, и, скорее всего, в жертву будет принесена моя. Если же придет удача, и вы, и ваши люди, выйдут отсюда в благоухании роз и лилий. Так что, как бы ни повернулись события, ведите себя с достоинством.
— И все лавры достанутся военным, так? И вы намекаете мне, чтобы я не вставал у них на пути?
— Может, в этом есть свой смысл… Но речь идет о другом. Что за претензии к этой девушке, Коре Петерсон?
— Никаких. А что?
— Вы говорили так громко и возбужденно, что я услышал вас, едва войдя в конференц-зал. Были какие-то причины, по которым вы не хотели ее присутствия на борту?
— Она женщина. В аварийной обстановке она может растеряться. Кроме того…
— Да?
— Откровенно говоря, когда Дюваль стал выступать в своей обычной манере «я-вам-закон-и-пророк-его», я автоматически завелся. Насколько вы доверяете Дювалю?
— Что вы хотите сказать этим «доверяю»?
— В чем подлинная причина того, что вы отрядили Гранта на борт? С кого он должен не спускать глаз?
— Я не говорил ему, что он должен с кого-то не спускать глаз, — тихим хриплым голосом ответил Картер.
В данный момент команда уже находится в стерилизационном коридоре.
* * *
Грант вдохнул слабый больничный запах антисептиков, слава Богу, что ему представилась возможность побриться. Нельзя выглядеть неряшливым, когда на борту женщина. Да и форма ОССМ была не так уж плоха: цельнокройная, стянутая в талии ремнем — нечто среднее между рабочим комбинезоном ученого и франтоватым мундиром. Та, которую удалось подобрать для него, несколько жала под мышками, но ему придется, скорее всего носить ее не больше часа, наверное…
Выстроившись в шеренгу, он и остальные члены команды шли по коридору, залитому слабым светом, в котором, тем не менее, было изобилие ультрафиолетовых лучей. Предохраняя глаза от его излучения, на всех были надеты темные очки-консервы.
Кора Петерсон шагала прямо перед Грантом, так что он старательно вглядывался в плотную темноту стекол, ибо его очень интересовала ее походка.
В попытке завязать разговор, он спросил:
— Неужели этой краткой прогулки будет достаточно, чтобы стерилизовать нас, мисс Петерсон?
Она слегка повернула голову и сказала:
— Я думаю, у вас нет необходимости изображать мужскую застенчивость.
Грант опешил. Ну что ж, он сам напросился.
— Вы недооцениваете моей наивности, мисс Петерсон, — сказал он, — и, честно говоря, я не собирался вводить вас в заблуждение.
— А я не хотела обидеть вас.
Дверь в конце коридора автоматически открылась, и Грант столь же автоматически сократил расстояние между ними и предложил ей руку. Не обратив на нее внимания, Кора последовала по пятам за Дювалем.
— Я и не обижаюсь, — сказал Грант. — Но мне кажется, что мы стерилизованы далеко не полностью. С точки зрения наличия микробов, я хочу сказать. В лучшем случае стерильны лишь наши поверхностные оболочки. А внутри мы кишим бактериями.
— В этом смысле, — ответила Кора, — Бенес и сам не стерилен. Но чем больше мы уничтожим на себе бактерий, тем меньше мы внесем их в его организм. Наша бактериальная флора, конечно, уменьшится вместе с нами, но мы не знаем, какое воздействие эти уменьшенные бактерии окажут на человека, когда окажутся в его кровотоке. С другой стороны, через час все миниатюризированные бактерии, оказавшиеся в крови, обретут свои подлинные размеры, и не исключено, что они могут стать опасными для здоровья Бенеса. Чем меньше он будет сталкиваться с неизвестными факторами, тем лучше.
Она покачала головой и продолжила.
— Мы столького не знаем! И экспериментировать не было возможности.,
— Но ведь у нас так и так нет выбора, верно, мисс Петерсон? Да, не разрешите ли, кстати, называть вас Кора?
— Мне абсолютно все равно.
Они оказались в большом округлом помещении, со стеклянными стенами. Пол был выложен четырехугольными плитами около трех футов в поперечнике каждая, в глубинах которых застыла россыпь воздушных пузырьков, от чего стекломасса обрела белесый оттенок. В центре помещения лежала точно такая же плита, но только темно-красного цвета.
Почти все пространство зала заполняло белое судно примерно пятидесяти футов в длину, верхняя часть которого представляла собой полукруглую сферу со стеклянной передней частью; она была водружена на пузырь поменьше, сделанный из прозрачного материала. Корпус судна был укреплен захватах гидравлического подъемника, который переместил подлодку в центр зала.
Микаэлс подошел к Гранту.
— Вот и «Протеус» — сказал он. — И на ближайший час у нас не будет иного дома, кроме него.
— До чего огромный зал, — удивился Грант, озираясь.
— Это наше помещение для миниатюризации. В нем проводилось уменьшение артиллерийских снарядов и небольших атомных бомб. Здесь же шло увеличение насекомых — понимаете, когда муравей обретает размеры локомотива, его проще изучать. На эти биоэксперименты еще не получено разрешения, но парочку мы провели тайком… Сейчас «Протеус» подведут к Модулю-Ноль, вон на ту красную плиту. После чего мы в нем разместимся. Нервничаете, мистер Грант?
— Еще как! А вы?
С сокрушенным видом Микаэлс кивнул.
— Очень!
«Протеус» аккуратно разместился на подставках, и гидравлический подъемник, сделавший свое дело, отъехал в сторону. Трап вдоль борта вел к проему входного люка.
На тупой зализанный нос судна ложились отблески сверкающей стерильной белизны, на корме лодка заканчивалась дюзами двух турбин и вскинутым плавником рулевого управления.
— Я захожу первым, — сказал Оуэнс. — По моему сигналу поднимаются все остальные. — Он стал подниматься по трапу.
— Это его судно, — пробормотал Грант. — Почему бы и нет?
Он повернулся к Микаэлсу.
— Похоже, что он нервничает больше, чем мы,
— И его можно понять. Он все время не в себе. У него есть на то причины. У него жена и две маленькие дочки. Дюваль же и его ассистентка — оба холостые.
— Я тоже, сказал Грант. — А вы?
— Разведен. Детей нет. Внимание!
Теперь за стеклом верхней полусферы была ясно видна фигура Оуэнса. Он не отрывал глаз от панели перед собой. Наконец он сделал приглашающий жест. Микаэлс кивнул ему и двинулся к трапу. За ним последовал Дюваль. Грант пропустил Кору.
Все уже сидели на местах. Грант протиснулся через узкий проход шлюза, рассчитанный на одного человека. Наверху Оуэнс расположился в одиночестве за панелью управления. Ниже стояли четыре кресла. Два задних по обе стороны от прохода заняли медики: Кора справа, рядом с трапом, что вел наверх, Дюваль слева.
Ближе к носу бок о бок стояли еще два кресла. Микаэлс уже сидел в том, что было справа. Грант опустился рядом с ним.
По обеим бортам тянулись деревянные скамьи и ряд мониторов дополнительного оборудования. В кормовой части располагались два небольших кубрика, в одном из которых была походная мастерская, а во втором склад имущества.
Внутри лодки было совершенно темно.
— Вам предстоит работа, Грант, — сказал Микаэлс. — Обычно тут сидит радист, на одном из наших мест, я имею в виду. Поскольку вы специалист по средствам связи, вам придется заняться рацией. Надеюсь, проблем у вас не будет.
— Пока что я ничего не могу разглядеть…
— Сейчас наладим. Оуэнс! — крикнул Микаэлс наверх. — Как насчет подачи энергии?
— Минутку. Я должен еще кое-что проверить.
— Сомневаюсь, чтобы мы столкнулись с чем-то необычным, — сказал Микаэлс. — Ваша аппаратура — единственная на судне, что работает не на ядерной энергии.
— Я и не жду никаких осложнений.
— Отлично! В таком случае можете расслабиться. Процесс миниатюризации начнется через несколько минут. Все будут заняты и, если вы не против, я бы предпочел поболтать.
— Валяйте.
Микаэлс поерзал на месте.
— У каждого своя специфическая реакция на нервное возбуждение. Кто-то затягивается сигаретой… кстати, на борту нельзя курить…
— Я не курю.
— Кто-то пьет, кто-то грызет ногти. Я же болтаю, дабы убедиться, что у меня не перехватывает горло. Хотя порой я издаю довольно жалкие звуки. Вы интересовались Оуэнсом. Он вас беспокоит?
— А нужно?
— Не сомневаюсь, Картер чего-то ждет от вас. Он вообще преисполнен подозрений, этот Картер. До параноидальности. Я подозреваю, что ему не дает покоя тот факт, что в машине с Бенесом во время аварии был именно Оуэнс.
— Эта мысль и мне приходила в голову, — сказал
Грант. — Но что из этого следует? Если вы предполагаете, что инцидент был делом рук Оуэнса, то салон машины — далеко не самое лучшее место, где ему стоило бы находиться.
— Да ничего такого я и не предполагаю, — замотал головой Микаэлс. — Я пытаюсь уловить ход мыслей Картера. Предположим, Оуэнс — тайный вражеский агент, завербованный Той Стороной во время одной из заграничных научных конференций…
— До чего драматично, — сухо подметил Грант. — Все остальные на борту тоже участвовали в таких конференциях?
Микаэлс задумался.
— В сущности, все мы там бывали. Даже девушка участвовала в небольшой встрече в прошлом году, на которой Дюваль читал свой доклад. Но в любом случае, предположим, что завербовали именно Оуэнса. Давайте исходить из того, что перед ним была поставлена цель удостовериться в гибели Бенеса. Если таковая не последовала, перед ним возникает необходимость рисковать своей жизнью. Водитель разбившейся машины понимал, что он идет на смерть; пятеро снайперов знали, что им не спастись. Хотя нормальному человеку не свойственно стремление к смерти.
— То есть, может быть, сейчас Оуэнс готов скорее погибнуть, чем обеспечить успех нашей миссии? Поэтому он и нервничает?
— О, нет. Ваше предположение не выдерживает ни малейшей критики. Чисто теоретически я еще могу предположить, что Оуэнс способен отдать жизнь ради каких-то высоких идеалов, но я и мысли не допускаю, что он пожертвует престижем своего судна, обрекая его на неудачу в ходе такой знаменательной миссии.
— То есть, вы думаете, что мы можем вычеркнуть Оуэнса из списка подозреваемых и забыть, что в его власти свернуть не в ту сторону на нужном перекрестке.
Микаэлс тихонько засмеялся и на его лунообразном лице появилось добродушное выражение.
— Конечно. Но я побился об заклад, что Картер подозревает всех и каждого из нас… Поэтому-то вы и оказались на борту.
— Даже Дюваля? — спросил Грант.
— А почему бы и нет? Любой может быть с Другой Стороны. Не из-за денег, скорее всего: я не сомневаюсь, что никого из нас так просто не купить; скажем, из-за идеалистических ошибок. Например, миниатюризация первым делом рассматривается как оружие войны, и многие решительно против такого аспекта ее использования. Заявление, затрагивающее эту тему, со многими подписями было направлено Президенту несколько месяцев назад; в нем высказывалось требование прекратить гонку средств уничтожения при помощи миниатюризации, выработать общую с другими нациями программу использования ее возможностей для мирных исследований в биологии и, главным образом, в медицине.
— Кто участвовал в этом движении?
— Очень многие. Дюваль — один из самых страстных и неукротимых его лидеров. Да я сам подписал это обращение. И могу заверить, что все, кто поставили подписи, были настроены совершенно серьезно. Как и я, от чего не собираюсь отказываться. Нетрудно доказать, что если изобретение Бенеса, позволяющее неограниченно увеличивать срок миниатюризации, сработает, опасность войны и всеобщего уничтожения возрастет в огромной мере. В таком случае, можно предположить, что Дюваль или я предпочли бы увидеть Бенеса мертвым до того, как он заговорит. Что касается меня, я решительно отвергаю такие мотивы. Во всяком случае, они носят экстремистский характер. Самой большой проблемой в общении с Дювалем являются неприятные черты его характера. Многие совершенно серьезно готовы подозревать его в чем угодно.
Микаэлс поерзал на сидении.
— И еще эта девушка здесь.
— Она тоже подписывала?
— Нет, заявление было от имени старшего научного персонала. Но с какой стати ей тут быть?
— Потому что Дюваль настаивал. И мы все при этом присутствовали.
— Да, но почему именно он была предметом столь настоятельных требований? Она молода и достаточно привлекательна. Он на двадцать лет старше ее и не проявляем к ней никакого интереса — как и к любому другому человеческому существу. То ли она в самом деле искренне предана Дювалю, то ли она отправилась с ним в силу каких-то других, политических, причин?
— Вы ревнуете, доктор Микаэлс? — спросил Грант.
Удивленно посмотрев на него, Микаэлс медленно расплылся в улыбке.
— Знаете, мне никогда не приходила в голову такая мысль. Но не исключено. Я не старше Дюваля, и если ее в самом деле интересуют люди старшего поколения, мне было бы куда приятнее, чтобы она предпочла меня… Но если даже принимать во внимание мою необъективность, есть более чем достаточно причин интересоваться ее мотивами.
Улыбка сползла с лица Микаэлса, и он опять погрузился в мрачную серьезность.
— И кроме того, безопасность нашего судна зависит не только от нас, но и от тех, кто снаружи ведет нас и контролирует. Полковник Рейд подписал бы это письмо с таким же удовольствием, как и любой из нас, но, как военный человек, он не участвует в политической деятельности. Однако, хотя его имени нет под заявлением, он его поддерживает от всей души. Он и с Картером ссорился из-за этого. А раньше они были хорошими друзьями.
— Плохи дела, — сказал Грант.
— Да взять самого Картера. Убежденный параноик. На этой работе стрессы могут выбить из седла самого здорового человека. И, уверяю вас, нет ни одного человека, который бы не предполагая, что Картер слегка сдвинулся…
— Вы тоже так думаете?
Микаэлс развел руками.
— Нет. Конечно, нет. Я же говорил вам — наш разговор носит скорее терапевтический характер. Или вы предпочитаете, чтобы я сидел рядом с вами, обливаясь потом, и тихонько стонал?
— Пожалуй, что нет, — согласился Грант. — Так что, будьте любезны, продолжайте. Пока я вас слушаю, у меня нет времени паниковать. Похоже, что вы всех упомянули.
— Отнюдь. Я специально оставил под конец того, кто вызывает меньше подозрений. Общепринятым правилом является, что виновным оказывается тот, на кого меньше всего могут пасть подозрения. Вы так не считаете?
— Совершенно верно, — сказал Грант. — Так кто же наименее подозрительная личность? Или надо ждать, пока тут не прогремит выстрел и вы не рухнете на пол прежде, чем успеете сообщить мне имя врага?
— Никто вроде не собирается брать меня на прицел, — сказал Микаэлс. — И, думаю, времени у меня хватит. Меньше всего подозрений, конечно, вызываете вы, Грант. Кому можно доверять больше, чем проверенному в делах агенту, которому поручено обеспечить успех миссии судна? Вам в самом деле можно доверять, Грант?
— Не уверен. Вам приходится полагаться только на мои слова, а многого ли они стоят?
— Именно так. Вам доводилось бывать на Другой Стороне в роли правонарушителя, преодолевая многие сложные препятствия, вам довелось испытать куда больше, чем любому из членов нашей команды. Предположим, что тем или иным образом Им удалось вас подкупить.
— Вполне возможно, — не проявляя никаких эмоций, сказал Грант. — но все же я доставил сюда Бенеса в целости и сохранности.
— Что вы сделали, может быть, зная, что о нем позаботятся на следующем этапе, выведя вас из-под подозрений, а это позволит вам и в дальнейшем исполнять свои обязанности, вот как, например, сейчас.
— Думаю, что вы отвечаете за свои слова, — сказал Грант.
Но Микаэлс покачал головой.
— Нет, не отвечаю. И мне очень жаль, что мысли начинают приобретать агрессивный и оскорбительный характер. — Почесав нос, он добавил: — Мне бы хотелось, чтобы они приступили к миниатюризации. Тогда уже у меня не будет времени ломать себе голову.
Грант забеспокоился. Добродушное выражение, как мертвая кожа, сползло с лица Микаэлса и он застыл в напряженном ожидании. — Как дела, капитан? — подал он голос.
— Все готово, — с металлической хрипотцой ответил Оуэнс.
Вспыхнул свет. Дюваль сразу же выдвинул из переборки столик и стал рассматривать свои бумаги. Кора тщательно проверяла лазерную аппаратуру.
— Могу ли я подняться к вам наверх, Оуэнс? — спросил Грант.
— Если хотите, можете просунуть сюда голову, — ответил Оуэнс. — Места для двоих тут нет.
— Спокойнее, доктор Микаэлс, — сквозь зубы сказал Грант. — Я исчезну на несколько минут, а вы, если хотите, может дать волю нервам.
Голос у Микаэлса был сдавленным, и слова, казалось, с трудом протискивались сквозь горло.
— Вы тактичный человек, Грант. Если бы только мне удалось заснуть…
Встав, Грант сделал шаг назад и улыбнулся Коре, которая холодно отвела глаза. Быстро поднявшись по трапу, он осмотрелся и спросил:
— Как вы сами определите, куда нам двигаться?
— У меня тут схемы и карты Микаэлса, — ответил Оуэнс. Он щелкнул выключателем, и на вспыхнувшем перед ним экране тут же появилась копия той самой схемы кровеносной системы, которую Гранту уже несколько раз довелось видеть.
Оуэнс коснулся другого тумблера и часть схемы тут же обрела желтовато-оранжевый цвет.
— Наш предполагаемый маршрут, — сказал он. — В случае необходимости Микаэлс будет корректировать его, и пока у нас есть запасы ядерного топлива, Картер и остальные будут точно знать, где мы находимся. Они смогут помогать нам, если вы, со своей стороны, обеспечите исправность связи.
— У вас тут довольно сложная система управления.
— Да, она непростая, — с нескрываемой гордостью сказал Оуэнс. Дистанционным управлением я могу обеспечивать полный контроль над судном, и все собрано тут передо мной. Судно же предназначено, как вы знаете, для глубоководных исследований.
Грант спустился вниз, и снова Кора уступила ему дорогу. Она была целиком занята своим лазером, копаясь в его внутренностях набором инструментов, смахивающих на принадлежности часового мастера.
— Сложное устройство, — сказал Грант.
— Лазер с рубиновой накачкой, — сухо сказала Кора, если вы знаете, что это означает.
— Я знаю, что из него исходит узкий луч чистого монохромного света, но не имею ни малейшего представления, как он работает.
— В таком случае я бы предложила вам занять свое место и не мешать мне.
— Слушаюсь, мэм. Но если вам захочется погонять мячик, дайте мне знать. Мы, мордовороты, только и годимся для такой неквалифицированной работы.
Кора отложила в сторону крохотную отвёрточку, сплела пальцы в резиновых перчатках и обратилась к нему:
— Мистер Грант?
— Да, мэм?
— Неужели вы и в дальнейшем собираетесь отягощать наше мероприятие своим чувством юмора, которое пошлине ужасно?
— Нет, я не… но… Ладно, как же мне с вами разговаривать?
— Как с коллегой по команде.
— Вы же, кроме того, и молодая женщина.
— Мне это известно, мистер Грант, но какое это имеет к вам отношение? Не стоит каждым вашим жестом и словом подчеркивать, что вас привлекает мой пол. Это утомительно и ни к чему. После того, как все будет закончено и если у вас еще не пропадет желание продемонстрировать все те ритуалы, с которыми вы встречаете каждую молодую женщину, я смогу иметь с вами дело в той мере, в какой это меня устроит, но пока…
— Хорошо. Будем считать, что о свидании мы договорились.
— И еще, мистер Грант…
— Да?
— Не старайтесь так настойчиво подчеркивать, что когда-то вы были футболистом. Честное слово, меня это не волнует…
Сглотнув, Грант сказал:
— Что-то подсказывает мне, что все мои ритуалы вылетят в трубу, но…
Не обращая больше на него внимания, она снова занялась лазером. Грант не мог оторвать глаз от легких, точных движений ее уверенных пальцев.
— Ох, если бы только вы быт чуть легкомысленнее, — вздохнул он, но, к счастью, она не слышала его или, по крайней мере, сделала вид.
Она неожиданно схватила его за руку, и Грант замер от прикосновения ее теплых пальцев.
— Прошу прощения, — сказала она, отводя его кисть в сторону и одновременно нажимая кнопку на панели лазера. Из тубуса вырвался тонкий, как волосок, луч красного цвета, упавший на металлический диск, где только что лежала рука Гранта. В диске мгновенно появилась тоненькая дырочка, и в воздухе послышался запах испаряющегося металла. Не убери она руку Гранта, дырочка оказалась бы как раз на его большом пальце.
— Вы могли предупредить меня, — сказал Грант.
— У вас. нет никаких причин стоять тут, не так ли?
Не обращая внимания на его протянутую для помощи руку она подняла лазер и двинулась в сторону кладовки.
— Да, мисс, — мрачно сказал Грант. — Впредь, оказавшись рядом с вами, я буду внимательно следить за своими руками.
Кора повернулась и показалось, что она удивлена и несколько смущена. Помедлив, она улыбнулась.
— Осторожнее, — сказал Грант. — А то щека треснет.
Улыбка ее мгновенно исчезла.
— Займитесь собой, — ледяным тоном сказала она и скрылась в мастерской.
Сверху донесся голос Оуэнса.
— Грант! Проверить рацию!
— Есть, — отозвался Грант. — Мы еще увидимся, Кора. Потом!
Он скользнул на свое место и в первый раз присмотрелся к рации.
— Похоже, что принимает она только азбуку Морзе.
Микаэлс повернулся к нему. Лица его обрело сероватый оттенок.
— Технически довольно сложно обеспечить голосовую связь при большом уровне миниатюризации. Я предполагаю, что азбуку вы знаете.
— Конечно. — Несколькими движениями кисти он отбил краткое послание. Через пару секунд динамик всеобщего оповещения в зале миниатюризации выдал звук, громкость которого проникала сквозь стенки «Протеуса»:
— Сообщение получено. Необходимо подтверждение. Сообщение гласит: «МИСС ПЕТЕРСОН УЛЫБНУЛАСЬ».
Кора, только что вернувшаяся на свое место, возмущенно подняла на него глаза и сказала:
— Господи!
Грант, склонившись над рацией, отстучал: «ПРАВИЛЬНО».
Ответ на этот раз поступил морзянкой. Прислушавшись к ее стрекоту, Грант крикнул:
— Получено указание снаружи: «ПРИГОТОВИТСЯ К МИНИАТЮРИЗАЦИИ!».
Глава 6
МИНИАТЮРИЗАЦИЯ
Грант, не зная, как ему готовиться, решил остаться на месте. Микаэлс поднялся внезапным рывком, словно решив в последнюю минуту проверить всю окружающую аппаратуру.
Дюваль, отложив записи в сторону, стал возиться с ремнями.
— Могу ли я помочь вам, доктор? — спросила Кора.
Он поднял на нее глаза.
— Что? О, нет. Мне надо всего лишь затянуть эту пряжку. Вот и все.
— Доктор…
— Да? — он снова поднял на нее глаза, и внезапно до него дошло, что ей трудно выразить свои мысли, что ее что-то смущает. — Что-то случилось с лазером, мисс Петерсон?
— О, нет. Просто мне очень неудобно, что я стала причиной вашего конфликта с доктором Рейдом.
— Ничего особенного и не было. Выкиньте из головы.
— И спасибо, что вы предоставили мне возможность оказаться здесь, с вами.
Дюваль серьезно ответил ей:
— Просто я позарез нуждаюсь в вас. Кроме вас, я ни на кого не могу положиться.
Кора двинулась к Гранту, который, повернувшись, смотрел на Дюваля, в то же время пытаясь справиться со своей упряжью.
— Вы знаете, как застегнуться? — спросила она.
— Кажется, она несколько сложнее, чем пристяжной ремень в самолете.
— Так и есть. Вы неправильно застегнули вот здесь. Разрешите мне. — Она перегнулась через него, и Грант чуть не уткнулся носом в ее щеку, чувствуя легкий едва уловимый запах ее духов. Он напрягся.
Кора тихо сказала:
— Простите, если я была грубовата с вами, но я и без того в трудном положении.
— В данный момент оно мне очень нравится… Прошу прощения. Я как-то не уловил…
— Я занимаю в ОССМ такое же положение, как и все прочие, — сказала она, — но мне на каждом шагу мешает преувеличенное внимание к моему полу. То мне уделяют излишнее внимание, то подчеркнуто отстраняют, а мне не нужно ни того, ни другого. Во всяком случае, на работе. И это меня порядком раздражает.
Гранту тут же пришел в голову ответ, который так и напрашивался, но он промолчал. Он будет испытывать постоянное напряжение, если и дальше не сможет обращать внимания на то, что бросается в глаза, хотя, может быть, ему удастся справиться с собой.
— К какому полу вы бы ни принадлежали, я совершенно искренне утверждаю, что на борту вы самая спокойная личность, если не считать Дюваля, который, как мне кажется, вообще не обращает внимания на окружающую обстановку.
— Не надо недооценивать его, мистер Грант. Уверяю вас, он прекрасно понимает, где находится. И если он столь спокоен, то лишь потому, что осознает: успех нашей миссии несоизмерим с его жизнью.
— Дело в тайне Бенеса?
— Нет. В том, что в первый раз миниатюризация будет доведена до такого уровня, в первый раз она будет направлена на спасение жизни человека.
— Безопасно ли будет использование лазера? — спросил Грант. — После того, как я чуть не потерял палец?
— В руках доктора Дюваля лазер уничтожит тромб, не затронув ни одной молекулы окружающей ткани.
— Вы высоко оцениваете его способности.
— Так их оценивает весь мир, В силу тех же причин я разделяю эту оценку. Я работаю с ним бок о бок, едва только получила степень магистра.
— Я предполагаю, что он не одаривает вас ни излишней снисходительностью ни предупредительностью лишь потому, что вы женщина.
— Да, этого за ним не водится.
Вернувшись к себе, она легким движением застегнула свою систему.
— Доктор Микаэлс, мы ждем, — обратился сверху Оуэнс.
Микаэлс, поднявшись со своего места, медленно, с рассеянным и неуверенным выражением на лице обошел каюту. Затем, увидев, что все остальные уже застегнули ремни и сидят на местах, спохватился:
— Ах, да! — и, сев, торопливо привел себя в порядок.
Оуэнс, спустившись по трапу, бегло проверил надежность креплений, поднялся в рубку и сам пристегнулся.
— о’кей, мистер Грант. Передайте, что мы готовы.
Едва только Грант оторвал пальцы от ключа, динамик уже оповестил: «ВНИМАНИЕ, «ПРОТЕУС». ВНИМАНИЕ, «ПРОТЕУС». ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ МИССИИ. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ БУДЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ МИНУТ ОБЪЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ. ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА МИНИАТЮРИЗАЦИИ, ТАЙМЕР СУДНА НАЧНЕТ ОТСЧЕТ. ВЫ ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД ВРЕМЕНИ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО ТАЙМЕР БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ, СКОЛЬКО ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ — ПОВТОРЯЕМ, НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ВАШЕМУ СУБЪЕКТИВНОМУ ОЩУЩЕНИЮ ХОДА ВРЕМЕНИ. ВЫ ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ТЕЛА БЕНЕСА ДО ПОДХОДА НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ НА ТАЙМЕРЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ВЫ УБЬЕТЕ БЕНЕСА НЕЗАВИСИМО ОТ УСПЕШНОГО ИСХОДА ОПЕРАЦИИ. УДАЧИ!»
Голос смолк, и Грант не нашел ничего более оригинального для поднятия своего духа, чем слова «Ясно и понятно!».
К своему собственному удивлению, он услышал, что произнес их вслух.
Микаэлс, сидевший рядом, повторил: «Вот уж действительно, ясно и понятно» и выдавил слабую улыбку.
* * *
В контрольной рубке Картер застыл в ожидании. Он поймал себя на том, что в эти мгновения предпочел бы сам быть в «Протеусе», чем вне судна. Его ждет предельно трудный час, и ему было ?ы куда проще находиться там, где каждую секунду он мог контролировать положение дел.
Он вздрогнул от внезапного треска морзянки. Адъютант, сидевший на приеме, тихо сказал:
— «Протеус» сообщает, что полностью готов.
— Начали! — крикнул Картер.
Соответствующего тумблера, маркированного буквами «МИН.» на соответствующей панели коснулся соответствующий палец соответствующего техника. «Словно балет, — подумал Картер, — когда каждый стоит на своем месте, зная, что и когда ему надо делать, но никто не знает конца сюиты».
Прикосновение к кнопке заставило исчезнуть одну из стен в конце Зала миниатюризации, и из проема медленно выплыл огромный, сотканный из сотов диск, скользивший по направляющим, проложенным вдоль потолка. Он навис над «Протеусом», двигаясь плавно и бесшумно с помощью двигателей, работающих на сжатом воздухе.
* * *
Для тех же, кто был заключен в скорлупе «Протеуса», было ясно видно, как диск, рассеченный геометрически правильными линиями сот, огромным выщербленным чудовищем надвигался на них.
Лоб и голый череп Микаэлса были обильно залиты потом.
— Вот это, — сдавленным голосом прошептал он, — это и есть миниатюризатор.
Грант открыл было рот, но Микаэлс торопливо опередил его:
— Только не спрашивайте меня, как он работает. Это знает Оуэнс, а не я.
Грант непроизвольно перевел взгляд наверх и назад, к Оуэнсу, который, застыв на месте, тоже не мог скрыть напряжения. Ясно была видна одна его рука, вцепившаяся в ручку, которая, как Грант предположил, была едва ли не самой важной в управлении судном; ощущение чего-то материального и надежного помогало капитану держать себя в руках. Или, может, его успокаивало прикосновение хоть к какой-то части судна, которое он сам сконструировал. Он лучше, чем кто-либо другой, знал, насколько надежен — или хрупок — тот пузырь, защита стенок которого позволяла существовать их микроскопическому убежищу.
Отведя глаза, Грант уставился на Дюваля, тонкие губы которого были растянуты в легкой улыбке.
— Вы вроде нервничаете, мистер Грант. Разве в ваши профессиональные обязанности не входит умение сохранять спокойствие даже в самой нервной обстановке?
«Провалиться бы тебе. Сколько еще лет публику будут кормить дурацкими россказнями о тайных агентах, никогда не теряющих хладнокровия?»
— Нет, доктор, — сказал Грант. — Если бы в своей профессии я всегда сохранял невозмутимость в нервных ситуациях, я уже давно был бы мертв. Просто от нас требуется, чтобы мы действовали достаточно продуманно независимо от состояния нашей нервной системы. Вы же, насколько я вижу, отнюдь не нервничаете.
— Нет. Я испытываю заинтересованность. Я преисполнен чувством… чувством изумления. Мне свойственны невероятное любопытство и восторженность… так что у меня нет времени нервничать.
— Как вы думаете, есть ли у нас шанс погибнуть?
— Надеюсь, что он очень невелик. И в любом случае я ищу утешения в религии. Я причастился, так что для меня смерть — всего лишь переход в другой мир.
Грант не нашелся, что ответить на это, и промолчал. Для него смерть была сплошной стеной, из-за которой не было возврата, и он не мог не признать, что сколь бы логично ни было его представление о ней, в настоящий момент оно давало весьма слабое утешение, учитывая, что червячок беспокойства все же копошился в мозгу.
Он со смущением ощутил, что его собственный лоб также покрыт испариной и, может, он столь же влажен, как у Микаэлса, и что Кора смотрит на него с тем чувством стыда, которое тут же переходит в презрение.
Он импульсивно повернулся к ней:
— А вы признались в своих грехах, мисс Петерсон?
— Какие грехи вы имеете в виду, мистер Грант? — холодно спросила она.
Он не ответил, потому что, сжавшись на сидении, смотрел на огромный диск, нависающий над их головами.
— Что вы чувствуете, доктор Микаэлс, когда вас подвергают уменьшению?
— Предполагаю, что ничего особенного. Это своеобразная форма движения, направленного внутрь, и если оно производится с постоянной скоростью, вы чувствуете себя примерно так же, как спускаясь вниз по эскалатору, который несет вас с неизменной скоростью.
— Насколько я понимаю, это всего лишь теория, — Грант не сводил глаз с миниатюризатора. — А что чувствуете на деле?
— Не знаю. Мне никогда не приходилось этого испытывать. Тем не менее, животные в процессе миниатюризации не проявляли ни малейшего признака беспокойства. Они продолжали вести себя как ни в чем не бывало, что я лично наблюдал.
— Животные? — С внезапной вспышкой возмущения Грант повернулся к Микаэлсу. — Животные? А подвергался ли когда-нибудь раньше уменьшению человек?
— Боюсь, — сказал Микаэлс, — что нам предоставлена честь стать первопроходцами.
— Потрясающе. Разрешите мне задать вам еще один вопрос. До каких пределов простиралась миниатюризация животного — я имею в виду любого живого существа.
— До пятидесятикратного, — коротко ответил Микаэлс.
— Что?
— В пятьдесят раз. То есть, все его линейные размеры уменьшались до одной пятидесятой от нормальных.
— То есть, я бы был ростом в полтора дюйма.
— Совершенно верно.
— Но мы двинемся куда дальше.
— Да. Дойдем примерно до миллиона, я думаю. Оуэнс сможет дать вам точную цифру.
— Предельная точность не играет роли. Главное, что уменьшения таких масштабов никто еще не испытывал.
— Именно так.
— И вы считаете, что мы сможем вынести ту честь, которая была нам оказана в ходе эксперимента?
— Мистер Грант, — сказал Микаэлс, откуда-то из глубин своего существа извлекая остатки юмора, которым были отмечены его слова. — Боюсь, что ничего другого нам не остается. В данный момент мы уже подвергаемся миниатюризации, и, вне всякого сомнения, вы ничего не чувствуете.
— Силы небесные! — пробурчал Грант и, посмотрев наверх, оцепенел от изумления.
Днище диска миниатюризатора, надвинувшегося им почти на головы, светилось далеким бесцветным сиянием, которое шло мощным и ровным потоком. Свет воспринимался не столько зрением, сколько, в основном, нервными окончаниями, так что, когда Грант закрыл глаза и сам предмет исчез из виду, исходящее от него свечение все так же стояло у него перед глазами.
Микаэлс должно быть обратил внимание, как Грант сжимал веки, потому что сказал:
— Это не свет. Это вообще не электромагнитное излучение, какого бы то ни было вида. Это вид энергии, которая не присутствует в нашем нормальном окружении, в нашей Вселенной. Она действует прямо на нервные окончания, и наш мозг воспринимает ее как свет, ибо он не знает иного способа отреагировать на нее.
— Она представляет собой какую-то опасность?
— Насколько известно, нет, но должен признаться, что с таким уровнем интенсивности пока еще никто не сталкивался.
— Мы опять-таки стали первопроходцами, — пробормотал Грант.
— Потрясающе! — вскричал Дюваль. — Как сияние сотворения мира!
Реагируя на излучение, плита под судном тоже засветилась, да и сам «Протеус» стал излучать свечение как снаружи, так и изнутри себя. Можно было подумать, что кресло, в котором располагался Грант, было сделано из пламенных сгустков, но оно продолжало оставаться холодным и массивным. Даже воздух вокруг светился, и Грант вдыхал в себя холодное свечение.
Руки и его, и спутников слегка фосфоресцировали.
Светящиеся пальцы Дюваля прочертили в воздухе знак креста, и излучающие свечение губы шевельнулись.
— Вы вроде испугались, доктор? — спросил Грант.
— Порой молитва рождается, — мягко ответил Дюваль, — не из-за страха, а из благодарности, что тебе довелось увидеть одно из чудес Божьих.
В глубине души Гранту пришлось признать, что он потерпел поражение в поединке. Ему подобная мысль и в голову не приходила.
— Гляньте на стены! — закричал Оуэнс.
Те стремительно расходились в стороны, и потолок улетал вверх. Пределы огромного зала заволакивались плотным густым туманом, излучавшим к тому же свечение. Диск превратился в непостижимо огромный предмет, подлинные пределы и очертания которого скрылись от глаз. Шестиугольники каждой из ячеек превратились в источники нестерпимо яркого света, режущего глаза, словно звезды на угольно-черном небе.
Грант почувствовал, что опасения уступают место захлестывавшему его восторгу. Сделав над собой усилие он торопливо бросил взгляд на остальных спутников. Все они смотрели вверх, словно загипнотизированные сиянием, лившимся из ниоткуда, ибо зал расширился до пределов Вселенной, а сама Вселенная теперь являла собой нечто непредставимое.
Без предупреждения свечение внезапно стало меркнуть, обретая тускло-красный оттенок, и рация неожиданно выдала короткую серию сигналов. Грант уставился на нее.
— Белински из института Рокфеллера, — сказал Микаэлс, — считает, что в ходе миниатюризации должны меняться субъективные эмоции. В общем и целом, он ошибался, но, тем не менее, звук этого сигнала как-то изменился.
— А ваш голос — нет, — сказал Грант.
— Потому что и вы, и я изменились в равной мере. Я говорю о восприятии сигналов, которые приходят с той стороны. И наоборот.
Грант расшифровал и прочел пришедшее послание: «МИНИАТЮРИЗАЦИЯ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА. ВСЕ ЛИ У ВАС В ПОРЯДКЕ? ОТВЕЧАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО».
— Все ли у нас в порядке? — с сарказмом осведомился у членов команды Грант. Ответов не последовало, и, сказав: «Молчание — знак согласия», он отбил: «ВСЕ В ПОРЯДКЕ».
* * *
Картер облизал сухие губы. Щурясь до боли в глазах, он не отрывал взгляда от диска миниатюризатора и знал, что все, вплоть до последнего техника, застыли в том же положении.
Живые человеческие существа никогда еще не подвергались миниатюризации. Никогда еще не подвергался этой процедуре предмет столь большой, как «Протеус». Никто и ничто — ни человек и ни животное; живое или мертвое, маленькое или большое — не подвергалось миниатюризации такого уровня.
Вся ответственность лежала на нем. И пока продолжался этот кошмар, он не мог сбросить с себя груз ответственности.
— Вот оно! — невольно вырвался вздох из груди техника, сидевшего за кнопкой с надписью «МИН.» Его услышали все, кто, как и Картер, наблюдал за тем, как, уменьшаясь, исчезал из поля зрения «Протеус».
Сначала изменение его размеров шло так медленно, что о нем свидетельствовали лишь выплывающие из-под корабля прямоугольные плиты пола. Только что они почти все были скрыты корпусом субмарины, а теперь из-под нее стали выползать те, которых раньше совершенно не было видно.
Их становилось все больше по мере того, как увеличивалась скорость миниатюризации, и судно уменьшалось, как кусок льда на горячей сковородке.
Картер наблюдал за таким процессом раз сто, не меньше, но никогда раньше он не производил на него такого впечатления. Казалось, что корабль проваливается в глубокую, бесконечно глубокую дыру; вокруг стояла полная тишина, а субмарина становилась все меньше и меньше, словно отделявшее от нее расстояние преображалось в мили, десятки миль, сотни…
Корабль напоминал теперь белую пчелку, присевшую на центральный прямоугольник под миниатюризатором, белая точка на единственном в мире красном прямоугольнике — Модуле-Ноль.
«Протеус» продолжал падать в пространство, съеживаясь и уменьшаясь, и Картер с усилием поднял руку. Свечение диска обрело темно-красный цвет, и миниатюризация прекратилась.
— Прежде чем продолжить, выясните, как они себя там чувствуют.
Они уже могли быть трупами или же, что было ничуть не лучше, лишены возможности функционировать хотя бы с минимальным эффектом. В таком случае все потеряно и лучше бы узнать об этом заблаговременно.
Техник на связи сказал:
— Ответ пришел: «ВСЕ В ПОРЯДКЕ».
Картер подумал: если они не способны действовать, может, они и не осознают этого.
Но у них снаружи не было возможности проверить это предположение. Приходилось исходить из того, что у них в самом деле все в порядке, если так утверждает команда «Протеуса».
— Поднять судно, — сказал Картер.
Глава 7
ПОГРУЖЕНИЕ
Модуль-Ноль стал медленно подниматься над уровнем пола: прямоугольная колонна строгих очертаний с красным верхом и белыми сторонами; она несла на себе белую точку «Протеуса» величиной в дюйм. Когда плоский верх колонны приподнялся над полом на четыре фута, движение прекратилось.
— К Фазе-два готовы, сэр, — донесся голос одного из техников.
Картер коротко глянул на Рейда, который кивнул в ответ.
— Приступить к Фазе-два, — сказал Картер.
Панель скользнула в сторону и механическая рука (гигантский «Уолдо» — как рассказывали Картеру, это имя было присвоено ей в соответствии с одним из фантастических рассказов 40-х годов) бесшумно двинулась вперед. Высотой она была в четырнадцать футов, и ее несущая конструкция представляла собой треножник, поддерживавший вертикальный стояк, от которого горизонтально отходила непосредственно механическая мышца руки. Сама она состояла из нескольких составных частей, каждая из которых была короче предыдущей. Всего их было три, и последняя, в два дюйма длиной, заканчивалась стальными подобиями пальцев толщиной в четверть дюйма, способных к довольно сложным взаимным манипуляциям.
На основание устройства были нанесены буквы ОССМ, а под ними надпись «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИН.».
Вместе с ним в зале показались трое техников с медсестрой, которая не могла скрыть волнения. Каштановые волосы были забраны под белую шапочку в беспорядке, словно ее неожиданно сорвали с места.
Двое техников нацелили руку «Уолдо», заставив ее зависнуть над уменьшившимся «Протеусом». Для точной наводки три волосообразных лучика света, падавших из основания агрегата, скрестились на поверхности Модуля-Ноль. Расстояние от каждого луча до центра модуля высвечивалось на маленьком овально экране, в центре которого и должны были скрестится все три луча.
Интенсивность свечения экрана стала понемногу меняться, когда третий техник принялся осторожно вращать ручку. Опытной рукой, натренированной за долгое время практики он в течение пары секунд добился ровного свечения всех трех сегментов, на которые линии лучей делили экран; во всяком случае, границы между ними размылись. Щелкнув тумблером, техник закрепил выкинутую руку «Уолдо» в нужном положении. Линии наводки отключились и отраженный луч прожектора осветил «Протеус».
Рука стала медленно и плавно опускаться к «Протеусу». Техник затаил дыхание. Чаще, чем кому-либо другому в стране, ему приходилось иметь дело с уменьшенными объектами: может, он был самым опытным в мире (хотя, конечно, никто не знал, что делается там, на Другой Стороне), но работа, предстоявшая ему сейчас, не имела прецедентов.
Ему нужно было приподнять объект во много раз меньше тех масс, с которыми он сталкивался раньше, а в объекте находились пять живых человеческих существ. Даже еле заметного подрагивания руки было достаточно, чтобы убить их.
Растопыренные захваты механических пальцев нависли прямо над субмариной. Техник остановил их, попытавшись заставить зрение воспринимать то, что, по мнению инструментального контроля, было сущей правдой. Он аккуратно нацелил захваты. Медленно, миллиметр за миллиметром, они стали сходиться воедино, пока не сомкнулись под днищем судна, приняв его в аккуратные и надежные объятия.
Дрогнув, Модуль-Ноль стал опускаться, оставив «Протеус» покоиться в захвате стальных щупальцев.
Модуль не остановился на уровне пола, а пошел дальше книзу, и через несколько минут под висящим в воздухе судном образовался провал.
Затем из проема, оставленном Модулем-Ноль, стали выдвигаться наверх стеклянные стенки. Когда их хрустальная цилиндрическая конструкция достигла высоты в полтора фута, в ней колыхнулся мениск прозрачной жидкости. Модуль-Ноль опять поднялся до уровня пола, и его продолжением стал цилиндр в фут в поперечнике и четырех футов в высоту, на две трети заполненный жидкостью. Цилиндр покоился на овальной пробковой подставке, по толстому ободу которой шли буквы «СОЛЕВОЙ РАСТВОР».
Рычаг «Уолдо», который не дрогнул во время этих манипуляций, теперь нависал над раствором. Он держал судно в верхней части цилиндра примерно в футе над его поверхностью.
Наконец рука стала опускаться — медленно, еще медленнее. Она остановилась, когда «Протеус» почти касался поверхности жидкости, а затем продолжила движение, которое почти не воспринималось глазом.
Есть контакт! Судно продолжало опускаться все ниже и ниже, пока на половину не оказалось под поверхностью раствора. Техник подержал его в таком положении несколько секунд, а затем медленно, еле заметно стал ослаблять захваты. Окончательно убедившись, что ни один из них не зацепил корпус субмарины, поднял захваты из раствора.
С облегченным вздохом «Ф-ф-фу» он отключил захват и разжал металлическую кисть.
— О’кей, пошли отсюда, — сказал он стоящим по бокам спутникам, и, спохватившись, гаркнул официальным тоном: — Корабль в ампуле, сэр!
— Отлично! — откликнулся Картер. — Проверить команду!
* * *
Перемещение из Модуля в ампулу было проведено, с точки зрения нормального мира, с предельной осторожностью, но для «Протеуса» оно таковым не оказалось.
Отстучав сигнал «ВСЕ В ПОРЯДКЕ», Грант, преодолевая внезапный приступ тошноты, когда Модуль стал подниматься кверху, спросил:
— И что теперь? Дальше будем уменьшаться? Кто-нибудь знает?
— До начала следующего этапа миниатюризации, — сказал Оуэнс, — мы пойдем на погружение.
— Погружения во что? — поинтересовался Грант, но не получил ответа. Он снова попытался приглядеться к смутным очертаниям зала миниатюризации и в первый раз заметил окружающих лодку гигантов.
То были два стоявших рядом человека — точнее, в падающем снаружи туманном свете, человекообразные башни, тела которых уходили вверх и вниз, словно Грант смотрел на отражение великанов в кривом зеркале. Пряжка пояса на одном из гигантов для Гранта представляла собой металлическую плиту со сторонами в фут длиной. Видневшиеся далеко внизу ботинки были каждый размером с железнодорожный вагон. Высившаяся далеко наверху голова несла на себе горный хребет носа, прорезанный двумя туннелями ноздрей. Великаны двигались со странной медлительностью.
— Субъективное восприятие времени, — пробормотал Микаэлс. Прищурившись, он посмотрел наверх, а потом перевел взгляд на часы.
— Что? — переспросил Грант.
— Еще одно из предположений Белински: восприятие времени меняется в ходе миниатюризации. Привычный отрезок времени удлиняется так, что для нас пять минут превращаются в десять, насколько я могу судить. Эффект растет по мере продолжительности миниатюризации, но я не знаю, в каких отношениях с восприятием времени. Белински нуждался в экспериментальных данных, которые теперь мы сможем ему предоставить. Вот посмотрите… — он протянул Гранту свои наручные часы.
Грант глянул на них, а потом на свои. Секундная стрелка не бежала, а ползла по циферблату. Он поднес часы к уху. В их корпусе раздавалось лишь слабое урчание, но оно приобрело басовые нотки.
— Это нам только на пользу, — сказал Микаэлс. — В нашем распоряжении всего час, но для нас он растянется на несколько часов. Может, и больше.
— Вы хотите сказать, что мы будем двигаться быстрее?
— Для нас самих мы будем двигаться точно так же, как и раньше; но для наблюдателя извне, я предполагаю, мы просто носимся, стараясь уложиться в отведенное время. Что, конечно, можно только приветствовать, учитывая ограниченное время, имеющееся в нашем распоряжении.
— Но…
Микаэлс покачал головой.
— Прошу вас! Никаких иных объяснений дать я не в силах. Биофизические постулаты Белински я еще могу понять, но его математический аппарат вне моего разумения. Может, Оуэнс сможет растолковать вам.
— Я спрошу его потом, — сказал Грант. — Если оно у нас будет, это «потом»…
Субмарина внезапно опять оказалась залитой потоком света, но то было обыкновенное белое свечение. Движение привлекло внимание Гранта, и он поднял взгляд. По обе стороны судна зависли гигантские щупальца.
— Всем проверить пристяжные ремни! — донесся сверху голос Оуэнса.
Грант не успел отреагировать. Сзади его что-то дернуло, и он, насколько позволили ремни, автоматически повернулся в ту сторону.
— Я решила проверить, — сказала Кора, — насколько хорошо вы закрепились.
— Стреножен по рукам и ногам, — ответил Грант, — но все равно спасибо.
— Милости просим. — Затем, повернувшись направо, она умоляюще сказала:
— Доктор Дюваль. Ваше крепление.
— С ним все в порядке. Как и с вашим.
Кора ослабила натяжение своих ремней, чтобы дотянуться до Гранта. Теперь она поправила их, и как раз вовремя. Щупальца стали опускаться, смыкаясь подобно гигантским челюстям. Грант невольно напрягся. Они остановились, дернулись снова и наконец сошлись.
«Протеус» дрогнул, дернулся, и всех на борту швырнуло слева направо и опять в другую сторону. Лязг и грохот заполнили корпус.
Затем наступило молчание, четко ощущалось, что они висят над бездной. Судно вздрогнуло и еле заметно качнулось. Грант посмотрел вниз и увидел, как исчезает из-под пола огромная красная поверхность.
Он не имел представления, на каком расстоянии от пола они в своем теперешнем положении находятся, но у него было ощущение, что он смотрит из окна двадцатого этажа.
Предмет, обладающий столь незначительными размерами, каким было сейчас судно, не должен был бы претерпеть серьезных повреждений, упав с такой высоты. Сопротивление воздуха не позволило бы ему набрать необходимую скорость падения.
Но Грант в подробностях помнил точку зрения
Оуэнса, изложенную во время инструктажа. Он сам в данный момент представляет собой такой же количественный набор атомов, как и человек нормальных размеров, во всяком случае, не меньше, чем в нем было на самом деле. Но, соответственно, он, как и судно, стал более хрупким, ломким. И падение с такой высоты размозжит судно и убьет команду.
Он глянул на захваты, державшие субмарину. Как они представлялись взгляду нормального человека, Грант не мог себе вообразить. Для него они были гнутыми стальными конструкциями десяти футов в диаметре каждая, как и уступы, на которых покоилось судно. На мгновение он почувствовал себя в безопасности.
Оуэнс крикнул дрогнувшим от напряжения голосом:
— Вот оно — приближается!
Грант огляделся, прежде чем понял, что такое «оно».
Свет отражался от гладкой поверхности стеклянного круга таких размеров, что на нем мог разместится целый дом. Он поднимался к ним легко и быстро, и прямо под ними, далеко внизу, в воде дрожали отблески лучей света.
«Протеус» повис над поверхностью озера. Стеклянные стены цилиндра сейчас вздымались вокруг субмарины, и водная поверхность внизу была от них не дальше, чем в пятидесяти футах.
Грант откинулся на спинку сидения. Он решил не ломать себе голову над тем, что его сейчас ожидает.
Тем не менее, он собрался и подавил приступ тошноты, когда ему показалось, что сидение уходит из-под него. Ощущение было весьма сходно с тем, которое он ощутил, когда ему однажды пришлось пикировать к поверхности океана. Самолет, в котором он тогда находился, как и предполагалось, заложил крутой вираж, выходя из пике, но «Протеусу», который внезапно стал воздушной подлодкой, сделать этого не удастся.
Грант было напряг мышцы, а затем попытался расслабить их в надежде, что пристяжная система примет на себя удар, который может поломать ему кости.
Они с такой силой опустились на воду, что зубы у него едва не вылетели из челюсти.
Грант предполагал, что они увидят в иллюминаторах фонтан брызг и взметнувшуюся стену в кружевах пены. Вместо этого перед его глазами предстал округлый горб воды, маслянистая поверхность которого качнула на себе лодку. Затем подкатил другой горб и еще один.
Захваты разжались, судно отчаянно качнулось и, медленно поворачиваясь, застыло на водной поверхности.
Грант с трудом перевел дыхание. Они находились на поверхности озера, но такой водной глади ему еще не приходилось видеть.
— Вы ждали волны, мистер Грант? — спросил Микаэлс.
— В общем-то, да.
— Должен признаться, я тоже. Человеческий мозг, Грант — забавная штука. Он всегда рассчитывает, что перед ним предстанет то, что ему уже приходилось видеть. Мы же уменьшены и находимся в небольшом резервуаре с водой. Он нам кажется настоящим озером, и мы ждем волн на его поверхности, брызги, пену… Бог знает, что еще. Но каким бы обширным нам ни казалось это озеро, по сути, это всего лишь небольшой контейнер с водой, по которой бежит рябь, а не волны. И какими бы большими ни предстали перед нашими глазами, они будут оставаться рябью, а не волнами.
— Хотя достаточно интересно, — сказал Грант. Он смотрел на вздымающиеся мощные валы, которые были на самом деле еле различимой рябью. Отражаясь от далеких стенок, они возвращались обратно, сталкиваясь с валами, бегущими им навстречу и заставляющими «Протеус» содрогаться и подпрыгивать.
— Интересно? — возмущенно сказала Кора. — И это все, что вы можете сказать? Да это же просто потрясающе.
— Деяния Его рук, — добавил Дюваль, — величественны при любых размерах.
— Хорошо, — сказал Грант, — договорились. Потрясающе и величественно. Принял. Только слегка мутит, вам не кажется?
— Ох, мистер Грант, — вздохнула Кора, — У вас просто талант все опошлять.
— Прошу прощения, — сказал Грант.
Подала голос рация, и Грант снова отстучал ответный сигнал «ВСЕ В ПОРЯДКЕ». Он с трудом подавил искушение отбить: «У всех морская болезнь».
Тем не менее, даже Кору стало мутить. Может, ему не стоило напоминать ей об их состоянии.
— Погружение придется обеспечивать нам самим, — приказал Оуэнс. — Грант, отстегнитесь и откройте клапаны один и два.
Пошатываясь, Грант поднялся на ноги, радуясь, что обрел хотя бы ограниченную свободу, и двинулся к клапану с маркировкой «Один» на переборке.
— Я возьму на себя другой, — сказал Дюваль. Глаза их на мгновение встретились, и Дюваль, словно впервые увидев тревогу другого человека, натянуто улыбнулся. Грант улыбнулся ему в ответ и возмущенно подумал: «Как она может испытывать какие-то чувства к этому воплощению самодовольства?»
Через открытые клапаны в соответствующие цистерны судна хлынула окружающая жидкость, и Они стали погружаться в глубину.
Грант подобрался к подножию трапа, ведущего в рубку, и крикнул:
— Как дела, капитан Оуэнс?
Оуэнс покачал головой.
— Трудно сказать. Отсчет по шкале может ничего не дать. Приборы предназначены для работы в настоящем океане. Черт побери, вот уж не предполагал, что «Протеус» будет нырять вот в это.
— Моя мать тоже никогда не предназначала меня для такой жизни, — сказал Грант. Они погрузились почти полностью. Дюваль закрутил кремальеры обоих клапанов, и Грант вернулся на место.
Затягивая ремни, он почувствовал восхитительное ощущение. Под поверхностью их больше не качало и наступило блаженное спокойствие.
* * *
Картер постарался разжать сведенные в кулак пальцы. Пока все шло хорошо. «ВСЕ В ПОРЯДКЕ» отстучала морзянка из субмарины, которая сейчас представляла собой крохотную капсулу, поблескивающую в растворе.
— Фаза-Три, — сказал он.
Миниатюризатор, сверкание которого было устранено во время второй фазы, снова засиял во всю мощь, но теперь излучение исходило лишь из центральной группы сот.
Картер напряженно наблюдал за происходящим. На первых порах ему было трудно дать себе отчет, происходит ли в объективной реальности то, что он наблюдает, или же сказывается предельное напряжение, которое он испытывает… Нет, судно в самом деле продолжало сокращаться по всем параметрам.
Веретенце в дюйм длиной уменьшалось с каждой секундой, становясь почти неразличимым в воде. Фокус лучей миниатюризатора, державших его в своем скрещении, не сдвигался ни на волосок, и
Картер позволил себе еще раз облегченно перевести дыхание. На каждом этапе были свои опасности.
Картер бегло представил себе, что могло бы случиться, отклонись луч хоть чуть-чуть в сторону: половина «Протеуса» продолжала бы уменьшаться с заданной скоростью в то время, когда другая уменьшалась бы медленнее или вообще прекратила бы изменение. Но этого не могло произойти, и он выкинул опасные мысли из головы.
«Протеус» сейчас был еле заметной точкой и становился все меньше и меньше, пока его вообще стало не видно. Весь диск миниатюризатора вспыхнул режущим глаза сиянием: предмет внимания стал столь мал, что сфокусировать на нем луч было теперь почти невозможно.
«Верно, верно, — подумал Картер. — Дойдет очередь и до окружения».
Теперь стал съеживаться сам цилиндр с жидкостью, все убыстряя и убыстряя изменение своих линейных размеров, пока наконец он не превратился в подобие простой ампулы двух дюймов в длину и полдюйма в поперечнике, где в уменьшившемся объеме воды плавал «Протеус», размерами теперь не превышавший крупную бактерию. Диск снова померк.
— Свяжитесь с ними, — встряхнувшись, приказал Картер. — Услышьте от них хоть слово.
Пока в ответ не донеслось «ВСЕ В ПОРЯДКЕ», горло у него продолжало оставаться перехваченным спазмом. Четверо мужчин и женщина, которые несколько минут назад стояли перед ним во плоти и крови, теперь были крохотными кусочками живой и мыслящей материи в герметизированном объеме подлодки. И они еще жили.
Он развел руки ладонями книзу.
— Убрать диск.
Исчезая, тот в последний раз слабо мигнул.
На другом, пока пустом овальном диске над головой Картера вспыхнула цифра 60.
Картер кивнул Рейду.
— За дело, Дон. С этого мгновения у нас только шестьдесят минут.
Глава 8
ВХОД
Когда над субмариной сомкнулась водная поверхность, диск снова ослепительно вспыхнул — и жидкость приобрела опалово-молочный цвет. Но для наблюдателей в «Протеусе» ничего не изменилось. Они не могли оценить, в какой степени изменилась прозрачность воды.
Все это время Грант, как и все остальные, хранил молчание. Казалось, оно длилось вечно. Наконец свечение, идущее от диска, померкло, и Оуэнс крикнул:
— Все в порядке?
— Со мной более чем, — сказал Дюваль.
Кора кивнула. Грант лишь махнул рукой: все в норме. Микаэлс пожал плечами и бросил:
— У меня все о’кей.
— Отлично! Думаю, что процесс миниатюризации закончился, — сказал Оуэнс.
Он щелкнул тумблером, к которому до сих пор не притрагивался. Несколько напряженных мгновений он ждал, чтобы ожила стрелка на шкале прибора. Вздрогнув, она начала отсчитывать роковые шестьдесят минут. В нижней части судна, открытый всеобщему обозрению, был такой же циферблат, на котором тоже качнулась стрелка.
Затрещала рация, и Грант послал в ответ свое неизменное «ВСЕ В ПОРЯДКЕ». Всех охватило чувство странной расслабленности.
— Они сообщают, — сказал Грант, — что миниатюризация полностью завершена. Ваше предположение оказалось правильным, капитан Оуэнс.
— Вот мы и на месте, — переведя дыхание, сказал капитан.
«Миниатюризация завершена, — подумал Грант, — но миссия еще и не начиналась. Отсчет времени только начался. Шестьдесят. Шестьдесят минут».
Вслух он сказал:
— Капитан Оуэнс! Почему судно вибрирует? У нас что-то не в порядке?
— Я тоже чувствую, — сказала Кора.
Оуэнс спустился по трапу, вытирая взмокший лоб большим носовым платком.
— Тут мы ничего не можем сделать. Броуновское движение.
Микаэлс с расстроенным и понимающим видом беспомощно вскинул руки:
— О, Господи!
— Какое движение? — спросил Грант.
— Броуновское, как вы должны знать из школьного курса. Роберт Броун, шотландский ботаник восемнадцатого столетия, первым наблюдал его. Понимаете, нас со всех сторон бомбардируют молекулы воды. Обладай мы нормальными размерами, мы бы даже не заметили их столкновений с нами. Тем не менее, уменьшение до таких пределов привело к тому же результату, как если бы мы оставались в прежнем виде, а все наше окружение чудовищно увеличилось бы.
— Как и вода вокруг.
— Совершенно верно. Насколько я могу оценить, пока ничего страшного не произошло. Окружающая нас среда в некоторой степени миниатюризировалась вместе с нами. Хотя, когда мы окажемся в кровотоке, каждая молекула воды — с нашей сиюминутной точки зрения — будет весить слишком мало, чтобы мы почувствовали ее воздействие, но когда со всех сторон их будут тысячи и тысячи, суммарное давление может сказаться. Скажем, справа может оказаться на несколько сот молекул больше, и их совместные усилия качнут судно влево. В следующее мгновение судно ощутит удар снизу и так далее. Вибрация, которую мы сейчас ощущаем, и является результатом хаотичных ударов молекул. Потом будет еще хуже.
— Прекрасно, — простонал Грант. — Тошнота, вот он я.
— Нам придется переносить ее максимум с час, — гневно бросила Кора. — Мне бы хотелось, чтобы вы вели себя, как подобает взрослому человеку.
Не скрывая обеспокоенности, Микаэлс спросил:
— Может ли судно получить пробоину, Оуэнс? Выдержит ли оно эту встряску?
— Думаю, что да, — сказал Оуэнс. — Я попытался провести кое-какие предварительные расчеты. И как я сейчас убеждаюсь, мои прикидки оказались недалеки от истины. Это испытание нам под силу.
— Даже если судну предназначено развалиться, — сказала Кора, — оно еще способно какое-то время выдержать под этой бомбардировкой. Если все пойдет хорошо, мы успеем добраться до тромба, с которым справимся минут за пятнадцать, а потом уже все будет неважно.
Микаэлс ударил кулаком по подлокотнику кресла.
— Мисс Петерсон, вы несете чушь. Что, по вашему мнению, произойдет, если нам удастся добраться до тромба, уничтожить его, вернуть Бенесу здоровье — и после чего «Протеус» тут же развалится? Я не имею в виду нашу немедленную гибель, которую я согласен не принимать во внимание. Но такое развитие событий будет означать и немедленную гибель Бенеса.
— Это понятно, — сухо вмешался Дюваль.
— А вот вашей помощнице, по всей видимости, нет. Если судно превратится в обломки, что через шестьдесят минут — нет, через пятьдесят девять — каждый отдельный его фрагмент, как бы ни был он мал, обретет свои нормальные размеры. Даже если судно распылится на атомы, каждый из них вернется к своему первоначальному объему, и от Бенеса ничего не останется, поскольку они будут разнесены по всему его телу.
Микаэлс с коротким всхлипом набрал в грудь воздуха. Он продолжил:
— Если нас не постигнет такая печальная судьба, лодку с нами легко будет извлечь из тела Бенеса. Если же судно развалится, практически невозможно будет изъять все его составные части. В любом случае, в теле Бенеса останется хоть одна деталь, которая и убьет его, когда придет время деминиатюризации. Это вы понимаете?
Кора, казалось, съежилась на своем месте. — Об этом я не подумала.
— Ну так подумайте, сказал Микаэлс. — И вы, Оуэнс, тоже. И я еще раз хотел бы получить подтверждение: выдержит ли «Протеус» удары броуновского движения? Я имею в виду не только на пути к тромбу. Нам предстоит добраться до него, расправиться с ним и вернуться! Взвесьте свои слова, Оуэнс. Если вы не уверены, что судно выдержит натиск, мы не имеем права пускаться в путь.
— Во всяком случае, — вмешался Грант, — перестаньте волноваться, доктор Микаэлс, и дайте капитану Оуэнсу возможность ответить.
— Пока мы вплотную не столкнулись с воздействием броуновского движения, — упрямо ответил Оуэнс, — я не мог прийти к конечному выводу. В настоящий момент я убежден, что мы выдержим шестьдесят минут такой бомбардировки.
— Вопрос заключается в следующем: должны ли мы брать на себя такой риск лишь исходя из убеждения капитана Оуэнса? — спросил Микаэлс.
— Не так, сказал Грант. — Вопрос ставится следующим образом: готов ли я принять оценку капитана Оуэнса? Прошу вас вспомнить слова генерала Картера, что принимать кардинальные решения доверено мне. Я принимаю точку зрения капитана Оуэнса просто потому, что тут никто, кроме него, не разбирается в ситуации и в конструкции судна.
— Значит, — сказал Микаэлс, — таково ваше решение?
— Я не оспариваю оценку Оуэнса. И мы продолжаем миссию.
— Я согласен с вами, Грант, — сказал Дюваль.
Микаэлс, слегка покраснев, кивнул:
— Хорошо, Грант. Я вынужден согласиться с вашей позицией. — Он занял свое место.
— Она наиболее обоснована логически, — сказал Грант, — и я рад, что вы это поняли. — Он продолжал стоять у иллюминатора.
Присоединившись к нему, Кора тихо сказала:
— Не похоже, чтобы вы были слишком испуганы, Грант.
Тот весело улыбнулся:
— О, всего лишь потому, что я хороший актер, Кора. Возьми кто-нибудь другой на себя ответственность за это решение, я бы произнес потрясающую речь в пользу его отмены. Я, понимаете ли, могу испытывать эмоции, свойственные трусу, но решения я стараюсь принимать отважные.
Кора несколько секунд присматривалась к нему.
— Я пришла к выводу, мистер Грант, что в вашей деятельности вам порой приходилось так нелегко, что вы привыкли казаться хуже, чем вы есть на самом деле.
— Вот уж чего не знаю. У меня есть та…
В этот момент «Протеус» конвульсивно дернулся и лег сначала на один бок, а потом на другой.
«Господи, — подумал Грант, — никак у нас швы разошлись».
Он схватил Кору за локоть и швырнул ее в кресло, затем не без труда занял свое, пока Оуэнс цеплялся за переборки, стараясь выбраться по трапу наверх и орал:
— Черт побери, они должны были предупредить нас!
Грант затянулся ремнями и отметил, что таймер показывает все те же 59 минут. «Долгонько они тянутся», — подумал он. Микаэлс предположил, что при миниатюризации движение времени замедлится, и оказался прав, И для размышлений, и для действий времени у них должно хватить.
И для паники тоже.
«Протеус» еще более резко дернулся. Неужто ему предстоит развалиться еще до начала миссии?
* * *
Рейд занял у окна место Картера. Ампула с несколькими миллилитрами частично миниатюризированной воды, в которую был погружен уже совсем невидимый «Протеус», поблескивала на Модуле-Ноль, напоминая драгоценный камень на бархате.
Рейду пришло в голову это сравнение, но ему некогда было обдумать его. Расчеты оказались точными, и техника позволила претворить их в жизнь. Тем не менее производились они в течение нескольких напряженных часов, в которых была спрессована каждая секунда, и не оставалось времени даже как следует прогнать их через компьютер.
Точнее говоря, размер мог еще отклоняться от предугаданного и его можно было скорректировать, но время было жестко ограничено — и сейчас его оставалось пятьдесят девять минут и пятнадцать секунд.
— Фаза четыре, — сказал он.
Выкидная рука захвата снова нависла над ампулой, но пальцы сейчас были вытянуты скорее в горизонтальном положении, чем в вертикальном. Снова устройство аккуратно примерилось, снова опустился несущий кронштейн, и клещи сошлись с предельной осторожностью, плотно зажав в когтях своей львиной лапы крохотных невидимых подопечных.
Наконец наступила очередь медсестры приняться за дело. Сделав шаг вперед, она вынула из кармана небольшую коробочку и открыла ее. Оттуда она извлекла небольшой стеклянный поршень, осторожно придерживая его за плоскую головку. Она аккуратно ввела его в ампулу и позволила опуститься на дюйм, пока давление воздуха не заставило его застыть в этом положении. Слегка повернувшись, она сказала:
— Поршень готов.
(Глядя сверху, Рейд напряженно улыбнулся, и Картер кивнул в знак одобрения).
Медсестра застыла в ожидании, пока механическая рука не начала медленно подниматься. Тихо, плавно, еле заметно ампула со вставленным в нее поршнем стали вздыматься в воздух. Три дюйма — и движение приостановилось.
Мягко, как только она могла, медсестра сняла пробковую подставку, в которой было скрыто донце ампулы, высвободив выступающий маленький соскообразный ниппель. Крохотное отверстие в нем было закрыто тончайшей пленкой, которая легко поддалась бы давлению изнутри ампулы и в то же время успешно противостояла случайной утечке жидкости.
Быстрыми точными движениями медсестра извлекла из коробки иглу из нержавеющей стали и соединила ее с ниппелем.
— Игла готова, — сказала она.
То, что было ампулой, превратилось в шприц.
Вторая пара захватов скользнула по кронштейну и опустилась к головке поршня. Весь агрегат дистанционного управления, неся в двух захватах шприц с иглой и поршнем, плавно двинулся к большим двойным дверям, которые разошлись при его приближении.
Машина двигалась с неправдоподобной плавностью, и человеческий глаз не в состоянии был заметить хоть малейшее колыхание на поверхности жидкости в ампуле. Тем не менее, и Рейд и Картер понимали, что даже микроскопическое перемещение массы жидкости может оказаться для команды «Протеуса» жестоким штормом.
Когда агрегат достиг операционной и остановился у стола с распростертым на нем телом, Картер осознал всю важность происходящего. Он услышал собственный голос:
— Связь с «Протеусом»!
Последовал ответ: «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, НО НЕМНОГО КАЧАЕТ». Картер не смог сдержать вымученной улыбки.
Лежащее на столе тело Бенеса было объектом особого внимания в операционной. Термоотводящее одеяло закрывало его до подбородка. Тонкие резиновые трубки вели к центральному термоблоку, повисшему над столом.
Над наголо выбритой, исчерченной маркерами головой Бенеса было сгруппировано несколько чувствительных датчиков, обязанных реагировать на малейший след радиоактивного излучения.
Команда хирургов и их ассистентов, по самые глаза затянутые в маски, склонившись над Бенесом, не отрывали глаз от приближающегося агрегата. На циферблате таймера, прикрепленного к одной из стен, цифра 59 сменилась на 58.
«Уолдо» остановился у операционного стола.
Два датчика, внезапно ожив, изменили свое положение. Подчиняясь быстрым четким движениям техника, сидевшего у пульта дистанционного управления, они приблизились к шприцу: один пристроился непосредственно к ампуле, а второй остановился рядом с иглой.
Маленький экран на пульте перед техником засветился зеленоватым свечением, и раздался короткий писк, который тут же смолк, снова появился, тоном выше, исчез, снова появился — и так далее.
— Радиоактивность «Протеуса» уловлена, — сказала техник.
Картер с мрачным удовлетворением плотно сплел пальцы. Еще одно препятствие, встречи с которым он страшился, оказалось преодолено. Речь шла не просто о следах радиоактивного излучения, которое предстояло уловить, а о том, что уменьшившиеся радиоактивные частицы могли проскакивать мимо датчиков, ничем не давая знать о своем присутствии. Им предстояло, вырываясь, за пределы ампулы, обретать свои подлинные размеры и сообщать о своем присутствии датчикам, которые в дикой спешке были смонтированы в ранние утренние часы.
Захват, держащий поршень шприца, еле заметно мягко надавил на него. Хрупкий барьер между иглой и ампулой уступил давлению, и на конце иглы появился крохотный пузырек. Капелькой он упал в небольшой подставленный снизу резервуар; затем последовали второй и третий.
Под давлением поршня уровень жидкости в ампуле стал опускаться. Засечка на экране перед техником изменила свое положение.
— «Протеус» в игле! — объявил он.
Поршень остановился.
Картер взглянул на Рейда.
— О’кей?
Рейд кивнул.
— Можем делать инъекцию.
Теперь шприц в захвате металлических пальцев занимал положение под острым углом и «Уолдо» снова начал движение — на этот раз к той точке на шее Бенеса, которую медсестра предусмотрительно протерла спиртом. На шее был обведен маркером крохотный кружочек, в центре которого виднелся столь же маленький крестик, к перекрестию линий которого и приближалась игла. Датчик контролировал ее движение.
Конец иглы коснулся шеи и на мгновение замер. Проколов кожу, он вошел на заданную глубину, поршень плавно сдвинулся с места и техник, наблюдавший за показаниями датчиков, крикнул: — «Протеус» введен!
Механическая рука торопливо отпрянула, и стая датчиков сразу же опустилась над шеей и головой Бенеса.
— Веду слежение, — сказал старший техник, щелкнув тумблером. Засветилось полдюжины экранов, на каждом из которых виднелась с разных точек зрения та же засечка. Информация со всех датчиков, от всех экранов поступала в главный компьютер, который сопоставлял ее с крупномасштабной картой кровеносной системы Бенеса. В сонной артерии появилась и ожила яркая точка. Через эту артерию «Протеус» и был введен в организм Бенеса.
Картеру захотелось вознести молитву, но он не знал, как это сделать.
На схеме яркую точку и местоположение тромба отделяло друг от друга крохотное расстояние.
Картер увидел, как на таймере появилась цифра 57, и ясно представил себе, как пятнышко стремительно и безошибочно движется по артерии к тромбу.
На мгновение он прикрыл глаза и подумал: «Прошу тебя. Если Ты где-то существуешь, то молю Тебя».
* * *
С трудом восстановив дыхание, Грант крикнул:
— Мы движемся к Бенесу. Передали, что они введут нас в иглу, а потом в шею Бенеса. И я им сказал, что нас слегка качает. Ничего себе слегка!
— Отлично, — сказал Оуэнс. Он держался за контрольную панель, стараясь предугадать следующее движение лодки и нейтрализовать его. Хотя это ему не всегда удавалось.
— Послушайте, — сказал Грант, — а почему мы должны оказаться в этой… ф-«ф-фу!.. игле?
— Она не позволит нам уйти никуда в сторону. Ее движения не в такой мере будут сказываться на нас. Есть и другое… в тело Бенеса должно попасть как можно меньше миниатюризированной воды.
— О, Господи, — сказала Кора.
Волосы ее растрепались, и когда она тщетно пыталась откинуть их со лба и с глаз, то едва не упала. Грант попытался подхватить ее, но Дюваль уже крепко держал ее за предплечье.
Отчаянная качка прекратилась столь же внезапно, как и началась.
— Мы в игле, — с облегчением сказал Оуэнс. Он включил внешнее освещение на корпусе судна.
Грант уставился на то, что предстало перед его глазами. Хотя почти ничего нельзя было разобрать. Солевой раствор искрился огоньками, словно в тумане плясали светлячки. Высоко наверху и на том же расстоянии внизу изгибались какие-то плоскости, которые отливали более ярким светом. Стенки иглы?
Его кольнуло ощущение тревоги. Он повернулся к Микаэлсу.
— Доктор…
Глаза у того были закрыты. Неохотно подняв веки, он повернулся по направлению голоса.
— Да, мистер Грант.
— Что вы видите?
Опираясь на ручки кресла, Микаэлс, присмотрелся, чуть подался вперед и сказал:
— Искры.
— Вы что-нибудь можете разглядеть? Вам не кажется, что вокруг все танцует?
— Да, кажется. В самом деле танцует.
— Означает ли это, что на нашем зрении сказывается эффект миниатюризации?
— Нет, нет, мистер Грант, — усталым голосом успокоил его Микаэлс. — Если вам кажется, что вы слепнете, то можете забыть о своих опасениях. Посмотрите на салон «Протеуса». Посмотрите на меня. Что вас смущает?
— Ничего.
— Очень хорошо. Здесь вы чувствуете, как уменьшенные световые волны падают на такую же уменьшенную сетчатку. Но, покидая пределы нашего мира, они сталкиваются со средой, подвергшейся миниатюризации в меньшей мере, или совсем не уменьшенной, и их отражение не подчиняется общепринятым правилам. В сущности, они не столько отражаются, сколько проникают в глубь предметов. Поэтому тут и там мы видим перемежающиеся вспышки. Для нас окружающий мир мелькает.
— Понимаю. Спасибо, док, — выпалил Грант.
Микаэлс снова вздохнул.
— Надеюсь, что рано или поздно я привыкну к качке. От этих вспышек и от броуновского движения у меня началась головная боль.
— Мы двинулись! — внезапно вскрикнул Оуэнс.
Теперь они медленно скользили вперед, и это ощущение невозможно было ни с чем спутать. Далекие изогнутые стенки иглы теперь казались еще более плотными и мощными, когда пятна света, падавшие на них, стали сливаться воедино. Движение напоминало скольжение по бесконечному склону американских горок.
Прямо над ними окружающие овальные стены кончались маленьким поблескивающим кружочком света. Он медленно вырастал, затем стал увеличиваться все более стремительно — вот он превратился в бездонную бездну, и все, мигнув, померкло.
— Мы в сонной артерии, — сказал Оуэнс.
На таймере была цифра 56.
Глава 9
АРТЕРИЯ
Дюваль восторженно озирался.
— Подумать только, — сказал он. — Мы внутри человеческого тела, в его артерии… Оуэнс! Отключите свет в салоне. Давайте оценим творение рук Божьих!
Свет в салоне погас, уступив место призрачному сумрачному свечению, пробивавшемуся сквозь иллюминаторы: от стенок артерии отражался луч укрепленного над палубой корабельного прожектора.
«Протеус», казалось, стоял на месте, потому что Оуэнс старался держаться в середине артериального кровотока, скорость которого обуславливалась частотой сокращений сердца.
— Думаю, вы можете отстегнуть ремни, — сказал он.
Дюваль уже освободился от них, и Кора сразу же присоединилась к нему. Они приникли к иллюминаторам, охваченные восторгом и восхищением. Микаэлс поднимался медленнее и осторожнее и, бросив взгляд на двоих своих спутников, уткнулся в карту, внимательно изучая ее.
— Потрясающая точность, — коротко сказал он.
— Вы считаете, что можно было промахнуться мимо артерии? — спросил Грант.
Несколько мгновений Микаэлс рассеянно смотрел на него.
— М-м-м… нет, — затем сказал он. — Это было бы совсем нежелательно. Но мы могли оказаться чуть в стороне от избранного ключевого пункта, не попали бы в артериальный поток и потеряли бы много времени, добираясь до него обходными путями. Но в данный момент судно точно в намеченном пункте. — Его голос дрогнул.
— Пока все идет отлично, — стараясь подбодрить его, сказал Грант.
— Да. — После небрежной паузы он торопливо добавил: — в данной точке мы можем оптимальным образом использовать точность проведения инъекции, скорость потока крови, направление движения — так что пойдем к нашей цели практически без задержек.
— Ну и отлично, — кивнул Грант и повернулся к иллюминатору, застыв от изумления при виде открывшихся перед ним чудес.
Дальняя стенка, казалось, была в полумиле от них, и ее искрящееся янтарное сияние оказалось почти полностью скрытым массивной темной тушей какого-то предмета, проплывшего рядом с судном.
Перед их глазами предстал огромный экзотический аквариум, обитателями которого были не рыбы, а более чем странные существа. Самыми многочисленными из них были образования, напоминавшие огромные резиновые шины с приплюснутой срединной частью, в которой, тем не менее, не было отверстий. Каждое из них примерно вдвое превышало диаметр судна, и их оранжево-охряная поверхность сверкала и искрилась, словно бы осыпанная сколами драгоценных камней.
— Цвет передан не совсем верно, — сказал Дюваль. — Если бы можно было вернуть половинный размер световым волнам, покидающим судно, и миниатюризировать их возвращающееся отражение, было бы куда лучше. Ибо точная оценка исключительно важна.
— Вы совершенно правы, доктор, — сказал Оуэнс, — и работы Джонсона и Антониони гласят, что это вполне возможно. К сожалению, такая техника еще не создана, да и существуй она, мы не смогли бы смонтировать ее на судне в течение одной ночи.
— Я и не предполагал этого, — сказал Дюваль.
— Но если даже отражение и не передает действительность, — изумленно воскликнула Кора, — зрелище все равно само по себе прекрасно. Они словно мягкие воздушные шары, на поверхности которых мерцают мириады звезд.
— В сущности это красные кровяные тельца, — объяснил Микаэлс Гранту. — Сливаясь, в массе они обретают красный цвет, но каждое по отдельности имеет охряную окраску. Те, что вы видите, свеженькие, только что из сердца, они несут мозгу запасы кислорода.
Грант продолжал изумленно озираться. Кроме телец тут были объекты и поменьше; самыми распространенными из них были плоские тарелкообразные тела (тарелочки, подумал Грант, поскольку формы заставили всплыть в памяти курс физиологии в колледже).
Одна из тарелочек легко скользнула вдоль судна, оказавшись так близко к борту, что у Гранта появилось желание вытянуть руку и схватить ее. Лежа горизонтально, она несколько мгновений соприкасалась с судном и медленно отошла в сторону, оставив на стекле иллюминатора след своего пребывания — что-то вроде смазки, которая постепенно исчезла.
— Даже не пострадала, — сказал Грант.
— Да, — согласился Микаэлс. — Расколись она, могли бы образоваться дополнительные микротромбы. Надеюсь, что мы этого избежим. Только их нам не хватало. Будь у нас размеры побольше, мы могли бы причинить немало неприятностей. Смотрите…
Грант посмотрел в том направлении, куда вел указательный палец. Он увидел маленький стержнеобразный предмет, бесформенные обломки и осколки чего-то, а над ними обилие красных кровяных телец. Лишь затем он увидел то, на что указывал Микаэлс.
Это было некое огромное пульсирующее образование молочно-белого цвета. Внутри его белесых угловатых очертаний просматривались какие-то черные точки, поверхность которых резала глаз ярким отраженным светом.
Среди этой массы был окруженный молочной белизной участок потемнее, который все время менял свои очертания. Образование не имело четких очертаний, постоянно колыхаясь, но внезапно к стенке артерии протянулась белая ложноножка, образование двинулось вдоль стенки и пропало в завихрениях кровотока…
— Что это было? — спросил Грант.
— Конечно, одно из белых кровяных телец. Их относительно немного в организме, во всяком случае, по сравнению с красными. На каждое из белых приходится около 650 красных. Хотя белые тельца куда крупнее и могут передвигаться самостоятельно. Некоторые из них могут даже двигаться против тока крови. Учитывая их размеры, они довольно опасны. И сближаться с ними не хотелось бы.
— Они нечто вроде санитаров внутри тела, не так ли?
— Да. Размерами мы тоже не превышаем бактерию, но у нас металлическая оболочка, а не стенки, из монополисахаридов. Я не сомневаюсь, что белые кровяные тельца могут отличать одно от другого, и пока мы не наносим вреда окружающим тканям, они не будут реагировать на наше присутствие.
Грант постарался оторваться от созерцания проплывающих мимо отдельных объектов и уделить внимание панораме целиком. Откинув голову, он прищурился.
Вокруг все плясало и перемещалось. Каждый предмет непрерывно колыхался на месте, и чем меньше он был, тем ощутимее были его колебания. Зрелище напоминало колоссальное балетное представление без всяких правил, постановщик которого сошел с ума, а танцоры оказались во власти сумасшедшей тарантеллы.
Грант прикрыл глаза.
— Вы чувствуете? То самое броуновское движение, хочу я сказать.
— Да, еще бы, — ответил Оуэнс. — Хотя оно не так сильно, как я предполагал. Поток крови густ и вязок, куда более плотен, чем тот солевой раствор, в котором мы находились, и его плотность смягчает удары.
Грант почувствовал, как сдвинулась с места палуба, сначала в одну сторону, а потом в другую, но движение было достаточно мягким и не таким резким, что им пришлось пережить, находясь в игле. Белковые составляющие жидкой части крови, «протеин плазмы» (в памяти у Гранта всплыла эта фраза из прошлого) держали судно в своих вязких объятиях.
— В общем-то пока все нормально. Он почувствовал, как к нему возвращается хорошее расположение духа. Может, все и получится.
— Я бы предложил вернуться на свои места, — сказал Оуэнс. — Скоро мы приблизимся к ответвлению артерии, и мне придется сворачивать.
Члены экипажа стали располагаться в креслах, все еще не в силах оторваться от картины за иллюминаторами.
— Я думаю, это просто позор, что нам доведется быть тут всего лишь несколько минут, — сказала Кора. — Доктор Дюваль, что это такое?
Мимо проплыла тонкая спиралевидная трубка, образованная крохотными структурами. За ней последовали еще несколько таких же.
— М-да, — сказал Дюваль. — Этих я что-то не узнаю.
— Может, вирус, — предположила Кора.
— Великовато для вируса, как мне кажется, и во всяком случае, я не видел ничего подобного… Оуэнс, у нас есть возможность брать образцы?
— Мы даже можем в случае необходимости выходить из судна, но сейчас мы не имеем права останавливаться для сбора образцов.
— Да бросьте, нам, может, никогда не представится такой возможности. — Дюваль решительно поднялся. — Давайте затащим его в судно. Мисс Петерсон, вы…
— У судна есть определенное задание, доктор.
— Оно может и подождать, учитывая… — начал
Дюваль, но поперхнулся на полуслове, почувствовав на плече крепкую руку Гранта.
— Если вы не против, доктор, — сказал он, — давайте не будем спорить по этому вопросу. Нам предстоит сделать определенную работу, и мы не можем ни останавливаться, ни сворачивать, ни даже замедлять ход, какие бы интересные находки ни попадались нам по пути. Я надеюсь, вы понимаете меня, и нам больше не придется возвращаться х этой теме.
В неверном мигающем свете, падающем от стенок артерии, было видно, что нахмурившийся Дюваль не мог скрыть раздражения.
— Ну, хорошо, — раздраженно пробормотал он, — они все равно исчезли.
— Если мы справимся с заданием, доктор Дюваль,
— сказала Кора, — мы получим возможность неограниченно продлевать срок миниатюризации. И тогда мы как следует займемся исследованиями.
— Да, пожалуй, вы правы.
— Справа стенка артерии, — сказал Оуэнс.
«Протеус» заложил длинную пологую дугу, и стенка теперь была, казалось, футах в ста. Затем какое-то темное образование мелькнуло на фоне янтарного свечения внутреннего слоя артериальных стенок, и его ясно можно было разглядеть.
— Ха! — сказал Дюваль. — Прекрасный способ выявления атеросклероза. Все бляшки можно просто сосчитать.
— Вы и их тоже можете устранять, не так ли? — спросил Грант.
— Конечно. В будущем. Можно будет послать такую подлодку, чтобы как щеткой пройтись по всей артериальной системе, расширить склеротические участки, кое-где заменить их, бурить и расширять отверстия… хотя лечение обойдется жутко дорого.
— Может, рано или поздно оно будет проводиться автоматами, — сказал Грант. — Что-то вроде маленького робота-уборщика, который будет все приводить в порядок. Или, предположим, каждому человеку при рождении будет вживляться такой чистильщик. Вы только гляньте…
Теперь они двигались несколько ближе к стенке артерии и турбулентные завихрения потряхивали их куда основательнее. Но при взгляде вперед стены, казалось, уходили все дальше и дальше милями бесконечных туннелей.
— Кровеносная система, как я уже говорил, со всеми своими мельчайшими сосудами, тянется на сотню тысяч миль, если вытянуть их в одну линию.
— Неплохо, — отметил Грант.
— Сотня тысяч миль в не уменьшенном масштабе. При наших же сегодняшних размерах, — прикинул он, — больше трех триллионов миль — половина светового года. Если бы в нашем сегодняшнем состоянии мы попытались исследовать всю кровеносную систему Бенеса, это было бы равносильно путешествию к звездам.
Микаэлс выглядел усталым и осунувшимся. Ни относительная безопасность, в которой они находились, ни красота их окружения, — ничто не в силах было утешить его.
Грант попытался изобразить непринужденное веселье.
— По крайней мере броуновское движение оказалось не таким уж страшным, — сказал он.
— Да, — согласился Микаэлс. — Я не совсем четко представлял его себе, когда мы не так давно обсуждали вероятности воздействия потока.
— Точно так же вел себя и Дюваль, когда заинтересовался образцами.
Микаэлс сглотнул.
— Типичная узколобость Дюваля, когда ему захотелось остановиться, чтобы собрать образцы.
Покачав головой, он занял место в кресле у столика, прикрепленного к одной из переборок. На нем был экран с двигающейся светящейся точкой, который представлял собой значительно уменьшенную копию того, что размещался в контрольной башне; такой же, только еще более уменьшенный, был в прозрачном пузыре Оуэнса.
— Какая у нас скорость, Оуэнс? — спросил он.
— С нашей точки зрения, примерно пятнадцать узлов.
— Конечно, с нашей точки зрения, — раздраженно сказал Микаэлс. Склонившись над столиком, он принялся что-то быстро подсчитывать. — Мы будем у разветвления через две минуты. Когда пойдете на разворот, держитесь от стенки на таком расстоянии. Тогда вы попадете точно в середину ответвления и спокойно двинетесь дальше по капиллярной сети. Ясно?
— Все понятно!
Грант, не отрываясь от иллюминатора, ждал развития событий. Через мгновение краем глаза он заметил профиль Коры, оказавшейся рядом с ним, но даже ее присутствие не могло заставить его оторваться от развертывающихся перед его взором картин.
Две минуты? Сколько времени прошло? Две минуты, с точки зрения их изменившегося ощущения времени или две минуты по таймеру? Он чуть повернул голову чтобы взглянуть на него. Там была цифра 56, и пока Грант смотрел, она сменилась на 55.
Это было неожиданным открытием, и Грант едва не сорвался со своего места.
— Оуэнс! — крикнул он. — Что случилось?
— Мы на что-то напоролись? — спросил Дюваль.
Грант решительно двинулся к трапу и стал подниматься по нему.
— Что-то не то, — сказал он.
— Понятия не имею. — На лице Оуэнса застыло напряженное выражение. — Судно не подчиняется управлению.
Снизу донесся сдавленный голос Микаэлса.
— Капитан Оуэнс, скорректируйте курс. Мы приближаемся к стенке.
— Я… я вижу, выдохнул Оуэнс. — Нас тянет каким-то течением.
— Продолжайте сопротивляться, — сказал Грант. — Делайте все, что в ваших силах.
Он скатился вниз и прижавшись спиной к трапу, попытался устоять на ногах, когда судно стало бросать из стороны в сторону.
— Откуда тут взялось это боковое течение? — спросил он. — Разве мы не движемся по потоку артериальной крови?
— Именно так, — с ударением сказал Микаэлс, чье лицо приобрело восковой оттенок. — И никакого бокового воздействия тут быть не должно. — Он ткнул пальцем в сторону стенки артерии, которая стала куда ближе и все продолжала приближаться.
— Должно быть, неполадки в системе управления. Если мы заденем стенку и повредим ее, мы станем причиной образования тромба, который остановит нас — или же на наше присутствие отреагируют белые кровяные тельца.
— Но в замкнутой системе это представляется невозможным, — сказал Дюваль. — Законы гидродинамики…
— В замкнутой системе? — приподнял брови Микаэлс. Не без усилий он добрался до столика с картой и застонал. — Все тщетно. Мне нужно более мощное увеличение, которого здесь не добиться.i. Осторожнее, Оуэнс, держитесь подальше от стенок.
— Я пытаюсь! — крикнул в ответ Оуэнс. — Говорю вам, что тут течение, с которым я не могу справиться.
— Не пытайтесь одолеть его напрямую, — крикнул Грант. — Выровняйте нос лодки и старайтесь вести ее параллельно стенке.
Теперь они были так близко от нее, что могли рассмотреть каждую деталь. Волокна соединительной ткани, служившие поддерживающими фермами, напоминали готические арки, желтизна которых просвечивала под тонким слоем жировых наслоений. Их напряженные волокна сокращались, натягивались, приводя в движение всю конструкцию, застывали на мгновение и снова колыхались, заставляя стенки артерии покрываться морщинами. Гранту не было нужды задавать вопросы, что происходит, ибо он понимал, что стенки пульсируют в соответствии с биениями сердца.
Субмарину все основательнее швыряло из стороны в сторону. Стенки продолжали сближаться, и их сокращения приобретали все более бурный характер. Пряди соединительных волокон свивались и расплетались, ибо их мотало из стороны в сторону еще сильнее, чем «Протеус», и они изгибались в разные стороны под натиском течения, свивались в узлы, как гигантские канаты, хлестали по иллюминаторам и прожекторам и, прилипая, сползали с них, придавая свечению прожектора желтоватый оттенок из-за налипающей слизи.
Развитие дальнейших событий заставило Кору вскричать от ужаса.
— Внимание, Оуэнс! — закричал Микаэлс.
— Артерия повреждена, — пробормотал Дюваль.
Поток, обтекавший живые твердыни, повлек за собой судно, рывком положив его на бок так, что все беспомощно покатились к левому борту.
Левая рука Гранта испытала болезненный рывок, но он успел перехватить Кору другой рукой, придержать ее. Приподняв голову, он попытался понять, что сулят им эти вспышки света.
— Водоворот! — заорал он. — Всем занять места! Пристегнуться!
Многочисленные частицы крови, включая и красные кровяные тельца, несущиеся за иллюминаторами, на мгновение застыли в неподвижности, ибо всех несло тем же завихрением.
Дюваль и Микаэлс с трудом добрались до своих кресел и возились с пристяжными ремнями.
— Впереди какой-то проем! — крикнул Оуэнс.
— Давайте же! — торопливо бросил Коре Грант. — Пристегивайтесь к сидению!
— Я пытаюсь! — выдохнула она.
Качка судна кидала его из стороны в сторону, но, приложив все силы, Грант отчаянно рванул ее на себя и кинул в кресло.
Но было уже поздно. «Протеус» затянуло в водоворот и, взметнув на гребень волны, стало мотать в дьявольском кружении.
Рефлекторным движением Грант попытался ухватиться за пиллерс и дотянуться до Коры. Ее швырнуло на пол. Она ухватилась за ручку кресла и тщетно старалась подтянуться.
У них ничего не получится, понимал Грант, стараясь дотянуться до нее и не в силах преодолеть последний фут пространства, разделявшего их. Его рука соскальзывала с пиллерса, когда он старался добраться до Коры.
Дюваль отчаянно старался вырваться из объятий своего кресла, но был распят центробежной силой.
— Держитесь, мисс Петерсон! Я постараюсь вам помочь!
Он с усилием расстегивал пряжки ремней, пока Микаэлс, беспомощно застыв на месте, мог только наблюдать за ним; картина оставалась скрытой от глаз Оуэнса, который был прижат к стенке рубки.
Сила вращения заставила Кору оторваться от палубы.
— Я не могу…
Решившись, Грант разжал пальцы. Пролетев по рифленой поверхности палубы, он с силой врезался ногой в основание кресла, но успел зацепиться за него сгибом колена и ухватив стойку еще и левой рукой, поймал Кору за талию, когда она окончательно потеряла силы.
Тем временем вращение «Протеуса» все ускорялось, и он оседал на корму. Грант не мог больше выдерживать такого напряжения, разрывавшего тело, и его нога выскользнула из-под кресла. Рука, уже пострадавшая при столкновении с переборкой, при этом дополнительном напряжении испытала такую боль, что ему показалось, будто она сломалась. Кора вцепилась ему в плечо, запустив пальцы в плотный материал куртки.
Грант с трудом выдавил из себя несколько слов:
— Кто-нибудь… кто-нибудь понимает, что тут случилось?
Дюваль, все еще не в силах высвободиться из путаницы ремней, бросил:
— Это фистула… артериально-венозная фистула.
Не без труда Грант поднял голову и посмотрел в иллюминатор. Стенка поврежденной артерии подходила к концу. Желтоватое сверкание меркло, и впереди чернела рваная дыра. Сколько видел глаз, она уходила и вверх и вниз, и красные кровяные тельца, как и другие образования, исчезали в ней. Даже грузные белые кровяные тельца были не в силах противостоять мощи, с которой их туда засасывало.
— Еще пара секунд, — прохрипел Грант. — Всего несколько… Кора. — Он убеждал, скорее, себя, стараясь справиться с ноющей болью в пострадавшей руке.
Последнее содрогание корпуса едва не вышибло из Гранта дух, но когда он понял, что больше не в силах вынести качки, вращение стало постепенно замедляться, и внезапно судно застыло.
Разжав сведенные судорогой пальцы, Грант остался лежать на палубе, тяжело переводя дыхание. Кора медленно подтянула под себя ноги и приподнялась.
Дюваль наконец освободился.
— Как вы, мистер Грант? — Он опустился на колени рядом с ним.
Кора тоже склонилась к нему; ее пальцы легко коснулись руки Гранта. Тот сморщился от боли:
— Не трогайте!
— Перелом? — спросил Дюваль.
— Пока еще не знаю. — Медленно и осторожно он попробовал согнуть руку, затем сжал правой рукой левый бицепс. — Вроде нет. Но в любом случае она придет в норму лишь через пару недель.
Микаэлс тоже поднялся. Гримаса несказанного облегчения изменила его лицо почти до неузнаваемости.
— Мы прошли это. Мы прошли. Мы целы. Как дела, Оуэнс?
— Думаю, что в полном порядке, — ответил Оуэнс. — На панели нет ни одного красного огонька. «Протеусу» достались перегрузки, на которые он не был рассчитан, и он их вынес. — В голосе его была нескрываемая гордость — за себя и за свой корабль.
Кора в отчаянии смотрела на Гранта.
— Вы истекаете кровью! — в ужасе сказала она.
— Я? Где?
— На боку. Форма пропитана кровью.
— Ах, это. У меня были небольшие неприятности на Той Стороне. Просто нужно наложить другой пластырь. Честное слово ничего особенного. Всего лишь кровь.
Обеспокоенно посмотрев на него, Кора расстегнула молнию его комбинезона.
— Сядьте, — сказала она. — Прошу вас, попробуйте сесть. — Закинув его руку себе на плечо, она с трудом приподняла его, а затем мягким движением стянула рубашку.
— Я займусь вашим ранением, — сказала она. — И… и спасибо вам. Конечно, это звучит ужасно глупо, но я вам искренне благодарна.
— Почаще занимайтесь мною, идет? — сказал Грант. — И помогите, пожалуйста, добраться до места.
Он с трудом встал; Кора поддерживала его с одной стороны, а Микаэлс с другой. Дюваль, бросив на них взгляд, приник к иллюминатору.
— Итак, что же произошло? — спросил Грант.
— Артериальновен… — начал было Микаэлс и махнул рукой. — Можно и по-другому. Патологическое соединение между артерией и небольшой веной. Порой оно возникает в результате физической травмы. Думаю, что когда Бенеса ранило в машине… Таковых образований в организме быть не должно, но в данном случае оно не представляет собой ничего серьезного. Крохотное отверстие микроскопических размеров.
— Крохотное отверстие! Вот это?
— При наших параметрах оно, конечно, представляется гигантским водоворотом.
— Разве его не было на вашей карте кровеносной системы, Микаэлс? — спросил Грант.
— Должно было быть. И я бы обнаружил его на схеме, если бы смог дать соответствующее увеличение. Беда в том, что первоначальный анализ системы был проведен всего за три часа, и я упустил ее из виду. И нет мне прощения.
— Ну и ладно, — сказал Грант. — Значит, мы всего лишь потеряем чуть больше времени. Проложите обходный путь, и пусть Оуэнс снимается с места. Сколько времени, Оуэнс? — Задавая вопрос, он автоматически посмотрел на таймер. На нем стояла цифра 52, и Оуэнс сверху тоже назвал ее.
— Времени хватает, — сказал Грант.
Подняв брови, Микаэлс смотрел на Гранта.
— У нас вообще нет больше времени, Грант, — сказал он. — Вы не поняли, что произошло. С нами покончено. Мы потерпели полное поражение. Как вы не понимаете, что до тромба нам никоим образом не добраться. И мы должны потребовать, чтобы нас извлекли из тела.
— Но ведь пройдет не один десяток дней, прежде чем судно удастся снова подготовить к миниатюризации, — с ужасом сказала Кора. — Бенес погибнет.
— Мы бессильны. Нас выносит в яремную вену. Мы не можем вернуться через прорыв, ибо не в силах преодолеть встречное течение, пусть даже в диастолической фазе сердца, между двумя биениями. Единственный обходной путь, по которому стремится поток венозной крови, ведет через сердце, что, вне всякого сомнения, для нас равняется самоубийству.
Грант тупо спросил:
— Вы уверены?
— Он прав, Грант, — надтреснутым глухим голосом ответил Оуэнс. — Миссия потерпела поражение.
Глава 10
СЕРДЦЕ
Когда сдерживаемое напряжение наконец прорвалось, в контрольной рубке началось столпотворение. Засечка на экране показывала, что судно лишь незначительно изменило положение, но пространственные координаты решительно опровергали это.
Картер и Рейд одновременно повернулись, когда раздался сигнал с монитора.
— Сэр, — на экране возникло возбужденное лицо техника. — «Протеус» сошел с курса. Засечка говорит, что они в квадранте 23, на уровне В.
Рейд кинулся к проему окна, из которого была видна стена с картой. С такого расстояния, конечно, ничего нельзя было разобрать, тем более что все в лихорадочном возбуждении сгрудились у карты.
Картер побагровел.
— Бросьте эти штучки с квадрантами. Где они?
— В яремной вене, сэр…
— В вене? — На мгновение Картер ощутил, как его собственные вены спазматически сжались. — Что, черт побери, им делать в вене? Рейд! — гаркнул он.
Рейд торопливо повернулся к нему.
— Да, я слушаю.
— Как они оказались в вене?
— Я приказал картографам определить местонахождение артериально-венозной фистулы. Встречаются они редко, и найти их не так легко.
— Значит…
— Она осуществляет прямую связь между малыми артериями и малыми венами. Кровь переливается из артерии в вену и…
— Они знали о ее существовании?
— По всей видимости, нет. И, Картер…
— Что?
— Учитывая их размеры, им досталось более чем основательно. Может, их уже нет в живых.
Картер повернулся к ряду телевизионных экранов и нажал соответствующую клавишу.
— Есть ли сообщения от «Протеуса»?
— Нет, сэр, — последовал быстрый ответ.
— Так свяжись же с ними, парень! Добудь хоть какое-нибудь известие от них! И немедленно ко мне!
Наступили секунды мучительного ожидания, пока Картер с трудом переводил дыхание. Наконец он услышал:
— «Протеус» на связи, сэр.
— Спасибо тебе, Господи, хоть за это, — пробормотал Картер. — Излагайте послание.
— Они прошли сквозь артериально-венозную фистулу, сэр. Они не могут ни вернуться, ни двигаться вперед. Они просят извлечь их, сэр.
Картер с силой грохнул обоими кулаками по панели перед собой.
— Нет! Силы небесные, нет и нет!
— Но, генерал, — сказал Картер, — они же правы.
Картер глянул на таймер. Тот показывал цифру 51. Он с трудом владел подрагивающими губами.
— В их распоряжении еще пятьдесят одна минута, и они будут там находиться еще пятьдесят одну минуту. Когда на этой штуке появится ноль, мы извлечем их. Ни минутой раньше до завершения задания.
— Но, черт побери, это же бессмысленно. Их судно Бог знает в каком состоянии. Мы убьем пятерых человек.
— Может быть. Они учитывали эту возможность, и мы ее учитывали. Но пусть будет зафиксировано, что мы не отступили, пока оставался хоть минимальный шанс на успех.
В глазах Рейда было ледяное выражение, его короткие усы топорщились.
— Генерал, вас заботит лишь собственный послужной список. Если они погибнут, сэр, я засвидетельствую, что вы лишили их последней надежды на спасение.
— Я и это учту, — сказал Картер. — А теперь объясните мне — вы же все-таки представляете медицину — почему они не могут сдвинуться с места?
— Они не могут вернуться через фистулу, двигаясь против течения. Это физически невозможно, сколько приказов вы бы ни отдавали. Уровень давления крови не подпадает под контроль армии.
— Почему они не могут найти другой путь?
— Из их настоящего положения все пути к тромбу ведут через сердце. Но турбулентность в сердечных протоках уничтожит судно в мгновение ока, так что эта возможность для них закрыта.
— Мы…
— Мы не можем, Картер. Не только потому, что речь идет о жизни этих людей, хотя и этой причины более чем достаточно. Если судно потерпит крушение, нам никогда не удастся извлечь все, что от него останется, а когда его обломки начнут восстанавливать свои размеры, они уничтожат Бенеса. Если же мы извлечем людей, мы сможем попробовать провести операцию над Бенесом извне.
— Безнадежно.
— Но не в такой мере, как данная ситуация.
На несколько секунд Картер задумался.
— Полковник Рейд, — тихо сказал он, — на какое время, не подвергая опасности жизнь Бенеса, можно остановить его сердце?
Рейд уставился на него.
— На очень короткое.
— Это не известно Мне нужны точные данные.
— Ну, в этом коматозном состоянии, под гипотермией, учитывая состояние его мозга, я бы сказал, что не больше шестидесяти секунд… с нашей стороны.
— Может ли «Протеус» миновать сердечные протоки за время меньшее, чем шестьдесят секунд?
— Не знаю.
— В таком случае они должны попытаться. Когда мы отбросим все невозможные варианты, остается, при всем уровне риска, при всей зыбкости надежды, — этот вариант надлежит испробовать… В чем заключаются проблемы, связанные с остановкой сердца?
— Никаких проблем. Это может быть сделано одним уколом шила, если цитировать Гамлета. Весь фокус в том, чтобы запустить его снова.
— А вот это, мой дорогой полковник, будет вашей проблемой, за что вы и отвечаете. — Он глянул на таймер, на котором виднелась цифра 50. — Мы теряем время. К делу. Дайте указания вашим кардиологам, а я проинструктирую команду «Протеуса».
* * *
В салоне субмарины горел свет. Растерянные Микаэлс, Дюваль и Кора сгрудились вокруг Гранта.
— Вот так обстоят дела, — сказал он. — В тот момент, когда мы приблизимся к границам сердечной мышцы, ее биение будет остановлено электрошоком, и когда мы покинем его, оно, снова забьется.
— Снова! — воскликнул Микаэлс. — Они что, с ума сошли? Бенес этого не выдержит.
— Как мне кажется, — сказал Грант, — они сочли, что это единственный шанс на успех миссии.
— В таком случае можно считать, что мы потерпели поражение.
— Мне доводилось оперировать на открытом сердце, Микаэлс, — сказал Дюваль. — Такой вариант возможен. Сердце гораздо выносливее, чем мы предполагаем… Оуэнс, сколько времени нам потребуется, чтобы пройти через сердце?
Оуэнс глянул сверху из рубки.
— Я как раз просчитываю это, Дюваль. Если без задержек и остановок, то нам потребуется от пятидесяти пяти до пятидесяти семи секунд.
Дюваль пожал плечами.
— То есть, в запасе останется не больше трех секунд.
— В таком случае, нам бы лучше двинуться в путь.
— Потоком нас уже несет к сердцу, — сказал Оуэнс. — И скоро я включу двигатели на полную мощность. Впрочем, мне еще надо их проверить. Им досталась основательная трепка.
Глухое гудение двигателя поднялось до стонущего визга, и, подрагивая под непрестанными ударами броуновского движения, судно, как все почувствовали, рвануло вперед.
— Выключите освещение, — предложил Оуэнс, — и советую вам расслабиться, пока я управляюсь со своей малышкой.
Свет погас, и все снова приникли к иллюминаторам — даже Микаэлс.
Окружающий мир решительно изменился. Их по-прежнему нес поток крови. Его составляли те же образования, те же части и обломки молекул, те же тарелочки и красные кровяные тельца, и все же была видна разница…
Теперь перед ними была огромная полая вена, основной поток, по которому к голове и шее человека доставлялся кислород и отводилась обедненная кровь. Красные кровяные тельца, отдавшие свои запасы кислорода, ныне несли только гемоглобин сам по себе, а не оксигемоглобин, то есть то сочетание кислорода с гемоглобином, которое и придавало крови ярко-алый цвет.
Гемоглобин сам по себе имеет синевато-пурпурную окраску, и в отблесках света корабельного прожектора частицы его отливали переливами зеленого и синеватого цвета, с редкими вкраплениями пурпура. Эта окраска объяснялась низким содержанием кислорода в них.
Тарелочки ускользали в окружающие тени, и пару раз субмарина прошла — хотя на довольно почтительном расстоянии — мимо внушительных глыб белых кровяных телец, которые также имели зеленоватый оттенок.
Грант еще раз бросил взгляд на профиль Коры, которая, восторженно замерев, не отрывала глаз от иллюминатора, да и его самого бесконечно увлекали тайны этих синеватых теней. «Она словно ледяная королева, залитая светом полярного сияния», — неожиданно для самого себя подумал Грант — и тут на него навалилась опустошающая усталость.
— До чего величественно! — пробормотал Дюваль, но слова его были обращены не к Коре.
— Вы готовы, Оуэнс? — спросил Микаэлс. — Я начинаю проводку через сердце.
Он переместился к своим картам и включил маленький, висящий над головой фонарик, луч которого лишь подчеркнул глубину таинственного синеватого тумана, который окружал «Протеус».
— Оуэнс, — крикнул он наверх. — Участок карты А-2. Подход к цели. В правое предсердие. Он перед вами?
— Да, вижу.
— Мы уже в сердце? — спросил Грант.
— Прислушайтесь сами, — посоветовал Микаэлс. — Не смотрите. Слушайте!
В «Протеусе» воцарилась тишина, которую не нарушало даже дыхание.
Наконец они его услышали — звуки напоминали отдаленный гул артиллерийской канонады. Пока ощущалось только ритмическое подрагивание палубы под ногами, медленное и размеренное, но звуки становились все громче. Глухой раскат, удар погромче; пауза — и повтор, все громче и громче.
— Сердце! — сказала Кора. — Вот оно!
— И мы не можем даже как следует прислушаться к нему, — с раздражением сказал Дюваль. Длина звуковых волн была слишком велика, чтобы непосредственно воздействовать на слух. Они воспринимались лишь как вибрации корпуса судна, что носило вторичный характер. — При полном и всестороннем обследовании тела это надо будет учесть…
— Когда-нибудь в будущем, доктор, — сказал Микаэлс.
— Звучит, как артиллерийская канонада, сказал Грант.
— Да, но никакая артиллерия не может сравниться: три миллиарда пульсаций за семьдесят лет, — сказал Микаэлс. — Или даже больше.
— И каждое биение, — добавил Дюваль, — заставляет нас вспомнить о том тонюсеньком барьере, который отделяет нас от Вечности, каждое биение сердца заставляет задуматься…
— А вот любое из этих сокращений, — прервал его Микаэлс, — может прямиком отправить нас в Вечность, не оставив ни секунды на размышления. Так что всем заткнуться… Вы готовы, Оуэнс?
— Готов. Во всяком случае, сижу перед панелью управления и держу перед собой схему. Но как мне найти курс?
— Мы не сойдем с него при всем желании… Мы в полой вене, в той точке, где она соединяется с нижним предсердием. Нашли?
— Да.
— Отлично. Через несколько секунд мы войдем в правое предсердие, в первую из сердечных камер — и им бы лучше успеть остановить сердце! Грант, сообщите о нашей позиции.
Грант моментально оторвался от созерцания потрясающих видов за иллюминатором. Полая вена была самым большим протоком в теле, через который на последнем отрезке проходила вся кровь, кроме как из легких.
Сливаясь с предсердием, она превращалась в обширный гулкий зал, стены которого терялись в пространстве, так что «Протеусу» предстояло зависнуть в темном бескрайнем океане. Сердце теперь билось медленно и с усилием, и с каждым ударом судно вздымалось и трепетало.
Микаэлс вторично окликнул его, и Грант, спохватившись, взялся за рацию.
— Впереди трехстворчатый клапан! — крикнул Оуэнс.
Все остальные посмотрели в ту же сторону. Перед ними тянулся бесконечно длинный коридор, который замыкался клапаном. Три отдельных блестящих красных лепестка колыхались и опадали по мере приближения судна. Зев отверстия расширялся на глазах, когда лепестки клапана расходились по сторонам. Под ними был правый желудочек, один из двух основных камер сердца.
Поток крови, словно гонимый мощным насосом, втягивался в его пустоту. Вместе с ним несло и «Протеуса», который нацеливался носом на проем, становившийся все больше. Поток был ровен и силен, и судно сотрясала еле заметная дрожь.
Когда мускулистые стенки желудочка сократились, раздался низкий глухой гул. Лепестки трехстворчатого клапана, медленно закрываясь, выгнулись по направлению к судну и с влажным чавкающим звуком сошлись, составив стенку, рассеченную длинной вертикальной чертой.
По другую сторону ныне сомкнувшегося клапана лежал правый желудочек. При его сокращении кровь не могла извергнуться обратно.
Грант крикнул, перекрывая гул:
— Еще одно сокращение — и оно будет последним, как мне сообщили.
— В противном случае, — сказал Микаэлс, — оно будет последним и для нас. В то самое мгновение, когда клапан откроется, гоните вперед, Оуэнс, на полной скорости.
Грант рассеянно отметил, что сейчас лицо его было полно жесткой решимости — страха в нем больше не чувствовалось.
* * *
Датчики радиоактивного излучения, собранные в пучок над головой и шеей Бенеса, сейчас были перемещены к груди, часть которой была освобождена от теплоотводящего одеяла.
Выведенная на стенку карта теперь показывала район сердца, точнее, только один его участок — правый желудочек. Засечка, определявшая положение «Протеуса», плавно двигалась вниз по полой вене в расслабившееся предсердие, которое слегка сократилось, когда в него вошло судно.
Ему предстояло миновать всю его длину, проскользнув за створки трехстворчатого клапана, которые сомкнулись при его приближении. На экране осциллографа каждое сокращение сердечной мышцы вызывало всплеск- светящейся линии, за которой все наблюдали, не отрывая глаз.
Аппарат электрошока был уже в боевой готовности, и электроды нависли над грудью Бенеса.
Началось последнее сокращение перед остановкой. Линия на экране осциллографа поползла кверху. Левый желудочек расслабился, чтобы принять в себя очередную порцию крови, и лепестки трехстворчатого клапана разошлись.
— Время! — крикнул техник у индикатора работы сердца.
Электроды опустились на грудь Бенеса, одна из стрелок на контрольной панели прыгнула к красному сектору, и зазвучал зуммер тревоги. Он захлебнулся и наступило молчание. Ровная линия на осциллографе протянулась через весь, экран.
В контрольную рубку пришло простое и ясное сообщение:
— Сердце остановлено.
Помрачневший Картер щелкнул кнопкой хронометра, и секунды стали стремительно отсчитывать деления на циферблате.
* * *
Пять пар глаз не отрывались от трехстворчатого клапана. Рука Оуэнса, лежавшая на ручке акселератора, готова была бросить судно вперед. Желудочек расслабился, и полукруглый клапан в его конце, ведущий в легочную артерию, должен был закрыться. Кровь из артерии не могла вернуться в желудочек, ибо клапан был перекрыт. Звук, который он издал, сжимаясь, наполнил воздух вибрацией.
По мере того как желудочек продолжал расслабляться, кровь должна была поступать с другой стороны — из правого предсердия. Трехстворчатый клапан начал подрагивать и трепетать.
Впереди стала расширяться щель, превращаясь в огромный длинный проход.
— Ну! — закричал Микаэлс. — Ну же! Давай!
Его слова были заглушены гулом сердцебиения и грохотом двигателя. Через отверстие «Протеус» рванулся прямо в желудочек. Через несколько секунд тому предстояло сократиться, и могучие турбулентные потоки могли настигнуть судно, смяв его как спичечную коробку, и все они погибнут — а через три четверти часа мертв будет и Бенес.
Грант затаил дыхание. В воздухе нарастал гул… и вдруг настала тишина.
Ничего не произошло!
— Дайте посмотреть! — закричал Дюваль.
Он вскарабкался по трапу, и его голова показалась в пузыре рулевой рубки, единственного места на судне, с которого открывался вид на корму.
— Сердце остановилось! — закричал он. — Поднимитесь и сами убедитесь.
Его сменила Кора, а потом Грант.
Лепестки полуоткрывшегося трехстворчатого клапана обмякли и обвисли. На внутренней их поверхности виднелись мощные волокна соединительной ткани; они контролировали движение лепестков: когда желудочек расслаблялся, а затем жестко сводили их воедино, когда желудочек сокращался, заставляя их надежно перекрывать отверстие.
— Конструкция просто потрясающа, — сказал Дюваль. — Просто необыкновенное зрелище, когда смотришь на закрывающийся клапан под таким углом; его работу обеспечивает живая плоть, объединяющая в себе такую точность движений и такую мощь, которых человек, несмотря на свои знания, так и не смог добиться.
— Если вы и дальше будете продолжать любоваться им, — сказал Микаэлс, — это будет вашим последним зрелищем в жизни. На полной скорости, Оуэнс, и держитесь левее. У нас есть всего тридцать секунд, чтобы выбраться из этой смертельной ловушки.
Если окружение и могло стать для них такой ловушкой, в чем не приходилось сомневаться, оно все равно отличалось величественной красотой. Упругость стенок обеспечивалась мощными пучками волокон, раздвоенные основания которых уходили в отдаленные стенки. Зрелище напоминало гигантский лес, состоящий из узловатых оголенных деревьев, сплетавшихся в причудливые сочетания, паутина которых придавала мощь и силу самой главной мышце человеческого тела.
Эта мышца, именовавшаяся сердцем, представляла собой двойной насос, который вступая в действие с момента рождения человека в нерушимом ритме, с неиссякающей силой, при любых условиях продолжал работать вплоть до его кончины. Сердце любого прочего млекопитающего производило не менее миллиарда сокращений, после чего завершался срок жизни, отпущенный его обладателю; человек же после миллиарда сокращений сердца был лишь на середине своего жизненного пути, полный сил и здоровья. Срок жизни мужчин и женщин позволял сердцу произвести не менее трех миллиардов сокращений.
Голос Оуэнса нарушил молчание.
— Нам осталось двигаться не более девятнадцати секунд, доктор Микаэлс. И пока еще я не вижу следов клапана.
— Гоните дальше. Вы движетесь по направлению к нему. И ему лучше быть открытым.
— Вот он, — бросил Грант. — Не так ли? Вон то темное отверстие.
Микаэлс оторвал глаза от карты, чтобы проверить курс.
— Да, это он. И частично открыт. Нам хватит места, чтобы пройти. Систола только начиналась, когда отключили сердце. А теперь всем пристегнуться. Когда мы будем проскакивать через проем, сердце может заработать, и в таком случае…
— Если он наступит, — тихо поправил Оуэнс.
— Когда он наступит, — повторил Микаэлс, — пойдет мощный поток крови. И мы должны постараться как можно дальше оторваться от него.
С отчаянной решимостью Оуэнс бросил судно вперед к зияющему отверстию маленького проема в центре так до конца и не сомкнувшегося полукруглого клапана.
* * *
В операционной царило напряженное молчание. Команда хирургов, склонившаяся над телом Бенеса, была неподвижна, как и сам пациент. Холодное тело Бенеса и молчание в грудной клетке заставляли всех в зале ощутить дуновение смерти. Только легкие щелчки датчиков говорили об их неустанном бодрствовании.
Рейд сказал:
— Можно считать, что они в безопасности. Они проскочили трехстворчатый клапан и по дуге направляются к полулунному. Они сами прокладывают курс и двигаются на всех парах.
— Да, — сказал Картер, с мучительно сжимающимся сердцем наблюдая за бегом секундной стрелки хронометра. — Осталось двадцать четыре секунды.
— Они еще не прорвались.
— Пятнадцать секунд, — безжалостно напомнил Картер.
Техник-кардиолог у аппарата электрошока застыл в готовности.
— Идут прямо к полулунному клапану.
— Осталось шесть секунд. Пять. Четыре…
— Проходят! — При этих словах с неумолимостью смерти прозвучал сигнальный зуммер.
— Восстановить сердцебиение! — донеслось из динамика, и красная кнопка была вдавлена в панель. Стимулятор ритма пришел в действие, дав о себе знать периодическими всплесками светящейся линии на экране.
Осциллограф, регистрирующий частоту пульса, оставался немым. Стимулятор ускорил темп, словно его подгоняли напряженные взгляды многих глаз.
— Оно обязано заработать, — сказал Картер; все мышцы его были сведены напряжением, и, сам того не замечая, он стоял, подавшись вперед.
* * *
«Протеус» вошел в проем, который напоминал раскрывшиеся в улыбке огромные шевелящиеся губы. Он застопорился и чуть подался назад, когда двигатели взвыли в отчаянной попытке освободить судно из липких объятий — и рванулся вперед.
— Мы выскочили из желудочка, — сказал Микаэлс, вытирая лоб и глядя на свои мокрые ладони, — и теперь находимся в легочной артерии… Не сбрасывай скорость, Оуэнс. Сердце начнет сокращаться через три секунды.
Оуэнс оглянулся. Он единственный мог это сделать, потому что остальные были беспомощно распяты в креслах, глядя лишь перед собой.
Удалявшийся полулунный клапан по-прежнему оставался закрытым, и волокна соединительной ткани лишь чуть подрагивали в местах их креплений. Клапан казался все меньше, оставаясь в неподвижном положении.
— Сердце все еще не начало работать, — сказал Оуэнс. — Оно не… Стоп, стоп. Вот оно! — Оба лепестка клапана расслабились, струны соединительной ткани оттянулись назад, а их основания вспучились.
Щель проема расширилась, и оттуда хлынул гигантский поток крови, сопровождаемый оглушительным гулом и ревом.
Высокая волна крови настигла «Протеус», подняла его и кинула вперед с головокружительной скоростью.
Глава 11
КАПИЛЛЯРЫ
Первый же удар сердца разрушил напряжение, царившее в контрольной рубке. Картер воздел обе руки кверху и потряс ими, воздавая хвалу высшим силам.
— Получилось, слава тебе, Господи! Мы протащили их!
Рейд кивнул.
— На этот раз мы выиграли, генерал. У меня не хватило бы смелости приказать им пройти через сердце.
Белки глаз Картера были налиты кровью.
— А мне не хватило смелости не приказать им. И теперь, если они смогут противостоять артериальному кровотоку… — Его голос прорезался в динамике. — Связаться с «Протеусом» как только они сбросят скорость.
— Они вернулись в артериальную систему, — сказал Рейд, но как вы знаете, путь их лежит не прямо к мозгу. Первоначальная инъекция ввела их в одну из главных артерий, которая от левого желудочка вела к мозгу. Легочная артерия выходит из правого желудочка — и к легким.
— То есть нас ждет задержка. Я это знаю, — сказал Картер. — Но время у нас пока есть, — он показал на таймер, на котором вырисовывалась цифра 48.
— Хорошо, но пока все внимание мы должны уделить дыхательному центру.
Он защелкал тумблерами, а на экране показалась команда пульманологов.
— Какова частота дыхания? — спросил Рейд.
— Вернулась к ритму шесть в минуту, полковник. Не думаю, чтобы нам удалось ускорить ее.
— И я не думаю. Держите ее на этом же уровне. Теперь вам придется беспокоиться еще и из-за судна. Оно через пару секунд будет в вашем секторе.
— Сообщение от «Протеуса», — прорезался другой голос. — «ВСЕ В ПОРЯДКЕ»… ну и ну, сэр! Там есть еще кое-что, хотите зачитаю?
Картер оскалился.
— Конечно, хочу!
— Есть, сэр. Тут говориться: «ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ, А Я НА ВАШЕМ МЕСТЕ».
— Можете передать Гранту, — сказал Картер, — что я с куда большей охотой… Нет, ничего не передавайте ему. Забудьте.
* * *
Завершение удара сердца заставило поток крови обрести более спокойный характер, и «Протеус» опять двинулся вперед, покачиваясь под беспорядочными ударами броуновского движения.
Грант с удовольствием расслабился — о чем он давно мечтал.
Теперь все они расстегнули привязные ремни, и Грант, приникнув к иллюминатору, убедился, что окружающий вид до мелочей напоминает то, что открылось перед ними в яремной вене: доминировали те же самые синевато-зеленые и фиолетовые частицы, а видневшиеся вдалеке стенки были изрезаны линиями, тянувшимися в направлении движения.
Они миновали проход.
— Не в этот, — сразу же сказал Микаэлс, отрываясь от разложенной на панели управления карты. Вы можете следить за моими пометками тут, Оуэнс?
— Да, док.
— Хорошо. Отмеряйте повороты, которые я тут отметил, и потом направо. Ясно?
Грант видел, что промежутки становятся все короче и короче, проемы мелькали справа и слева, вверху и внизу, на всем протяжении туннеля, который становился все уже, а стенки подступали все ближе, становясь все более доступными взгляду.
— Как подумаешь, что на этих развязках можно заблудиться… — задумчиво пробормотал Грант.
— Здесь не заблудитесь, — сказал Дюваль. — В этой части тела все пути ведут в легкие.
Монотонный голос Микаэлса продолжал повторять:
— Теперь вверх и направо, Оуэнс. Прямо вперед и… м-м-м… в четвертый налево.
— Надеюсь, больше нам не встретятся ваши фистулы, Микаэлс. — сказал Грант.
Микаэлс отреагировал нетерпеливым поднятием плеч: он был слишком занят, чтобы отвечать.
— Сомнительно, — ответил Дюваль. — Встретить подряд две фистулы слишком невероятно. Кроме того, мы втягиваемся в сеть капилляров.
Скорость кровотока заметно упала и соответственно снизилась скорость движения «Протеуса».
— Кровеносные сосуды сужаются, — сказал Оуэнс.
— Так и должно быть, — ответил доктор Микаэлс. — капилляры самые надежные из них; они микроскопических размеров. Продолжайте движение, Оуэнс.
В свете луча прожектора, поднятого над мостиком, можно было увидеть, что на вогнутых внутрь стенках встречается все меньше волосков и они становятся гладкими. Их желтизна постепенно приобретала кремовый оттенок или становилась бесцветной.
Возникало впечатление, что стенки сосудов выложены мозаичными плитами, каждая из которых представляла собой неправильный многоугольник с утолщением в центре.
— До чего красиво, — сказала Кора. — Можно разглядеть даже отдельные клетки, из которых состоят стенки капилляров. Посмотрите, Грант. — Спохватившись, она повернулась к нему. — Как ваш бок?
— Все в порядке. Даже более чем. Вы просто мастерски оказали мне первую помощь, Кора… Надеюсь, между нами установились такие дружеские отношения, что я могу называть вас по имени?
— С моей стороны было бы просто неблагодарностью возражать против этого.
— Да и бесполезно.
— Как ваша рука?
Грант осторожно притронулся к ней.
— Чертовски болит.
— Прошу прощения.
— Не извиняйтесь. Просто, когда… когда придет время, проникнитесь ко мне благодарностью.
Губы Коры сжались, и Грант торопливо добавил:
— Это я в меру сил стараюсь быть легкомысленным. Как вы себя чувствуете?
— В общем, ничего. Бок еще немного побаливает, но ничего страшного. Да я не обиделась… Но послушайте, Грант…
— Когда вы говорите, Кора, я весь внимание.
— Первой помощи вам явно недостаточно, и вы знаете, что пластырь не панацея. Вы что-нибудь сделали, чтобы обезопасить себя от инфекции?
— Смазал йодом.
— Вы собираетесь обратиться к врачу, когда мы отсюда выберемся?
— К Дювалю?
— Вы понимаете, что я имею в виду.
— Договорились, — сказал Грант. — Обращусь.
Он снова посмотрел на мозаичную выкладку плывущей под ними поверхности. «Протеус» медленно и осторожно пробирался по капиллярам. Луч прожектора проходил сквозь их полупрозрачные стенки.
— Кажется, будто стенки прозрачные, — сказал Грант.
— Нет ничего удивительного, — вмешался Дюваль. — Толщина их меньше одной десятитысячной дюйма. К тому же они пористые. Жизнь зависит от проницаемости материала этих стенок и таких же тонких оболочек альвеол.
— Чего?
Несколько мгновений он смотрел на Дюваля, пытаясь понять смысл его слов. Хирурга же, казалось, куда больше интересовало проплывающее за иллюминаторами чудо, чем вопрос Гранта. Кора поторопилась заполнить неловкую паузу.
Она сказала:
— Воздух попадает в легкие через трахеи, как вы знаете… через дыхательное горло. Там оно раздваивается и, как кровеносные сосуды, превращается во все более и более мелкие трубочки, пока они, наконец, не добираются до микроскопически крохотных ячеек в глубине легких, где попавший внутрь тела воздух отделен от организма только тонкими мембранами; толщина их соизмерима с толщиной стенок капилляров. Вот эти ячейки и называются альвеолами. Всего в легких их около шестисот миллионов.
— Сложный механизм.
— Просто потрясающий. Кислород проникает сквозь мембраны альвеол и сквозь мембраны капилляров. Он попадает в кровь и прежде чем успевает улетучиться, его подхватывают красные кровяные тельца. А тем временем отходы в виде окиси углерода в другом направлении попадают из крови в легкие. Доктор Дюваль надеется увидеть этот процесс. Вот почему он и не услышал вашего вопроса.
— Не стоит извиняться. Я знаю, что когда всецело поглощен какой-либо вещью, просто ни на что не обращаешь внимания. — Он широко ухмыльнулся. — Хотя боюсь, что поглощенность доктора Дюваля никоим образом не напоминает мою.
Кора смутилась, но громкий голос Оуэнса дал ей возможность не отвечать на двусмысленную шуточку Гранта.
— Прямо впереди! — крикнул Оуэнс. — Смотрите, что там делается!
Все взгляды устремились в указанном направлении. Перед ними, колыхаясь, двигалось синевато-зеленое образование, царапая своими краями стенки капилляров с обеих сторон. По краям оно уже начинало желтеть и темная окраска в центре постепенно исчезала.
Другое тельце, точно так же видоизменяясь по цвету, проскользнуло мимо них. Луч прожектора выхватил впереди охряно-соломенное пятно, которое, удаляясь, наливалось оранжево-красным цветом.
— Видите, — восхищенно сказала Кора, — захватывая кислород, гемоглобин становится оксигемоглобином, который и придает крови такой красный цвет. Вернувшись в левый желудочек сердца, кровь, обогащенная кислородом, поступает ко всему организму.
— Вы хотите сказать, что нам придется возвращаться через сердце? — ужаснувшись, спросил Грант.
— О нет, — возразила Кора. — Теперь, оказавшись в капиллярной системе, мы сможем идти напрямую. — Хотя в голосе ее не было особой уверенности.
— Вы только посмотрите на это чудо, — сказал Дюваль. — Посмотрите на богоданные чудеса.
— Всего лишь газообмен, — сухо бросил Микаэлс. — Механический процесс, появившийся в результате сочетания случайных факторов за два миллиона лет эволюции.
Дюваль яростно вскинулся.
— Вы утверждаете, что он явился результатом случайности? Что тот восхитительный механизм, умное совершенство которого тысячекратно превышает все изобретения человека, явился результатом всего лишь случайного сочетания атомов?
— Да, именно это я и хочу сказать, — согласился Микаэлс.
В это мгновение их спор, в который они было так воинственно вступили, был прерван внезапным громким зуммером.
— Что за черт… — удивился Оуэнс.
Он стремительно стал перекидывать выключатели, но стрелка на одном из циферблатов продолжала стремительно опускаться за красную горизонтальную черту. Отключив зуммер, он крикнул:
— Грант!
— В чем дело?
— Что-то не в порядке. Проверьте-ка вон те показатели.
Грант быстро переместился в нужном направлении. Кора держалась за ним.
— Под отметкой «Левый резервуар» стрелка находится в красной зоне. По всей видимости, в левом резервуаре упало давление.
Застонав, Оуэнс обернулся.
— И еще как! Весь воздух из него вышел в кровь. Грант, быстренько идите-ка сюда. — Оуэнс отбрасывал ремни.
Оказавшись около трапа, Грант посторонился, чтобы освободить место скатившемуся сверху Оуэнсу.
Через маленький задний иллюминатор Кора старалась разглядеть пузыри.
— Такое воздушное образование в крови может иметь фатальные последствия… — сказала она.
— Только не в этом виде, — торопливо уточнил Дюваль. — При наших теперешних масштабах вырвавшиеся из корпуса воздушные пузырьки так малы, что не смогут причинить организму вреда. А ко времени увеличения они настолько растворятся в крови, что тем более не будут представлять собой опасности.
— Речь идет не об опасности, угрожающей Бенесу, — мрачно заметил Микаэлс. — Воздух нужен нам.
Оуэнс снова обратился к Гранту, который так и остался сидеть у контрольной панели.
— Ничего не меняйте, а только смотрите, не появится ли еще один красный сигнал на панели.
Он обратился к Микаэлсу, проходя мимо него:
— Должно быть, клапан. Больше ничего не приходит в голову.
Повернувшись спиной, он одним рывком сдернул панель, подковырнул ее конец маленькой отверткой, которую вытащил из кармана. Перед глазами во всей своей пугающей сложности предстала путаница проводов и кабелей.
Опытные пальцы Оуэнса быстро пробежали по ним, давая понять, что с такой уверенностью может действовать только создатель судна. Пощелкав несколькими тумблерами, он быстро вернул их в прежнее положение и, согнувшись, присмотрелся к датчикам вспомогательного оборудования, расположенным под иллюминатором в носу судна.
— Должно быть, произошло какое-то повреждение наружной обшивки, когда мы пробирались по легочной артерии или когда нас ударил прилив артериальной крови.
— Клапан действует? — спросил Микаэлс.
— Да. Я думаю, он несколько разрегулировался, а когда по нему пришелся один из ударов, как я прикидываю, броуновского движения, он так и остался в открытом положении. Сейчас я его привел в порядок, и он не будет доставлять беспокойства, но только…
— Только что? — спросил Грант.
— Боюсь, что свое дело он уже сделал. У нас не хватает воздуха, чтобы завершить путешествие. И находись мы в нормальной подлодке, я бы приказал подняться на поверхность и пополнить его запасы.
— Но что же нам теперь делать? — спросила Кора.
— Подниматься на поверхность. Это все, что мы можем. Нам придется потребовать, чтобы нас сразу же извлекали, ибо через десять минут судно потеряет управляемость, а еще через пять все мы начнем задыхаться.
Он двинулся к трапу.
— Я беру на себя управление, Грант. Вы же садитесь за рацию и передайте наверх новости.
— Подождите, — остановил его Грант. — У нас есть какие-то запасы воздуха?
— Были. Больше нет. Совсем. В сущности, когда его запасы деминиатюризируются, их объем не поместится в теле Бенеса. Он погибнет.
— Нет, не погибнет, — возразил Микаэлс. — Миниатюризированные молекулы потерянного нами воздуха просочатся сквозь ткани и растворятся в открытом пространстве. Ко времени деминиатюризации в теле их практически не останется. Тем не менее, я боюсь, что Оуэнс прав. Мы не можем двигаться дальше.
— Но подождите, — сказал Грант. — Почему мы не можем выйти на поверхность?
— Я же только что сказал… — нетерпеливо начал Оуэнс.
— Я не имею в виду, чтобы нас извлекали отсюда. Мы вполне можем изменить положение и оставаясь здесь. Именно здесь. Перед нашими глазами кровяные тельца насыщаются кислородом… Почему бы и нам не сделать то же самое? Всего лишь две тонкие мембраны отделяют нас от океана воздуха. Давайте попробуем.
— Грант прав, — сказала Кора.
— Нет, не могу согласиться, — возразил Оуэнс. — В каком, по вашему мнению, мы находимся положении? Мы уменьшены до такой степени, что наши легкие по объему меньше, чем часть бактерии. Воздух же по другую сторону мембран не прошел миниатюризации. Молекулы его едва ли не глазом можно рассмотреть, черт побери. А вы думаете, что мы можем вдохнуть их.
Грант растерялся.
— Но…
— Мы не можем ждать, Грант. Вы должны связаться с контрольной рубкой.
— Подождите, — сказал Грант. — Пока еще рано. Не вы ли говорили, что первоначально это судно
предназначалось для глубоководных исследований? Что оно может делать под водой?
— Предполагалось, что, найдя интересный образчик, мы сможем его миниатюризировать и доставить на поверхность для обследования.
— То есть у вас есть на борту оборудование для миниатюризации. Надеюсь, прошлой ночью вы не успели снять его?
— Конечно оно осталось. Но, соответственно, тоже в уменьшенном виде.
— Размеры каких масштабов необходимы? Если мы подведем воздух к аппаратуре, нам удастся уменьшить размеры молекул и перегнать их потом в цистерну?
— У нас не хватит для этого времени, — вмешался Микаэлс.
— Когда его будет в самый обрез, мы попросим, чтобы нас извлекли. А пока давайте попробуем. Как я предполагаю, у вас есть на борту шнорхель, Оуэнс.
— Да. — Чувствовалось, что он несколько растерялся под быстрым и решительным натиском Гранта.
— И мы сможем провести его сквозь стенки капилляров и легкого, не причинив вреда Бенесу, не так ли?
— При наших размерах я в этом не сомневаюсь, — сказал Дюваль.
— Отлично. Затем мы проложим подвод от шнорхеля к судовому устройству, а от него в резервуар с воздухом. Можем мы с этим справиться?
Оуэнс, захваченный жаром, с которым говорил Грант, задумался на несколько секунд.
— Думаю, что да.
— В таком случае, когда Бенес вдохнет, создастся давление, достаточное, чтобы заполнить наш резервуар. Не забывайте, что для нас, слава Богу, время несколько более растянуто, чем для наблюдателей извне. Во всякой случае, мы должны попытаться.
— Я согласен, — сказал Дюваль. — Мы должны пойти на эту попытку. В любом случае. И немедленно!
— Спасибо за поддержку, доктор, — поблагодарил его Грант.
Кивнув, Дюваль сказал:
— Хочу добавить, что это попытка не для одного человека. Оуэнсу лучше остаться на управлении, а мы с Грантом выйдем.
— Ага, — сказал Микаэлс. — А я все пытался понять, к чему это вы клоните. Вы хотите воспользоваться возможностью для исследования.
Дюваль покраснел, но Грант торопливо прервал готовый начаться спор.
— Каковы бы ни были мотивы, предложение доктора толковое. В сущности, нам всем лучше бы покинуть лодку. Кроме Оуэнса, конечно… Шнорхель, насколько мне помнится, на корме?
— В кубрике для снаряжения, — сказал Оуэнс. Он зеке стоял у панели управления, вглядываясь в окружающее пространство. — Если вы когда-нибудь видели его, то ни с чем не спутаете.
Грант уже был в кладовке, он сразу же обнаружил шнорхель и стал вытягивать упакованные легкие водолазные костюмы.
Но тут, охваченный ужасом, он остановился и крикнул:
— Кора!
В то же мгновение она оказалась у него за спиной.
— В чем дело?
Грант с трудом удерживал себя от того, чтобы не взорваться от бешенства. В первый раз он посмотрел на девушку, не обращая внимания на ее обаяние. Несколько мгновений он был просто не в состоянии выдавить из себя ни слова. Наконец он ткнул пальцем:
— Посмотрите!
Увидев, на что он указывал, мертвенно бледная Кора повернулась к нему:
— Я не понимаю…
Лазер, подвешенный над верстаком, болтался на одном крюке, и его пластиковый футляр был сдернут.
— Это вы не позаботились укрепить его? — потребовал ответа Грант.
Кора отчаянно замотала головой.
— Я укрепила его. Более чем надежно. Клянусь вам. Господи…
— В таком случае, как это могло…
— Я не знаю! Как я могу ответить?
Дюваль уже стоял за ней, сузив глаза на окаменевшем лице.
— Что случилось с лазером, мисс Петерсон? — спросил он.
Кора повернулась к новому следователю.
— Не знаю. Почему вы все так смотрите на меня? Я могу его сейчас проверить. Я приведу его в…
— Нет! — рявкнул Грант. — Оставьте его в покое и позаботьтесь, чтобы он более не пострадал. Первым делом мы должны заняться кислородом,
Он начал натягивать костюм.
Оуэнс спустился вниз.
— Положение судна зафиксировано, — сказал он. — Во всяком случае, из системы капилляров мы не уйдем… Господи, лазер!
— Только вы не начинайте, — простонала Кора с глазами, полными слез.
— Только этого еще не хватало, Кора, — мрачно сказал Микаэлс, — чтобы вы грохнулись в обморок. Позже мы все тщательно проверим… Может, он пострадал, когда нас мотало в водовороте. По чистой случайности.
— Капитан Оуэнс, — приказал Грант, — подсоедините этот конец шнорхеля к миниатюризатору. Всем остальным натянуть костюмы, и, я надеюсь, кто-нибудь быстренько покажет мне, как залезать в эту штуку. Никогда раньше не имел с ней дела.
* * *
— Тут нет ошибки? — спросил Рейд. — Они в самом деле не двигаются?
— Нет, сэр, — донесся голос техника. — Они стоят у внешней границы правого легкого.
Рейд повернулся к Картеру.
— Этого я объяснить не могу.
Картер на мгновение приостановил свое яростное хождение по комнате и ткнул большим пальцем в сторону таймера, на котором читалась цифра 42.
— Мы убили четверть отпущенного нам времени, и мы от этого чёртового тромба дальше, чем когда начинали. Мы должны были бы готовиться к их изъятию.
— По-видимому, — холодно сказал Рейд, — надо было еще больше нас подготовить.
— Я не считаю, что руководствовался какими-то своими прихотями, полковник!
— Как и я. Но как иначе удовлетворить вас, генерал?
— В конце концов давайте выясним, что их там держит. Связь с «Протеусом»!
— Я предполагаю, что у них какая-то механическая поломка, — сказал Рейд.
— Вы предполагаете! — с непередаваемым сарказмом бросил Картер. — Я тоже отнюдь не считаю, что они остановились, чтобы поплавать и освежиться!
Глава 12
ЛЕГКОЕ
Все четверо — Микаэлс, Дюваль, Кора и Грант — наконец облачились в комбинезоны, удобные, плотно облегающие тело, чистого белого цвета. У каждого за спиной был кислородный аппарат, фонарь на шлеме, ласты на ногах и маленький радиопередатчик и наушник, закрепленные, соответственно, на горле и в ухе.
— Облачение как у ловцов жемчуга, — сказал Микаэлс, надевая шлем, а мне никогда не приходилось нырять за ракушками. И обретать первый опыт в кровяном русле…
Торопливо застрекотала корабельная рация.
— Может, вам лучше ответить? — предложил Микаэлс.
— И вступить в долгий разговор? — нетерпеливо ответил Грант. — Времени для разговоров будет достаточно, когда закончим дело. Эй, помогите-ка мне.
Кора поправила пластиковый шлем, съехавший ему на глаза и затянула ремешок крепления.
В ухе у нее тут же прозвучал голос Гранта, еле узнаваемый в динамике крохотной рации.
— Спасибо, Кора.
Она печально кивнула ему в ответ.
Попарно они покинули судно через шлюз аварийного выхода — и каждый раз в окружающую их плазму крови вырывался пузырь драгоценного воздуха.
Тело Гранта зависло в жидкости, которая была далеко не так прозрачна, как вода в тех морях, где ему доводилось нырять. Насколько видел глаз, она была заполнена осколками, обломками и обрывками какой-то плоти. Корпус «Протеуса» занимал половину диаметра капилляра — и мимо них то и дело проплывали красные кровяные тельца, сопровождаемые стайками тарелочек.
— Если они застрянут около «Протеуса», — растерянно сказал Грант, — мы сами станем еще одним тромбом.
— Можем, — сказал Дюваль, — но тут он не будет представлять опасности; во всяком случае, не в капиллярах.
Выбравшись из корпуса, они увидели Оуэнса. Тот поднял голову, и на лице его было озабоченное выражение.
Кивнув, он без особого энтузиазма вскинул руку и пригнулся к иллюминатору, всматриваясь в бесконечную вереницу летящих мимо частиц. Водрузив на голову шлем от легкого водолазного костюма, Оуэнс включил передатчик.
— Думаю, здесь я все сделал, — сказал он. — Во всяком случае, ничего лучшего не придумать. Вы готовы? Могу выдавать шнорхель?
— Валяйте, — сказал Грант.
Шланг пополз из специального люка, как кобра, которая появляется из корзины под звуки флейты факира.
Грант подхватил его.
— О черт! — хрипло прошептал Микаэлс. Затем тоном чуть повыше, в котором уже не слышалось досады, он сказал: — Все обратите внимание на размеры насадки на шнорхеле. Похоже, что в поперечнике она смахивает на руку взрослого человека, а что это такое при наших размерах?
— Ну и что? — коротко бросил Грант. Он крепко держал шланг и, двигаясь спиной к стенке капилляра, подтягивал его, не обращая внимания на ноющую боль в левой руке. — Хватайте его и помогайте тащить.
— Нет смысла, — сказал Микаэлс. — Неужто вы не поняли? Я должен был бы сообразить раньше, но мне только что пришло в голову, что воздух не пройдет через эту насадку.
— Что?
— Во всяком случае, далеко не так быстро, как нам бы хотелось. Молекулы воздуха в своем по длинном виде слишком велики для заборного шнорхеля. Неужели вы предполагали, что воздух свободно потечет по такой тонкой трубке, которую еле видно в микроскоп?
— Воздух будет идти под давлением, существующем давлению в легком.
— Уверены? Вы когда-нибудь слышали, как выходит воздух из проткнутой автомобильной шины? Отверстие, сквозь которое он проходит, не меньше этого, выталкивающее его давление уж куда больше того, что существует в легких. И тем не менее, воздух выходит медленно, — мрачно сообщил Микаэлс. — Мне надо было бы раньше это прикинуть.
— Оуэнс! — рявкнул Грант.
— Я слышу. Не стоит так орать, а то у меня перепонки лопнут.
— Дело не во мне. Вы слышали Микаэлса?
— Да, слышал.
— Он прав? Ближе вас эксперта по миниатюризации у нас нет. Он прав?
— Ну… и да, и нет, — ответил Оуэнс.
— Что вы имеете в виду?
— Да что воздух в самом деле потечет по трубке очень медленно, пока не подвергнется миниатюризации и нет в том смысле, что если миниатюризация пойдет успешно, беспокоится нечего. Я могу растянуть воздействие поля вдоль по шнорхелю, что позволит уменьшать молекулы прямо перед забором их и всасывать…
— А не скажется ли на нас воздействие этого поля? — спросил Микаэлс.
— Нет. Прежде чем поле достигнет максимума, мы все уже будем на месте.
— А как насчет воздействия на окружающую кровь и легочную ткань? — спросил Дюваль.
— Есть предел, за которым я уже не могу точно нацеливать поле, — признал Оуэнс. — Аппаратура тут у меня небольших размеров, но с газом она справится. Тем не менее, кое-какие травмы исключать нельзя. Остается надеяться, что они будут не слишком серьезными.
— Мы должны воспользоваться этой возможностью, вот и все, — сказал Грант. — Давайте примемся за дело. Нельзя тянуть до бесконечности.
Четыре пары рук ухватились за головку шнорхеля, и с их помощью его удалось подтащить к стенке капилляра.
На несколько мгновений Грант задумался.
— Нам придется прорезать ее… Дюваль!
Губы врача тронула легкая улыбка.
— Нет необходимости обращаться к хирургу. Вы прекрасно справитесь и сами. Особого мастерства тут не требуется.
Вытащив клинок из небольших ножен на своем поясе, он взглянул на него.
— На лезвии, конечно же, есть уменьшенные бактерии. В свое время они, оказавшись в кровотоке, обретут подлинный вид, но, надеюсь, о них позаботятся белые кровяные тельца. Патологии удастся избежать.
— Приступайте, пожалуйста, доктор, — поторопил его Грант.
Резким движением Дюваль ввел острие между двух клеток, составлявших стенку капилляра. Возник узкий разрез. В нормальных условиях толщина стенки была бы не плотнее одной десятитысячной дюйма, но сейчас для них она выросла до нескольких ярдов. Дюваль протиснулся в проем разреза и стал проталкиваться дальше, орудуя ножом. Наконец стенка была продырявлена, и клетки разошлись, как края зияющей раны.
Сквозь ее проем открылась еще одна стена клеток, которую Дюваль прорезал точным аккуратным движением.
Вернувшись, он сказал:
— Отверстие буквально микроскопическое. Не будет никакой потери крови, если уж говорить об этом.
— Вообще не будет потерь, — подчеркнул Микаэлс. — Просачивание пойдет в другую сторону.
И действительно, в отверстие стал проталкиваться пузырек воздуха, который, вспухнув, застыл на месте.
Микаэлс коснулся его. Какой-то участок поверхности продавился внутрь, но прорвать ее рука не смогла.
— Поверхностное натяжение! — сказал он.
— И что теперь? — потребовал ответа Грант.
— Поверхностное натяжение, говорю я вам. Этой особенностью обладает поверхности любой жидкости. Для столь крупной особи, как человек нормальных размеров она незаметна, но небольшие насекомые могут из-за этого скользить по поверхности воды. При наших же размерах эффект сказывается очень ощутимо. И, может быть, нам не удастся преодолеть этот барьер.
Вытащив свой нож, Микаэлс попытался прорезать пленку пузыря, как только что Дюваль поступил со стенкой капилляра. Нож по самую рукоятку ушел внутрь и выскочил обратно, вытолкнутый ее упругостью.
— Словно пытаешься резать резину, тонкую прочную резину, — сказал Микаэлс, переводя дыхание. Он чиркнул острием сверху вниз, но появившаяся было щель мгновенно затянулась.
Сделав то же самое, Грант попытался просунуть руку в проем прежде чем тот исчез. Не успел он моргнуть, как молекула воды восстановила первоначальный вид.
— Ну никак не ухватить.
— Их размеры достойны удивления, — торжественно сказал Дюваль. — При соответствующем увеличении их можно рассматривать в лупу. В сущности…
— В сущности, — перебил его Микаэлс, — могу понять, как вы опечалены, что у вас нет при себе лупы. Но должен огорчить вас, Дюваль: много увидеть вы все равно не смогли бы. При увеличении
соответственно изменялась бы и длина световой волны, как и атомы и субатомные частицы. Так что все, представшее у вас перед глазами, было бы в туманной дымке.
— Вот почему, — сказала Кора, — тут ни у чего нет четких очертаний? А я-то думала, из-за того, что мы рассматриваем предметы сквозь плазму крови.
— Конечно присутствие плазмы тоже сказывается. Но надо добавить, что зернистая конструкция становится тем крупнее, чем- меньше становимся мы. Как если бы рассматривать снимок в старых газетах. Сначала можешь видеть каждую составляющую ее точку, а потом они расплываются.
Грант не прислушивался к их разговору. Просунув руку в прорезь стенки, он старался освободить место для другой руки и головы.
Жидкость тут же сомкнулась вокруг его шеи, и ему показалось, что она вот-вот задушит его.
— Держите меня за ноги! — крикнул Грант.
— Держу, — отозвался Дюваль.
Половина тела уже была на той стороне, и теперь Грант мог, обернувшись, рассмотреть расщелину, которую Дюваль прорезал в стенке сосуда.
— Ясно. Тащите меня обратно, — скомандовал он, и расщелина сомкнулась с влажным хлюпающим звуком.
— Теперь давайте прикинем, как протащить шнорхель. Раз-два!
Но все было тщетно. Тупой конец его не мог продавить тугую плотную поверхность молекулы, образовавшей воздушный пузырь. С помощью ножей удалось вроде вогнать внутрь наконечник шнорхеля, но стоило только отпустить руку, как сила поверхностного натяжения выталкивала его.
Микаэлс тяжело дышал, обливаясь потом.
— Сомневаюсь, чтобы нам это удалось.
— Удастся, — заверил его Грант. — Слушайте, я целиком пролезу на ту сторону. Как только вы протолкнете за мной шнорхель, сразу же перехвачу его и буду тянуть. Вы будете толкать, я тянуть…
— Вы не можете оказаться там, Грант, — предупредил Дюваль. Вас потом затянет и вы не выберетесь…
— Можно использовать спасательный конец, — предложил Микаэлс. — Вот этот, Грант. — Он показал на аккуратно смотанную бухту тонкого каната, висящую на левом боку Гранта. — Дюваль, протяните ее до судна, хорошо привяжите — и с Грантом все будет в порядке.
Дюваль нерешительно взял протянутый ему конец и поплыл назад к корпусу подлодки.
— Но как вы вернетесь? — спросила Кора. — А что, если вы не сможете еще раз преодолеть поверхностное натяжение?
— Да конечно смогу. Кроме того, не усложняйте ситуацию, решая вторую проблему, когда мы еще с первой не справились.
Оуэнс из рубки внимательно наблюдал за перемещениями Дюваля.
— Вам нужна еще одна пара рук? — спросил он.
— Не думаю, — ответил Дюваль. — Кроме того, ваша пара рук нужна миниатюризатору. — Он закрепил спасательный конец за небольшое кольцо на металлической обшивке лодки и махнул рукой. — Все в порядке, Грант.
Тот махнул ему в ответ. Второй раз он проник сквозь преграду куда быстрее, ибо уже обладал некоторым опытом. Сначала расширить разрез, потом просунуть в него одну руку (о, черт возьми, как она болит!), затем вторую, после чего с силой подтянуться на руках, мощный удар ластами — и он пролетел в проем, как семечко от дыни, сжатое большим и указательным пальцами.
Грант оказался между двумя клейкими стенками разреза, разделявшего клетки. Он ясно различал лицо Микаэлса, хотя оно было чуть искажено изгибом поверхности.
— Проталкивайте шнорхель, Микаэлс.
Пользуясь ножом, он мог пробиваться дальше.
Наконец появился тупой металлический конец шнорхеля. Опустившись на колени, Грант перехватил его. Упираясь спиной в одну стенку разреза, а ногами — в другую, он потянул его на себя. Вместе с ним потянулась и поверхностная пленка, стараясь ничего не выпустить из своих объятий. Грант же тащил шнорхель вверх и на себя, подбадривая себя коротким выдохами:
— Давай! Давай!
Когда ему удалось полностью высвободить наконечник шнорхеля, он сказал:
— А теперь я потащу его дальше, до альвеол.
— Когда доберетесь до них, — сказал Микаэлс, — будьте осторожны. Пока я не знаю, как на вас скажутся вдохи и выдохи больного, но будьте готовы к тому, что попадете в ураган.
Грант двинулся наверх, таща за собой шнорхель, рывками и пинками одолевая мягкую плоть под ногами.
Едва не уткнувшись головой в стенку альвеолы, он внезапно понял, что очутился в совершенно другом мире. Луч света с «Протеуса» проникал сквозь то, что казалось ему плотной живой тканью, за которой он видел смутные очертания огромной пещеры альвеолы с влажно поблескивающими вдали стенками.
Вокруг него были глыбы и валуны всех размеров и цветов, которые, отражая падающий на них свет, переливались и искрились. Он видел, что грани и ребра их имели сточенную округлую форму, и дело было не в слое жидкости, который скрадывал их очертания.
— Тут полно камней, — сказал Грант.
— Насколько я представляю, песок и гравий, — дошел до него голос Микаэлса. — Песок и пыль. Плата за жизнь в условиях цивилизации, за то, что мы дышим не профильтрованным воздухом. Путь в легкие — это дорога с односторонним движением: вдыхая пыль, мы уже не можем избавиться ст нее.
Вмешался Оуэнс:
— Изо всех сил старайтесь держать заборник шнорхеля над головой. Я не хочу, чтобы в него попала жидкость. Ну же!
Грант вскинул его.
— Дайте знать, когда будет достаточно, Оуэнс, — выдохнул он.
— Дам, не беспокойтесь.
— Система в порядке?
— Еще бы. Поле сразу же сработает, как только… впрочем, неважно. Я настроил его так, что газообразную субстанцию оно будет уменьшать очень быстро. Его границы выйдут за пределы тела Бенеса, в атмосферу операционной.
— Это безопасно? — спросил Грант.
— Только таким образом мы сможем набрать достаточно воздуха. Безопасно ли? Господи, да будь у меня шнорхель побольше, я мог бы засосать воздух прямо сквозь ткани тела Бенеса, не вторгаясь в его дыхательную систему. — Оуэнс был возбужден, как мальчишка, отправляющийся на первое в жизни любовное свидание,
В наушнике Гранта раздался голос Микаэлса: — Ощущаете ли вы на себе дыхание Бенеса?
Грант быстро глянул на мембрану альвеолы. Ее натянутая поверхность лишь чуть подрагивала под ногами, и Грант решил, что присутствует при окончании медленного вдоха, (Медленным он должен казаться в любом случае; и из-за гипотермии, и из-за растяжения восприятия времени, связанного с миниатюризацией.)
— Все в порядке, — сказал он. — Практически ничего не чувствуется.
Но тут же Грант услышал низкий гул. Он становился все громче, и Грант понял, что начинается выдох. Он понадежнее расставил ноги и ухватил шнорхель.
— Все работает просто потрясающе! — возбужденно воскликнул Оуэнс. — Никто никогда не делал ничего подобного.
По мере того как легкие продолжали медленно, но неуклонно опадать и гул выдыхаемого воздуха становился все громче, движение воздуха начало сказываться и на Гранте. Он почувствовал, что его отрывает от поверхности альвеолы, и понял, что при нормальных размерах он бы почти не почувствовал выхода воздуха, но сейчас это было для него настоящим торнадо.
Грант отчаянно ухватился за шнорхель, обвив его руками и ногами. Таща за собой Гранта, шланг взвился кверху. Валуны — точнее, пылевые частицы — летели и катились мимо него.
Выдох медленно завершился и ураган стих; Грант с облегчением выпустил из рук шнорхель.
— Как там дела, Оуэнс? — спросил он.
— Почти все готово. Сможете продержаться еще несколько секунд, Грант?
— Договорились.
Он стал считать про себя: двадцать-тридцать-сорок. Бенес начал вдыхать воздух в легкие, и мимо
Гранта летели молекулы кислорода. Мембрана альвеолы опять дернулась, он невольно упал на колени.
— Готово! — закричал Оуэнс. — Давайте его обратно!
— Тащите к себе шнорхель! — завопил Грант. — И быстро! До начала выдоха!
Он стал проталкивать шланг в проем разреза, а остальные тащили его. Трудность возникла, только когда расширенный заборник шнорхеля стал протискиваться сквозь щель. На мгновение он застрял в ней, словно в тисках, после чего проскользнул с легким хлопком сомкнувшейся поверхности.
Грант промедлил, наблюдая за ним. Убедившись, что со шнорхелем все в порядке, он сделал движение, намереваясь и сам нырнуть в разрез, но могучий поток воздуха начавшегося выдоха подхватил его ураганным порывом, заставив споткнуться. Увернувшись от двух валунов, он понял, что скользит по туго натянутой пленке. (Вот уж что будет рассказать внукам — как он уворачивался от песчинок в легких.)
Но где он, куда его занесло? Он, дернув, подтянул к себе спасательный конец, зацепившись за острый край одного из валунов, и натянул его. Не так трудно будет, придерживаясь за него, добраться до разреза.
Спасательный линь лег на вершину одной из глыб, и Грант торопливо вскарабкался на нее. Тугой поток воздуха помогал ему, и он почти не прилагал усилий, поднимаясь. Оставалось совсем немного.
Разрез, как он знал, располагался по другую сторону валуна, и он мог обогнуть его, но так как поддерживавшая его струя воздуха едва не перекинула его через валун, он не мог отказать себе в этом удовольствии (почему бы и не признаться в нем?).
Когда сила выдоха достигла предела, валун пошатнулся под его ногами и Гранта приподняло в воздух, в котором он и завис. На долю мгновения он увидел под собой разрез — там, где ему и полагалось находиться. Если только удастся переждать секунду-другую до прекращения выдоха, он прямехонько опустится в разрез, где, нырнув в поток крови, подплывет к судну.
Едва он представил себе эту картину, его кинуло кверху, спасательный конец, резко дернувшись, провис и в долю секунды он потерял разрез из виду.
* * *
Когда шнорхель выполз из проема в альвеоле, Дюваль доставил шланг на судно.
— А где Грант? — обеспокоенно спросила Кора.
— Где-то там наверху, — предположил Микаэлс.
— Почему он не спускается?
— Спустится. Спустится. Ему наверно надо подготовится к возвращению, — продолжая вглядываться в разрез, сказал Микаэлс. — Бенес выдыхает. Как только выдох прекратится, у него не будет никаких проблем.
— Может, стоит ухватится за спасательный конец и вытащить его оттуда?
Предостерегающим движением руки Микаэлс остановил ее.
— Если вы это сделаете как раз с началом вдоха, силой таща его книзу, вы причините ему серьезные неприятности. Если ему понадобится помощь, он скажет, чего ждет от нас.
Помедлив, Кора выпустила из рук спасательный конец.
— Я бы хотела…
В этот момент линь дернулся, уползая в отверстие, и к их ногам упал отвязавшийся спасательный конец.
Вскрикнув, Кора отчаянно кинулась к отверстию.
Микаэлс успел перехватить ее.
— Тут вы ничего не сделаете, — выдохнул он. — Не совершайте глупостей.
— Но мы не можем оставить его там. Что с ним будет?
— Мы свяжемся с ним по рации.
— Может, она сломана.
— С чего бы?
К ним присоединился Дюваль. Он с трудом выдавил:
— Насколько я вижу, линь отвязался. Не могу поверить.
Все трое беспомощно уставились в проем над их головами.
— Грант! — настойчиво стал звать Микаэлс. — Грант? Вы меня слышите?
* * *
Крутясь и болтаясь в потоке воздуха, Грант продолжал подниматься кверху. Мысли его были столь же беспорядочны, как и линия его полета.
Назад мне не вернуться, крутилась в голове одна фраза. Не удастся. Если даже поддерживать связь по рации, я не смогу выйти по радиолучу.
Или смогу?
— Микаэлс! — позвал он. — Дюваль!
Сначала ответом ему было молчание, а потом он услышал легкий треск в наушнике, который мог быть его именем.
Он сделал еще одну попытку:
— Микаэлс! Вы слышите меня? Слышите меня?
Снова какой-то треск. Он ничего не мог разобрать.
Где-то из глубин растерянности и волнения всплыла спокойная мысль, словно его мозг нашел время заняться серьезными размышлениями. Хотя уменьшенные световые волны обладают большей проницаемостью, очевидно, миниатюризированные радиоволны с большим трудом проникают сквозь преграды.
Хотя об их поведении в таком виде почти ничего не было известно. На долю «Протеуса» и его экипажа выпала сомнительная честь быть пионерами-первопроходцами в загадочном мире: если можно говорить о фантастическом путешествии, то они стали его участниками.
Не говоря уж о самой миссии как таковой, Гранту выпало на долю еще одно фантастическое приключение: его несло, как ему казалось, по милям пространства вместе с пузырьками воздуха в легких умирающего человека.
Движение его стало замедляться. Он оказался на верхушке альвеолы и двинулся вдоль пустотелого стебля, которым она крепилась. Слабое свечение впереди скорее всего было прожектором «Протеуса». Значит, ему надо идти на свет? Двигаться теперь он может в любом направлении, но видимо стоит пойти на свет.
Притронувшись к стеблю, он прилип к нему, как муха на клейкой бумаге. Он стал дергаться и извиваться, ведя себя на самом деле как муха.
Обе ноги и руки прилипли, но времени у него было в обрез. Переведя дыхание, он остановился и заставил себя задуматься над ситуацией. Выдох завершен, и сейчас начнется вдох. Поток воздуха может оторвать его и толкнуть в нужном направлении. Осталось лишь дождаться его!
Он почувствовал давление подступающего урагана и услышал растущий гул. Медленно, с усилием он высвободил конечности и согнулся, подставляя спину току воздуха. Едва только он успел высвободить ноги, как поток швырнул его книзу.
Теперь он падал, летя вниз с такой высоты, которая при теперешних его размерах казалась устрашающей. С точки зрения человека нормальных размеров, он понимал, что должен опускаться как перышко, но сейчас он чувствовал себя скорее свинцовым грузилом. Тем не менее ускорения при падении почти не чувствовалось, ибо крупные молекулы воздуха (почти доступные взгляду, как говорил Микаэлс) то и дело принимали на себя вес его тела и поглощали энергию падения, которая в противном случае перешла бы в ускорение.
Бактерия не крупнее его совершенно спокойно преодолела бы в падении это расстояние, но он, миниатюризированный человек, состоял из пятидесяти триллионов миниатюризированных клеток, сложность сочетания которых, вероятно, сделала его таким хрупким, что при падении он может разлететься в миниатюризированную пыль.
Едва только в голову ему пришла эта мысль, он автоматически вскинул руки над головой, когда, вращаясь в полете, оказался слишком близко от стенки альвеолы. Он почувствовал легкое соприкосновение с ней, стенка поддалась под ним и легко отбросила. Скорость падения несколько замедлилась.
И снова вниз. Где-то там было пятнышко света, булавочная головка, которая мигала, когда он присматривался к ней. Он не сводил с нее глаз, лелея отчаянную надежду.
Все дальше вниз. Он отчаянно отбрыкивался от столкновения с летящими валунами и обломками; промахнувшись, он получил ощутимый удар под ложечку. Падение продолжалось. Он отчаянно извивался, стараясь прийти в полете к точке света и порой ему казалось, что он преуспевает в этом. Но уверенности не было.
Наконец он покатился, кувыркаясь по пологому склону поверхности альвеолы. Он успел захлестнуть обрывок спасательного конца вокруг выступа и повис на руках.
Точечный источник света превратился в маленький факел — футах в пятидесяти, как он прикинул. Там должен быть разрез, но как бы близко он ни был от него, без путеводного источника света он бы его не нашел.
Он ждал, пока закончится вдох. До выдоха будет краткий промежуток времени, в течение которого он и должен прорваться.
Вдох еще не кончился, а он, скользя и хватаясь за выступы, отчаянно рванулся к цели. В последнее мгновение вдоха мембрана альвеолы натянулась и, застыв в таком положении на пару секунд, начала терять напряжение в первой фазе начинающегося выдоха.
Грант влетел головой вперед в расщелину, залитую ослепительным сиянием и врезался в пленку, которая обладала все той же непроницаемостью резины. Она распалась под неожиданным ударом ножа, появившаяся оттуда рука крепко схватила его за лодыжку. Но едва только движение выдыхаемого воздуха снова потянуло его кверху, он почувствовал, как несколько рук тянут его книзу. Теперь его уже перехватили за плечи и руки, не ослабляя хватки за ногу; он уже весь целиком был в капилляре. Грант долго не мог отдышаться, судорожными всхлипами втягивая в себя кислород. Наконец он сказал:
— Спасибо. Я шел на свет! В противном случае мне бы не выбраться.
— Мы не могли связаться с вами по рации, — сказал Микаэлс.
Кора улыбалась ему:
— Это была идея доктора Дюваля. Он заставил «Протеус» подойти поближе к проему и направить луч прожектора прямо в него. И он же расширил отверстие.
— Давайте вернемся на судно, — предложил Микаэлс. — У нас почти не осталось времени.
Глава 13
ПЛЕВРА
— Пришло сообщение, Ал! — закричал Рейд.
— От «Протеуса»? — Картер рванулся к окну.
— Ну, не от вашей же жены.
Картер нетерпеливо махнул рукой.
— Потом, потом. Поберегите свои шуточки, а потом мы их всех свалим в большую кучу. Идет?
Техник крикнул:
— Сэр, «Протеус» сообщает: «ПРОИЗОШЛА ОПАСНАЯ УТЕЧКА КИСЛОРОДА. ОПЕРАЦИЯ ЗАПРАВКИ ЗАВЕРШИЛАСЬ УСПЕШНО».
— Заправки? — не поверил своим ушам Картер.
— Как я прикидываю, — нахмурившись, сказал Рейд, они имеют в виду легкие. Ведь они в их пределах, то есть в их распоряжении имеются кубические мили воздуха. Но…
— Но что?
— Они же не могут использовать этот воздух. Он не подвергался миниатюризации.
Картер изумленно уставился на полковника и гаркнул в микрофон:
— Повторите последнее предложение!
— «ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА УСПЕШНО».
— И последнее слово «успешно»?
— Да, сэр.
— Свяжитесь с ними и получите подтверждение.
— Если они употребили слово «успешно», — обратился он к Рейду, — то я предполагаю, они справились с задачей.
— У «Протеуса» на борту есть соответствующая аппаратура.
— Значит, вот как они ею распорядились. Подробное объяснение мы получим потом.
Из группы связи донесся голос:
— Подтверждение получено, сэр.
— Они двигаются? — обратился Картер к другому технику.
Короткая пауза, за которой последовал ответ:
— Да, сэр. Они двигаются по направлению к плевре.
Рейд кивнул. Глянув на таймер с цифрой 37, он сказал:
— Плевра — это двухслойная пленка, окружающая легкие. Они, должно быть, находятся в пространстве между ее слоями. Ровная дорога, прямо автотрасса, ведущая к шее.
— И они окажутся там, откуда стартовали полчаса тому назад, — буркнул Картер. — И что дальше?
— Они могут вернуться в капиллярную систему и снова продолжить путь до сонной артерии, на что времени у них будет в обрез; или же они могут миновать артериальную систему, воспользовавшись лимфатической, что включает в себя, иные проблемы… Но поскольку штурман у них Микаэлс, я думаю, он знает, что делать.
— Можете ли вы дать ему какой-нибудь совет? И Бога ради, плюньте на протокольные записи.
Рейд покачал головой.
— Находясь здесь, я не уверен, что знаю какой путь предпочтительнее. А он на месте, он лучше меня понимает, как вести судно, чтобы не столкнуться с препятствиями. Мы должны предоставить им свободу действий, генерал.
— Хотел бы я знать, что делать, — сказал Картер. — И видит Бог, я бы взял на себя ответственность, если бы знал, как обеспечить хоть малейший шанс на успех.
— Именно это и я тоже чувствую, — сказал Рейд. — По этой причине я отказываюсь брать на себя ответственность.
* * *
Микаэлс склонился над картой.
— Ладно, Оуэнс, мы отнюдь не там, куда направлялись, но мы там будем. Вот здесь перед нами проход. Цельтесь в разрез.
— В легкие? — в полном недоумении спросил Оуэнс.
— Нет, нет, — Микаэлс нетерпеливо сорвался с места и вскарабкался по трапу; его голова показалась в пузыре командной рубки. — Мы направляемся к плевре. Включайте двигатель, и я поведу вас.
Кора опустилась на колени рядом с креслом Гранта.
— Как вам удалось справиться?
— Сам не знаю. Мне вообще доводилось довольно часто пугаться — поскольку я достаточно трусливая личность, но на этот раз я едва не побил рекорд по глубине и мощи страха.
— Почему вы все время пытаетесь изобразить из себя труса? Ведь ваша работа…
— Вы имеете в виду, что я агент. Большинство моих обязанностей достаточно рутинны, достаточно безопасны, а порой и просто глуповаты; во всяком случае, я их так воспринимаю. Когда мне не удается избежать опасных ситуаций, мне приходится справляться с ними во имя того, во что я верю. Понимаете, мне достаточно основательно промыли мозги, и я верю, что существует такая штука, как патриотизм… в некотором роде.
— В некотором роде?
— Как я его понимаю. Речь вдет не то что об одной стране или другой. Мы давно уже миновали бессмысленную стадию, когда все человечество делилось по национальным группам. Я искренне верю, что наша политика направлена на сохранение мира, и я хочу быть частью, пусть самой маленькой тех сил, которые оберегают мир. На это задание я не вызывался, но уж коль скоро я очутился здесь… — Он пожал плечами.
— У вас такой голос, — сказала Кора, — словно вы смущаетесь, говоря о мире и патриотизме.
— Пожалуй, что так, — признался Грант. — Всех нас привели сюда свои специфические интересы, а не пустые слова. Оуэнс испытывает судно. Микаэлс прокладывает курс в человеческом теле. Дюваль восхищается делом рук Божьих, а вы…
— Да?
— А вы восхищаетесь Дювалем, — мягко сказал Грант.
Кора вспыхнула.
— И можете быть уверены, он достоин восхищения. Понимаете, предложив подвести судно к стенке и направить луч прожектора в проем, чтобы облегчить вам путь, он больше ничего не сделал. Он не сказал вам ни слова после вашего возвращения. Это его образ действий. Он может спасти кому-нибудь жизнь, а потом так грубо обойтись с человеком, что в памяти того останется лишь его грубость, а не то, что доктор спас ему жизнь. Но никакие дурные манеры не могут изменить его внутренней сущности.
— Да. Это верно, хотя он умело скрывает ее.
— Да и ваша манера поведения не может скрыть вашей подлинной сущности. Вы пускаете в ход свой нахальный ехидный юмор лишь чтобы скрыть свои истинные человеческие чувства, которым вы глубоко преданы.
Настала очередь Гранта краснеть.
— Я чувствую себя полным идиотом.
— Может для самого себя. Во всяком случае вы не трус. А сейчас мне надо заняться лазером. — Она бросила быстрый взгляд на Микаэлса, который успел вернуться на свое место.
— Лазером? Силы Небесные, а я и забыл. Постарайтесь привести его в порядок, ладно?
Оживление, свойственное предыдущему разговору, покинуло Кору.
— Ох, если только смогу.
Она двинулась в кормовую часть судна. Микаэлс проводил ее взглядом.
— Что с лазером? — спросил он.
Грант покачал головой.
— Она хочет его проверить, пока есть время.
Микаэлс помедлил с очередным замечанием, слегка покачав головой. Грант наблюдал за ним, но не произносил ни слова.
Поерзав, Микаэлс устроился поудобнее в кресле и наконец спросил:
— Что вы думаете о нашей ситуации?
Грант, из головы которого не выходила Кора, посмотрел в иллюминатор. Они двигались вдоль двух параллельных стенок, которые, едва не касались бортов «Протеуса» с обеих сторон; ярко-желтого цвета, они состояли из плотно подогнанных друг к другу ребер, словно из свежесрубленных стволов огромных деревьев, составленных одно к одному.
Жидкость, в которой они находились, была почти прозрачна: в ней не было ни клеток, ни других телец и почти не было их остатков. Она, казалось, была совершенно спокойной, и «Протеус» скользил в ней легко и бесшумно, поскольку ровный гул броуновского движения почти не воспринимался на слух.
— Но вроде оно стало напористее, — прислушавшись к шороху, сказал Грант.
— Жидкость тут не такая вязкая, как плазма крови, в которой застревали удары молекул. Тем не менее, долго мы тут не пробудем.
— Насколько я понимаю, мы не в кровотоке.
— Неужели в этом можно сомневаться? Мы между складками плевральной мембраны, которая обтягивает легкие. С другой стороны мембрана прикреплена к ним. Нам попались на глаза огромные мягкие очертания одного из них, когда мы проплывали в районе ребра. Другая же мембрана плотно срослась с легкими. Если нужны наименования, то вот вам теменная плевра и легочная плевра соответственно.
— Названия мне в общем-то не нужны.
— В чем я не сомневался. И сейчас нас окружает некоторая смазка, которая смягчает межплевральное пространство. Когда легкие раздуваются при вдохе или опадают при выдохе, они соприкасаются с ребрами и эта жидкая субстанция смягчает соприкосновение. Плевра столь тонка, что практически касается мышечной ткани, но поскольку мы обладаем микроскопическими размерами, мы можем проскользнуть по слою жидкости, которая кроется в ее складках.
— А когда легкое коснется ребер, это не повредит нам?
— Мы в равной мере можем, прибавив ход, проскочить опасное место или сдать назад.
— Ну и ну! — сказал Грант. — И эти пленки имеют какое-то отношение к плевриту?
— Еще какое! Когда в плевру попадает инфекция и она воспаляется, каждый вздох становится мучительным испытанием, и кашель…
— Что случится, если Бенес кашлянет?
Микаэлс пожал плечами.
— В нашем положении это имело бы для нас фатальный характер. Нас бы разломало на куски. Тем не менее, нет никаких оснований предполагать, что он закашляет. Бенес в глубоком забытьи, под гипотермией, а его плевра — можете верить мне на слово — в прекрасном состоянии.
— Но если мы вызовем ее раздражение…
— Для этого мы слишком малы.
— Вы уверены?
— Говорить мы можем только в предположительном плане, но вероятность, что Бенес кашлянет, настолько мала, что о ней не стоит и беспокоиться. — Лицо его было совершенно спокойно.
— Понимаю, — сказал Грант, поворачиваясь и ища глазами Кору.
Они с Дювалем уединились в мастерской, где, тесно сблизив головы, стояли над верстаком.
Поднявшись, Грант направился к ним: Микаэлс следовал сзади.
На застекленном и подсвеченном снизу участке верстака лежали части разобранного лазера, поблескивая четкими резкими очертаниями конструкций и деталей.
— Из-за чего же он вышел из строя? — хрипло спросил Дюваль.
— Вот из-за этих деталей, доктор, которые давали начало процессу. Это все.
Дюваль задумчиво, словно пересчитывая, смотрел на разложенные детали, тонкими пальцами касаясь каждой из них.
— Значит, теперь исход зависит от каждого вышедшего из строя полупроводника. Без них не включить лампу накачки, то есть лазера практически не существует.
— И у вас нет запасных частей? — прервал его Грант.
Кора подняла на него глаза и сразу виновато отвела в сторону, встретив прямой жесткий взгляд Гранта.
— Эти детали были вмонтированы в корпус, и запасных быть не могло. Нам стоило бы взять с собой второй лазер, но кому могло прийти в голову… Если бы он не сорвался с креплений…
— Вы серьезно, доктор Дюваль? — с тревогой в голосе спросил Микаэлс. — Лазер вышел из строя?
В голосе Дюваля послышалась раздраженная нотка.
— Я всегда серьезен. А теперь не мешайте мне. — Он погрузился в размышления.
Микаэлс пожал плечами.
— Значит, так тому и быть. Мы прошли через сердце, мы заполнили цистерны сжатым воздухом из легких — и все впустую. Мы не можем выполнить задание.
— Почему? — спросил Грант.
— Конечно, в чисто физическом смысле слова — мы можем двигаться дальше. Просто в этом больше нет смысла, Грант. Без лазера мы ничего не сможем сделать.
— Доктор Дюваль, — спросил Грант, — есть ли какой-нибудь другой способ провести операцию?
— Над этим я и думаю, — фыркнул Дюваль.
— Так поделитесь своими мыслями! — рявкнул в ответ Грант.
Дюваль поднял на него глаза.
— Нет, без лазера такую операцию не провести.
— Но в течение столетий хирурги не прибегали к лазерам. Вы проникли сквозь стенку легкого с помощью своего ножа, и это было операцией. Не можете ли вы таким образом срезать и тромб?
— Конечно, могу — но под угрозой травмировать нервные пути и некоторые структуры мозга. Лазер куда более точный инструмент, чем нож. А в этом случае скальпель будет напоминать тесак мясника.
— Но пользуясь скальпелем, вы все же можете спасти жизнь Бенеса, не так ли?
— Думаю, что пожалуй так оно и есть. Тем не менее я не хочу без толку ломать голову. Почти с полной уверенностью я могу утверждать, что подобная операция может серьезно сказаться на состоянии умственных способностей Бенеса. Вы этого хотите?
Грант потер подбородок.
— Я скажу вам, чего я хочу. Мы двинемся по направлению к тромбу. Когда мы подойдем к нему, если в вашем распоряжении будет скальпель, вы пустите в ход скальпель, Дюваль. Если у вас не будет никаких режущих инструментов, вы пустите в ход свои зубы. Если вы откажетесь, это сделаю я. Мы можем потерпеть поражение, но мы не имеем права отступать. Кроме того, давайте взглянем…
Протиснувшись между Дювалем и Корой, он взял транзистор, который разместился на подушечке пальца.
— Вот этот и оказался сломанным?
— Да, — сказала Кора.
— Если бы его удалось заменить, смогли бы вы привести лазер в порядок?
— Да, но его ничем не заменить.
— Предположим, у вас был бы другой транзистор таких же параметров и с такой же мощностью выхода и достаточно тонкие провода. Смогли бы вы вмонтировать его?
— Сомневаюсь, чтобы мне это было под силу. Тут нужна исключительная точность.
— Скажем, вы не смогли бы. А вы, доктор Дюваль? Ваши пальцы хирурга смогли бы справиться с этой задачей, несмотря на помехи броуновского движения?
— С помощью мисс Петерсон я мог бы попытаться. Но у нас нет запасных частей.
— Есть, — сказал Грант. — Я их могу достать.
Он взял с верстака тяжелую металлическую отвертку и уверенно двинулся в передний салон, где без промедления стал снимать переднюю панель рации.
За спиной возник Микаэлс, схватив Гранта за локоть.
— Что вы делаете?
Грант стряхнул с себя его руку.
— Собираюсь залезть в эти кишки.
— Вы хотите сказать, что размонтируете рацию?
— Мне нужны транзистор и проводка.
— Но мы потеряем связь с внешним миром.
— Да?
— И когда придет время извлекать нас из Бенеса… Грант, послушайте…
— Нет, — нетерпеливо сказал Грант, — не так. Они вычислят нас по следу радиоактивного излучения. Рация предназначена всего лишь для пустых разговоров, и мы можем обойтись без нее. Точнее, должны. Выбор прост: или радиомолчание, или смерть Бенеса.
— Ну тогда вам лучше предварительно связаться с Картером и объяснить ему ситуацию.
Грант на секунду задумался.
— Хорошо, я вызову его. Но только, чтобы сообщить: переговоров больше не будет.
— А если он прикажет готовиться к возвращению?
— Я откажусь.
— Но если он прикажет вам…?
— Он может извлечь нас силой, но помогать ему я не буду. Пока мы на борту «Протеуса», у меня есть право принимать решения. Нам уже так досталось, что мы не имеем права отступать. Мы доберемся до тромба, что бы ни случилось и что бы ни приказал Картер.
* * *
— Повторите последнее сообщение! — гаркнул Картер.
— «ПРИШЛОСЬ РАСПОТРОШИТЬ РАЦИЮ, ЧТОБЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЛАЗЕР. ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ».
— Они прекращают связь, — тихо сказал Рейд.
— Что случилось с лазером? — спросил Картер.
— Меня можете не спрашивать.
Картер тяжело опустился на стул.
— Вы могли бы заказать кофе, Дон? Если бы я мог позволить себе расслабиться, я попросил бы двойной скотч с содовой, а потом еще две порции. Мы просто классические неудачники!
Рейд дал знак, чтобы принесли кофе.
— Может это саботаж? — предположил он.
— Саботаж?..
— Да, и не делайте невинные глаза, генерал. Вы с самого начала предвидели такую возможность — иначе зачем было посылать Гранта?
— После того, что случилось с Бенесом по пути сюда…
— Знаю. И ни к Дювалю, ни к девушке я не испытывал особого доверия.
— С ними все в порядке, — болезненно сморщившись, сказал Картер. — Без них было не обойтись. Все на борту пользуются полным доверием. Больший уровень безопасности обеспечить было просто невозможно.
— Совершенно верно. Но никакая система безопасности не может дать абсолютной гарантии.
— Все эти люди работают здесь.
— Только не Грант, — сказал Рейд.
— А?
— Грант здесь не работает. Он человек со стороны.
Картер выдавил гримасу улыбки.
— Он правительственный агент.
— Я знаю, — сказал Рейд. — Но и агент может вести двойную игру. Как только по вашему настоянию Грант поднялся на борт «Протеуса», началась цепь несчастий… или они лишь казались таковыми…
Появился кофе.
— Это смешно, — сказал Картер. — Я знаю этого человека. И не воспринимаю его как незнакомца.
— Когда вы в последний раз видели его? Что вы знаете о его личной жизни?
— Бросьте. Это невозможно. — Но, наливая сливки в кофе, Картер не мог скрыть растерянности.
— Ну, хорошо, — сказал Рейд. — Это всего лишь мысли вслух.
— Они по-прежнему в плевральной плоскости? — спросил Картер.
— Да!
Картер посмотрел на цифру 32 на таймере и в отчаянии покачал головой.
* * *
Перед Грантом лежала разобранная рация. Кора один за другим перебирала транзисторы, рассматривала их и взвешивала на руке.
— Вроде вот этот, — с сомнением в голосе сказала она, — должен подойти, но провод слишком толстый.
Дюваль положил проводок, о котором шла речь, и обрывок провода из лазера под лупу и сосредоточенно стал изучать их и сравнивать.
— Лучшего нет, — сказал Грант, — Вам придется иметь дело только с тем, что имеется у нас на борту.
— Легко сказать, — ответила Кора. — Вы можете приказать мне, но проводникам не прикажешь. Как бы на них ни орали, работать они не будут.
— Хорошо. Хорошо. — Грант старался что-то придумать, но ему ничего не приходило в голову.
— Хотя подождите, — сказал Дюваль. — Если повезет, я попробую срастить их. Мисс Петерсон, дайте мне скальпель номер одиннадцать.
Он растянул волосок из бывшего хозяйства Гранта (точнее, его рации) между двумя крохотными зажимами и поставил перед собой увеличительную лупу. Не глядя, он взял скальпель, который Кора уже держала наготове, медленно начал расчленять витую прядь металлических волосков.
Не поднимая головы, он сказал:
— Будьте любезны сесть, Грант. Вы ничем не поможете мне, сопя за плечом.
Грант было дернулся, но поймал умоляющий взгляд Коры. Промолчав, он отправился к своему месту.
Микаэлс встретил его мрачной ухмылкой.
— Хирург за работой, — сказал он. — Скальпель в руках, — и он целиком в своей стихии. Так что не трать впустую время и эмоции, гневаясь на него.
— Я и не злюсь, — возразил Грант.
— Конечно злитесь, — сказал Микаэлс, — потому что были готовы выложить мне, как вы относитесь ко всему роду человеческому. Дюваль обладает подлинным даром — от Бога, как бы он сказал — выводить людей из себя одним словом, взглядом, жестом. И если этого мало, учтите присутствие юной леди рядом.
Не скрывая раздражения, Грант повернулся к Микаэлсу.
— Причем ту юная леди?
— Да бросьте, Грант. Неужели вы хотите услышать лекцию о взаимоотношениях мальчиков и девочек?
Нахмурившись, Грант отвернулся.
— Вы же не знаете, как себя вести с ней, не так ли? — тихо и с легкой грустинкой в голосе сказал Микаэлс.
— Почему вы так считаете?
— Она милая девушка и очень симпатичная. А вам свойственна профессиональная подозрительность.
— Ну и?
— Ну и! А что произошло с лазером? Или это была случайность?
— Могло быть и так.
— Да, могло быть. — Микаэлс теперь говорил еле слышным шепотом. — Но было ли?
Бросив быстрый взгляд из-за плеча, Грант тоже перешел на шепот.
— Вы обвиняете мисс Петерсон в том, что она сознательно чинит препятствия нашему заданию?
— Я? Конечно, нет. У меня нет никаких доказательств. Но я предполагаю, что именно вы в глубине души обвиняете ее, чего бы вам делать очень не хотелось. Вот и причина затруднительного положения.
— Почему мисс Петерсон?
— А почему бы и нет? Никто бы не обратил на нее особого внимания, увидев, что она возится с лазером. Это ее хозяйство. И решись она на саботаж, она, естественно, осложнила бы ту часть задания, в которой чувствует себя как дома, — этап, связанный с лазером.
— В силу чего подозрения автоматически падают на нее — как на деле и происходит, — заводясь, сказал Грант.
— Вижу, что вы уже впадаете в гнев.
— Послушайте, мы находимся бок о бок в относительно тесном пространстве маленького судна, и можете считать, что за каждым из нас непрестанно наблюдают другие. Но это не так. Мы были настолько поглощены развертывающимся перед нами зрелищем, что любой из нас мог пройти в кладовую, сделать с лазером все, что угодно, и незамеченным вернуться. И вам, и мне это было бы под силу. Я не смотрел на вас. Вы не смотрели на меня.
— Или Дюваль?
— Или Дюваль. Я не исключаю и его. Или же это могло быть чистой случайностью.
— А ваш оборвавшийся спасательный конец? Тоже случайность?
— Вы готовы подозревать любого.
— Нет, мне бы этого не хотелось. Но я могу припомнить кое-что еще, если вы согласны меня выслушать.
— Большой охоты у меня нет, но все равно говорите.
— За вашим спасательным концом следил Дюваль.
— И скорее всего, как я предполагаю, плохо завязал узел, — сказал Грант. — Тем не менее, напряжение конца все время чувствовалось. Он в самом деле был натянут.
— Хирург должен уметь надежно завязывать узлы.
— Ерунда. Хирургические узлы не имеют ничего общего с морскими.
— Допустим. С другой стороны, может, узел сознательно был завязан так, чтобы со временем распуститься. Или же его распустила чья-то рука.
Грант кивнул.
— Хорошо. Но и опять — никто не обращал внимания на действия друг друга. И вы, и Дюваль, и мисс Петерсон могли быстро подплыть к судну, распустить узел и спокойно вернуться — никто бы ничего не заметил. Даже Оуэнс, как я прикидываю, мог бы с этой целью покинуть судно.
— Да, но самые лучшие шансы все же были у Дюваля. Как раз перед тем, как мы потеряли вас, он возвращался к судну, таща за собой шланг со шнорхелем. И он сказал, что видел, как соскочил спасательный конец. По его собственному признанию, он в нужное время оказался в нужном месте.
— И тем не менее, все это могло быть всего лишь несчастным случаем. Каков у него мог быть мотив? Лазер так и так уже был выведен из строя, и, сбросив конец, он всего лишь подвергал опасности лично меня. Если он хотел помешать заданию, зачем связываться со мной?
— Ох, Грант! Ох, Грант! — улыбаясь, Микаэлс покачал головой.
— Излагайте дальше. Но связно.
— Предположим, что позаботилась о лазере юная леди. И предположим, что интерес для Дюваля представляли именно вы; предположим, что он хотел избавиться от вас, чтобы более надежно обеспечить провал миссии.
Грант лишь безмолвно смотрел на собеседника.
Микаэлс продолжил.
— Дюваль, вполне возможно, не так уж поглощен своей работой, чтобы не заметить: его помощница не оставила без внимания ваше присутствие. Вы симпатичный молодой человек, Грант, и вы спасли ее от серьезных неприятностей, когда попали в воронку; может, вы даже спасли ей жизнь. Дюваль видел все это и должен был обратить внимание на ее реакцию.
— Никакой реакции не было. Она не проявляет ко мне ни малейшего интереса.
— А я вот видел ее, когда вы пропали среди альвеол. Она была просто вне себя. Тогда это стало ясно видно, но Дюваль вероятно заметил ее отношение к вам — я имею в виду, что вы ее привлекаете — куда раньше. По этой причине он и решил избавиться от вас.
Задумавшись, Грант закусил нижнюю губу, а потом сказал:
— Ну хорошо. А утечка воздуха? Разве это не было случайностью?
Микаэлс пожал плечами.
— Понятия не имею. Как я подозреваю, вы считаете, что ответственность падает на Оуэнса.
— Он мог. Он знает судно досконально. Он сам его сконструировал. Он полностью его контролирует. Но не кто иной как он заметил неисправность.
— Знаете, так и было. Это верно.
— И если уж продолжать, — с растущим гневом добавил Грант, — что вы скажете о той фистуле? Это тоже было случайностью или вы знали, что она там находится?
Микаэлс откинулся на спинку кресла и побледнел.
— Боже милостивый, об этом я и не подумал. Даю вам слово, Грант, сидя здесь, я и понятия не имел, что нас ждет, а ведь подозрения действительно падают на меня. Я понимаю, что в таком случае можно предположить, что это я сломал лазер или отпустил ваш спасательный конец, или открыл клапан цистерны с воздухом, когда никто не видел, или же сделал и одно, и другое, и третье. Но в каждом из случаев скорее всего можно предполагать, что он был делом рук другого человека. Вот о фистуле, признаю, не мог знать никто, кроме меня.
— Совершенно верно.
— Если не считать, конечно, что я не подозревал о ее существовании. Но ведь мне этого не доказать, не так ли?
— Угу.
— Вам доводилось читать детективные романы, Грант? — спросил Микаэлс.
— В молодости они мне попадались. А вот сейчас…
— Могу себе представить, что в силу профессии они вызывают у вас только улыбку. И вы знаете, как обычно все просто разрешается в детективных историях. В конце концов доказательства указывают на одного-единственного человека и детектив, оценив их, убеждается, что никто другой не мог совершить преступления. В подлинной же жизни, как мне кажется, доказательства могут указывать на кого угодно.
— Или ни на кого, — твердо сказал Грант. — На нас свалился целый ряд неприятностей и случайностей.
— Может и так, — согласился Микаэлс.
Тем не менее, ни у того, ни у другого в голосе не было особой уверенности… Они сами не верили своим словам.
Глава 14
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Из-под колпака командирского мостика прозвучал голос Оуэнса:
— Доктор Микаэлс, смотрите вперед. Есть ли там поворот?
Чувствовалось, что «Протеус» сбрасываетскорость.
Прямо перед ними был открытый конец туннеля. Кромки образующих его тонких стенок трепетали, сходясь практически на нет. Отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить лодку.
— Все точно, — сказал Микаэлс. — Держите курс прямо на него.
Кора отошла от верстака, чтобы в изумлении оглядеться, а Дюваль остался на месте, продолжая работать с бесконечным, ни на миг не ослабевающим терпением.
— Это должна быть лимфатическая система, — сказала она.
Они миновали проем, и их окружили стенки не толще, чем оболочка капилляров, которые они оставили позади.
Они были сложены из таких же многоугольников клеток, и в центре каждой из них было округлое ядро. Жидкость, в которой они плыли, очень напоминала жидкость в плевральной полости — она так же поблескивала желтоватыми искорками под лучом прожектора «Протеуса» и отбрасывала на стенки золотистые отблески. Только ядра были окрашены более интенсивно — почти оранжевые.
— Яйца всмятку без скорлупы, — сказал Грант. — Ну точно! — Затем он спохватился: — А что же все-таки такое — лимфатическая система?
— В некотором роде ее можно считать дополнительной системой кровообращения, — серьезно принялась объяснять Кора. — Жидкость, просачивающаяся из самых тонких капилляров, собирается в полостях тела, межклеточном пространстве. Она отсасывается по тонким сосудам лимфатической системы, открытых с одного конца, как вы только что видели. Они постепенно сливаются во все более и более крупные, пока самые большие не обретают размеры вен. И вся эта лимфа…
— То есть жидкость вокруг нас? — спросил Грант.
— Да. И вся эта лимфа собирается в самый крупный лимфатический сосуд, в специальный канал, который идет в подвздошную вену в верхней части грудной клетки…
— Почему нам пришлось использовать лимфатическую систему?
Убедившись, что судно следует предназначенным курсом, Микаэлс откинулся назад.
— Потому что, — вмешался он, — жидкость тут движется спокойно. Не сказывается пульсация сердца. Жидкость перемещается давлением мышечных волокон, а Бенес сейчас практически недвижим. Так что спокойное путешествие до мозга нам обеспечено.
— Почему же мы тогда с самого начала не двинулись по лимфатической системе?
— Большинство ее протоков слишком узко. В артерию сделать инъекцию и проще, и точнее; предполагалось, что артериальный поток крови доставит нас до цели за несколько минут. Но этого не произошло и, чтобы вернуться в систему артериального кровообращения, пришлось потратить чертовски много времени. Кроме того, судно получило такую трепку, которую может больше и не вынести.
Он положил перед собой новый набор карт и крикнул:
— Оуэнс, вы идете по участку карты 72-К?
— Да, доктор Микаэлс.
— Убедитесь, что вы следуете по проложенному мною курсу. По ходу его у нас будет минимальное количество отклонений.
— Что это там впереди? — спросил Грант.
Микаэлс поднял глаза и оцепенел.
— Стоп машина! — закричал он.
«Протеус» отчаянно завибрировал, пытаясь остановиться. Вдоль одной из стенок трубы, начавшей расширяться, пробиралась некая бесформенная угловатая масса молочного цвета, весь вид которой являл собой угрозу. Но пока они смотрели на нее, масса съежилась и исчезла.
— Двинулись дальше, — сказал Микаэлс и повернулся к Гранту. — Я испугался, что на нас может напасть белое кровяное тельце, но, к счастью, оно избрало себе другой путь. Некоторые белые кровяные тельца образуются в лимфатических узлах, которые представляют собой барьер против инфекции. Там образуются не только белые кровяные тельца, но и антитела.
— Что это такое — антитела?
— Белковые молекулы, которые обладают способностью, объединяясь, противостоять разным инородным телам, проникающим в тело: микробам, токсинам, чуждым белкам.
— И нам?
— При соответствующих обстоятельствах они могут противостоять и нам.
Неожиданно в разговор вмешалась Кора.
— Бактерии перехватываются в лимфатических узлах, которые служат полем битвы между ними и белыми кровяным тельцами. Тогда узлы воспаляются и становятся болезненными. Ну, вы знаете, случается, что у детей образуются припухлости под мышками и пор; челюстями.
— На деле это опухающие лимфатические узлы.
— Именно так.
— Похоже, что нам лучше бы держаться подальше от лимфатических узлов, — сказал Грант.
— Мы слишком малы, — сказал Микаэлс. — Система антител в организме Бенеса не в состоянии сейчас реагировать на нас, не говоря уже, что нам предстоит преодолеть только одну серию лимфатических узлов, после чего нас ждет спокойное плавание. Это всего лишь предположение, но в конце концов, все, что мы делаем, построено на удаче. Или, — с вызовом посмотрел он на Гранта, — вы собираетесь отдать мне приказ, чтобы мы убирались из лимфатической системы?
Грант покачал головой.
— Нет. Во всяком случае, пока кто-то не предложит лучшей альтернативы.
* * *
— Вот оно, — сказал Микаэлс, легко коснувшись плеча Гранта. — Видите?
— Эту тень впереди?
— Да. Это лимфатический канал, один из тех, что образуют узлы — жуткую массу пленок, мембран и проходов. Там полно лимфоцитов…
— А это еще что такое?
— Нечто вроде белых кровяных телец. Надеюсь, они нас не тронут. Любая бактерия в системе кровообращения рано или поздно попадает в лимфатический узел. Она не может избежать узких извилистых протоков лимфосистемы…
— А мы можем?
— Мы двигаемся своей волей по проложенному маршруту, имея в виду конечную цель, в то время, как бактерии поток несет вслепую. Надеюсь, вы сами увидите разницу между нами. Попав в лимфатический узел, бактерия становится объектом атаки антител, а если они не могут с «ей справиться, на поле битвы появляются белые кровяные тельца.
Тени приближались. Золотистое поблескивание лимфы обрело темный оттенок и затянулось дымкой. Впереди как будто вырастала стена.
— Вы держитесь на курсе, Оуэнс? — спросил Микаэлс.
— Пока да, но как бы не свернуть в сторону.
— Даже в этом случае помните, что в данный момент мы двигаемся строго кверху. Постоянно сверяйтесь с показаниями гравиметра и вы не ошибетесь.
«Протеус» резко развернулся и внезапно все приобрело серую окраску. Луч прожектора упирался в сплошную серую массу, имевшую кое-где чуть более светлые или темные оттенки. Навстречу им попадались какие-то небольшие стержни, короче и уже судна, гроздья непонятных сферических предметов с разлохмаченными очертаниями.
— Бактерии, — пробормотал Микаэлс. — Теперь у них столько деталей и подробностей, что трудно опознать, к какому они принадлежат виду. Ну не странно ли? Слишком много подробностей…
«Протеус» теперь двигался медленно и осторожно, почти застывая на месте, когда ему приходилось пробираться по бесчисленным коленам проходов.
Дюваль подошел к дверям мастерской.
— Что происходит? Я не могу работать в таких условиях, когда судно постоянно меняет курс. С меня хватает и броуновского движения.
— Прошу прощения, доктор, — холодно сказал Микаэлс. — Мы проходим лимфатический узел, так что с этим придется смириться.
Дюваль гневно повернул обратно.
Грант вглядывался вперед.
— Тут черт те что мелькает, доктор Микаэлс. Что это за штука, которая напоминает водоросли или что-то вроде них?
— Волокна, похоже, становятся все толще. И боюсь, скоро я не смогу маневрировать между ними, не причиняя им вреда.
Микаэлс задумался.
— Пусть вас это не беспокоит. Любая травма будет почти незаметна.
Клубки и сплетения волокон скользили вдоль корпуса «Протеуса» и исчезали за кормой. Но тут же снова и снова появились очередные сплетения.
— Все в порядке, Оуэнс, — бодрым голосом сказал Микаэлс, — любая плоть без труда залечит эти крохотные ранки.
— Меня не Бенес беспокоит, — крикнул в ответ Оуэнс. — а состояние судна. Если эта штука забьет дюзы, двигатель начнет перегреваться. Что тут же скажется на нашей скорости. Прислушайтесь: не изменился ли звук двигателя?
Грант не смог уловить никаких изменений, и его внимание снова обратилось к окружающему миру. Теперь нос судна раздвигал лес щупальцев и лиан. Их сплетения угрожающе покачивались в луче прожектора.
— Скоро мы выберемся отсюда, — сказал Микаэлс, но в голосе его скользнула нотка тревоги.
Хотя дорога стала посвободнее, теперь Грант на самом деле улавливал изменившийся звук двигателя, все усиливающуюся хрипотцу.
— Впереди тупик! — закричал Оуэнс.
Это было плотное беспорядочное скопление бактерий, которые облепили судно. Их масс скользила по выпуклостям иллюминаторов, оставляя на них маслянистые следы, которые медленно исчезали.
Скопление впереди не кончалось.
— Что происходит? — изумленно спросил Грант.
— Я думаю, — сказал Микаэлс, — я думаю, что мы явились свидетелями реакции антител на присутствие бактерий. Белых кровяных телец пока тут не видно. Гляньте! Присмотритесь к оболочкам стенок бактерий. В отражении миниатюризированного света это нелегко, но вы их видите?
— Нет, боюсь, что ничего не могу разобрать.
За их спинами раздался голос Дюваля.
— И я ничего не вижу.
— Вы срастили проводку, доктор? — повернулся к нему Грант.
— Еще нет, — ответил Дюваль. — Я не могу работать в таких условиях. Придется подождать. Что это за антитела?
— Поскольку вы пока не работаете, сказал Микаэлс, — давайте отключим внутреннее освещение. Оуэнс!
Свет в салоне погас, и теперь в него проникало только свечение снаружи, мрачные отблески которого бросали тени на их лица.
— Что там делается? — спросила Кора.
— Вот это я и пытаюсь выяснить, — сказал Микаэлс. — Посмотрите на очертания бактерий перед нами.
Грант прищурился, вглядываясь изо всех сил. Свет был мигающим и неверным.
— Вы имеете в виду эти небольшие объекты, смахивающие на гантели?
— Именно. Это белковые молекулы антител… Белковые молекулы, как вы знаете, столь велики, что в нашем состоянии мы можем разглядеть их невооруженным глазом. Смотрите! Смотрите!
Одно из небольших антител проплыло мимо иллюминатора. На близком расстоянии оно уже не напоминало гантели, а, скорее, небольшой клубок спагетти плавных круглых очертаний. Тонкие волоски, видимые только в упор, торчали тут и там.
— Чем они занимаются? — спросил Грант.
— У каждой бактерии своя конструкция оболочки, созданная специфическими группировками атомов, каждая из которых соединяется с другими своим путем. Для нас все оболочки кажутся гладкими бесформенными, без особых примет, нет, если бы не были еще меньше — скажем, не на бактериальном уровне, а на молекулярном — увидели бы, что каждая оболочка представляет собой мозаичный набор, разный у каждого вида бактерий. Антитела присоединяются к оболочке мозаик и когда они покрывают большую их часть, с бактериальной клоакой покончено — представьте себе, что человек затыкают рот и нос и он в конечном итоге задыхается.
— Мы видим их скопления, — возбужденно сказала Кора. — Как это… как потрясающе и ужасно!
— Вам жаль бактерию, Кора? — улыбаясь, спрос Микаэлс.
— Нет, но антитела действуют с такой жестокостью…
— Не наделяйте их человеческими эмоциями, сказал Микаэлс. — Они всего лишь молекулы, движимые вслепую. Силы внутриатомного притяжения притягивают их к соответствующим местам оболочки и держат там. Можно провести аналогию с магнитом, который притягивает к себе железный стержень Можете ли вы сказать, что магнит жестоко вел себя по отношению к железу?
Поняв наконец, на что надо смотреть, Грант нач разбираться, что происходит вокруг. Бактерии, которые вслепую пробирались сквозь скопище антител, казалось, притягивали их к себе. За несколько мгновений их стенки обрастали мохнатым скопищем антител, которые цеплялись к ним друг за другом, вытягивая ниточки своих спагетти.
— А некоторые ведут себя совершенно индифферентно, — сказал Грант. — Они даже не приближаются к бактериям.
— У этих антител есть своя специфика, — сказал Микаэлс. — Каждое из них предназначено к контакту с бактериями определенного вида или с определенными белковыми молекулами. В данный момент почти все антитела, но не все, атакуют окружающие нас бактерии. Присутствие бактерий определенного вида стимулирует быстрое появление соответствующих антител. Но что лежит в основе этой стимуляции, мы пока так и не знаем.
— Боже мой! — вскричал Дюваль. — Вы только посмотрите!
Одна из бактерий теперь была полностью облеплена антителами, которые заполнили все выемки на ее теле, так что ее очертания представляли собой мохнатый шевелящийся шар.
— Они отлично справляются с ней, — сказала Кора. — Словно для нее и предназначены.
— Не совсем так. Разве вы не видите, что на бактерию оказывают воздействие внутримолекулярные связи антител? Этого никогда не удавалось увидеть даже в электронный микроскоп, который показывал только неживые объекты.
Среди команды «Протеуса» воцарилось молчание, пока судно неторопливо пробиралось между бактериями. Покров из антител на них все утолщался, и бактерии теряли подвижность, переставали шевелиться. Антитела все плотнее сжимались на поверхности бактерий, пока, наконец, они не рассыпались на куски и не исчезали. Антитела стягивались воедино и, недавно еще выглядевшие как стерженьки, они сливались в бесформенные овалы.
— Они убивают бактерии. Они в буквальном смысле слова душат их до смерти, — с отвращением сказала Кора.
— Восхитительно, пробормотал Дюваль. — Какой потрясающий инструмент исследований мы имеем в лице «Протеуса».
— А вы уверены, что мы в безопасности от нападения антител? — спросил Грант.
— Похоже, что так, — ответил Микаэлс. — Мы не относимся к тем, на кого могут быть нацелены антитела.
— Вы в самом деле уверены? А мне вот кажется, что они могут напасть на любое тело, если их соответствующим образом простимулировать.
— Готов согласиться. И тем не менее, мы не возбуждаем их.
— Впереди еще масса волокон, доктор Микаэлс! — крикнул Оуэнс. — Они просто облепляют нас и мы потеряем скорость.
— Мы уже почти выбрались из лимфатического узла, Оуэнс.
Какая-то извивающаяся бактерия случайно столкнулась с судном, которое содрогнулось от удара, но бактерия тут же признала себя побежденной. Покачиваясь с борта на борт, «Протеус» продолжил свой путь среди волокон.
— Прямо вперед, — сказал Микаэлс. — Еще один поворот налево, и нас вынесет из лимфатической системы.
— Мы тащим за собой такую кучу волокон, — сказал Оуэнс, — что смахиваем на взъерошенного пса.
— Сколько нас ждет лимфатических узлов на пути к мозгу? — спросил Грант.
— Самое большое, три. От одного можем увернуться. Хотя не уверен.
— Мы не можем себе этого позволить. Мы потеряли слишком много времени. Мы не можем пробираться по всем трем, как через этот. Есть тут какой-нибудь… какой-то более короткий путь?
Микаэлс покачал головой.
— Нет. Разве что мы столкнемся с проблемами более сложными, чем те, что решаем… Конечно, мы можем пойти напрямую через лимфатические узлы. Волокна отбросит течением, и если мы не будем останавливаться, беспокоясь о здоровье бактерий, то сможем двигаться быстрее.
— И в следующий раз, — нахмурился Грант, — ввяжемся в драку с участием белых кровяных телец.
Дюваль склонился к карте Микаэлса и спросил:
— Где мы сейчас?
— Вот здесь, — ответил Микаэлс, внимательно приглядываясь к хирургу.
Задумавшись, Дюваль сказал:
— Пожалуй, мне пора собираться. Мы сейчас в районе шеи, не так ли?
— Да.
Грант подумал: «В шее? Там, откуда мы стартовали». Он глянул на таймер. На нем была цифра 28. Прошло больше половины времени, а они там, откуда начали свой путь.
— Мы можем избежать встречи с лимфатическими узлами и срезать путь, если повернем где-то здесь и пойдем прямо через внутреннее ухо. А от него до тромба рукой подать.
Микаэлс сморщил лоб и вздохнул.
— На схеме все выглядит неплохо. Один шаг — и вы дома в целости и сохранности. Но вы представляете себе, что значит пройти через внутренне ухо?
— Нет, — сказал Дюваль. — А что?
— Его аппарат, чего я не должен вам объяснять, доктор, предназначен для сбора и усиления звуковых волн. Мельчайший звук снаружи, повторяю, мельчайший, вызовет мощную вибрацию стенок внутреннего уха. И они могут оказаться смертельными для нас.
Дюваль задумался.
— Да, я понимаю.
— Внутреннее ухо всегда вибрирует? — спросил Грант.
— Разве что снаружи стоит полная тишина и нет никаких звуков выше порога слышимости. Но и в этом случае мы при наших размерах, скорее всего, уловим мельчайшие колебания.
— Хуже, чем броуновское движение?
— Может, и нет.
— Звук приходит извне, не так ли? — спросил Грант. — Если мы двинемся через внутреннее ухо, гул корабельных двигателей или звуки наших голосов не скажутся на нас?
— Я уверен, что не скажутся. Внутреннее ухо не предназначено к восприятию производимых нами звуков.
— В таком случае, если персонал в операционном зале будет хранить полное молчание…
— Как мы дадим им знать об этом? — спросил Микаэлс и буквально взорвался возмущением: — Это вы уничтожили рацию, так что мы не можем ни с кем связаться!
— Но они могу проследить наше движение. Они поймут, что мы направились во внутреннее ухо. И поймут, что должны соблюдать полное молчание.
— Неужто?
— Вы в них сомневаетесь? — нетерпеливо спросил Грант. — Большинство из них врачи. Они поймут, что происходит.
— То есть вы хотите воспользоваться этой возможностью?
Грант повернулся.
— Что вы все думаете по этому поводу?
— Я пройду по любому маршруту, но не я его прокладываю, — сказал Оуэнс.
Дюваль проворчал:
— Я сомневаюсь.
— А я нет, — сказал Микаэлс. — Я против. Грант быстро глянул на Кору, которая молча
сидела в сторонке.
— Хорошо, — сказал он. — Ответственность я беру на себя. Идем через внутренне ухо. Прокладывайте курс, Микаэлс.
— Послушайте… — начал тот.
— Решение принято, Микаэлс. Прокладывайте курс.
Вспыхнув, Микаэлс пожал плечами.
— Оуэнс, — холодно сказал он. — Нам придется повернуть налево в точке, которую я сейчас вам укажу…
Глава 15
УХО
Картер рассеянно поднял к губам чашку с кофе. Капля жидкости упала ему на штанину. Он не обратил на нее внимания.
— Что вы имеете в виду, говоря, что они меняют курс?
— Могу предположить, что с их точки зрения, они потратили слишком много времени в лимфатическом узле и решили больше не проходить через них.
— Ясно. Куда в таком случае, они направляются?
— Не уверен, но похоже, что они проложили курс через внутренне ухо. И сомневаюсь, стоило ли это делать.
Картер поставил чашку и отодвинул ее в сторону. Он так и не донес ее до рта.
— А почему бы и нет? — Он бросил беглый взгляд на таймер. На нем светилась цифра 27.
— Их могут ждать трудности. И нам придется соблюдать полную тишину.
— Почему?
— Неужели вы сами не понимаете, Ал? Ухо реагирует на звуки. Барабанная перепонка вибрирует, как и улитка в ухе. И если «Протеус» будет находиться поблизости от нее, вибрации могут привести к его разрушению.
Картер наклонился в кресле, не спуская глаз со спокойного лица Рейда.
— Почему же, в таком случае, они избрали этот путь?
— По моему мнению, потому, что считают его самым коротким, который может быстро вывести их к цели. Или, с другой стороны, они просто спятили. У нас нет возможности связаться с ними после того, как они разобрали рацию.
— Они уже там? — спросил Картер. — То есть, во внутреннем ухе?
Щелкнув тумблером, Рейд быстро задал вопрос и повернулся.
— Почти.
— Понимает ли персонал в операционной необходимость соблюдения абсолютной тишины?
— Думаю, что да.
— Вы думаете… Ну, и что их ждет?
— Долго они там не пробудут.
— Или наоборот. Итак, скажите всем внизу… Нет. Слишком поздно. Дайте-ка мне лист бумаги и позовите кого-нибудь. Любого. Кого угодно.
Вооруженный охранник, войдя, отдал честь и открыл было рот.
— Ох, да заткнись, — устало сказал Картер, не утруждая себя ответным приветствием. Он писал на листе бумаги большими квадратными буквами: «ВНИМАНИЕ! ПОКА «ПРОТЕУС» НАХОДИТСЯ ВО ВНУТРЕННЕМ УХЕ, ВСЕМ СОБЛЮДАТЬ АБСОЛЮТНУЮ ТИШИНУ!»
— Возьмите это, — сказал он охраннику. — Спуститесь вниз в операционную и покажите всем и каждому. Убедитесь, чтобы все прочитали. Если вы хоть пикнете, я лично убью вас. Скажете хоть слово, выпотрошу. Ясно?
— Да, сэр, — со смущенным и обеспокоенным видом сказал охранник.
— Вперед. И быстро… Кстати, снимите обувь.
— Сэр?
— Снимите ее. И двигаться на цыпочках.
Считая секунды, они сверху наблюдали, как охранник в носках вошел в операционную. Он поочередно обошел всех врачей и медсестер, держа в поднятых руках бумагу и тыкая пальцем в сторону контрольной рубки. Все отвечали мрачными кивками. Никто не проронил ни слова. Казалось, что всех охватил общий паралич.
— Вроде все поняли, — сказал Рейд. — И без объяснений.
— За что я им и благодарен, — с силой сказал Картер. — Вы же дайте знать ребятам на контроле: никаких зуммеров, никаких звонков, гонгов — ничего! Пусть даже огоньки не мигают. Я не хочу, чтобы кто-то, изумившись, хрюкнул.
— Им осталось идти всего несколько секунд.
— Может быть, — сказал Картер. — А может, и нет. Остается только надеяться.
Рейду тоже не оставалось ничего другого.
* * *
Теперь «Протеус». со всех сторон окружало обширное пространство, заполненное прозрачной жидкостью. Кроме нескольких антител, высвечивающихся тут и там в луче прожектора, по пути ничего не было видно, не считая отблесков прожектора судна, прокладывавшего себе путь в желтоватой лимфе.
Низкий гул почти на пороге слышимости заставил судно задребезжать, словно под днищем у него оказалась стиральная доска. Снова. И еще раз.
— Оуэнс! — крикнул Микаэлс. — Вы можете отключить свет в салоне?
Светильники погасли, вся обстановка обрела четкие очертания.
— Понимаете? — спросил Микаэлс.
Все приникли к иллюминаторам, но Грант не понимал, на что надо обращать внимание.
— Мы в проходах улитки, — объяснил Микаэлс. — Внутри тоненькой спиральной трубочки во внутреннем ухе, которая и позволяет человеку слышать. Она доносит до Бенеса звуковые волны, вибрируя с разной частотой в зависимости от силы звука. Понимаете?
Теперь Грант все увидел. В жидкости мимо него проплывали какие-то огромные плоские тени.
— Это следы звуковых волн, — сказал Микаэлс.
— Во всяком случае, нечто вроде них. Волна сжатия, которую мы умудрились вызвать своим миниатюризованным светом.
— Это значит, что кто-то снаружи разговаривает?
— спросила Кора.
— О, нет! Заговори там кто-нибудь или издай любой звук, нас так бы тряхнуло, что все прочие встряски показались бы нам детскими играми. Ведь улитка воспринимает звуки даже при абсолютной тишине: далекий гул биения сердца, шорох крови, прокладывающей себе путь через вены и артерии в окрестностях уха и так далее. Разве вы никогда не прикладывали ухо к раковине, в которой как бы шумит гул морского прибоя? На самом деле вы слушали звук вашего собственного океана, движение вашей собственной крови.
— Они могут представлять для нас опасность? — спросил Грант.
Микаэлс пожал плечами.
— Хуже быть не должно… если никто не заговорит.
Дюваль, который, вернувшись в мастерскую, возобновил работу, спросил оттуда:
— Почему мы замедляем ход? Оуэнс!
— Что-то случилось, — ответил Оуэнс. — Двигатель захлебывается и я даже не понимаю, в чем дело.
Стало нарастать ощущение, что они оказались в падающем лифте, по мере того, как «Протеус» скользил все дальше по извилинам улитки.
Снизу из-под днища послышался легкий скрежет, и Дюваль положил скальпель.
— А теперь что?
— Двигатель перегрелся, — встревоженно сказал Оуэнс, — и мне пришлось заглушить его. Я думаю…
— Что?
— Должно быть, это те волокна. Те проклятые водоросли. Наверное, они забили выходной клапан. Ничего иного предположить я не могу.
— Можете ли вы как-то вытолкнуть их? — сдерживая напряжение, спросил Грант.
Оуэнс покачал головой.
— Нет ни малейшей возможности. Их засосало внутрь.
— В таком случае, значит, остается только одно, — сказал Грант. — Выход надо прочистить с внешней стороны, и придется облачаться в комбинезон и выходить за борт. — Нахмурившись, он принялся готовить снаряжение.
Кора встревоженно смотрела в иллюминатор.
— Там всюду антитела, — сказала она.
— Их немного, — коротко ответил Грант.
— Но если они нападут на вас?
— Сомнительно, — попытался внести нотку спокойствия Микаэлс. — Они не должны реагировать на формы человеческого тела. И пока не повреждены окружающие ткани, антитела, скорее всего, будут оставаться пассивными.
— Посмотрим, — сказал Грант, но Кора покачала головой.
Дюваль, который вполуха прислушивался к разговору, внимательно уставился на проводок, который готовился срастить, и принялся старательно накладывать витки.
Миновав шлюз, Грант мягко опустился на эластичную поверхность стенки улитки и озабоченно посмотрел на судно: некогда блестящий гладкий | металл его поверхности ныне был во вмятинах и ссадинах.
Взмахнув ластами, он поплыл к корме субмарины. Оуэнс оказался совершенно прав. Засасывающий клапан был забит волокнами.
Грант набрал их полные горсти и рванул. Они поддавались с трудом, многие рвались у решетки фильтра.
В маленьком наушнике послышался голос Микаэлса.
— Как дела?
— Довольно паршиво, — сказал Грант.
— Сколько времени вы там провозитесь? На таймере — 26.
— Еще немного я тут поболтаюсь. — Гран отчаянно тянул переплетение волокон, но вязкость лимфы мешала его движениям и упругие пряди сопротивлялись рывку.
Поднявшись, Кора встревоженно осведомилась:
— Может, кому-то из нас стоит помочь ему?
— Ну что ж… — задумчиво сказал Микаэлс.
— Я пошла! — Она стала натягивать комбинезон.
— Хорошо, — согласился Микаэлс. — Я тоже. Оуэнсу лучше оставаться на штурвале.
— Думаю, что и мне лучше остаться на месте, — сказал Дюваль. — Я почти закончил.
— Конечно, доктор Дюваль, — поддержала его Кора, прилаживая к лицу маску.
Но положение дел практически не улучшилось, когда они втроем оказались у среза кормы: все отчаянно тянули и рвали волокна и, распутывая, пускали по течению, которое медленно уносило их. Начал поблескивать металл решетки и Грант решительно затолкал в клапан несколько оборванных кусков.
— Втащить их я не могу, но остается надеяться, что они не причинят особых хлопот. Оуэнс, а что, если несколько прядей затянет внутрь?
Голос Оуэнса в его ухе сказал:
Они обуглятся и сгорят. Придется основательно чистить двигатель, когда мы выберемся.
— Когда мы выберемся, можете хоть вылизывать свою лодку. — Грант продолжал вытягивать те волокна, которые поддавались его усилиям и заталкивать внутрь самые упрямые. Кора и Микаэлс занимались тем же самым.
— Справились, — сказала Кора.
— Но мы провели в улитке больше времени, — сказал Микаэлс, — чем предполагалось. И в любую секунду какой-нибудь звук…
— Заткнитесь, — с раздражением сказал Грант, — и работайте.
* * *
Картер с трудом удержал себя от желания вцепиться в волосы.
— Нет, нет, нет, НЕТ! — застонал он. — Они снова остановились.
Он ткнул пальцем в текст, написанный на листе бумаги, который появился на одном из телевизионных экранов.
— По крайней мере, техник помнит, что не имеет права разговаривать, — сказал Рейд. — В чем, по вашему мнению, причина остановки?
— Откуда, черт побери, мне знать? Может, они остановились попить кофе. Может, принимают солнечные ванны. Может, девушка…
Он прервал себя.
— Словом, не понимаю. И знаю только, что у нас осталось всего двадцать четыре минуты.
— Чем больше они будут оставаться во внутреннем ухе, тем больше шансов, что какой-то дурак издаст звук… например, чихнет.
— Вы правы, — согласился Картер и затем тихо добавил: — Силы Небесные! Есть же самое простое решение, которое мы упустили из виду. Дайте-ка сюда посыльного.
Снова появился охранник. На этот раз он не рапортовал о своем прибытии.
— Вы все еще без обуви? — спросил Картер. —
Отлично. Возьмите вот это, спускайтесь и покажите медсестре. Помните мое обещание выпотрошить вас?
— Да, сэр.
Текст гласил: «ЗАТКНИТЕ ТАМПОНАМИ УШИ БЕНЕСА».
Закурив сигару, Картер проводил глазами охранника, который, спустившись, помедлил несколько секунд, а потом быстрыми бесшумными шагами подошел к одной из медсестер.
Улыбнувшись, она подняла глаза на Картера и показала ему знак одобрения из сложенных в колечко большого и указательного пальцев.
— Я должен был догадаться раньше, — сказал Картер.
— Тампоны приглушат звуки — но не полностью.
— На безрыбье и рак рыба, — пробормотал Картер.
Медсестра скинула легкие тапочки и скользнула к одному из столов. Осторожно открыв бокс со стерилизованной марлей, она отмотала от нее два фута.
Зажав ленту в кулаке, она попыталась оторвать марлю, но с первого раза ничего не получилось. Она рванула посильнее и рука скользнула в сторону, задев лежащие на столе ножницы.
Они упали, стукнувшись о жесткий плиточный пол. Медсестра тщетно попыталась подставить под них ногу, но не успела, и инструмент, соприкоснувшись с полом, издал резкий сухой металлический звук.
Лицо медсестры залилось краской смертельного ужаса; все остальные повернулись в ее сторону, а Картер, бросив сигару, рухнул в кресло.
— Все кончено, — сказал он.
* * *
Оуэнс дал двигателю обороты и осторожно проверил систему управления. Показатель уровня температуры, который к моменту входа в улитку подошел почти к самой опасной черте, решительно опускался к норме.
— Похоже, что все в порядке, — сказал он. — Вы там закончили снаружи?
Он услышал голос Гранта.
— Почти ничего не осталось. Готовьтесь. Мы поднимаемся на борт.
И в этот момент окружающий мир взорвался. Словно могучий кулак ударил по «Протеусу», которого подкинуло мощным рывком. Пытаясь удержаться на ногах, Оуэнс ухватил за панель и повис на ней, слыша отдаленные раскаты грома.
Внизу Дюваль столь же отчаянно пытался уберечь лазер от ударов взбесившегося мира.
Грант почувствовал, что его подкинуло высоко в воздух, как от удара огромной приливной волны. Несколько раз перевернувшись через голову, он врезался в стенку улитки, которая поддалась под его ударом, и сполз по ней.
Каким-то участком мозга, чудом сохранившим способность соображать, Грант понял, что стенка улитки мгновенным микроскопическим сокращением отреагировала на какой-то резкий звук извне, но эта мысль была тут же погребена шоком.
Грант тщетно пытался найти «Протеус», и заметил лишь отдаленный отблеск корпуса субмарины, отброшенной ударом к дальней стенке.
Кора уже держалась за поручень, приваренный к корпусу «Протеуса», когда тот содрогнулся. Инстинктивно она вцепилась в него, оказавшись верхом на «Протеусе», как наездник на взбесившемся мустанге. У нее перехватило дыхание и, когда она разжала пальцы, то ее бросило на мембрану, на которой покоился «Протеус».
Луч прожектора упал на провод перед ней и хотя она, охваченная ужасом, пыталась как-то притормозить падение, все было бесполезно. С таким же успехом она могла пытаться притормозить пятками падение по крутому склону.
Она понимала, что летит вперед в центр слухового аппарата, стенки которого были усеяны волосками — всего их было не меньше четырнадцати тысяч. Несколько из них она успела рассмотреть: каждая из них завершалась тонкими микроскопическими ресничками. Часть из них мягко колыхалась, отвечая на интенсивность звуковых волн, проникших во внутреннее ухо, где им предстояло усилиться.
Тем не менее, даже в этом отчаянном положении она припомнила несколько фраз из курса физиологии, который слушала в том далеком мире нормальных размеров. Она увидела перед собой глубокий провал, а в нем — ряд высоких стройных колонн, величественно колыхавшихся из стороны в сторону — не в унисон, а сначала одна, потом другая, словно отвечая на воздействие бегущей волны.
Скользя и кувыркаясь, Кора продолжала падать в пропасть вибрирующих колонн и стенок. Луч нашлемного фонарика беспорядочно выхватывал из темноты участки поверхности, куда она летела, кувыркаясь. Она за что-то зацепилась ремнями акваланга и ее резко швырнуло в твердую эластичную поверхность. Повиснув вниз головой, она боялась пошевелиться, чтобы не потерять неожиданной поддержки, расставшись с которой ей предстояло бы лететь еще дальше.
Она повисла у подножия остановившей ее колонны, в то время как реснички на волосках продолжали величественно покачиваться.
Наконец ей удалось перевести дыхание и она услышала собственное имя. Кто-то звал ее. Она с трудом издала болезненный стон. Звук собственного голоса придал ей силы и она закричала из всех сил:
— На помощь! Кто-нибудь! На помощь!
* * *
Первое потрясение прошло, и Оуэнсу удалось восстановить контроль над «Протеусом», которого еще продолжало кидать в турбулентных завихрениях. Звук, какова бы ни была его интенсивность, все же был резким и коротким; он тут же исчез. Только это и спасло их. Продлись он еще хоть долю секунды…
Дюваль, успевший сунуть лазер подмышку, сидел, прижимаясь спиной к переборке и изо всех сил упираясь ногами в скамейку напротив. Он крикнул:
— Все чисто?
— Думаю, что мы устояли, — выдохнул Оуэнс. — Управление сохранилось.
— Нам бы лучше уходить отсюда.
— Надо принять на борт остальных.
— Ах, да, — сказал Дюваль, — Я и забыл. — Он осторожно попытался приподняться, опираясь на одну руку и затем медленно поднялся на ноги, не выпуская из другой лазера.
— Зовите их.
— Иду, — откликнулся на зов Микаэлс. — Кажется, я остался в целом виде.
— Подождите, — раздался голос Гранта. — Я не вижу Коры.
«Протеус» теперь стоял на ровном киле и Грант, тяжело дыша и преодолевая сотрясающую его внутреннюю дрожь, быстро плыл на луч прожектора.
— Кора! — крикнул он.
Он услышал ее вопль:
— На помощь! Кто-нибудь! На помощь!
Грант стал озираться, пытаясь понять, откуда идет призыв о помощи.
— Кора! — отчаянно крикнул он. — Где вы?
Ее голос в ухе сказал:
— Не могу точно определить. Я застряла между волосками.
— Где вы, Микаэлс, подскажите, где они расположены?
Грант увидел, как к судну с другой стороны приближается Микаэлс, очертания фигуры которого расплывались тенью в лимфе, а маленький фонарик на шлеме бросал тоненький луч света перед собой.
— Дайте-ка мне привести себя в порядок, — отдуваясь сказал Микаэлс. Сделав еще один быстрый взмах ластами, он крикнул:
— Оуэнс, проведите корабельным прожектором по широкой дуге.
В ответ луч дрогнул и Микаэлс сказал:
— Вот в эту сторону, Оуэнс. Следуйте моим указаниям. Нам нужен весь свет.
Последовав за быстрым движением руки Микаэлса, Грант увидел перед собой провал и высящиеся в нем колонны.
— Там? — нерешительно спросил он.
— Должно быть, — ответил Микаэлс.
Теперь они висели на краю обрыва и луч света с судна за их спиной падал в провал, заполненный колоннами, которые продолжали слабо покачиваться.
— Я ее не вижу, — сказал Микаэлс.
— А я вижу, — вытягивая руку, сказал Грант. — Не она ли вон там? Кора! Я вижу вас. Махните рукой, чтобы я смог убедиться.
Она махнула.
— Отлично. Я иду к вам. Не успеете и глазом моргнуть, как мы вытащим вас.
Застывшая в ожидании Кора почувствовала прикосновение к коленям, которое было еле ощутимым, словно ее коснулось крыло бабочки… Она опустила глаза, но ничего не увидела.
Прикосновение теперь скользнуло по плечу, затем она почувствовала еще одно.
И тут она внезапно увидела их — несколько маленьких образований, напоминающих мотки шерсти, с растопыренными трепещущими ресничками. Белковые молекулы антител…
Похоже было, что они осторожно обследуют поверхность ее тела, исследуют ее самое, прикидывая, насколько безопасно ее присутствие. Пока рядом с ней было лишь несколько антител, но из-за колонн уже подплывали другие.
В ярком свете луча прожектора «Протеуса», бившего вниз, она ясно различала их. Каждая ресничка поблескивала как солнечный лучик, изогнувшийся вопросительным знаком.
— Быстрее! — закричала она. — Тут вокруг антитела. — В мыслях у нее стояла картина, как антитела облепляли бактерии и душили их.
Одна молекула коснулось ее локтя и прилепилась к нему. С отвращением и ужасом она встряхнула рукой, дернувшись всем телом и ударившись о колонну. Но антитело не ослабило хватки. Еще одно пристроилось рядом и расположившись бок о бок, они вытянули реснички.
* * *
— Антитела, — пробормотал Грант.
— Должно быть, она как-то травмировала окружающие ткани, — сказал Микаэлс, — что и вызвало их появление.
— Они могут что-то ей сделать?
— Не сразу. Они еще не реагируют на нее. Нет антител, которые приспособлены к восприятию ее форм. Но не исключено, что какие-то из них смогут приспособиться к ней, а потом появятся и другие. Тогда они и примутся за нее.
Грант уже видел, как вокруг Коры клубится все сгущающийся рой, напоминающий облако мошкары на свету.
— Микаэлс, — приказал он, — возвращайтесь на лодку. Мы не можем рисковать больше, чем одним человеком. Я постараюсь ее оттуда вытащить. Если не удастся, то вас троих хватит, чтобы справиться с судном и сделать все остальное. Мы не можем позволить, чтобы деминиатюризация началась тут — что бы ни случилось.
Помедлив, Микаэлс сказал:
— Осторожнее, — и, повернувшись, поплыл к судну.
Грант продолжал спускаться к Коре. Завихрения жидкости при его приближении заставили антитела кружиться и танцевать в струях лимфы.
— Давайте-ка выбираться отсюда, Кора, — выдохнул он.
— Ох, Грант, быстрее.
Он с силой потянул ее кислородный баллон, вентиль и ремни которого зацепились за колонну.
Толстые пряди какой-то липкой плоти, вывалившиеся из разрыва скорее всего и привлекли внимание антител.
— Не двигайтесь, Кора. Дайте-ка мне… ага! — Лодыжку Коры защемило, и он освободил ее. — А теперь за мной.
Сделав сальто, они двинулись в путь. На теле Коры еще виднелись кучки прилепившихся антител, но основная их масса осталась позади. Следуя за волной того, что в «большом» мире воспринималось как «запах», они продолжали тянуться за ними: сначала лишь несколько, потом антител стало больше и скопление их продолжало расти.
— Мы не сможем пробиться сквозь них, — преодолевая спазмы в горле, сказала Кора.
— Еще как пробьемся, — ответил Грант. — Напрягите все мышцы, что у вас есть.
— Но они все равно тянутся к нам. Я боюсь, Грант.
Грант глянул из-за плеча и приблизился к ней. Почти вся спина у Коры была залеплена шерстяными клубками. Они освоились на поверхности комбинезона, по крайней мере, часть из них.
Он торопливо провел рукой по спине комбинезона Коры, но антитела крепко держались на нем, распластываясь при прикосновении и тут же восстанавливая прежнюю форму. Несколько же из них начали «пробовать на вкус» и тело Гранта.
— Быстрее, Кора!
— Но я не могу…
— Можете! Держитесь за меня, ясно?
И они рванулись наверх, где на краю провала их ждал «Протеус».
* * *
Дюваль помог Микаэлсу вывалиться из шлюза.
— Что там случилось?
Сняв шлем, Микаэлс с трудом перевел дыхание.
— Мисс Петерсон попала в ловушку среди клеток Гензена. Грант попытался ее спасти, но вокруг нее уже клубились антитела.
У Дюваля расширились глаза:
— Что мы можем сделать?
— Не знаю. Может ему удастся дотащить ее. В противном случае нам придется двигаться дальше без них.
— Но мы не можем оставить их там, — сказал Оуэнс.
— Конечно, нет, — подтвердил Дюваль. — Нам придется выйти из судна, всем троим и… — Внезапно его голос охрип. — Почему вы вернулись, Микаэлс? Почему вы не остались снаружи?
Микаэлс враждебно посмотрел на Дюваля.
— Потому что там от меня все равно не было никакого толка. У меня нет ни мышц Гранта, ни его рефлексов. Я бы только путался у него под ногами. Если вы хотите помочь, можете сами отправляться.
— Мы должны доставить их на борт, твердо сказал
Оуэнс, — живыми или… в любом случае. Через четверть часа начнется деминиатюризация.
— Ладно! — гаркнул Дюваль. — Я натягиваю комбинезон и отправляюсь на помощь!
— Подождите, — сказал Оуэнс. — Они возвращаются. Освободите шлюз.
Пальцы Гранта вцепились в штурвал на обшивке судна, над которым горел красный сигнал. Дожидаясь зеленого, он продолжал отрывать антитела от спины Коры: перехватывая их шерстистые образования большим и указательным пальцем, он чувствовал их мягкую упругость и жесткий стебелек, который и удерживал их на месте.
«Пептидные цепочки», — припомнил он.
У него в памяти всплыли смутные воспоминания из курса колледжа. В свое время ему пришлось писать полную формулу химической части пептидных цепочек — и вот ему приходится иметь с ними дело в реальности. Будь у него под рукой микроскоп, смог бы он разглядеть отдельные атомы? Нет. Микаэлс сказал, что это невозможно.
Он оторвал комок антитела. Оказавшись в пустоте, оно еще продолжало сохранять жесткость. За ним потянулась цепочка приклеившихся к нему молекул. Целая нитка их оставила тело Коры, и Грант решительно отшвырнул ее в сторону. Не расцепившись, они, покачиваясь, поплыли обратно, ища место, куда бы они могли снова приклеиться.
У них не было мозгов, даже самых примитивных, и ошибочным было бы воспринимать их как чудовищ, хищников или хотя бы фруктовую тлю. Они были просто молекулами, состоящими из атомов, организованных таким образом, чтобы закрепляться на любой поверхности, к которой их тянули слепые силы. Из далеких глубин памяти у Гранта всплыло выражение «силы Ван дер Ваалса». И ничего больше.
Он продолжал обдирать шерстяное покрытие со спины Коры.
— Они приближаются, Грант, — закричала Кора. — Поднимайтесь в люк!
Грант оглянулся. Чувствуя присутствие людей, антитела собирались вокруг них. Цепочки и звенья густым роем поднимались из провала и, как слепые кобры, тянулись к ним.
— Нам придется пока подождать… — сказал Грант. Огонек сменился на зеленый. — Все в порядке. Ну-ка! — он с силой стал вращать кремальеру, открывая доступ к судовому шлюзу.
Антитела густым роем кружились вокруг него, но основное их внимание привлекала Кора. Ибо первым дело они стали приспосабливаться к ней и теперь без промедления нацеливались на нее. Сцепляясь и сливаясь, они кружились у нее над плечами, шерстистым покровом залепляя комбинезон. Они медлили перед выпуклостью ее груди, словно бы присматриваясь, с чем они столкнулись.
У Гранта не было времени помочь Коре в ее тщетной борьбе с антителами. Откинув крышку люка, он пропихнул в него Кору вместе со всеми антителами и последовал за ней.
Он с силой захлопнул крышку люка, куда старались проникнуть антитела. Несколько мгновений крышка уперлась в эластичную массу, но острые кромки ее наконец отрезали сотни гибких щупальцев. Грант еще раз с силой надавил на крышку, преодолевая упругость сопротивления и стал теребить вентиль задрайки. С дюжину маленьких шерстяных мотков, выглядевших такими безобидными и даже забавными, когда встречались по одиночке, слабо дергались, уступая нажатию крышки, входившей в проем. Но снизу их подпирали сотни других. Давление воздуха вытеснило жидкость из шлюзового колодца и они услышали шипение, от которого у них заложило уши. Грант занялся обдиранием с себя антител. Несколько примостились у него на груди, но теперь это не имело значения. Вся область диафрагмы на комбинезоне Коры была покрыта ими, как и ее спина. Антитела плотным покровом опоясывали ее тело от груди до бедер.
— Они усиливают давление, Грант, — сказала она.
Через стекло маски он видел мучительную гримасу
на ее лице и слышал, с каким усилием она выталкивает из себя слова.
Вода стремительно уходила из шлюза, но они уже не могли ждать. Грант заколотил во внутреннюю дверь шлюза.
— Я… я… не могу… ды… — простонала Кора.
Дверь раскрылась и остаток жидкости хлынул во внутренние помещения судна. Дюваль успел поймать Кору на руки и вынести ее. Грант последовал за ней.
— Боже милостивый, сказал Оуэнс, — вы только посмотрите на них.
С отвращением, едва сдерживая рвотные спазмы, он стал отрывать антитела, чем занимался и Грант.
Щупальца отрывались одно за другим. Грант хмыкнул:
— Теперь-то легко. Просто счищайте их.
Все принялись за дело. Комки антител шлепались в жидкость, примерно на дюйм покрывавшую палубу, и слабо шевелились.
— Они приспособлены к существованию во влаге внутренних полостей человеческого тела. Как только они соприкасаются с воздухом, сразу же меняется характер молекулярного притяжения…
— Когда мы их отдираем, Кора…
Кора судорожно, со всхлипом вздохнула. Дюваль осторожно снял с нее шлем, но, разразившись слезами, она упала на руки Гранта.
— Я так перепугалась, — всхлипывала она.
— Как и все мы, — заверил ее Грант. — Так что не стоит думать, что пугаться так уж позорно. У вас были все основания для страха, не сомневайтесь.
Он медленно и нежно гладил ее волосы. — У вас из-за этого был такой мощный выброс адреналина, что вы смогли плыть быстрее и дальше, да и вообще все выдержали. Мощный механизм испуга — великолепный исходный материал для героических подвигов.
Дюваль нетерпеливо оттеснил Гранта в сторону.
— С вами все в порядке, мисс Петерсон?
Кора набрала в грудь воздуха и твердым голосом — хотя и не без усилия — ответила:
— Я в полном порядке, доктор.
— Нам пора выбираться отсюда, — бросил Оуэнс. Он уже был в пузыре рубки. — У нас практически не осталось времени.
Глава 16
МОЗГ
В контрольной рубке ожил один из экранов:
— Генерал Картер…
— Что случилось на этот раз?
— Они снова двинулись, сэр. Они вышли из пределов уха и быстро двигаются к тромбу.
— Ха! — Он глянул на таймер: осталось 12 минут. — В нашем распоряжении чуть меньше четверти часа. — Он огляделся в поисках сигары и увидел ее, раздавленную, на полу, куда случайно уронил ее. Подняв то, что недавно было сигарой, он посмотрел на осыпающийся табак и с отвращением отбросил ее.
— Двенадцать минут. Мы еще можем успеть, Рейд?
Рейд, обмякнув, сидел в кресле, с отчаянием глядя перед собой.
— Они могут успеть. Они даже могут успеть избавиться от тромба. Но… Но…
— Что «но»?
— Но я не уверен, успеем ли мы вовремя извлечь их. Как вы знаете, мы не можем вскрыть черепную коробку, чтобы достать их. В таком случае мы первым делом постарались бы добраться до тромба. Это значит, что попав в мозг, они должны будут затем проследовать к той точке, откуда их можно будет извлечь. Если они не успеют…
— Я выпил две чашки кофе и выкурил сигару, — ворчливо сказал Картер, — но не почувствовал вкуса ни того, ни другого…
— Они достигли основания черепа, сэр, — донеслись до него слова техника.
* * *
Микаэлс вернулся к своему месту у карты. За плечом у него стоял Грант, глядя на путаницу линий перед собой.
— Тромб вот здесь?
— Да.
— Похоже, что он еще довольно далеко. А у нас только двенадцать минут.
— Он не так далеко, как кажется. Теперь мы можем идти прямо к нему. Мы будем у основания черепа примерно через минуту, а оттуда уже будет рукой подать…
Внезапно поток яркого света залил внутренность лодки. Грант в изумлении оглянулся и увидел огромную стену с неразличимыми границами, из-за которой лился молочно-белый свет.
— Барабанная перепонка, — сказал Микаэлс. — С другой стороны ее — внешний мир.
Невыносимая тоска по дому навалилась на Гранта. Он почти забыл, что существует мир за пределами субмарины. Ему казалось, что всю жизнь он только и делает, что бесконечно странствует в мире кошмаров и чудовищ, — Летучий Голландец системы кровообращения…
Но вот он дал знать о себе, свет из внешнего мира, пробивающийся сквозь барабанную перепонку.
Микаэлс, склонившийся над картой, сказал:
— Вы приказали мне вернуться на судно, когда отправились спасать Кору, не так ли, Грант?
— Да, Микаэлс. Я хотел, чтобы вы были на лодке.
— Так объясните это Дювалю. Его отношение…
— Стоит ли беспокоиться? Его манеры никогда не отличались вежливостью.
— На этот раз они носят просто оскорбительный характер. Я не пытаюсь изображать из себя героя…
— Я буду свидетельствовать в вашу пользу.
— Благодарю вас, Грант. И… присматривайте за Дювалем.
Грант засмеялся.
— Обязательно.
Словно почувствовав, что речь идет о нем, появился Дюваль и брезгливо осведомился:
— Где мы, Микаэлс?
Микаэлс неприязненно посмотрел на него и ответил:
— Мы у входа в подарахноидальную полость… как раз у основания черепа, — добавил он специально для Гранта.
— Хорошо. Предполагается, что мы пройдем рядом со зрительным нервом.
— Ясно, — сказала Микаэлс. — Мы так проложим курс, чтобы у вас был наиболее удобный доступ к тромбу.
Грант отошел от них и, наклонив голову, переступил комингс кладовки, где лежала Кора.
Она сделала попытку приподняться, но он остановил ее движением руки.
— Не надо. Лежите. — Он сел рядом, подтянув колени и обхватив их руками. Улыбаясь, он глядел на нее.
— Я уже поправилась, — сказала она. — И лежа здесь, я просто притворяюсь.
— А почему бы и нет? Вы самая симпатичная симулянтка, которую я когда-либо видел. Давайте пару минут побездельничаем вместе, если вы согласны принять мое предложение.
Она в свою очередь улыбнулась ему.
— Мне трудно сетовать на то, что вы слишком напористы. Кроме того, вы выросли в моих глазах, когда спасли мне жизнь.
— Это было частью хитрой и тщательно продуманной кампании, направленной на то, чтобы вызвать у вас чувство долга передо мной.
— И вы своего добились! Вне всяких сомнений!
— В соответствующее время я вам об этом напомню.
— Будьте любезны… Нет, Грант, я в самом деле благодарна вам.
— Я принимаю вашу благодарность, но такова моя работа. Для этого я тут и нахожусь. Не забывайте, что я принимаю кардинальные решения в аварийных ситуациях.
— Но это не все, не так ли?
— Более чем достаточно, — запротестовал Грант. — Я засовывал шнорхель в легкие, выдирал водоросли из клапана и, главное, нес на руках прекрасную женщину.
— И тем не менее, это не все, так? Вы присматриваете за доктором Дювалем, верно?
— Вы так считаете?
— Потому что это правда. Высший эшелон ОССМ не доверяет доктору Дювалю. И никогда не доверял.
— Почему?
— Потому что он человек, полностью преданный своему делу: не занимаясь ничем иным, он поглощен лишь им. Он обижает окружающих не потому, что хочет их обижать, а потому, что не догадывается, насколько оскорбительны могут быть его слова. Он не видит ничего, что не имеет отношения к его работе…
— Даже своей обаятельной помощницы?
Кора вспыхнула.
— Думаю… думаю, что да. Но он ценит мою работу, на самом деле ценит.
— И он будет так же оценивать ваши труды, если даже кто-то оценит вас?
Кора отвела глаза, а потом в упор взглянула на него.
— Тем не менее предательство ему чуждо. Дело в том, что он требует свободного обмена информацией с Другой Стороной, но не имеет представления, как сдержанно и ненавязчиво надо высказывать свои взгляды. А когда кто-то с ним не соглашается, он, не выбирая выражений, говорит, что все они идиоты.
Грант кивнул.
— Могу себе представить. И все, конечно, преисполняются к нему симпатией, потому что люди просто обожают, когда им объясняют, как они глупы.
— Что делать, он таков.
— Послушайте. Не надо, сидя здесь, терзаться сожалениями. Я доверяю Дювалю в той же мере, как и всем остальным.
— А Микаэлс не скрывает своего отношения к нему.
— Знаю. Микаэлс порой кипит недоверием ко всем на свете — как на судне, так и вне его. Он даже мне не доверяет. Но клянусь вам, я беру на веру только то, что на самом деле заслуживает доверия.
Кора заволновалась.
— Вы хотите сказать, что, по мнению Микаэлса,
я специально поломала лазер? Что мы с доктором Дювалем… что мы вместе…
— Думаю, он рассматривал такой вариант.
— А вы, Грант?
— Я считал, что такая возможность существовала.
— И вы в нее верите?
— Это всего лишь версия, Кора. Среди многих прочих. Некоторые из них предпочтительнее остальных. И предоставьте мне беспокоиться о них, моя дорогая.
Прежде чем она успела ответить, они услышали гневный голос Дюваля:
— Нет, нет, нет! Я отказываюсь даже говорить на эту тему, Микаэлс! Я не допущу, чтобы каждый болван диктовал мне, что делать!
— Ах, болван! Так должен сказать вам, что вы сами, что вы…
Грант выскочил в салон, и Кора последовала за ним.
— Заткнитесь, вы, оба! Что тут происходит?
Пылая гневом, Дюваль повернулся к нему.
— Я привел лазер в порядок. Соответствующим образом срастил проводку, смонтировал транзисторы, все настроил. А этот болван… — он повернулся лицом к Микаэлсу и с силой повторил:
— Этот болван стал сомневаться.
— Ну, хорошо, сказал Грант. — Что в этом такого ужасного?
— Из его заявления, — с жаром взорвался Микаэлс, — еще ничего не следует. Да, он все собрал. Я и сам мог это сделать. Как и любой другой. Но откуда он знает, что аппарат работает?
— Потому что я это знаю. Я работаю с лазерами двенадцать лет. И знаю их «от» и «до».
— Ну что ж, продемонстрируйте нам это, доктор. Поделитесь с нами вашими знаниями. Включите его.
— Нет! Он или работает или не работает. В таком случае, я не смогу наладить его ни при каких обстоятельствах, ибо я сделал все, что мог, и ничего больше сделать невозможно. Если, выйдя к тромбу, мы выясним, что лазер не работает, хуже не будет. Но если он в порядке, а он в порядке, запас мощности у него будет ограничен. Я не знаю, на сколько его хватит, на дюжину вспышек или больше. И все их я хочу приберечь для тромба. И не потрачу впустую ни одну из них. Я не собираюсь подвергать опасности успех миссии только потому, что один раз вхолостую испытывал лазер.
— А я говорю вам, что его надо проверить, — вмешался Микаэлс. — Если вы этого не сделаете, Дюваль, клянусь, что когда мы вернемся, я позабочусь, чтобы вас вышвырнули из ОССМ, и растерзаю вас на мелкие кусочки…
— Это будет меня беспокоить, когда мы вернемся. А пока лазер мой и я делаю с ним все, что сочту нужным. Ни вы, ни Грант не могут приказать мне делать то, чего я не хочу.
Грант покачал головой.
— Я вообще не приказывал вам что-либо делать, доктор Дюваль.
Коротко кивнув, Дюваль отошел в сторону.
Микаэлс смотрел ему вслед:
— Ну, я с ним разберусь!
— В данном случае у него есть определенные резоны, Микаэлс, — сказал Грант. — А вы уверены, что он вас раздражает не в силу личных причин?
— Потому что он назвал меня трусом и болваном? Неужто я должен любить его за это? Но, испытываю я к нему личную антипатию или нет, это не имеет значения. Я думаю, что он предатель.
— Это чистейшая ложь! — гневно бросила Кора.
— Сомневаюсь, — холодно сказал Микаэлс, — что в данной ситуации вы можете быть незаинтересованным свидетелем… Но неважно. Мы приближаемся к тромбу и тогда мы увидим, что представляет собой доктор Дюваль.
— Он справится с тромбом, — сказал Кора, — если лазер в порядке.
— Если он в порядке, — сказал Микаэлс. — И в таком случае я не буду удивлен, если он убьет Бенеса… И отнюдь не по неосторожности.
* * *
Картер сбросил френч и закатал рукава. Он полулежал в кресле, опираясь затылком о его изголовье, и во рту у него была свежая сигара. Но он не затягивался.
— Они в мозге? — спросил он.
Щетина усиков Рейда наконец дрогнула. Он протер глаза.
— Они практически подошли к тромбу. И остановились.
Картер перевел взгляд на таймер, на котором была цифра 9.
Он чувствовал себя измотанным до предела, в нем не осталось ни жизненных сил, ни адреналина, ни решимости собраться — ничего.
— Думаете, они успеют справиться? — спросил он.
Рейд покачал головой.
— Нет, не думаю.
Через девять, максимум через десять минут и судно и люди в нем начнут обретать свои подлинные размеры — и, если их не успеют вовремя извлечь, взорвут тело Бенеса.
Картер попытался представить себе, что газеты сделают из ОССМ, если проект потерпит неудачу. Он мог представить себе речи политиков по всей стране и как провал будет оценен на Той Стороне. Насколько неудача скажется на ОССМ? И сколько им потребуется месяцев — или даже лет — чтобы оправиться?
И, преодолевая усталость, он стал составлять в уме текст заявления об отставке.
* * *
— Мы вошли в пределы мозга! — с трудом сдерживая возбуждение, объявил Оуэнс.
Он снова притушил корабельное освещение, и все уставились вперед, пораженные ощущением чуда, которое на несколько мгновений вытеснило из мыслей все остальное, даже критическое положение, в котором оказалось их задание.
— Потрясающе, — пробормотал Дюваль. — Предел совершенства Творения.
Грант тоже чувствовал нечто подобное. Вне всякого сомнения человеческий мозг был самой сложной конструкцией, содержавшей в столь небольшом объеме такой потенциал.
В окружающем их мире царила полная тишина. Клетки, попадавшиеся им на глаза, имели неровную поверхность, и узловатые дендриты торчали, как сучья, тут и там сплетаясь густым кустарником.
Пока они двигались в потоках жидкости, заполнявшей межклеточное пространство, дендриты простирались над их головами, а порой над ними проплывали образования, напоминавшие могучие узловатые сучья старых деревьев.
— Смотрите, — сказал Дюваль, — они не касаются друг друга. Совершенно четко видны синапсы; взаимодействие между ними осуществляется химическим путем.
— Похоже, что они светятся, — заметил Микаэлс, в голосе которого еще слышались остатки гневного возбуждения. — Отражение миниатюризированных волн света выкидывает такие номера. Они не имеют никакого отношения к реальности.
— Откуда вы знаете? — сразу же вмешался Дюваль. — Перед нами непочатое поле для исследований. Отражения миниатюризированных световых волн могут тончайшим образом исследовать молекулярную структуру клеток. И я предсказываю, что такого рода отражение станет могущественнейшим инструментом из всех ныне существующих механизмов изучения микроподробностей клеточного строения. И может быть техника исследований, которая появится в результате нашей миссии, будет куда важнее, чем судьба Бенеса.
— Вы уже заранее подыскиваете себе оправдания, доктор? — спросил Микаэлс.
Дюваль побагровел.
— Объяснитесь!
— Только не сейчас! — решительно приказал Грант. — Больше ни слова, джентльмены!
Дюваль с трудом перевел дыхание и повернулся к иллюминатору.
— Кстати, видите ли вы свечение? — спросила Кора. — Посмотрите наверх. Обратите внимание на дендриты, к которым мы приближаемся.
— Вижу, — сказал Грант. Это были не обычные отблески, которые сопровождали их во время всего путешествия; перед его глазами представало нечто, напоминающее облачко светлячков; свечение пробегало по дендриту, и прежде чем прекращалось одно, по нему уже бежала новая световая волна.
— Знаете, что это напоминает? — воскликнул Оуэнс. — Вы видели старые фильмы с рекламными огнями, которые бежали друг за другом? Свет шел волна за волной, а вокруг стояла темнота.
— Да, — согласилась Кора. — Выглядит точно так. Но почему?
— Вспышки возбуждают нервные волокна, — сказал Дюваль. — Меняется концентрация ионов; в клетку попадает ион натрия. Меняется интенсивность напряжения на поверхности клетки, и внутри ее падает электрический потенциал.
По мере того как они продвигались все дальше в глубины мозга, искрящиеся волны были видны повсюду; они бежали вдоль клеток, взбирались и спускались вдоль волокон, кружились в непредставимо сложных лабиринтах, которые, на первый взгляд, не имели ничего общего с организованностью и все же подчинялись какому-то порядку.
— То, что мы видим, — сказал Дюваль, — представляет собой квинтэссенцию личности. Клетки — это физическая структура мозга, а эти бегущие искры представляют собой суть мышления, человеческого мышления.
— Если это квинтэссенция, — хрипло сказал Микаэлс, — я бы предпочел называть ее душой. Где таится душа человека, Дюваль?
— Вы считаете, что если я не могу указать конкретное место, ее не существует, — вспыхнул Дюваль. — Где хранится гениальность Бенеса? Вы у него в мозгу. Ткните пальцем в его гениальность.
— Хватит! — резко оборвал перепалку двух ученых Грант.
Микаэлс окликнул Оуэнса.
— Мы почти на месте. Идите вверх по капилляру к указанной точке. Она прямо перед вами.
— Вот это самое непонятное, — задумчиво сказал Дюваль. — Мы не просто в мозгу человека. Все, что нас окружает, представляет собой мышление гения науки; в какой-то мере я могу сравнить его с Ньютоном.
Помолчав несколько секунд, он процитировал:
…и там, где статуя стоит, Ньютон молча держит призму, Застывший в мраморе, навечно…И Грант торжественным шепотом закончил:
—…он погружен в загадочное море размышлений.Оба они помолчали несколько мгновений, а затем
Грант сказал:
— Вы думаете, Уордсворт видел перед собой нечто подобное, когда писал о «загадочном море размышлений»? Ведь это в буквальном смысле слова море, не так ли? И столь же загадочное.
— А я и не предполагала, что вам свойственна поэтичность, Грант, — сказала Кора.
Грант кивнул.
— Одни мускулы, ни капли мысли. Таков я.
— Не обижайтесь.
— Когда вы кончите бормотать стихи, джентльмены, — сказал Микаэлс, — посмотрите вперед.
Он показал, куда именно. Теперь они снова плыли в потоке крови, но красные кровяные тельца (здесь они имели синеватую окраску) безвольно дрейфовали мимо, слегка содрогаясь под толчками броуновского движения. Впереди и вверху лежала какая-то тень.
Сквозь прозрачные стенки капилляра был виден лес дендритов, каждая веточка, каждое ответвление которых были во вспышках искр, но бег их все замедлялся и замедлялся. А за какой-то чертой свечение исчезало.
«Протеус» начал замедлять движение. На несколько мгновений воцарилось молчание, а потом Оуэнс сказал тихо:
— Думаю, мы у цели.
Дюваль кивнул.
— Да. Это тромб.
Глава 17
ТРОМБ
— Обратите внимание, что функционирование нервных волокон кончается у тромба: видимое свидетельство их травмы, и может, необратимой. И я бы не поручился, что нам удастся оказать Бене-су помощь, пусть даже мы и устраним тромб.
— Хорошая мысль, доктор, — с сарказмом заметил Микаэлс. — Она полностью вас обеляет, не так ли?
— Заткнитесь, Микаэлс, — холодно бросил Грант.
— Натягивайте комбинезон, мисс Петерсон, — сказал Дюваль. — И без промедления… Попробуйте вывернуть его наизнанку. Антитела уже попробовали на вкус его поверхность и привыкли к нему, а так, может быть, их удастся ввести в заблуждение.
Микаэлс устало улыбнулся.
— Не трудитесь понапрасну. Слишком поздно. — Он показал на таймер, на котором как раз в этот момент семерка медленно менялась на шестерку.
— Вы не успеете провести операцию, — сказал он, — за оставшееся время, ибо нам еще нужно успеть в яремную вену к точке изъятия. Если даже вы успешно устраните тромб, начало деминиатюризации застанет нас здесь и мы убьем Бенеса.
Дюваль продолжал натягивать комбинезон. Как и Кора.
— Во всяком случае, его ожидает участь не лучше, если мы не прооперируем мозг.
— Да, но в случае задержки с эвакуацией из тела Бенеса та же судьба достанется и нам. Поначалу мы начнем увеличиваться медленно и постепенно. Может быть, потребуется около минуты, прежде чем мы обретем размеры, которые привлекут внимание белых кровяных телец. В районе травмы их скопились миллионы и миллионы. Они нас поглотят.
— Ну и?
— Сомневаюсь, что «Протеус» сможет противостоять объединенным усилиям пищеварительных вакуолей. И судно, и мы вернемся к нормальным размерам в смятом и уничтоженном виде… Вам бы лучше остаться у штурвала, Оуэнс, и как можно скорее гнать к пункту встречи, где нас и извлекут из тела.
— Прекратить разговоры, — гневно вмешался Грант. — Оуэнс, сколько времени займет путь к точке изъятия?
— Две минуты! — тихо сказал Оуэнс.
— Значит, у нас остается четыре минуты. Может, больше. Ведь не установлено, что деминиатюризация начнется точно через шестьдесят минут? Разве мы не сможем чуть дольше оставаться в этом положении, если поле воздействовало на нас чуть дольше, чем предполагалось?
— Может быть, — ровным голосом признал Микаэлс, — но не обманывайте сами себя. Ну, еще минуту. Две минуты на извлечение. Мы не можем обойти Принцип Неопределенности.
— Хорошо. Две минуты. А разве восстановление не может занять больше времени, чем мы рассчитывали?
— Если повезет, — сказал Дюваль, — я справлюсь с тромбом за минуту-другую.
Вмешался Оуэнс.
— Все дело в неопределенной природе базовых структур Вселенной. При удаче, если ничего нам не помешает…
— Но у нас на операцию остается не больше минуты-другой, — вздохнул Микаэлс. — Самое большое.
— Хорошо, — сказал Грант. — У нас есть четыре минуты, плюс, может быть, еще пара лишних минут, плюс около минуты до начала процесса восстановления, пока мы еще не успеем причинить вреда Бенесу. То есть семь минут по нашему растянувшемуся восприятию времени… Отправляйтесь, Дюваль.
— Ты сумасшедший идиот! — завопил Микаэлс. — Ты сможешь только убить Бенеса и нас вместе с ним. Оуэнс, доставляйте нас в точку извлечения!
Оуэнс замялся.
Грант подскочил к трапу и взлетел в рубку.
— Сбросьте мощность, Оуэнс, — тихо сказал он. — Слышите?
Пальцы Оуэнса поползли к тумблеру и легли на него. Рука Гранта оказалась быстрее, решительным движением успев перекинуть тумблер в положение «ВЫКЛ.».
— А теперь отправляйтесь вниз. Вперед!
Он почти выдернул Оуэнса из кресла и они вдвоем спустились. Все это заняло несколько секунд, и Микаэлс остался сидеть с открытым ртом, слишком пораженный, чтобы вымолвить хоть слово.
— Что, черт побери, вы сделали? — наконец спросил он.
— Судно остается на месте, — объявил Грант, — до успешного завершения операции. А теперь, Дюваль, за дело.
— Передайте мне лазер, мисс Петерсон, — сказал Дюваль. Оба уже были облачены в комбинезоны, но снаряжение Коры было в пятнах и подтеках.
— Я, должно быть, ужасно выгляжу, — сказала она.
— Вы что, с ума сошли? — завопил Микаэлс. — Все до одного? У нас нет времени. Это чистое самоубийство. Послушайте меня! — Его почти колотило от возбуждения. — Вам ничего не удастся добиться!
— Откройте им люк, Оуэнс, — приказал Грант.
Микаэлс рванулся вперед, но Грант перехватил его, развернул к себе лицом и сказал:
— Не заставляйте меня применять к вам физическую силу, доктор Микаэлс. У меня болит все тело, и мне не хочется делать лишних движений, но если я вам врежу, то, заверяю, сломаю вам челюсть.
Микаэлс сжал и вскинул кулаки, словно был готов принять вызов. Но Дюваль и Кора уже исчезли в проеме шлюза, и Микаэлс, провожая их взглядом, едва ли не взмолился:
— Послушайте, Грант, неужели вы не видите, что происходит? Дюваль убьет Бенеса! Ему это не составит труда. Одно случайное движение лучом лазера, которого никто не заметит. Если вы поступите, как я говорю, мы оставим Бенеса в живых, вернемся и завтра сможем сделать еще одну попытку.
— Он, может быть, до завтра не доживет, и мы не успеем пройти миниатюризацию, как кто-то мне говорил.
— Он может дожить до завтра, но он точно будет мертв, если вы не остановите Дюваля. А завтра другие люди пройдут миниатюризацию, если мы не успеем.
— А где взять другое судно? Ни одно кроме «Протеуса» не справится с задачей.
Микаэлс завопил:
— Говорю вам, Грант, что Дюваль — вражеский агент.
— Я этому не верю, — сказал Грант.
— Почему? Потому что он так религиозен? Потому что ему свойственна пошлая и банальная благочестивость? Да он вызывает лишь отвращение ею… Или вы попали под влияние его любовницы, его…
— Не советую вам заканчивать это предложение, Микаэлс, — оборвал его Грант. — А теперь слушайте. Пет никаких доказательств, что он вражеский агент, и у меня нет никаких оснований верить этому.
— Но я говорю вам…
— Я знаю, кто вы такой. Хотя, в сущности, я бы предпочел поверить, что вражеский агент — это вы, Микаэлс.
— Я агент?
— Да. У меня для этого нет убедительных доказательств; мне нечего представить суду, но когда нами займется служба безопасности, я думаю, такие доказательства будут найдены.
Микаэлс отступил от Гранта и в ужасе уставился на него.
— Ну конечно, теперь я понимаю. Агент — это вы, Грант. Оуэнс, неужели вы не понимаете? Не менее дюжины раз мы могли благополучно вернуться, когда было совершенно ясно, что миссия не в состоянии увенчаться успехом. И каждый раз он нас удерживал. Вот почему он так отчаянно старался заполнить цистерны воздухом из легких. Вот почему… Помогите мне, Оуэнс. Помогите мне.
Оуэнс не сдвинулся с места.
— На таймере вот-вот будет пять, — сказал Грант. — У нас есть еще чуть больше трех минут. Дайте мне три минуты, Оуэнс. Вы знаете, что Бенес не выживет, если за три минуты не удастся устранить тромб. Я выйду за борт и помогу им, а вы держите Микаэлса. Если я не вернусь, когда на таймере будет цифра 2, снимайтесь отсюда, спасайте судно и себя. Бенес погибнет и, скорее всего, мы тоже. Но вы спасетесь и сможете заняться Микаэлсом.
Оуэнс продолжал молчать.
— Три минуты, — повторил Грант. Он начал натягивать комбинезон. На таймере появилась цифра 5.
Наконец Оуэнс сказал:
— Значит, три минуты. Хорошо. Но только три.
Микаэлс устало опустился в кресло.
— Вы позволяете им убить Бенеса, Оуэнс, но я сделал все что мог. Совесть моя чиста.
Грант исчез в люке.
* * *
Дюваль и Кора быстро поплыли к тромбу: он нес лазер, она батареи питания.
— Я не вижу вокруг себя ни одного белого тельца. А вы?
— Я не смотрю на них, — коротко ответил Дюваль.
Он усиленно вглядывался в пространство перед собой. Луч корабельного прожектора и лучи их собственных нашлемных фонарей меркли в путанице волокон, которые, как казалось, полностью закрывали тромб с противоположной стороны от той точки, в которой глохли нервные импульсы. Стенка артерии
была располосована раной, и тромб, придавивший часть нервных клеток и волокон, не полностью перекрывал ее.
— Если мы сможем уничтожить тромб и снять давление с нервных путей, не касаясь самих нервов, — пробормотал Дюваль, — мы справимся с задачей. Чтобы стенка артерии затянулась струпом… давайте посмотрим.
Сменив положение для выбора наилучшей позиции, он приподнял лазер.
— И если эта штука сработает.
— Доктор Дюваль, — сказала Кора, — помните, вы сказали, что самый экономичный разрез должен идти сверху.
— Это-то я хорошо помню, — мрачно ответил Дюваль, — и собираюсь именно так вести его.
Он нажал спусковой механизм лазера. Прошло несколько томительных долей секунды, и впереди вспыхнул тонкий луч.
— Работает! — вне себя от счастья закричала Кора.
— Как раз вовремя, — сказал Дюваль, — но ему придется еще не раз вступать в строй.
Несколько мгновений тромб оставался в недвижимости под нестерпимым сиянием луча лазера, путь которого отмечался лишь тонкой линией вскипающих под ним пузырьков. Навалившаяся затем темнота была еще гуще, чем раньше.
— Закройте один глаз, мисс Петерсон, — сказал
Дюваль, — чтобы сетчатка не потеряла своей чувствительности.
После того как снова вспыхнул и погас луч лазера, Кора приоткрыла закрытый глаз и зажмурила другой.
— Сработало, доктор Дюваль, — восторженно сказала она. — Сияние уже не так режет зрение. И вокруг не так темно.
К ним подплыл Грант.
— Как дела, Дюваль?
— Неплохо, — ответил доктор. — Если я смогу прорезать его сейчас по наклонной линии и снять давление с узловой точки, то думаю, что освободятся и все другие нервопроводящие пути.
Он отплыл на другую сторону.
— У нас меньше трех минут, — крикнул ему вслед Грант.
— Не мешайте мне, — спокойно сказал Дюваль.
— Все в порядке, — обратилась к Гранту Кора. — Он справится. Микаэлс по-прежнему выходит из себя?
— В некоторой мере, — хмуро сказал Грант. — Оуэнс держит его под стражей.
— Под стражей?
— На всякий случай…
* * *
Находящийся в это время внутри «Протеуса» Оуэнс беспомощно огляделся.
— Я не знаю, что делать, — пробормотал он.
— Просто оставаться на месте и дать убийцам возможность действовать, — саркастически ответил Микаэлс. — И вам придется нести за это ответственность, Оуэнс.
Тот промолчал в ответ.
— Вы не верите, что я вражеский агент, — сказал Микаэлс.
— Я вообще ни во что не верю, — ответил Оуэнс.
— Давайте подождем до отметки в две минуты, и если они не вернутся, снимемся с места. Ничего не остается делать.
— Хорошо, — согласился Микаэлс.
— Лазер работает, — сказал Оуэнс. — Я вижу вспышки. И вы знаете…
— Что?
— Этот тромб… Я вижу искорки на нервах там, где их не было раньше.
— А я нет, — вглядываясь в темноту, сказал Микаэлс.
— Вижу, — настойчиво повторил Оуэнс. — Говорю вам, все сработало. И они вернутся. Похоже, что вы ошибались, Микаэлс?
Микаэлс пожал плечами.
— Ладно, тем лучше. Если я ошибался и Бенес будет жить, ничего иного мне и не надо. Только… — в его голосе появилось еле сдерживаемое беспокойство. — Оуэнс!
— Что?
— Там что-то не то с аварийным выходом. Этот проклятый идиот Грант был в таком возбуждении, что не задраил его как полагается. Но только ли возбуждение тут сказалось?
— Но в чем там дело? Я ничего не замечаю!
— Вы что, слепой? Внутрь просачивается жидкость. Посмотрите на швы.
— Тут оставалась влага еще с тех пор, как Грант и Кора избавлялись от антител. Разве вы не помните…
Оуэнс пригнулся к люку, а Микаэлс, схватив отвертку, которой Грант поддевал панель рации, обрушил ее рукоятку на голову Оуэнса.
Со сдавленным криком Оуэнс упал на колени.
В лихорадочном нетерпении Микаэлс нанес ему еще один удар и начал запихивать обмякшее тело в комбинезон. Пот крупными каплями выступал на его лысом черепе. Открыв крышку люка, он выпихнул туда Оуэнса. Шлюз стал быстро наполняться водой, после чего можно было открыть внешнюю крышку с помощью дистанционного управления, и он потерял несколько драгоценных мгновений, шаря по приборной доске.
В идеальном варианте ему нужно было бы сейчас слегка качнуть судно, дабы убедиться, что Оуэнс выскользнул из люка, но у него не было времени.
«Нет времени, — лихорадочно думал он, — нет времени».
Стремительно взбежав по трапу на мостик, он уставился на панель управления. Что-то надо включить, чтобы заработал двигатель… А, вот оно! Волна восторга охватила его, когда до слуха донесся гул оживших двигателей.
Он посмотрел на тромб перед собой. Оуэнс был прав. Длинные цепочки света бежали по всему протяжению, где до сих пор стояла тьма.
* * *
Дюваль сейчас бил лучом лазера короткими вспышками, через мгновенные интервалы.
— Я думаю, что вы уже справились, доктор, — сказал грант. — Время на исходе.
— Я почти закончил. Тромб рассыпается. Еще разок. Ага… мистер Грант, операция прошла успешно.
— И у нас осталось на возвращение три минуты, может две. А теперь быстро обратно на судно…
— Тут есть кто-то еще, — сказала Кора.
Грант повернулся, присматриваясь к безвольно болтающейся в жидкости фигуре.
— Микаэлс! — крикнул он. — Нет, это Оуэнс. Что за…
— Я ничего не помню, — пробормотал Оуэнс. — Кажется, он ударил меня. Я не понимаю, как я тут очутился.
— Где Микаэлс?
— На судне, дум…
— На лодке включен двигатель! — закричал Дюваль.
— Как! — изумленно ахнул Оуэнс. — Что…
— Микаэлс! — сказал Грант. Должно быть, он взял управление в свои руки.
— Почему вы оставили судно? — гневно спросил у него Дюваль.
— Это я и сам у себя спрашиваю. Я понадеялся на Оуэнса…
— Прошу прощения, — пробормотал Оуэнс. — Я и представить себе не мог, что он в самом деле вражеский агент. Я и не предполагал…
— Беда в том, что я и сам не был в этом полностью уверен. А теперь, конечно…
— Агент врага! — в ужасе сказала Кора.
У всех в наушниках прозвучал голос Микаэлса.
— С вами покончено. Через две минуты здесь появятся белые кровяные тельца, а к тому времени я уже буду на полпути отсюда. Прошу прощения, но вам придется выбираться без меня.
Подняв нос, судно заложило крутой вираж.
— Оно идет на полной скорости, — сказал Оуэнс.
— И мне кажется, — добавил Грант, — он целится прямо в нерв.
— Именно это я и собираюсь сделать, — раздался мрачный голос Микаэлса. — Можете наблюдать за драматическим развитием событий. Первым делом я уничтожу работу этого напыщенного святоши Дюваля — не только ради нее как таковой, а чтобы рана привлекла внимание белых кровяных телец. А уж они-то позаботятся о вас.
— Послушайте! — закричал Дюваль. — Остановитесь! Зачем вы это делаете? Подумайте о своей стране!
— Я думаю о человечестве! — в ярости заорал в ответ Микаэлс. — Самое главное — убрать со сцены военных. Неограниченная миниатюризация в их руках уничтожит мир. И если вы, идиоты, этого не видите…
«Протеус» шел сейчас прямо вперед к тому месту, где нервы воспрянули к жизни.
— Лазер! — яростно крикнул Грант. — Дайте мне лазер!
Он выхватил инструмент из рук Дюваля и вскинул его.
— Как он включается? Я его мерзавца!
Он поднял под углом тубус лазера, стараясь поймать на линию прицела уходящее судно.
— Дайте мне максимальную мощность! — крикнул он Коре. — Полную мощность!
Прицел был точен, но тонкая нить луча, едва вырвавшись из лазера, тут же мигнула и погасла.
— С лазером покончено, Грант, — сказала Кора.
— Так держите его. Кажется, я все же попал в «Протеус».
Утверждать это наверняка было трудно. В густом сумраке почти ничего не было видно.
— Похоже, вы чиркнули по корме, — сказал Оуэнс. — И уничтожили мой корабль. — За стеклом маски у него увлажнились глаза.
— Куда бы он ни попал, — резюмировал Дюваль, — похоже, судно потеряло управление.
«Протеус» в самом деле кидало из стороны в сторону, и луч его прожектора описывал широкие дуги.
Клюнув носом, судно пошло вниз, врезалось в стенку артерий рядом с нервом и, вращаясь, стало опускаться в лес дендритов; несколько раз дернувшись, оно пыталось встать на ровный киль, пока не застыло пузырьком металла, запутавшегося в густых плотных волокнах.
— Он перерезал нерв, — сказала Кора.
— Во всяком случае, причинил кучу неприятностей, — проворчал Дюваль. — Гут может образоваться новый тромб… а может, и нет. Надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае, скоро вокруг появятся белые кровяные тельца. И нам бы лучше уносить ноги.
— Если мы двинемся по ходу зрительного нерва, то через минуту или меньше того окажемся в глазу. Следуйте за мной.
— Нельзя оставлять тут судно, — сказал Грант. — Оно подвергнется деминиатюризации.
— Но мы же не можем утащить его с собой, — бросил Дюваль. — Остается только спасаться самим.
— Может, мы в состоянии что-то сделать? — продолжал настаивать Грант. — Сколько у нас осталось времени?
— Ни капли! — с силой сказал Дюваль. — И мне кажется, что мы уже начали увеличиваться. Через минуту-другую наши размеры привлекут внимание белых кровяных телец.
— Увеличиваться? Уже? Я ничего не чувствую.
— Вы и не должны. Но окружение стало уже несколько меньше, чем было только что. Двинулись!
Дюваль быстро огляделся, чтобы сориентироваться.
— За мной! — снова сказал он и поплыл.
Кора и Оуэнс последовали за ним, и помявшись немного, Грант пристроился за ними в кильватер.
Итак, он проиграл. Проиграл в последнюю минуту, ибо, не будучи совершенно уверенным в том, что Микаэлс вражеский агент, о чем он лишь смутно догадывался, он проявил нерешительность.
«Меня обвели вокруг пальца, — с горечью подумал он, — как полного идиота, непригодного к своей работе».
* * *
— Но они не двигаются, — в отчаянии сказал Картер. — Они стоят у тромба. Почему? Почему? Почему? — На таймере ясно была видна единичка.
— Они уже не успеют выбраться, — сказал Рейд.
Поступило донесение от отдела электроэнцефалографии…
— Сэр, данные ЭЭГ свидетельствуют, что мозговая деятельность Бенеса обрела нормальный характер.
— Значит, операция прошла успешно! — завопил Картер. — Но почему они торчат на месте?
— Выяснить это невозможно;
На таймере возник ноль, и прозвучал громкий сигнал тревоги. Его пронзительный звон наполнил все помещение, гулко разносясь под сводами.
Рейду пришлось повысить голос, чтобы его услышали.
— Нам придется извлекать их!
— Это убьет Бенеса.
— Если мы не извлечем их, Бенес все равно погибнет.
— Если кто-то из них вышел за пределы судна, — сказал Картер, — нам не удастся извлечь его.
Рейд пожал плечами.
— Тут уж мы ничем не можем помочь. Либо с ними расправятся белые тельца, либо они без помех восстановят свои прежние размеры.
— Но Бенес погибнет.
Рейд склонился к Картеру и гаркнул:
— И с этим ничего не поделать! Ничего! Бенес мертв! Вы хотите без толку принести в жертву еще пятерых?
Картер, казалось, съежился.
— Отдавайте приказ! — сказал он.
Рейд подошел к передатчику.
— Извлечь «Протеус», — тихо приказал он и затем подошел к широкому окну, откуда открывался вид на операционный стол.
* * *
Микаэлс был в полубессознательном состоянии, когда «Протеус» опустился в гущу дендритов. Внезапный рывок, последовавший за яркой вспышкой
— скорее всего, то был лазер — с огромной силой швырнул его на панель управления. На месте правой руки он ощущал лишь жгучую боль. Должно быть, она была сломана.
Он попытался осмотреться, преодолевая мучительное головокружение. В корме судна зияла огромная дыра, и вязкая плазма крови с бульканьем заливалась и трюм, преодолевая и давление запасов миниатюризированного воздуха и свое собственное поверхностное натяжение.
Оставшегося воздуха хватит ему на пару минут, после которых начнется восстановление. И хотя у него все плыло перед глазами, он смог заметить, что стебли дендритов вроде стали уменьшаться в поперечнике. Так как на деле они не могли изменить свои размеры, значит, это он стал увеличиваться — на первых порах очень медленно и постепенно.
Когда он вернется в нормальный мир, о его руке позаботятся. С остальными расправятся белые тельца и все будет шито-крыто. Он придумает… он обязательно придумает причину гибели судна. Во всяком случае, Бенес будет мертв, и идея бесконечной миниатюризации погибнет вместе с ним. И наступит мир… мир…
Тело его было безвольно распростерто на панели управления, и он не сводил глаз с дендритов. Удастся ли ему сдвинуться с места? Или он парализован? Не сломан ли у него позвоночник, как и рука?
Он мрачно прикинул эту возможность. Едва чувство тревоги стало исчезать, как он заметил, что очертания дендритов стали расплываться в беловатом тумане.
В молочном тумане?..
Белые кровяные тельца!
Конечно, это были они. Судно было крупнее людей, оказавшихся в гуще плазмы, да и именно оно оказалось в районе раны. Лодка будет первым предметом, что привлечет внимание белых кровяных телец.
Иллюминаторы «Протеуса» теперь почти полностью затянуло светящимся молочным туманом. Вместе с плазмой и кровью он втягивался в пробоину в корме, преодолевая барьер поверхностного натяжения.
Последний звук, который довелось услышать Микаэлсу, был треск переборок «Протеуса», ибо хрупкость его конструкции из миниатюризированных атомов теперь окончательно поддалась под мощным напором белых кровяных телец.
Нет, последним он услышал свой собственный смех.
Глава 18
ГЛАЗ
Кора увидела лавину белых кровяных телец почти одновременно с Микаэлсом.
— Смотрите! — с ужасом воскликнула она.
Приостановившись, они обернулись.
Белые кровяные тельца производили ужасающее впечатление. В диаметре они были в пять раз толще «Протеуса» и, скорее всего, длиннее; в сравнении с наблюдающими за ними людьми, они были горой белесоватой пульсирующей протоплазмы без оболочки.
Их крупные выпуклые ядра, окруженные той же белесоватой субстанцией, напоминали злобные уродливые зрачки, и с каждым мгновением очертания этих чудовищных образований непрерывно менялись. Масса их клубилась над «Протеусом».
Грант, рефлекторно рванувшись, двинулся к «Протеусу».
Кора перехватила его за руку.
— Что вы собираетесь делать, Грант?
— Спасти его не удастся! — возбужденно крикнул Дюваль. — Вы зря потеряете жизнь.
Грант яростно мотнул головой.
— Я не о нем думаю! А о судне!
— Мы и корабль не сможем спасти, — грустно сказал Оуэнс.
— Но, может, нам удастся как-то вытащить судно, и пусть оно себе увеличивается в безопасности… Послушайте, даже если его уничтожат белые тельца, даже если оно распадется на атомы, каждый такой миниатюризированный атом начнет увеличиваться, что, собственно, уже и происходит. И неважно: погибнет ли Бенес из-за присутствия в его организме корабля или из-за кучи его обломков.
— Вы не можете извлечь судно, — сказала Кора. — О, Грант, не умирайте, не надо погибать! Нам так досталось. Пожалуйста!
Грант улыбнулся ей.
— Поверьте, я никоим образом не собираюсь погибать, Кора. Вы втроем поплывете дальше. Я же попробую сделать еще одну пробежку.
Развернувшись, он поплыл обратно, чувствуя, как сердце сжимается от невыносимого отвращения при виде тех чудовищ, к которым он приближался. И рядом, и дальше, и со всех сторон клубились они, но его интересовало одно — то, что проглотило «Протеус», только оно одно.
Приблизившись, он смог рассмотреть его поверхность: часть его была прозрачной, и повсюду виднелись гранулы и вакуоли, сложный механизм которых был недоступен биологам для изучения в деталях даже сейчас, механизм, заключенный в микроскопически крохотной капельке живой материи.
«Протеус» был полностью поглощен образованием, в глубинах которого лишь смутно виднелась его тень. На мгновение Гранту показалось, что он увидел лицо Микаэлса в пузыре рулевой рубки, но, должно быть, ему всего лишь почудилось.
Грант был на вершине могучей гороподобной массы, но каким образом привлечь внимание этой штуки? У нее не было ни глаз, ни органов чувств, ни мозга, ни цели.
Это была машина-автомат — живая протоплазма, предназначенная для реакции на повреждения организма и посторонние вторжения в него.
Каким образом действовать, Грант пока не мог сообразить. Тем не менее, белое кровяное тельце ведь как-то реагировало на присутствие бактерии поблизости от себя. Безмозглая клетка каким-то образом воспринимала ее. Стоило приблизиться «Протеусу», как она заглотнула его.
Грант был куда меньше «Протеуса» и даже бактерии. Увеличился ли он настолько, чтобы его можно было заметить?
Вытянув нож, он глубоко всадил его острие в структуру, на которой восседал.
Ничего не произошло. Кровь не хлынула, потому что у этого образования не было крови.
Наконец из разреза медленно показалась складка протоплазмы, и клок мембраны откинулся в сторону.
Грант нанес еще один удар. Он не хотел ничего уничтожать; он не считал, что в своем теперешнем виде ему удастся это сделать. Но с помощью ударов он надеялся привлечь внимание к себе. Он отплыл в сторону и с растущим возбуждением заметил, как утолщение в стенке мембраны стало вытягиваться в его сторону.
Он отплыл еще дальше, и утолщение потянулось за ним.
Он был замечен. Он не знал, что за этим последует, но белое тельце вместе с заключенным в нем «Протеусом» двинулось за ним.
Он начал ускорять движение, мощно работая ластами. Белое кровяное тельце преследовало его, но не очень быстро, на что отчаянно рассчитывал Грант. Он прикинул, что большие скорости ему не свойственны; оно двигалось подобно амебе, выкидывая вперед часть своего организма, а потом подтягиваясь и переливаясь. В обыкновенных условиях ей приходилось поглощать практически неподвижные тела типа бактерий и неодушевленные предметы, попадавшие в организм человека. И ее вялых амебоподобных движений было вполне достаточно для этих целей, но теперь ей приходилось иметь дело с объектом, который мог стремительно удирать.
(Гранту оставалось надеяться, что он в самом деле летит, сломя голову).
Наращивая скорость, он плыл к остальным, которые по-прежнему висели на месте, наблюдая за ним.
— Двинулись! — выдохнул он. — Я думаю, оно последует за нами.
— Как и все прочие, — мрачно буркнул Дюваль.
Грант оглянулся. Все вокруг кишело белыми кровяными тельцами. Стоило одному из них заметить объект нападения, как к нему тянулись все остальные.
— Как…
— Я видел, как вы нанесли удар, — сказал Дюваль. — Если вы повредили поверхность клетки, в кровь попали определенные химические агенты, которые и привлекли белые кровяные тельца из всех окрестностей.
— Тогда, ради Бога, плывем!
* * *
Картер и Рейд сверху наблюдали за командой хирургов, окружавших голову Бенеса. Картер еще глубже погрузился в глубины черного отчаяния.
Все кончено. И все впустую. Все впустую. Все…
— Генерал Картер! Сэр! — раздался взволнованный крик, перехваченный спазмом возбуждения.
— Да?
— «Протеус», сэр. Он движется!
— Прекратить вскрытие! — заорал Картер.
Все члены операционной команды удивленно посмотрели на него.
Рейд вцепился в рукав Картера.
— Это движение может быть всего лишь результатом медленного восстановления размеров судна. Если вы сейчас же не извлечете их, им будет серьезная угрожать опасность со стороны белых кровяных телец.
— Что за движение? — спросил Картер. — Куда оно направлено?
— Вдоль зрительного нерва.
Картер яростно повернулся к Рейду.
— Куда оно направлено? Что все это значит?
Лицо Рейда просияло.
— Это значит — аварийный выход, который не пришел мне в голову. Они направляются в сторону глаза и смогут выйти через слезную протоку. Это они смогут сделать. В худшем случае, они слегка повредят глазное яблоко, но выйдут наружу… Кто-нибудь, подведите тубус микроскопа!.. Картер, спускаемся!
* * *
Оптический нерв представлял собой связку волокон, каждое из которых напоминало собой цепочку сосисок.
Дюваль, приостановился, положив руку на перемычку между двумя «сосисками».
— Узел Ранвьера! — восхищенно сказал он. — И я касаюсь его.
— Да бросьте вы за него держаться! — рявкнул Грант. — Плывите!
Их преследователям приходилось пробираться сквозь густую сеть препятствий, но они справились с ними куда легче, чем пловцы. Они скользили в потоках межклеточной жидкости, проталкиваясь и просачиваясь между тесно сомкнутыми волокнами нервов.
Волнуясь, Грант следил, чтобы их преследовало именно то самое образование. То, в котором был заключен «Протеус». Он не мог больше уделять ему внимание. Он его больше не видел. Если оно заключено под оболочкой ближайшего белого кровяного тельца, то ушло так глубоко в его глубины, что стало недоступным глазу. Если же белое кровяное тельце, что держалось за их спинами, не то самое, — Бенес обречен на смерть.
Нервы поблескивали, когда на них падали лучи их фонарей, а ленты искрящихся огней стремительно улетали назад,
— Световые импульсы, — пробормотал Дюваль. — У Бенеса неплотно закрыты глаза.
— Все явно становится меньше, — бросит Оуэнс. — Замечаете?
Грант кивнул.
— Еще бы. — Их преследователь уже представлял собой лишь половину того чудовища, которое только что спешило за ними.
— Нам осталось добираться лишь несколько секунд, — сказал Дюваль,
— Я могу не выдержать, — простонала Кора.
Грант рывком повернулся к ней.
— Конечно же, можете. Мы уже в глазу. Мы в одном шаге от спасения. — Он обхватил ее рукой за талию и повлек за собой, успев перенять у нее лазер и силовую установку.
— Вот сюда, — сказал Дюваль, — и мы в слезном протоке.
Они увеличились уже настолько, что с трудом помещались в межклеточном пространстве, по которому плыли. По мере увеличения они плыли все быстрее, и белое кровяное тельце становилось все менее устрашающим.
Дюваль разодрал стенку мембраны, на которую они налетели.
— Проходим, — сказал он. — Мисс Петерсон, вы первая.
Протолкнув Кору, Грант последовал за ней. За ним Оуэнс и наконец Дюваль.
— Мы выбрались! — с трудом сдерживая возбуждение, сказал Дюваль. — Мы вне тела.
— Подождите, — сказал Грант. — Я бы хотел, чтобы тут оказалось и то самое белое кровяное тельце. В противном случае…
Застыв на месте, он издал восторженный вопль.
— Вот оно! И, клянусь Небесами, то самое!
Белое кровяное тельце не без усилия протиснулось в проем, сделанный ногой Дюваля. В глубине его теперь ясно можно было разглядеть «Протеус» или, точнее, оставшиеся от него обломки. Они теперь почти сравнялись размерами с поглотившим их созданием, и бедное чудовище мучилось от внезапного приступа «несварения желудка».
Тем не менее, оно не прекращало преследования. Если уж оно пустилось в погоню, то не могло, остановиться.
Троих мужчин и женщину понес все прибывающий поток жидкости. Белое кровяное тельце с трудом последовало за ними.
Гладкая изогнутая стена, тянувшаяся по одну сторону, была прозрачной, и не так, как тонкие стенки капилляров, а в самом деле прозрачной. В ее структуре не было ни следа клеточных мембран или их ядер.
— Это роговица, — сказал Дюваль. — С другой стороны — нижнее веко. У нас осталось всего несколько секунд, но наша деминиатюризация уже не угрожает жизни Бенеса.
В нескольких футах над их головами (учитывая крохотные размеры четырех человек) тянулась горизонтальная щель.
— Через нее, — сказал Дюваль.
* * *
— Корабль показался на поверхности глаза! — раздался торжествующий возглас.
— Отлично, — сказал Рейд. — Он в правом глазу.
Техник подвел объектив микроскопа почти вплотную к полузакрытому глазу Бенеса. Оптика была настроена с предельной точностью. Медленно и осторожно зажимы крохотного пинцета подцепили нижнее веко и оттянули его вниз.
— Вот он, — сдавленным голосом прошептал техник. — Как пятнышко грязи.
Точным движением он подвел к глазу предметное стеклышко, на которое скользнула слезинка с заключенным в ней темным пятнышком.
Все расступились.
— Корабль уже обрел такие размеры, — сказал Рейд, — что сейчас начнет стремительно увеличиваться. Всем разойтись!
Техник, разрываясь между необходимостью действовать быстро и в то же время продуманно и осторожно, опустил стекло на пол зала, и тут же торопливо отбежал от него.
Едва только медсестры успели выкатить операционный стол с телом Бенеса сквозь разошедшиеся двойные двери, как пятнышко на предметном стекле стремительно стало разрастаться во все стороны, обретая свои подлинные размеры и формы.
Перед глазами присутствующих словно из небытия возникли трое мужчин, женщина и груда искореженных и изъеденных металлических обломков.
— За восемь секунд, — пробормотал Рейд.
Но Картер тут же спросил:
— Где Микаэлс? Если он еще в теле Бенеса… — Он двинулся было в сторону исчезнувшего операционного стола, и горькое чувство неизбежного на этот раз поражения опять затопило его.
Стягивая шлем, Грант остановил его взмахом руки.
— Все в порядке, генерал. Это все, что осталось от «Протеуса», и где-то там вы найдете и то, что осталось от Микаэлса. Нечто вроде органического желе с остатками костей.
* * *
Даже обретя свои подлинные размеры, Грант так и не смог сразу освоиться с окружающим миром. С краткими перерывами он проспал пятнадцать часов и, проснувшись, был удивлен светом и окружающим его пространством.
Завтрак ему подали в постель, на краю которой сидели улыбающиеся Рейд и Картер.
— Другие тоже удостоились такого обслуживания?
— У них есть все, что только можно купить за деньги, — сказал Картер. — Конечно, лишь на какое-то время. Мы позволили мы удалиться только Оуэнсу. Он хочет побыть с детьми, и мы дали ему разрешение, но лишь после того, как он представил нам краткое описание всего хода событий… И, откровенно говоря, Грант, успех миссии был обеспечен главным образом вашими стараниями.
— Может, вы сделаете из этого кое-какие выводы, — хмыкнул Грант. — Если вы хотите представить меня к медали и к продвижению по службе, я соглашусь. Если вы предоставите мне оплаченный годовой отпуск, я соглашусь еще быстрее. Но, строго говоря, миссия была бы обречена на провал, не прилагай усилий каждый из нас. Даже Микаэлс отлично прокладывал курс — большую часть пути.
— Да, Микаэлс, — задумчиво произнес Картер. —
Вы понимаете, что его история не для прессы. Официальная версия будет такова, что он погиб при исполнении служебные обязанностей. Никому не пойдет на пользу, если станет известно, что предатель смог проникнуть в ОССМ. Я и представить себе не мог, что он окажется предателем.
— Я достаточно хорошо знал его, — сказал Рейд, — чтобы утверждать — он не был предателем как таковым. Во всяком случае в общепринятом смысле этого слова.
Грант кивнул.
— Я согласен. Он не был злодеем из детской книжки. Он потратил драгоценное время, чтобы натянуть на Оуэнса гидрокомбинезон прежде чем выкинуть его из лодки. Он не сомневался, что белые кровяные тельца прикончат того, но не мог сам сделать эту работу. Нет… я думаю, он в самом деле хотел похоронить секрет вечной миниатюризации ради, как он выразился, блага всего человечества.
— Он всегда был за мирное использование миниатюризации, — сказал Рейд. — Как и я. Ведь куда большую пользу оно…
Картер прервал его.
— Вам пришлось иметь дело с человеком, мозг которого не вынес давления, в результате чего последовали иррациональные действия. Мы сталкивались с подобными вещами еще со времени изобретения атомной бомбы. Всегда существуют люди, которые считают, что если им удастся скрыть некое изобретение, в силу использования которого могут наступить печальные последствия, то все будет хорошо. Если не принимать во внимание того, что скрыть изобретение, время которого пришло, невозможно. Умри Бенес, его озарению все же пришел бы черед в следующем году, через пять лет, через десять. Только при таком раскладе Они могли быть первыми.
— А теперь первыми будем, мы, — сказал Грант. — И что будем с открытием делать? Положим конец последней войне? Может Микаэлс и был прав.
— А может обе стороны, — сухо сказал Картер,
— наконец обратятся к общечеловеческим ценностям. Давно пора.
— Особенно, когда просочится эта история, — подхватил Рейд. — Все масс-медиа начнут сочинять сказки о фантастическом путешествии «Протеуса»; требования мирного использования миниатюризации возрастут настолько, что мы сможем избавиться от господства военных в технике. И возможно, нам повезет.
Картер, вытащив сигару, мрачно уставился на нее и ответил не сразу.,
— Расскажите мне, Грант, как вы в конце концов разоблачили Микаэлса.
— На самом деле этого не было, — сказал Грант.
— Все явилось результатом массы путаных и неопределенных мыслей и соображений. Первым делом, генерал, признайтесь, что вы отправили меня на борт потому что подозревали Дюваля.
— Ну, в общем-то…
— Это знали все. Может быть, кроме самого Дюваля. Что с самого начала и заставило меня размышлять в неправильном направлении. Тем не менее вы и сами не были уверены в своих подозрениях, потому что ни о чем не предупреждали — и это уберегло меня от необдуманных поступков. На каждом из членов экипажа лежала огромная ответственность, и я понимал, что если я по ошибке заподозрю не того, вы дадите мне хорошую выволочку.
Рейд усмехнулся, а Картер, покраснев, погрузился в напряженное созерцание кончика своей сигары.
— Конечно я не обижаюсь. Получать выволочку — это часть моей работы. Так что мне пришлось ждать, пока я не обрету полную уверенность, которая ко мне так и не пришла.
— Почему?
— Мы стали жертвой целого ряда неприятных случайностей — или того, что можно было считать случайностями. Например, вышел из строя лазер. Можно было предположить, что его сломала мисс Петерсон. Но если да, то почему она действовала столь грубо и непродуманно? Она знала не меньше дюжины приемов, при которых лазер выглядел бы совершенно нетронутым и тем не менее отказывался бы работать. Она могла настроить его таким образом, что, окажись лазер в руках Дюваля, его луч со сбитым прицелом вне всякого сомнения поразил бы нерв или даже убил бы Бенеса. Столь явно выведенный из строя лазер был или случайностью, или обдуманным поступком со стороны кого-то другого, только не мисс Петерсон.
— Затем развязался мой спасательный конец, когда я был в районе легкого, в результате чего я чуть не погиб. С логической точки зрения подозреваемым мог быть только Дюваль, но именно он предложил направить луч корабельного прожектора в проем, что и спасло мне жизнь. Зачем же после попытки убить меня, он бросился спасать мне жизнь? Бессмысленно. Так что или это, тоже было случайностью или же мой спасательный конец отвязал кто-то другой, а не Дюваль.
— Мы потеряли почти все наши запасы воздуха, и организовать нам эту «маленькую» неприятность скорее всего мог Оуэнс. Но когда мы ломали себе головы, как пополнить этот запас, не кто иной как Оуэнс придумал, фокус с миниатюризацией воздуха, что было подлинным чудом. Он легко мог промолчать, и никому бы из нас и в голову не пришло обвинить его в диверсии. Но зачем выпускать воздух, а потом работать не покладая рук, чтобы наполнить цистерны? Выходит и это было то ли случайностью, то ли делом рук кого-то другого, кроме Оуэнса.
— Себя я мог исключить из списка подозреваемых. Значит оставался только Микаэлс.
— Вы делаете вывод, — сказал Картер, — что на нем ответственность за все эти случаи.
— Нет, они могли оставаться только несчастными случайностями. Этого мы никогда не узнаем. Но если мы в самом деле столкнулись с диверсиями, то Микаэлс был самым вероятным кандидатом, потому что он последним соглашался принимать участие в спасательных мероприятиях, хотя трудно было подозревать, что он был способен на такие тонкие и продуманные действия. Но давайте разберемся в нем.
Первым происшествием была встреча с артериально-венозной фистулой. То ли мы в самом деле сбились по несчастью с пути, то ли Микаэлс сознательно вывел нас к ней. Если — не в пример прочим случаям — тут был саботаж, то подозреваемым мог быть только один Микаэлс. Он сам признался, что подозрения могут пасть на него. Только он мог подвести нас к этому пункту; только он настолько хорошо изучил кровеносную систему Бенеса, что мог заметить микроскопическую фистулу, но он же и подсказал нам, как выбраться из ловушки.
— И все же, — сказал Рейд, — Это могло оказаться только досадной накладкой, добросовестной ошибкой.
— Верно! Опять-таки если при всех прочих случайностях те, кого можно было считать подозреваемыми, работали изо всех сил, чтобы спасти положение, Микаэлс, после того как мы попали в венозную систему, решительно потребовал немедленного прекращения миссии. Что он и повторял в каждом из критических положений. Он единственный настаивал на этом — совершенно сознательно. И все же, насколько я разбирался в ситуации, это не было доказательством его сознательного предательства.
— Ну, что же тогда, — сказал Картер, — было предательством с его стороны?
— Когда мы прошли миниатюризацию и с началом миссии нас ввели в артерию, я был откровенно перепуган. Всем нам, откровенно говоря, было не по себе, но Микаэлс был перепуган больше всех. Он был почти парализован страхом, что мне сразу же бросилось в глаза. Я не вижу в этом ничего позорного. Как я уже говорил, я и сам был изрядно перепуган и в сущности был рад присутствию других. По…
— Но?
— Но после того, как мы выбрались из фистулы, у Микаэлса пропали все следы страха. Когда мы все нервничали и переживали, он сохранял спокойствие. Он стал невозмутимым как скала. А ведь с самого начала он вывалил мне кучу доказательств, какой он, мол, трус — чтобы объяснить причины охватившего его страха — а ближе к концу он буквально взбеленился, когда Дюваль обвинил его в трусости. И эта смена настроения казалась мне все более и более странной.
— Продолжайте, пожалуйста, — поторопил Гранта Картер.
— Мне показалось, что для страха, вначале охватившего его, были свои специфические причины: По мере того как он вместе со всеми остальными сталкивался с опасностями, он проявил себя достаточно храбрым человеком. Но, может, предвидя столкновение с опасностью, о которой остальные не подозревали, он и испугался. Невозможность опереться на кого-то в рискованном положении, необходимость встречать смерть одному и превратили его в труса.
Кроме того с самого начала все мы были напуганы самой процедурой миниатюризации, но она прошла в общем-то гладко. После этого мы нацелились двигаться прямиком к тромбу, намереваясь прооперировать его и вернуться, что должно было занять примерно минут десять, как все считали.
— Но Микаэлс был единственным из нас, который знал, что этого не произойдет. Он единственный из всех знал, что мы столкнемся с неприятностями и что нас затянет в воронку. А Оуэнс на инструктаже говорил, что возможно судно станет исключительно хрупким, и Микаэлс должно быть ждал неминуемой смерти. Ничего нет удивительного, что его буквально нельзя было узнать.
— Когда мы в целости и сохранности выбрались из фистулы, он был буквально пьян от радости и облегчения. После этого, придя к выводу, что нам не удастся выполнить задание, он расслабился. И каждый раз, когда нам удавалось успешно преодолевать критическое положение, он не мог справиться с гневным возбуждением. Место страха занял все растущий гнев.
— И к тому времени, когда мы добрались до уха, я пришел к выводу, что нашим человеком является не Дюваль, а Микаэлс. Я не позволил ему заставить Дюваля испытать лазер после починки. Я приказал ему держаться подальше от мисс Петерсон, когда старался избавить ее от налипших антител. Но в самом конце я допустил ошибку. Я не остался с ним, когда шла операция, что и дало ему возможность захватить судно. Может, потому что у меня сохранялась еще последняя тень сомнения…
— Что за всем этим все же стоит Дюваль? — спросил Картер.
— Боюсь, что да. Поэтому я покинул лодку, чтобы наблюдать за операцией, хотя я ничего не мог бы сделать, окажись Дюваль в самом деле предателем. И не сделай я эту последнюю глупость, я мог бы доставить судно в целости и сохранности, а Микаэлca живым и невредимым.
— Ну что ж. — Картер встал. — Не такая уж дорогая цена. Бенес жив и постепенно приходит в себя. Хотя я не уверен, что Оуэнс разделяет мое мнение. Он грустит по судну.
— За что я не могу осуждать его, — сказал Грант.
Лодка в самом деле была великолепная. И… м-м-м, вы не знаете, как там мисс Петерсон?
— Она уже на ногах и находится где-то здесь, — сказал Рейд. — Она, кстати, оказалась куда выносливее, чем вы.
— То есть, она где-то тут в ОССМ?
— Да. В кабинете Дюваля, как мне кажется.
— Ага, — внезапно погрустнев, сказал Грант. — Ну что ж, помоюсь, побреюсь и могу уносить ноги.
* * *
Кора аккуратно сложила бумаги.
— Ну что ж, доктор Дюваль, если отчет может подождать до конца недели, я предпочла бы быть свободной.
— Да, конечно, — ответил Дюваль. — Я думаю, отдых всем нам не помешает. Как вы себя чувствуете?
— Вроде нормально.
— Ну и досталось всем нам, не так ли?
Улыбнувшись, Кора направилась к выходу.
В дерном проеме показалась голова Гранта.
— Мисс Петерсон?
Увидев Гранта, Кора рванулась к нему, расплывшись в улыбке.
— В кровотоке я была Корой.
— И остаетесь ею?
— Конечно. И надеюсь, всегда буду ею.
Грант замялся.
— А вы можете звать меня Чарльз. Может, когда-нибудь даже настанет день, когда вы будете звать меня добрым старым Чарли.
— Я постараюсь, Чарльз.
— Когда вы уходите с работы?
— Я уже направлялась на уик-энд.
Подумав, Грант потер свой чисто выбритый подбородок и кивнул в сторону Дюваля, который сидел не поднимая головы от бумаг.
— Вы проводите его с ним? — наконец спросил он.
— Я высоко ценю его работу, — серьезно сказала Кора. — И он ценит мою помощь. — Она пожала плечами.
— Позволено ли будет мне оценить вас?
Помолчав, она слегка улыбнулась.
— В любое время когда вам захочется. И столько, сколько вам захочется. Если… если я смогу вызвать у вас такие же чувства. И при случае я тоже выражу вам свое восхищение.
— Предупредите меня, чтобы я успел принять соответствующую позу.
Они дружно рассмеялись. Дюваль, подняв голову, увидел их у дверей, улыбнулся и сделал рукой неопределенный жест — то ли приветствие, то ли прощание.
— Я хотела бы переодеться для улицы, а потом мне бы хотелось навестить Бенеса. Что вы об этом думаете?
— А к нему пускают посетителей?
Кора покачала головой.
— Нет. Но мы особые.
* * *
Глаза у Бенеса были открыты. Он сделал попытку улыбнуться.
— Не больше минуты, — обеспокоенно шепнула сиделка. — Он не знает, что с ним было, так что не проболтайтесь ему.
— Понимаю, — сказал Грант.
Склонившись к Бенесу, он тихо спросил:
— Как вы себя чувствуете?
Бенес снова попробовал улыбнуться.
— Толком пока не знаю. Очень устал. Болит голова и свербит правый глаз, но вроде я выживу.
— Отлично!
— Чтобы прикончить ученого, — сказал Бенес, — мало трахнуть его по голове.
— У всех математиков головы крепкие, как камень, а?
— Чему мы можем только радоваться, — вежливо сказала Кора.
— А теперь я должен припомнить то, ради чего я тут и оказался. В голове еще легкий туман, но все возвращается. Все осталось во мне, все до капельки. — Наконец он смог улыбнуться.
— Вы были бы очень удивлены узнав, чего только в вас нет, профессор, — сказал Грант.
Сиделка буквально выставила их, и Грант с Корой покинули палату, ощущая тепло рук друг друга — они вышли в мир, в котором для них внезапно исчезли все страхи и тревоги и который открывался перед ними миром большой радости.
Книга II. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ — МОЗГ
Глава 1
«Нам нужен тот, кто сумеёт устоять перед лестью».
Дежнев СтаршийНУЖЕН
— Извините. Вы говорите по-русски? — он услышал низкий голос, чистое контральто.
Альберт Джонас Моррисон замер, сидя на стуле. В затемненной комнате на мониторе компьютера упорно высвечивались графические изображения, на которые он не обращал внимания. Должно быть, почти спал. Когда он занял свое место, справа от него определенно сидел мужчина. Как тот успел превратиться в женщину? Или он переместился по воздуху?
Моррисон откашлялся и спросил:
— Вы что-то сказали, мэм?
Он не мог отчетливо рассмотреть ее в темной комнате, а мерцающий свет монитора скорее мешал, чем помогал. Он заметил темные — не искусственные — прямые волосы, стянутые в тугой узел и закрывающие уши.
Она повторила:
— Я спросила, говорите ли вы по-русски?
— Да. Почему вы меня об этом спросили?
— Потому, что так легче общаться. Мой английский подводит меня. Вы доктор Моррисон? В такой темноте я не уверена. Извините, если я обозналась.
— Я — Альберт Джонас Моррисон. Мы встречались раньше?
— Нет, но я знаю вас. — Она протянула руку, слегка дотронувшись до его рукава. — Вы очень мне нужны. Вы слышите меня? Мне кажется, вы не слушаете.
Разумеется, они разговаривали шепотом. Моррисон невольно посмотрел вокруг. В комнате, почти без обстановки, никого кроме них не было. Однако, как и она, он говорил шепотом, все тише и тише.
— А если нет? Что тогда? (Он заинтересовался, во всяком случае скука исчезла, хотя слово «очень» усыпляло его.)
— Пойдемте со мной. Я — Наталья Баранова.
— Пойти с вами? Куда, мисс Баранова?
— В кафетерий, там мы сможем поговорить. Это ужасно важно…
Так началась эта история.
* * *
Впоследствии Моррисон решил: все это не имело большого значения. Да, он находился в той странной комнате, да, он не был настороже и оказался настолько заинтригованным и польщенным, что пошел с женщиной, которая нуждалась в нем.
В конце концов, она бы нашла его, где бы он ни был, ухватилась бы за него и заставила слушать. При других обстоятельствах это было бы труднее, но все произошло бы именно так. Он был в этом уверен.
Ему некуда было деваться.
Теперь он смотрел на нее при нормальном освещении; она была не такой молодой, как ему сначала показалось. Тридцать шесть? Сорок, может быть?
Темные волосы. Никакой седины. Четкие черты лица. Густые брови. Энергичный рот. Симпатичный нос. Плотная, но не полная, фигура. Ростом почти, с него, хотя на низких каблуках. В целом, привлекательная женщина без особой красоты. Такой тип женщины, решил он, к которому можно привыкнуть.
Стоя напротив зеркала, он вздохнул, увидев свое отражение. Редеющие волосы песочного цвета. Поблекшие голубые глаза. Худое лицо, худое жилистое тело. Крючковатый нос. Приятная, он надеялся, улыбка, но нет, не то лицо, к которому захотели бы привыкнуть. Бренда так и не смогла привыкнуть к нему за десять лет. И свое сорокалетие он будет отмечать пять дней спустя, после пятилетней годовщины их окончательного и официального разрыва.
Официантка принесла кофе. Они сидели, молча изучая друг друга. Наконец Моррисон почувствовал, что он должен что-то сказать.
— Может, водки? — он попробовал быть деликатным.
Она улыбнулась, что сделано ее более русской.
— Тогда кока-колы?
— Хотя и по-американски, но кока-кола, во всяком случае, дешевле.
— Разумно, — Моррисон засмеялся.
— Вы на самом деле так хорошо знаете русский?
— Сейчас увидите. Давайте говорить по-русски. Мы будем выглядеть, как пара шпионов.
Последнее предложение он произнес на русском языке. Смена языка не имела для него значения. Он говорил на русском и понимал его так же легко, как и английский. В этом не было ничего удивительного. Если американец желает заниматься наукой, успевать следить за литературой, он должен уметь обращаться с русским языком почти так же, как русский ученый — с английским.
Эта женщина, Наталья Баранова, явно лукавила, говоря, что слаба в английском языке, изъяснялась на нем она бегло и всего лишь с небольшим акцентом отметил про себя Моррисон.
— Почему мы будем выглядеть, как шпионы? Сотни тысяч американцев говорят по-английски в Советском Союзе, и сотни тысяч советских граждан
говорят по-русски в Соединенных Штатах. Не то что в старые тяжелые времена.
— Верно. Я пошутил. Но в таком случае, почему вы хотите говорить по-русски?
— Мы находимся в вашей стране, и это дает вам психологическое преимущество, не так ли, доктор Моррисон? Если мы будем общаться на моем родном языке, это немного выровняет весы.
Моррисон отпил немного кофе.
— Как хотите.
— Скажите, доктор Моррисон, вы меня помните?
— Нет. Я никогда раньше с вами не встречался.
— А мое имя? Наталья Баранова? Вы слышали обо мне?
— Извините, если бы вы работали в моей сфере деятельности, я бы услышал о вас. Но поскольку я вас не знаю, я полагаю, что это не так. С какой стати я должен о вас знать?
— Это облегчило бы положение, но пусть будет так, как есть. Тем не менее, я вас знаю. Действительно, я очень много знаю о вас. Когда и где вы родились, о ваших школьных годах. Вы развелись, и у вас есть две дочери, которые живут с вашей бывшей женой. Я знаю о вашем положении в университете и о ваших исследованиях.
Моррисон пожал плечами:
— В наше компьютеризированное время это нетрудно. Не знаю, гордиться мне этим или, наоборот, расстраиваться.
— Но почему?
— Это зависит от того, что вы имеете в виду. Если то, что я известен в Советском Союзе, — это мне лестно. А если я являюсь объектом слежки — это меня раздражает.
— Я намерена быть честной. Я следила за вами — по очень важным для меня причинам.
Моррисон холодно произнес:
— По каким причинам?
— Во-первых, вы — нейрофизик.
Моррисон допил свой кофе и рассеянно дал знак официантке принести еще. Баранова, очевидно, потеряла интерес к кофе, оставив полчашки не выпитой.
— Но есть и другие нейрофизики, — пробурчал Моррисон.
— Не такие, как вы.
— Несомненно вы мне стараетесь польстить. И все потому, что вы не все обо мне знаете. Вы не знаете некоторые отрицательные моменты.
— Что вы не добились успеха? Что ваши методы анализа импульсов мозга не признают?
— Но если вы это знаете, что вам нужно от меня?
— В нашей стране есть нейрофизик, который знаком с вашей работой и считает ее блестящей. Вы просто совершили прыжок в неизвестность, по его словам, и даже если вы не правы, вы блестяще не правы.
— Блестяще не прав? Что это значит?
— Он считает, что нельзя блестяще ошибаться, не будучи одновременно правым. Даже если вы в чем-то ошибаетесь, то все равно то, что вы пытаетесь доказать, оказывается полезным. И выходит, что вы совершенно правы.
— Как зовут это сокровище, у которого такое мнение обо мне? Я упомяну его добрым словом в своих будущих статьях.
— Петр Леонидович Шапиров. Вы слышали о нем?
Моррисон выпрямился на стуле. Он не ожидал этого.
— Слышал ли о нем? — повторил он. — Я знаком с ним. Я звал его Пит Шапиро. Здесь, в Соединенных Штатах, считают его таким же сумасшедшим, как и меня. Оказывается, он поддерживает меня, и это ускорит мою гибель. Послушайте, передайте Питу, что я ценю его веру в меня, но если он действительно желает помочь мне, пожалуйста, попросите его никому не говорить, что он на моей стороне.
Баранова неодобрительно на него посмотрела.
— Вы не очень серьезный человек. Неужели вы ничего не принимаете всерьез?
— Нет. Я не принимаю всерьез только себя. Я действительно сделал нечто важное, но в это никто не верит. Кроме Пита — как я сейчас узнал. Но это не в счет. Я не могу сейчас опубликовать свои работы.
— Тогда приезжайте в Советский Союз. Мы сможем использовать вас и ваши идеи.
— Нет, нет. Я не собираюсь эмигрировать.
— Кто говорит эмигрировать? Если вы хотите быть американцем, оставайтесь им. Вы ведь уже были когда-то в Советском Союзе и сможете приехать туда и побыть некоторое время. Потом возвратитесь в свою, страну.
— Зачем мне это?
— У вас сумасшедшие идеи, у нас — тоже. Возможно, ваши идеи помогут нашим.
— Какие идеи? Я имею в виду ваши. Свои я знаю.
— Нам нечего обсуждать, пока я не буду уверена, что у вас есть, может быть, желание помочь нам.
Моррисон вдруг спиной смутно ощутил суету вокруг себя, шум людей, которые пили, ели, разговаривали — многие из них, конечно, участвовали в конференции, как и он. Внимательно рассматривая эту впечатлительную русскую женщину, которая соглашалась с сумасшедшими идеями, он подумал, что…
Он фыркнул и выкрикнул:
— Баранова! Я слышал о вас. Конечно. Пит Шапиро говорил мне о вас. Вы…
В возбуждении он заговорил по-английски, ее рука неожиданно опустилась на его руку, впившись ногтями в кожу.
Он остановил ее, заставив убрать руку.
— Извините. Я не хотела сделать вам больно.
Он посмотрел на следы ногтей, заметил легкий кровоподтек и спокойно сказал по-русски:
— Вы — минимизатор.
* * *
Баранова смотрела на него с непринужденным спокойствием.
— Может, немного погуляем, посидим на лавочке у реки? Погода сегодня прекрасная.
Моррисон держался за слегка поврежденную руку. Он подумал, что немногие заметили, как он выкрикнул на английском языке, и никто, казалось, не обратил на него внимание. Он отрицательно покачал головой:
— Думаю, что нет. Я должен присутствовать на конференции.
Баранова улыбнулась, как будто он соглашался, что погода действительно была прекрасной.
— Думаю, что гораздо интереснее посидеть у реки.
На какое-то мгновение ее улыбка показалась Моррисону соблазняющей. Но, разумеется, она ни на что не намекала.
Он оставил эту мысль, не успев ее ясно сформулировать для себя. В его голове проскользнуло что-то наподобие: «Красивая русская шпионка с прекрасным телом заманивает наивных американцев».
Во-первых, она не была красавицей, и ее тело нельзя было назвать заманчивым. Кроме того, не похоже, чтобы подобное было у нее на уме, и он сам, в конце концов, не был наивен и даже не проявлял интереса к ней.
И все же он не заметил, как оказался с ней по дороге через кампус к реке. Они шли медленно. Она оживленно рассказывала о своем муже Николае и сыне Александре, который ходил в школу и по какой-то непонятной причине увлекался биологией, хотя она сама занималась термодинамикой. К большому разочарованию отца, он ужасно играл в шахматы, но подавал большие надежды в игре на скрипке.
Моррисон не слушал. Вместо этого он погрузился в собственные мысли, пытаясь вспомнить, что он слышал о заинтересованности русских в минимизации и какая может быть связь между этим и его работой.
Она указала на скамейку:
— Эта, по-моему, выглядит достаточно чистой.
Они присели. Моррисон уставился на реку. На самом же деле он не видел воду, а наблюдал за машинами, тянущимися вдоль по шоссе с двух сторон, а река кишела лодками с веслами, похожими на сороконожки. Он молчал, и Баранова, задумчиво посмотрев на него, произнесла:
— Вам не интересно?
— Неинтересно что?
— Мое предложение поехать в Советский Союз.
— Нет! — отрезал он.
— Но почему? Если ваши американские коллеги не признают ваши идеи, из-за чего у вас депрессия, и вы ищете выход из тупика, в который зашли, почему бы вам не поехать к нам?
— Коль вы так изучили мою жизнь, я уверен: вы знаете, что мои идеи не признают. Но откуда такая уверенность, что у меня депрессия из-за этого?
— Любой здоровый человек может дойти до такого состояния. И кто-то должен сказать вам об этом.
— Вы согласны с моими идеями?
— Я? Я не занимаюсь этим. Я ничего не знаю — то есть очень мало знаю — о нервной системе.
— Полагаю, вы просто согласны с мнением Шапирова.
— Да. И даже если бы это было не так — смелые проблемы надо решать смелыми методами. Что плохого, если мы испытаем ваши идеи в качестве методов? Нам, определенно, от этого не станет хуже.
— Значит, вам известно о моих исследованиях. Их материалы были напечатаны?
Она с решительностью на него посмотрела:
— Мы не думаем, что все было опубликовано. Вот почему мы нуждаемся в вас.
Моррисон невесело рассмеялся.
— Какую пользу я могу принести в области, связанной с минимизацией? Я в ней разбираюсь хуже, чем вы в проблемах изучения мозга. Гораздо хуже.
— А вы вообще что-нибудь знаете о миниатюризации?
— Только две вещи: что советские ученые занимаются исследованиями в этой области и что она невозможна.
Баранова задумчиво смотрела на реку.
— Невозможно? А если я вам скажу, что мы справились с этой задачей?
— Я бы скорее поверил, что белые медведи летают.
— С какой стати я буду вам лгать?
— Я привык объяснять сам факт. А мотивировка меня не интересует.
— Почему вы так уверены, что минимизация невозможна?
— Если уменьшить человека до размеров мухи, тогда вся его масса должна вместиться в объем мухи. Вы придете к плотности примерно, — он задумался, — в сто пятьдесят тысяч раз больше плотности платины.
— Ну а если пропорционально уменьшить массу?
— Тогда в уменьшенном человеке атомов будет в три миллиона раз меньше, чем в нормальном. Человек, уменьшенный до размеров мухи, просто получит мозг мухи.
— А если уменьшить атомы?
— Если минимизировать атомы, как вы говорите, тогда постоянная Планка, являющаяся, безусловно, неизменной величиной во Вселенной, не позволит это сделать. Минимизированный атом слишком мал, чтобы вписаться в структуру Вселенной.
— А если я вам скажу, что уменьшена постоянная Планка и вследствие этого человек будет помещен в такую среду, в которой структура Вселенной невероятно тоньше, чем при нормальных условиях?
— Тогда я не поверю вам.
— Не изучив проблему? Вы отказываетесь поверить в это из-за предвзятых убеждений подобно тому, как ваши коллеги отказываются поверить вам?
При этих словах Моррисон на мгновение замолчал.
— Это совсем другое, — пробормотал он наконец.
— Другое? — Она опять задумчиво уставилась на реку. — Что другое?
— Мои коллеги считают, что я не прав. По их мнению, мои идеи — не только невозможны теоретически, они — неправильны.
— Тогда минимизация — невозможна?
— Да.
— В таком случае приезжайте и посмотрите сами. Если окажется, что минимизация невозможна, как вы говорите, хотя бы в течение месяца будете гостем советского правительства. Все расходы будут оплачены. Если вы хотите привезти с собой кого-нибудь, возьмите ее. Или его…
Моррисон покачал головой:
— Нет, спасибо. Пожалуй, нет. Даже если минимизация возможна, это не моя область деятельности. Это мне не поможет и не заинтересует меня.
— Откуда вы знаете? Что, если минимизация даст вам такую возможность в изучении нейрофизики, какую вы раньше никогда не имели — и никто не имел? И что, если, занимаясь этим, вы сможете помочь нам? Мы могли бы внести свой вклад в дело.
— Разве вы можете предложить что-то новое в изучении нейрофизики?
— Но, доктор Моррисон, я думала, мы как раз об этом и говорим. Вы не можете доказать правоту своей теории, потому что нельзя достаточно тщательно изучить нервные клетки, не повредив их. А что, если мы увеличим нейрон до размера Кремля, и даже больше, так, чтобы вы смогли изучить каждую его молекулу?
— Значит, вы можете, наоборот, увеличить нейрон до желаемых вами размеров?
— Нет, мы пока не можем этого сделать, но в наших силах уменьшить вас, что равносильно, не так ли?
Моррисон встал, уставившись на нее.
— Нет, — произнес он полушепотом. — Вы с ума сошли? Вы думаете, я — сумасшедший? До свидания! До свидания!
Он развернулся и устремился большими шагами прочь.
Она окликнула его:
— Доктор Моррисон, послушайте меня.
Он отмахнулся и бросился бежать через дорогу, с трудом уворачиваясь от машин.
Моррисон вернулся в отель и теперь, тяжело дыша, чуть ли не приплясывая от нетерпения, ожидал лифта.
* * *
Он все еще дрожал, стоя у дверей своего номера в гостинице с зажатым в руке пластмассовым прямоугольником от ключа. С трудом переводя дыхание, Моррисон размышлял, знает ли эта женщина номер его комнаты. Конечно, может узнать, будучи достаточно настойчивой. Он осмотрел коридор, боясь увидеть ее бегущей к нему с распростертыми руками, с искаженным лицом и растрепанными волосами.
Он пару раз встряхнул головой. Нет, это сумасшествие. Что она могла сделать с ним? Она не сможет насильно увезти его. Она не сможет заставить его делать что-либо против его желания. Что за детский страх охватил его?
Он отдышался и сунул ключ в замочную скважину. Почувствовав легкий щелчок, вынул ключ. Дверь распахнулась.
У окна в плетеном кресле сидел человек. При виде Моррисона, он улыбнулся и сказал:
— Входите.
Моррисон уставился на незнакомца в изумлении. Затем повернулся, чтобы посмотреть на табличку с номером комнаты, и убедиться, что он попал к себе в номер.
— Нет, нет. Это ваша комната, все в порядке. Входите и закройте дверь за собой.
Моррисон молча последовал приказу, не отрывая изумленных глаз от человека. Будучи довольно полным, но не слишком толстым, он заполнил своим телом все кресло. На нем был легкий льняной полосатый пиджак и ослепительная белая рубашка. На еще не лысой, но явно лысеющей голове виднелись каштановые кудри. Он не носил очки, хотя его маленькие глазки казались близорукими.
Неожиданный посетитель заговорил:
— Вы сюда бежали, правда? Я наблюдал за вами, — он указал на окно. — Вы сидели на лавочке, затем встали и бегом направились к отелю. Я надеялся, что вы подниметесь в свою комнату. Мне не хотелось ждать вас здесь весь день.
— Вы находитесь здесь, чтобы следить за мной из окна?
— Нет, совсем не поэтому. Это получилось случайно. Просто вы пошли с дамой к этой лавке. Непредвиденно, но удачно. Но все в порядке. Если бы я не наблюдал за вами из окна, другие бы сделали это.
Моррисон затаил дыхание, собираясь с мыслями и намереваясь задать вопрос, необходимый для сохранения чувства собственного достоинства в разговоре.
— И все-таки, кто вы?
Человек улыбнулся в ответ. Доставая из кармана пиджака бумажник и открывая его, он произнес:
— Сигнатура, голограмма, отпечатки пальцев, запись голоса.
Моррисон перевел глаза с голограммы на улыбающееся лицо. Голограмма тоже улыбалась.
— Хорошо, вы из органов безопасности. Но даже это не дает вам права врываться в мое жилище. Меня всегда можно найти. Вы могли бы позвать меня из коридора или постучать в дверь.
— Определенно говоря, вы правы, конечно. Но я думал, что самое лучшее — встретиться с вами как можно незаметнее. Кроме того, я воспользовался старым знакомством.
— Каким еще старым знакомством?
— Два года назад. Разве вы не помните? Международная конференция в Майами? Вы выступали с научным докладом, и у вас были неприятности из-за него…
— Я помню. Я помню доклад. Но именно вас я не помню.
— Возможно. В этом нет ничего удивительного. Мы познакомились позже. Я обратился к вам с вопросами. И мы даже немного выпили вместе.
— Я не считаю это старым знакомством. Фрэнсис Родано?
— Да, это мое имя. Вы даже правильно его произнесли. Ударение на втором слоге. Широкое «а». По-видимому, память на уровне подсознания.
— Нет, я не помню вас. Я прочитал ваше имя на удостоверении личности. Я, наверное, забыл вас.
— Я хотел бы официально поговорить с вами.
— Похоже, что все хотят поговорить со мной. О чем?
— О вашей работе.
— Вы нейрофизик?
— Вам должно быть известно, что нет. Моя основная специальность — славянские языки, а вторая — экономика.
— О чем же мы можем поговорить? Я плохо владею русским, вы, наверное, — лучше. И я к тому же ничего не смыслю в экономике.
— Мы можем поговорить о вашей работе. О той, которой вы занимались два года назад. Послушайте, почему вы не присядете? Это ваша комната, и я не отбираю ее у вас, поверьте. Если вы хотите сесть в кресло, я с удовольствием уступлю его вам.
Моррисон присел на кровать.
— Давайте покончим с этим. Что вы хотите узнать о моей работе?
— То же самое, что я хотел узнать два года назад. Как вы считаете, есть в вашем мозге особая структура, вырабатывающая творческие мысли?
— Не совсем так. Это нельзя выделить обычным путем. Это сеть, состоящая из нейронов. Да, я думаю, что-то есть. Это очевидно. Трудность в том, что больше никто так не считает, потому что не может определить, где это находится, и не имеет никаких сведений об этом.
— А вы нашли где?
— Нет, я вновь возвращаюсь к результатам и анализам импульсов мозга и, кажется, я еще не уверен. Мои анализы — не ортодоксальны. — Он резко добавил: — Ортодоксальность в этой области никуда не привела, но мне не позволят быть неортодоксальным.
— Я слышал, что математические методы, используемые в ваших электроэнцефалографических анализах, не только не ортодоксальны, а просто ошибочны. Ортодоксальный и ошибочный — разные вещи.
— Единственная причина, по которой говорят, что я ошибаюсь, — это то, что я не могу доказать свою правоту. Единственная причина, по которой я не могу доказать свою правоту, — это невозможность изучить достаточно тщательно изолированный нейрон мозга.
— Вы пытались заниматься этим? Если вы работаете с живым человеческим мозгом, разве вы не делаете себя уязвимым для судебных исков и криминальных разбирательств?
— Конечно, я — не сумасшедший. Я работаю с животными. Я вынужден.
— Все это вы говорили мне два года назад. Я полагаю, вы не сделали потрясающих открытий за последнее время?
— Нет. Но я все равно убежден, что я прав.
— Ваше убеждение ничего не значит, если вы не в состоянии больше никого убедить. Но сейчас я хочу задать вам другой вопрос. Сделали вы что-нибудь за последние два года, что смогло бы убедить русских?
— Русских?
— Да. Почему мой вопрос вызывает у вас удивление, доктор Моррисон? Разве вы не провели пару часов за беседой с доктором Барановой? Вы не от нее только что вернулись в такой спешке?
— Доктор Баранова? — Моррисон в замешательстве ничего не мог придумать лучше, чем повторить, как попугай.
Лицо Родано нисколько не потеряло своего приятного выражения.
— Точно. Вот именно. Мы хорошо ее знаем. Мы ведем наблюдение за ней каждый раз, когда она приезжает в Соединенные Штаты.
— Звучит, как в старые тяжелые времена, — пробормотал Моррисон.
Родано пожал плечами:
— Совсем нет. Сейчас не существует опасности атомной войны. Мы вежливы друг с другом. Советский Союз и мы. Сотрудничаем в космосе. У нас совместная горнорудная станция на Луне, свободный въезд на космические поселения. Это все создает благоприятную обстановку в настоящее время. Но, доктор, некоторые вещи совершенно не изменились. Мы следим за нашими политическими компаньонами, русскими, только для того, чтобы быть уверенными в их доброжелательности. Почему бы и нет? Они следят за нами.
— Похоже, что вы следите и за мной.
— Но вы находились с доктором Барановой. Мы не могли за вами не следить.
— Это больше никогда не повторится, уверяю вас. Я постараюсь не появляться вновь поблизости от нее, если смогу. Она — сумасшедшая женщина.
— Это действительно так?
— Поверьте мне на слово. Послушайте, все, о чем мы говорили с ней, не является секретным, насколько мне известно. Я свободно могу повторить все, что она сказала. Она принимает участие в проекте по миниатюризации.
— Мы слышали об этом, — непринужденно сказал Родано. — На Урале они специально построили город, где занимаются экспериментами в этой области.
— Что-нибудь известно об их достижениях?
— Сомневаюсь.
— Она пыталась рассказать мне, что они добились настоящей минимизации.
Родано молчал.
Моррисон, подождав немного, когда тот заговорит, наконец сказал:
— Но это невозможно, скажу я вам. С научной точки зрения невозможно. Вы должны понять это. А так как сфера вашей деятельности — славянские языки и экономика, поверьте мне на слово.
— Зачем, друг мой? Многие считают это невозможным, но все же мы не уверены. Советские ученые свободно могут играть в минимизацию, если им так хочется, но мы не желаем, чтобы они Опередили нас. В конце концов, мы не знаем, где все это Может быть использовано.
— Нигде! Нигде! — взорвался Моррисон. — Нет никакой причины для волнений. Если наше правительство действительно беспокоится о том, чтобы Советский Союз не опередил нас намного в технологии, это еще больше ускорит безумие минимизации. Пусть Советы тратят деньги, время и средства и сосредотачивают на этом свой научный потенциал. Все впустую.
— И все же, — возразил Родано, — я не думаю, что доктор Баранова безумна или глупа, во всяком случае не безумнее и не глупее вас. Знаете, о чем думал, когда внимательно наблюдал за вами обоими во время вашей беседы в парке на лавочке? Мне показалось, что она нуждается в вашей помощи. Возможно, она считает, что с помощью ваших теорий в нейрофизике вы сможете помочь русским продвинуться в области минимизации. Их и ваши сверхъестественные идеи в сумме составят нечто совсем не сверхъестественное. Примерно так я думаю.
Моррисон сжал губы:
— Я сказал, что мне нечего скрывать, поэтому я заявляю, что вы правы. Как вы сказали, она хочет, чтобы я поехал в Советский Союз и помог в их проекте минимизации. Меня не интересует, как вы это узнали, но я не думаю, что это просто случайная догадка, и не пытайтесь уверить меня в этом.
Родано улыбнулся, а Моррисон продолжил:
— Как бы там ни было, я сказал «нет». Я твердо отказал. Встал и сразу же ушел, очень быстро. Вы это видели. Это правда. Я могу представить вам об этом отчет, если вы мне дадите время. Да я уже отчитываюсь перед вами! У вас нет никаких оснований не верите мне, потому что с какой стати я должен принимать участие в проекте, который не имеет никакого смысла? Даже если бы я захотел работать против своей страны, а это неправда, я достаточно отдаю себе отчет, как физик, и не дам вовлечь себя в такое безумие, как работа над безнадежной задачей. С таким же успехом они могут работать над вечным двигателем, или антигравитацией, или сверхсветовым полетом, или… — он покрылся испариной.
Но Родано вежливо произнес:
— Что вы, доктор Моррисон, никто не сомневается в вашей лояльности. И я, разумеется, тоже. Я здесь не потому, что меня беспокоит факт, что вы беседовали с русской женщиной. Я здесь потому, что мы думаем, что она могла бы сделать вам предложение, но боимся, что вы ее не послушаете.
— Что?
— Поймите меня, доктор Моррисон. Пожалуйста, поймите. Мы бы посоветовали на самом деле… мы бы очень хотели, чтобы вы… поехали с доктором Барановой в Советский Союз…
* * *
Моррисон, бледный, с дрожащими губами, уставился на Родано. Он запустил правую руку в волосы и сказал:
— Почему вы хотите, чтобы я поехал в Советский Союз?
— Не я хочу этого. Этого хочет правительство Соединенных Штатов.
— Почему?
— По вполне понятным причинам. Если Советский Союз занимается экспериментами в области минимизации, нам хотелось бы знать о них как можно больше.
— У вас есть мадам Баранова. Она должна знать очень много. Схватите ее и выбейте из нее информацию.
Родано вздохнул и произнес:
— Я знаю, что вы шутите. В наше время мы не можем этого сделать. Вы знаете это. Советский Союз сразу же предъявит обвинение самым неприятным образом, и мировая общественность поддержит их. Поэтому давайте не будем терять время на подобные шутки.
— Хорошо. Официально мы не можем поступить так грубо. Но я полагаю, у нас есть агенты, которые пытаются докопаться до подробностей.
— «Пытаются» — не то слово, доктор. У нас есть агенты в Советском Союзе, не говоря об изощренной технике шпионажа как на Земле, так и в космосе. Так же, кстати, как и у них. Мы с ними весьма преуспели в слежке, так же хорошо научились конспирации. Хотя русские обогнали нас в этом. Даже сейчас Советский Союз, как мы понимаем, не является открытой страной, и у них более Чем вековой опыт секретности.
— Что же вы хотите от меня?
— Вы — совсем другое дело. Обычный агент посылается в Советский Союз или другие районы действия русских под определенным прикрытием, которое может быть раскрыто. Он — или она — должен внедриться туда, где его не ждут, и умудриться добыть секретную информацию. Это нелегко. И ему — или ей — обычно не удается это, и его — или ее — иногда раскрывают, что всегда очень неприятно. А вас приглашают, они ведут себя так, как будто нуждаются в вас. Вас пригласят в самый центр секретных работ. Сколько у вас будет возможностей!
— Но они сделали мне предложение только сейчас. Откуда у вас такая осведомленность?
— Вами давно уже интересуются. Причина моего знакомства с вами два года назад — интерес, который проявляли к вам еще тогда. Мы хотели разобраться в этом. Они были готовы сделать первый шаг.
Моррисон барабанил пальцами по ручке кресла, выбивая ритмичные звуки.
— Давайте прямо. Я соглашаюсь ехать с Натальей Барановой в Советский Союз, полагаю, в тот район, где, предположительно, занимаются работой по минимизации. Я притворяюсь, что помогаю…
— Вам не нужно притворяться, — спокойно заметил Родано. — Помогите им, если сможете, особенно ели это поможет вам лучше изучить процесс.
— Ладно, помогу им. И затем, по возвращении, Предоставлю вам полученную информацию.
— Именно.
— А что, если не будет никакой информации? Что, если все это — большой блеф или самообман?
Что, если они следуют за очередным Лысенко в никуда?
— Тогда мы перестанем сомневаться. Нам это будет приятно узнать. Ведь дело только в том, чтобы знать, а не путаться в догадках. В конце концов, русские, в чем мы абсолютно уверены, находятся под впечатлением, что мы делаем успехи в области антигравитации. Возможно, так и есть, а может, и нет. Они не уверены, а мы не намерены говорить им правду. Пока мы не приглашаем советских ученых приехать и помочь нам, чтобы дать им свободный доступ. Коли на то пошло, говорят, что китайцы работают над сверхсветовыми полетами. Как ни странно, а это вы считаете теоретически невозможным. Правда, я не слышал, чтобы кто-то работал над вечным двигателем.
— Нации играют в нелепые игры, — заметил Моррисон. — Почему бы нам не сотрудничать? Это похоже на старые трудные времена.
— Но жить в наше время — еще не значит жить в раю. Еще остались подозрения и стремления опередить друг друга. Возможно, это даже к лучшему. Если нами движут экономические причины развития, это приведет не к войне, а к более быстрому прогрессу. Перестанем красть научные достижения у соседей и друзей, придем к праздности и задержке развития.
— Значит, если я поеду и, в конечном счете, доложу вполне авторитетно, что русские работают впустую или действительно прогрессируют в такой-то области, тогда я окажу помощь не только Соединенным Штатам, но и всему миру, включая даже Советский Союз, в сохранении энергии и прогресса?
Родано одобрительно закивал головой:
— Именно так нужно подходить к этой проблеме.
— Я не могу не выразить должной похвалы. Вы умны, вы — мастер своего дела. И все же я не попался на вашу удочку. Я за сотрудничество между нациями и не собираюсь играть в эти опасные игры двадцатого века в наше рациональное время двадцать первого. Я сказал доктору Барановой «нет» и вам отвечаю — «нет».
— Вы понимаете, что этого желает правительство?
— Я понимаю, что вы меня просите, а я вам отказываю. Но даже если вы действительно представляете государственную точку зрения, я также намерен отказать.
* * *
Моррисон сидел раскрасневшийся, оживленный. Сердце его колотилось, он чувствовал себя героем.
«Никто не заставит меня изменить решение, — думал он. — Что они со мной сделают? Бросят в тюрьму? За что? Должно быть обвинение». Он ждал гнева. И угроз.
Родано посмотрел на него с выражением крайнего смущения.
— Почему вы отказываетесь, доктор Моррисон? — спросил он. — Разве у вас нет чувства патриотизма?
— Патриотизм есть. Но я — не сумасшедший.
— При чем здесь это?
— Вы знаете, что планируют сделать со мной?
— Что?
— Они собираются уменьшить меня и поместить в человеческое тело для исследования нейрофизического состояния клетки мозга изнутри.
— Почему они хотят сделать это с вами?
— Предполагают, это поможет мне в моих исследованиях и будет им на пользу, но я совершенно не собираюсь участвовать в подобном эксперименте.
Родано взъерошил свои пушистые волосы. Однако быстро пригладил их, словно боясь показать обнаженную розовую кожу черепа.
— Но вас, возможно, это не интересует. Ведь вы говорите, что минимизация абсолютно невозможна, поэтому они не могут вас уменьшить, каковы бы ни были их намерения и желания.
— Они будут проводить на мне какие-то эксперименты. Говорят, что они достигли результатов. Либо
— лгут, либо — сумасшедшие. В любом случае, я не буду участвовать в их играх — ни для их удовольствия, ни для вашего, ни для всего американского правительства.
— Они — не сумасшедшие, — возразил Родано.
— И каковы бы ни были их намерения, они прекрасно знают, что несут ответственность за здоровье и жизнь американского гражданина, которого приглашают к себе в страну.
— Спасибо! Спасибо! Как они будут отвечать?
Пошлете им официальное заявление? Будете держать одного из них в репрессалии? Кроме того, кто утверждает, что меня казнят на Красной площади? Что, если они решат не отпускать меня назад, чтобы я не смог рассказать об их работе по минимизации? Они получат от меня все, что хотят, и решат, что американскому правительству не следует давать возможность извлечь пользу из информации, которую я получу. Тогда они организуют несчастный случай. Как жаль! Как жаль! И они, конечно, заплатят компенсацию моей скорбящей семье и пришлют гроб, задрапированный флагом. Нет, спасибо. Я не подхожу для миссии самоубийцы.
— Вы драматизируете. Вы будете гостем. Помогите им, если сможете. И вам не нужно стремиться что-то узнать. Мы не заставляем вас шпионить и будем благодарны за все, с чем вы неминуемо познакомитесь. Более того, у нас есть люди, которые по возможности будут наблюдать за вами. Мы постараемся, чтобы вы вернулись назад невредимым…
— Если сможете, — прервал Моррисон.
— Если сможем, — согласился Родано. — Мы не обещаем вам невозможное. Я думаю, в противном случае вы бы нам не поверили.
— Делайте, что хотите, но эта работа не для меня. Я недостаточно смел. Я не намерен быть пешкой в безумной шахматной игре, поставив свою жизнь на карту только потому, что вы — или правительство — просите меня об этом.
— Вы напрасно боитесь.
— Нет. Страх имеет определенное значение, он делает человека осторожным и сохраняет ему жизнь.
— Он помогает выжить таким, как я. Это называется трусость. Некрасиво, может быть, трусить, имея мускулы и интеллект быка. Но для слабого человека — это не преступление. Все-таки я не настолько труслив, чтобы меня смогли заставить взять на себя роль самоубийцы, просто потому, что я боюсь обнаружить свою слабость. Я охотно в этом признаюсь. У меня не хватает храбрости. А сейчас, пожалуйста, уходите.
Родано вздохнул, слегка пожав плечами и слабо улыбнувшись, он медленно встал.
— Что ж. Мы не можем заставить вас силой служить своей стране, если вы не хотите.
Он направился к дверям, слегка волоча ноги. Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся и сказал:
— Все же меня это немного расстраивает. Боюсь, что я был не прав, а я не люблю ошибаться.
— Не прав? А что вы сделали? Поспорили на пять баксов, что я прыгну, отдав жизнь за свою страну?
— Нет. Я думал, что вы прыгните, чтобы сделать карьеру. В конце концов, вы больше ничего не добьетесь. К вам никто не прислушивается, ваши научные статьи больше не печатают. Положение в университете не меняется. Срок пребывания в должности? Забудьте о нем. Правительственные стипендии? Никогда. Не потому, что вы отказались от нашего предложения. К концу года у вас не будет ни дохода, ни положения. И вы не едете в Советский
Союз. Хотя я был уверен: поедете, чтобы воспользоваться единственной возможностью спасти карьеру. Потеряв все, что вы будете делать?
— Это мои проблемы.
— Нет, это наши проблемы. Игра в этом добродетельном новом мире называется технологический прогресс: престиж, авторитет, компетенция могут сделать то, на что другие силы не способны. Игра между двумя главными конкурентами и их союзниками, нами и ими, Соединенными Штатами и Со-кетским Союзом. При всей нашей осторожной дружбе, мы все еще соревнуемся. И фигурами в этой игре являются ученые и инженеры, и предполагается, что любая слабая фигура может быть использована другой стороной. Вы и есть такая фигура, доктор Моррисон. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Я понимаю, что вы готовы наступать.
— Вы утверждаете, что доктор Баранова приглашает вас посетить Советский Союз? Да? Если бы она не поддерживала ваши идеи, разве она пригласила бы вас в свою страну работать?
— Я был прав. Вы наступаете.
— В мои обязанности входит наступать, когда мне полит долг. Что, если я все-таки прав? И вы прыгнете, чтобы сделать карьеру. Вы ведь намерены остаться здесь и принимать советские деньги или поддержку русских за информацию, которую можете дать взамен.
— Неправда. Такого предложения не было, вы не сможете это доказать.
— Но я могу заподозрить это, да и другие тоже. Тогда мы займемся тем, что будем держать вас под постоянным контролем. Вы не сможете заниматься наукой. Ваша профессиональная деятельность остановится. Окончательно. Но вы сможете всего этого избежать, лишь сделав то, что мы просим, — поехать в Советский Союз.
Моррисон сжал губы и хрипло произнес:
— Вы угрожаете мне, пытаясь грубо шантажировать, но я не капитулирую. Я принял решение. Мои теории о мозговом мыслительном центре правильны. Когда-нибудь их признают — вы или другие.
— Вы не доживете до этого.
— Пусть я умру. Я, может быть, физический трус, но не моральный. До свидания.
Родано, взглянув на него последний раз с сочувствием, вышел. А Моррисон, дрожа в приступе страха и безнадежности, почувствовал, как его начало покидать бунтарское чувство. Внутри ничего не осталось, кроме отчаяния.
Глава 2
«Если вежливая просьба не помогает, захватывай».
Дежнев Старший.ЗАХВАТИЛИ
«Значит, я умру», — подумал Моррисон.
Он даже не смог закрыть дверь на двойной замок после того, как ушел Родано. Сидел на стуле опустошенный и с отсутствующим выражением лица. Свет заходящего солнца проникал через окно. Он даже не шевельнулся, чтобы затемнить стекла. Просто не обращал на это внимания. Наблюдая за танцем пылинок, почувствовал гипнотическое очарование.
Он в страхе убежал от русской женщины, но смело отшил американского агента, держась с мужеством… отчаяния. Отчаяние минус мужество — вот что он чувствовал сейчас. То, что говорил Родано, — в конце концов, правда. В будущем году не ожидалось никаких продвижений по службе. Он уже прозондировал почву. Его тошнило от места за перегородкой в учебном кабинете. И ему не хватало такого жизненного опыта (или, что более важно, связей), с помощью которого он мог бы добиться собственного отдела, даже без тайной попытки раздраженного правительства компенсировать его службу.
Что ему делать? Уехать в Канаду? Там был Джан-вир в университете в Макгилле. Он однажды проявил интерес к теории Моррисона. Однажды! Моррисон никогда не был в Макгилле, так как не намеревался уезжать из страны. Сейчас его планы ничего не значили. Он мог бы уехать. В Латинской Америке десятки университетов могли бы принять северянина, владеющего испанским или португальским. По крайней мере, под влиянием моды. По-испански он говорил плохо, в португальском был «ноль».
Что он теряет? Его не держат семейные узы. Даже дочери его находились далеко, выцветая в памяти, подобно старым фотографиям. У него не было друзей. Никого, кто переживал бы вместе с ним провал его исследований. У него, конечно, была программа, составленная специально им самим. Сначала она была создана маленькой фирмой в соответствии с его инструкциями. Но он бесконечно изменял ее. Возможно, ему следовало взять патент, но никто, кроме него, не пользовался ею. Он возьмет ее с собой, куда бы ни поехал. Она находилась сейчас у него во внутреннем кармане пиджака, выпячиваясь как раздутый бумажник.
Моррисон слышал свое неровное дыхание и понимал, что засыпает, уходя от бесцельной карусели мыслей. Как он мог кого-то интересовать, если, горько думал он, наскучил сам себе. Он заметил, что солнце больше не бьет в окно, и сгущающиеся сумерки заполняли комнату. Тем лучше.
До него донесся негромкий звонок. В номере звонил телефон, но Моррисон не двинулся с места и оставался с закрытыми глазами. Возможно, это Родано делает последнюю попытку. Пусть звонит.
Сон подкрался. Голова Моррисона склонилась набок. В таком неудобном положении проспать можно было не долго…
Прошло примерно пятнадцать минут, он начал просыпаться. Небо было еще синее, сумерки в комнате сгустились, и он подумал с некоторым чувством вины, что не прослушал сегодняшние научные доклады. А затем пошли «бунтарские» мысли: «Прекрасно! Почему я должен их слушать?»
Досада нарастала. Чем он занимался на съезде? За три дня не услышал ни одного доклада, который бы его заинтересовал, и не встретил никого, кто бы смог помочь ему в его рушащейся карьере. Что делать в оставшиеся три дня, кроме как избегать двух человек, с которыми познакомился и с которыми ужасно не хотел встречаться вновь, — Барановой и Родано?..
Он почувствовал голод. Еще не обедал, а уже пора ужинать. Беда в том, что не было настроения есть в одиночестве в роскошном ресторане отеля и еще меньше хотелось платить по взвинченным ценам. Мысль о долгом ожидании очереди за стойкой в кафетерии была еще менее привлекательной. Надо было на что-то решаться. С него было достаточно. Он мог бы освободить номер и прогуляться до железнодорожной станции. (Она находилась недалеко, и прохладный вечерний воздух, возможно, помог бы избавиться от мрачных мыслей). Сборы займут чуть более пяти минут, через десять минут он будет в пути.
Он мрачно размышлял над этой задачей. По крайней мере, сэкономит половину стоимости проживания и покинет место, которое, как он был убежден, принесет ему одни несчастья, если он останется.
Он был, конечно, абсолютно прав, но если бы он знал, что и так пробыл здесь слишком долго…
* * *
…Быстро выписавшись внизу у администратора, Моррисон вышел через огромные стеклянные двери гостиницы, довольный, но все еще не в себе. Он тщательно исследовал коридор, удостоверился, что там нет ни Барановой, ни Родано, и вскоре рассматривал такси, изучал людей, входящих и выходящих из гостиницы. Все, казалось, было ясно.
Все, кроме позиции рассерженного правительства. И ничего еще не закончилось. Впереди — бесконечные несчастья. Университет в Макгилле все больше привлекал. Если бы он мог поехать туда…
Он свернул в вечернюю темноту к вокзалу, который находился довольно далеко. По его расчетам, он придет домой заполночь, и вряд ли удастся поспать в поезде. С собой был сборник кроссвордов, которыми он мог бы занять себя, если будет достаточно светло. Или…
Моррисон резко обернулся, услышав свое имя. Он сделал это автоматически. По известным причинам и при существующих условиях ему бы следовало поспешить, ведь не хотелось ни с кем разговаривать.
— Ол! Ол Моррисон! Господи! — Голос был пронзительный, и Моррисон не узнавал его.
Он не узнавал и лицо: круглое, не старое, гладко выбритое, с очками в стальной оправе. Человек, которому оно принадлежало, был хорошо одет.
Моррисон мучительно вспоминал человека, который явно знал его и вел себя, как будто они были лучшими друзьями. Он, приоткрыв рот, усиленно рылся в каталоге памяти.
Тот, похоже, догадался, чем обеспокоен Моррисон.
— Я вижу, вы не помните меня. Вполне понимаю. Я — Чарли Норберт. Мы встречались на Гор донской научной конференции, но это было давно. Вы засыпали вопросами одного из выступающих по проблеме деятельности мозга и наделали много шума. Вы были очень остроумны. Поэтому не удивительно, что я помню вас.
— Ах да, — пробормотал Моррисон, пытаясь вспомнить, когда в последний раз он принимал участие в Гордонской научной конференции. Семь лет назад, кажется, — Очень похвально с вашей стороны.
— Мы долго говорили тогда вечером, доктор Моррисон. Я помню, вы произвели на меня впечатление. И естественно, что вы не помните: во мне нет ничего эдакого… Послушайте, я наткнулся на ваше имя в списке участников. Ваше второе имя Джонас воскресило вас в моей памяти. Я захотел поговорить с вами. Полчаса назад я позвонил к вам в номер, но никто не ответил. — Норберт вдруг заметил чемодан в руках у Моррисона и добавил с явной тревогой: — Вы уезжаете?
— Да, я хочу успеть на поезд. Извините.
— Пожалуйста, дайте мне несколько минут. Я читал о вашей… теории.
Моррисон немного отступил назад. Даже проявление интереса к его идеям были недостаточным для него в этот момент. И почему-то сильный запах лосьона для бритья захватывал его больше, чем сам человек. Ничего из того, что говорил человек, не помогало вспомнить его.
— Извините, вы — единственный, кто прочитал о моей теории. Надеюсь, вы не будете возражать, если…
— Я возражаю. — Лицо Норберта стало серьезным. — Меня поражает, что вас не ценят по достоинству.
— Меня это удивляет давно, мистер Норберт.
— Называйте меня Чарли. Когда-то мы обращались друг к другу по именам. Знаете, вам нельзя уезжать, не добившись признания.
— В этом нет необходимости. Я есть, вот и все. Ладно… — Моррисон повернулся, как бы уходя.
— Подождите, Ол. Что, если я скажу, что я могу дать вам новую работу с людьми, которые симпатизируют вашему образу мыслей?
Моррисон помолчал.
— А вы — мечтатель…
— Нет, Ол, послушайте меня, дружище, я рад, что столкнулся с вами. Я хочу познакомить вас кое с кем. Мы организовываем новую компанию «Генетическое мышление». У меня много денег и грандиозные планы. Хитрость состоит в том, чтобы усовершенствовать человеческий разум средствами генетики. Мы постоянно совершенствуем компьютеры, так почему бы не сделать этого с нашим личным компьютером? — он с серьезным видом постучал себя по лбу. — Где он? Я оставил его в машине, увидев вас, выходящим из гостиницы. Знаете, вы не очень изменились с тех пор, как мы встречались в последний раз.
Моррисона это совершенно не тронуло.
— Новая компания нуждается во мне?
— Конечно. Мы хотим изменить разум, сделать его совершеннее и более созидательным. Но что нам следует сделать, чтобы решить эту задачу? Ответ на это сможете дать вы.
— Боюсь, я не зашел так далеко.
— Мы не ждем моментальных ответов. Мы просто хотим, чтобы вы работали в этом направлении. Послушайте, какой бы ни была сейчас ваша зарплата, мы удвоим ее. Вы просто скажите нам цифру, и у нас не будет много хлопот, чтобы умножить ее на два. Достаточно ясно? И вы будете сам себе хозяин.
Моррисон нахмурился.
— Первый раз в жизни встречаю Санта Клауса в костюме бизнесмена. И гладко выбритого. Что за шутки?
— Никаких шуток. Где же он? А, видимо, пытается свернуть на машине с дороги. Послушайте, он — мой хозяин Крейг Левинсон. Мы не делаем вам одолжения, Ол. Это вы его нам делаете. Поедемте с нами.
Моррисон заколебался, но только на мгновение. «Темнеет перед самым рассветом. Когда ты внизу, есть только одно направление — вверх. Свет, однако, пробивается время от времени». На него внезапно нахлынули старые поговорки.
Он все-таки позволил увлечь себя и лишь слегка упирался.
Норберт помахал рукой и закричал:
— Я нашел его! Это тот человек, о котором я тебе рассказывал. Ол Моррисон. Он — тот, кто нам нужен.
Серьезное лицо человека среднего возраста выглядывало из автомобиля последней модели, цвет которого трудно было определить в сгущающейся темноте.
Лицо улыбнулось, сверкнув белыми зубами:
— Великолепно!
Когда они приблизились, открылся багажник. Марли Норберт взял чемодан Моррисона.
— Позвольте вас разгрузить, — он поставил чемодан в багажник и закрыл его.
— Подождите… — произнес пораженный Моррисон.
— Не беспокойтесь, Ол. Если вы опоздаете на мтот поезд, сядете на другой. Если хотите, мы найдем «лимузин», чтобы отвезти вас домой, в конце концов. Садитесь.
— В машину?
— Конечно. — Задняя дверца распахнулась, приглашая его в салон.
— Куда мы поедем?
— Послушайте, — голос Норберта понизился на пол-октавы и намного смягчился. — Не теряйте времени. Садитесь.
Моррисон почувствовал что-то твердое в боку и повернулся, чтобы рассмотреть, что это было.
Голос Норберта понизился до шепота:
— Спокойно, Ол. Не будем суетиться.
Моррисон сел в машину. Его внезапно охватил сильный страх. Он понял: у Норберта было оружие.
* * *
Моррисон опустился на заднее сиденье, соображая, сможет ли добраться до противоположной дверцы и выскочить. Даже если у Норберта был пистолет, захочет ли он использовать его на территории стоянки гостиницы, где в тридцати метрах ходили сотни людей? В конце концов, даже если выстрел будет приглушен, его внезапное падение, конечно, привлечет внимание.
Возможность побега улетучилась, когда в машину с другой стороны влез третий человек, здоровяк. Крякнув, он уселся в машину и посмотрел на Моррисона если не зло, то определенно с выражением, в котором не было и следа дружелюбия.
Моррисон оказался зажатым с двух сторон и был не в состоянии повернуться. Машина плавно тронулась с места и, набрав скорость, выехала на магистраль.
Моррисон произнес сдавленно:
— В чем дело? Куда мы едем? Что вы собираетесь делать?
Голос Норберта без фальцета и искусственной доброжелательности стал зловещим:
— Нет причин для беспокойства, доктор Моррисон. Мы не собираемся сделать вам ничего плохого. Мы просто хотим, чтобы вы были с нами.
— Я был с вами там (Он пытался показать рукой, где «там», но человек справа навалился на него, не дав освободить руку).
— Но мы хотим, чтобы вы были с нами всегда.
Моррисон попытался пригрозить:
— Послушайте, вы совершаете похищение. Это серьезное обвинение.
— Нет, доктор Моррисон, мы не будем называть это похищением. Мы докажем, что вы сделали это добровольно.
— Как бы вы это ни называли, вы поступаете незаконно. Или вы из полиции? Если это так, предъявите удостоверение и объясните, что я сделал. И вообще, что все это значит?
— Мы вас ни в чем не обвиняем. Я вам уже говорил, мы просто хотим, чтобы вы были с нами. Я советую вам, доктор, сохранять спокойствие и не шуметь. Так будет лучше. Для вас.
— Я не могу оставаться спокойным, когда не знаю, что меня ждет.
— Постарайтесь, — ответил Норберт без всякого сочувствия.
Моррисону ничего не оставалось делать, как замолчать. Он не мог ничего сказать такого, чтобы помогло исправить ситуацию.
На небе появились звезды. Ночь была светлой как день. Автомобиль двигался по дороге, перегруженной тысячами машин. Водители спокойно делали свое дело, не зная о том, что в одной из машин совершалось преступление.
Сердце Моррисона работало на пределе, губы дрожали. Он не мог успокоиться. Они говорят, что ничего плохого не сделают, но насколько он может им верить? До сих пор все, что говорил ему человек, сидящий слева, было ложью.
Он постарался взять себя в руки. Но к какой части своего тела он должен обратиться, чтобы добиться этого? Он закрыл глаза, заставил себя дышать глубоко и медленно — и попробовал рассуждать рационально. Он — ученый. Он обязан думать рационально.
Должно быть, это коллеги Родано. Они везут его в главное управление, где под сильным давлением заставят выполнить миссию. Все же они не добьются успеха. Он — американец. Это значит, что с ним можно обращаться только по установленным законам, определенным юридическим процедурам. Ничего произвольного и импровизированного.
Он сделал еще один глубокий вдох. Надо спокойно настаивать на своем, и они будут бессильны что-либо сделать.
Машина слегка качнулась, и Моррисон открыл глаза.
Они свернули с магистрали на узкую грунтовую дорогу.
Он автоматически спросил:
— Куда мы едем?
Ответа не последовало.
Автомобиль, трясясь и подскакивая, проехал значительное расстояние и свернул на пустынное темное поле. В свете фар Моррисон рассмотрел вертолет. Винт медленно вращался, мотор тихо работал.
Это была новая модель, почти бесшумная, гладкая поверхность машины скорее впитывала, чем отражала, лучи радара. В народе ее называли «тихолет».
Сердце Моррисона сжалось. Если у них был тихолет, очень дорогая и довольно редкая машина, значит, с ним обращались как с необычной жертвой. С ним вели игру, как с крупной фигурой.
«Но я — не крупная фигура», — подумал он в отчаянии.
Автомобиль остановился. Фары потухли. Слышался слабый шум. Немногочисленные тусклые фиолетовые огоньки, едва различимые, обозначали место, где стоял тихолет.
Здоровяк, сидевший справа от Моррисона, распахнул дверцу машины и, с мычанием наклонив голову, выбрался из машины. Он протянул огромную руку к Моррисону.
Моррисон попытался уклониться:
— Куда вы меня ведете?
Здоровяк ухватил его за предплечье:
— Выходите. Хватит болтать.
Моррисон почувствовал, как его приподняли и почти вытащили из машины. В плече возникла боль, и немудрено: руку почти вывернули.
Он не обратил внимания на боль, так как услышал, как говорит здоровяк. Тот говорил по-английски, но акцент был явно русским. Моррисон похолодел. Те, кто захватил его, не были американцами.
* * *
Моррисона почти втащили в летательный аппарат, В темноте он оказался опять между теми, с кем ехал в машине. Почти ничего не изменилось, если не считать рокота винтов, который оказывал более гипнотическое действие, чем шум мотора автомобиля.
Прошел час, а может, и меньше. Они вышли из темноты, и их начало относить ветром вниз, в сторону темнеющего океана. Моррисон догадался, что это океан: он чувствовал его запах, ощущал капельки воды в воздухе и смог рассмотреть, правда, очень неясно корпус корабля — темное на темном.
Как тихолет мог проделать путь к океану и так точно направляться к кораблю? (А он был уверен, что они нацелены именно на корабль). Без сомнения, пилот следовал как будто по выбранному наугад радиосигналу. Радиосигнал казался случайным, но его можно было найти и можно было определить его источник. Тщательно продуманный и скрытый, он был недосягаем даже для очень совершенного компьютера.
Корабль оказался временным остановочным пунктом. Ему разрешили отдохнуть, дали время быстро перекусить густым супом, который очень ему понравился. А затем провели с бесцеремонными толчками, ставшими уже привычными, в самолет средних размеров. Там было десять мест (автоматически посчитал он), кроме двух пилотов и двух мужчин, которые сопровождали его в машине и тихолете, здесь больше никого не было.
Моррисон взглянул на свою охрану. Их с трудом можно было рассмотреть в слабом свете, заполнявшем салон. В самолете хватало места, и им не обязательно было держать его с двух сторон. Да и незачем было. Куда он убежит… Здесь он мог вырваться только на палубу корабля. А когда самолет излетит, он сможет выпрыгнуть только за борт, в воздух, где пустота, вода и безграничная глубина…
В оцепенении он подумал: почему они не выходят? Дверь вдруг открылась, вошел еще один пассажир. Несмотря на плохое освещение, он сразу же ее узнал.
Он познакомился с ней всего лишь двенадцать часов назад, но как изменился за эти часы с момента их первой встречи.
Баранова села рядом и произнесла низким голосом по-русски:
— Извините, доктор Моррисон.
Как по сигналу, шум моторов самолета стал тише, его прижало к сиденью. Они стали резко подниматься вверх.
Моррисон уставился на Наталью Баранову, стараясь собраться с мыслями. Смутно он почувствовал желание сказать ей что-нибудь вежливое и спокойное, но не решался. Его голос скрипел. Даже после того, как откашлялся, он смог только вымолвить:
— Меня похитили.
— Больше ничего не оставалось делать. Я сожалею об этом. И это действительно так. Поймите, у меня задание. Я должна была вас доставить, по возможности убедив вас. В противном случае… — Последние слова ее повисли в воздухе.
— Но вы не имеете права так себя вести. Мы живем не в двадцатом веке. — Он сдержал немного себя и в порыве подавил чувство негодования, чтобы быть благоразумным.
— Я — не отшельник и не брошенный. Меня хватятся. А американская разведка прекрасно знает, что мы беседовали с вами и что вы приглашали меня в Советский Союз. Они узнают, что меня похитили — возможно, уже знают. У вашего правительства будут крупные международные неприятности, которые оно не желает иметь.
— Нет, — сказала Баранова убежденно, пристально и спокойно глядя темными глазами прямо в его глаза. — Нет. Конечно, ваши люди знают, что произошло, но они не имеют ничего против. Доктор Моррисон, деятельность советской разведки отличается как передовой технологией, так и тщательным изучением на протяжении более чем столетия американской психологии. Нет сомнений, что американская разведка не отстает. Наш опыт, которым мы делимся с другими географическими союзами, помогает нам сотрудничать. Каждый из нас твердо убежден, что находится впереди.
— Я не знаю, куда вы клоните, — произнес Моррисон. Самолет стрелой летел в ночи к восточному рассвету.
— Что касается американской разведки, то она права: мы пытаемся работать в области минимизации.
— Пытаетесь! — Моррисон произнес это с сардонической усмешкой.
— Успешно пытаемся. Американцы не знают, что мы достигли в этом многого. Они, правда, не уверены, что проект минимизации — не маскировка, за которой может происходить совершенно другое. Известно, что мы что-то делаем. Я уверена, у вас есть подобная карта территории Советского Союза, где проходят испытания, где обозначены каждое здание, каждая колонна транспорта. Без сомнения, агенты делают все возможное, чтобы внедриться в проект.
Естественно, мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы помешать этому. Но мы не показываем своего негодования. Мы хорошо осведомлены об экспериментах американцев в области антигравитации. И было бы наивным занимать такую позицию: нам можно, а американцам нельзя заниматься шпионажем, мы должны, а американцы не должны добиваться успеха.
Моррисон потер глаза. Спокойствие и ровный голос Барановой напомнили ему, что давно пора спать, и он почувствовал себя усталым. Он спросил:
— А как быть с фактом, что моя страна будет сильно негодовать по поводу моего похищения?
— Послушайте меня, доктор Моррисон, и поймите. Зачем им это? Мы нуждаемся в вас, а они не знают, по какой причине. Они не предполагают, что ваши идеи в нейрофизике имеют ценность. Должно быть, думают, что мы идем ошибочным путем, никакой пользы не получим. Но они вряд ли будут против того, чтобы именно американец проник в проект минимизации. И если этот американец сделает открытие, информация будет иметь ценность и для них. Вы не думаете, что ваше правительство может рассуждать таким образом, доктор Моррисон?
— Я не знаю, что они думают, — осторожно ответил Моррисон. — Это меня не интересует.
— Но вы разговаривали с Фрэнсисом Родано после того, как внезапно ушли от меня. Видите, мы даже это знаем. Вы ведь не будете отрицать, что он предлагал вам согласиться поехать в Советский Союз?
— Вы имеете в виду, что он просто вербовал меня?
— Разве нет? Разве он не делал такого предложения?
Моррисон опять проигнорировал ее вопрос ответной репликой:
— Поскольку вы убеждены, что я — шпион, вы меня казните после того, как я выполню все, что вы хотите. Разве так не случается со шпионами?
— Вы насмотрелись старомодных фильмов, доктор Моррисон. Во-первых, мы проследим, чтобы вы не узнали ничего лишнего. Во-вторых, шпионы — слишком дорогая роскошь, чтобы их уничтожать. Они являются полезным товаром для обмена на любого нашего агента, оказавшегося в руках американцев. Я думаю, и Соединенные Штаты в основном занимают такую же позицию.
— Начнем с того, что я — не шпион, мадам. И не собираюсь им быть. Я ничего не знаю о деятельности американских спецслужб. Кроме того, я ничего не собираюсь делать для вас.
— Я не совсем уверена в этом, доктор Моррисон. И полагаю, что вы согласитесь работать с нами.
— Что вы надумали? Вы будете пытать меня голодом, пока я не соглашусь? Будете бить? Заключите в одиночную камеру? Отправите в трудовой лагерь?
Баранова нахмурилась и медленно покачала головой, имитируя состояние неподдельного шока.
— Что вы, доктор, о чем вы говорите? Неужели мы вернулись в те времена, когда громко объявляли Союз империей дьявола и придумывали о нас ужасные истории? Не спорю, мы могли бы поддаться искушению предпринять сильные меры в случае вашей непреклонности. Иногда это необходимо, но нам не придется этого делать. Я убеждена.
— Откуда такое убеждение? — спросил устало Моррисон.
— Вы — ученый, и вы — смелый человек.
— Я? Смелый? Мадам, мадам, что вы знаете обо мне?
— Что у вас необычные взгляды. Что вы строго придерживаетесь их. Что ваша карьера катится вниз. Что вы никого не можете убедить. И что, несмотря на все это, вы остаетесь верным своим идеям и не отступаете от того, что считаете правильным. Разве не так ведут себя смелые люди?
Моррисон кивнул:
— Да, да. Это похоже не смелость. В истории науки были все-таки тысячи чокнутых, которые всю жизнь оставались верными своим нелепым идеям в ущерб логике, очевидности и собственным интересам. Я могу быть одним из них.
— Да, вы можете ошибаться, но все же остаетесь смелым человеком. Вы ведь не имеете в виду только физическую смелость?
— Нет. Существует много разновидностей смелости. И возможно, — сказал он резко, — каждая из них является признаком безумия или даже глупостью.
— Вы, конечно, не считаете себя трусом?
— Почему бы и нет? Я даже где-то льщу себе, признаваясь в том, что я не безумен.
— А если ваши упрямые идеи в нейрофизике безумны?
— Я нисколько не буду удивлен.
— Но вы, конечно же, считаете свои идеи правильными.
— Конечно, доктор Баранова. Возможно, в этом как раз мое безумие, не так ли?
Баранова покачала головой:
— Вы несерьезный человек. Я вам уже об этом говорила. Мой соотечественник Шапиров считает, что вы правы. А если и не правы, вы — гений.
— В таком случае, он отчасти тоже безумен.
— У Шапирова особая точка зрения.
— Это ваше мнение, конечно. Послушайте, мадам, я устал. Я настолько ослаб, что не знаю, что говорю. Не уверен, что все это происходит на самом деле. Дайте мне просто-напросто немного отдохнуть.
Баранова вздохнула, в ее глазах появилось выражение сочувствия.
— Да, конечно, мой бедный друг. Мы не желаем вам зла. Пожалуйста, поверьте нам.
Моррисон опустил голову к груди. Глаза его закрылись. Смутно он почувствовал, как кто-то аккуратно уложил его на бок и положил подушку под голову.
Недремлющее время шло.
Когда Моррисон открыл глаза, он все еще находился в самолете. Света не было но он не сомневался, что полет продолжался.
Он позвал:
— Доктор Баранова?
Она тотчас же ответила:
— Да, доктор.
— Нас не преследуют?
— Совсем нет. У нас несколько самолетов прикрытия, но им нечего делать. Соглашайтесь, мой друг, мы нуждаемся в вас, и ваше правительство не против, чтобы вы были с нами.
— Вы все еще уверены, что достигли минимизации? Разве это не безумие? Или не мистификация?
— Вы сами это увидите. И увидите, какое это чудо, и поэтому захотите принять участие в нем. Вы даже будете требовать этого.
— А что вы собираетесь делать? — спросил Моррисон задумчиво, — если, допустим, все это — не тщательно продуманная шутка надо мной? Вы не собираетесь создать новое оружие? Допустим, транспортировку армии в самолете, подобном этому? Или всеместное проникновение невидимых войск? Или что-нибудь в этом роде?
— Как отвратительно! — Она откашлялась, будто собираясь смачно плюнуть. — У нас что, не хватает земли? не хватает людей? ресурсов? Нет своего космического пространства? Разве нет ничего более важного, где можно использовать минимизацию? Неужели вы так испорчены, развращены и не видите, что ее можно использовать как орудие исследования? Представьте себе изучение живых организмов, которое станет возможным благодаря ей; изучение химии кристаллов и монолитных систем; конструирование ультраминиатюрных компьютеров и различных приборов. Подумайте, что мы откроем в физике, если сможем изменять постоянную Планка, как нам захочется? А какие открытия мы сделаем в космологии?..
Моррисон с трудом попытался выпрямиться. Он все еще хотел спать, но в иллюминаторе уже начинало светать, и можно было немного разглядеть Баранову.
— Значит, именно так вы хотите использовать ее? Благородные научные цели?
— А как бы ваше правительство использовало минимизацию, если бы добились ее? Попыталось достичь внезапного военного превосходства и реставрировать старые тяжелые времена?
— Нет. Конечно, нет.
— Значит, только вы можете быть благородным, а мы — первобытные и ужасно злые? Вы, правда, так думаете? Может, конечно, так случиться, если минимизация будет достаточно удачной, что Советский Союз достигнет лидерства в освоении Вселенной. Представьте транспортировку минимизированного материала с одной планеты на другую, перевозку миллионов колонистов в космических кораблях, которые сейчас могут вместить двести или триста человек нормальных размеров. Космос приобретает советскую окраску и советские оттенки не потому, что советские люди станут господами и хозяевами, а потому, что советская мысль победит в битве идей. И что в этом плохого?
Моррисон в темноте покачал головой:
— Тогда я определенно не стану вам помогать. Почему вы ждете от меня помощи? Я не хочу развития советской науки во Вселенной. Я предпочитаю американскую мысль и традицию.
— Вы так считаете, и я не виню вас в этом. Но мы пас убедим. Вот увидите.
— Нет.
— Мой дорогой друг, Альберт, — если вы позволите, так вас называть — я уже сказала, что вы будете восхищаться нашим прогрессом. Вы думаете, на вас это не подействует? Но давайте на время отложим спорную тему…
Она показала глазами на иллюминатор, в котором уже можно было рассмотреть серое море.
— Сейчас мы находимся над Средиземным морем, — сказала она, — скоро окажемся над Черным, а перелетим через Волгу — мы в Малграде — Smalltown. Когда приземлимся, солнце уже будет высоко. И это будет символично: новый день, новый свет. Уверена, что вы захотите помочь нам построить этот новый день, и я не удивлюсь, если вы вдруг не пожелаете уехать из Советского Союза.
— Без насилия с вашей стороны?
— Мы спокойно отправим вас домой, если попросите об этом. Но только после того, как вы поможете нам.
— Я вам не помогу.
— Поможете.
— Я требую, чтобы меня сейчас же вернули назад.
— Сейчас это не принимается во внимание, — сказала она весело.
До Малграда оставались какие-то сотни километров…
Глава 3
«Пешка
— самая важная фигура на шахматной доске
— для пешки».
Дежнев Старший.МАЛГРАД
Рано утром на следующий день Фрэнсис Родано находился у себя в офисе. Был понедельник, начало недели. То, что он работал в воскресенье, было привычным. Необычным оказался сон: он проспал всю ночь напролет. Когда он приехал в офис с опозданием в полчаса, Джонатан Уинтроп находился уже там. И это не удивило Родано.
Уинтроп вошел в кабинет Родано через две минуты после него. Он прислонился к стене, крепко обхватив ладонями огромных рук себя за локти и скрестив ноги так, что носок левой туфли уткнулся в ковер.
— Ты выглядишь усталым, Фрэнк, — произнес он, глядя темными глазами из-под низко опущенных бровей.
Родано взглянул на копну жестких седых волос друга, которая лишала его собственных претензий на блестящую внешность, и произнес:
— Я устал, но не хотел бы этого показывать.
Родано тщательно выполнил все утренние процедуры и оделся с большой аккуратностью.
— Тем не менее, это заметно. Твое лицо — зеркало твоей души. Ты мог бы быть армейским агентом.
— Мы не все созданы для армии.
— Я знаю. Мы, однако, не все созданы и для кабинетной работы. — Уинтроп потер выпуклый нос, как бы желая уменьшить его до нормальных размеров. — Я так понимаю, что ты обеспокоен своим ученым. Как его по имени?
— Альберт Джонас Моррисон, — устало ответил Родано. В департаменте делали вид, что не знали имени Моррисона, как бы желая показать, что план его обработки создан не здесь.
— О’кей. Я не возражаю против упоминания его имени, но, думаю, этот Моррисон беспокоит тебя.
— Да, я боюсь за него, за многое другое. И вообще, хотел бы больше ясности.
— Кто этого не хочет?
Уинтроп сел.
— Послушай, для беспокойства пока нет причин. Ты занимаешься его делом с самого начала, и я хочу, чтобы ты продолжал, потому что ты — хороший парень. Я полностью удовлетворен тем, что ты сделал, и главное — ты понимаешь русских.
Родано поморщился:
— Не называй их так. Насмотрелся фильмов двадцатого века. Они — не все русские, так же как мы — не все англосаксы. Они — советские. Если ты хочешь понять их, постарайся понять, что они думают сами о себе.
— Конечно. Как скажешь. Ты разобрался, что в этом ученом особенного?
— Насколько я понял, ничего. Никто из ученых не принимает его всерьез. Кроме советских.
— Думаешь, им известно что-то, о чем мы не догадываемся?
— Уверен, им мало что известно. Но я не приложу ума, что они нашли в Моррисоне. Кроме того, он нужен не всем советским. Только один интересуется им — физик-теоретик Шапиров. Возможно, это тот парень, который разработал метод минимизации. Если метод действительно разработан. Мнения ученых о Шапирове за пределами Союза очень противоречивы. Он странный и, мягко говоря, эксцентричный. Тем не менее, советские ученые поддерживают его, а он поддерживает Моррисона. Хотя это может быть только еще одним признаком его эксцентричности. Интерес к Моррисону в последнее время вырос от любопытства до безумия.
— Да? А как ты об этом узнал, Фрэнк?
— Частично от агентов в Советском Союзе.
— Эшби?
— Частично.
— Хороший агент.
— Он давно там находится. Его нужно заменить.
— Не знаю. Победителей не убирают.
— Во всяком случае, — продолжал Родано, не очень настаивая на своем, — интерес к Моррисону внезапно увеличился. За этим я следил в течение двух лет.
— Полагаю, у этого Шагшрова появилась еще одна неожиданная идея в отношении Моррисона, и он убедил русс… советских в том, что он им нужен.
— Возможно, но смешно, что о Шапирове в последнее время ничего не слышно.
— Попал в немилость?
— Непохоже.
— Все может быть, Фрэнк. Если он кормил советских только сказками о минимизации, а они ухватились за это, я не хотел бы быть на его месте. Возможно, мы живем в новые добрые времена, но они никогда не научатся относиться с юмором к глупому положению, в которое вдруг попали.
— Может, он ушел в подполье, потому что ускорилась работа над проектом? И это отчасти объясняет внезапный безумный интерес к Моррисону.
— А что он знает о минимизации?
— Только то, как он уверяет, что она невозможна.
— Это бессмысленно, не так ли?
Родано с осторожностью ответил:
— Поэтому мы и позволили его взять. Есть надежда, что это перемешает фигуры в игре. Они вместе придут к новому решению, и все приобретет смысл.
Уинтроп посмотрел на часы:
— Он к этому часу должен быть там. В Малграде. Что за название! Никаких новостей о катастрофе самолета прошлой ночью нигде не мелькало, поэтому, думаю, он там.
— Да, но если бы мы могли послать другого — не его, кого так хотели советские ученые.
— Почему? Он идеологически ненадежен?
— Я сомневаюсь, что у него вообще есть идеология. Он — ноль. Прошлую ночь я думал, что все это — ошибка. Ему не хватает мужества, он не очень способный, не считая науки. Я не думаю, что он может принимать самостоятельные решения. Он недостаточно сообразителен, чтобы что-то выяснить. Подозреваю, что от начала до конца он будет в панике, и мы никогда его больше не увидим. Они бросят его в тюрьму или убьют. Зачем я послал его туда?..
— Это всего лишь ночные страхи, Фрэнк. Неважно, что он глуп. Он все же в состоянии будет рассказать нам, например, что наблюдал демонстрацию минимизации, или о том, что с ним делали. Ему не обязательно быть умным наблюдателем. До-статочно только рассказать об увиденном, а мы сделаем необходимые выводы.
— Но, Джон, мы можем не увидеть его.
Уинтроп положил руку на плечо Родано:
— Не думай с самого начала о провале. Я прослежу, чтобы Эшби получил задание. Мы сделаем все, что нужно, и я уверен, что русс… советские воспользуются подходящим моментом, чтобы дать ему уйти, если мы окажем на них скрытое давление, когда придет время. Не мучай сам себя. Это ход в сложной игре, и если он не сработает, останутся еще тысячи других ходов.
* * *
Моррисон чувствовал себя изможденным. Он проспал почти весь понедельник, надеясь, что сон избавит его от самого худшего в его неожиданном похищении. Он с благодарностью съел все, принесенное ближе к вечеру, и еще с большей благодарностью принял душ. К свежей одежде он отнесся довольно равнодушно. Ночью в понедельник он то спал, то читал, то размышлял.
Чем больше он думал, тем больше приходил к убеждению, что Наталья Баранова была права, утверждая, что он находился здесь лишь только потому, что Соединенные Штаты пошли на это. Родано уговаривал его поехать, смутно намекая на будущие проблемы в работе в случае, если он откажется. С какой стати тогда они будут возражать против его захвата? Они могли бы выразить протест, чтобы не допустить опасности нежелаемого прецедента, но, очевидно, их собственное стремление послать его сыграло решающую роль.
Тогда был ли смысл требовать доставки его в ближайшее американское консульство или угрожать скандалом международного масштаба?
Собственно говоря, если этот акт был совершен с молчаливого согласия американского правительства (а в этом нет сомнения), то Соединенные Штаты не могли со своей стороны предпринять какие-либо открытые действия или выразить протест. Несомненно, возникает вопрос, как русским удалось тайно похитить его, и единственным ответом на него будет — глупость или молчаливое согласие американцев. И конечно же, Штаты не захотят, чтобы мировая общественность пришла к подобному заключению.
Он прекрасно понимал, почему так произошло. Родано ему это уже объяснил. Американское правительство нуждалось в информации, а у него была идеальная возможность получить ее. Идеальная? Каким образом? Русские не настолько дураки, чтобы дать ему доступ к информации, утечки которой они не желали, а если бы ему удалось ее получить, они не настолько глупы, чтобы дать ему уйти.
Чем больше он думал, тем больше чувствовал, что, живой или мертвый, он больше не увидит никогда Соединенные Штаты, и американская разведка пожмет коллективными плечами и сбросит дело со счетов как неизбежную потерю: ничего не получили и ничего не потеряли.
Моррисон критически оценивал себя…
Альберт Джонас Моррисон, доктор физических наук, ассистент кафедры нейрофизики, автор непризнанной, почти не замеченной теории мысли; неудавшийся муж, неудавшийся отец, неудавшийся ученый, а сейчас и неудавшаяся фигура в игре. Терять нечего. Темной ночью в гостиничном номере, в городе, местонахождение которого он даже не знал, в стране, которая на протяжении более века считалась настоящим врагом его государства (хотя в последние десятилетия больше господствовал дух вынужденного и подозрительного сотрудничества), Моррисон лил слезы от жалости к самому себе, от явной детской беспомощности, от чувства полного унижения. Он знал: никто даже не подумает бороться за него и не пожалеет о нем.
И все же — тут появилась маленькая искорка гордости — русские в нем нуждаются. Они решительно рисковали, чтобы заполучить его. Когда не удалось уговорить, они нисколько не колебались, чтобы применить силу. И, возможно, не могли быть уверены до конца, что Штаты старательно будут закрывать на это глаза. Захватив его, они все-таки рисковали нарваться на международный скандал.
Они напрашивались на неприятности, пряча его сейчас. Он находился здесь один, но на окнах, как он заметил, были решетки. Дверь не заперта, но, когда он открыл ее, на него посмотрели два вооруженных человека в униформе и спросили, не нуждается ли он в чем-нибудь. Ему не нравилось заключение, но оно — своего рода свидетельство его ценности. По крайней мере, здесь.
Как долго это будет продолжаться? Даже если у них сложилось впечатление, что его теория мысли была правильной, сам Моррисон должен быть признать, что все данные, которые он собрал, были случайными и очень приблизительными, и никто не мог подтвердить пользу его открытий. Что, если русские тоже не смогут это подтвердить или при более внимательном изучении признают слишком неясным, нереальным и призрачным?
Баранова сказала, что Шапиров высоко оценил его предложения. Но Шапиров пользовался дурной славой сумасбродного человека, который каждый день меняет свои решения. А если Шапиров пожмет плечами и отвернется, что будут делать русские? Если их американская добыча окажется бесполезной, вернут ли они ее с пренебрежением в Штаты (еще одно унижение, в некотором смысле) или попытаются скрыть свой глупый поступок, спрятав его в тюрьме на неограниченный срок. А может, будет что и похуже…
В сущности, тот, кто решил похитить его и напрашивался на неприятности, был каким-нибудь должностным лицом, не простым человеком. И если все плохо обернется, что сделает этот чиновник, чтобы спасти свою шею, несомненно, за счет Моррисона?
К рассвету во вторник, пробыв в Союзе уже целый день, Моррисон пришел к убеждению, что любая дорога в будущее, любой возможный выбранный путь приведет его к несчастью. Он наблюдал рассвет, но в душе у него было темно.
* * *
В 8 утра в его дверь грубо постучали. Он немного приоткрыл ее, но охранник с другой стороны толкнул ее, широко распахнув, как бы показывая, кто здесь хозяин.
Солдат гаркнул громче, чем следовало:
— Через полчаса придет мадам Баранова, чтобы отвести вас к завтраку. Будьте готовы.
Поспешно одеваясь и бреясь электробритвой, довольно старой конструкции по американскому стандарту, он подумал: почему он удивился, услышав, как солдат назвал Баранову «мадам»? Или старое «товарищ» давно вышло из употребления?
Он почувствовал раздражение от бесцельных размышлений о глупостях в самой гуще огромного болота. Хотя он знал, что так бывало и с другими людьми.
Через десять минут пришла Баранова. Она постучала более вежливо, чем солдат, и, войдя, спросила:
— Как вы себя чувствуете, доктор Моррисон?
— Я чувствую себя похищенным, — ответил он натянуто.
— А кроме этого? Вы хорошо выспались?
— Может быть. Не могу сказать. Откровенно говоря, мадам, у меня нет настроения разговаривать. Что вы от меня хотите?
— В настоящий момент ничего, кроме как взять вас на завтрак. И пожалуйста, доктор Моррисон, поверьте, что я так же не свободна, как и вы. Уверяю вас, в этот момент мне было бы лучше со своим маленьким Александром. К сожалению, в последние месяцы я не уделяю ему должного внимания, и Николаю тоже не нравится мое отсутствие. Правда, когда он женился на мне, он знал, что у меня работа. Я постоянно говорила ему об этом.
— Насколько я понимаю, вы можете послать меня назад в мою страну и вернуться к Александру и Николаю.
— Если бы это было так. Но это невозможно. Так что пойдемте завтракать. Вы могли бы поесть здесь, но будете чувствовать себя пленником. Давайте поедим в столовой, там вам будет лучше.
— Неужели? Два охранника пойдут за нами, не так ли?
— Правила, доктор, Эта зона тщательно охраняется. Вас будут оберегать до тех пор, пока какой-нибудь ответственный работник не убедится, что вы благонадежны. Правда, их в этом будет очень трудно убедить. Это их работа — сомневаться.
— Еще бы! — ответил Моррисон, пожимая плечами выданного ему пиджака, который жал подмышками.
— Тем не менее, они не помешают нам никоим образом.
— Но если я внезапно побегу или просто двинусь в сторону без разрешения, полагаю, они меня пристрелят на месте?
— Нет, им нельзя этого делать. Вы нужны нам живой. Оки погонятся за вами и, возможно, схватят вас. И потом, я уверена, вы понимаете, что не должны делать ничего, что может привести к бессмысленным неприятностям.
Моррисон нахмурился, делая небольшую попытку спрятать раздражение.
— Когда я получу свой багаж и одежду обратно?
— В свое время. Первое распоряжение — поесть.
Столовая, куда они добирались сначала на лифте, а затем, проделав довольно долгий путь по пустынному коридору, оказалась не очень большой. Она вмещала десять столов, каждый на шесть мест, и в ней было мало народу.
Баранова и Моррисон сидели одни за столом, и больше никто не присоединился к ним. Два охранника сели за стол рядом с дверью, хотя каждый из них ел за двоих, находясь лицом к Моррисону, они останавливали на нем взгляд не более чем на секунду или две.
Меню не предложили. Им просто принесли еду, и к ее количеству нельзя было придраться. На стол подали яйца, сваренные вкрутую, вареный картофель, щи и толстые ломти черного хлеба с икрой.
Все стояло в центре стола, так как отдельных порций не было, каждый накладывал сам себе.
Здесь, подумал Моррисон, хватило бы на шестерых. И вдвоем они смогли съесть только третью часть. Немного погодя он отметил, что с полным желудком чувствует себя немного успокоенным.
— Мадам Баранова…
— Почему вы не зовете меня Натальей, доктор Моррисон? Здесь очень неофициальные отношения. И мы ведь будем сотрудничать, возможно, на протяжении долгого времени. У меня может заболеть голова от частого «мадам». Мои друзья меня называют даже Наташа. Можно и так.
Она улыбнулась. Но Моррисону упорно не хотелось выказывать свое расположение.
— Мадам, когда я начну испытывать к вам дружеские чувства, я непременно буду себя вести как друг. Но будучи жертвой, находящийся в неволе, я предпочитаю определенную официальность.
Баранова вздохнула. Она откусила порядочный кусок хлеба и начала жевать с угрюмым видом. Проглотив, сказала:
— Пусть будет так, как вы хотите. Но, пожалуйста, избавьте меня от «мадам». У меня есть профессиональное звание — я не говорю «ученое». Это звучит, конечно, слишком. Но я прервала вас…
— Доктор Баранова, — произнес Моррисон тоном, более холодным. — Вы не сказали, чего хотите от меня. Вы говорили о минимизации, но вы знаете, как и я, что это невозможно. Я думаю, что вы говорили об этом лишь для того, чтобы сбить с толку, ввести в заблуждение меня и того, кто нас подслушивает. Тогда оставим это. Уверен, здесь у нас нет необходимости играть в игры. Скажите мне, какова настоящая причина того, что я здесь. В конце концов, со временем вы должны будете это сделать, если вы все-таки хотите, чтобы я был полезен вам. Я ведь не смогу ничего решить, абсолютно не зная, чего вы хотите.
Баранова покачала головой:
— Вы — человек, которого очень трудно убедить, доктор Моррисон. С самого начала я говорила вам правду. Дело касается проекта минимизации.
— Я не могу поверить в это.
— Тогда почему вы находитесь в Малграде?
— Small city? Littletown? Tinyburg? — проговорил Моррисон, испытывая удовольствие от собственного голоса, произносящего английские фразы. — Может, потому что этот город — маленький.
— Как я и говорила, доктор Моррисон, вы несерьезный человек. Вы недолго будете находиться в неведении. Вы должны познакомиться с некоторыми людьми. Один из них, кстати, сейчас должен быть здесь. — Она осмотрелась, раздраженно нахмурившись. — Где же он?
— Насколько я вижу, к нам никто не приближается. Вон те за другим столом ловят мой взгляд и наблюдают, куда я смотрю.
— Они предупреждены, — ответила Баранова рассеянно, — Не будем тратить время на то, что не относится к делу. Где же он? — Она встала, — Доктор Моррисон, извините. Я должна найти его. Я ненадолго.
— А не опасно меня оставлять? — спросил Моррисон язвительно.
— Они останутся, доктор Моррисон. Пожалуйста, не давайте им повода для ответного действия. Интеллект — их слабое место, они обучены следовать приказам без болезненной необходимости думать, поэтому они могут просто сделать вам больно.
— Не беспокойтесь. Я буду осторожен.
Она ушла, обменявшись перед этим несколькими словами с охранниками.
Моррисон скользнул угрюмым взглядом по столовой. Не найдя ничего интересного, он опустил глаза на свои сжатые руки, лежащие на столе, и затем уставился на стоящие перед ним все еще внушительные порции оставленной еды.
— Вы закончили, товарищ?
Моррисон резко поднял голову. Он уже решил, что слово «товарищ» — архаизм.
Рядом стояла женщина и смотрела на него, небрежно упираясь сжатым кулаком в бок. Она была одета в не совсем чистую униформу, довольно полная с рыже-каштановыми волосами и презрительно изогнутыми бровями такого же цвета.
— Кто вы? — спросил Моррисон, нахмурясь…
— Мое имя? Валерия Палерон. Моя должность? Женщина, выполняющая тяжелую работу, но советская гражданка и член партии. Это я принесла вам еду. Разве вы меня не заметили? Возможно, я не привлекла ваше внимание?
Моррисон откашлялся.
— Извините, мисс. Я думал о другом. Но вам лучше оставить еду. Думаю, сюда кто-то еще придет.
— Да! А Царица? Полагаю, она тоже вернется?
— Царица?
— Думаете, у нас в Союзе больше нет цариц? Только подумайте, товарищ. Эта Баранова, внучка крестьян с родословной из семнадцатого века, я уверена, считает себя настоящей леди. — Она произнесла длинный звук «пш-ш-ш», выражающий презрение.
Моррисон пожал плечами:
— Я знаю ее не очень хорошо.
— Вы — американец, не так ли?
Моррисон резко ответил:
— Почему вы меня об этом спрашиваете?
— Потому что вы говорите с акцентом. Кем бы вы могли быть? Сыном царя Николая Кровавого?
— Чем я плохо говорю по-русски?
— Похоже, что вы изучали его в школе. Американца можно услышать за километр. Как только он скажет: «Стакан водки, пожалуйста». Конечно, они говорят не так плохо, как англичане. Англичанина можно услышать за два километра.
— Что ж, тогда я — американец.
— И когда-нибудь вы поедете домой?
— Я, конечно, надеюсь на это.
Женщина спокойно кивнула, вытащила тряпку и задумчиво вытерла стол.
— Я бы хотела когда-нибудь съездить в Соединенные Штаты.
Моррисон кивнул:
— Почему бы и нет?
— Мне нужен паспорт.
— Конечно.
— Откуда мне его взять, такой простой преданной труженице.
— Полагаю, вы должны попросить его.
— Попросить? Если я пойду к должностному лицу и скажу: «Я, Валерия Палерон, хочу съездить в Соединенные Штаты», — он спросит: «Почему?»
— А почему вы хотите поехать?
— Чтобы посмотреть страну. Людей. Изобилие. Мне интересно, как там живут. Но этого будет недостаточно.
— Скажите еще что-нибудь, — посоветовал Моррисон. — Скажите, что хотите написать книгу о Соединенных Штатах в назидание советской молодежи.
— Знаете, как много книг…
Она вдруг натянулась как струна, и начала опять вытирать стол, внезапно поглощенная работой.
Моррисон поднял голову. Рядом стояла Баранова, взгляд ее был тяжелым. Она произнесла грубое короткое слово, которое Моррисон не узнал, но которое, он мог поклясться, было эпитетом и не очень вежливым.
Женщина, вытиравшая стол, слегка покраснела. Баранова сделала едва заметный жест рукой, она повернулась и ушла.
Моррисон заметил человека, стоящего за спиной у Барановой, маленького роста, с толстой шеей, суженными глазами, крупными ушами и широкоплечим мускулистым телом. Его темные волосы, длиннее, чем обычно носили русские, находились в ужасном беспорядке, как будто он за них часто хватался.
Баранова даже не подумала представить его. И спросила;
— Эта женщина разговаривала с вами?
— Да, — ответил Моррисон.
— Она узнала в вас американца?
— Она сказала, что это легко определить по моему акценту.
— И она сказала, что хочет поехать в Штаты?
— Да.
— Что вы ответили? Вы предложили помочь ей уехать?
— Я посоветовал обратиться за паспортом, если у нее есть желание уехать.
— Больше ничего?
— Больше ничего.
Баранова недовольно процедила:
— Вы не должны обращать на нее внимание. Она — невежественная и некультурная женщина. Позвольте представить моего друга, Аркадия Виссарионовича Дежнева. Это доктор Альберт Джонас Моррисон, Аркадий.
Дежнев сумел неуклюже поклониться и произнес:
— Я слышал о вас, доктор Моррисон. Академик Шапиров часто о вас рассказывал.
Моррисон холодно ответил:
— Я польщен. Но скажите мне, доктор Баранова, если эта женщина, которая убирает, так раздражает вас, нет ничего проще убрать ее или перевести на другое место.
Дежнев грубо засмеялся:
— Это невозможно, товарищ Американец. Полагаю, она так вас называла?
— Действительно, невозможно.
— Рано или поздно это случится, и случилось бы, если бы мы не вмешались. Эта женщина — возможно, агент разведки и одна из тех, кто наблюдает за нами.
— Но почему?..
— Потому, что при такой работе нельзя никому полностью доверять. Когда вы, американцы, занимаетесь передовой наукой, разве вы не находитесь под тщательным наблюдением?
— Я не знаю, — ответил Моррисон сдержанно. — Я никогда не работал в области крупных научных проблем, в которых, по крайней мере, было заинтересовано правительство. Но вот что я хочу спросить: почему эта женщина действует подобным образом, будучи агентом разведки?
— Очевидно, она провоцирует. Говоря возмутительные вещи, она может уличить еще кого-то в этом.
Моррисон кивнул:
— Что ж, это ваши проблемы.
— Вы правы, — согласился Дежнев. Он обратился к Барановой: — Наташа, ты ему еще не говорила?
— Пожалуйста, Аркадий…
— Давай, Наташа. Как говорил мой отец: «Если вы должны вырвать зуб, будет ошибкой с вашей стороны — рвать его медленно из чувства жалости». Скажи ему.
— Я уже говорила, что мы занимаемся минимизацией.
— И все? — спросил Дежнев.
Он сел, подвинул свой стул к Моррисону и приблизился к нему. Моррисон автоматически отклонился, почувствовав неприятное, как будто к нему залезли в душу. Дежнев подвинулся еще ближе и сказал:
— Товарищ Американец, моя подруга Наташа — романтик. Она уверена, что вы захотите помочь нам из любви к науке. У нее предчувствие, что мы сможем убедить вас с радостью сделать то, что должно быть сделано. Она ошибается. Мы не сможем вас убедить, так как не смогли убедить приехать сюда добровольно…
— Аркадий, ты ведешь себя грубо, — перебила его Баранова.
— Нет, Наташа, я веду себя честно — что почти одно и то же. Доктор Моррисон, или Альберт, я ненавижу официальность, — в доказательство этого он передернул плечами, — поскольку вас не убедить, да и времени на это нет, вы сделаете все, что мы хотим, насильно, потому что привезли вас сюда тоже насильно.
Баранова вновь возмутилась:
— Аркадий, ты обещал, что не будешь…
— Мне наплевать. Дав обещание, я подумал и решил, что Американец все же должен знать, что его ждет. Так будет лучше для нас — и для него тоже.
Моррисон переводил взгляд то на него, то на нее. У него вдруг перехватило горло, стало трудно дышать. Что бы они ни собирались делать с ним, он знал: у него не было выбора.
* * *
Моррисон все молчал. Дежнев беспечно и с удовольствием поглощал завтрак.
Столовая почти опустела, и официантка Валерия Палерон уносила остатки еды, стирала со столов и стульев. Дежнев поймал ее взгляд, поманил и приказал убрать со стола.
Моррисон произнес:
— Итак, у меня нет выбора. Но выбора в чем?
— Ха! Наташа даже не сказала вам об этом? — вопросом ответил Дежнев.
— Несколько раз она говорила, что я буду заниматься проблемами минимизации. Но я знаю — и вам известно об этом — что такой проблемы не существует, это только попытка превратить невозможное в действительное. И я, конечно, не могу помочь вам в этом; Я хочу только узнать, чего вы от меня хотите.
Дежнев удивленно посмотрел:
— Почему вы думаете, что минимизация невозможна?
— Потому, что невозможна.
— А если я скажу, что мы добились ее?
— Тогда я попрошу доказать мне это.
Дежнев повернулся к Барановой, которая глубоко вздохнула и кивнула.
Дежнев встал:
— Пойдемте. Мы отведем вас в Грот.
Моррисон от досады прикусил губу. Небольшое разочарование перерастало в угрожающее раздражение.
— Я не знал, что в русском есть такое слово.
Баранова ответила:
— У нас здесь есть подземная лаборатория. Мы называем ее Грот.
Это поэтическое слово не используется в разговорной речи. Грот — это месторасположение нашего проекта минимизации.
На улице их ждал реактивный аэроавтомобиль. Моррисон сощурился, привыкая к солнечному свету. Он с любопытством разглядывал машину. Ей не хватало совершенства американских моделей: с маленькими сиденьями и с громоздким мотором спереди, она походила на большие сани. И была абсолютно не пригодна для холодной сырой погоды. Моррисону было интересно знать, есть ли у русских закрытый вариант для плохой погоды. Возможно, это всего лишь летняя небольшая модель.
Дежнев расположился за пультом управления. Баранова указала Моррисону на сиденье за Дежневым. Сама села справа и обратилась к охране:
— Возвращайтесь в гостиницу и ждите нас там. С этого момента мы берем на себя полную ответственность. — Она передала охранникам отпечатанный лист бумаги, на котором быстро и неразборчиво расписалась, поставила дату и, посмотрев на часы, время.
Когда они приехали в Малград, Моррисон понял, что это действительно маленький город. Ряды двухэтажных домов убийственно походили друг на друга. Ясно, что город был построен для тех, кто работал над проектом, а его архитектура — явное прикрытие сказок о минимизации — не требовала особых затрат. У каждого дома был свой огород. Улицы, хотя и мощеные, имели какой-то незаконченный вид.
Машина, управляемая реактивным аэродвигателем, оторвавшись от земли, подняла небольшое облако пыли, которое их сопровождало на протяжении всего пути. Моррисон заметил, что облако раздражало пешеходов, мимо которых они проезжали. При их приближении люди, один за другим, старались уклониться в сторону. Моррисон почувствовал полный дискомфорт, когда встречный аэроавтомобиль обдал их подобным облаком пыли.
Баранова весело посмотрела, откашлялась и сказала:
— Не беспокойтесь. Нас скоро пропылесосят.
— Пропылесосят? — спросил Моррисон, кашляя.
— Да. И не столько ради нас, мы проживем и в пыли, но в Гроте не должно быть пыли.
— В моих легких тоже. Не лучше ли было закрыть машину?
— Нам обещают более современные модели и, возможно, они скоро прибудут. Этот наш новый город построен в степях. Здесь засушливый климат. В этом есть свои преимущества. Люди выращивают овощи. Как видите, у них есть и скот, но для широко развитого сельского хозяйства нужны время и ирригационные сооружения. Но сейчас это не имеет значения. Нас интересует только минимизация.
Моррисон покачал головой:
— Вы говорите о миниатюризации так часто и с таким праведным лицом, что почти убедили в ее существовании.
— Поверьте мне. Дежнев продемонстрирует ее для вас.
Дежнев добавил со своего места, не оборачиваясь:
— И это может принести мне неприятности. Я еще раз должен был поговорить с Центральным Координационным Комитетом — хотя это стоило мне седых волос. Как говорил мой отец: «Обезьяны были придуманы потому, что нужны были политики». Как можно находиться за две тысячи километров и руководить…
Аэроавтомобиль плавно подкатил к тому месту, где город внезапно заканчивался, и неожиданно перед ними открылся широкий и низкий горный массив.
— Грот, — сказала Баранова, — размещается внутри. Здесь находятся все необходимые помещения, они защищены от капризов погоды и недосягаемы для наблюдения с воздуха и даже шпионских спутников.
— Шпионские спутники противозаконны! — с возмущением сказал Моррисон.
— Противозаконно называть их шпионскими, — парировал Дежнев.
Аэроавтомобиль накренился, поворачивая, и остановился в тени скалистой расселины массива.
— Выходите, — приказал Дежнев.
Он двинулся вперед, двое последовали за ним. В горе вдруг открылась дверь: Моррисон даже не увидел, как это произошло. Она открылась подобно тому, как в сказке «Али-Баба и сорок разбойников» открылась пещера после слов «Сезам, откройся».
Дежнев отступил в сторону и жестом пригласил Моррисона и Баранову войти. Из утреннего солнечного света Моррисон шагнул в довольно тусклую камеру. Его глаза какое-то время привыкали. Это, конечно, была не разбойничья пещера, а тщательно и детально разработанное сооружение. У Моррисона появилось ощущение, что он оказался на Луне. Он никогда там не был, но, как и каждый землянин, знал, как выглядят ее подземные поселения. Тем не менее, антураж здесь был непохож на земной, не считая, конечно, обычного земного притяжения.
Глава 4
«Быть маленьким — прекрасно: орел иногда может быть голодным, а любимая канарейка — никогда».
Дежнев Старший.ГРОТ
В огромной и хорошо освещенной уборной Баранова и Дежнев начали раздеваться. Моррисон замешкался, со страхом подумав, что же будет потом.
Баранова улыбнулась:
— Вы можете не снимать нижнее белье, доктор Моррисон. Бросьте все, кроме обуви, в ту корзину. Полагаю, у вас ничего нет в карманах. Поставьте ботинки рядом с корзиной. К нашему отъезду все будет чистое и выглаженное. Моррисон сделал, как велели, стараясь не смотреть на пышную фигуру Барановой. Хотя ее, казалось, это совершенно не волновало.
Сначала они вымылись, не жалея мыла — лицо до ушей и руки до локтей. Затем расчесали волосы, беспощадно работая щетками. Моррисон опять помедлил, и Баранова, прочитав его мысли, сказала:
— Щетки чистят после каждого пользования, доктор Моррисон. Я не знаю, что вы могли о нас прочитать в вашей прессе, но некоторые из нас умеют соблюдать правила гигиены.
Моррисон поинтересовался:
— И это все для того, чтобы войти в Грот? Вы делаете это каждый раз?
— Каждый. Вот почему никто не приходит сюда надолго. И даже во время пребывания внутри нужно часто умываться. Следующая процедура вам может показаться неприятной, доктор Моррисон. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на сколько можете. Это займет почти минуту.
Моррисон сделал все это и почувствовал сильное давление воздушного водоворота. Он пошатнулся, как пьяный, и натолкнулся на одну из корзин, однако продолжал держаться. Ветер прекратился так же неожиданно, как и начался.
Он открыл глаза. Дежнев и Баранова выглядели так, как будто надели на себя странные парики. Он потрогал свои волосы и понял, что, должно быть, выглядел так же, и взял свою щетку.
— Не волнуйтесь, — успокоила его Баранова. — Самое страшное позади.
— Что все это было? — спросил Моррисон. Он даже откашлялся, чтобы обрести способность говорить.
— Я напоминала, что нас нужно пропылесосить, но это только первая стадия процесса чистки. Пройдите, пожалуйста, в эту дверь, — она придержала открытую для него дверь.
Моррисон вышел в узкий, но хорошо освещенный коридор, стены которого сверкали фотолюминесцентным светом.
Он удивленно поднял брови:
— Очень красиво.
— Это помогает экономить энергию, — заметил Дежнев, — что очень важно. Или вы имеете в виду технический прогресс? Похоже, американцы приезжают в Советский Союз в ожидании увидеть керосиновые лампы. — Он ухмыльнулся и добавил: — Согласен, мы не во всем догнали вас. Наш брат очень примитивен по сравнению с вами.
— Вы опережаете соперника, не дожидаясь удара, — ответил Моррисон. — Это явный признак нечистой совести. Если бы вы стремились продемонстрировать успехи в технике, смею заметить, не стоило бы большого труда замостить улицу от Малграда до Грота и приобрести закрытые аэроавтомобили. На это ушло бы меньше средств.
Дежнев помрачнел, а Баранова резко вмешалась:
— Доктор Моррисон абсолютно прав, Аркадий. Мне не нравится твое убеждение, что невозможно быть честным, будучи грубым. Если ты не можешь быть одновременно честным и вежливым, с твоей стороны лучше будет держать язык за зубами.
Дежнев смущенно ухмыльнулся:
— Что такого я сказал? Конечно, американский доктор прав, но что мы можем сделать, когда идиот в Москве принимают решения экономить на мелочах, не думая о последствиях? Как говорил мой старый отец: «Беда экономии в том, что она очень дорого стоит».
— Совершенно верно, — ответила Баранова. — Мы могли бы сэкономить массу денег, доктор Моррисон, потратив на улучшение дорог и средства передвижения, но не всегда легко убедить тех, в чьих руках находятся деньги. Наверняка, у вас в Америке такие же проблемы.
Моррисон проследовал за ней в маленькую комнату. А она все рассуждала, жестикулируя. Когда за ними закрылась дверь, Дежнев протянул Моррисону браслет:
— Позвольте, я надену его вам на правое запястье. Когда мы поднимем руки, сделаете то же самое.
Пол комнаты вздрогнул, и Моррисон почувствовал, что на какое-то время его тело стало невесомым.
— Лифт, — сказал он.
— Как вы догадливы! — воскликнул Дежнев. Вдруг он хлопнул рукой себя по губам и приглушенно произнес:
— Я не должен быть грубым.
Лифт плавно остановился, его двери открылись.
— Удостоверения! — послышался властный голос.
Дежнев и Баранова подняли руки, Моррисон сделал то же самое. В фиолетовом свете, заливавшем лифт, Моррисон заметил, как блеснули три браслета, похожие друг на друга.
Они прошли в коридор, затем в комнату, где было тепло и сыро.
— Мы должны пройти последний этап чистки, доктор Моррисон, — предупредила Баранова. — Мы привыкли к этому, раздевание для нас обычно. Проще это делать вместе, к тому же сэкономим время.
— Если вы привыкли, — мрачно произнес Моррисон, — я тоже смогу сделать это.
— Ничего страшного, — заметил Дежнев. — Мы все свои.
Дежнев стащил с себя нижнюю одежду, шагнул в стене, где светилась маленькая красная кнопка, и тотчас же нажал на нее большим пальцем правой руки. В стене открылась узкая панель, за которой оказалась неряшливо висящая белая одежда. Свое белье он положил на пол. Казалось, он совершенно не стеснялся своей наготы. Его грудь и плечи были густо покрыты волосами, а на правой ягодице виднелся длинный шрам. Моррисон подумал: откуда он мог у него появиться? Баранова проделала то же самое, что и Дежнев, сказав Моррисону:
— Выберите горящую кнопку, доктор. Она откроет панель, среагировав на отпечаток вашего большого пальца. Затем, когда нажмете повторно, закроет. После этого она будет срабатывать только на отпечаток вашего пальца, и, пожалуйста, запомните номер вашего шкафчика, чтобы не искать его каждый раз.
Моррисон выполнил ее указания.
Баранова предложила:
— Если вам нужно сначала пройти в туалетную комнату, пожалуйста.
— Я в порядке, — ответил Моррисон.
Комната заполнилась влажным туманом из водяных капелек.
— Закройте глаза! — выкрикнула Баранова. Но ей не обязательно было это говорить. Первая струя воды, заставила его сразу Же зажмуриться.
В воде, видимо, содержалось мыло или, по крайней мере, что-то, что щипало глаза и имело горький привкус, раздражающий рот и ноздри.
— Поднимите руки! — крикнул Дежнев. — Не поворачивайтесь, вода бьет во всех направлениях.
Моррисон поднял руки. Вода действительно поступала отовсюду. Даже из пола, судя по слегка неприятному давлению на мошонку.
— Сколько это будет продолжаться? — произнес он, задыхаясь.
— Очень долго, — ответил Дежнев, — но это необходимо.
Моррисон считал про себя. Досчитав до 58, он почувствовал, что струя бьет по губам не так больно. Он приоткрыл глаза. Те двое находились еще там. Он продолжал считать. Когда досчитал до 126, вода прекратилась. И его стал обдувать неприятный горячий сухой воздух.
Он тяжело дышал, время, казалось, остановилось.
— Для чего все это? — спросил он, отворачиваясь, увидев большие и крепкие груди Барановой, и натыкаясь взглядом в мало приятную волосатую грудь Дежнева.
— Мы обсохли, — произнесла Баранова. — Пойдемте одеваться.
Моррисон обрадовался, но тут же был разочарован белой одеждой, которую обнаружил в шкафу. Она состояла из блузы и легких полотняных брюк, которые подвязывались бечевкой. Кроме того, там были шапочка и мягкие сандалии. Хотя хлопок был непрозрачный, Моррисону показалось, что почти весь он просвечивается.
Он спросил:
— Это вся одежда, которая на нас будет?
— Да, — ответила Баранова. — Мы работаем в чистой, спокойной атмосфере с постоянной температурой. Нас не интересует модная и дорогая одежда. На самом деле, избавившись от определенного предубеждения, мы спокойно могли бы работать голые. Но хватит, пойдемте.
Они, наконец, вошли, как понял Моррисон, в главный корпус Грота. Он раскинулся перед ними, между украшенными колоннами на расстоянии, которое невозможно было определить.
Оборудование было ему незнакомо. Он занимался только теорией и во время работы использовал электронные приборы, которые сам конструировал и изменял. На какое-то мгновение он почувствовал внезапный приступ ностальгии по своей лаборатории в университете, своим книгам, запаху клеток, где жили животные, даже по глупому упрямству своих коллег.
Повсюду в Гроте находились люди. Рядом работали человек десять, остальные копошились кто где. Создавалось впечатление человеческого муравейника, где целенаправленно двигались машины и люди. Никто не обращал внимания друг на друга и на вновь пришедших. Они работали и двигались молча, звук шагов приглушался сандалиями.
Казалось, Баранова вновь прочитала мысли Моррисона и, обращаясь к нему, заговорила шепотом:
— Здесь каждый держит свое мнение при себе. Каждый знает не более того, что следует знать. Не должно быть никакой утечки информации.
— Но ведь они должны общаться между собой.
— Когда нужно, они это делают, но не больше. Это лишает удовольствия дружеского общения, но так надо.
— Такое деление людей замедляет прогресс, — заметил Моррисон.
— Но таким образом мы обеспечиваем безопасность, — ответила Баранова. — Поэтому, если никто не будет с вами разговаривать, это не из-за личной неприязни. У них просто не будет причин для разговора с вами.
— Незнакомый человек вызовет их любопытство.
— Я предусмотрела это. Вы для них — специалист, приглашенный со стороны. Это все, что им нужно знать о вас.
Моррисон нахмурился:
— Как они поверят, что американца пригласили в качестве специалиста?
— Им не известно, что вы — американец.
— Мой акцент меня сразу выдаст, как это случилось с официанткой.
— Но вы ни с кем не будете разговаривать, кроме тех, с кем я вас познакомлю.
— Как хотите, — равнодушно ответил Моррисон.
Он все еще оглядывался кругом. Попав сюда, он мог по возможности что-нибудь узнать. Даже если все окажется простым и обычным. Если он вернется в Соединенные Штаты, его наверняка спросят о подробностях того, что наблюдал, и ему будет что рассказать.
Он сказал на ухо Барановой:
— Это место, должно быть, дорого обошлось государству. Какая часть национального бюджета идет на это?
— Да, дорого, — ответила Баранова, больше ничего не добавив.
Дежнев ожесточенно продолжал:
— Я сегодня утром вынужден был целый час уговаривать их позволить провести ради вас небольшой дополнительный эксперимент — холера возьми этот Комитет.
— Но холеры больше не существует, даже в Индии, — возразил Моррисон.
— Пусть она вновь появится для Комитета.
Баранова предупредила:
— Аркадий, если в Комитете узнают о твоих шутливых выражениях, ничего хорошего тебя Не ждет.
— Я не боюсь этих свиней, Наташа.
— А я боюсь. Что будет с бюджетом на будущий год, если ты приведешь их в бешенство?
Моррисон заговорил с неожиданным раздражени ем, но все же стараясь смягчить тон:
— Комитет и бюджет меня не касаются, я всего лишь хочу узнать, что я здесь делаю.
Дежнев ответил:
— Вы пришли сюда для того, чтобы стать свидетелем минимизации и получить объяснения, почему мы нуждаемся в вашей помощи. Вы удовлетворены, товарищ, зх-м… товарищ Приглашенный Специалист?
* * *
Моррисон проследовал за остальными к чему-то, похожему на маленький старомодный вагон, стоящий на рельсах с очень узкой колеей.
Баранова дотронулась большим пальцем до гладкой пластинки на дверях, отчего те плавно и бесшумно открылись.
— Пожалуйста, входите, доктор Моррисон.
Моррисон задержался.
— Куда мы едем?
— В помещение минимизации, конечно.
— По железной дороге? Каких же размеров это место?
— Больших, доктор, но не очень. Это делается из соображений безопасности. Только немногие могут использовать этот прибор, и только так можно проникнуть в самое сердце Грота.
— Неужели вы настолько не доверяете своим собственным людям?
— Мир сложен, доктор Моррисон. Мы доверяем нашим людям, но мы не хотим подвергать многих соблазну. Пожалуйста, входите.
Моррисон с трудом вошел в компактный вагон. Дежнев протиснулся за ним со словами:
— Еще один пример бессмысленной скупости. Почему такой маленький? Почему, потратив миллиарды рублей на проект, бюрократы считают себя добродетелями, если сэкономят несколько сотен — и то, в конечном счете, в ущерб трудящимся?
Баранова села на переднее сиденье. Моррисон не мог видеть, как она управляла, если там вообще было какое-нибудь управление. Возможно, вагон двигался с помощью компьютера.
В вагоне на уровне глаз располагалось небольшое окошко, но стекло было непрозрачным. Моррисон смог заметить часть нечаянно промелькнувшей снаружи пещеры. Возможно, окна были предназначены для того, чтобы облегчить страдания тех, кто предрасположен к клаустрофобии, уменьшая таким образом ощущение невыносимой тесноты замкнутого пространства.
Моррисону казалось, что люди, которых ему удавалось рассмотреть за стеклом, не обращали никакого внимания на движущийся вагон. Каждый здесь, подумал он, хорошо вымуштрован. Проявление интереса к тому, к чему непосредственно не имеешь отношения, — явный признак невоспитанности, если не хуже…
Моррисон почувствовал, что они приблизились к стене пещеры. Вагон резко уменьшил скорость. Стена раздвинулась, вагон, качнувшись, набрал скорость и двинулся через проход.
Сразу стало почти совсем темно. Слабое освещение в потолке превратило ночь в сумерки.
Они находились в узком тоннеле, где едва хватало места для вагона. Слева Моррисон смог различить еще пару рельсов. Должно быть, лишь два таких вагона, подумал он, в состоянии разъехаться в тоннеле на скорости.
Тоннель, как и вагон, был плохо освещен. Возможно, его прокладывали, следуя линиям наименьшего сопротивления и экономя деньги. Может быть, повороты делали преднамеренно, стремясь из тайных, устаревших соображений скрыть дорогу, усложнить ее. Видимо, поэтому здесь везде было плохое освещение.
— Долго мы будем ехать, а? — спросил Моррисон.
Дежнев посмотрел на него с издевкой, которую невозможно было заметить в темноте.
— Я вижу, вы не знаете, как ко мне обращаться. У меня нет ученого звания, почему бы не называть меня Аркадием? Здесь все так меня зовут. Мой отец всегда говорил: «Имя не имеет никакого значения для человека».
Моррисон кивнул головой:
— Очень хорошо. Долго нам еще ехать, Аркадий?
— Нет, Альберт, — весело ответил Дежнев. И Моррисон, которому предложили неофициальные отношения, не мог ничего возразить.
Он сам себе немного удивился, уловив, что у него нет желания возражать. Даже Дежнев, с афоризмами своего отца, показался более приятным. И Моррисон в душе обрадовался возможности отступить от того постоянного состояния отчуждения, в которое Баранова, казалось, старалась втянуть его.
Вагон двигался медленно, со скоростью праздного пешехода. Он немного раскачивался, когда рельсы поворачивали. Неожиданно в окна ворвался поток света, и вагон остановился.
Выходя наружу, Моррисон сощурился. Комната, в которой они теперь находились, была меньше того помещения, откуда они прибыли. В ней фактически ничего не было. Рельсы, делая широкий полукруг, поворачивали назад к стене, через которую они сюда попали. Он заметил еще один маленький вагончик, исчезающий в проходе закрывающейся за ним стены.
Вагон, в котором они прибыли, медленно развернулся и остановился.
Моррисон осмотрелся. В стене было множество дверей, а потолок находился сравнительно низко. У него возникло такое чувство, будто он на трехметровой шахматной доске с пронумерованными клетками на разных уровнях.
Баранова, ожидая, казалось, наблюдала его любопытство с выражением явного нетерпения.
— Вы готовы, доктор Моррисон?
— Нет, доктор Баранова, — ответил Моррисон. — Я не буду готов, пока не узнаю, куда я иду и что я буду делать. Тем не менее, я пойду за вами, если вы покажете дорогу. Что еще мне остается?..
— Этого достаточно. Тогда — сюда. Вы должны познакомиться еще кое с кем.
Они прошли в одну из дверей маленькой комнаты. В хорошо освещенном помещении вдоль стен тянулись толстые провода.
В комнате находилась молодая женщина. При виде вошедших она отодвинула в сторону что-то, напоминающее внешне технический отчет. Она отличалась какой-то бледной незащищенной красотой. Короткие вьющиеся волосы соломенного цвета придавали ее внешности некоторую оживленность. Легкая хлопчатобумажная форма, которая, как заметил Моррисон, была одинаковой для всех в Гроте, не скрывала ее привлекательной стройной фигуры, лишенной пышности Барановой. Ее лицо портила, а может, украшала (дело вкуса) маленькая родинка прямо у левого края губ. У нее были высокие скулы, тонкие изящные пальцы. На лице ни намека на улыбку.
Моррисон, тем не менее, сам улыбнулся. В первый раз с момента похищения ему показалось: в этой мрачной ситуации, случившейся против его воли, могут быть и светлые стороны.
— Добрый день, — поздоровался он. — Приятно встретиться с вами. — Он постарался говорить по-русски правильно, скрывая американский акцент, который так легко сумела определить официантка.
Молодая женщина, не ответив ему, обратилась к Барановой хрипловатым голосом:
— Это американец?
— Да, — ответила Баранова. — Доктор Альберт Джонас Моррисон, профессор нейрофизики.
— Ассистент профессора, — взмолился Моррисон.
Баранова не обратила внимания на реплику.
— А это, доктор Моррисон, доктор Софья Калныня, наш специалист по электромагнетизму.
— А по возрасту и не скажешь, — галантно заметил Моррисон.
Было похоже, что леди это не понравилось.
— Возможно, я выгляжу моложе. Мне тридцать один год.
Моррисон смутился, а Баранова быстро вмешалась:
— Пойдемте, мы готовы начинать. Пожалуйста, проверьте схемы и запускайте материал. И быстрее.
Калныня поспешно вышла.
Дежнев с усмешкой посмотрел ей вслед.
— Я рад, что ей не нравятся американцы. Это исключает, по крайней мере, сто миллионов потенциальных конкурентов. Если бы ей еще не нравились русские и она признала, что я, как и она, карело-финн…
— Ты — карело-финн? — произнесла Баранова, натянуто улыбаясь. — Кто в это поверит, сумасшедший?
— Она, если будет в подходящем настроении.
— Для этого нужно невероятное настроение. — И Баранова обратилась к Моррисону: — Пожалуйста, не принимайте поведение Софьи на свой счет. Многие наши граждане проходят через стадию ультрапатриотизма и считают очень патриотичным не любить американцев. Но это скорее поза, чем истина. Уверена, что, когда мы начнем работать в одной группе, Софья избавиться от своих комплексов.
— Я все понимаю. В моей стране происходят подобные вещи. Если уж на то пошло, в настоящий момент я не очень-то люблю советских людей. Причина ясна, я думаю. Но, — он улыбнулся, — я очень легко могу сделать исключение для доктора Калныни.
Баранова покачала головой:
— Такие американцы, как вы, и такие русские, как Аркадий, обладают особым мужским мышлением, которое выше национальных границ и культурных различий.
Моррисон оставался непреклонным:
— Но я не буду работать ни с ней, ни с кем-либо другим. Я устал говорить вам, доктор Баранова, что я не верю в существование минимизации и что я не смогу и не буду помогать вам.
Дежнев засмеялся:
— Знаешь, Альберту можно верить. Он так серьезно говорит.
Баранова деловито сказала:
— Посмотрите, доктор Моррисон. Это Катенька.
Она похлопала по клетке, которую Моррисон с удивлением только заметил. Доктор Калныня полностью завладела его вниманием. И даже после того, как она ушла, он продолжал поглядывать на дверь в ожидании ее нового появления.
Он туповато смотрел на клетку, сплетенную из проволоки. Катенька, белый кролик средних размеров, спокойно жевала траву, полностью поглощенная этим занятием.
— Да, вижу. Это — кролик.
— Это — не просто кролик, доктор. Это — очень необычное создание. Уникальное. Катенька дала начало истории, которая по своему значению превосходит историю войн и катастроф и которая, наверное, будет названа ее именем. Если исключить такие совершенно ничтожные создания, как черви, блохи и микроскопические паразиты, Катенька — первое живое существо, подвергшееся минимизации. Собственно, она была минимизирована в трех отдельных случаях. И если бы мы сумели, она была бы уменьшена еще в десятки раз. Она внесла большой вклад в минимизацию живых форм. Как видите, эксперименты не принесли ей никакого вреда.
Моррисон заметил:
— Я не хочу вас обидеть, но вашего бездоказательного утверждения, что кролик был минимизирован три раза, недостаточно. Я не хочу сказать, что сомневаюсь в вашей честности. Но в подобном случае, коль я ученый, единственным достаточным доказательством является возможность увидеть все своими глазами.
— Конечно. И именно по этой причине — ценой больших затрат — Катенька подвергнется минимизации четвертый раз.
* * *
Софья Калныня вернулась назад и обратилась к Моррисону.
— У вас есть часы или что-нибудь металлическое? — спросила она жестко.
— У меня нет с собой ничего, доктор Калныня. Ничего, кроме одежды на мне, единственный карман которой пуст. Даже этот браслет, удостоверяющий личность, похоже, сделан из пластмассы.
— Просто металл может помешать сильному электромагнитному полю.
— Может ли быть какое-то психологическое воздействие?
— Нет. Во всяком случае, мы не обнаружили.
Моррисон, ожидая, когда они прекратят прикрываться минимизацией, думал: как долго они будут его обманывать. С каждой минутой в нем все больше нарастало недовольство, и он с оттенком злости сказал:
— Доктор Калныня, вы не боитесь, что облучение может плохо повлиять на ребенка, если вы забеременеете?
Калныня вспыхнула:
— У меня есть ребенок. Она — абсолютно нормальная.
— Вы облучались во время беременности?
— Один раз.
Тут вмешалась Баранова:
— Доктор Моррисон, вы закончили расследование? Мы можем начинать?
— Вы все еще хотите уменьшать кролика?
— Конечно.
— Тогда — вперед. Я весь — внимание.
(Глупо с их стороны, думал он язвительно. Вскоре они заявят, что что-то не в порядке. И что будет потом? К чему все это?)
Баранова попросила:
— Для начала, доктор Моррисон, поднимите, пожалуйста, клетку.
Моррисон не шевельнулся.
Он подозрительно и с сомнением переводил взгляд с одного на другого.
Дежнев, как обычно, с иронией заметил:
— Вперед. С тобой ничего не случится, Альберт. Ты даже не испачкаешь руки. Хотя во время работы это случается.
Моррисон взял клетку, поднял ее. Она весила почти десять килограммов. Он проворчал:
— Теперь можно поставить?
— Конечно, — разрешила Баранова.
— Осторожно, — добавила Калныня. — Не испугайте Катеньку.
Моррисон осторожно опустил клетку. Кролик на время прервал трапезу, оказавшись в воздухе, с любопытством понюхал вокруг и вновь принялся неторопливо жевать.
Баранова кивнула, и Софья прошла к пульту управления, который был почти спрятан под проводами. Через плечо она посмотрела на клетку, как бы оценивая ее положение. Затем подошла и слегка поправила ее. Вернулась к пульту и щелкнула тумблером.
Послышался завывающий звук. Клетка начала сверкать и мерцать, как будто что-то невидимое появилось между людьми и ею. Свечение усиливалось внизу клетки, отделяя ее от каменной поверхности стола, на котором она стояла.
Баранова объяснила:
— Сейчас клетка находится в поле минимизации. Будут уменьшены только те предметы, которые находятся в этом поле.
Моррисон смотрел во все глаза, в нем зашевелился маленький червь сомнения. Не собираются ли они продемонстрировать ему хитрый фокус и заставить поверить, что он был свидетелем минимизации?
Он спросил:
— А как именно вы создаете это, так называемое, поле минимизации?
— А вот этого, — заметила Баранова, — мы не собираемся вам говорить. Я думаю, вы понимаете, как классифицируется эта информация. Вперед, Софья.
Завывание повысилось на тон и немного усилилось. У Моррисона оно вызвало неприятное чувство, но остальные, казалось, бесстрастно переносили его. Он несколько секунд рассматривал людей, а когда вновь взглянул на клетку, ему показалось, что она уменьшилась. Нахмурившись, он наклонил голову так, чтобы край клетки совпал с вертикальной линией провода на противоположной стене. Он держал голову в постоянном положении и видел — край клетки отклонялся от линии на стене. Ошибки не было, определенно клетка уменьшалась.
Отчетливо по его лицу пробежала тень расстройства, на что Баранова отреагировала, слегка улыбнувшись.
— Она действительно сокращается, доктор Моррисон. Ваши глаза говорят об этом.
Завывание продолжалось — продолжалось и уменьшение. Клетка стала вдвое меньше начальных размеров.
Моррисон произнес без явной уверенности:
— Существуют такие вещи, как оптические иллюзии.
Баранова крикнула:
— Софья, остановите на секунду.
Вой превратился, сверкание пропало. Клетка заняла спокойное прежнее положение на столе. Но она была меньших размеров. Кролик, пропорционально уменьшенный по сравнению с начальным вариантом, продолжал жевать маленькие листья и кусочки моркови, разбросанные по дну клетки.
Баранова спросила:
— Неужели, вы действительно думаете, что это оптическая иллюзия?
Моррисон молчал, а Дежнев весело сказал:
— Ну, Альберт, поверьте очевидности своих ощущений. На эксперимент уходит много энергии. И если вы не поверите, наши умные руководители рассердятся на всех нас за бесполезную трату денег. Что скажете?
Моррисон покачал головой в грустном замешательстве и ответил:
— Я не знаю, что сказать.
Баранова попросила:
— Поднимите, пожалуйста, клетку еще раз, доктор Моррисон.
Моррисон опять замешкался. Баранова успокоила:
— Поле минимизации не оставляет радиации или чего-нибудь подобного. Прикосновение вашей нормальной руки не подействует на нее, а минимизация не повредит вам. Видите? — и она решительно, но аккуратно положила руку на клетку.
Однако и это не рассеяло сомнения Моррисона. Он робко взял клетку обеими руками и поднял ее. Тут же он от удивления воскликнул: вес ее был не больше килограмма. Клетка задрожала в его руках. Уменьшенный кролик, встревоженный, отскочил в угол и съежился от страха.
Моррисон поставил клетку как можно точнее в прежнее положение, но Калныня подошла и слегка поправила ее.
Баранова спросила:
— Ну, что вы думаете, доктор Моррисон?
— Она, конечно, весит меньше. Но, возможно, вы каким-то образом разъединяете цепь?
— Разъединяем цепь? Вы имеете в виду, заменяем большой предмет на маленький точной его копией, отличающейся только размерами?
Моррисон откашлялся. Он ни на чем не настаивал. Однако пока не верил глазам своим.
Баранова продолжала:
— Пожалуйста, обратите внимание, доктор, уменьшились не только размеры, но и масса в пропорции. Сами атомы и молекулы, из которых состоит клетка и ее содержимое, изменились в размере и массе. Коренным образом уменьшилась постоянная Планка, поэтому внутри относительно ничего не изменилось. Для самого кролика еда и все, что находится внутри клетки, кажется абсолютно нормальным. Внешний мир в размерах вырос по отношению к кролику, но он, конечно, об этом не догадывается.
— Но поле минимизации исчезло, — заметил Моррисон. — Почему клетка и ее содержимое не принимают прежних размеров?
— По двум причинам, доктор. Во-первых, состояние миниатюризации стабильно. Это одно из великих фундаментальных открытий, которое вообще делает ее возможной. В каком бы месте мы ни остановили процесс, требуется очень мало энергии, чтобы поддерживать его в том же состоянии. Во-вторых, поле миниатюризации полностью не исчезло. Оно просто уменьшилось и сжалось, сохраняя атмосферу внутри клетки, не рассеиваясь наружу и не допуская нормальные молекулы внутрь. Вот почему можно трогать неуменьшенными руками стены клетки. Но мы еще не закончили, доктор. Продолжим?
Моррисон, взволнованный, казалось, не мог отрицать факта эксперимента. Но мимолетно подумал: не подвергся ли он действию наркотиков, приводящих в состояние сверхвнушаемости и заставляющих принимать то, что ему говорят. С трудом он проговорил:
— Вы слишком много мне говорите.
— Да, но только поверхностно. Если обнародуете это в Америке, вам скорее всего не поверят. И что бы вы ни сказали, в этом не увидят ни малейшего намека на сущность технологии минимизации.
Баранова подняла руку, и Калныня вновь включила цепь. Опять послышалось завывание. Клетка начала уменьшаться. Казалось, сейчас все происходило быстрее. Баранова, как будто читая мысли Моррисона, сказала:
— Чем дальше происходит уменьшение, тем меньше массы остается и размеры быстрее сокращаются.
Моррисон непроизвольно открыл рот. Он был в состоянии, близком к шоку, пялил глаза на клетку, которая в диаметре дошла до сантиметра и все еще продолжала уменьшаться.
Баранова подняла руку. Звук исчез.
— Осторожно, доктор Моррисон. Сейчас она весит всего несколько сотен миллиграмм и очень хрупкая. Вот, Взгляните.
Она подала большое увеличительное стекло. Моррисон, не сказав ни слова, взял и посмотрел на крохотную клетку. Он никогда бы не догадался, что за движущийся предмет находится внутри, если бы не знал заранее. В его голове не укладывалась мысль о возможности существования такого крохотного кролика.
И все-таки он был свидетелем того, как он уменьшился, и сейчас глазел на него, одновременно испытывая и смущение, и восхищение.
Он взглянул на Баранову и спросил:
— Неужели это правда?
— Вы все думаете, что это оптическая иллюзия, гипнотизм или еще что-нибудь?
— Наркотики?
— Если бы действовали наркотики, доктор Моррисон, это было бы более великое достижение, чем минимизация. Посмотрите вокруг себя. Разве все остальное не выглядит нормальным? Наркотик, который бы смог изменить ваше восприятие единственного объекта в большой комнате, не затрагивая другие предметы, стал бы действительно необыкновенным открытием. Нет, доктор, то, что вы видели, — реальность.
— Увеличьте ее, — произнес Моррисон сдавленным голосом.
Дежнев рассмеялся, но быстро подавил смех.
— Колебания воздуха, вызванные смехом, могут сдуть Катеньку, и тогда Наташа и Софья побьют меня первым, что попадется им под руки в этой комнате. Вы должны подождать, если хотите, чтобы ее увеличили.
Баранова сказала:
— Дежнев прав. Видите, доктор Моррисон, вы стали свидетелем не магической, а научной демонстрации. Если бы это была магия, я бы щелкнула пальцем, и перед нами появилась бы клетка с кроликом нормальных размеров. Тогда бы вы и поняли, что стали свидетелем оптической иллюзии. Тем более, что требуется значительная энергия для уменьшения постоянной Планка от нормальной величины до сотых и тысячных. Вот почему минимизация является таким дорогим методом. А чтобы вновь увеличить постоянную Планка, необходима энергия, равная затраченной первоначально, так как закон сохранения энергии распространяется и на минимизацию. Поэтому мы не можем достичь обратного процесса, не располагая достаточной энергией. И нам потребуется много времени для этого, гораздо больше, чем потратили на уменьшение.
Моррисон молчал. Объяснение сохранения энергии в процессе эксперимента показалось ему более убедительным, чем сама демонстрация опыта. Шарлатаны не были бы так щепетильны в обращении с законами физики.
Он произнес:
— Тогда мне кажется, что процесс минимизации вряд ли найдет практическое применение. Самое большее, его можно будет использовать, возможно, лишь как инструмент для расширения и развития квантовой теории.
Баранова сказала:
— Даже этого будет достаточно. Но не судите обо всем методе по его начальной стадии. Я надеюсь, мы научимся обходиться без таких крупных энергетических изменений и сделаем минимизацию и деминимизацию более эффективными. Весь процесс обмена энергии происходит следующим образом: электромагнитное поле — минимизация — и затем энергия деминимизации. Не так ли? Что, если использовать процесс деминимизации для освобождения энергии и вновь создавать электромагнитное поле? Возможно, так легче будет управлять процессом?
— Вы отменили второй закон термодинамики? — спросил Моррисон преувеличенно вежливо.
— Вовсе нет. Мы не считаем, что стопроцентное сохранение энергии невозможно. Если мы сможем семьдесят пять процентов энергии деминимизации превратить в электромагнитное поле — или хотя бы двадцать пять процентов, — ситуация улучшится. И все-таки есть надежда, что существует более совершенный и эффективный метод, и этим займетесь вы.
У Моррисона округлились глаза:
— Я? Я ничего об этом не знаю. Почему вы выбрали меня для своего спасения? С таким же успехом вы могли бы взять ребенка из детского сада.
— Это не так. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Пойдемте, доктор Моррисон, мы пройдем в кабинет, пока Софья и Аркадий займутся скучным процессом восстановления Катеньки. Там я вам докажу, что вы достаточно подготовлены, чтобы помочь нам сделать минимизацию эффективной и, таким образом, извлечь из нее практическую пользу. Вы совершенно уверуете, что вы — единственный человек, способный помочь нам.
Глава 5
«Жизнь приятна. Смерть спокойна. А переход от жизни к смерти мучителен».
Дежнев Старший.КОМА
— Это, — сказала Наталья Баранова, — мой кабинет в Гроте.
Она села в довольно потертое кресло, в котором (как вообразил Моррисон) ей было очень удобно сидеть, так как за долгие годы оно приобрело очертания ее тела.
Он сел в другое кресло, поменьше и попроще, с атласным сиденьем, которое было не таким удобным, как показалось на первый взгляд. Он бегло осмотрел обстановку, остро чувствуя тоску по дому. Что-то здесь напоминало ему о его собственном кабинете.
Там находилась розетка для компьютера и большой экран. У Барановой было красивее, чем у него — советский стиль имел тяготение к причудливости. Моррисону на какое-то мгновение стало интересно.
Тот же самый беспорядок в куче распечаток, тот же специфический запах, который исходит от них, и те же старомодные книги, случайно встречающиеся среди кассет. Моррисон попытался прочитать название одной из них, но она лежала слишком далеко и была так потрепана, что трудно было различить буквы. (Книги всегда выглядят устаревшими, даже если они новые). Ему показалось, что одна из них была на английском языке. Его это нисколько не удивило. У него в библиотеке тоже было несколько русских классических книг для того, чтобы изредка освежать в памяти язык.
Баранова заговорила:
— Мы совершенно одни. Нас здесь не подслушают, и никто не помешает. Чуть позже нам принесут сюда обед.
— Вы очень любезны, — ответил Моррисон, стараясь не съязвить.
Баранова не придала этому значения.
— А сейчас, доктор Моррисон, я не могу не заметить, что Аркадий и вы обращаетесь друг к другу по имени. Он, конечно, в какой-то степени некультурный человек и много себе позволяет. Все же, независимо от обстоятельств, при которых вы попали сюда, наши отношения могут стать приятными и неформальными.
Моррисон проговорил неуверенно:
— Что ж, тогда зовите меня Альбертом. Но это скорее для удобства, в знак признания дружбы. Я не забыл, что меня похитили.
Баранова откашлялась:
— Я действительно пыталась убедить вас приехать по собственной воле. Если бы не крайняя необходимость, мы бы не зашли так далеко.
— Если вам так стыдно за содеянное, верните меня в Штаты. Отправьте сейчас назад, и я забуду этот случай и не буду жаловаться своему правительству.
Баранова медленно покачала головой:
— Вы знаете, что это невозможно. Необходимость вынуждает к этому. Вы скоро поймете, что я имею в виду. Но как бы то ни было, Альберт, давайте поговорим серьезно, как представители всемирной семьи ученых, которые стоят выше национальных вопросов и других искусственных различий между людьми. Конечно, сейчас вы признаете реальность минимизации.
— Я должен признать это, — Моррисон покачал головой почти с сожалением.
— И вы понимаете наши проблемы?
— Да. Очень большой расход энергии.
— И все же представьте, что мы резко снизим расход энергии. И сможем осуществить минимизацию, воткнув провод в розетку и затратив энергии не больше, чем для тостера.
— Но это явно невозможно сделать. Или, во всяком случае, ваши люди не могут это сделать. Тогда почему вы все держите в секрете? Почему не опубликуете открытия, которые уже сделали, и не пригласите остальных членов из семьи ученых? Секретность наводит на мысль, что Советский Союз, возможно, планирует использовать минимизацию в качестве какого-то оружия, достаточно сильного, чтобы ваша страна смогла разрушить взаимопонимание, благодаря которому на Земле в течение двух последних поколений были установлены мир и сотрудничество.
— Это не так. Мы не стараемся добиться мирового превосходства.
— Надеюсь. Но если Советский Союз засекречивает открытия, понятно, почему остальные члены земного союза подозревают его в стремлении к завоеванию.
— Но ведь и у Штатов есть свои секреты, не так ли?
— Я не знаю. Американское правительство мне не докладывает. Если у него есть секреты — а я полагаю, что это так — я также это не одобряю. Скажите, зачем они нужны? Что случится, если минимизацией мы будем заниматься вместе? Или ее осуществят африканцы, если уж на то пошло? Мы, американцы, изобрели самолет и телефон, и вы всем этим пользуетесь. Мы были первыми на Луне, но вы полностью используете свою часть лунных поселений. Вы, с другой стороны, первые решили проблему энергии плавки и строительства солнечных станций в космосе, и мы все полностью участвуем в этом.
Баранова ответила:
— Все, что вы говорите, — правильно. Тем не менее, на протяжении более чем столетия мир принимает как должное превосходство американской технологии над советской. Это нас постоянно раздражает, и нам очень бы хотелось хоть в чем-то фундаментальном и абсолютно революционном, как минимизация, доказать явное лидерство Советского Союза.
— А как насчет мировой семьи ученых, на которую вы ссылаетесь? Вы являетесь ее членом или вы — просто советский ученый?
— И то и другое, — рассердилась Баранова. — Если бы я могла принимать решения, я, возможно, открыла бы миру наши достижения. Однако я не имею такого права. Им владеет мое правительство, а я обязана сохранять ему преданность. Кроме того, вы, американцы, сами толкаете нас на это. Ваши постоянные громкие заявления об американском превосходстве заставляют нас обороняться.
— А разве приглашение американца, такого, как я, помочь вам в решении проблем, не ранит советскую гордость?
— Что ж, да, это действительно портит немного дело. Но, по крайней мере, дает возможность Соединенным Штатам участвовать в открытии, за что мы вам будем признательны, Альберт. Вы проявите себя как настоящий американский патриот и поправите свою репутацию, если поможете нам.
Моррисон горько улыбнулся:
— Подкуп?
Баранова пожала плечами:
— Если вы все так воспринимаете, я не могу вам это запретить. Но давайте поговорим как друзья и посмотрим, что из этого выйдет.
— В таком случае поделитесь со мной информацией. Сейчас, когда я вынужден поверить в возможность минимизации, вы можете мне рассказать, на чем она основана, с точки зрения физики? Мне любопытно.
— Вы прекрасно знаете, Альберт, вам опасно знать слишком много. Как тогда мы сможем отпустить вас назад домой? Кроме того, хоть я и умею управлять системой минимизации, ее основные принципы мне не известны. Если бы я владела этой информацией, наше правительство вряд ли рискнуло бы отправить меня в Соединенные Штаты.
— Вы хотите сказать, что мы могли бы похитить вас так же, как вы меня? Вы думаете, Соединенные Штаты занимаются хищениями?
— Я абсолютно уверена в этом, когда речь идет о необходимости.
— А кто же действительно знает принципы действия минимизации?
— Это тоже, в общем-то, небезопасно вам знать. Но в данном случае я все же могу приподнять немного завесу. Петр Шапиров — один из них.
— Сумасшедший Петр, — сказал с улыбкой Моррисон. — Я не удивлен.
— Еще бы. Я уверена, вы пошутили, сказав «сумасшедший», но именно он первый разработал разумное объяснение основ минимизации. Конечно,
— задумчиво добавила она, — для этого, возможно, необходимо определенное безумие или, по крайней мере, определенный образ мысли. Шапиров также первый предложил метод достижения минимизации с наименьшим расходом энергии.
— Как? Превращение деминимизации в электромагнитное поле?
Баранова скорчила гримасу:
— Я лишь привела вам пример. Метод Шапирова гораздо сложнее.
— Можете объяснить?
— Только приблизительно. Шапиров обращает внимание на то, что каждый из двух основных аспектов всеобщей универсальной теории Вселенной — квантовый аспект и аспект относительности — зависит от постоянной величины, ограничивающей их. В квантовой теории — это постоянная Планка, очень маленькая величина, но не равная нулю. В теории относительности — скорость света, которая очень велика, но не бесконечна. Постоянная Планка устанавливает нижний предел величины превращения энергии, а скорость света — верхний предел скорости передачи информации. Шапиров, более того, утверждает, что обе они связаны. Другими словами, если уменьшается постоянная Планка, то увеличивается скорость света. Если постоянную Планка довести до нуля, скорость света станет бесконечной.
Моррисон внезапно добавил:
— И в этом случае Вселенная станет ньютоновой по своим свойствам.
Баранова кивнула:
— Да. Шапиров считает, что причиной огромного расхода энергии в минимизации является разъединенность двух ограничений, уменьшение постоянной Планка без увеличения скорости света. Если объединить две постоянные, тогда энергия пойдет от предела скорости света к пределу постоянной Планка во время минимизации. Скорость света во время минимизации будет увеличиваться, а при деминимизации — уменьшаться. Производительность будет равна почти ста процентам. Тогда для минимизации потребуется очень мало энергии, а восстановление будет происходить очень быстро.
Моррисон спросил:
— Шапиров представляет, как будут проходить процессы минимизации и деминимизации при объединении двух постоянных?
— Он сказал, что знает.
— Сказал? В прошедшем времени? Не значит ли это, что он передумал?
— Не совсем так.
— Тогда в чем дело?
Баранова помедлила.
— Альберт, — сказала она, почти взмолившись, — вы слишком торопитесь. Я хочу, чтобы вы подумали. Вы знаете, что минимизация действует. Вы знаете, что она возможна, но не практична. Вы знаете, что она принесет пользу человечеству, и я уверяю вас, что она не предназначается для вредного или военного использования. Как только мы узнаем, что наше национальное превосходство признано, о чем мы мечтаем по психологическим причинам, я уверена, мы поделимся минимизацией со всеми на Земле.
— Правда, Наталья? Вы и ваш народ поверили бы Соединенным Штатам, если бы ситуация была противоположной?..
— Поверьте! — вздохнула тяжело Баранова. — Любому нелегко прийти к этому. Слабость человечества в том, что мы постоянно видим худшее в других. Кто-нибудь должен поверить первым, иначе хрупкий мир сотрудничества, которым мы так долго наслаждаемся, разрушится, и мы вернемся назад в двадцатый век со всеми его ужасами. Если Соединенные Штаты так сильно уверены в том, что они самая сильная и самая передовая нация, почему бы им первым не рискнуть и поверить?
Моррисон развел руками:
— Я не могу ответить на этот вопрос. Я — один из граждан и не представляю весь народ.
— Как один из граждан вы можете помочь нам, зная, что не принесете вреда своей собственной стране.
— Я не могу быть уверенным, ведь только одного вашего слова недостаточно, чтобы поверить. Вы представляете ваш народ так же, как я — свой. Но не в этом дело, Наталья. Как я могу помочь сделать минимизацию практичной, если я ничего не знаю о ней?
— Потерпите. Пока же пообедаем. Дежнев и Калныня к этому времени закончат деминимизацию Катеньки и присоединятся к нам еще с одним человеком. С ним вы должны встретиться. Затем, после обеда, я отведу вас к Шапирову.
— Я что-то сомневаюсь, Наталья. Только что вы сказали, что для меня представляет опасность знакомство с теми, кто действительно разбирается в минимизации. Я могу слишком много узнать, что затруднит мое возвращение в Штаты. Почему же я должен рисковать, встречаясь с Шапировым?
Баранова грустно ответила:
— Шапиров — исключение. Обещаю, что вы поймете это, когда увидитесь с ним. Кроме того, вы поймете, почему мы обращаемся к вам.
— Этого, — Моррисон говорил со всем убеждением, с каким недавно провозглашал минимизацию невозможной, — я никогда не пойму.
* * *
Обед проходил в комнате, хорошо освещенной благодаря электролюминесцентным стенам и потолку. Баранова подчеркнула это с явной гордостью, но Моррисон удержался от обидных сравнений с Соединенными Штатами, где электролюминесценция была явлением обычным.
Он также не выразил удивления тем, что, несмотря на электролюминесценцию, в центре потолка находилась маленькая, но красивая люстра. Ее лампочки не прибавляли света, но бесспорно придавали комнате менее антисептический вид. Как и предупредила Баранова, к ним присоединился еще один человек. Моррисона представили человеку по имени Юрий Конев.
— Нейрофизик, как и вы, Альберт, — сообщила Баранова. Конев, отличающийся загадочной красотой в свои тридцать пять лет, имел внешность почти застенчивого молодого человека. Он пожал руку Моррисону с подозрительной осторожностью и произнес на похвальном английском с явным американским акцентом:
Очень приятно познакомиться с вами.
— Полагаю, вы были в Соединенных Штатах, — сказал ему в ответ тоже по-английски Моррисон.
— Я провел два года, обучаясь в аспирантуре Гарвардского университета. Это дало мне великолепную возможность изучить английский.
— Однако, — заметила Баранова по-русски, — доктор Альберт Моррисон очень хорошо говорит на нашем языке, Юрий, и мы должны дать ему возможность попрактиковаться в нем здесь.
— Конечно, — ответил Конев по-русски.
Моррисон, на самом деле, почти забыл, что находился под землей. В комнате отсутствовали окна, но это было достаточно обычным явлением для крупных зданий-учреждений, находящихся над землей. За столом не наблюдалось особого оживления. Аркадий Дежнев ел с молчаливой сосредоточенностью, а Софья Калныня казалась отрешенной. Она изредка посматривала на Моррисона и полностью игнорировала Конева. Баранова наблюдала за всеми, но говорила мало. Казалось она обрадовалась тому, что заговорил Конев.
— Доктор Моррисон, я должен сказать вам, что внимательно следил за вашей работой.
Моррисон, с удовольствием поглощавший густые щи, поднял голову и коротко улыбнулся. Первый раз с тех пор, как его доставили в Советский Союз, упомянули о его работе.
— Спасибо за интерес, но Наталья и Аркадий называют меня по имени, и мне будет трудно откликаться на разные имена. Давайте в этот короткий промежуток времени перед отъездом к себе на родину будем все обращаться к друг другу по имени.
— Помогите нам, — тихо сказала Баранова, — и вы на самом деле скоро вернетесь домой.
— Безусловно, — также тихо проговорил Моррисон, — я хочу уехать.
Конев проговорил громко, как бы заставляя вернуть разговор на выбранный им путь:
— Но должен заметить, Альберт, я не смог продублировать ваши результаты научных наблюдений.
Моррисон сжал губы:
— На то же самое жаловались мне нейрофизики в Штатах.
— Но почему? Академик Шапиров очень заинтересовался вашими теориями и утверждает, что вы, возможно, правы. По крайней мере, в чем-то.
— Но Шапиров — не нейрофизик, не так ли?
— Да, но у него необыкновенное чутье. Всегда, когда, обсуждая что-то, он говорил: «Кажется, это правильно», — это оказывалось верным хотя бы частично. Шапиров считает, что вы, возможно, находитесь на пути создания интересного ретранслятора.
— Ретранслятора? Я не знаю, что он имеет в виду.
— Я однажды слышал, как он это сказал. Без сомнения, он высказал свои личные соображения. — Конев бросил проницательный взгляд на Моррисона, как бы ожидая объяснения своему замечанию.
Моррисон просто не обратил на это внимания.
— Все, что я сделал, — пояснил он, — это установил новый тип анализа импульсов головного мозга и перешел к более подробному исследованию особой схемы, находящейся внутри мозга и занимающейся творческим мышлением.
— Здесь, наверное, вы немного преувеличиваете, Альберт. Я сомневаюсь, что ваша схема действительно существует.
— Результаты ясно на это указывают.
— На собаках и обезьянах. Неизвестно, насколько мы можем экстраполировать такую информацию к гораздо более сложной структуре человеческого мозга.
— Признаюсь, я не анатомировал человеческий мозг, но я тщательно проанализировал импульсы человеческого мозга, и результаты, по крайней мере, не противоречат моей гипотезе творческой структуры.
— Именно это я не смог продублировать, как не смогли и американские исследователи.
Моррисон опять не обратил на это внимания.
— Необычайно трудно сделать адекватный анализ импульсов мозга на пятеричном уровне. Ведь никто, как я, годами не занимался этой проблемой.
— И ни у кого нет специального компьютерного оборудования. Вы разработали собственную программу для анализа мозговых импульсов, не так ли?
— Да.
— И описали ее?
— Конечно. Достигнутые результаты без описания программы ничего бы не стоили. Кто может подтвердить мои результаты без эквивалентной компьютерной программы?
— Все же в прошлом году на международной нейрофизической конференции в Брюсселе я слышал, что вы продолжаете изменять программу и что для подтверждения выводов не хватает сложного программирования, которое давало бы возможность делать анализ Фурье при необходимой степени чувствительности.
— Нет, Юрий, это — ложь. Абсолютная ложь.
Время от времени я менял программу, но каждое изменение я подробно описывал в «Компьютерной технологии». Я пробовал опубликовать данные в «Американском журнале нейрофизики», но в последнее время мои научные статьи не проходят. И не моя вина, если кто-то ограничивается только чтением «АЖН» и плохо знаком с другой литературой.
— И все же, — Конев сделал паузу и нахмурился, как будто неуверенный в своей мысли. — Не знаю, должен ли я говорить вам это. Это может вам не понравиться.
— Давайте. В последние годы я привык к замечаниям всякого рода — враждебным, язвительным и — хуже всего — жалостным. Я стал совершенно бесчувственным. Между прочим, очень вкусная котлета по-киевски.
— Специально для гостя, — пробормотала Калныня сдавленным голосом. — Слишком много масла — вредно для фигуры.
— Ха, — громко отреагировал Дежнев. — Вредно для фигуры. Чисто американское замечание, не имеющее смысла для русских. Мой отец всегда говорил: «Тело знает, что ему нужно. Вот почему и существуют вкусные вещи».
Калныня закрыла глаза, выражая этим свое явное неудовольствие.
— Это рецепт самоубийства, — проговорила она.
Моррисон заметил, что Конев не смотрел в сторону Софьи во время сцены. Будто ее и не было. Поэтому решил к нему обратиться: — Вы что-то сказали, Юрий? О чем-то, что может мне не понравиться.
Конев решился:
— Это правда, Альберт, что вы предоставили своему коллеге программу, но, даже введя ее в свой компьютер, он не смог повторить ваших результатов?
— Правда, правда, — ответил Моррисон. — Во всяком случае, этот мой коллега, довольно способный человек, так мне позже сказал.
— Вы подозреваете, он солгал?
— Нет. Просто результаты этих наблюдений настолько неуловимы и кратковременны, что попытка их добиться, предполагая неудачу, действительно и привела к такой неудаче.
— Вы примете возражение, Альберт? Ведь, с другой стороны, ваша уверенность в успехе и привела к тому, что ваше воображение нарисовало вам именно удачное завершение эксперимента?
— Допускаю, — согласился Моррисон. — Мне часто указывали на это в прошлом. Но в данном случае все совсем не так.
— Еще один слух, — продолжал Конев. — Мне неприятно его повторять, но важно внести ясность. Принадлежит ли вам утверждение, что, анализируя испускаемые человеческим мозгом импульсы, вам иногда удается расшифровать реальные мысли?
Моррисон решительно покачал головой:
— Я никогда не делал таких заявлений в печати. Просто раз или два рассказал коллеге, что когда я сосредотачиваюсь на анализе импульсов, то иногда чувствую, как мой собственный разум заполняется различными мыслями. Я пока не нашел способа определить, мои ли это собственные мысли, или же сигналы, идущие из моего мозга, резонируют с импульсами испытуемого.
— А такой резонанс возможен?
— Предполагаю, что да. Эти колебания способны порождать небольшие переменные электромагнитные поля.
— А! Так вот что, видимо, побудило академика Шапирова бросить эту фразу о ретрансляторе. Волны, распространяемые головным мозгом, всегда порождают переменные электромагнитные поля независимо от того, подвергаете вы их анализу или нет. Вы не резонируете — в обычном смысле этого слова — с мыслями другого человека, как бы интенсивно он в этот момент ни думал. Резонанс появляется, только когда вы углубляетесь в изучение волн при помощи специальной программы компьютера. Компьютер, по-видимому, и выполняет роль ретранслятора, усиливая волны, распространяемые мозгом испытуемого и проецируя их на ваш мозг.
— У меня нет доказательств этого. Только какое-то, промелькнувшее несколько раз, ощущение. Но этого совсем недостаточно.
— Все еще впереди. Человеческий мозг — самая сложная из всех известных субстанций.
— А как насчет дельфинов? — спросил Дежнев с полным ртом.
— Пустые надежды, — поспешил ответить Конев.
— Они понятливые, но их мозг полностью подчинен таким мелочам, как плавание, и в их головах просто не остается места для абстрактных мыслей, присущих человеку.
— Я никогда не занимался дельфинами, — равнодушно заметил Моррисон.
— У черту дельфинов, — нетерпеливо проговорил Конев. — Давайте сконцентрируем внимание на факте, что ваш компьютер после введения в него специальной программы может действовать как ретранслятор, передавая мысли наблюдаемого в ваш мозг. Если это действительно так, то вы, Альберт, необходимы нам как никто другой на свете.
Нахмурившись и отодвигая свой стул, Моррисон возразил:
— Даже если я и читаю чужие мысли при помощи компьютера — кстати, никогда этого не утверждал и, фактически, отрицаю — все же никак не могу взять в толк, какое это имеет отношение к минимизации?
Баранова поднялась и бросила взгляд на часы.
— Пора, — проговорила она. — Пойдемте навестим Шапирова.
Моррисон заметил:
— Мне абсолютно все равно, что он скажет.
— Вы увидите, — произнесла Баранова голосом, в котором слышались нотки металла, — он не проронит ни слова и одновременно будет чрезвычайно убедителен.
* * *
Моррисон держал себя в руках. Русские обращались с ним, сказать по правде, как с дорогим гостем. Если бы еще знать причину, по которой его сюда доставили, то вообще жаловаться было бы не на что. К чему они клонят? Одного за другим Баранова представляла своих сотрудников — первым Дежнева, затем Калныню, потом Конева. Но для чего она это делала, Моррисон догадаться не мог. Снова и снова Баранова намекала на необходимость его присутствия, ничего при этом не объясняя. Вот и Конев завел с ним разговор, но и он не внес ясности.
А теперь еще предстоял визит к Шапирову. Пока ясно одно — свидание с ним должно расставить все точки над i. После того, как Баранова впервые упомянула об академике двумя днями раньше на собрании, Моррисону стало казаться, что дух Шапирова витает над этим делом, словно сгущающийся туман. Именно он разработал процесс минимизации, именно он обнаружил связь между постоянной Планка и скоростью света. Именно он оценил нейрофизические теории Моррисона и именно он бросил фразу о компьютере в роли ретранслятора. По-видимому, эта фраза убедила Конева: Моррисон — и только Моррисон — сможет им помочь.
И Моррисону теперь ничего не оставалось, как только противостоять уговорам и аргументам, которые, станет выдвигать Шапиров. Если он докажет, что не сможет им помочь, то что они станут делать в этом случае? Угрожать или пытать? Или применять промывку мозгов?
При этой мысли Моррисон содрогнулся. Он не осмелился отказать им на том основании, что просто не хочет. Ему предстоит убедить их в том, что он не может. Определенно, такая позиция разумна. Ее следует держаться. Какое отношение нейрофизика имеет к минимизации? И почему они сами этого не видят? И ведут себя так, словно именно он, который еще сорок восемь часов назад даже не помышлял ни о какой минимизации, может чем-то им — единственным экспертам в этой области -1- помочь?
Они прошли уже довольно долгий путь по коридорам. Только после этого, углубившись в свои неприятные мысли, Моррисон заметил, что их стало меньше.
Внезапно он спросил Баранову:
— А где остальные?
Она ответила:
— У них есть своя работа. Вы понимаете, мы не всегда делаем только то, что должны.
Моррисон покачал головой. Да уж, болтливыми их не назовешь. Ни у кого из них не выжмешь и слова. Всегда держат язык за зубами. Наверное, у всех русских такая привычка выработалась за годы Советской власти. А может, это связано с их работой над секретным проектом: когда ученые не имеют доступа к исследованиям, проводимым их коллегами.
Не держат ли они его за всезнающее американское светило? Но ведь он, определенно, не давал для этого никакого повода. По правде говоря, он вообще считал себя очень узким специалистом, фактически не сведущим ни в какой иной области, кроме нейрофизики.
«Это прогрессирующая болезнь всей современной науки», — подумал он.
Они вошли еще в один лифт, который он разглядел в самый последний момент, и поднялись еще на один уровень. Осмотревшись, Моррисон отметил для себя характерные черты, над которыми не властны никакие национальные различия.
— Мы в медицинском отсеке? — поинтересовался он.
— В клинике, — ответила Баранова. — Грот — это целый научно-исследовательский комплекс, обеспеченный всеми жизненно важными структурами.
— А зачем мы здесь? Меня что… — внезапно он осекся, охваченный ужасом промелькнувшей в голове мысли. «Они что, собираются накачивать меня наркотиками или какими-то еще препаратами?»
Баранова прошла немного вперед, остановилась и, оглянувшись, спросила раздраженно:
— Ну, что на этот раз вас так напугало?
Моррисон смутился. Неужели выражение лица так выдает его страхи?
— Ничего я не боюсь, — крикнул он. — Я просто устал от бесполезных хождений.
— А с чего ты взял, что мы шляемся? Я же сказала, что нам нужно увидеть Петра Шапирова. К нему мы сейчас и идем. Мы уже почти пришли.
Они повернули за угол, и Баранова подвела его к окну.
Пристроившись к ней, Моррисон заглянул вовнутрь. Он увидел комнату, в которой находилось несколько человек. Вокруг кровати — неизвестное Моррисону оборудование. Кровать находилась под стеклянным колпаком, и к ней тянулись различные трубочки. Моррисон насчитал в палате больше десятка человек медицинского персонала, не разбирая, кто врач, кто медсестра или санитар.
Баранова указала глазами:
— Это и есть академик Шапиров.
— Который? — не понял Моррисон. Его глаза поочередно останавливались на каждой фигуре, но ни в одной из них он не узнавал академика, с которым встречался однажды.
— На кровати.
— На кровати? Так он болен?
— Хуже. Он в коме. Уже целый месяц. И мы подозреваем, что его состояние уже необратимо.
— Ужасно жаль такое слышать. Полагаю, поэтому вы перед обедом говорили о нем в прошедшем времени?
— Да, прежний Шапиров уже в прошлом, разве что…
— Разве что он выздоровеет? Но вы ведь только что сказали, что процесс необратим.
— Это так. Но его мозг еще живет. Определенные нарушения, конечно, есть, иначе он не был бы в коме. Но мозг еще действует, поэтому Конев, следивший за вашей работой, считает, что частично его мыслительная деятельность сохраняется.
— А, — проговорил Моррисон, прозрев. — Я, кажется, начинаю понимать. Отчего вы не рассказали мне все с самого начала? Если вам нужна была моя консультация по этому вопросу, то нужно было объяснить мне суть дела сразу, и я поехал бы с вами по доброй воле. Но, с другой стороны, обследуй я его церебральные функции и скажи: «Да, Юрий Конев прав», какую бы это принесло вам пользу?
— Это не принесло бы никакой пользы. Вы все еще не понимаете, чего мы от вас хотим, а я не могу, пока вы не знаете сути проблемы, это в точности объяснить. Вы вполне осознаете, что хранится во все еще живых участках Шапировского мозга?
— Мысли, я полагаю.
— И прежде всего, мысли о взаимосвязи между постоянной Планка и скоростью света. Мысли об ускорении процесса минимизации и деминимизации. Как снизить затраты энергии на этот процесс и применять его на практике. Эти мысли могут открыть перед человечеством совершенно иные технические возможности, которые произведут такую революцию в науке и технике, и в обществе, конечно, какой еще не бывало со времен изобретения транзистора. А возможно, и со времени добывания огня. Кто скажет наверняка?
— Вам не кажется, что вы все чересчур драматизируете?
— Нет, Альберт, не кажется. Не приходило вам в голову, что если связать воедино процесс минимизации и увеличение скорости света, то космический корабль при достаточном уменьшении сможет достигать любой точки Вселенной в несколько раз быстрее обычной скорости света. Нам не потребуется полет «быстрее света». Свет будет лететь с нужной нам скоростью. И нам не нужна больше будет антигравитационная система, так как масса уменьшенного корабля окажется близкой к нулю.
— Что-то не могу я во все это поверить.
— Вы не верите в минимизацию?
— Да нет, я не это имел в виду. Я не могу поверить, будто решение этой проблемы беспокоит только одного человека. Другие ведь тоже, наверняка, иногда об этом думают? Ну, если проблему не разрешат сегодня, то, возможно, в следующем году, или в следующем десятилетии?
— Легко ждать, если вы не имеете к этому отношения, Альберт. Беда в том, что мы не собираемся дожидаться следующего десятилетия или даже следующего года. Центр Грот, в котором вы находитесь, обходится Советскому Союзу примерно в такую же сумму, как небольшая война. Всякий раз, когда мы пытаемся что-нибудь уменьшить — пусть даже ту же Катеньку — мы затрачиваем столько энергии, сколько хватило бы городу средних размеров на целый день жизни. И теперь уже правительство требует отчета о наших непомерных расходах. И многие ученые, не понимающие важности минимизации, или просто из зависти, жалуются, что ради Грота вся советская наука посажена на голодный паек. Если мы не создадим устройства, позволяющие снизить затраты энергии — и значительно, то нашу лавочку могут прикрыть.
— И все же, Наталья, если вы опубликуете имеющиеся у вас материалы по минимизации и доведете их до сведения Ассоциации Глобального Развития Науки, то огромное количество ученых начнет лохмать над этим голову и достаточно быстро отыщет способ объединения постоянной Планка со скоростью света.
— Вы правы, — ответила Баранова, — и, вероятно, ученый, который подберет ключ к низкозатратному процессу минимизации, будет американцем, либо французом, а может быть, нигерийцем или уругвайцем. А пока им владеет советский ученый, и у нас нет желания упускать первенство.
Моррисон, в свою очередь, заметил:
— Вы забываете о всемирном братстве ученых. Не стоит разбивать его на отдельные части.
— Вы бы заговорили иначе, если бы речь шла об американском ученом, находящемся на грани открытия. А сейчас к вам обращаются с просьбой воспользоваться результатами его исследований для чьей-то выгоды. Помните, какая реакция последовала из Америки на запуск первого советского спутника?
— Но с тех пор мы все определенно продвинулись.
— Да, на километр, а могли бы на десять. Мир все еще не научился думать глобально. Все достижения являются в определенной степени национальной гордостью.
— Тем хуже для этого мира. Уж коль скоро мы все не научились думать глобально и вынуждены поддерживать свою национальную гордость, то, по-видимому, мне следует позаботиться и о своей. С какой стати я, американец, должен беспокоиться об упускающем свое открытие советском ученом?
— Я всего лишь прошу вас понять важность этой проблемы для нас. Я прошу вас всего на минуту влезть в нашу шкуру и почувствовать отчаяние, с которым мы пытаемся узнать хоть что-то из всего, что известно Шапирову.
Моррисон сдался:
— Ладно, я все понимаю. Я этого не одобряю, но понять вас могу. А теперь — слушайте внимательно. Пожалуйста, объясните мне, что вы хотите от меня?
— Мы хотим, — горячилась Баранова, — чтобы вы помогли нам «извлечь» мысли Шапирова, которые продолжают жить в его мозгу.
— Но как? Исследования, проводимые мною, не имеют ничего общего с его. Даже если мы допустим, что в головном мозге имеется сеть передачи данных и что импульсы, излучаемые им, можно улавливать, подробно анализировать и, более того, если даже мы допустим, что мне несколько раз удавалось уловить чужие ментальные образы, возможно, созданные моим собственным воображением, — в любом случае, я не знаю способа, позволяющего исследовать импульсы головного мозга на предмет превращения их в реальные мысли.
— И даже если бы у вас появилась возможность детально анализировать импульсы отдельной нервной клетки, взятой из сети передачи данных головного мозга?
— При изучении отдельной клетки я не приближусь ни на шаг к необходимым вам результатам.
— Вы не допускаете, что мы можем просто уменьшить вас до необходимых размеров и поместить в эту клетку.
У Моррисона от страха ноги стали ватными. Она при первой встрече уже намекала на что-то подобное, но он отнесся к этой мысли как к абсурдной, потому что не верил в возможность минимизации. Но он ошибался. И ужас парализовал его, пройдя по всему телу холодной волной.
* * *
Моррисон ни тогда, ни после не мог с полной ясностью восстановить последовавшие за словами Барановой события. Он как бы погрузился во мрак.
Все происходившее с ним как бы затуманилось.
Очнувшись, он обнаружил себя лежащим на кушетке в небольшом кабинете. Баранова и выглядывавшие из-за нее Дежнев, Калныня и Конев неотрывно следили за ним. Лица этих троих обрели ясные очертания позже.
Он попытался сесть, но, приблизившись к нему, Конев удержал его за плечо:
— Альберт, пожалуйста, вам надо отдохнуть. Набирайтесь сил.
Моррисон в смущении переводил взгляд с одного на другого. Что-то его тревожило, но ему никак не удавалось вспомнить, что именно.
— Что произошло? Как я здесь очутился?
Он еще раз обвел взглядом комнату. Нет, раньше он здесь не бывал. Он помнил, как смотрел через окно на человека на больничной койке.
Он спросил озадаченно:
— Я что, потерял сознание?
— Ну, не совсем, — отозвалась Баранова, — но некоторое время вы были не в себе. По-видимому, вы находились под воздействием шока.
Теперь Моррисон все вспомнил. Он снова попытался приподняться и на этот раз более энергично оттолкнул руку Конева. Он сидел, опираясь о кушетку.
— Я вспомнил. Вы хотели, чтобы я подвергся минимизации. Что со мной произошло после ваших слов?
— Вы просто раскачивались из стороны в сторону и потеряли всякий интерес к окружающему. Мне пришлось уложить вас на каталку и доставить сюда. Мы посчитали, что нет необходимости в лекарствах, вам нужны только отдых и покой.
— Вы ничего мне не вводили? — Моррисон рассеянно смотрел на свои руки, как будто хотел разглядеть следы от инъекций через рукава своей рубашки.
— Ничего, уверяю вас.
— Я ничего вам не говорил перед тем, как впасть в прострацию?
— Ни слова.
— Ну, так позвольте сказать сейчас. Я не собираюсь подвергаться минимизации. Это ясно?
— Ясно, что это ваш ответ.
Дежнев присел на кушетку рядом с Моррисоном. В одной руке он держал полную бутылку, а в другой пустой стакан.
— Выпейте, это вам сейчас необходимо, — проговорил он, наливая стакан до половины.
— Что это? — поинтересовался Моррисон, пытаясь отвести его руку.
— Водка, — ответил Дежнев. — Это не лекарство, но это восстанавливает силы.
— Я не пью.
— Ну, все надо попробовать, дорогой Альберт. Испытать на себе согревающее действие водки необходимо даже тем, кто не пьет.
— Я не пью не потому, что я не одобряю этого. Просто я не умею пить. Мой организм не принимает алкоголь. Стоит мне сделать пару глотков, и через пять минут я буду пьян. Абсолютно пьян.
Брови Дежнева поползли вверх:
— И всего-то? А для чего же мы пьем? Пейте, если вы пьянеете, только понюхав пробку, благодарите бога за такую экономию. Пятнадцать капель согреют вас, ускорят кровообращение, прояснят голову, позволят собраться с мыслями. И даже прибавят вам храбрости.
Калныня произнесла полушепотом:
— Не ожидайте, что капля алкоголя произведет чудеса.
Он отчетливо расслышал ее слова. Моррисон быстро повернул голову и пристально посмотрел на нее. Сейчас она не показалась ему такой привлекательной, как при их первой встрече. Взгляд ее был тяжелым и неумолимым.
Моррисон продолжал сопротивляться:
— Я никогда не пытался представить себя храбрецом. Я никогда не говорил и не делал ничего такого, что позволило бы вам рассчитывать на мою помощь. Я, по-моему, дал понять с самого начала, что ничего не могу для вас сделать. Я очутился здесь по принуждение, как вы знаете. Я что, чем-то вам всем обязан? Или кому-то в отдельности?
Баранова сказала:
— Альберт, вас всего трясет. Выпейте глоток. Вы не опьянеете от глотка. А больше вас никто и не заставляет пить.
Пытаясь показать, что он не трусит, Моррисон, секунду поколебавшись, взял стакан из рук Дежнева и отчаянно глотнул. Горло обожгло, огонь покатился дальше. Водка почему-то имела сладковатый привкус. Сделав еще один глоток побольше, он вернул стакан Дежневу. Тот поставил стакан и бутылку на небольшой столик рядом с кушеткой.
Моррисон попытался что-то сказать, но закашлялся. Потом он проговорил сдавленно:
— Это действительно неплохо. Я согласен с вами, Аркадий…
Дежнев потянулся за стаканом, но повелительным жестом Баранова остановила его:
— Все. Этого достаточно, Альберт. Вам нужна ясная голова. Теперь вы успокоились и сможете выслушать нас.
Моррисон ощущал разливающееся по телу тепло. Так бывало, когда изредка на дружеских встречах он выпивал немного шерри, а однажды даже сухого мартини. Он считал, что сейчас в состоянии разбить любой выдвинутый ею аргумент.
— Ну что ж, — проговорил он, — начинается. — И плотно сжал губы.
— Я не говорю, Альберт, что вы нам что-то должны, и простите, что испытали по моей вине такой шок. Мы прекрасно понимаем, что вы отвергаете безрассудные эксперименты, и пытались преподнести вам наше предложение как можно осторожнее. Признаюсь, я надеялась, что вы поймете ценность нашего эксперимента без дополнительных объяснений.
— Вы ошибались, — заметил Моррисон. — Такая сумасшедшая мысль никогда не могла родиться в моей голове.
— Но вы же понимаете, в каком мы сейчас положении, не так ли?
— Я понимаю. Я только не вижу, как ваше положение связано с моим.
— Но ведь вы тоже в долгу перед глобальной наукой.
— Глобальная наука — это абстракция, перед которой я благоговею. Но не чувствую особого желания принести в жертву этой абстракции свое более чем конкретное тело. Да и суть вашего положения заключается в том, что на карту поставлена советская, а никак не глобальная, наука.
— Ну подумайте хотя бы об американской науке, — не сдавалась Баранова, — если вы нам поможете, то можете рассчитывать на свою долю в этом эксперименте. Это станет совместной советско-американской победой.
— Вы подтвердите мое соавторство? — потребовал Моррисон. — Или же весь эксперимент будет заявлен чисто советским?
— Даю вам слово, — ответствовала Баранова.
— Но вы не можете предать свое правительство.
— Ужас, — отреагировала Калныня, — он уже решает за наше правительство.
Конев обратился к Барановой:
— Подожди, Наталья. Дай я поговорю с нашим другом из Америки как мужчина с мужчиной.
Присев рядом с Моррисоном, он начал:
— Альберт, вы ведь сами заинтересованы в результатах своих исследований. Вы, признаем, пока мало в них продвинулись, и они весьма незначительны. Вы не убедите никого в своей стране, и вряд ли вам представится такой шанс. Ваши возможности ограниченны. Мы же предлагаем новые перспективы для работы, о которых вы и не мечтали еще три дня назад и которых, если откажетесь от них, может никогда больше не быть. У вас есть шанс перейти от романтических спекуляций в науке к убедительным фактам. Так воспользуйтесь им, и вы непременно станете самым известным физиком в мире.
Моррисон возразил:
Вы хотите, чтобы я рисковал жизнью в не прошедшем испытания эксперименте?
— Тому много прецедентов. На протяжении всей истории ученые, рискуя собой, проводили исследования. Они летали на воздушных шарах и спускались в глубь морей в примитивно оснащенных аппаратах, чтобы производить измерения и записывать наблюдения. Химики рисковали, испытывая яды и взрывчатые вещества, биологические патогены всех типов. Физиологи вводили себе ради эксперимента серу, а физики пытались на себе проверить последствия ядерного взрыва, понимая, что подвергают себя, так же как и всю планету, смертельному риску.
Моррисон вяло заметил:
— Хватит рассказывать сказки. Вы никогда не признаете, что американец принимал участие в открытии. Разве вы когда-нибудь допустите, чтобы советская наука потеряла свое первенство в данном вопросе?
— Давайте, — продолжал Конев, — будем честны друг с другом. Альберт, нам не удастся скрыть ваше участие, если мы даже сильно этого захотим. Американскому правительству уже известно, что вас доставили сюда. Мы об этом уже знаем. Вы тоже знаете, что они знают. Они не остановили нас, потому что сами хотели, чтобы вы оказались здесь. Так вот, они поймут или, по крайней мере, догадаются, зачем вы были нам нужны и что вы для нас делали после того, как мы объявим об удачном завершении эксперимента. И это еще раз убедит их, что американская наука на этот раз в вашем лице оказалась на высоте.
Моррисон некоторое время сидел молча, опустив голову. Щеки от выпитой водки горели. Он спиной чувствовал, как четыре пары глаз неотрывно следили за ним и как все четверо даже задержали дыхание.
Посмотрев на них, он произнес:
— Позвольте мне задать вам один вопрос. Почему Шапиров оказался в коме?
Он не услышал ни слова в ответ. И сразу три пары глаз переместились на Наталью Баранову.
Моррисон, проследив за их взглядами, тоже уставился на нее.
— Ну? — повторил он.
Баранова, выдержав паузу, ответила:
— Альберт, я скажу вам правду, даже если это окончательно разобьет наши надежды. Если мы попытаемся солгать, вы перестанете верить любому нашему слову. А если вы поймете, что мы честны, то, возможно, сможете нам поверить и в будущем.
— Альберт, академик Шапиров впал в кому после минимизации, которой мы хотим подвергнуть и вас. При деминимизации случилась небольшая неприятность, в результате был разрушен участок его мозга. Видимо, навсегда. Такое может случиться, и мы не пытаемся скрыть это от вас. Ну, а теперь, оценив нашу полную искренность, скажите: вы поможете?
АЗАЗЕЛ (цикл)
Серия коротких рассказов, впервые собранная вместе в 1988 году.
Истории написаны в форме разговоров между автором и его другом Джорджем, способным призывать крохотного демона, ростом в два сантиметра, которого он зовёт по имени библейского демона «Азазелем». Джордж призывает Азазеля для выполнения желаний, и каждый раз всё идёт наперекосяк…
Введение
В 1980 году джентльмен по имени Эрик Плоттер попросил меня поставлять по одной таинственной истории каждый месяц для очередного номера выпускаемого им журнала. Я согласился, поскольку приятным людям отказывать не умею (а все мои знакомые редакторы — весьма приятные люди).
Первый написанный мной рассказ был смесью фантастики и детектива, и в нем фигурировал демон ростом в два сантиметра. Рассказ я назвал «Сравнять счет», и Эрик его принял и напечатал. В нем описывался джентльмен по имени Гризволд в роли рассказчика и трое слушателей (в том числе персонаж, излагавший события от первого лица, которым был я, хотя и не названный по имени). Упоминалось, что они все вчетвером собираются каждую неделю в Юнион-клубе; и эту серию я собирался продолжить еженедельными рассказами Гризволда.
Но когда я попытался написать следующую историю про того же двухсантиметрового демона из «Сравнять счет» (новый рассказ назывался «Всего один концерт»), Эрик сказал «нет». Один раз чуть-чуть фантастики — хорошо, но не следует возводить это в обычай.
Поэтому я отложил в сторону «Всего один концерт» и стал писать таинственные истории без малейшей примеси фантастики. Тридцать этих рассказов (Эрик настаивал, чтобы они были от 2000 до 2200 слов) вошли потом в книгу «Таинственные истории Юнион-клуба» (Даблдей, 1983). «Сравнять счет» я туда не включил, потому что из-за того самого маленького демона рассказ этот стоял особняком от остальных. Тем временем я шлифовал «Всего один концерт». Не люблю, когда что-то пропадает зря, и не люблю, когда не удается опубликовать написанное. Поэтому я подошел к Эрику и спросил:
— Тот рассказ, «Всего один концерт», от которого вы отказались, — я могу его печатать?
Он сказал:
— Конечно, только измените имя персонажа. Мне бы хотелось, чтобы ваши рассказы о Гризволде и его слушателях были только в моем журнале.
Так я и сделал. Гризволду я изменил имя на «Джордж», а аудиторию сократил до одного человека — персонажа «от первого лица», которым был я. После этого я продал «Всего один концерт» в «Журнал фэнтэзи и научной фантастики». Потом я написал еще один рассказ этой серии, которую я начал мысленно называть «Рассказы о Джордже и Азазеле» (Азазел — имя демона). Этот рассказ, названный «Улыбка, приносящая горе», я продал тому же журналу.
Однако у меня есть и свой собственный «Журнал научной фантастики Айзека Азимова», и моему редактору, Шоне Мак-Карти, не понравилось, что я отдаю работу в другой журнал.
Я ответил:
— Шона, истории о Джордже и Азазеле — это чистая фэнтэзи, а мы публикуем только научную фантастику.
Она ответила:
— Так замените маленького демона с волшебной силой на внеземное существо с развитой технологией и продавайте рассказы мне.
Я так и сделал. А поскольку истории Джорджа и Азазела меня не отпускали, я продолжал их писать, и вот восемнадцать рассказов из них я включаю в сборник «Азазел». Их только восемнадцать, потому что не было Эрика, который требовал краткости, и я мог писать рассказы вдвое длиннее, чем про Гризволда.
Но рассказ «Сравнять счет» я снова не включил, поскольку он был не в духе остальных рассказов сборника. Его постигла грустная судьба оказавшегося между двух стульев, и он ни к одной серии не подошел. (Огорчаться не стоит, потому что он уже включался в антологии и может попасть туда еще. Не надо так уж его жалеть.)
В этих рассказах есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание читателя. Наверное, каждый и сам их отметил бы, но просто я очень болтлив.
1) Как я уже говорил, первый рассказ, написанный мной про этого демона, я опустил, поскольку он не подходит к остальным. Моя красавица редактор, Дженнифер Брель, тем не менее потребовала, чтобы в первом рассказе было описано, как я познакомился с Джорджем и откуда у Джорджа взялся демон. Дженнифер — воплощенная мягкость, но когда она чего-то хочет, борьбы с ней нет. Поэтому я написал рассказ «Демон ростом в два сантиметра», в котором было то, что она просила, и включил его в книгу первым. Более того, Дженнифер решила, что Азазел должен быть демоном, а не внеземным существом, так что мы опять вернулись к чистой фантазии. «Азазел» — имя библейское, и читатели Библии обычно воспринимают его как имя демона, хотя на самом деле все несколько сложнее.
2) Джордж описан как любитель дармовщинки, и хотя вообще я не люблю таких людей, лично Джордж кажется мне симпатичным. Надеюсь, что и вам тоже. Персонаж «от первого лица» (на самом деле — Айзек Азимов) часто получает от него оскорбления и регулярно подвергается вытягиванию нескольких долларов, но я не обращаю на это внимания. Как я объяснил в конце первого рассказа, его рассказы того стоят, и я делаю на них больше денег, чем даю Джорджу, — хотя бы потому, что даю я только в рассказах.
3) Пожалуйста, имейте в виду, что все рассказы задуманы как юмористические, и если вы сочтете, что их стиль слишком претенциозный и «не азимовский», то это сделано намеренно. Можете считать это предупреждением. Если вы ждете чего-то другого — не покупайте эту книгу, чтобы не испытать разочарования. И если вам покажется, что в ней чувствуется легкое влияние П. Дж. Вудхауза, то поверьте мне — это не случайно.
Демон ростом в два сантиметра
Джорджа я встретил много лет назад на одной литературной конференции. Меня тогда поразило странное выражение откровенности и простодушия на его круглом немолодом лице. Мне сразу показалось, что это именно тот человек, которого хочется попросить постеречь вещи, когда идешь купаться.
Он меня узнал по фотографиям на обложках моих книг и сразу же стал радостно рассказывать мне, как нравятся ему мои романы и рассказы, что, конечно, позволило мне составить о нем мнение как о человеке интеллигентном и с хорошим вкусом.
Мы пожали друг другу руки, и он представился:
— Джордж Кнутовичер.
— Кнутовичер, — повторил я, чтобы запомнить. — Необычная фамилия.
— Датская, — сказал он, — и весьма аристократическая. Я происхожу от Кнута, более известного как Канут, — датского короля, завоевавшего в начале одиннадцатого столетия Англию. Основатель моей фамилии был сыном Канута, но он, разумеется, был рожден не с той стороны одеяла.
— Разумеется, — пробормотал я, хотя мне не было понятно, почему это разумелось.
— Его назвали Кнутом по отцу, — продолжал Джордж. — Когда его показали королю, августейший датчанин воскликнул: «Бог и ангелы, это мой наследник?» «Не совсем, — сказала придворная дама, баюкавшая младенца. — Он ведь незаконный, поскольку его мать — та прачка, которую Ваше…» «А, — ухмыльнулся король, — в тот вечер…» И с этого момента младенца стали называть Кнутвечер. Я унаследовал это имя по прямой линии, хотя оно со временем превратилось в Кнутовичер.
Глаза Джорджа смотрели на меня с такой гипнотизирующей наивностью, которая исключала саму возможность сомнения.
Я предложил:
— Пойдемте позавтракаем? — и показал рукой в сторону роскошно отделанного ресторана, который явно был рассчитан на пухлый бумажник.
Джордж спросил:
— Вы не считаете, что это бистро несколько вульгарно выглядит? А на той стороне есть маленькая закусочная…
— Я приглашаю, — успел я добавить. Джордж облизал губы и произнес:
— Теперь я вижу это бистро несколько в другом свете, и оно мне кажется вполне уютным. Я согласен.
Когда подали горячее, Джордж сказал:
— У моего предка Кнутвечера был сын, которого он назвал Свайн. Хорошее датское имя.
— Да, я знаю, — сказал я. — У короля Кнута отца звали Свайн Вилобородый. Позднее это имя писали «Свен».
Джордж слегка поморщился:
— Не надо, старина, обрушивать на меня свою эрудицию. Я вполне готов признать, что и у вас есть какие-то зачатки образования.
Я устыдился.
— Извините.
Он сделал рукой жест великодушного прощения, заказал еще бокал вина и сказал:
— Свайн Кнутвечер увлекался молодыми женщинами — черта, которую от него унаследовали все Кнутовичеры, и пользовался успехом, — как и мы все, мог бы добавить я. Есть легенда, что многие женщины, расставшись с ним, покачивая головой, замечали: «Ну, он и Свин». Еще он был архимагом. — Джордж остановился и настороженно спросил: — Что значит это звание — вы знаете?
— Нет, — солгал я, пытаясь скрыть свою оскорбительную осведомленность. — Расскажите.
— Архимаг — это мастер волшебства, — сказал Джордж, что прозвучало как вздох облегчения. — Свайн изучал тайные науки и оккультные искусства. В те времена это было почтенное занятие, потому что еще не появился этот мерзкий скептицизм. Свайн хотел найти способы делать юных дам сговорчивыми и ласковыми, что является украшением женственности, и избегать проявлений всякого с их стороны своеволия или невоспитанности.
— А, — сказал я с сочувствием.
— Для этого ему понадобились демоны. Он научился их вызывать путем сжигания корней определенных папоротников и произнесения некоторых полузабытых заклинаний.
— И это помогло, мистер Кнутовичер?
— Просто Джордж. Разумеется, помогло. На него работали демоны целыми командами и преисподними. Дело было в том, что, как он часто сетовал, женщины тех времен были довольно тупы и ограниченны, и его заявления, что он — внук короля, они встречали издевательскими замечаниями насчет природы его происхождения. Когда же в дело вступал демон, им открывалась истина, что королевская кровь — всегда королевская кровь.
Я спросил:
— И вы уверены, Джордж, что так это и было?
— Конечно, поскольку прошлым летом я нашел его книгу рецептов для вызова демонов. Она была в одном старом разрушенном английском замке, принадлежавшем когда-то нашей семье. В книге перечислялись точные названия папоротников, способы сожжения, скорость горения, заклинания, интонации их произнесения — одним словом, все. Написана эта книга на староанглийском, — точнее, англосаксонском, но так как я немного лингвист…
Тут я не смог скрыть некоторого скептицизма:
— Вы шутите?
Он взглянул на меня гордо и недоуменно:
— Почему вы так решили? Я что, хихикаю? Книга настоящая, и я сам проверил рецепты.
— И вызвали демона.
— Разумеется, — сказал он, многозначительным жестом показывая на нагрудный карман пиджака.
— Там, в кармане?
Джордж провел пальцами по карману, явно собираясь кивнуть, но вдруг нащупал что-то или отсутствие чего-то. Он полез пальцами в карман.
— Ушел, — с неудовольствием сказал Джордж. — Дематериализовался. Но винить его за это нельзя. Он тут был со мной вчера вечером, потому что ему, понимаете ли, было любопытно, что это за конференция. Я ему дал немножко виски из пипетки, и ему понравилось. Быть может, даже слишком понравилось, поскольку ему захотелось подраться с какаду в клетке над баром, и он своим писклявым голоском стал осыпать бедную птицу гнусными оскорблениями. К счастью, он заснул раньше, чем оскорбленная сторона успела отреагировать. Сегодня утром он выглядел не лучшим образом, и я думаю, он отправился домой, где бы это ни было, для поправки.
Я слегка возмутился:
— Вы мне хотите сказать, что носите демона в нагрудном кармане?
— Ваше умение сразу схватывать суть достойно восхищения.
— И какого он размера?
— Два сантиметра.
— Что же это за демон размером в два сантиметра!
— Маленький, — сказал Джордж. — Но, как говорит старая пословица, лучше маленький демон, чем никакого.
— Зависит от того, в каком он настроении.
— Ну, Азазел — так его зовут — довольно дружелюбный демон. Я подозреваю, что его соплеменники обращаются с ним свысока, а потому он из кожи вон лезет, чтобы произвести на меня впечатление своим могуществом. Он только отказывается дать мне богатство, хотя ради старой дружбы давно уже должен был бы. Но нет, он твердит, что вся его сила должна использоваться только на благо других.
— Ну, бросьте, Джордж. Это явно не адская философия.
Джордж прижал палец к губам:
— Тише, старина. Не говорите такого вслух — Азазел обидится несусветно. Он утверждает, что его страна благословенна, достойна и крайне цивилизованна, и с благоговением упоминает правителя, имя которого не произносит, но называет Сущий-Во-Всем.
— И он в самом деле творит добро?
— Где только может. Вот, например, история с моей крестницей, Джунипер Пен…
— Джунипер Пен?
— Да. По глазам вижу, что вы хотели бы услышать об этом случае, и я вам с радостью его расскажу.
В те времена (так говорил Джордж) Джунипер Пен была большеглазой второкурсницей, юной приятной девушкой, и увлекалась баскетболом, а точнее, баскетбольной командой — там все как один были высокие и красивые парни.
А более всего из этой команды привлекал ее девичьи мечты Леандр Томпсон. Он был высокий, складный, с большими руками, которые так ловко обхватывали баскетбольный мяч или любой предмет, имевший форму и размеры баскетбольного мяча, что как-то сама собой вспоминалась Джунипер. На играх, сидя среди болельщиков, она все свои вопли адресовала ему одному.
Своими сладкими грезами Джунипер делилась со мной, потому что, как и все молодые женщины — даже те, кто не были моими крестницами, — она при виде меня испытывала тягу к откровенности. Наверное, это из-за моей манеры держать себя тепло, но с достоинством.
— О дядя Джордж, — говорила она мне, — ведь ничего нет плохого в том, что я мечтаю о будущем для нас с Леандром. Я сейчас уже вижу, как он будет самым великим баскетболистом мира, красой и гордостью профессионального спорта, с долгосрочным контрактом на огромную сумму. Я ведь не слишком многого хочу. Все, что мне надо от жизни, — это увитый лозами трехэтажный особнячок, маленький садик до горизонта, несколько слуг — два-три взвода, не больше, и маленький гардероб с платьями на любой случай, на любой день недели, на любой сезон и…
Я был вынужден прервать ее очаровательное воркование:
— Деточка, — сказал я. — В твоих планах есть маленькая неувязка. Леандр не такой уж хороший баскетболист, и не похоже, чтобы его ждал контракт с бешеными гонорарами.
— Но это так несправедливо, — она надула губки. — Ну почему он не такой хороший игрок?
— Потому что мир так устроен. А почему бы тебе не перенести свои юные восторги на какого-нибудь по-настоящему классного игрока? Или, например, на молодого брокера с Уолл-стрит, имеющего доступ к внутренней биржевой информации?
— Честно говоря, дядя Джордж, я пыталась, но мне нравится Леандр. Бывает, что я смотрю на него и спрашиваю себя: на самом ли деле деньги так много значат?
— Тише, моя милая! — Я был шокирован. Современные девицы не имеют понятия, о чем можно, а о чем нельзя говорить вслух.
— А почему нельзя, чтобы и деньги у меня тоже были? Разве я так много прошу?
И в самом деле, разве это так много? В конце концов, у меня был свой демон. Маленький, конечно, демон, но зато с большим сердцем. Понятно, что он захочет помочь двум истинно любящим, у которых сердца бьются сильнее при мысли о том, как они сами и их капиталы сольются в экстазе. Азазел послушно явился, когда я вызвал его соответствующим заклинанием. Нет, вам я не могу его сообщить. Неужели у вас нет элементарного понятия об этике?
Да, так он послушался, но не выразил энтузиазма, на который я мог рассчитывать. Я допускаю, что вытащил его из его собственного континуума, оторвав от какого-то удовольствия вроде турецких бань, поскольку он был завернут в довольно тонкое полотенце и дрожал от холода, а голос у него казался еще выше и писклявее, чем обычно. (Я, честно говоря, не думаю, что это его настоящий голос. Скорее всего он общается со мной с помощью чего-то вроде телепатии, а в результате я слышу — или воображаю, что слышу — писклявый голос.)
— Что такое «баскетбол» — корзинный шар? Это шар в форме корзины? А если это так, то что такое корзина?
Я попытался объяснить, но для демона он был весьма твердолоб. Я описывал ему всю игру с полной ясностью и во всех подробностях, а он смотрел на меня так, как если бы я нес бессмыслицу. Наконец он сказал:
— Увидеть эту игру можно?
— Конечно, — ответил я. — Сегодня вечером будет игра. Я пройду по билету, что дал мне Леандр, а ты — в моем кармане.
— Отлично, — сказал Азазел. — Вызови меня, когда пойдешь. А сейчас у меня зимжиговка, — и он исчез.
Думаю, он имел в виду турецкие бани.
Должен признать, что меня крайне раздражает, когда кто-то прерывает мои важнейшие дела, вылезая со своими мелкими трудностями, кажущимися ему неотложнее всего на свете — да, кстати, официант давно пытается привлечь ваше внимание. Полагаю, он хочет принести вам счет. Возьмите у него бумажку, и я буду рассказывать дальше.
Этим вечером я пошел на баскетбол, а в кармане у меня сидел Азазел. Он все время высовывал голову, чтобы получше все рассмотреть, и хороший бы я имел вид, если бы кто-нибудь заметил! У него ярко-красная шкура и рожки на лбу. Хорошо еще, что он не вылезал весь, поскольку сантиметровый мускулистый хвост — наиболее замечательная часть его тела, но и наиболее неприятная на вид.
Я не очень большой тиффози баскетбола, так что я предоставил Азазелу самому разбираться, что происходит на площадке. У него довольно мощный интеллект, хотя скорее демонический, нежели человеческий.
После игры он мне сказал:
— Насколько я могу заключить по неуклюжим действиям этих громоздких, нелепых и абсолютно неинтересных индивидуумов там, на арене, они весьма заинтересованы в том, чтобы просунуть в обруч этот странный шар.
— Именно так, — сказал я. — Попадание в корзину приносит очки.
— Следовательно, твой протеже станет героем этой глупой игры, если будет каждый раз забрасывать шар в обруч?
— Совершенно верно.
Азазел задумчиво повертел хвостом.
— Это нетрудно. Я ему слегка подрегулирую рефлексы, улучшу оценку угла, высоты, силы… — он погрузился в недолгое сосредоточенное молчание, потом сказал: — Давай посмотрим. Я во время игры зафиксировал особенности его координации движений. Да это можно сделать. Вот, уже готово. Теперь твой Леандр будет забрасывать шар в обруч без труда.
Я был слегка заинтригован и с нетерпением ждал следующей игры. Маленькой Джунипер я не сказал ни слова, поскольку ни разу до того не использовал демоническую силу Азазела и не был вполне уверен, что его дела стоят его слов. Ну, и еще я хотел сделать ей сюрприз. (А получилось так, что сюрприз, и крупный, пережили мы оба.)
Наконец настал день игры, и это была она — та самая игра. Наш колледж, Зубрилвильский технологический, в котором Леандр был довольно тусклой звездой не первой величины, играл с командой Исправительной школы имени Аль Капоне, и битва обещала быть эпической.
Но чтобы настолько эпической — не ожидал никто. Пятерка капонцев повела в счете, а я внимательно следил за Леандром. Первое время он никак не мог подладиться к игре и даже промахивался по мячу, пытаясь вести его в дриблинге. Я думаю, у него настолько изменились все рефлексы, что он поначалу не мог вообще управлять мышцами.
Но постепенно он привык к новым возможностям своего тела. Он ухватил мяч, и тот выскользнул у него из рук — но как! Описав в воздухе высокую дугу, он с центра поля опустился в обруч. Трибуны взорвались криком, а Леандр недоверчиво осмотрел свои руки, как будто пытаясь понять, что случилось.
Но то, что случилось, случалось опять и опять. Как только мяч попадал к Леандру, он плавно взлетал в воздух, а оттуда падал точно в корзину. Все происходило так быстро, что никто не видел, как Леандр прицеливается, — казалось, что он действует без всякого усилия. А публика, считая это признаком высокого искусства, впала в неистовство.
Но потом, конечно, произошло неизбежное — игра превратилась в хаос. Зрители орали, как мартовские коты, выпускники-капонцы, покрытые шрамами, с переломанными носами, выкрикивали замечания самого уничижительного толка, а по всем углам зала вскипали кулачные бои. Что я забыл сообщить Азазелу, так это то, что казалось мне само собой понятным — а именно, что две корзины в разных концах площадки не идентичны. Одна — своя, другая — противника, и каждый игрок должен целиться в нужную корзину. А мяч из рук Леандра с равнодушием, свойственным столь неодушевленному объекту, летел всегда в ту корзину, которая была ближе. В результате Леандр много раз забивал мячи собственной команде.
И делал он это, несмотря на все вежливые указания, что давал ему с трибуны зубрилвильский тренер Вурд О’Лак, по прозвищу «папаша», когда ему удавалось сквозь пену на губах прохрипеть хоть что-то осмысленное. Горько улыбаясь, папаша Вурд вынужден был собственноручно удалить Леандра с площадки и плакал, не таясь, когда судьи оторвали его пальцы от горла Леандра, чтобы довести удаление до конца.
Друг мой, Леандр уже никогда потом не оправился от этой истории. Я полагал, что он будет искать забвения в вине и станет упорным и вдумчивым алкоголиком. Это бы я понял. Но он скатился гораздо ниже. Он занялся учебой.
Под сочувственно-презрительными взглядами своих товарищей он шатался с лекции на лекцию, прятал глаза в книгу и все глубже погружался в трясину учения.
Но Джунипер, несмотря ни на что, его не бросила. «Я ему нужна», — так она говорила, и непролитые слезы блестели в ее глазах. Жертвуя для него всем, она вышла за него замуж сразу после их выпуска. Она держалась за него даже тогда, когда он пал так низко, что был заклеймен ученой степенью по физике.
Теперь они с Джунипер прозябают где-то в маленьком домике в Вестсайде. Он преподает физику и занимается, насколько я знаю, какими-то космогоническими исследованиями. Зарабатывает он шестьдесят тысяч в год, и те, кто знал его вполне добропорядочным лоботрясом, шепотом передают отвратительный слух, что он — готовый кандидат на Нобелевскую премию.
Однако Джунипер никогда не жалуется и хранит верность поверженному кумиру. Ни словом, ни поступком она никогда не показала, как жалеет об утрате, но своего старого крестного ей не обмануть. Я-то знаю, как иногда вздыхает она о том увитом лозами особнячке, которого никогда уже у нее не будет, и видит перед собой крутые холмы и далекие горизонты маленького именьица, так и оставшегося мечтой.
— Вот и вся история, — сказал Джордж, сгребая со стола принесенную официантом сдачу и списывая сумму с чека кредитной карты (как я полагаю, чтобы вычесть ее из суммы налога). — На вашем месте я бы оставил приличные чаевые.
Я так и сделал, скорее всего — от удивления, а Джордж улыбнулся и пошел прочь.
О потере сдачи я не сожалел. В конце концов, Джордж получил только еду, а я — рассказ, который могу выдать за свой и который принесет мне гораздо больше денег, чем стоил обед.
А вообще, я решил, что время от времени буду обедать с Джорджем.
Всего один концерт
У меня есть приятель, который иногда намекает, что умеет вызывать духов из бездны.
По крайней мере, как он утверждает, одного духа — очень маленького и со строго ограниченными возможностями. Об этом он, впрочем, заговаривает не раньше четвертого бокала шотландского с содовой. Здесь очень важно поймать точку равновесия: три — он слыхом не слыхивал ни о чем спиритическом (кроме виски и джина), пять — и он уже спит.
В тот вечер мне казалось, что он как раз вышел на нужный уровень, и я его спросил:
— Вы помните, Джордж, о вашем спиритусе?
— М-м? — Джордж уставился на свой стакан, пытаясь понять, что именно о нем он мог забыть.
— Не винный спирт, Джордж, а тот дух, помните — два сантиметра ростом, которого вы вроде бы вызывали из какого-то другого места, где он якобы существует. Ну, тот, со сверхъестественными возможностями.
— А, — сказал Джордж, — это Азазел. Конечно, его зовут не так, но настоящее его имя, боюсь, не произнести, так я его зову этим. Помню его.
— Вы часто его используете?
— Нет. Опасно. Слишком опасно. Всегда есть соблазн поиграть с этой силой. Сам я весьма осторожен, вдвойне осторожен. Но я, как вы знаете, человек высокой этики и вот однажды почувствовал, как сострадание призывает меня помочь своему другу. Но что из этого вышло! Даже сейчас мучительно вспоминать.
— А что случилось?
— Может быть, я должен с кем-то разделить этот груз, лежащий на моей душе, — задумчиво сказал Джордж. — Нарыв должен прорваться…
Я был много моложе в те времена (так говорил Джордж), в том возрасте, когда женщины составляют значительную часть жизни. Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что это глупо, но тогда, я помню, очень было небезразлично, какая именно женщина будет рядом.
На самом деле ты просто запускаешь руку в мешок, да и вытащишь оттуда примерно одно и то же, но в те года…
Был у меня друг по имени Мортенсон — Эндрю Мортенсон. Вы вряд ли его знаете. Я его и сам последние годы не очень часто вижу.
Дело было в том, что он сходил с ума по одной женщине — одной вполне определенной женщине. Она была ангелом. Он жить без нее не мог. Она была единственной в мире, и все вселенная без нее была просто куском грязи в нефтяной луже. Ну, известно, какую чушь несут влюбленные.
Беда же была в том, что она дала ему окончательную и очевидную отставку, и сделала это в исключительно грубой форме, никак не стараясь пощадить его самолюбие. Она его продуманно унизила, уйдя с другим прямо на его глазах, щелкнув пальцами у него перед носом и бессердечно рассмеявшись в ответ на его слезы.
Я не утверждаю, что все эти действия совершались буквально. Я просто передаю его переживания, которыми он со мной поделился. Мы тогда сидели и выпивали вот в этой самой комнате. Мое сердце обливалось кровью от сострадания, и я сказал ему:
— Мортенсон, вы меня простите, но не надо воспринимать это так трагически. Попробуйте рассудить здраво — в конце концов, она всего только женщина, каких тысяча в день проходит мимо этого окна.
Он горько ответил:
— Друг мой, не будет отныне женщин в моей жизни ни одной — кроме моей жены, общения с которой не всегда удается избежать. Но этой я бы хотел как-то отплатить.
— Жене? — спросил я.
— Да нет, с чего бы это я решил ей платить? Я имею в виду ту, что бросила меня столь бессердечно.
— Отплатить — как именно?
— А черт меня побери, если я знаю, — сказал он.
— Может быть, я смогу помочь, — сказал я, ибо сердце мое все еще обливалось кровью сострадания. — Я могу воспользоваться услугами духа, обладающего сверхъестественной силой. Маленького, конечно, духа — я развел пальцы на пару сантиметров, давая понятие о его размере, — который и может сделать не больше, чем столько.
Я рассказал ему про Азазела, и он, разумеется, поверил. Я часто замечал, что мои рассказы весьма убедительны. Когда вы, старина, что-нибудь рассказываете, дух недоверия стоит такой густой, хоть топор вешай. Со мной по-другому. Нет ничего дороже репутации правдивого человека и честного, прямодушного вида.
Да, так я ему рассказал, и у него глаза заблестели. Он спросил, может ли демон устроить ей то, что он попросит.
— Только если это приемлемо, старина. Я надеюсь, у вас нет на уме ничего такого, как, например, заставить ее плохо пахнуть или чтобы у нее изо рта при разговоре выпрыгивала жаба.
— Конечно, нет, — сказал он с отвращением. — За кого вы меня принимаете? Она подарила мне два счастливых года, и я хочу ей сделать подарок не хуже. У вашего духа, говорите, ограниченные возможности?
— Он — маленькое существо, — сказал я и снова показал пальцами.
— Может он дать ей совершенный голос? Хотя бы на время? Хотя бы на одно выступление?
— Я его спрошу.
Предложение Мортенсона звучало в высшей степени по-джентльменски. Его экс-симпатия пела кантаты, если я правильно называю это занятие, в местной церкви. В те дни у меня был прекрасный музыкальный слух, и я часто посещал подобные концерты (стараясь, конечно, держаться подальше от кружки для пожертвований). Мне нравилось, как она поет, да и публика принимала ее достаточно вежливо. Я в те времена считал, что ее нравственность несколько не соответствовала обстановке, но Мортенсон говорил, что для сопрано допускаются исключения.
Итак, я обратился к Азазелу. Он охотно взялся помочь, без этих дурацких штучек насчет того, чтобы отдать ему взамен душу. Помню, я его однажды спросил, не нужна ли ему моя душа, и оказалось, что он даже не знает, что это такое. Он спросил меня, что я имею в виду, и выяснилось, что я тоже не знаю. Дело в том, что в своем мире он настолько мелкая сошка, что для него большим успехом является сам факт переброски своей массы в нашу вселенную. Он просто любит помогать.
Азазел ответил, что может это устроить на три часа, а когда я передал ответ Мортенсону, тот сказал, что это будет великолепно. Мы выбрали тот вечер, в который она должна была петь Баха, или Генделя, или кого-то из этих старых композиторов и где ей полагалось долгое впечатляющее соло.
Мортенсон тем вечером направился в церковь, а я, конечно, пошел с ним. Я чувствовал себя ответственным за то, что должно было произойти, и хотел как следует понаблюдать за ситуацией.
Мортенсон мрачно заявил:
— Я был на репетициях. Она пела, как всегда — как будто у нее есть хвост и кто-то на него все время наступает.
Раньше он описывал ее голос несколько иначе. Музыка сфер, говаривал он при случае, и самых горних сфер. Правда, она его бросила, а это иногда приводит к смене критериев.
Я строго посмотрел на него:
— Так не отзываются о женщине, которой собираются поднести столь бесценный дар.
— Не говорите ерунды. Я действительно хочу, чтобы ее голос стал совершенным. Воистину совершенным. И теперь, когда с моих глаз спала пелена влюбленности, я понимаю — ей есть куда расти, и долго. Как вы думаете, ваш дух даст ей этот голос?
— Изменение не должно начаться ранее 20.15. — Меня пронзил холодок подозрения. — Вы хотите, чтобы совершенство пришлось на репетицию, а на публике — разочарование и фиаско?
— Вы ничего не поняли, — ответил он.
Они начали чуть раньше, и когда она вышла в своем концертном платье, мои старые карманные часы, которые никогда не ошибались больше чем на две секунды, показывали 20.14. Она была не из этих субтильных сопрано — в ее щедрой конструкции было предусмотрено достаточно места для такого резонанса на высоких нотах, который топит звук всего оркестра. Когда она забирала несколько галлонов воздуха и пускала его в дело, мне через несколько слоев текстиля было видно, что Мортенсон в ней нашел.
Она начала на своем обычном уровне, но ровно в 20.15 как будто добавился другой голос. Я увидел, как она аж подпрыгнула, не веря своим ушам, и рука, прижатая к диафрагме, задрожала.
Голос воспарил. Как будто у нее в груди был божественный орган совершеннейшей настройки. Каждая нота была совершенством, впервые рожденным в сию минуту, а все другие ноты той же высоты и тона — лишь бледные копии.
Каждая нота шла с нужным вибрато (если это правильное слово), разрастаясь или сжимаясь с неведомой прежде силой и мастерством. И с каждой нотой все лучше и лучше пела певица. Органист оторвался от нот и смотрел на нее, и — я не могу поклясться, но мне показалось — он бросил играть. Но если он и играл, я его не слышал. Когда пела она, никто бы ничего не услышал. Ничего, кроме ее голоса.
Выражение удивления на ее лице сменилось экзальтацией. Ноты, которые она держала в руках, опустились: они не были нужны. Голос пел сам по себе, и ей даже не нужно было его направлять или командовать. Дирижер застыл, а весь хор онемел.
Соло кончилось, и голос вступившего хора показался шепотом, как будто хористы стыдились своих голосов и того, что они должны были звучать в той же церкви и в тот же вечер.
Остальная часть программы принадлежала ей. Когда она пела, только она и была слышна, даже если звучали голоса других. Когда она не пела, мы как бы погружались в темноту, и невыносимо было отсутствие света. А когда все кончилось — да, я знаю, в церкви не хлопают, но в тот вечер хлопали. Все, кто там был, встали как один, будто их, как марионеток, вздернула невидимая нить, и аплодисменты длились и длились, и было ясно, что так они будут хлопать всю ночь и перестанут, лишь если она снова запоет.
И она запела, и ее одинокий голос звучал на фоне шепчущего органа, и луч прожектора выхватил ее из тьмы световым пятном, и не было видно никого из хора — только ее.
Свобода и легкость. Вы не можете себе представить, как свободно, без малейшего усилия, лился ее голос. Я чуть уши себе не вывихнул, пытаясь поймать момент, когда она вдохнет, понять, сколько она может держать одну ноту на полной силе голоса, имея только одну пару легких. Но это должно было кончиться — и кончилось. Даже аплодисменты стихли. И только тогда заметил я, как блестят глаза у Мортенсона рядом со мной и как всем своим существом он ушел в ее поющий голос. И только тогда начал я понимать, что сейчас произошло.
В конце концов, я-то прям, как эвклидова прямая, и с моим прямодушием я никак не мог предвидеть, что он задумал. А вы, друг мой, настолько извилисты, что можете без единого поворота туловища взойти по винтовой лестнице, и по вашей кривой ухмылке я вижу, что вы уже догадались.
Это было, как если бы она была слепой от рождения и ровно на три часа обрела зрение, увидела формы и цвета удивительного окружающего нас мира, на который мы уже не обращаем внимания, потому что привыкли. Вот представьте себе, что увидели вы весь мир во всей славе его на три часа — и ослепли снова навеки!
Легко выносить слепоту, если не знал ничего другого. Но прозреть на три часа и снова ослепнуть? Этого не вынесет никто.
Конечно, эта женщина уже никогда не пела вновь. Но это еще не все. Настоящая трагедия постигла нас — каждого из публики. В течение трех часов мы слушали совершенную, понимаете — совершенную музыку. Как вы думаете, можем ли мы после этого слушать что-то другое?
Мне с тех пор словно медведь на ухо наступил. Вот недавно я тут пошел на один из этих рок-фестивалей, что нынче так популярны, просто чтобы себя проверить. Так вы не поверите, но я не мог разобрать ни одного мотива. Для меня это все как шум.
Одно мое утешение — Мортенсон, который слушал внимательнее всех и сосредоточеннее всех, ему и досталось больше всех. Теперь он носит ушные затычки, потому что не переносит никакого звука громче шепота. Так ему и надо!
Улыбка, приносящая горе
Как-то за пивом я спросил своего приятеля Джорджа (пиво пил он, а я обошелся лимонадом):
— Как там поживает ваш мелкий бесенок? Джордж утверждает, что у него есть демон ростом два сантиметра, которого он умеет вызывать. Мне никогда не удавалось заставить его признать, что он выдумывает. И никому не удавалось.
Джордж взглянул на меня долгим, пронзительным взором, а потом сказал:
— Ах да, вам-то я про него и рассказывал! Надеюсь, что вы больше никому не говорили.
— Слова не сказал, — подтвердил я. — На мой взгляд, достаточно того, что я считаю вас сумасшедшим. Мне не надо, чтобы кто-нибудь разделял мое мнение.
(Кроме меня он рассказал про демона еще примерно шестерым, так что в нарушении конфиденциальности с моей стороны даже не было необходимости.)
Джордж заявил:
— Я бы не хотел обладать вашей способностью не верить ничему, чего вы не можете понять — а понять вы не можете так многого, — даже за цену килограмма плутония. А если мой демон услышит, как вы обзываете его бесенком, то, что от вас останется, будет стоить меньше атома плутония.
— Вы узнали его настоящее имя? — спросил я, нимало не обеспокоенный его грозным предупреждением.
— Не смог! Человеческие уста не в силах его произнести. Перевод же, как мне дали понять, звучит примерно так: «Я, Царь Царей, Могучий, Дающий Надежду и Отчаяние». Конечно, это вранье, — сказал Джордж, задумчиво глядя в свою кружку. — У себя дома он — мелкая сошка. Потому-то он здесь так охотно мне помогает. В нашем мире с его отсталой технологией он может себя проявить.
— И давно он проявил себя последний раз?
— На самом деле совсем недавно, — Джордж испустил нечеловеческой силы вздох и посмотрел своими выцветшими голубыми глазами прямо на меня. Его редкие седые усы медленно опустились после пронесшегося урагана эмоций.
Эта история началась с Рози О’Доннел (так сказал Джордж). Она была подругой моей племянницы и очень приятным созданием сама по себе. У нее были голубые глаза, почти такие яркие, как у меня, длинные, роскошные каштановые волосы, точеный носик, усыпанный веснушками, которые столь восхищают авторов любовных романов, лебединая шея и стройная, без изъянов, фигура, обещающая восторги любви.
Для меня, конечно, все это представляло чисто эстетический интерес, поскольку я уже много лет назад вступил в возраст воздержания и теперь ввязываюсь в физические последствия увлечения, только если дамы настаивают, что, благодарение судьбе, случается только изредка и тянется не дольше уик-энда.
Кроме того, Рози недавно вышла замуж и почему-то преувеличенно обожала своего молодого мужа — здоровенного ирландца, который не давал себе труда скрывать, что он весьма мускулист и не менее вспыльчив. Я не сомневался, что в свои молодые годы легко бы с ним справился, но, к сожалению, мои молодые годы давно уже позади. По всему по этому я с некоторой неохотой, но терпел привычку Рози считать меня чем-то вроде близкой подруги ее возраста и пола и делать меня поверенным ее девичьих тайн.
Я, понимаете ли, не ставлю ей это в вину. Мое природное достоинство и внешность римского императора автоматически привлекают ко мне молодых дам. Тем не менее я не позволял ей заходить слишком далеко. Я всегда следил, чтобы между мной и Рози была достаточная дистанция, поскольку я никоим образом не желал, чтобы до ушей несомненно здоровенного и, вероятно, вспыльчивого Кевина О’Доннела дошли какие бы то ни было искаженные слухи.
— Ах, Джордж, — сказала однажды, всплеснув ручками, Рози. — Если бы вы знали, какая лапушка мой Кевин и как он умеет меня ублажать. Вам рассказать, как он это делает?
— Я не уверен, — осторожно начал я, стараясь избежать слишком откровенных излияний, — что вам следует…
Она не обратила внимания.
— Он вот так морщит нос, а глазами вот так часто-часто хлопает, а еще при этом так ярко улыбается, что ни один человек не может не развеселиться, когда на него смотрит. Знаете, как будто солнышко выглянуло и все осветило. Ах, если бы у меня была его фотография с таким лицом! Я пыталась его снять, но никак не могла поймать момент.
Я сказал:
— Милая моя, а чем вас не устраивает натура?
— Ну, понимаете… — она замялась, очаровательно покраснела, а потом продолжила: — Он ведь не всегда такой. У него в аэропорту страшно тяжелая работа, так что иногда он приходит такой усталый, что немножко хмурится и ворчит. А вот если бы у меня была его фотография, то это бы меня тогда утешало. Сильно-сильно утешало, — закончила она, и в глазах блеснули непролитые слезы.
Должен признать, что у меня мелькнула было мыслишка рассказать ей про Азазела (я его так называю, потому что не собираюсь произносить тот набор слов, который якобы является переводом его имени) и объяснить, что он для нее может сделать.
Однако я очень щепетилен в вопросах сохранения чужой тайны и понятия не имею, откуда вы разузнали про моего демона.
Ну, и кроме того, мне легко подавлять подобные импульсы, поскольку я человек жесткий, реалистичный и глупой сентиментальности не подвержен. Должен сказать, однако, что в твердой броне моего сердца есть некоторые слабые места, доступные для очаровательных юных дам выдающейся красоты, — разумеется, я имею в виду вполне достойные и почти что родительские чувства. К тому же я понял, что мог бы оказать ей эту услугу, даже не говоря ничего об Азазеле… нет, не из боязни недоверия — я могу убедить любого нормального человека без психических отклонений вроде ваших.
Когда я представил дело Азазелу, он никак не выразил восторга. Напротив, он мне заявил:
— Ты просишь сделать какую-то абстракцию.
— Ничего подобного, — сказал я ему. — Я прошу простую фотографию. Тебе надо только ее материализовать.
— И это все? Отчего бы тебе самому этого не сделать, если это так просто? Ты ведь, я вижу, разбираешься в вопросах эквивалентности массы и энергии.
— Ну только одну фотографию.
— При этом с таким выражением, которое ты даже не можешь определить или описать.
— Естественно, ведь он никогда не смотрел на меня так, как на свою жену. Но я верю в твое могущество.
Я понимал, что лишней ложкой масла кашу не испортить. И не ошибся.
Он мрачно буркнул:
— Тебе придется сделать снимок.
— Я не смогу поймать выражение… — начал я.
— Этого и не понадобится, — прервал он меня. — Это уже моя забота, но проще будет иметь материальный объект, на который можно спроецировать абстракцию. Другими словами — фотоснимок, пусть даже самый плохой, на какой ты только и способен. И конечно, только один. Больше я не смогу сделать, и вообще, не собираюсь рвать мышцы своего подсознания для тебя или любого безмозглого представителя твоей породы из вашего мира.
Да, верно, он часто бывает резок. Я думаю, он таким образом подчеркивает важность своей роли и пытается внушить, что не обязан выполнять все, о чем его попросят.
С О’Доннелами я встретился в воскресенье, когда они возвращались из Массачусетса (на самом деле я их подкараулил). Они позволили мне снять их в выходных костюмах, причем она была польщена, а он отнесся несколько неприветливо. После этого я как можно более ненавязчиво сделал портретный снимок Кевина. Мне бы никогда не удалось заставить его улыбнуться, или сощуриться, или что там еще Рози описывала, но это не было важно. Я даже не был уверен, что правильно навел на резкость. Я, в конце концов, не принадлежу к великим фотохудожникам.
Потом я зашел к своему приятелю, который в фотографии мастер. Он мне проявил оба снимка и увеличил портрет до размера девятнадцать на двадцать восемь.
Он все это проделал с недовольным видом, ворча себе под нос, что он страшно занят, но я не обратил на это внимания. В конце концов, какое значение имеют все его глупости по сравнению с действительно важным делом, которым был занят я? Меня всегда удивляло, сколько людей никак не могут понять такой простой вещи.
Однако его настроение переменилось, как только портрет был готов. Все еще глядя на него, он мне сказал:
— Только не надо мне говорить, что это ты сделал снимок такого класса.
— А почему бы и нет? — сказал я и протянул руку за портретом, но он сделал вид, что ее не заметил.
— Тебе же нужны еще несколько копий.
— Нет, не нужны, — ответил я, заглядывая ему через плечо. Фотография была исключительно четкой и с великолепной цветовой гаммой. С нее улыбался Кевин О’Доннел, хотя я не мог припомнить такой улыбки в момент съемки. Он хорошо выглядел и смотрел приветливо, но мне это было все равно. Наверное, чтобы увидеть в этом снимке нечто большее, нужно было быть женщиной либо мужчиной вроде моего приятеля-фотографа, не обладающего столь высокой мужественностью, как ваш покорный слуга.
— Давай я только одну сделаю — для себя.
— Нет, — твердо ответил я и вынул снимок из его руки, предварительно взяв его за запястье, чтобы он не вздумал его выдергивать. — И негатив, будь добр. Можешь оставить себе вот этот — снимок с расстояния.
— Такое мне не нужно, — ответил он, скривив губы, и когда я уходил, он даже не пытался скрыть своего огорчения.
Портрет я вставил в рамку, поставил на полку и отступил, чтобы посмотреть. Вокруг него было видно вполне различимое сияние. Азазел хорошо сработал.
Интересно, подумал я, как отреагирует Рози. Я ей позвонил и спросил, можно ли мне заехать. Оказалось, что она собралась в магазин, но вот если бы я мог примерно через час…
Я мог, и я заехал. Свой фотоподарок, завернутый в бумагу, я ей протянул без единого слова.
— Боже мой! — воскликнула она, разрезав ленточку и разворачивая обертку. — Это что, в честь какого-то праздника или…
Но тут она его достала, и ее голос пресекся. Глаза широко открылись, и дыхание участилось. Наконец она смогла прошептать:
— Мамочка моя!
Она посмотрела на меня:
— Это то, что вы снимали в воскресенье? Я кивнул.
— Но как вы его точно схватили! Я его такого обожаю. Ради Бога, можно я возьму это себе?
— Я принес его вам, — просто ответил я.
Она обхватила меня руками за шею и крепко поцеловала в губы. Такому человеку, как я, не любящему сантименты, это не могло понравиться, и потом пришлось вытирать усы, но ее неспособность сдержать в тот момент свой порыв была вполне простительна.
После этого мы не виделись примерно с неделю, а потом я встретил ее как-то у лавки мясника, и с моей стороны было бы просто невежливо не предложить ей поднести сумку до дома. Естественно, меня интересовало, не собирается ли она снова полезть целоваться, и я про себя решил, что было бы грубо отказывать, если настаивает столь очаровательное создание. Однако она упорно глядела куда-то вниз.
— Как поживает фотография? — спросил я, опасаясь, не стала ли она выцветать.
Рози сразу оживилась:
— Прекрасно! Я поставила ее на магнитофон и наклонила так, чтобы с моего места за столом ее было видно. Он на меня глядит так немножко искоса, с такой хитринкой, и нос у него наморщен как раз как надо. Честное слово, совсем как живой. И мои подруги глаз отвести не могут. Мне приходится ее прятать, когда они приходят, а то вот-вот украдут.
— А его они не украдут? — шутливо спросил я. Рози снова впала в то же напряженное молчание.
Потом она качнула головой:
— Не думаю.
Я попробовал зайти с другой стороны:
— А как Кевину эта фотография?
— Он слова не сказал. Ни одного слова. Он, знаете ли, не очень наблюдателен. Я не уверена, что он ее вообще заметил.
— А что, если ему ее прямо показать и спросить?
Она молчала примерно полквартала, а я тащился рядом с тяжелой сумкой, гадая, не потребует ли она еще и поцелуя в придачу.
Внезапно она сказала:
— На самом деле у него сейчас такая напряженная работа, что как-то не представляется случая спросить. Он приходит домой поздно и со мной вообще почти не разговаривает. Ну, вы же знаете, мужчины — они такие. — Она попыталась засмеяться, но у нее ничего не вышло.
Мы подошли к ее дому, и я вернул ей сумку. Она вдруг сказала шепотом:
— И все равно вам спасибо за фотографию, много-много раз!
И ушла. Поцелуя она не попросила, а я настолько погрузился в свои мысли, что осознал этот факт только на полпути к дому, когда уже возвращаться только для того, чтобы спасти ее от разочарования, было бы глупо.
Прошло еще дней десять, и как-то утром она мне позвонила. Не могу ли я заехать и с ней позавтракать?
Я сдержанно заметил, что это было бы несколько неудобно — что скажут соседи?
— А, глупости, — сказала она. — Вы же такой невообразимо старый… то есть я хочу сказать, такой невообразимо старый друг, что им и в голову… Ну, а кроме того, мне нужен ваш совет. — Мне показалось, что она всхлипнула. Джентльмен всегда должен быть джентльменом, поэтому я оказался во время ленча в ее солнечной квартирке. Она поставила на стол бутерброды с ветчиной и сыром и тонкие ломтики яблочного пирога, а на магнитофоне стояла фотография, как она рассказывала.
Мы поздоровались за руку, и никаких попыток целоваться она не делала, что могло бы меня успокоить, если бы не ее вид, который отнюдь не внушал спокойствия. Она выглядела совершенно изнуренной. Я съел половину всех бутербродов, пока ждал, чтобы она заговорила, но в конце концов был вынужден сам спросить, откуда вокруг нее атмосфера такой мрачной безнадежности.
— Это из-за Кевина?
Я был уверен, что не ошибся.
Она кивнула и разразилась слезами. Я гладил ее руку, но не был уверен, что этого достаточно. Я стал ненароком гладить ей плечо, и наконец она сказала:
— Я боюсь, что он потеряет работу.
— Что за глупости! Почему?
— Понимаете, он стал такой дикий, очевидно, и на работе тоже. Он уже Бог знает сколько времени меня не целует и даже слова доброго никогда не скажет. Он ссорится всегда и со всеми. Что случилось — он мне не говорит, а если я спрашиваю, он бесится. Вчера зашел друг, с которым Кевин работает в аэропорту. Он сказал, что Кевин работает с таким угрюмым и несчастным видом, что начальство уже стало замечать. Я уверена, что его собираются уволить, но что же мне делать?
Чего-то в этом роде я ожидал с нашей последней встречи и решил, что надо рассказать ей правду, и черт с ним, с Азазелом. Я прокашлялся:
— Рози! Эта вот фотография…
— О да, я знаю, — воскликнула Рози, хватая фотографию и прижимая ее к груди. — Она дает мне силы это переносить. Это — настоящий Кевин, и что бы ни случилось — он всегда будет со мной. — Она начала всхлипывать.
Я понял, что сказать то, что надо сказать, будет крайне трудно, однако другого пути не было. И я сказал:
— Рози, вы не поняли. Вся беда в этой фотографии, и я в этом уверен. Все обаяние, вся жизнерадостность этой фотографии должны были откуда-то взяться. Так вот, их отобрали у самого Кевина. Понимаете?
Рози перестала плакать.
— Вы это о чем? Фотография — это просто свет, собранный линзой, и еще эмульсия на пленке, и всякие там проявители — и все.
— Обычная фотография — да, но эта… — Я знал ограниченность возможностей Азазела. Волшебную фотографию из ничего ему было бы создать не под силу, но боюсь, что научную сторону вопроса, некий закон сохранения жизнерадостности я бы не смог объяснить Рози.
— Давайте я скажу так. Пока здесь будет стоять эта фотография, Кевин будет несчастен, сердит и раздражителен.
— Но здесь будет стоять эта фотография, — сказала Рози, решительно водружая ее на место, — и я не понимаю, зачем вы говорите такие ужасы про такую хорошую вещь. Ладно, давайте я сварю кофе.
Она вышла на кухню, и я видел, что она оскорблена до глубины души. Тогда я сделал то, что было единственно возможным. В конце концов, ведь это я сделал снимок. И опосредованно — через Азазела — на меня ложилась ответственность за его волшебные свойства. Я схватил рамку, осторожно снял задник, вынул фотографию. И порвал ее пополам, потом на четыре части, на восемь, на шестнадцать и сунул клочки себе в карман. Как только я закончил, зазвонил телефон, и Рози бросилась к нему в гостиную. Я вдвинул задник на место и поставил рамку обратно. Она была бела и пуста.
И тут я услышал, как Рози счастливо взвизгнула.
— Кевин! — донеслось до меня. — Это же чудесно! Я так рада! Но почему же ты мне ничего не говорил? Никогда больше так не делай!
Она вернулась с сияющим лицом.
— Вы знаете, что сделал этот ужасный Кевин? У него был камень в почке, и он ходил к врачу, и вообще, переживал. Это же была дикая, адская боль, и могла быть нужна операция, а мне он не говорил, потому что не хотел меня волновать. Вот болван! Конечно, он ходил такой несчастный. Ему и не пришло в голову, что я еще больше переживала, не зная, что с ним творится. Нет, серьезно, мужчин нельзя оставлять без надзора.
— А отчего вы сейчас так радуетесь?
— А камень вышел. Вот только что, и он первым делом сказал мне, что очень мило с его стороны — и как раз вовремя. У него такой счастливый голос, и такой радостный. Как будто вернулся прежний Кевин. Он совсем такой, как на этой фотографии…
Рози обернулась и взвизгнула:
— Где фотография?
Я встал, собираясь уходить. На ходу, идя к двери, я произнес:
— Я ее уничтожил. Потому-то камень и вышел.
— Уничтожил? Ах ты…
Я уже был за дверью. Я не ждал благодарности, но и до убийства доводить не хотел. Не дожидаясь лифта, я поспешил вниз с той скоростью, которую мог себе позволить, и добрых два этажа до моих ушей доносился ее дикий вой.
Дома я сжег клочки.
С тех пор я не видел Рози. Как я слышал, Кевин стал нежным и любящим мужем, и они очень счастливы, но одно письмо я все же от нее получил. Семь страниц мелким почерком, сбивчивых и почти бессмысленных. Из них я только мог понять, что она считает, будто настроение Кевина полностью объясняется историей с камнем, а что появление и выход камня так совпали по времени с фотографией — чистая случайность.
Еще там было несколько совершенно сумасшедших обещаний меня убить, а также — абсолютно непоследовательно — повредить некоторые части моего тела, причем называемые такими словами, которые, как я готов был бы поклясться, она не только не употребляет, но и вообще никогда не слышала.
И я так понимаю, что никогда больше она не полезет ко мне целоваться, и это, как ни странно, меня несколько огорчает.
Кому достаются трофеи
С моим другом Джорджем мне приходится видеться нечасто, но каждый раз я у него спрашиваю, как там тот маленький демон, которого он, как он говорит, умеет вызывать.
— Один старый и лысый писатель-фантаст, — говорил мне Джордж, — сказал однажды, что любая технология, выходящая за рамки привычного, воспринимается как колдовство. Но тем не менее мой маленький друг Азазел никоим образом не что-нибудь там внеземное, а именно демон bona fide. Пусть у него рост всего два сантиметра, зато он кое-что умеет. Кстати, откуда вы про него знаете?
— От вас.
Лицо Джорджа вытянулось в недоуменной гримасе, и он торжественно произнес:
— Я никогда о нем не упоминал.
— Кроме как в разговоре, — сказал я. — Кстати, что он последнее время поделывает?
Джордж вздохнул, набрав пару кубометров воздуха, и выдохнул их обратно, щедро насытив запахом пива. Потом сказал:
— Тут вы нечаянно наступили на больную мозоль. От наших с Азазелом усилий недавно пострадал мой друг, некто Теофил, а ведь мы хотели как лучше.
Он поднес кружку к губам и продолжил.
Мой друг Теофил (так говорил Джордж), которого вы не знаете, поскольку он вращается в более высоких кругах, чем те, где вам не отказывают в приеме, — утонченный молодой человек, большой ценитель грациозных линий и божественных форм молодых женщин — к чему я, слава Богу, равнодушен, — но которому недоставало способности пробуждать у них взаимность.
Он мне говаривал:
— Джордж, я этого не понимаю. Я умен, я прекрасно веду разговор, я остроумен, весел, у меня вполне терпимая внешность…
— Да-да, — отвечал я. — У вас есть глаза, нос, рот и уши, все в должном количестве и на нужных местах. Это я могу подтвердить под присягой.
— …и потрясающе образован по теории любви, хотя у меня не было шансов испытать свои знания на практике. И вот оказывается, что я не могу привлечь к себе эти милые создания. Вот посмотрите, сколько их тут вокруг, и ни одна не выражает ни малейшей предрасположенности завязать со мной знакомство, хотя я тут сижу с гениально-глубокомысленным выражением лица.
Мое сердце обливалось кровью от сострадания. Я его знал еще младенцем и помню, один раз я даже держал его на руках по просьбе его матушки, оправлявшей одежду после кормления. Такие вещи связывают людей.
Я спросил:
— Дорогой друг, были бы вы счастливей, если бы умели привлекать их внимание?
Он ответил просто:
— Это был бы рай.
Мог ли я не пустить его в рай? Я изложил Азазелу все как было, и он, как всегда, не пришел в восторг.
— Слушай, попроси лучше у меня бриллиант. Я переставлю атомы в кусочке угля, и ты получишь хороший камешек в полкарата. Но как, черт побери, я устрою твоему приятелю неотразимость для женщин? Как?
— А если ты в нем переставишь пару атомов? — спросил я, пытаясь предложить идею. — Я хочу, чтобы ты для него что-нибудь сделал, хотя бы в память о неповторимом питательном аппарате его матушки.
— Ладно, давай подумаю, — сказал Азазел. — Скрытые феромоны человека! Разумеется, с этой вашей теперешней привычкой мыться по поводу и без повода и еще опрыскиваться искусственными ароматами вы вряд ли помните о естественном пути передачи эмоций. А я могу так перестроить биохимический портрет твоего друга, чтобы он производил большие дозы сверхэффективных феромонов в ответ на появление у него на сетчатке изображения какой-нибудь из этих грубых самок вашего уродливого вида.
— То есть он будет вонять?
— Ничего подобного. Запах феромона едва ли ощущается сознанием, но действует на самок данного вида, вызывая у них неосознанное и атавистическое желание подойти поближе и улыбнуться. Наверное, еще и стимулирует выработку ответных феромонов, а дальше, я полагаю, все происходит автоматически.
— Тогда это то, что надо, — сказал я, — поскольку, как я думаю, этот юный Теофил сможет произвести хорошее впечатление. Он такой открытый парень, темпераментный и веселый.
Работа Азазела оказалась эффективной, как я выяснил после очередной встречи с Теофилом. Это было в уличном кафе.
Его я заметил не сразу, потому что мое внимание привлекла группа молодых женщин, симметрично расположенных по окружности. Я, к счастью, уже не подвержен их чарам с тех пор, как достиг возраста умеренности, однако дело было летом, и все они были одеты в тщательно обдуманное отсутствие одежды, так что я, как человек наблюдательный, не мог не начать внимательно рассматривать.
Прошло, как я помню, несколько минут, в течение которых я наблюдал за напряженным и нервозным поведением некоей пуговицы, пытавшейся удержать в закрытом положении кофточку, к которой была пришита. Я начал уже было строить рассуждения на тему о том, что… Но я был не прав.
Лишь через несколько минут заметил я Теофила в центре этой симметричной структуры — как Полярную звезду во главе Малой Медведицы из прекрасных летних девушек. Несомненно, его феромонную активность усилил разогрев на полуденном солнышке.
Я пробрался через этот круг женственности, по-братски подмигивая и улыбаясь, изредка позволяя себе отеческие похлопывания по плечу, и уселся рядом с Теофилом на стул, который для меня, надув губки, освободила очаровательная девушка.
— Мой молодой друг, — сказал я ему, — это зрелище чарует и вдохновляет.
И лишь сказав это, я заметил у него на лбу грустную морщинку. Я тут же заботливо спросил:
— Что случилось?
Не разжимая губ, он произнес таким тихим шепотом, что я еле расслышал:
— Бога ради, заберите меня отсюда.
Я, как вы знаете, человек решительных поступков. Мне не составило никакого труда подняться и отчетливо произнести:
— Юные леди, мой молодой друг, понуждаемый неумолимыми законами биологии, должен посетить мужской туалет. Подождите его здесь, и он вернется.
Мы вошли в ресторанчик и вышли через заднюю дверь. Одна из юных дам, с выпирающими, как булыжники, недвусмысленными бицепсами и со столь же недвусмысленным выражением подозрительности на угрюмом лице, догадалась обежать вокруг ресторана, но мы успели вовремя ее заметить и нырнуть в такси. Она гналась за нами еще два квартала, не отставая. В комнате Теофила, в безопасности, я сказал:
— Теофил, вы явно открыли секрет, как привлекать женщин. Это и есть тот рай, к которому вы стремились?
— Не совсем, — ответил Теофил, медленно расслабляясь под струей воздуха из кондиционера. — Они друг другу мешают. Я не знаю, что случилось, однако вот недавно ко мне подошла эта странная женщина и спросила, не встречала ли она меня в Атлантик-Сити. «Никогда! — возмущенно воскликнул Теофил. — Никогда в жизни не бывал я в Атлантик-Сити». Я еще не успел возразить, как подбежала другая, утверждая, что я уронил платок и она хочет мне его вернуть, и тут же подскочила третья со словами: «Детка, хочешь сниматься в кино?»
Я ответил:
— Вам остается только выбрать одну из них. Я бы выбрал ту, которая звала в кино. Легкая жизнь, а вокруг вьются тучи актрисок.
— Да не могу я никого из них выбрать. Они следят друг за другом почище стервятников. Стоит мне посмотреть на одну, так все остальные хватают ее за волосы и вышвыривают вон. У меня так же нет женщины, как и не было, только в старые дни мне хотя бы не приходилось смотреть, как они колышут грудью и глядят на меня томными глазами.
Я сочувственно вздохнул и сказал:
— А почему не устроить им отборочный турнир? Вот в таком окружении дам, как сегодня, взять и сказать: «Мои дорогие, я глубоко увлечен вами всеми вместе и каждой в отдельности. А потому прошу вас выстроиться в алфавитном порядке, и каждая по очереди меня поцелует. Та, которая исполнит это наиболее самозабвенно, останется со мной на вечер». Максимум того, что вы на этом теряете, — послужите объектом для чрезмерно старательных поцелуев.
— Хм! — произнес Теофил. — А почему бы и нет? Трофеи — победителю, и пусть меня победит самый лучший трофей. — Он облизнул губы, потом выпятил их и поцеловал воздух, отрабатывая технику. — Так и сделаем. Как вы думаете, что, если я, чтобы это было менее утомительно, поставлю условие — руки за спиной?
— Я бы не стал, — ответил я, — друг мой Теофил. В этом случае вам самому может захотеться проявлять какие-то усилия. Я бы предпочел правило — «все захваты дозволены».
— Возможно, вы правы, — сказал Теофил, воспринимая совет того, кто имел немалый опыт в вопросах подобного рода.
Вскоре я должен был покинуть город в связи с делами и не видел Теофила около месяца. Мы встретились в супермаркете. Он толкал перед собой тележку, нагруженную бакалеей. Его лицо меня убило. Загнанным взглядом озирался он по сторонам.
Я к нему подошел, и он со странным писком пригнулся. Потом узнал меня:
— Слава Богу, а то я подумал, что вы — женщина. Я покачал головой.
— Все еще мучаетесь? Вы разве не устроили отборочный турнир?
— Устроил. В том-то все и дело.
— А что случилось?
— Я… — он оглянулся по сторонам и выглянул в проход между стеллажами. Убедившись, что вокруг чисто, он заговорил тихо и быстро, как человек, который торопится что-то сказать по секрету и при этом знает, что его вот-вот прервут: — Я это сделал. Я заставил их написать заявления на конкурс с указанием возраста, сорта зубной пасты и прочего, представить как полагается рекомендации и справки — и назначил день. Конкурс должен был проходить в большом бальном зале в Уолдорф-Астории. Я заготовил приличный запас гигиенической помады для них, профессиональную массажистку и баллон с кислородом для себя для поддержания формы. Как вдруг накануне конкурса ко мне в номер является мужик. Я говорю «мужик», но сперва мне показалось — оживший кирпичный столб. Ростом под два десять, в плечах где-то метр пятьдесят, и кулаки — как ковши паровой лопаты. Он улыбнулся, показав клыки, и заявил:
— Сэр, завтра в вашем конкурсе участвует моя сестренка.
— В самом деле? Очень рад это слышать, — сказал я, желая удержать дальнейший разговор в том же дружелюбном ключе.
— Моя маленькая сестренка, — сказал мужик, — нежный цветок на нашем корявом родословном древе. Она — зеница ока моих трех братьев и моя, и каждого из нас сводит с ума одна только мысль о том, что ее может постигнуть разочарование.
Я спросил:
— А ваши братья похожи на вас, сэр? Он сильно смутился:
— Да нет, сэр, что вы. Я в детстве сильно болел и так и остался вот таким вот усохшим недомерком на всю жизнь. А мои братья — настоящие мужчины нормального роста. — Он показал рукой примерно два с половиной метра от земли.
Я с глубоким чувством заявил:
— Я уверен, сэр, что шансы вашей очаровательной сестры исключительно высоки.
— Это приятно слышать. У меня есть дар предвидения — я думаю, в компенсацию за мою физическую неполноценность. И вот я предвижу, что моя сестренка выиграет конкурс. По какой-то непонятной причине, — продолжил он, — моя сестричка вбила себе в голову, что вы — ее судьба, и если бы ее постигла неудача, мы — ее братья — чувствовали бы себя так, как если бы нам в морду плюнули. А уж тогда…
Тут он осклабился еще сильнее, и клыки вылезли еще больше. Медленно, по одной, он пощелкал костяшками своих ручищ, и звук был такой, как будто ломается бедренная кость. Я никогда этого не слышал, но внезапный приступ дара предвидения дал мне ясно понять, как это звучит.
Я сказал:
— У меня такое чувство, сэр, что вы правы. Есть у вас фотография той особы, о которой идет речь?
— Вы знаете, — сказал он, — совершенно случайно есть.
Он достал фотографию в рамке, и должен признать, что у меня сердце екнуло. Я не мог себе представить, как эта леди выиграет состязание.
Однако дар предвидения — это дар предвидения, и вопреки всем шансам молодая леди одержала чистую победу. Когда объявили результат, в зале чуть не вспыхнул бунт, но победительница очистила помещение собственноручно с неимоверной быстротой и эффективностью, и с тех пор мы с ней, к сожалению, — то есть к счастью — неразлучны. Да вон она, роется на мясном прилавке. Она очень любит мясо — и не только сырое.
Я посмотрел на эту девушку и сразу узнал ту, что два квартала гналась за нашим такси. Очень решительная особа. Я залюбовался ее пульсирующими бицепсами, серьезной гастрономической увлеченностью и развитыми надбровными дугами.
— Вы знаете, Теофил, — сказал я ему, — может быть, имеет смысл снизить вашу привлекательность до прежнего уровня?
Теофил вздохнул:
— Это, боюсь, небезопасно. Моя нареченная и ее крупногабаритные братцы могут неправильно понять потерю интереса с ее стороны. Да к тому же в моем положении есть и хорошие стороны. Я могу пройти по любой улице в любое время, и как бы там ни было опасно, меня никто и пальцем не тронет, когда она со мной. Самый наглый полисмен-регулировщик сразу становится кротким, как агнец, стоит ей на него прищуриться. И она так старается мне угодить и все время придумывает что-нибудь новое. Нет, Джордж, моя судьба решена. Пятнадцатого числа через месяц у нас свадьба, и она перенесет меня через порог нашего нового дома, что дарят нам ее братья. Они хорошо зарабатывают на спрессовывании старых автомобилей, поскольку экономят на оборудовании — работают руками. Вот только иногда я…
Его взор невольно отклонился в сторону на хрупкие формы молодой блондинки, идущей по проходу в нашу сторону. Она взглянула на него так же, как и он на нее, и по ее телу прошла дрожь.
— Простите, — застенчиво произнесла она, и голос звучал, как трель флейты, — мы не могли недавно видеться в турецких банях?
Не успела она договорить, как за нами послышалась твердая поступь, и в разговор ворвался грозный баритон:
— Лапонька Теофил, эта потаскуха к тебе пристает?
Владычица души Теофила, наморщив лоб до глубокой борозды, сверлила девушку взглядом, и та задрожала в нескрываемом ужасе.
Я быстро встал между дамами (это был страшный риск, но никогда не знал я страха). Я сказал:
— Мадам, это дитя — моя племянница. Она заметила меня издали и бросилась ко мне поцеловать в щечку. То, что при этом она двигалась в направлении вашего дорогого Теофила, было полнейшей, хотя и неизбежной, случайностью.
Я огорчился, когда на лице возлюбленной Теофила проявилась та уродующая печать подозрительности, на которую я обратил внимание еще при нашей первой встрече.
— А ты не врешь? — спросила она, и в ее голосе недоставало человеколюбия, которое мне так хотелось бы услышать. — Ладно, чтоб я вас тут не видела. Быстро отсюда оба.
В общем и целом, я счел разумным именно так и поступить. Взяв девушку под руку, я пошел прочь, предоставив Теофила его судьбе.
— О сэр, — сказала юная дама, — как это было храбро с вашей стороны и как находчиво. Если бы не вы, не избежать бы мне синяков и царапин.
— Это был бы стыд и позор, — галантно ответил я, — потому что такое тело, как ваше, создано не для царапин. И не для синяков. Кстати, вы упомянули турецкую баню. Давайте поищем ее вместе. У меня в квартире есть нечто в этом роде — американская, правда, и ванна, но это, в сущности, то же самое.
В конце концов, трофеи — победителю.
Неясный рокот
Я стараюсь не верить тому, что рассказывает мне мой друг Джордж. Ну как можно верить человеку, утверждающему, что умеет вызывать демона по имени Азазел ростом в два сантиметра, который на самом деле — некоторое внеземное существо с необычными, хотя и очень ограниченными, возможностями.
Но под прямым немигающим взглядом простодушных глаз Джорджа я начинаю ему верить и верю — пока он говорит. Это, я думаю, эффект Старого Моряка.
Однажды я сказал, что его демон, похоже, дал ему нечто вроде дара вербального гипноза. Джордж в ответ вздохнул и сказал:
— Увы, нет! Уж если он мне что и даровал, так это дар вызывать людей на откровенную исповедь, хотя это проклятие преследовало меня еще до всякого знакомства с Азазелом. Самые необычные люди взваливали на меня бремя своих горестей. А бывало… — Он помотал головой, как будто Оттоняя невыносимо печальную мысль — бывало, что и такое бремя на меня падало, что не людской плоти выносить его. Вот, помню, встретил я однажды человека по имени Ганнибал Уэст…
Впервые я его заметил (так говорил Джордж) в ресторане того отеля, где жил. Я его заметил прежде всего потому, что он мне загораживал вид на официантку с фигурой статуэтки, одетую со вкусом, но совершенно недостаточно. Ему же, я полагаю, показалось, что я смотрю на него (чего я бы никогда по собственной воле делать не стал), и он это воспринял как приглашение к началу дружеских взаимоотношений.
Он подошел к моему столу, прихватив с собой свой бокал, и уселся без всякого там «с вашего разрешения». Я по натуре человек вежливый, так что я приветствовал его чем-то вроде хрюканья и уставился прямо на него, что он воспринял абсолютно спокойно. У него были волосы песочного цвета, спадающие по обеим сторонам черепа, белесые глаза и бледная физиономия им под цвет и еще — взгляд фанатика, хотя в тот момент я этого, признаюсь, не заметил.
— Меня зовут Ганнибал Уэст, — заявил он, — я профессор геологии. Моя узкая специальность — спелеология. Вы, случайно, не спелеолог?
Я сразу понял, что ему кажется, будто он встретил родственную душу. У меня от такой мысли ком к горлу подкатил, но человек я вежливый.
— Непонятные слова всегда меня интересовали, — сказал я. — Что такое спелеология?
— Пещеры. Изучение и исследование пещер, — ответил он. — Это мое хобби, сэр. Я исследовал пещеры всех континентов, кроме Антарктиды. О пещерах никто в мире не знает больше моего.
— Очень приятно, — сказал я, — это впечатляет.
Посчитав, что дал ему насколько возможно более холодный ответ, я помахал официантке, чтобы она принесла мне новый бокал, и с чисто научной внимательностью наблюдал за ее неспешным приближением. Однако Ганнибал Уэст не счел мой прием холодным.
— Да-да, — он энергично закивал головой, — впечатляет — это уж точно. Я исследовал пещеры, о которых никто в мире ничего не знает. Я спускался в подземные гроты, где не ступала нога человека. Я единственный из ныне живущих, кто первый входил в такие места, где не бывало ни одно человеческое существо. Я вдыхал воздух, который никогда не тревожили человеческие легкие, и я видел и слышал такое, чего не видел и не слышал никто, кто выжил бы и рассказал.
Он передернулся.
Тут прибыл мой бокал, и я благодарно взял его, любуясь тем, как низко наклонилась официантка, ставя его передо мной на стол. Совершенно механически я сказал:
— Вы — счастливый человек.
— Вот это нет, — ответил Уэст. — Я жалкий грешник, коего призвал Господь для отмщения грехов сынов человеческих.
Тут-то я посмотрел на него внимательно и заметил взгляд фанатика, сверлящий меня насквозь.
— В пещерах? — спросил я.
— В пещерах, — торжественно и мрачно ответил он. Уж поверьте мне. Я профессор геологии, и я знаю, о чем говорю.
Я за мою долгую жизнь встречал много профессоров, которые понятия не имели, о чем говорили, но этот факт я счел излишним подчеркивать. Наверное, Уэст по моим выразительным глазам прочел, что я о нем думаю, потому что вдруг щелкнул замком портфеля у себя на коленях, выудил оттуда газету и сунул ее мне.
— Вот! — сказал он. — Читайте вот это.
Не могу сказать, что материал заслуживал углубленного изучения. Какая-то заметка в местном листке размером в три абзаца. В заголовке было написано: «Неясный рокот», а в скобках стояло: «Восточный Хренборо, штат Нью-Йорк». Там что-то было насчет неясного рокочущего шума, на который жаловались в полицию местные жители и который приводил в неистовство все собачье-кошачье население городка. Полиция списала этот звук на дальнюю грозу, хотя метеорологический отдел клялся и божился, что гроз в этот день в регионе не было ни одной.
— Ну, и как вам это? — спросил Уэст.
— Может, это была эпидемия несварения желудка?
Он скривился так, как будто эта идея не стоила даже презрения — хотя любой, кто хоть раз испытал несварение желудка, с ним бы не согласился.
— У меня, — сказал он, — есть точно такие же сообщения из Ливерпуля в Англии, из Боготы в Колумбии, из Милана в Италии, из Рангуна в Бирме и еще из полусотни различных точек земного шара. Я их собираю. И во всех говорится о глухом рокочущем шуме, наводящем страх и беспокойство и вгоняющем в панику домашних животных. И все эти случаи укладываются в два дня.
— Какое-то событие мирового масштаба, — заметил я.
— Именно! А то скажете — несварение. — Он состроил мне гримасу, отхлебнул из своего бокала и постучал себя по груди: — Ибо Господь вложил мне в руки оружие, и я должен узнать, как применять его.
— А что за оружие? — спросил я. Он не дал прямого ответа.
— Эту пещеру я нашел случайно, что мне больше нравится, потому что пещера с кричащим входом — это публичная девка, и там уже толпы топтались. Вы мне покажите вход узкий и скрытый, загороженный камнепадом и заросший бурьяном, да еще чтобы он был за водопадом и в недоступном месте — и я вам скажу, что эта пещера девственна и туда стоит лезть. Вы сказали, что спелеологии не знаете?
— Ну, я, конечно, бывал в пещерах. Вот, например, Люрейские пещеры в Виргинии…
— С платным входом! — Уэст сморщился, ища на полу место, куда плюнуть. К счастью, не нашел. — Раз вы ничего не знаете о божественных радостях исследования пещер, — начал он, — я не буду вас утомлять рассказом о том, как я ее нашел и как обследовал. Вообще говоря, исследовать новую пещеру без напарника небезопасно, однако я всегда к этому готов. В конце концов, в этом деле мне нет равных, не говоря уже о том, что я храбр как лев. Но в этом случае мне как раз повезло, что я был один, ибо то, что нашел я, не было предназначено ни для кого другого. Продвигаясь вперед, я обнаружил большой безмолвный зал, где сталагмиты гордо воздымались навстречу не менее величественным сталактитам. Я шел, огибая сталагмиты и разматывая за собой бечеву, поскольку не люблю терять дорогу, как вдруг наткнулся на сталагмит, сломанный посередине там, где сцепление плоских слоев было почему-то слабее. По одну сторону от обломка пол был покрыт известняковой крошкой.
Не знаю, отчего он сломался — то ли какая-то тварь налетела на него, спасаясь от преследования, то ли какому-то небольшому землетрясению этот сталагмит показался слабее других. В любом случае сейчас на вершинке этого обломка была гладкая плоская площадка, влажно блеснувшая в свете моего фонарика. Она так напоминала барабан, что я не выдержал и постучал по ней пальцем. — Тут он залпом допил бокал и добавил: — Это и был барабан, или, по крайней мере, структура, отвечающая вибрацией на постукивание. Как только я тронул обломок, зал наполнил глухой рокот — тяжелый звук на грани порога слышимости, инфразвук. Как я позже определил, только ничтожная доля звуковых волн пришлась на слышимый диапазон, а почти весь звук выражался в мощных колебаниях, слишком медленных для человеческого уха, но сотрясающих тело. От этого неслышимого эха я испытал наиболее неприятные ощущения, которые только можно вообразить. Раньше я никогда ничего подобного не встречал. Энергия постукивания ничтожна, как же могла она вызвать такие мощные колебания? Этого я полностью так и не понял. Конечно, где-то под землей есть источники энергии. Может существовать способ освобождения тепловой энергии магмы и превращения ее в звук. А начальное постукивание могло сыграть роль спускового механизма этого звукового лазера, или, если создавать новый термин, «звазера».
Я растерянно заметил:
— Никогда о таком не слышал.
— Да уж конечно, — Уэст неприятно хихикнул, — наверняка не слышали. Никто никогда ни о чем таком не слышал. Естественный звазер, образовавшийся в результате редкой комбинации геологических условий. Такая штука может случиться не чаще раза в миллион лет и не больше чем в одной точке планеты. Это должен быть редчайший феномен всей Земли.
Я заметил:
— Это довольно далеко идущие выводы из одного щелчка пальцем по барабану.
— Заверяю вас, сэр, как ученый, что я не удовлетворился одним щелчком. Я продолжил эксперимент.
Попробовав стукнуть сильнее, я убедился, что могу серьезно пострадать от реверберации инфразвука в замкнутом пространстве. Тогда я соорудил систему, которая позволяла мне бросать камешки на звазер извне пещеры — некий аппарат с дистанционным управлением. И с удивлением обнаружил, что звук слышен в довольно далеких от пещеры местах. Простеньким сейсмографом я обнаружил колебания на расстоянии нескольких миль. А бросив случайно серию камешков, я убедился в кумулятивности эффекта.
— Это было, — спросил я, — в тот день, когда по всему миру слышался глухой рокот?
— Абсолютно верно, — ответил он. — Вы совсем не такой дебил, каким кажетесь. Вся планета звенела, как колокол.
— Я слышал, что это бывает только при особо сильных землетрясениях.
— Верно, однако звазер может вызвать колебания более сильные, чем любое землетрясение, при этом с определенной длиной волны, например такой, от которой вытряхивается содержимое клеток, — допустим, нуклеиновые кислоты хромосом.
Я обдумал сказанное.
— Это убило бы живые клетки.
— Наверняка. Может быть, так погибли динозавры.
— Я слыхал, что они погибли из-за столкновения Земли с астероидом.
— Это так, но, чтобы так подействовало простое столкновение, мы должны допустить, что астероид был гигантским — десять километров в поперечнике. И тогда приходится предполагать пыль в стратосфере, трехлетнюю зиму и прочее, чтобы весьма нелогичным способом объяснить, почему одни организмы погибли, а другие выжили. А теперь допустим, что астероид был гораздо меньше, но стукнул по звазеру, а его колебания стали разрушать клетки. Около девяноста процентов всех живых клеток в мире распались за несколько минут без видимых изменений в окружающей среде. Какие-то организмы погибли, а какие-то выжили. Это уже полностью зависит от сравнительных структур нуклеиновых кислот.
— Это и есть, — спросил я с жутким ощущением, что этот фанатик говорит всерьез, — это и есть то оружие, что вложил в ваши руки Господь?
— Воистину, — ответил он. — Я узнал, как генерировать волны заданной длины, меняя способ постукивания, и теперь мне осталось только точно определить длину волны, от которой разрушаются клетки человека.
— Почему человека? — спросил я.
— А почему нет? — ответил он вопросом на вопрос. — Какой другой вид наводняет планету, разрушает среду, поражает радиацией другие виды и насыщает биосферу химической дрянью? Кто разрушает Землю так, что через пару десятков лет на ней не останется ничего живого? Кто, кроме Homo sapiens? Если мне удастся найти нужную волну, я ударю по звазеру с нужной частотой и силой, на Землю обрушится волна омывающего звука, и за день или два, которые понадобятся звуковым волнам на обход всей планеты, ее поверхность очистится от людской скверны без вреда для других форм жизни с другой структурой нуклеиновых кислот.
Я спросил:
— Вы собираетесь оборвать миллиарды людских жизней?
— Так поступил Господь во время потопа…
— Ну, мы же не можем верить библейским легендам о…
— Я — геолог-креационист, сэр, — оборвал он мою речь. И я все понял.
— А, — сказал я, — и Господь обещал никогда не посылать на Землю новый потоп, но ничего не сказал о звуковых волнах.
— Именно так! И миллиарды мертвых удобрят и оплодотворят землю, послужат пищей для тех форм жизни, что страдали от рук людских и заслужили воздаяние. Но самое главное: несомненно, какие-то остатки человечества выживут. Те, чьи нуклеиновые кислоты окажутся нечувствительны к звуковым колебаниям. И эти остатки, благословенные Господом, смогут начать снова, запомнив урок воздаяния, так сказать, злом за зло.
— А зачем вы это мне рассказываете? — спросил я. Это действительно было странно.
Он подался вперед и схватил меня за лацкан (весьма неприятное ощущение, поскольку от его дыхания могло стошнить) и сказал:
— У меня такое внутреннее убеждение, что вы мне можете помочь.
— Я? Уверяю вас, что я ничего не знаю о длинах волн, о нуклеиновых кислотах, и вообще ни… — Но тут же, сообразив на ходу, я сказал: — Вы знаете, кажется, есть одна вещь, которую именно я мог бы для вас сделать. — И со свойственной мне безукоризненной вежливостью я обратился к нему: — Не сделаете ли вы мне одолжение, сэр, соблаговолить подождать вашего покорного слугу минут пятнадцать?
— Разумеется, сэр, — ответил он, так же соблюдая этикет. — Я пока займусь уточнением математических расчетов.
Быстрым шагом выходя из зала, я сунул десятку бармену и прошептал:
— Проследите, чтобы вон тот джентльмен не ушел до моего возвращения. Если это будет абсолютно необходимо, ставьте ему выпивку за мой счет.
Все, что нужно для вызова Азазела, у меня всегда с собой, и через несколько минут он уже сидел на настольной лампе у меня в номере, окруженный своим обычным розовым сиянием.
— Ты, — пропищал он с интонацией прокурора, — прервал меня в середине построения такого пасмаратцо, перед которым не устояло бы сердце ни одной прекрасной самини.
— Прости, если можешь, Азазел, — сказал я, надеясь, что он не пустится в объяснения, что такое пасмаратцо, и не станет описывать очарование самини, поскольку для меня все это яйца выеденного не стоило, — но у меня тут дело первостепенной срочности.
— У тебя всегда все первостепенной срочности, — буркнул он недовольно.
Я поспешно обрисовал ситуацию, и надо отдать ему должное — он тут же все понял. В этом смысле с ним приятно общаться — никогда не требуется долгих объяснений. Я лично считаю, что он просто читает мысли, хотя он всегда уверяет, что моих мыслей не касается. Однако как можно доверять двухсантиметровому демону, который сам сознается, что в погоне за симпатичными самини применяет какие-то гнусные ухищрения? Да и к тому ж я не уверен, что он имеет в виду — что к моим мыслям не притрагивается или что от этого в них ничего не меняется. Но все это к делу не относится.
— Где этот человек, о котором ты говоришь?
— В зале ресторана. Он расположен…
— Не надо. Я найду его по эманациям нравственного разложения. Так, нашел. Как узнать этого человека?
— Волосы песочного цвета, бледные глаза…
— Не это. Склад его ума.
— Фанатик.
— Ах да. Ты говорил. Так, контакт я установил и теперь вижу, что дома придется отмываться горячим паром. Он еще хуже тебя.
— Это неважно. Его слова соответствуют истине?
— Насчет звазера? Кстати, неплохой термин.
— Да.
— Что ж, этот вопрос не прост. Есть у меня приятель, считающий себя большим духовным лидером, так я часто подначиваю его вопросом: что есть истина? Скажу так: он считает это истиной, он в это верит. Но то, во что верит человек, независимо от силы его веры, не обязательно будет объективной истиной. Ты в своей жизни с этим, вероятно, сталкивался.
— Бывало. Но есть ли способ отличить веру, в основе которой лежит истина, от той, что основана на заблуждении?
— У разумных существ — да. У людей — нет. Но ты, похоже, видишь в этом человеке небывалую опасность. Давай я переставлю у него в мозгу пару молекул, и он умрет.
— Нет, — сказал я. Пусть это с моей стороны глупо, но я противник убийств. — Ты можешь так переставить молекулы, чтобы он забыл о звазере?
Азазел тоненько вздохнул, поежился:
— Это же гораздо труднее. Эти молекулы такие тяжелые, да еще цепляются друг за друга. Ну почему не поступить радикально…
— Я настаиваю.
— Ладно, — уныло согласился Азазел и погрузился в долгую литанию вздохов, пыхтений и бормотаний, долженствующих мне показать, как он тяжело работает. Наконец он сказал: — Готово.
— Ладно, подожди здесь. Я только проверю и вернусь.
Сбежав вниз, я увидел Ганнибала Уэста там, где я его оставил. Бармен подмигнул мне, когда я с ним поравнялся:
— Выпивка не потребовалась, сэр.
Я выдал этому достойному человеку еще пять долларов.
Уэст радостно воскликнул:
— А, это вы!
— Разумеется, — ответил я. — Вы весьма наблюдательны. Я решил проблему звазера.
— Проблему чего?
— Того предмета, который был открыт вами в процессе спелеологических исследований.
— Каких исследований?
— Спелеологических. Осмотра пещер.
— Сэр, — Уэст поморщился. — Я в жизни не был ни в одной пещере. Вы — душевнобольной?
— Нет. Но я вспомнил, что у меня важная встреча. Прощайте, сэр. Возможно, мы больше не увидимся.
Я поспешил наверх, слегка запыхавшись, и услышал, как Азазел жужжит себе под нос мотивчик, популярный среди его народа. Тамошний музыкальный вкус — если его можно так назвать — весьма извращен.
— Он лишился памяти, — сказал я. — Надеюсь, навсегда.
— Конечно, — отозвался Азазел. — Теперь надо бы заняться самим звазером. Раз он может усиливать звук за счет тепловой энергии Земли, значит, у него должна быть очень тонко подогнанная структура. А тогда мелкое нарушение регулировки в какой-нибудь ключевой точке выведет его из строя навеки. Где он находится?
Я посмотрел на него, как громом пораженный:
— Откуда мне знать?
Он на меня уставился, тоже как будто громом пораженный, хотя на его миниатюрном личике трудно что-нибудь разобрать.
— Ты хочешь сказать, что мы стерли его память до того, как ты узнал столь важную вещь?
— Да мне и в голову не приходило, — сказал я.
— Но ведь если звазер существует — то есть если его убежденность основывается на фактах, — то кто-то может в него вляпаться снова, или какая-то тварь на него налетит, или просто метеорит стукнет, и это может случиться в любую минуту дня и ночи. И вся жизнь на Земле погибнет.
— Боже правый, — простонал я.
Очевидно, мое отчаяние его тронуло, и он произнес:
— Ну ладно, ладно, друг, не так все страшно. Худшее, что может случиться — исчезнут люди. Всего только люди, а не путное что.
Закончив свой рассказ, Джордж безнадежным голосом добавил:
— И вот так оно и есть. Приходится жить, зная, что весь мир может в любую секунду кончиться.
— Чушь, — совершенно искренне заметил я. — Если даже вы не вре… — извините — говорите правду про этого Ганнибала Уэста, все это может быть просто порождением его больной фантазии.
Джордж высокомерно посмотрел на меня поверх собственного носа и после некоторой паузы произнес:
— Даже за самых прекрасных самини с родины Азазела не согласился бы я разделять эту вашу склонность к дешевому скептицизму. Что вы скажете на это?
Из бумажника он достал кусок газеты. Это была вырезка из вчерашней «Нью-Йорк таймс» с заголовком: «Неясный рокот». Там говорилось о неясном рокоте, который перебудоражил жителей Гренобля во Франции.
— Объяснение, Джордж, единственное. Вы увидели эту статью и присочинили к ней целую историю.
Джордж чуть было не взорвался, но тут я взял в руки счет на довольно приличную сумму, положенный между нами официанткой, и тогда его чувства смягчились, и мы с ним очень дружелюбно попрощались за руку. Но должен признать, мне с тех пор как-то неспокойно спится. И где-то примерно в полтретьего ночи я сижу в кровати и прислушиваюсь к глухому рокоту, который как раз меня и будит.
Спаситель человечества
— Приятель у меня есть, — сказал как-то вечером мой друг Джордж, тяжело вздохнув, — так он клутц.
Я с умным видом кивнул:
— Птица из перьев.
Джордж недоуменно на меня воззрился:
— Причем здесь перья? Потрясающая у вас способность ляпать невпопад. Это, наверное, связано с недостаточным интеллектом — примите не в упрек, а в выражение сочувствия.
— Ну, что ж поделаешь, — ответил я, — какой уж есть. Этот ваш приятель-клутц — это Азазела вы имеете в виду?
Азазел — двухсантиметровый демон или внеземное разумное существо (как вам больше нравится), о котором Джордж говорит постоянно и замолкает только в ответ на прямые вопросы. Теперь он холодно произнес:
— Азазел — не предмет для обсуждения, и вообще, я не понимаю, как вы о нем прознали.
— Да подошел к вам как-то ближе чем на милю, — ответил я.
Джордж не обратил на это внимания и продолжал.
Неблагозвучное слово «клутц» я впервые услышал в разговоре со своим приятелем Менандером Блоком. Вы, я боюсь, о нем не слыхали, поскольку он вращается в университетских кругах и очень щепетилен в выборе знакомых, что вряд ли можно поставить ему в упрек, глядя на подобных вам личностей.
Этим словом, как он объяснил мне, называют неуклюжих и незадачливых людей.
— И вот я как раз такой, — сказал он. — Это слово из идиша, и буквально оно означает кусок дерева, бревно, полено, колоду, чурбак, а моя фамилия по-немецки значит примерно то же самое, что и последнее слово.
Он тяжело вздохнул:
— Понимаете, в строгом смысле слова я не клутц. В моем поведении нет ничего от чурбака или колоды. Я танцую, как зефир, и грациозен, как мотылек, движения у меня кошачьи, а что касается искусства любви, то многие красавицы могли бы его оценить, если бы я им это позволил. Но вот эта клутцовость проявляется на дальнем расстоянии. Меня при этом не задевает, но клутцом становится все вокруг. Как будто у самой Вселенной заплетаются ее космические ноги. Если смешивать языки — греческий с идишем, то точное слово будет «телеклутц».
— И как давно это с вами, Менандер? — спросил я.
— Всю жизнь, хотя я только уже в зрелом возрасте осознал это свое странное свойство. В юности я объяснял происходящее со мной нормальным ходом вещей.
— Вы с кем-нибудь по этому поводу советовались?
— Конечно, нет, Джордж. Меня бы посчитали за сумасшедшего. Вы себе представляете любого психоаналитика, который встретился с феноменом телеклутцизма? Меня бы с первого нашего разговора отвезли в лечебницу, а доктор бросился бы писать статью о новом психозе и стал бы, может быть, миллионером. Я не собираюсь попадать на всю жизнь в дурдом для обогащения какой-нибудь ученой пиявки. Это нельзя рассказывать никому.
— А мне зачем вы это говорите, Менандер?
— А затем, что мне, с другой стороны, надо это кому-то рассказать, чтобы и вправду не свихнуться. А вас я по крайней мере знаю.
Особой логики я в этом не усмотрел, зато понял, что опять я подвергаюсь приступу откровенности со стороны своих друзей. Это обратная сторона репутации человека понимающего, симпатичного, а главное — умеющего хранить чужие тайны. Никогда поверенная мне тайна не доходила до чужих ушей — вы не в счет, поскольку все знают, что срок действия вашего внимания — несколько секунд, а памяти — и того меньше.
Я сделал официанту знак принести еще выпивку и добавил секретный жест, который знал я один, означающий, что ее нужно включить в счет Менандеру. В конце концов, он мне был обязан.
— А как конкретно, Менандер, проявляется ваш телеклутцизм?
— В простейшей форме, которая и привлекла впервые мое внимание, он сказывается на погоде во время моих поездок. Мне не часто приходится ездить, а если приходится, то на машине. И вот всегда, когда я еду на машине, идет дождь. Неважно, какой был прогноз, неважно, что при моем выезде сияет солнце. Собираются тучи, темнеет, начинает моросить дождик и переходит в ливень. А если мой телеклутцизм разыграется, так начинается еще и обледенение. Я, конечно, стараюсь не делать глупостей. По Новой Англии не езжу, пока не кончится март. В прошлом году я ехал в Бостон шестого апреля — так это была первая апрельская гроза за всю историю Бостонского метеорологического бюро. Однажды я ехал в Вильямсбург, штат Виргиния, двадцать восьмого марта, надеясь на несколько дней снисхождения судьбы. Не тут-то было! В Вильямсбурге выпал снег слоем двадцать сантиметров, и аборигены мяли его в пальцах, спрашивая друг у друга, что бы это могло быть. Часто я думал, что если представить себе Вселенную под непосредственным руководством Господа Бога, так рисуется хорошая картинка: вбегает Гавриил и в Божественном присутствии орет, что сейчас вот-вот столкнутся две галактики с разрушительными последствиями для всей Вселенной, а Господь ему и отвечает: «Не приставай с глупостями, я тут должен напустить дождь на Менандера».
Я сказал ему:
— Из каждой ситуации надо стараться извлечь пользу. Вы же могли бы за баснословные гонорары прекращать засухи.
— Я об этом подумывал, но от самой мысли высыхает любой дождь, который мог бы случиться на моем пути. К тому же если бы дождь и прошел там, где он нужен, он мог бы вызвать потоп. Да и не только дождь, или уличные пробки, или пропажа дорожной разметки — есть еще миллионы всяких неприятностей. В моем присутствии неожиданно сама по себе ломается дорогая аппаратура или кто-то роняет ценную и хрупкую вещь, причем без всякой моей вины. Вот в Батавии, в Иллинойсе, есть современный ускоритель частиц. Однажды у них сорвался важнейший эксперимент из-за совершенно непредвиденной и необъяснимой утечки вакуума. И только я знал (на следующий день, прочитав в газете), что в момент утечки я проезжал на автобусе по окраине Батавии. И конечно, шел дождь. В этот самый момент, друг мой, прокисает часть молодого пятидневного вина в погребах этого почтенного заведения. Некто, проходящий сейчас мимо нашего стола, обнаружит, придя домой, что у него в подвале трубы полопались, и как раз тогда, когда он здесь проходил. И все это будет списано на несчастные случаи и совпадения.
Мне стало его жаль. А при мысли о том, что я сижу к нему так близко и что у меня дома может сейчас твориться, кровь застыла в жилах.
Я сказал:
— Вы, попросту говоря, «дурной глаз».
Он откинул голову назад и посмотрел на меня сверху вниз:
— «Дурной глаз» — выражение суеверных старух. «Телеклутц» — научный термин.
— А предположим, что я смогу снять с вас это проклятие, как бы его ни называть?
— Проклятие — точное слово, — серьезно ответил Менандер. — Я часто представлял себе, что злая фея, рассердившись, что ее не позвали на крестины… Вы что, пытаетесь мне объяснить, что вы — добрая фея и можете снимать проклятия?
— Я ни в каком смысле не фея, — твердо оборвал я его. — Просто допустим, что я мог бы избавить вас от этого про… этого состояния.
— Каким, черт побери, образом?
— Достаточно чертовским. Так как?
— А что вам с этого будет? — подозрительно спросил он.
— Моральное удовлетворение от того, что помог другу избавиться от такого кошмара.
Менандер секунду подумал и энергично помотал головой:
— Этого мало.
— Конечно, если вы собираетесь предложить мне какую-то сумму…
— Никогда! Такого оскорбления я вам не нанесу. Другу предложить деньги? Разменять дружбу на зеленые? За кого вы меня принимаете, Джордж? Я имел в виду, что мало избавить меня от телеклутцизма. Вы должны сделать больше.
— А что можно еще сделать?
— Смотрите сами. Всю жизнь на мою совесть ложились жертвы всяких бедствий — от неприятностей до катастроф — миллионы, быть может, невинных жертв. Даже если с этой минуты я не принесу никому зла — хотя и раньше я по своей воле никому ничего плохого не делал, и моей виной это никак нельзя назвать — эти жертвы для меня такое бремя, которое я не могу снести. Мне нужно что-то, что меня от него избавит.
— Например, что?
— Например, мне должен представиться случай спасти человечество.
— Что?
— А чем еще можно искупить тот невообразимый вред, что я принес? Я настаиваю, Джордж. Если вы снимете мое проклятие, замените его способностью спасти человечество.
— Не уверен, что у меня получится.
— А вы попробуйте, Джордж. Не смущайтесь задачей. Я всегда говорил: если что-то делаешь, сделай как можно лучше. И подумайте о человечестве, мой старый друг.
— Погодите, — сказал я, несколько встревоженный, — вы же все перекладываете на мои плечи.
— Конечно, Джордж, — с душевной теплотой произнес Менандер. — Широкие плечи! Добрые плечи! Они созданы для бремени людского. Давайте, Джордж, по домам и снимите с меня проклятие. И благодарное человечество засыпало бы вас благословениями, но оно, увы, об этом не узнает, потому что я никому не скажу. Ибо стыдно выставлять напоказ добрые деяния, и вы можете положиться на меня, Джордж, — уж я-то не выставлю.
Как все-таки удивительна самозабвенная дружба, и ничто на земле не может с ней сравниться. Я тут же встал и вышел из ресторана так поспешно, что даже забыл оплатить свою половину обеда. К счастью, Менандер этого не заметил, пока я не ушел подальше от ресторана. Мне не сразу удалось вступить в контакт с Азазелом, а когда я до него дозвался, у него, похоже, не было настроения. Он был завернут в розоватое сияние и вопил, как свисток от чайника:
— Тебе не приходит в голову, что я могу пойти под душ?
И в самом деле, от него здорово несло нашатырным спиртом.
Я смиренно произнес:
— У нас невообразимо срочное дело, о Могущественный-Для-Прославления-Коего-Недостаточно-Слов.
— Говори тогда, только не вздумай мямлить целый день.
— Ни за что, — сказал я и с блестящей четкостью обрисовал ситуацию.
— Хм-м, — сказал Азазел. — Хоть раз в жизни получил от тебя интересную задачку.
— В самом деле? Ты имеешь в виду, что телеклутцизм существует?
— Конечно. Понимаешь, квантовая механика утверждает, что свойства Вселенной до некоторой степени зависят от наблюдателя. Точно так же, как Вселенная оказывает влияние на наблюдателя, так и он, в свою очередь, влияет на Вселенную. И некоторые наблюдатели на Вселенную влияют неблагоприятно — или, по крайней мере, неблагоприятно, с точки зрения других наблюдателей. Например, какой-то наблюдатель может ускорить взрыв сверхновой, и это может вызвать раздражение у тех наблюдателей, которые окажутся от нее в неуютной близости.
— Понял. Так можешь ли ты помочь моему другу Менандеру и снять с него эти квантово-наблюдательные эффекты?
— Это-то просто! Десять секунд — и я смогу вернуться под душ и потом на церемонию ласкорати, которую мы решили провести с двумя невообразимо прекрасными самини.
— Постой, погоди! Этого мало.
— Не дури. Две самини — этого вот так хватит. Только последнему развратнику может понадобиться три.
— Я имею в виду — мало убрать телеклутцизм. Менандеру нужно еще оказаться спасителем человечества.
Примерно минуту я думал, что Азазел собирается забыть нашу старую дружбу и все, что я для него сделал, стараясь снабжать его задачами, укрепляющими силу его мозга и волшебные способности. Я не все понял, что он сказал, поскольку большинство слов было на его родном языке, но на слух они больше всего напоминали распиловку в пилораме утыканной ржавыми гвоздями доски.
Остыв от белого каления до темно-вишневого, он спросил:
— И как это планируется сделать?
— Неужто это так трудно для Апостола Невероятного?
— Еще бы! Однако давай посмотрим. — Он на секунду задумался, а потом взорвался: — Да кому во всем мире понадобилось спасать человечество? Какой в этом смысл? Вы же провоняли целиком весь сектор… Ладно, сделаю.
Это заняло не десять секунд. Понадобился час и еще довольно противные полчаса, и Азазел все время хныкал и гадал, станут ли самини его ждать. Наконец он закончил, и я решил, что надо проверить, как поживает Менандер Блок.
Встретившись с ним, я сказал.
— Вы излечены.
Он посмотрел на меня с нескрываемой враждебностью:
— Вы знаете, что в тот вечер вы свалили на меня весь счет за обед?
— Это все же мелочь по сравнению с тем, что вас излечили.
— Я этого не чувствую.
— Ладно, поехали. Проедемся немножко на машине. Вы сядете за руль.
— Так уже облачно. Ничего себе исцелен!
— Поехали! Что мы теряем?
Он вывел из гаража свой автомобиль. На другой стороне улицы прохожий благополучно не споткнулся о полный мусорный бак. Менандер поехал по улице. При его приближении светофор не переключился на красный, и два сближавшихся на перекрестке автомобиля миновали друг друга на безопасном расстоянии.
Когда он доехал до моста, облака почти разошлись, и машину осветило солнце.
Подъезжая к дому, он плакал и не стыдился слез, так что мне пришлось поставить машину вместо него. Я ее малость при этом поцарапал, но ведь не меня же лечили от телеклутцизма. И вообще, могло быть хуже — например, я бы поцарапал свою машину.
Несколько дней он от меня не отходил. В конце концов, я единственный знал, какое чудо с ним случилось.
Он все повторял:
— Я пошел на танцы, и никто никому не наступил на ногу, и никто не упал и не сломал шею или пару ног. Я вальсировал, как эльф, и моя партнерша не жаловалась на тошноту, хотя и съела довольно-таки много.
Или что-то вроде:
— Сегодня на работе ставили новый кондиционер, и никто из рабочих не уронил его себе на ноги и не стал навсегда калекой.
Или даже:
— Я тут навестил приятеля в больнице, о чем раньше и мечтать не мог, и ни в одной палате, мимо которой я проходил, ни одна иголка не выскочила из вены ни у одного больного. И ни одна сестра не промахнулась мимо цели, делая внутримышечные инъекции.
А иногда он меня спрашивал:
— Вы уверены, что у меня будет шанс спасти человечество?
— Абсолютно уверен, — отвечал я. — Это часть курса лечения.
Но однажды он пришел ко мне и скорчил гримасу.
— Послушайте, — сказал он. — Я тут был в банке, хотел узнать, сколько у меня на счете, — там чуть поменьше, чем должно быть — из-за этой вашей манеры убегать из ресторана до подачи счета. Но я не смог получить ответ, потому что у них засбоил компьютер, как только я вошел. Никто ничего понять не мог. Это что, лечение кончается?
— Не может быть, — сказал я. — Это, скорее всего, к вам отношения не имеет. Может быть, другой телеклутц, которого не лечили. Может быть, он вошел одновременно с вами.
Но я был не прав. Банковский компьютер ломался еще два раза, и оба раза тогда, когда Менандер пытался выяснить состояние своего счета. (Его нервозность по поводу мелких сумм, на которые я и внимания не обратил бы, для взрослого мужчины просто отвратительна.) Когда же полетел компьютер у него в фирме в момент его прихода, то состояние, в котором он ко мне явился, можно было назвать только паникой.
— Это вернулось, Джордж! Это вернулось! И на этот раз я не выдержу! Я привык к тому, что нормален, и к старому вернуться не смогу. Я должен себя убить.
— Нет, Менандер, нет. Это было бы уж слишком. Он подавил уже готовый сорваться всхлип и обдумал мое глубокомысленное замечание.
— Вы правы. Это и в самом деле уж слишком. Лучше я вас убью. В конце концов, скучать никто не будет, а мне полегчает.
Я понимал его точку зрения, но сам смотрел шире.
— Прежде чем вы на что-нибудь решитесь, — начал я, — дайте я попробую разобраться, что случилось. Терпение, Менандер. В конце концов, все это случается только с компьютерами, а кому какое дело до компьютеров? Да гори они огнем!
Я быстро вышел, чтобы он не успел меня спросить, как же ему теперь проверить свой счет в банке, если компьютер при его появлении отказывается работать. По поводу счета у него вообще был пунктик.
А у Азазела пунктик был другой. Похоже было, что он занялся этими самини всерьез, и, когда явился, все еще вертел сальто. До сих пор не понимаю, какое отношение имеет к этому сальто.
По-прежнему в раздражении, он все же объяснил мне, что произошло, и теперь я был в состоянии объяснить это Менандеру.
По моему настоянию мы с ним встретились в парке. Я специально выбрал очень людное место на тот случай, если он потеряет голову в переносном смысле и у меня возникнет шанс потерять ее в прямом. Я сказал:
— Менандер, ваш телеклутцизм еще действует, но только на компьютеры. Только на компьютеры. Это говорю вам я. В отношении всего остального вы излечены — навсегда.
— Ну так вылечите меня и от воздействия на компьютеры.
— А вот это, Менандер, и не получается. Для компьютеров вы — телеклутц на веки вечные. — Последние слова я почти прошептал, но он услышал.
— Это еще почему? Ах ты волосатомозглая, неправдоподобная, всеклутцистическая задница поносного двугорбого верблюда!
— Такое нагромождение свойств делает определение бессмысленным. Поймите, Менандер, что это случилось только из-за вашего желания спасти мир.
— Не понимаю. Попробуйте объяснить. У вас пятнадцать секунд.
— Будьте же разумны! Над человечеством нависла опасность компьютерного взрыва. Компьютеры становятся универсальнее, способнее, разумнее. Люди все более и более от них зависят.
Уже возможно создание компьютера, который будет контролировать весь мир и не оставит человечеству никакой работы. И он вполне может решить избавиться от человечества как от ненужного придатка. Мы, конечно, утешаем себя тем, что всегда можем «выдернуть вилку», но вы же понимаете, что сделать этого не удастся. Компьютер, достаточно умный, чтобы управлять миром, будет достаточно умен, чтобы защитить свою вилку — например, найти собственный источник электроэнергии. Это неизбежно, и такова судьба человечества. И здесь, мой друг, на сцене появляетесь вы. Вас ставят перед этим компьютером, или вы просто дистанционно вступаете с ним в контакт, и он тут же ломается, и человечество спасено. Человечество спасено! Подумайте — вы же этого хотели!
Менандер подумал. Но он не казался особенно счастливым.
— Но ведь пока что я не могу подойти к компьютеру.
— Дело в том, что компьютер-клутцизм должен быть закрепленным и постоянным — только тогда есть уверенность, что он проявится в нужное время и в нужном месте и что компьютер не сможет как-нибудь защититься. Это цена за тот великий дар спасительства, о котором вы просили и за который будут вас чтить все будущие века и народы.
— В самом деле? — спросил он. — А когда же это будет?
— Как говорит Азазел… мой источник информации, — сказал я, — где-то через шестьдесят лет или около того. Но посмотрите с другой точки зрения: вы теперь точно знаете, что доживете по крайней мере до девяноста.
— А тем временем, — Менандер повысил голос, и на нас стали оборачиваться, — тем временем мир все больше и больше компьютеризируется, и все больше и больше появляется мест, куда я и подойти не смогу. И все больше и больше вещей станут мне недоступны, и я буду как в тюрьме, которую сам себе построил…
— Но в конце концов спасете человечество! Вы же именно этого хотели!
— К чертям человечество! — заорал Менандер и бросился на меня. Мне удалось вырваться, но только потому, что беднягу скрутили те, кто стоял вокруг.
Сейчас он лечится у психоаналитика крайне фрейдистской ориентации.
Это ему обходится в целое состояние, но пользы, как вы понимаете, никакой. Закончив свой рассказ, Джордж заглянул в пивную кружку (я знал, что платить за пиво буду я). Он сказал:
— У этой истории есть мораль.
— Какая?
— Очень простая: люди неблагодарны!
Дело принципа
Джордж меланхолично уставился в стакан с моей выпивкой (моей в том смысле, что не было сомнений, кто будет за нее платить) и произнес:
— То, что я сегодня беден, — это просто дело принципа. — Он глубоко, тяжело вздохнул и добавил: — Я должен извиниться за употребление термина, с которым вы абсолютно незнакомы, если не считать титула «принцепс», носимого директором средней школы, чуть было вами не оконченной. Что же касается меня, то я — человек принципа.
— Да неужто? — заметил я. — Тогда, наверное, вы получили эту черту характера от Азазела всего-то минуты две назад, потому что никогда раньше никто не замечал за вами никаких ее проявлений.
Джордж посмотрел на меня уничтожающим взглядом. Азазел — это двухсантиметровый демон, который владеет ошеломительной волшебной силой и которым только Джордж может свободно повелевать.
— Вообразить не могу, где вы слышали об Азазеле.
— И для меня это тоже полнейшая тайна, — согласился я — или была бы, если бы он не был единственной темой ваших монологов, сколько я вас знаю.
— Не говорите глупостей! — сказал Джордж. — Я никогда о нем не упоминал.
Вот и Готлиб Джонс (так говорил Джордж) тоже был человеком принципа. Вы можете сказать, что это абсолютно исключено при его профессии оформителя рекламных объявлений, но кто видел, как он преодолевает свое порочное призвание благородством чувств, тот согласится, что не было зрелища прекраснее.
— Джордж, — говаривал он мне за гамбургером с жареной картошкой, — для описания того, как ужасна моя работа, не подберешь слов, и неописуемо мое отчаяние, когда я должен найти способ убедить людей покупать товары, о которых каждый мой инстинкт кричит, что человечеству будет гораздо лучше без них. Вот только вчера я должен был продавать новый репеллент от насекомых, который по результатам испытания заставлял комаров издавать ультразвуковые сигналы восторга, так что они слетались за много миль вокруг. Пришлось мне вот что написать: «Неча комаров кормить — надо их навскидку бить!»
— Навскидку? — повторил я, содрогнувшись.
Готлиб закрыл глаза рукой. Он бы закрыл и двумя, да как раз в это время препровождал в рот приличную порцию картошки.
— Джордж, я вынужден жить с этим позором, но рано или поздно мне придется эту работу бросить. Из-за нее я нарушаю свои принципы бизнесмена и писателя, а я — человек принципа.
— Эта работа приносит пятьдесят тысяч в год, а у вас — молодая красивая жена и ребенок, которых надо кормить.
— Деньги, — злобно сказал Готлиб, — это мусор! Бесполезная вещь, за которую человек продает душу свою! Я брошу это, Джордж, я с омерзением отшвырну от себя эту работу, я с ней ничего общего иметь не буду.
— Готлиб, вы, разумеется, ничего подобного не сделаете. Ведь ваша зарплата вам не противна, нет?
Должен признать, что меня крайне взволновала мысль о нищем Готлибе и тех бесчисленных совместных завтраках, которые его добродетельная стойкость уже не позволит ему оплачивать.
— Нет, увы, не противна. Моя дорогая супруга Мэрилин имеет огорчительную привычку жаловаться на недостаток денег во время разговоров чисто интеллектуального характера, не говоря уже о небрежных упоминаниях тех необдуманных покупок, которые она совершает в магазинах одежды и мебели. А что до Готлиба младшего, которому сейчас от роду шесть месяцев, то я не думаю, чтобы он был готов воспринять мысль о полной ненужности денег, хотя — надо отдать ему справедливость — он никогда их у меня не просил.
Он вздохнул, и я вместе с ним. Я часто слыхал о неуступчивой природе жен и детей там, где дело касается денег, и это одна из главных причин, почему я ни разу не связал себя обязательствами за всю свою долгую жизнь, хотя при моем неотразимом обаянии женщины за мной охотились стаями.
Готлиб нечаянно прервал цепь приятных реминисценций, в которую я незаметно для самого себя углубился, сказав:
— Джордж, вы знаете мою тайную мечту?
Глаза у него стали такие масляные — я было испугался, что он прочел мои мысли. Он, однако, добавил:
— Я хочу писать романы, хочу обнажить такие глубины человеческой души, чтобы люди содрогнулись от ужаса и одновременно — восторга, чтобы имя мое было написано несмываемыми буквами в истории классической литературы и чтобы из поколения в поколение пошло оно рядом с такими именами, как Эсхил, Шекспир и Эллисон.
Мы закончили завтрак, и я напрягся в ожидании счета, пытаясь точно определить момент, когда надо будет внезапно отвлечься. Официант же, оценив ситуацию с неотделимой от его профессии проницательностью, подал счет Готлибу.
Напряжение меня отпустило, и я сказал:
— Дорогой мой Готлиб, давайте рассмотрим возможные последствия — они могут быть ужасны. Я вот недавно читал в одной солидной газете, которая оказалась в руках у стоящего рядом со мной джентльмена, что в Соединенных Штатах тридцать пять тысяч печатающихся писателей. Из них только семьсот зарабатывают себе на жизнь своим искусством, и пятьдесят — всего пятьдесят, мой друг, — богаты. Ваше же теперешнее жалованье…
— Ха! — сказал Готлиб. — Какая мне разница, будут у меня деньги или нет, если мне достанется бессмертие и бесценный дар вдохновения и памяти потомков. Да я легко переживу, если Мэрилин пойдет работать официанткой или водить автобус. Я просто уверен, что она была бы — или должна была бы быть — счастлива, работая днем и возясь с Готлибом младшим ночью, чтобы мое творчество могло развернуться во всю мочь. Вот только… — Он запнулся.
— Только — что? — ободрил я его.
— Даже не знаю, как это сказать, Джордж, — выговорил он, и в голосе его прозвучала горькая нотка, — но есть одно препятствие. Я не уверен в том, что я смогу. У меня в мозгу теснятся идеи потрясающей глубины. Через мое сознание все время проходят какие-то сценки, диалоги, потрясающие жизненные ситуации и коллизии. Но мне изменяет совершенно второстепенное умение облечь все это в должные слова. Это получается у любого неграмотного бумагомараки, вроде вот этого вашего приятеля с чудным именем, и тогда книги пекутся сотнями, как пирожки, но я не могу понять, в чем здесь фокус.
(Очевидно, мой друг, он имел в виду вас, поскольку фраза «неграмотный бумагомарака» была очень уж к месту. Я бы за вас вступился, да уж больно безнадежной была бы эта позиция.)
— Наверное, — сказал я, — вы просто не пробовали как следует.
— Это я не пробовал? Да я целые сотни листов исписал, и на каждом был первый абзац блестящего романа — первый абзац, и все. Сотни и сотни первых абзацев для сотен и сотен разных романов. И в каждом случае я затыкался на втором абзаце.
Тут меня осенила блестящая идея, чему я не удивился. У меня в мозгу блестящие идеи возникают постоянно.
— Готлиб, — сказал я ему. — Я могу вам помочь. Я вас сделаю романистом. Я сделаю вас богатым.
Он посмотрел на меня с неприятным недоумением.
— Вы? — сказал он, вложив в это местоимение самый непочтительный смысл.
Мы уже встали и вышли из ресторана. Я заметил, что он не оставил чаевых, но посчитал, что с моей стороны было бы неправильно об этом упоминать, чтобы он не подумал, будто я таким вещам придаю значение.
— Друг мой, — сказал я. — Мне известен секрет второго абзаца, а это значит, что я могу сделать вас богатым и знаменитым.
— Ха! И что же это за секрет?
Я деликатно ответил (и вот она, моя блестящая идея):
— Готлиб, работник стоит тех денег, за которые он нанят.
Готлиб хохотнул:
— Я в вас настолько верю, Джордж, что без опасения могу пообещать: если вы сделаете меня богатым и знаменитым романистом, вы получите половину моего заработка — разумеется, за вычетом производственных издержек.
Я еще деликатнее сказал:
— Готлиб, я знаю, что вы — человек принципа и одно ваше слово скрепит соглашение сильнее цепей из лучшей стали, но просто для смеха — хе-хе — не согласитесь ли вы заявить это же в письменной форме и, чтобы еще смешнее было, заверить — ха-ха — у нотариуса? И каждый из нас возьмет по экземпляру.
Вся эта операция заняла где-то полчаса, поскольку нотариус была еще и машинисткой и моей доброй знакомой.
Мой экземпляр драгоценного документа я положил в бумажник и сказал:
— Сейчас, немедленно, я не могу открыть вам этот секрет, но как только я организую все, что для этого необходимо, я дам вам знать. Тогда вы можете попробовать написать роман и увидите, что никаких затруднений со вторым — или тысячу вторым — абзацем у вас не будет. Само собой, вы мне ничего не должны до тех пор, пока не получите первый аванс, и очень крупный.
— Уж в этом можете не сомневаться, — мерзким голосом заметил Готлиб.
Я вызвал Азазела в тот же вечер. Он ростом всего два сантиметра, и в его мире на него никто и не посмотрит. Это единственная причина, из-за чего он согласен мне помогать разными простенькими способами. Он тогда чувствует себя значительным.
Мне никогда не удавалось его убедить сделать что-нибудь прямо ведущее к моему обогащению. Он сразу начинает твердить о недопустимости коммерциализации искусства. И его нельзя убедить и в том, что все сделанное им для меня будет использовано не в эгоистических видах, а лишь на благо человечества. Когда я ему это изложил, он издал какой-то звук, смысла которого я не понял, да еще и объяснил, что подцепил его у одного уроженца Бронкса.
Вот по этой самой причине я и не стал ему рассказывать о нашем с Готлибом соглашении. Хотя не Азазел сделает меня богатым, а Готлиб — после того как его сделает богатым Азазел, я решил не вдаваться с ним с обсуждение таких нюансов.
Азазел, как всегда, был раздражен вызовом. У него на крошечной головке было какое-то украшение, похожее на широкий лист морской травы, и, по его словам, можно было понять, что я его вызвал в середине академической церемонии, где он был героем чествования. Как я уже говорил, он там у себя мелкая сошка, и потому он придает слишком много значения подобным событиям, так что на язвительные комментарии не поскупился.
Я отмел его возражения.
— Ты, в конце концов, — сказал я ему, — можешь сделать ту малость, что я тебя прошу, и вернуться в то же самое время, когда исчез. Никто и не заметит.
Он возмущенно хрюкнул, но вынужден был признать мою правоту, так что даже сверкнул миниатюрной молнией.
— Так чего тебе надо? — спросил он. Я объяснил.
Азазел уточнил:
— Его профессия — это передача идей, да? Перевод идей в слова, как у этого твоего приятеля с причудливым именем?
— Совершенно верно, и он хотел бы повысить свою эффективность, чтобы доставить удовольствие тем читателям и добиться признания — ну и богатства тоже, хотя оно ему нужно лишь как материальное свидетельство признания, а не ради самих денег.
— Понимаю. У нас в нашем мире тоже есть словоделы, которые все вместе и каждый в отдельности ценят только признание и никогда не примут самой малой суммы, если она не служит материальным свидетельством признания.
Я снисходительно рассмеялся:
— Профессиональная слабость. Мы с тобой, к нашему счастью, выше этого.
— Ладно, — сказал Азазел. — Я не могу тут торчать до Нового года, а то трудно будет вернуться в нужный момент. Этот твой друг — в пределах мысленной досягаемости?
Найти его оказалось непросто, хотя я показал на карте расположение его рекламной фирмы и со своим обычным красноречием дал точную характеристику объекта, но сейчас не хочу утомлять вас подробностями. В конце концов Готлиба нашли, и Азазел после коротенького обследования сказал:
— Необычный разум, довольно частый среди образчиков твоего не слишком привлекательного вида. Гибкий, но притом довольно ломкий. Схема словоделания есть, но она вся в узлах и наносах, так что его трудности неудивительны. Снять препятствия мне ничего не стоит, но это может привести к умственной неустойчивости. Скорее всего, при аккуратной работе этого не случится, но всегда есть шанс. Ты думаешь, он бы сам рискнул?
— Несомненно! — воскликнул я. — Он нацелен на славу и служение искусству. Он бы рискнул без колебаний.
— Это так, но ведь ты, как я понял, его преданный друг. Он может быть ослеплен амбициями и жаждой творить добро, но ты видишь яснее. Ты хотел бы, чтобы он попробовал?
— Моя единственная цель — это его счастье и благо. Вперед, и постарайся работать так аккуратно, как сможешь. А если что-нибудь случится не так — мы хотели как лучше. (А если все будет в порядке, то половина всего финансового успеха будет моя.)
И так это и свершилось. Азазел, как всегда, притворился, что ему невесть как трудно, и потом долго лежал, поводя боками и бормоча насчет неразумных требований, но я предложил ему подумать о счастье миллионов людей и попросил несколько уменьшить собственное себялюбие.
Устыженный моими справедливыми словами, он нашел в себе силы отправиться на завершение той церемонийки в его честь, которая тем временем шла своим чередом.
Готлиба Джонса я нашел где-то через неделю. Раньше я не пытался, считая, что ему понадобится какое-то время на освоение новых мозгов. Ну, и еще я хотел подождать и косвенным путем навести справки, не повредила ли ему переделка. Если бы это было так, то совершенно незачем было бы с ним встречаться. Моя утрата — и, конечно, его тоже — сильно омрачила бы такую встречу.
Но я о нем ничего настораживающего не узнал, и он определенно выглядел вполне нормальным, когда я увидел его на выходе из здания той компании, где он работал. Мне сразу бросилось в глаза, что он был несколько меланхоличен. Значения этому я не придал, поскольку из опыта общения с писателями сделал вывод, что это у них профессиональное. Может быть, от постоянного контакта с редакторами.
— А, Джордж, — сказал он тусклым голосом.
— Готлиб, — ответил я, — до чего же я рад вас видеть. Вы сегодня прекрасно выглядите. (На самом деле он, как и все писатели, выглядел омерзительно, но великое дело — вежливость.) Вы не пытались писать последнее время?
— Нет, не пробовал. — И тут, как будто внезапно припомнив, он сказал: — А что? Вы готовы поделиться со мной секретом второго абзаца?
Мне было приятно, что он помнит, ибо это указывало на сохранение прежней остроты его ума. Я ответил:
— Милый мой, все уже сделано. Я ничего не должен вам объяснять, у меня более тонкие методы. Идите домой и садитесь за машинку: вы увидите, что пишете, как бог. Будьте уверены, все ваши горести позади, и романы потекут с вашей машинки гладкой струйкой. Напишите две главы и план остального романа, и я уверен, что любой издатель взвизгнет от восторга и тут же выпишет солидный чек, из которого каждый цент будет наполовину ваш.
— Ха! — фыркнул Готлиб.
— Смею вас заверить, — сказал я, прижимая руку к сердцу (а оно у меня, как вы знаете, настолько большое, что могло бы, говоря фигурально, занять всю грудную полость), по совести говоря, я чувствую, вы могли бы абсолютно спокойно бросить эту свою мерзкую работу, чтобы она никак не марала чистейший материал, выходящий из вашей машинки. Вы только попробуйте, Готлиб, и увидите, что я свою половину более чем заработал.
— Вы что, уговариваете меня бросить работу?
— Именно так!
— Я не могу.
— Можете, можете. Бросьте вы свою презренную должность. Оставьте эти оглупляющие вас занятия коммерческим надувательством.
— Да я же вам говорю, что не могу. Меня только что уволили.
— Вас?
— Совершенно верно. И притом после возмутительной критики, да еще выраженной таким образом, которого я никогда не прощу и не собираюсь прощать.
Он направился к маленькой недорогой забегаловке, где мы обычно обедали.
Я спросил его:
— А что случилось?
Уныло прожевывая бутерброд с говядиной, он объяснил.
— Я писал рекламу для освежителя воздуха, и меня вдруг поразила ее какая-то жеманность. Ничего крепче слова «запах» нельзя использовать. И мне захотелось высказаться от души. Уж если мы должны рекламировать такой мусор, так можно хоть сделать это как следует. И на моем экземпляре, прямо поверх всех этих розочек, духов и незабудок, я в заголовке написал: «Зловонье — в шею», а внизу крупными буквами: «ВОНЬ ГОНИ ВОН!» и отправил в типографию, не озаботившись дальнейшими консультациями. А потом, естественно, подумал: «А почему бы и нет» и отправил боссу докладную записку. С ним случился припадок прямо в кабинете, и вопил он очень громко. Вызвав меня тут же, он мне объявил, что я уволен, и добавил несколько таких слов, которые вряд ли всосал с молоком матери — разве что у него была достаточно оригинальная матушка. И вот я без работы.
Он метнул на меня враждебный взгляд исподлобья:
— Сейчас вы скажете, что это ваша работа.
— Конечно. Вы подсознательно чувствовали, что поступаете правильно. Вы намеренно подставили себя под увольнение, чтобы всю оставшуюся жизнь служить искусству. Готлиб, друг мой, идите сейчас домой. Пишите роман и не соглашайтесь на аванс меньше ста тысяч долларов. Производственные издержки не стоят разговора — всего несколько пенни на бумагу, так что и вычитать из моих пятидесяти тысяч ничего не придется.
— Вы сумасшедший, — сказал он.
— Я убежденный, — возразил я. — И в доказательство я плачу за завтрак.
— Вы таки сумасшедший, — повторил он дрогнувшим от удивления и ужаса голосом и на самом деле дал мне заплатить по счету, хотя не мог не понимать, что мое предложение было всего лишь риторической фигурой.
На следующий вечер я ему позвонил. Конечно, следовало бы подождать еще. Не надо было его торопить. Но я сделал в него кое-какую инвестицию — завтрак обошелся мне в одиннадцать долларов, не говоря уже о четвертаке на чай, — и я беспокоился о судьбе своих вложений. Это, я думаю, понятно.
— Готлиб, — спросил я, — как подвигается роман?
— Нормально, — сказал он отсутствующим голосом. — Я уже отстучал двадцать страниц, и выходит отлично.
Тем не менее голос его звучал так, как будто все это его не интересует. Я спросил:
— Так чего же вы не прыгаете от радости?
— Насчет романа? Не говорите глупостей. Мне позвонили Файнберг, Зальтцберг и Розенберг.
— Ваша рекламная фирма? То есть бывшая ваша?
— Да, они. Не все сразу, конечно, звонил мистер Файнберг. Он хочет, чтобы я вернулся.
— Надеюсь, Готлиб, вы им сказали, как вы теперь далеки…
Он меня прервал:
— Оказывается, заказчик объявления насчет освежителя пришел в экстаз от моего экземпляра. Они хотят организовать целую рекламную кампанию как в печати, так и на телевидении и хотят, чтобы ее организовал автор самого первого объявления. По их мнению, я проявил смелость, решительность и полное понимание духа рекламы восьмидесятых. Они и дальше хотят иметь рекламу такой же силы, а для этого им нужен я. Конечно, я обещал подумать.
— Готлиб, это ошибка.
— Я им должен врезать как следует. Я не забыл те эпитеты, с которыми старый Файнберг выбросил меня на улицу — несколько слов на идише.
— Готлиб, деньги — это мусор.
— Верно, Джордж, но я хочу знать, о скольких баках мусора идет речь.
Я не слишком обеспокоился. Я знал, как необходимость писать рекламные тексты травмирует чувствительную душу Готлиба и с каким облегчением вернется он к своему роману. Надо было только подождать — и (как гласит золотая пословица) природа возьмет свое.
Но реклама освежителя вышла в свет и произвела фурор. Фраза «вонь гони вон!» была на слуху у всей американской молодежи, и каждое ее повторение волей-неволей рекламировало продукт.
Вы, наверное, и сами это помните — да что я говорю, конечно, помните, поскольку в тех изданиях, для которых вы пытаетесь писать, сформулированные с помощью этой фразы отказы стали неотъемлемым атрибутом, и вы не раз должны были испытать это на себе. Появилась и не менее успешная другая реклама того же сорта. И тогда я вдруг понял. Азазел дал Готлибу ум такого рода, что способен поражать людей своими сочинениями, но так как он (Азазел) мелкая сошка, он не мог настроить разум только на романы. Да он, Азазел, и вообще мог не знать, что такое роман.
Ладно, разве это было существенно?
Не могу сказать, что Готлиб был очень доволен, придя домой и увидев у дверей меня, но все же он не настолько потерял стыд, чтобы не предложить мне зайти. Я даже с удовлетворением заметил, что он не мог не предложить мне пообедать, но постарался (как я понимаю) испортить мне удовольствие, заставив довольно долго держать на руках Готлиба младшего.
Не хотел бы я повторить такой опыт.
После обеда, когда мы остались в столовой одни, я спросил его:
— И как много мусора вы теперь зарабатываете?
Он взглянул на меня с укоризной:
— Не говорите «мусор», Джордж. Это неуважение. Пятьдесят тысяч в год — это, я согласен, мусор, но сто тысяч плюс очень приличные проценты — это финансовое положение. А кроме того, я собираюсь основать собственную фирму и стать мультимиллионером, то есть выйти на уровень, когда деньги становятся доблестью — или властью, что, конечно, одно и то же. С той властью, которая у меня будет, я выброшу из бизнеса Файнберга. Я ему покажу, как говорить мне такие слова, которые ни один джентльмен не должен себе позволять говорить другому. Кстати, Джордж, вы не знаете значения слова «шмендрик»?
Тут я ему не мог помочь. Говорю я на нескольких языках, но урду в это число не входит.
— Так вы разбогатели.
— И планирую разбогатеть еще.
— Могу ли я в таком случае напомнить вам, Готлиб, что это произошло только в силу моего согласия на ваше богатство, взамен чего вы, в свою очередь, обещали мне половину ваших заработков?
Брови Готлиба взлетели чуть не на середину черепа.
— Вы согласились? Я обещал?
— А вы не помните? Я понимаю, что такие мелочи легко забываются, но мы, к счастью, все это записали, подписали, заверили нотариально и все такое прочее. У меня с собой даже оказалась фотокопия соглашения.
— Хм. Могу я взглянуть?
— Разумеется. Я только должен подчеркнуть, что это всего лишь копия, так что, если вы ее случайно разорвете на клочки при попытке рассмотреть поближе, у меня все равно сохранится оригинал.
— Разумный ход, Джордж, но вы напрасно опасаетесь. Если все так, как вы говорите, то у вас никто не отберет ни грана, ни скрупулы — короче, ни цента ваших денег от вас не отнимут. Я — человек принципа и чту все соглашения до последней буквы.
Я отдал ему фотокопию, и он тщательно ее изучил.
— Ах, это, — сказал он. — Это я помню. Конечно, конечно. Здесь вот только одна маленькая деталь…
— Какая? — спросил я.
— Вот тут сказано, что все это относится к моим заработкам в качестве романиста. Джордж, я не романист.
— Вы же собирались им стать и всегда можете им стать, как только садитесь за машинку.
— Но я больше не собираюсь, Джордж, и не думаю, чтобы еще когда-нибудь сел за пишущую машинку.
— Но ведь великий роман — это бессмертная слава. А что могут принести вам ваши идиотские лозунги?
— Деньги и деньги, Джордж. И большую фирму, у которой я буду единственным владельцем. В ней будут работать тысячи жалких оформителей, саму жизнь которых я буду держать у себя на ладони. У Толстого такое было? Или у Дель Рея?
Я не мог поверить своим ушам.
— И после всего, что я для вас сделал, вы откажете мне в ржавом центе из-за одного только слова в нашем торжественном соглашении?
— Вы сами писать не пробовали, Джордж? Мне бы никогда не удалось описать суть так точно и так кратко. Мои принципы заставляют меня придерживаться точной буквы соглашения, а я — человек принципа.
И с этой позиции сдвинуть его было нечего и думать, и я даже не стал вспоминать о тех одиннадцати долларах, что я тогда заплатил за наш завтрак.
Не говоря уже про двадцать пять центов на чай.
Джордж встал и ушел и был при этом в таком эпическом горе, что у меня язык не повернулся предложить ему сперва заплатить за свою долю выпивки. Спросив счет, я увидел сумму — двадцать два доллара. В восхищении от точного расчета Джорджа, я понял, что мой долг — оставить полдоллара на чай.
О вреде пьянства
— Вред пьянства, — с тяжелым пьяным выдохом сказал Джордж, — измерить невозможно.
— Это доступно лишь трезвому, — поддержал я. Он посмотрел на меня с упреком и возмущением.
— А когда, — спросил он, — когда не был я трезвым?
— Никогда, с тех пор как родились, — сказал я и, чувствуя, что несправедлив, поправился: — С тех пор как вас отлучили от груди.
— Я это воспринимаю, — сказал Джордж, — как одну из ваших неудачных потуг на юмор. — И с отсутствующим видом взял мой стакан, поднес к губам и отхлебнул, а потом опустил на стол, не ослабляя, однако, железной хватки.
Я не стал сопротивляться. Пусть отнимают выпивку у Джорджа те, кто не боится отнимать кость у голодного бульдога.
— Я, — сказал Джордж, — имел в виду не абстрактный вред, а то, что случилось с одной молодой дамой, которую я бескорыстно опекал. Ее звали Иштар Мистик.
— Имя необычное, — заметил я.
— Но очень удачное, потому что Иштар — это имя богини любви у вавилонян, а сама Иштар Мистик как раз и была богиней любви, по крайней мере потенциальной богиней.
Иштар Мистик (рассказывал Джордж) была тем, что человек с врожденной склонностью к недооценке мог бы назвать идеалом женщины. Ее лицо было красивым в том классическом смысле, который подразумевает совершенство каждой черты, и увенчано короной золотых волос, сиявших, как ореол. Ее тело можно было сравнить только с телом Афродиты. Оно было гладко и красиво, как морская волна, и в нем мягко перетекали друг в друга податливость и твердость.
В меру своей испорченности вы начинаете уже строить предположения, откуда я так хорошо знаю тактильные свойства этого объекта, но могу вас заверить, что эти познания — чисто теоретические, основанные на большом опыте общения с подобными объектами и никоим образом не связанные с непосредственными исследованиями в данном конкретном случае.
В строгом закрытом костюме она бы гораздо лучше выглядела на развороте журнала, чем то, что в них можно найти, несмотря на все их претензии на искусство. Тонкая талия, сама узость которой уравновешивалась сверху и снизу настолько удачно, что вообразить себе невозможно — надо было видеть; длинные ноги, грациозные руки, и каждое движение — как музыка танца. И хотя вряд ли найдется столь черствый человек, чтобы от такого физического совершенства потребовать чего-то еще, Иштар обладала живым и обширным умом, закончила Колумбийский университет Magna Cum Laude, хотя, должен сказать, средний университетский профессор, оценивая знания Иштар Мистик, мог бы сделать это лишь с натяжкой. Поскольку вы — также университетский профессор (я не хотел бы задевать ваших чувств), мое невысокое мнение об этой корпорации вполне оправданно.
Из всего этого можно было, казалось бы, сделать вывод, что у нее всегда был большой выбор кавалеров и каждый день она обновляла список за счет новых соискателей. На самом же деле мне приходила иногда в голову мысль, что если бы она выбрала меня, то я бы принял вызов, как рыцарь, из уважения к ее прекрасному полу, но сказать ей об этом я так никогда и не осмелился.
Дело в том, что у Иштар был один маленький недостаток: она была довольно крупной особой. Не слишком, конечно, — сантиметров десяти она до двух метров не дотянула — зато ее голос был похож на призыв трубы, и рассказывали, как она дала окорот здоровенному бродяге, когда он попытался с ней вольничать; она его подняла и бросила через дорогу, довольно широкую, прямо об фонарный столб. Ему пришлось провести в больнице полгода.
Так что местное мужское население было очень осмотрительно насчет авансов — даже самых почтительных — в ее сторону. Непосредственный импульс всегда подавлялся после тщательного рассмотрения вопроса о физической безопасности такого поведения. Вы знаете мою львиную храбрость, но и я иногда прикидывал шансы на перелом костей. Так размышленье нас превращает в трусов, как правильно сказал поэт.
Иштар здраво смотрела на вещи, что не мешало ей горько мне жаловаться. Один такой случай я помню. Это был прекрасный день поздней весны, и мы сидели на скамеечке в Центральном парке. Я помню, как по крайней мере трое выбежавших на зарядку мужиков, глядя на Иштар, один за другим не вписались в поворот и врезались в дерево.
— Похоже, что я на всю жизнь останусь девственной, — пожаловалась Иштар, и ее изысканной формы нижняя губка трогательно вздрогнула. — Мною никто не интересуется, совсем никто. А мне скоро двадцать пять.
— Видишь ли, моя… моя дорогая, — произнес я, осторожно дотрагиваясь до ее руки. — Нынешние молодые люди очень скромны и не чувствуют себя достойными твоих физических совершенств.
— Да это просто смехотворно, — сказала она, чуть повысив голос, и несколько прохожих вдалеке, подпрыгнув, обернулись на нас. — Вы хотите сказать, что они меня просто по-идиотски боятся. Они действительно глупые. Если бы вы видели, какие у них делаются физиономии, когда нас знакомят, как они украдкой разминают пальцы после рукопожатия, и уже сразу ясно, что ничего не выйдет. Они мямлят свое «рад познакомиться» — и быстренько исчезают.
— Их надо ободрять и поощрять, моя милая. На мужчину надо смотреть как на хрупкий цветок, который только и может цвести под солнцем твоей улыбки. Надо дать ему понять, что ты совсем не против его авансов и ни в коем случае не собираешься брать его за шиворот и кидать головой в стенку.
— Этого я никогда не делала! — возмущенно воскликнула она. — Почти совсем никогда. И как, ради всего святого, мне показать ему мою заинтересованность?! Я улыбаюсь, я говорю: «Здравствуйте, как поживаете?», я говорю: «Прекрасная погода, не правда ли?», даже если льет как из ведра.
— Моя дорогая, этого мало. Надо взять его за руку и продеть под свою, его можно потрепать по щечке, погладить по головке, пальчики ему поперебирать. Такие мелочи говорят об определенном интересе, о некоторой с твоей стороны заинтересованности в дружеских объятиях и поцелуях.
Иштар была перепугана.
— Этого я сделать не могу. Просто не могу, и все. Меня так строго воспитывали, что я могу вести себя только респектабельно. Проявлять инициативу должен мужчина, да и то я должна сопротивляться как можно дольше. Так всегда говорила моя мама.
— Ну, Иштар, это надо делать, когда мама не видит.
— Все равно не могу. Я для этого слишком сухая. Вот если бы нашелся человек, который просто подошел бы ко мне…
При этих словах она вспыхнула, как будто от какой-то ассоциации, и ее большая, но красивая рука прижалась к сердцу. Я не совсем к месту подумал, знает ли она, сколько народу могло бы сейчас этой руке позавидовать.
Но слово «сухая» дало мне идею.
— Иштар, дитя мое, — сказал я ей. — Твое спасение — в алкоголе. Есть несколько десятков различных его видов, многие из них приятны на вкус и веселят душу человека. Если ты пригласишь какого-нибудь кавалера на пару грассхоперов, или маргариток, или любых других коктейлей, которые я мог бы тебе назвать, ты увидишь, как быстро исчезнет твоя скованность, да и его тоже. Он осмелеет до такой степени, что начнет делать тебе предложения, которые джентльмен не должен делать леди ни при каких обстоятельствах, а ты осмелеешь до того, что будешь только счастливо хихикать, когда он предложит тебе для продолжения вашего знакомства поехать в отель, где твоя мамочка вас не найдет.
Иштар вздохнула:
— Ах, как это было бы чудесно! Но не выйдет.
— Выйдет, выйдет. Любой нормальный мужчина будет счастлив разделить с тобой выпивку. Если он засомневается, объясни, что ты угощаешь. Тут уж ни один джентльмен не сможет усто…
— Не в этом дело, — перебила она меня. — Дело во мне. Я не могу пить.
Я ни о чем подобном за всю жизнь не слыхал.
— Это просто, дорогая. Надо открыть рот…
— Это я знаю. Пить я могу — в том смысле, что могу проглотить жидкость. Но меня от нее страшно мутит.
— Но не надо пить так много, надо просто…
— Меня начинает мутить от одной рюмки, если только сразу не стошнит. Я много раз пыталась, но не могу выпить больше одной. А потом меня так мутит, что никакого настроения нет для… ни для чего. Это, как я понимаю, дефект метаболизма, хотя мама говорит, что это дар божий, ниспосланный мне для сохранения чистоты в этом порочном мире развратных мужчин, посягающих на мою добродетель.
Тут я, должен признать, чуть не лишился дара слова от одной мысли, что кто-то видит доблесть в проклятии, не дающем человеку насладиться благословением лозы. И сама мысль о такой извращенности укрепила мою решимость и внушила такое безразличие к опасности, что я и в самом деле взял ее за плечо и произнес: — Это, дитя мое, предоставь мне. Я все устрою.
Я точно знал, что надо делать.
Несомненно, я никогда не упоминал при вас моего приятеля Азазела, поскольку я на эту тему очень щепетилен — я вижу, вы хотите возразить, что вы о нем знаете, и, учитывая вашу широко известную репутацию человека, не слишком приверженного к правде (я не желаю вас обидеть), я этому не удивляюсь.
Азазел — это демон, обладающий волшебной силой. Маленький демон. Честно говоря, у него рост всего два сантиметра. Вот он и старается показать, какой он важный и могучий. Поразить, понимаете ли, своей мощью кого-нибудь вроде меня, кого он считает низшим существом. Он, как всегда, откликнулся на мой зов, хотя вы напрасно ожидаете от меня подробностей насчет того, как я его вызываю. Для вашего не очень мощного, мягко говоря, разума (не хочу вас обидеть) задача управлять Азазелом абсолютно непосильна.
Прибыл он в весьма плохом настроении. Очевидно, он смотрел что-то типа спортивного состязания, на исход которого он поставил что-то около ста тысяч закини, и ему, похоже, было не по душе, что он не может следить за результатом. Я напомнил, что деньги — мусор и что его, Азазела, предназначение в этой вселенной — помогать разумным существам в нужде, а не складывать в штабеля какие-то никому не нужные закини, которые он все равно проиграет, даже если выиграет в этот раз, что тоже сомнительно.
Поначалу столь разумные и неопровержимые аргументы никак не успокаивали это жалкое создание с сильно развитыми эгоистическими наклонностями, так что пришлось предложить ему монетку в четверть доллара. Алюминий у них в мире является, я полагаю, средством обмена, и, хотя в мои планы не входит вырабатывать у Азазела привычку к материальному поощрению за те малозначительные услуги, которые он иногда оказывает, я предположил, что четвертак будет для него гораздо больше ста тысяч закини, следовательно, он поймет, что мои дела настолько же важнее его собственных. Как я всегда говорил, сила логики в конце концов свое возьмет.
Я объяснил ему, в чем было дело с Иштар, и он сказал:
— Наконец-то ты разумно ставишь задачу.
— Разумеется, — согласился я. Как вы знаете, я не могу назвать себя неразумным человеком. Просто у меня свои цели и способы.
— Да, — сказал Азазел. — Это твое несчастное насекомое твоего вида не может эффективно перерабатывать алкоголь, и у нее в крови накапливаются промежуточные продукты его обмена, и неприятные ощущения вызываются интоксикацией — очень точное слово, происходящее, как я понял из изучения твоего словаря, от греческого «яд внутри».
Я скривился. Современные греки смешивают, как вы знаете, вино со смолой, а древние смешивали его с водой. Естественно, что они говорят о «яде внутри», если еще до питья сами отравили вино.
Азазел продолжал:
— Необходимо будет только переделать ферментную схему так, чтобы у нее алкоголь быстро и надежно преобразовывался во фрагменты с двойной углеродной связью, — это перекресток метаболических путей, ведущих к жирам, углеводам и белкам, и тогда никакой интоксикации не будет. Алкоголь станет для нее обыкновенной здоровой пищей.
— Азазел, кое-какая интоксикация нам нужна — необходима для появления веселого безразличия к глупым строгостям, всосанным с молоком матери.
Это он понял сразу.
— Да, насчет матерей — это мне понятно. Помню, как моя третья матушка меня учила: «Азазел, никогда не хлопай следоподелательными мембранами в присутствии юной малобы». А как иначе добиться, чтобы она…
Я снова его перебил:
— Так ты можешь организовать минимальную интоксикацию промежуточными продуктами до состояния легкой эйфории?
— Проще простого, — ответил Азазел, и надо сказать, у него был довольно неприятный вид, когда он сцапал монетку, превышавшую в высоту его рост (если ее поставить на ребро).
Только через неделю я смог проверить, что делается с Иштар. Это было в баре одного из городских отелей, который так озарился, когда она вошла, что несколько завсегдатаев были вынуждены надеть темные очки. Она усмехнулась:
— А что мы тут делаем? Вы же знаете, что я пить не могу.
— Это не выпивка, дитя мое, пить мы не будем. Это мятный напиток, и тебе он понравится.
Сговорившись с барменом заранее, я ему мигнул, и он подал грассхопер. Она слегка попробовала и сказала:
— О, это хорошо.
Потом она откинулась назад и дала напитку проскользнуть в горло. Прислушалась к своим ощущениям, провела изящным язычком по не менее изящным губам и спросила:
— А еще можно?
— Ну, конечно, — благородно ответил я. — По крайней мере еще один можно было бы, если бы я не забыл, как дурак, дома свой бумажник…
— Я плачу. У меня денег полно.
Я всегда говорил, что никогда не поднимается красивая женщина до таких высот, как наклоняясь за кошельком к стоящей у ее ног сумке. В таких условиях мы пили без оглядки. По крайней мере она. Еще один грассхопер, потом рюмка водки, двойной виски-сода и еще несколько других, а когда все это было принято, никаких признаков интоксикации у девушки не наблюдалось, хотя улыбка ее опьяняла больше, чем все ею выпитое.
— Мне так хорошо, так тепло, — заявила девушка, — и у меня такая… готовность, если вы правильно меня понимаете.
Я думал, что понимаю, но не хотел спешить с выводами.
— Не думаю, что твоей маме это могло бы понравиться (проверка, проверка и еще раз проверка).
— А при чем здесь моя мама? — сказала она. — Ни при чем. И как она об этом узнает? Никак! — Она испытующе на меня взглянула и вдруг наклонилась ко мне и поднесла мою руку к губам: — Куда мы могли бы пойти?
Вы, мой друг, я полагаю, знаете мой взгляд на такие вещи. Отказывать юной леди, которая столь вежливо просит о мелкой услуге, — это не в моих правилах. Меня воспитали в твердых правилах — всегда и во всем быть джентльменом. Но тут я слегка заколебался.
Во-первых, хотя вы этому вряд ли поверите, мои лучшие дни уже позади — хотя и недалеко, но позади. А чтобы удовлетворить такую женщину, как Иштар, столь юную и сильную, может понадобиться довольно много времени — надеюсь, вы меня понимаете. Далее, если она потом вспомнит, что произошло, и решит, что я воспользовался ее состоянием, то могут быть неприятности. Она девушка импульсивная и может наломать костей раньше, чем я ей что бы то ни было объясню.
Поэтому я предложил пойти ко мне и выбрал кружной путь. Прохладный вечерний ветерок остудил ее разгоряченную головку, и я избежал опасности.
Другие — нет. Не один молодой человек приходил потом ко мне с рассказами об Иштар, потому что, как вы знаете, мое спокойное дружелюбное достоинство располагает людей к откровенности. Этого никогда, к сожалению, не случалось в барах, поскольку те ребята, о которых идет речь, от баров шарахались — по крайней мере какое-то время. Дело в том, что они пытались пить наравне с Иштар — и всегда с плачевным результатом.
— Голову даю на отсечение, — говорил мне один из них, — что у нее потайная трубка изо рта в сорокаведерную бочку где-то под столом, но поймать ее не удалось. Однако это ерунда по сравнению с тем, что было потом.
Бедняга отощал от того ужаса, что довелось ему пережить. Он пытался что-то рассказать, но слов не находил.
— Запросы, ну запросы, — повторял он, дрожа и оглядываясь. — Ненасытная! Ненасытная!
А я радовался, что так удачно избежал такой опасности, которая и молодых парней в расцвете мужских сил еле-еле оставляла в живых.
Как вы понимаете, в это время я с Иштар виделся нечасто. Она была очень занята, но я знал, что она со страшной скоростью потребляет всех доступных мужиков на выданье. Раньше или позже ей придется расширить свой диапазон. Оказалось — раньше.
Однажды утром мы с ней встретились, когда она собиралась в аэропорт. Она была еще более zaftig, чем обычно, более воздушной, как-то заметнее во всех отношениях. На ней никак не сказалась ее бурная жизнь, она только стала больше и лучше.
Из сумки она вытащила бутылку.
— Ром, — сказала она. — Его на Карибском море пьют. Очень такой мягкий и приятный напиток.
— Ты собираешься на Карибское море, дорогая?
— Да, и еще много куда. Наши местные мужчины какие-то нестойкие и слабодушные. Они меня разочаровали, хотя бывали и очень увлекательные моменты. Я вам так благодарна, Джордж, — без вас ничего бы не было. Это началось, когда вы впервые угостили меня мятным напитком. Знаете, просто стыдно, что я с вами ни разу…
— Ну, это чепуха, моя милая. Я ведь не о себе думал, как ты знаешь, а действовал из чисто гуманных соображений.
Она влепила мне в щеку поцелуй, горячий, как серная кислота, и удалилась. Я с видимым облегчением почесал бровь, но поздравил себя с тем, что наконец-то хоть какое-то из предприятий Азазела закончилось удачно, потому что теперь Иштар, будучи финансово независимой благодаря наследству, могла безраздельно наслаждаться алкоголем и мужчинами.
Так я думал.
Но прошло чуть больше года, и я вновь услышал ее голос. Она вернулась из своего путешествия и позвонила мне. Я далеко не сразу ее узнал. Она была в истерике.
— Моя жизнь кончена! — ревела она в трубку. — Даже мама больше меня не любит. Я не могу понять, в чем дело, но виноват ты. Если бы не твой мятный напиток, ничего бы не случилось, я знаю!
— Но что случилось, моя милая? — спросил я, трепеща. Иштар, которая на тебя взъярилась, это не та Иштар, к которой безопасно подходить.
— А ты приезжай. Я тебе покажу.
Любопытство когда-нибудь меня погубит. В этот раз чуть не погубило совсем. Удержаться от поездки к ней на окраину я не смог. Однако я предусмотрительно не закрыл за собой входную дверь. И когда она с мясницким ножом в руках пошла на меня, я повернулся и удрал с такой скоростью, которой и в молодые годы стал бы гордиться. А она, к счастью, из-за своего состояния не могла за мной угнаться.
Вскоре она опять уехала и, насколько мне известно, до сих пор не вернулась. Но я живу в страхе, что однажды это случится. Иштар Мистик не забывает и не прощает.
Очевидно, Джордж считал свою историю законченной.
— Но что произошло? — спросил я.
— Вы не понимаете? Ее биохимию Азазел перестроил так, что алкоголь эффективно перерабатывался во фрагменты из двух атомов углерода с двойной связью, а это — кирпичи для строительства жиров, углеводов и белков. Алкоголь стал для нее нормальной пищей. Пила же она, как двухметровый насос, — неимоверно. Все это превращалось в двухуглеродные фрагменты, а потом — в жир. Одним словом — разжирела, двумя словами — как бочка. Вся эта горделивая красота скрылась под слоями и слоями сала. Джордж встряхнул головой, Оттоняя ужасные воспоминания и бесполезные сожаления, и повторил:
— Вред пьянства измерить невозможно.
Время писать
— Я знавал одного человека, слегка похожего на вас, — сказал Джордж.
Он сидел у окна в ресторанчике, где мы с ним обедали, и задумчиво в это окно смотрел.
— Удивительно, — сказал я. — Я-то думал, что я один такой.
— Так и есть, — подтвердил Джордж. — Этот человек был только слегка на вас похож. Что же касается умения царапать, царапать и царапать бумагу без малейшего участия мозга — здесь вы недосягаемы.
— На самом-то деле я пользуюсь текст-процессором, — заметил я.
— Употребленное мной выражение «царапать бумагу» — это то, что настоящий писатель понял бы как метафору. — Он оторвался от своего шоколадного мусса и тяжело вздохнул. Вздох был мне знаком.
— Вы собираетесь опять пуститься в полет фантазии по поводу Азазела, Джордж?
— Вы так часто и неуклюже фантазируете сами, что потеряли способность воспринимать правду, когда она вам в уши гремит. Но не беспокойтесь, слишком эта история печальна, чтобы еще и вам ее рассказывать.
— Но вы все равно собираетесь ее рассказать, правда ведь, Джордж?
Он снова вздохнул.
Вон та автобусная остановка (говорил Джордж) напоминает мне про Мордехая Симса, который зарабатывал себе на скромную жизнь, заполняя бесконечные листы бумаги разнообразной ерундой. Конечно, не столько, сколько вы, и не такой ерундой, потому-то я и сказал, что он лишь немного похож на вас. Справедливости ради скажу, что кое-что из его творений я читал и иногда находил вполне сносным. Не хочу задевать ваши чувства, но вы никогда до таких высот не поднимались — по крайней мере, судя по критическим обзорам, поскольку до того, чтобы читать ваши опусы самому, я никогда не опускался.
Мордехай отличался от вас и еще в одном отношении: он был крайне нетерпелив. Вы посмотрите на свое отражение вон в том зеркале (если вы не имеете ничего против подобного зрелища) и оцените, как небрежно вы тут сидите — рука брошена на спинку стула, и вам совершенно все равно, намараете ли вы сегодня свою норму бессвязных слов или нет.
А Мордехай был не таков. Он все время помнил о сроках — и всегда опасался не успеть.
В те дни мы с ним обедали каждый вторник, и он своей трескотней здорово портил мне удовольствие.
— Эту пьесу я должен отправить самое позднее завтра утром, — говорил он что-нибудь вроде этого, — но до того я должен пересмотреть другую пьесу, а у меня просто времени нет. Где, черт побери, счет, наконец? Куда подевался официант? Да что они делают там на кухне? Плавают в соусе наперегонки?
Он всегда более всего нервничал по поводу счета, и я побаивался, что он может удрать, не дождавшись, и предоставить мне выкручиваться самому. Правда, к его чести будь сказано, такого не было ни разу, но сама эта нервотрепка портила удовольствие от еды.
Или вот та вон автобусная остановка. Вот я на нее смотрю уже пятнадцать минут. Вы заметили, что за это время к ней не подошло ни одного автобуса и что день сегодня ветреный и холодный, как и должно быть поздней осенью. Что мы видим? Поднятые воротники, красные и синие носы, переступающие для согрева ноги. Чего мы не видим? Бунта против властей и поднятых к небу кулаков. Все ожидающие пассивно сносят несправедливость земной жизни.
Но не таков был Мордехай Симс. Уж если бы он стоял в этой очереди на автобус, то поминутно выбегал бы на середину дороги, выглядывая, не появился ли наконец, на горизонте автобус. Он бы вопил, и орал, и размахивал руками, он бы организовал марш протеста к городскому управлению. Сказать короче, он бы сильно расходовал свои запасы адреналина.
И сколько раз он обращал свои жалобы именно ко мне, привлеченный, как и многие другие, свойственными моему облику спокойным пониманием и компетентностью.
— Я занятой человек, Джордж, — частил он. Он всегда говорил очень быстро. — Весь мир в заговоре против меня — это позор, скандал и преступление. Вот недавно я заехал в больницу на какое-то рутинное обследование — Бог знает, зачем это было бы нужно, если бы у моего доктора не было глупых идей о том, что он должен на что-то жить, — и мне было сказано прибыть в 9.40 в такую-то комнату к такому-то столу. Я приехал, как вы понимаете, точно в 9.40, и на этом столе была табличка: «Работает с 9.30» — на чистом английском языке, Джордж, каждая буква на месте, и ни одной лишней, — но за столом никого. Я проверил свои часы и спросил у кого-то, имевшего вид достаточно опустившегося человека, чтобы оказаться работником больницы: «Где этот безымянный негодяй, который должен сидеть за этим столом?» «Еще не пришел», — ответил этот безродный мошенник. «Тут сказано, что этот пост работает с 9.30». «Да кто-нибудь рано или поздно придет, я думаю», — ответил он с циничным равнодушием. Понимаете, Джордж, в конце концов, это же больница. А если бы я помирал? Кто-нибудь почесался бы? Да никогда! У меня подходил крайний срок сдачи важнейшей работы, которая должна была мне принести достаточно денег, чтобы оплачивать счета моего доктора (если бы я не придумал, как потратить их получше, что сомнительно). Кому-нибудь до этого было дело? Никакого! Только в 10.04 кто-то показался, а когда я поспешил к столу, этот опоздавший хам тупо на меня уставился и заявил: «Подождите своей очереди».
Мордехай всегда был начинен подобными историями — о лифтах в банках, медленно уползавших вверх как раз тогда, когда он в нетерпении ждал в вестибюле. О людях, которые уходили на перерыв с двенадцати и до пятнадцати тридцати и уезжали на уик-энд в среду вечером, а он тем временем ждал их консультации.
— Не могу взять в толк, кому и зачем вообще понадобилось изобретать время, Джордж, — часто повторял он. — Оно нужно только для того, чтобы изобретать новые способы его потери. Вы поймите, Джордж: если бы я мог часы, которые мне приходится проводить в ожидании этих бесчисленных бюрократов, потратить на работу, я бы мог написать на десять или даже двадцать процентов больше. Вы поймите, насколько увеличился бы мой доход, несмотря даже на издательский грабеж… Да где же, наконец, этот несчастный счет?
Я не смог подавить мысль насчет того, что помочь увеличению его дохода было бы благим делом, потому что у него хватало вкуса часть своих денег тратить на меня. Более того, он умел каждый раз выбирать для совместного обеда первоклассные места, а это согревало мое сердце — нет-нет, мой друг, совсем не такие, как это. Ваш вкус гораздо ниже того, каким он должен быть, судя по вашим писаниям, — если верить тем, кто их читал. Да, так я начал шевелить своими незаурядными мозгами, соображая, как ему помочь.
Про Азазела я подумал не сразу. В те времена я еще не привык к общению с ним, и меня можно понять — двухсантиметрового демона нельзя назвать привычным явлением.
Тем не менее в конце концов я стал думать, не мог бы Азазел чем-то помочь писателю в смысле организации времени. Это казалось маловероятным, и скорее всего я зря потратил бы время Азазела, однако что может значить время создания из другого мира?
Пробормотав все положенные заклинания и песнопения, я вызвал его оттуда, где он в тот момент находился, и он явился спящим. Глаза его были закрыты, и от него исходил дребезжащий писк очень противного тона, то затихающий, то нарастающий. Это, как я понимаю, было эквивалентом человеческого храпа.
Не будучи уверенным относительно того, как его следует будить, я в конце концов решил капнуть ему на живот водой. Живот у него абсолютно круглый, как будто он проглотил шарик от подшипника. Не имею ни малейшего понятия, что в его мире считается нормой, но когда однажды я упомянул шарикоподшипник, он потребовал объяснений, а получив их, пригрозил меня запульникировать. Значение этого слова мне не было известно, но по тону я заключил, что это не должно быть приятно. От капли воды он проснулся и тут же стал как-то глупо возмущаться. Он говорил, что его чуть не утопили, и пустился в разглагольствования на тему о том, как в их мире принято правильно будить. Что-то насчет тихой музыки и танцев, лепестков цветов и легких касаний прекрасных пальцев танцующих дев. Я ему объяснил, что в нашем мире вместо всего этого отлично работают садовые шланги; он сделал несколько замечаний насчет невежественных варваров и достаточно остыл для делового разговора. Объяснив ситуацию, я ожидал, что он тут же чего-нибудь набормочет, помашет ручками и — «да будет так».
Он ничего подобного не сделал. Вместо этого он серьезно посмотрел на меня и произнес:
— Послушай, ведь ты меня просишь вмешаться в законы вероятности.
— Именно так.
— Но это не просто, — сказал он.
— Конечно, не просто, — ответил я. — Иначе стал ли бы я тебя просить? Я бы сам это сделал. Только ради трудных задач обращаюсь я к столь могущественным и превосходным, как ты.
Грубо до тошноты, однако помогает в разговоре с демоном, у которого пунктик насчет маленького роста и круглого брюшка.
Моя логика ему понравилась, и он сказал:
— Я же не говорю, что это невозможно.
— Отлично.
— Надо будет поднастроить джинвиперовский континуум твоего мира.
— Точно сказано. Ты это у меня прямо с языка снял.
— Мне придется добавить несколько узлов взаимосвязи континуума с твоим другом — вот с тем, у которого все время опасность просрочки. Кстати, а что это такое?
Я объяснил, и он с некоторым придыханием сказал:
— А, понимаю. У нас такие вещи используются в самых эфирных проявлениях привязанности. Пропусти момент — и твой предмет уже никогда тебе этого не скажет. Помню, как-то раз…
Но я избавлю вас от несущественных подробностей его сексуального опыта.
— Тут есть один момент, — наконец добавил Азазел, — когда я вставлю новые узлы, убрать я их уже не смогу.
— А почему?
Азазел принял важный вид:
— Теоретически невозможно.
Я этому не поверил ни на грош. Ясно было, что этот маленький неумеха просто не знает как. Тем не менее, понимая, что у него вполне хватило бы умения сделать невыносимой мою жизнь, если бы я дал ему понять, что разгадал эту простенькую шараду, я сказал:
— Этого и не придется делать. Мордехаю нужно дополнительное время для писательских трудов, и если он его получит, то будет вполне доволен жизнью.
— Если так, то я это сделаю.
Он долго выполнял пассы. Он делал то же, что делал бы фокусник или волшебник, только ручки его мелькали с такой скоростью, что по временам их просто не было видно. Следует, однако, заметить, что ручки у него были такие маленькие, что и при нормальных обстоятельствах не всегда было ясно, видны они или нет.
— Что это ты делаешь? — спросил я, но Азазел потряс головой, а губами все время шевелил так, как будто считал про себя. Потом, закончив, по всей видимости, свою работу, откинулся на столе на спину, переводя дух.
— Готово? — спросил я. Он кивнул и сказал:
— Ты, я надеюсь, понимаешь, что мне пришлось понизить его долю энтропии более или менее навсегда.
— А что это значит?
— Это значит, что события вокруг него будут идти более упорядоченно, чем это можно было бы ожидать.
— В упорядоченности нет ничего плохого, — сказал я. (Вы, мой друг, могли бы с этим не согласиться, но я всегда верил в живительную силу порядка. Мною ведется точный учет каждого цента, который я вам должен, а все подробности записаны на клочках бумаги, которые там и сям в моей квартире разложены. Вы их можете увидеть, когда вам будет угодно.)
Азазел сказал:
— Разумеется, ничего нет плохого в том, чтобы держаться порядка. Но второй закон термодинамики нельзя по-настоящему обойти. Это значит, что для сохранения равновесия где-то в другом месте порядка стало меньше.
— В каком смысле? — спросил я, проверяя молнию на брюках (никогда не лишнее).
— В различных и в основном незаметных. Эффект я распределил по Солнечной системе, так что где-то будет больше столкновений астероидов, отклонений орбиты Ио и тому подобное. Больше всего будет затронуто Солнце.
— А как?
— Я подсчитал, что оно разогреется до тех температур, которые сделают невозможной жизнь на Земле, на два с половиной миллиона лет раньше, чем это случилось бы, если бы я не менял узлов.
Я пожал плечами. Ради человека, регулярно платившего за меня по счету с такой искренней щедростью, что смотреть приятно, нет смысла мелочиться из-за пары миллионов лет.
Примерно через неделю я снова обедал с Мордехаем. Еще когда он снимал пальто, он показался мне возбужденным, а подойдя к столу, где я коротал время над коктейлем, он уже просто сиял.
— Джордж, — сказал он мне, — вы себе представить не можете, какая у меня была странная неделя. — Он, не глядя, протянул руку и даже не удивился, когда в ней сразу оказалось меню. (Должен заметить, что в этом ресторане гордые и величественные официанты подают меню не иначе как по письменному заявлению в трех экземплярах с обязательной визой метрдотеля.)
— Джордж, — сказал Мордехай, — мир отлажен как часы.
— В самом деле? — Я подавил улыбку.
— Я прихожу в банк, и там сразу оказывается свободное окно и приветливый кассир. Я прихожу на почту, и там — ну ладно, никто не ожидает приветливости от почтового работника, но он тут же регистрирует мое письмо, и почти без ворчания. Я подхожу к остановке — и тут же подъезжает автобус, а вчера в час пик мне стоило только поднять руку, и сразу появилось такси! Нормальное такси. Я попросил его отвезти меня на перекресток Пятой и Сорок девятой, и он знал дорогу. Он даже говорил по-английски… Что вы будете есть, Джордж?
Достаточно было беглого взгляда на меню. Очевидно, что я тоже не должен был его задерживать. Мордехай небрежно бросил меню на стол и стал быстро заказывать для меня и для себя. При этом он даже не оглянулся посмотреть, стоит ли рядом с ним официант — он либо уже привык, либо предположил, что официант там будет.
И так оно и оказалось.
Официант потер руки, поклонился и обслужил нас быстро, вежливо и превосходно.
— Друг мой Мордехай, — сказал я. — У вас полоса потрясающего везения. С чего бы это?
Должен признать, что у меня мелькнула мысль дать ему понять, что это моя работа. Не должен ли он был отплатить мне золотым дождем или, по нынешним приземленным временам, хотя бы бумажным?
— Это просто, — ответил он, засовывая салфетку за воротник и намертво зажимая в двух кулаках вилку и нож, ибо Мордехай, при всех его достоинствах, обучался искусству застольного поведения не в благородном пансионе. — Это нисколько не везение. Это неизбежный результат законов случая.
— Случая? — возмущенно воскликнул я.
— Конечно, — сказал Мордехай. — Большую часть своей жизни мне пришлось выдерживать такой натиск случайных задержек, какого мир не видел. По законам вероятности для такого непрерывного потока неприятностей необходима компенсация, и вот это мы теперь и наблюдаем. Думаю, что это продлится уже до конца моих дней. На это я рассчитываю и в это верю. Все в мире сбалансировано. — Он подался вперед и весьма фамильярно и неприятно толкнул меня ладонью в грудь. — Вот в чем дело. Законы вероятности нерушимы.
Весь обед он читал мне лекцию о законах вероятности, о которых, по моему глубокому убеждению, знал так же мало, как и вы.
Наконец я сказал:
— У вас, конечно, добавилось времени на писание?
— Конечно! Я думаю, что мое рабочее время увеличилось процентов на двадцать.
— И соответственно увеличилась ваша продуктивность?
— Ну, — сказал он, как-то смущаясь, — пока еще, к сожалению, нет. Мне ведь надо еще настроиться. Я не привык, чтобы все было гладко. Меня это все как-то поражает.
Честно говоря, он не казался мне пораженным. Подняв руку, он не глядя взял счет из рук возникшего официанта, небрежно расписался на нем и вместе С кредитной карточкой дал официанту, который в это время стоял и ждал, а после этого сразу исчез.
Весь обед занял чуть больше тридцати минут. Не буду от вас скрывать, что я предпочел бы более цивилизованные два с половиной часа, с шампанским в начале и коньяком в конце, с бокалом-другим хорошего вина между переменами и интеллигентным разговором в течение всего обеда. Однако следовало учесть, что Мордехай сберег два часа, которые он мог использовать на загребание денег для себя, ну, и для меня — в некотором смысле.
Случилось так, что с этого обеда я три недели Мордехая не видел. Не помню почему, — кажется, нас с ним по очереди не было в городе. Как бы там ни было, однажды утром, выходя из кафе после рулета с яичницей, я увидел в полуквартале от себя Мордехая.
Был противный денек с мокрым снегом — день, когда свободные такси подлетают к вам только затем, чтобы обляпать вам брюки серой жидкой грязью и тут же рвануть с места, включив сигнал «не работаю» и с противным воем набирая скорость.
Мордехай, стоя ко мне спиной, поднял руку, и к нему тут же осторожно подъехало свободное такси. К моему удивлению, Мордехай смотрел в сторону. Такси отползло прочь, и на его ветровом стекле ясно читалось разочарование.
Мордехай снова поднял руку, и тут же из ниоткуда явилось второе такси и остановилось перед ним. Он влез внутрь, но, как я услышал даже с расстояния в сорок ярдов, высказал несколько таких сентенций, которые ни в коем случае не предназначались бы для ушей деликатно воспитанного человека, если таковые еще попадаются в нашем городе.
В то же утро я ему позвонил и договорился выпить по коктейлю в уютном баре «Счастливый часок», в котором этот самый часок иногда растягивался на целый день. Я просто не мог дождаться встречи — мне нужно было получить у него объяснение.
А именно, меня интересовал смысл тех восклицаний, которые он произнес, садясь в такси. Нет-нет, мой друг, вы неправильно меня понимаете. Их словарный смысл — если бы эти слова можно было бы найти в словаре — был мне знаком. Что же мне было совсем непонятно — это почему он их произнес. Судя по всему, он должен был бы быть вполне счастлив.
Когда он вошел в бар, счастливым он не выглядел. Скорее казался изнуренным.
Он сказал:
— Джордж, сделайте одолжение — позовите официантку, ладно?
В этом баре официантки одевались не очень тепло, что, впрочем, согревало взор посетителей. Я с радостью позвал одну из них, хотя и понимал, что она проинтерпретирует мой жест лишь как желание заказать что-нибудь выпить.
На самом деле она его не стала интерпретировать никак, ибо все время была уверенно повернута ко мне лишь обнаженной спиной.
Я сказал:
— На самом деле, Мордехай, если вы хотите, чтобы вас здесь обслужили, вам придется позвать ее самому. Законы вероятности еще не повернулись ко мне выгодной стороной, что просто стыд и позор, ибо давно пора помереть моему богатому дядюшке, лишив своего сына наследства в мою пользу.
— У вас есть богатый дядюшка? — У Мордехая на мгновение блеснул интерес.
— Увы, нет. Это лишь усугубляет несправедливость ситуации. Мордехай, пожалуйста, позовите официантку.
— А ну ее к черту, — проворчал Мордехай. — Подождет, не рассыплется.
Меня, как вы понимаете, беспокоил вопрос не о том, сколько она будет нас ждать, а совсем другое, но любопытство пересилило жажду. Я сказал:
— Мордехай, что с вами? У вас несчастный вид. Сегодня утром я видел, как вы не обратили внимания на пустое такси в такой день, когда они на вес золота, а потом, садясь во второе, даже выругались.
— Что, в самом деле? — спросил Мордехай. — Да эти гады меня просто утомили. Такси за мной охотятся. Просто едут вереницами. Я не могу взглянуть на дорогу, чтобы из них кто-нибудь не остановился. На меня наваливаются толпы официантов. При моем приближении продавцы открывают закрытые магазины. Стоит мне войти в холл, как лифт распахивает пасть и ждет, пока я войду, и тут же закрывается и едет сразу на нужный этаж. В любой конторе мне сразу приветственно машут орды служащих, заманивая каждый к своему столу. Все правительственные чиновники существуют только затем, чтобы…
— Но, Мордехай, — вставил я слово, — это же просто прекрасно. Законы вероятности…
То, что он предложил сделать с законами вероятности, было абсолютно невыполнимо хотя бы из-за отсутствия у абстрактных понятий телесной сущности.
— Однако, Мордехай, — убеждал я его, — все это должно было дать вам больше времени для писательских трудов.
— Ни хрена! — рявкнул Мордехай. — Я писать вообще не могу!
— Ради всего святого, отчего?
— Потому что у меня нет времени на обдумывание.
— Нет времени на что?
— Раньше, в процессе всех этих ожиданий — в очередях, на остановках, в конторах, — это было время, когда я думал, когда обдумывал, что буду писать. Это было время совершенно необходимой подготовки.
— Я этого не знал.
— Я тоже, зато теперь знаю.
— Я-то думал, — сказал я, — что вы все это время ожидания только распалялись, ругались и самого себя грызли.
— Часть того времени на это и тратилась. А остальное время шло на обдумывание. И даже время, когда я пенял на несовершенство мира, шло не зря, поскольку я получал хорошую встряску и правильную гормональную настройку всего организма, и, когда добирался наконец до машинки, вся эта невольная злость выплескивалась на бумагу. От обдумывания появлялась интеллектуальная мотивация, а от злости — мотивация эмоциональная. А от их соединения рождалась превосходная проза, выливающаяся из тьмы и инфернального огня моей души. А теперь — что? Вот, смотрите!
Он слегка щелкнул пальцами, и тут же тщательно раздетая красавица оказалась на расстоянии вытянутой руки, спрашивая:
— Могу я обслужить вас, сэр?
Уж конечно, могла бы, но Мордехай только мрачно заказал два коктейля для нас обоих.
— Я думал, — продолжал он, — что просто надо приспособиться к новой ситуации, но теперь я вижу, что это невозможно.
— Но вы же можете отказаться от использования преимуществ такой ситуации.
— Отказаться? А как? Вы же видели сегодня утром. Если я отказываюсь от такси, тут же приходит другое, только и всего. Пятьдесят раз могу я отказаться, и оно придет пятьдесят первый. И так во всем. Я уже совсем вымотался.
— А что, если вам просто зарезервировать себе часок-другой для раздумий в тишине кабинета?
— Именно так! В тишине кабинета. А оказалось, что я могу думать, лишь переминаясь с ноги на ногу на перекрестке, или на каменной скамейке зала ожидания, или в столовой без официанта. Мне нужен источник раздражения.
— Но вы же раздражены сейчас?
— Это не то же самое. Можно злиться на несправедливость, но как злиться на всех этих нечутких олухов за ненужную доброту и предупредительность? Я не раздражен сейчас, а всего лишь печален.
Это был самый несчастливый час, который я когда-либо провел в баре «Счастливый часок».
— Клянусь вам, Джордж, — говорил Мордехай, — я думал, что меня сглазили. Как будто фея, не приглашенная на мое крещение, нашла, наконец, что-то похуже, чем постоянные потери времени. Он нашла проклятие исполнения любых желаний.
Видя его столь несчастным, я с трудом удержался от недостойных мужчины слез, тем более что этой неприглашенной феей был я, и он, не дай Бог, как-нибудь об этом дознается. Он мог бы тогда убить себя или — страшно даже подумать — меня.
А потом пришел настоящий ужас. Спросив счет и, разумеется, моментально получив, он бросил его мне, рассмеялся фальшивым, кашляющим смешком и сказал:
— Давайте-ка заплатите. А я пошел.
Я заплатил. А что мне было делать? Но полученная рана и сейчас иногда напоминает о себе перед ненастьем. Я ведь для него укоротил жизнь Солнца на два с половиной миллиона лет, и я же должен был платить за выпивку? Где справедливость?
Мордехая я с тех пор не видел. Я слыхал, что он уехал из страны и стал бродягой где-то в южных морях.
Не знаю, чем там занимаются бродяги — думаю, вряд ли гребут деньги лопатой. Одно я знаю: если он будет стоять на берегу и захочет, чтобы пришла волна, она придет тут же.
Тем временем недовольный официант принес нам счет и положил его между нами, а Джордж талантливо, как и всегда, изобразил задумчивую рассеянность.
Я спросил:
— Джордж, вы ведь не собираетесь просить Азазела сделать что-нибудь и для меня?
— Вообще-то нет, — ответил Джордж. — К сожалению, старина, вы не тот человек, с которым связаны мысли о благодеяниях.
— И вы не собираетесь для меня ничего сделать?
— Абсолютно.
— Тогда, — сказал я, — я плачу по счету.
— Это, — ответил Джордж, — самое меньшее, что вы можете сделать.
По снежку по мягкому
Мы с Джорджем сидели у окна в «Ла Богема» — французском ресторанчике, которому Джордж время от времени оказывал благодеяния за мой счет. Я выглянул и сказал:
— Похоже, снег пойдет.
Нельзя сказать, чтобы это было вкладом в мировую сокровищницу знаний. Весь день темные и низкие тучи плотно закрывали небо, температура болталась где-то ниже нуля и по радио предсказывали снег. Однако то пренебрежение, с которым к этому замечанию отнесся Джордж, несколько задело мои чувства.
Он сказал:
— Вот, например, мой друг Септимус Джонсон.
— А что такое? — спросил я. — Какое отношение он имеет к тому факту, что может пойти снег?
— Естественный ход мысли, — отрезал Джордж — Вы наверняка слыхали об этом процессе, несмотря на то что сами его не испытали ни разу.
Мой друг Септимус (говорил Джордж) был суровым молодым парнем, ходил всегда набычившись и постоянно шевелил глыбами бицепсов. Он был седьмым ребенком в семье, отсюда и имя. Его младшего брата звали Октавиус, а их младшую сестру — Нина.
Я не знаю, насколько далеко еще простирался этот счет, но думаю, что в детстве и юности он страдал от многолюдия и потому впоследствии до странности любил уединение и тишину.
Достигнув зрелости и добившись определенного успеха своими романами (почти как вы, старина, только его критики иногда хвалили), он скопил достаточно денег, чтобы потакать своим странностям. Короче говоря, он купил себе отдельно стоящий дом на заброшенном клочке земли в глухом углу штата Нью-Йорк и время от времени скрывался там для написания следующего романа. Это место не было очень уж далеко от всякой цивилизации, но до самого горизонта, казалось, простиралась нетронутая глушь.
Думаю, что только меня одного он когда-либо приглашал к себе в этот сельский угол. Я полагаю, что его привлекала моя исполненная спокойного достоинства манера, а также блеск и разнообразие моих разговоров. Он никогда ничего не говорил на эту тему, но трудно предположить что-либо другое.
Конечно, с ним надо было вести себя осторожно. Каждый, кому случалось получить дружеский шлепок по спине — любимая манера здороваться у Септимуса Джонсона, — знает ощущение от сломанного позвонка. Однако при нашей первой встрече случайное проявление силы с его стороны оказалось очень кстати.
На меня насела дюжина-другая бродяг, введенная в заблуждение моим полным достоинства видом, из-за которого они решили, что у меня непременно должны быть с собой несметные богатства наличными и драгоценностями. Я отчаянно защищался, потому что у меня с собой не было ни цента и я понимал, что, когда бродяги, это обнаружат, они, в силу естественного разочарования, обойдутся со мной весьма варварски. В этот момент и появился Септимус, погруженный в обдумывание своих творений. Свора негодяев как раз была у него на пути, и, поскольку он так глубоко задумался, что мог идти только по прямой, он механически раскидал их в стороны по двое и по трое. На дне кучи он обнаружил меня, и как раз тогда у него что-то забрезжило и он увидел решение какой-то своей проблемы, какова бы она ни была. Сочтя меня счастливым талисманом, он пригласил меня пообедать. Сочтя, что обед за чужой счет гораздо лучше любого талисмана, я согласился.
К концу обеда я приобрел такое на него влияние, что он пригласил меня к себе за город. Потом такие приглашения часто повторялись. Он однажды сказал, что, когда есть я, — это почти то же самое, как когда никого нет. Зная, как он ценит одиночество, я счел это за серьезную похвалу. Поначалу я ожидал увидеть хижину, но ошибся. Септимус явно преуспевал со своими романами и в расходах не стеснялся. (Я понимаю, что в вашем присутствии невежливо говорить о преуспевающих писателях, но приходится держаться фактов.)
Дом, хотя и изолированный от мира настолько, что я находился в постоянной агорафобии, был отлично электрифицирован, в подвале стоял дизель, а на крыше — солнечные батареи. Еда была хороша, а винный погреб — просто великолепен. Мы жили в роскоши, а к ней я всегда очень легко привыкал, что удивительно из-за малого опыта.
Конечно, совсем не выглядывать в окна было невозможно, и полное отсутствие декоративности довольно сильно подавляло. Можете мне поверить — пейзаж составляли холмы, поля и небольшое озеро, неимоверное количество всякой ядовито-зеленой растительности, но никакого следа человеческого жилья, или автомагистрали, или чего-нибудь в этом роде — на худой конец, цепочки телеграфных столбов.
Однажды, после хорошего обеда с хорошим вином, Септимус торжественно заявил:
— Джордж, мне приятно, когда вы здесь. После беседы с вами я сажусь за свой текст-процессор с таким облегчением, что у меня все выходит гораздо лучше. А потому приезжайте запросто в любое время. Здесь, — он повел рукой в воздухе, — здесь вы можете скрыться от всех забот и невзгод, что преследуют вас. А пока я сижу за текст-процессором, все книги, телевизор и холодильник в вашем распоряжении, а где винный погреб, вы, я надеюсь, знаете.
Как оказалось, я это знал. Я даже нарисовал для себя маленький план, на котором был большим крестом обозначен винный погреб и тщательно намечены все маршруты к нему.
— Единственное, о чем я должен предупредить, — сказал Септимус, — это убежище от горестей мира закрыто с первого декабря по тридцать первое марта. В это время я не могу предложить вам свое гостеприимство, потому что и сам должен оставаться в городе.
Это меня ошарашило. Для меня пора снега — пора невзгод. Именно зимой, мой старый друг, начинают особенно свирепствовать мои кредиторы. Эти жадины, настолько богатые, что ничего не потеряли бы от тех жалких крох, что я им должен, были бы особенно довольны, узнав, что меня вышвырнули на мороз. Эта мечта вдохновляет их на такие полные волчьей ярости поступки, что убежище мне просто необходимо.
Я спросил:
— А почему бы и не зимой, Септимус? С таким мощно гудящим камином и не уступающим ему паровым отоплением вы могли бы поплевывать на все морозы Антарктики.
— Так бы оно и было, — ответил Септимус, — но похоже, что каждую зиму ревущие дьяволы вьюг устраивают здесь съезды и вываливают свои запасы снега прямо на этот мой полурай. И тогда этот затерянный в одиночестве дом оказывается отрезан от внешнего мира.
— И гори он огнем, этот мир, — заметил я.
— Совершенно справедливо, — согласился Септимус. — Но, однако, все мои запасы поставляются извне — еда, напитки, горючее, чистое белье. Горько, но правда — я на самом деле не могу выжить без поддержки извне или, по крайней мере, вести без нее такую жизнь сибарита, какая только и достойна уважающего себя человека.
— Знаете, Септимус, — сказал я, — может быть, я подумаю, как разрешить это затруднение.
— Думайте сколько влезет, — ответил он, — но ничего у вас не выйдет. Тем не менее восемь месяцев в году этот дом ваш или, по крайней мере, в то время, когда я здесь.
Это было правдой, но как может человек принимать во внимание только восемь месяцев, когда их все равно двенадцать? Тем же вечером я вызвал Азазела.
Я не думаю, что вы о нем что-нибудь знаете. Это демон, этакий волшебник-бесенок ростом в два сантиметра, но обладающий сверхъестественной силой, которую он всегда рад проявить, потому что у себя дома (где бы это ни находилось) он вряд ли стоит высоко во мнении своих сограждан. Поэтому…
Ах, вы о нем слышали? Это прекрасно, однако как вы полагаете, друг мой, могу ли я рассказать вам что бы то ни было, если вы все время стараетесь изложить вашу собственную точку зрения? Вы, кажется мне, не понимаете, что искусство беседы требует прежде всего умения внимательно слушать и воздерживаться от перебивания говорящего даже по таким экстраординарным поводам, как то, что вы что-то знаете. Ну, да ладно.
Азазел был, как всегда, неимоверно зол. Он, очевидно, был занят чем-то, что называл «торжественным религиозным созерцанием». Мне с трудом удалось подавить мое справедливое раздражение. Он всегда занят чем-то, что считает важным, и никогда, похоже, не поймет, что, когда я его вызываю, это по действительно важному делу.
Я спокойно подождал, пока визгливая ругань наконец затихла, и изложил суть дела.
Он слушал, сердито наморщив мордочку, а потом спросил:
— Что такое снег?
Я вздохнул и объяснил.
— Ты говоришь, что с неба падает отвердевшая вода? Целые куски отвердевшей воды? И после этого остается что-то живое?
Я не стал пускаться в объяснения насчет града, но сказал:
— Она падает в виде мягких и рыхлых хлопьев, о Могущественный (на него всегда хорошо действовали подобные дурацкие имена). Неудобства возникают, когда ее выпадает слишком много.
Азазел заявил:
— Если ты просишь меня изменить погодный режим этого мира, я отказываюсь решительно. Это подпадает под статью о незаконной переделке планет кодекса этики моего крайне этичного народа. Я и думать не желаю о нарушении этики, тем более что если меня поймают, то скормят ужасной птице Ламелл — исключительно мерзкой твари с отвратительными застольными манерами. Даже говорить не хочу, с чем она меня смешает.
— О переделке планет я и думать не думал, о Возвышенный. Я хотел бы попросить только об одной гораздо более простой вещи. Видишь ли, снег, когда его много, настолько мягок и рыхл, что человек в нем проваливается.
— Сами виноваты — не надо быть такими массивными, — буркнул Азазел.
— Несомненно, — согласился я, — и именно эта масса и делает ходьбу столь трудной. Я бы хотел, чтобы на снегу мой друг был не так тяжел.
Но внимание Азазела было трудно привлечь. Он только повторял, как болванчик: «Отвердевшая вода — повсюду — по всей земле!» — и тряс головой, не в силах себе такого представить.
— Ты можешь сделать моего друга полегче? — спросил я наконец, указывая на самую простую задачу.
— Запросто! — отозвался Азазел. — Надо только применить принципы антигравитации, чтобы она включалась от молекулы воды, находящейся в определенном состоянии. Это нелегко, но это возможно.
— Погоди, — сказал я с беспокойством, представляя себе опасность такой жесткой схемы. — Гораздо разумнее будет подчинить антигравитацию воле моего друга. Может быть, ему иногда будет приятнее топать по земле, чем парить.
— Подчинить антигравитацию столь примитивной автономной системе твоего типа? Ну, знаешь ли! Твоя наглость поистине не знает границ!
— Я ведь только попросил, — сказал я, — поскольку имею дело с тобой. Никогда бы не стал я просить кого-нибудь другого из твоего народа, ибо это было бы бесполезно.
Эта маленькая дипломатическая неправда возымела ожидаемое действие. Азазел выпятил грудь аж на целых два миллиметра и величественным контртеноровым писком провозгласил:
— Да будет так.
Я думаю, что соответствующая способность появилась у Септимуса в тот же момент, но я не уверен. Дело было в августе, и снегового покрова для экспериментов под рукой не было — а ехать за материалом в Патагонию, Антарктиду или даже в Гренландию у меня не было никакой охоты. Не было также смысла объяснять ситуацию Септимусу, не имея снега для демонстрации. Он бы просто не поверил. Он бы пришел к смехотворному заключению, что я — Я — слишком много выпил.
Но рок благоволил мне. Мы были в загородном доме у Септимуса в ноябре (он это называл «закрытие сезона»), когда начался снегопад — необычно обильный для этого времени.
Септимус разозлился до белого каления и объявил войну вселенной, не собираясь спускать ей столь гнусного оскорбления.
Но для меня это была милость небес — и для него тоже, если бы он это знал. Я сказал:
— Отриньте боязнь, Септимус. Отныне узнайте, что снег вам более не страшен.
И я объяснил ему ситуацию настолько подробно, насколько это было необходимо.
Я так и полагал, что наиболее вероятной ожидаемой реакцией будет выраженное в нелитературной форме недоверие, но он добавил еще несколько отнюдь не необходимых малоцензурных замечаний о моем умственном здоровье.
Однако я не зря потратил несколько месяцев на выработку правильной стратегии.
— Вы могли бы, вообще говоря, поинтересоваться, — сказал я, — чем я зарабатываю на жизнь. Я думаю, вас не удивит такой мой уход от темы, если теперь я вам скажу, что занимаю ключевой пост в правительственной исследовательской программе по антигравитации. Я ничего больше не имею права говорить, кроме того, что эксперимент с вашим участием поведет к колоссальному прогрессу всей программы.
Он выкатил на меня глаза, а я тихо напел несколько тактов мотива «Звездно-полосатое знамя».
— Вы это серьезно? — спросил он меня.
— Стал бы я говорить неправду? — ответил я. И затем, рискуя нарваться на естественный ответ, добавил: — Или стало бы врать ЦРУ?
Он это проглотил, подавленный той аурой правдивой простоты, которая пронизывала все мои слова.
— Что я должен делать? — спросил он.
Я ответил:
— Сейчас снега всего шесть дюймов. Вообразите, что вы ничего не весите, и станьте на него.
— Просто вообразить?
— Так это действует.
— Да я же просто ноги замочу.
— Наденьте болотные сапоги, — саркастически предложил я.
Он заколебался, потом на самом деле вытащил болотные сапоги и залез в них. Открытое выражение недоверия на его лице меня глубоко задело. Кроме того, он надел меховое пальто и еще более меховую шапку.
— Если вы готовы… — холодно начал я.
— Не готов, — перебил он.
Я открыл дверь, и он ступил наружу. На крытой веранде снега не было, но как только он вышел на ступени, ноги из-под него поехали, и он отчаянно вцепился в балюстраду.
Как-то добравшись до конца короткой лестницы, он попытался подняться, но это не получалось — по крайней мере не получалось так, как он хотел. Еще несколько футов он проехал, молотя руками по снегу и размахивая ногами в воздухе. Он перевернулся на спину и продолжал скользить, пока не наткнулся на молодое дерево и не зацепился согнутой рукой за его ствол. Сделав три или четыре оборота вокруг ствола, он остановился.
— Что за скользкий сегодня снег? — заорал он дрожащим от возмущения голосом.
Должен признать, что, несмотря на мою веру в Азазела, я не мог не удивиться, глядя на эту картину.
От его ног не оставалось следов, а скользящее по снегу тело не оставило борозды. Я сказал:
— На снегу вы ничего не весите.
— Псих, — ответил он.
— Посмотрите на снег, — настаивал я. — Вы не оставляете следов.
Он посмотрел, после чего сделал несколько замечаний, которые в прежние годы можно было бы назвать непечатными.
— Вспомним, — продолжал я, — что сила трения зависит от давления скользящего тела на поверхность скольжения. Чем меньше давление, тем меньше сила трения. Вы ничего не весите, ваше давление на снег равно нулю, следовательно, сила трения также нулевая, и вы скользите по снегу, как по абсолютно гладкому льду.
— Так что же мне делать? Я же так не могу, когда у меня ноги разъезжаются!
— Это ведь не больно, правда? Когда ничего не весишь, то падать на спину не больно.
— Все равно это не годится. «Не больно» — это еще не основание провести жизнь, лежа на спине в снегу.
— Ну, Септимус, вообразите, что вы снова потяжелели, и встаньте.
Он состроил озадаченную физиономию и сказал:
— Просто вообразить — и все?
Тем не менее он попробовал и неуклюже поднялся на ноги.
Теперь он ушел в снег на пару дюймов и, когда осторожно попробовал шагать, ему это было не труднее, чем обычно бывает идти по снегу.
— Джордж, как вы это делаете? — спросил он с возросшим почтением в голосе. — Я бы никогда не сказал, что вы такой ученый.
— ЦРУ требует маскировки, — объяснил я. — Теперь воображайте себя все легче и легче и пройдитесь снова. Ваши следы будут все мельче и мельче, а снег будет все более и более скользким. Остановитесь, когда он станет слишком скользким.
Он поступил так, как было сказано, ибо ученые имеют сильное влияние на низших смертных.
— Теперь, — сказал я, — попробуйте скользить вокруг дома. Когда захотите остановиться, просто станьте тяжелее — но постепенно, а то шлепнетесь носом.
Септимус был парень спортивный и освоился очень быстро. Он когда-то мне говорил, что владеет всеми видами спорта, кроме плавания. Когда ему было три года, отец зашвырнул его в пруд в искренней попытке научить плавать без всех этих утомительных инструкций, и потом ему в течение десяти минут пришлось делать искусственное дыхание «рот в рот». Как он говорил, это оставило у него на всю жизнь стойкий страх перед водой и отвращение к снегу. «Снег — это твердая вода», — говорил он точь-в-точь как Азазел.
Однако в новых обстоятельствах отвращение к снегу не спешило проявиться. Он начал с радостным ушераздирающим визгом носиться вокруг веранды, утяжеляя себя на поворотах и разбрызгивая из-под ног фонтаны снега при остановке.
— Постойте-ка! — крикнул он, ринулся в дом и вынырнул — хотите верьте, хотите нет — с привязанными к сапогам коньками. — Я научился кататься у себя на озере, — объяснил он, — но удовольствия от этого не получал. Всегда боялся, что лед провалится. А теперь могу кататься и не бояться.
— Не забудьте, — встревожено напомнил я, — что это работает только над молекулами H2O. Стоит вам попасть на клочок оголенной земли или мостовой, и ваша легкость исчезнет. Вы можете ушибиться.
— Не беспокойтесь, — сказал он, вставая на ноги и беря старт.
Я смотрел ему вслед, а он летел уже где-то за полмили над заснеженным пустым полем, а до моих ушей донесся отдаленный рев: «По снежку по мягкому на саночках лихих…»
Септимус, необходимо заметить, каждую ноту берет наугад и никогда не угадывает. Я зажал уши.
Эта зима была, смею сказать, счастливейшей в моей жизни. Всю долгую зиму я жил в теплом, уютном доме, ел и пил по-царски, читал повышающие мой интеллектуальный уровень книжки, в которых старался оказаться умнее автора и найти, кто убийца; а еще я наслаждался мыслью о том, как злятся мои кредиторы там, в городе.
У меня была отличная возможность наблюдать через окно за нескончаемым катанием Септимуса на коньках по снегу. Он говорил, что чувствует себя птицей и наслаждается неведомым ему ранее полетом в трех измерениях. Что ж, каждому свое.
Я его много раз предупреждал, чтобы его никто не видел.
— Это подставит под удар меня, — говорил я ему, — поскольку этот частный эксперимент не был утвержден ЦРУ, но о своей безопасности я не волнуюсь, потому что там, где дело идет о таких, как я, — секретность превыше всего. Но если кто-нибудь когда-нибудь увидит, как вы скользите над снегом, вы станете объектом любопытства, и вокруг вас заклубятся десятки репортеров. Про вас узнает ЦРУ, и вас подвергнут сотням непрерывных экспериментов и исследований, вас будут изучать тысячи ученых и военных. Вы станете национальной знаменитостью и всегда будете окружены толпами рвущихся к вам людей.
Септимус затрясся от страха, как и должен был любитель одиночества по моим расчетам. Потом он сказал:
— А как мне нас снабжать, если я не могу показаться? Мы же из-за этого и затеяли весь эксперимент.
Я ответил:
— Я думаю, что грузовики почти всегда могут пройти по дорогам, а вы можете сделать достаточные запасы, чтобы переждать те времена, когда это не так. Если же вам на самом деле что-то срочно понадобится, можете подлететь к городу как можно ближе, но так, чтобы никто не видел — а в такое время мало кто выходит на улицу, — потом восстановить полный вес, проковылять несколько последних шагов пути с усталым видом. Берете, что вам надо, хромаете метров сто назад, и снова на взлет. Годится?
Той зимой это, к счастью, не понадобилось — я так и думал, что он преувеличивает угрозу снега. И никто не видел, как он скользит. Септимусу все было мало. Вы бы видели его лицо, когда снега не было больше недели да еще началась небольшая оттепель. Вы себе представить не можете, как он волновался за снежный покров.
Ах, какая чудесная была зима! И какая трагедия, что она была единственной!
Что случилось? Я вам расскажу, что случилось. Помните, что сказал Ромео перед тем, как всадить кинжал в Джульетту? Вы наверняка не знаете, так что я вам расскажу. Он сказал: «Ее в судьбу свою впусти — скажи покою враз «прости»». Это о женщинах.
Следующей осенью Септимус встретил женщину — Мерседес Гамм. Он и раньше встречал женщин; анахоретом он не был, но они никогда для него много не значили. Короткое знакомство, романтическая любовь, пожар страстей — и он их забывал, а они его. Просто и безвредно. Меня самого, в конце-то концов, преследовали разные молодые дамы, и я никогда не считал это чем-то предосудительным — даже если они припирали меня к стенке и вынуждали… но мы отклонились от темы.
Септимус пришел ко мне в довольно подавленном настроении.
— Джордж, я ее люблю, — заявил он. — Я при ней просто теряюсь, как мальчишка. Она — путеводная звезда моей жизни.
— Прекрасно, — сказал я. — Я вам разрешаю продолжать в том же духе еще некоторое время.
— Спасибо, Джордж, — грустно отозвался он. — Теперь нужно только ее согласие. Не знаю, почему это так, но она, похоже, не очень меня жалует.
— Странно, — сказал я. — Обычно вы имеете успех у женщин. Вы, в конце концов, богатый, мускулистый и не уродливей других.
— Думаю, дело тут не в мускулах, — сказал Септимус. — Она думает, что я дубина.
Я не мог не восхититься точностью восприятия мисс Гамм. Септимус, если назвать это как можно мягче, и был дубиной. Однако, учитывая его бицепсы, ходившие буграми под пиджаком, я счел за лучшее не делиться с ним своей оценкой ситуации. Он продолжал:
— Она говорит, что в мужчинах ей нравится не физическая развитость. Ей нужен кто-то думающий, интеллектуальный, глубоко рациональный, философичный — и целый еще букет подобных прилагательных. И она говорит, что у меня ни одного из этих качеств нет.
— А вы ей говорили, что вы писатель?
— Конечно, говорил. И она читала парочку моих романов. Но вы же знаете, Джордж, это романы о футболистах, и она сказала, что ее от них тошнит.
— Я вижу, она не принадлежит к атлетическому типу.
— Конечно, нет. Она плавает, — он состроил гримасу, вспомнив, наверное, дыхание «рот в рот» в нежном возрасте трех лет, — но это не помогает.
— В таком случае, — сказал я, голосом смягчая резкость фразы, — забудьте ее, Джордж. Женщины легко приходят и уходят. Уходит одна — придет другая. Много рыб в море и птиц в небе. В темноте они все друг на друга похожи. Нет разницы, одна или другая.
Я мог бы продолжать бесконечно, но мне показалось, что он начал напрягаться, а вызывать напряжение у здоровенной дубины — неблагоразумно.
— Джордж, такими словами вы глубоко оскорбляете мои чувства, — сказал Септимус. — Мерседес для меня единственная в мире. Жить без нее я не смогу. Она неотделима от смысла моей жизни. Она в каждом ударе моего сердца, в каждом вдохе моей груди, в каждом взгляде моих глаз. Она…
А он мог продолжать и продолжал бесконечно, и мне показалось неуместным останавливать его замечанием, что такими чувствами он глубоко оскорбляет меня.
Он сказал:
— Итак, я не вижу другого выхода, кроме как настаивать на браке.
Это прозвучало как удар судьбы. Я знал, что будет дальше. Как только они поженятся, моя райская жизнь кончена. Не знаю почему, но первое, на чем настаивают молодые жены, — на уходе холостых приятелей мужа. Не бывать мне больше у Септимуса в загородном доме.
— Это невозможно, — встревоженно сказал я.
— Понимаю, что это кажется трудным, но я думаю, это получится. У меня есть план. Пусть Мерседес считает меня дубиной, но я не совсем уж несообразительный. Я приглашу ее в свой загородный дом в начале зимы. Там, в тишине и покое моего Эдема, обострится ее восприятие, и она сможет оценить истинную красоту моей души.
По моему мнению, от Эдема не стоило бы ожидать столь многого, но сказал я только:
— Вы собираетесь ей показать, как умеете скользить по снегу?
— Нет, нет, — сказал он. — Только после свадьбы.
— Даже тогда…
— Джордж, это чушь, — раздраженно сказал Септимус. — Жена — второе «я» мужа. Ей можно доверять потаеннейшие секреты души. Жена — это…
Он снова пустился в бесконечный монолог, и я только мог слабо возразить:
— ЦРУ это не понравится.
Его короткое замечание насчет ЦРУ вызвало бы полное одобрение со стороны Советов. А также Кубы и Никарагуа.
— Я попробую как-нибудь убедить ее приехать в начале декабря, — сказал он. — Я верю, что вы меня правильно поймете, Джордж, если я вам скажу, что мы хотели бы побыть здесь вдвоем. Я знаю, что вы и думать не стали бы мешать тем романтическим возможностям, которые наверняка возникнут у нас с Мерседес на лоне мирной природы. «Нас свяжет вместе магнетизм молчанья и медленного времени поток».
Конечно, я узнал цитату. Это сказал Макбет перед тем, как всадить кинжал в Дункана, но я всего лишь посмотрел на Септимуса холодно и с достоинством. Через месяц мисс Гамм поехала в загородный дом Септимуса, а я не поехал.
Что там случилось — тому я свидетелем не был. Я знаю это только со слов Септимуса, а потому не могу ручаться за каждую деталь. Мисс Гамм была настоящей пловчихой, но Септимус, имевший непреодолимое отвращение к такому хобби, ничего на эту тему не спрашивал. Мисс Гамм тоже не считала необходимым донимать подробностями ни о чем не спрашивающую дубину. Поэтому Септимус ничего не знал о том, что мисс Гамм — одна из тех сумасшедших, которые любят в середине зимы напялить купальник, пробить лед на озере и броситься в прорубь купаться в освежающей и животворящей воде.
Так и вышло, что однажды ярким морозным утром, когда Септимус храпел в глубоком забытьи, как дубине и положено, мисс Гамм тихо поднялась, надела купальник, плащ из махровой ткани и тапочки и отправилась по заснеженной тропе к озеру. По краям оно ярко сверкало льдом, но середина еще не замерзла, и вот, скинув халат и тапки, она бросилась в воду с визгом, который, очевидно, должен был свидетельствовать о радости. Где-то вскоре проснулся Септимус и тонким инстинктом влюбленного ощутил отсутствие в доме своей драгоценной Мерседес. Он стал ее искать и звать. Найдя в комнате ее одежду, он понял, что она не уехала тайком в город, как он сначала в испуге решил. Она была где-то снаружи.
Надев наспех сапоги на босые ноги и накинув самое теплое пальто прямо на пижаму, он рванулся наружу, зовя ее по имени.
Мисс Гамм его, конечно, услыхала и отчаянно замахала рукой:
— Сюда, Сеп, сюда! Давай скорее!
Дальше я приведу слова самого Септимуса:
«Для меня это прозвучало как «на помощь!». Я заключил, что моя любовь в состоянии умопомрачения выбежала на лед, и он подломился. Мог ли я вообразить, что она по доброй воле полезла в ледяную воду? Я так ее любил, Джордж, что немедленно, несмотря ни на что, бросился к воде, которой я обычно боюсь как огня — особенно ледяной воды — чтобы спасти ее. Ну, если и не немедленно, то подумав всего две минуты, ну максимум — три.
Тут я крикнул: «Любовь моя, я иду! Держи голову над водой!» — и побежал. Я не собирался идти туда через снег — понимал, что времени мало. Уменьшив на бегу вес, я заскользил, прямо над снегом, прямо надо льдом, окружившим берега озера, и прямо в воду с оглушительным всплеском. Как вы знаете, плавать я не умею и вообще дико боюсь воды. Сапоги и пальто тянули меня вниз, и я бы утонул, если бы Мерседес меня не спасла. Можно было бы полагать, что такой романтичный случай свяжет нас еще теснее, но вот…»
Септимус покачал головой, и в глазах его стояли слезы.
— Все вышло не так. Она была в ярости. «Ты, дубина! — визжала она. — Подумать только, прыгнуть в воду в пальто и в сапогах, да еще и не умея плавать! Ты вообще соображаешь, что делаешь? Ты можешь понять, каково такую дубину вытаскивать из озера? А ты еще настолько одурел, что схватил меня за челюсть и чуть не послал в нокаут, и мы оба чуть не утонули. До сих пор болит». Она собралась и уехала в диком бешенстве, а я остался и почта сразу схватил отвратительнейшую простуду, из которой до сих пор не выберусь. С тех пор я ее не видел, на мои письма она не отвечает и к телефону не подходит. Моя жизнь кончена, Джордж.
Я спросил:
— Септимус, просто из любопытства: зачем вы бросились в воду? Почему вы не попытались зайти на лед как можно дальше и протянуть ей жердь подлиннее или веревку, если бы вы смогли ее найти?
Септимус с горестным видом сказал:
— Я не собирался бросаться в воду. Я хотел проскользить по поверхности.
— По поверхности? Разве не говорил я вам, что ваша антигравитация работает лишь на льду?
Во взгляде Септимуса появилось напряжение:
— Я так не думал. Вы сказали, что она работает только над H2O. Значит, и над водой, так?
Он был прав. Термин «H2O» я употребил для вящей научности — он больше подходил к образу гениального ученого. Я возразил:
— Я имел в виду твердую H2O.
— Но вы же не сказали «твердую H2O», — сказал он, медленно поднимаясь с места, и в его глазах я прочел, что сейчас меня разорвут на части.
Я не стал ожидать подтверждения этой гипотезы. С тех пор я его не видел.
И в его загородном парадизе тоже не бывал. Кажется, он теперь живет где-то на острове в южных морях — в основном, как я подозреваю, потому, что не хочет вновь видеть лед или снег.
Как я и говорил: «Ее в судьбу свою впусти…», хотя если подумать, то это, кажется, сказал Гамлет перед тем, как вонзить кинжал в Офелию.
Джордж испустил нечто среднее между отрыжкой и пропитанным винными парами вздохом из глубины того, что он считает своей душой, и сказал:
— Однако они уже закрывают, и нам лучше бы тоже уйти. Вы заплатили по счету?
К несчастью, я заплатил.
— А не можете ли вы дать мне пятерку — добраться домой?
К еще большему несчастью, я мог.
Логика есть логика
Есть робкие души, которые ни за что не посмеют критиковать еду, если не они за нее платят. Джордж не из таких. Он выражал мне свое недовольство, хотя и со всей деликатностью, на которую был способен — или которую я, по его мнению, заслуживал, что, конечно, не одно и то же.
— Ужин в целом, — говорил Джордж, — весьма ниже среднего. Котлеты недостаточно горячие, селедка недостаточно соленая, креветки недостаточно хрустящие, сыр недостаточно острый, яйца-кокот недостаточно наперчены…
Я перебил:
— Джордж, вы уже уплетаете третью тарелку. Еще один глоток — и избыточное давление в желудке вам сможет снять только хирург. Зачем вам есть такую гадость в таких количествах?
Джордж ответил с достоинством:
— Разве это похоже на меня — унизить хозяина отказом от его еды?
— Это не моя еда, а ресторанная.
— Именно хозяина этой мерзкой дыры и я имел в виду. Скажите, старина, почему бы вам не стать членом какого-нибудь хорошего клуба?
— Мне? Платить бешеные суммы за сомнительные выгоды?
— Я имею в виду хороший клуб, в котором вы могли бы вознаградить меня великолепной едой за согласие быть вашим гостем. Но нет, — добавил он вызывающе-презрительным тоном, — это бред сумасшедшего. Какой клуб захочет так себя компрометировать, что предоставит вам членство?
— Любой клуб, который допустит вас в качестве гостя, с удовольст…
Но Джорджем уже овладели реминисценции.
— Я помню время, — сказал он, и глаза его блеснули, — когда я по крайней мере раз в месяц обедал в клубе с самым роскошным и изысканным буфетом, который когда-либо существовал со времен Лукулла.
— Полагаю, что вы шли как бесплатное приложение в качестве чьего-нибудь гостя.
— Не понимаю, почему это так вам кажется, но совершенно случайно вы угадали. Членом этого клуба и, что гораздо важнее, человеком, иногда меня туда приглашавшим, был Алистер Тобаго Крамп VI.
— Джордж, — спросил я, — опять очередная история, как вы с Азазелом ввергли какого-нибудь беднягу в пучину несчастья и отчаяния своей неудачной попыткой помощи?
— Не понимаю, что вы имеете в виду. Мы выполнили сокровенное желание его сердца из бескорыстия и абстрактной любви к человечеству — и моей более конкретной любви к буфету. Но давайте я расскажу все сначала.
Алистер Тобаго Крамп VI был членом клуба «Эдем» с самого рождения, поскольку его отец, Алистер Тобаго Крамп V, внес своего сына в списки сразу, как только удостоверился лично, что предварительный диагноз доктора относительно пола младенца соответствует истине. Алистер Тобаго Крамп V был, в свою очередь, точно так же внесен в списки своим отцом, и так далее до тех дней, когда Билла Крампа зашанхаили в пьяном виде в британский флот, и он, когда пришел в себя, обнаружил, что является членом экипажа одного из кораблей, отбивших Нью-Амстердам у голландцев в тысяча шестьсот шестьдесят четвертом году.
«Эдем» — самый элитный клуб на всем североамериканском континенте. Он настолько закрытый, что о его существовании знают лишь его члены и несколько избранных гостей. Даже я не знаю, где он расположен, поскольку меня всегда возили туда с завязанными глазами и в карете с матовыми стеклами. Могу только сказать, что около самого клуба лошадиные копыта стучали по участку мощеной дороги.
В «Эдем» не могли быть приняты люди, у которых родословная с обеих сторон не восходила к колониальным временам. Но в расчет бралась не только родословная. Джордж Вашингтон был при тайном голосовании забаллотирован, поскольку был неопровержимо доказан факт его бунта против феодального сюзерена.
Аналогичные требования предъявлялись и к гостям, но меня, как вы понимаете, это не выводило из списка. Я же не иммигрант первого поколения из Герцеговины, или Добруджи, или тому подобного места. Моя родословная безупречна, ибо все мои предки обитали на территории этой нации, начиная с семнадцатого столетия, и с тех пор никто из них не впадал в грех бунта, нелояльности или антиамериканизма, поскольку и в войну за независимость, и в гражданскую войну одинаково радостно приветствовал марширующие мимо них армии обеих сторон.
Мой друг Алистер необычайно гордился членством в «Эдеме». Часто и регулярно (поскольку был классический зануда и то и дело повторялся) он мне говорил:
— Джордж, «Эдем» — это становой хребет моего бытия, смысл моего существования. Если бы у меня было все, что могут дать богатство и власть, но не было бы «Эдема» — я был бы нищим.
На самом деле у Алистера было все, что могут дать богатство и власть, потому что вторым условием членства в «Эдеме» было огромное богатство. Это диктовалось хотя бы размером ежегодного взноса. Но опять-таки одного богатства было мало. Оно должно было быть не заработано, а унаследовано. Любой намек на работу за плату напрочь исключал саму возможность членства. И меня удерживало вне клуба лишь то, что мой папаша забыл оставить мне пару десятков миллионов долларов, поскольку я никогда не запятнал себя таким позором, как…
Что значит ваше «я знаю»? Вы никак об этом знать не можете. Конечно, никаких возражений не вызывало умножение членом клуба своих богатств путем получения любой прибыли, не связанной с работой за плату. Всегда существуют такие вещи, как спекуляция акциями, уклонение от налогов, лоббирование и другие разумные изобретения, которые для богатого являются второй натурой.
Все это членами «Эдема» воспринималось весьма всерьез. Известны случаи, когда потерявшие в припадке честности свое состояние эдемиты предпочитали медленную смерть от голода работе за деньги и потере членства. Их имена до сих пор произносят, понижая голос, а мемориальные доски в их честь украшают парадный зал клуба.
Нет, старина, занять денег у других членов клуба они не могли. Такое предположение очень характерно для вас. Каждый член «Эдема» знает, что никто не будет занимать у богатого, если существуют толпы бедных, только и ждущих, чтобы кто-нибудь их облапошил. Библия учит нас: «Да пребудут бедные ваши с вами всегда», а для членов «Эдема» превыше всего — набожность.
И все же Алистер не был вполне счастлив, ибо члены «Эдема», к сожалению, его очевидным образом избегали. Я вам говорил уже, что он был занудой. У него никогда не было ни умения вести разговор, ни блеска ума, ни свежего мнения. Даже в среде членов клуба, остроумие и оригинальность которых соответствовали уровню четвертого класса начальной школы, он выглядел на редкость уныло.
Можете себе вообразить его огорчение, когда ему приходилось вечер за вечером одиноко просиживать в «Эдеме» среди толпы. Океан разговоров, какими бы жалкими они ни были, омывал его с головы до ног, а он оставался сух. И все же он никогда не пропустил ни одного вечера в клубе. Он даже велел приносить себя туда во время тяжелой дизентерии в надежде утвердиться в качестве «Железного Крампа». Члены клуба издали восхищались, но благодарности почему-то не выражали.
Иногда я оказывал ему честь принять его приглашение в «Эдем». Родословная у меня безупречна, аристократический сертификат не-работника достоин восхищения всей общественности, а в награду за непревзойденно тонкие блюда за его счет и изысканнейшую обстановку я должен был с ним разговаривать и смеяться его скуловоротным шуткам. Мне было жаль бедного парня от всей глубины моего чувствительного сердца.
Следовало найти какой-то способ сделать его душой общества, средоточием жизни «Эдема», человеком, за обществом которого гонялись бы даже члены клуба. Мне рисовались пожилые и респектабельные эдемиты, отпихивающие друг друга локтями и кулаками ради возможности сесть к нему поближе за ужином.
В конце концов, Алистер ведь был воплощенная респектабельность, каким и должен быть эдемит. Он был высокий, он был худой, имел лицо, похожее на морду породистой лошади, жидкие блондинистые волосы по бокам головы, бледно-голубые глаза и общий унылый вид формально-консервативной ортодоксальности, присущей человеку, чьи предки настолько высоко себя ставили, что даже браки заключали только внутри своего клана. Единственное, чего ему не хватало, — это умения сказать или сделать что бы то ни было, достойное малейшего интереса.
Впервые Азазел не докучал мне жалобами на то, что я вызвал его из его таинственного мира. Он там был на каком-то обеде в складчину, и сегодня как раз была его очередь платить, а я его выдернул за пять минут до подачи счета. Он хохотал, заливаясь, мерзким фальцетом — как вы помните, он ростом всего два сантиметра.
— Я через пятнадцать минут вернусь, — хихикал он, — а за это время кто-то уже успеет оплатить счет.
— А как ты объяснишь свое отсутствие? — спросил я.
Он вытянулся во весь свой микроскопический рост и закрутил хвост штопором.
— Я скажу правду: меня вызвал для совета экстрагалактический монстр экстраординарной глупости, которому до зарезу понадобилась моя интеллектуальная мощь. Что тебе надо на этот раз?
Я ему объяснил, и, к моему изумлению, он разразился слезами. По крайней мере, у него из глаз брызнули две тоненькие красные струйки. Я полагаю, что это были слезы. Одна попала мне в рот, и вкус она имела безобразный — как дешевое красное вино, точнее, она напомнила бы мне вкус дешевого красного вина, если бы я когда-нибудь опускался до того, чтобы знать этот вкус.
— До чего грустно, — всхлипнул он. — Я тоже знаю случай, когда достойнейшее существо подвергается снобистскому пренебрежению тех, кто гораздо ниже его. Не знаю большей трагедии, чем эта.
— Кто бы это мог быть? Я хочу спросить, кто это существо?
— Я, — сказал он, тыча себя пальцем в грудь.
— Не могу себе вообразить, — сказал я. — Неужели ты?
— И я не могу вообразить, — сказал он, — но это правда. Ладно, что может делать этот твой друг такого, за что мы могли бы зацепиться?
— Вообще-то он иногда рассказывает анекдоты. По крайней мере, пытается. Это ужасно. Он начинает рассказывать, путается, сбивается, возвращается и в конце концов забывает, что хотел сказать. Я часто видел, как от его анекдотов плакали навзрыд суровые мужчины.
— Плохо, — покачал головой Азазел. — Очень плохо. Дело в том, что я сам великолепный мастер анекдота. Не помню, рассказывал ли я тебе, как однажды плоксы и денниграмы схлестнулись в андесантории, и один из них сказал…
— Рассказывал, — соврал я, не моргнув глазом. — Но давай вернемся к делу Крампа.
Азазел спросил:
— Нет ли какого-нибудь простенького способа улучшить его выступления?
— Разумеется — дать ему умение гладко говорить.
— Это само собой, — ответил Азазел. — Простая дивалинация голосовых связок — если у вас, варваров, есть что-нибудь подобное.
— Найдем. И еще, конечно, умение говорить с акцентом.
— С акцентом?
— На искаженном языке. Иностранцы, которые учат язык не в младенчестве, а позже, непременно искажают гласные, путают порядок слов, нарушают грамматику и так далее.
На крохотной мордочке Азазела отразился неподдельный ужас.
— Это же смертельное оскорбление!
— Не в этом мире. Так должно быть, но на самом деле не так.
Азазел грустно покачал головой и спросил:
— А этот твой друг когда-нибудь слышал непотребности, которые ты называешь акцентом?
— Непременно. Всякий, кто живет в Нью-Йорке, все время слышит акценты всех видов и сортов. Здесь вряд ли услышишь правильный английский язык, такой, как у меня, например.
— Ага, — сказал Азазел. — Тогда остается только отскапулировать ему память.
— Чего ему память?
— Отскапулировать. Обострить в некотором смысле. Восходит к слову «скапос», что означает «зуб зумоедного диригина».
— И он сможет рассказывать анекдоты с акцентом?
— Только с таким, который раньше слышал. В конце концов, моя мощь не безгранична.
— Тогда скапулируй его.
Через неделю я встретил Алистера Тобаго Крампа VI на перекрестке Пятой авеню и Пятьдесят третьей улицы, но тщетно высматривал на его лице следы недавнего триумфа.
— Алистер, — спросил я его, — есть новые анекдоты?
— Джордж, — ответил он. — Никто не хочет слушать. Иногда мне кажется, что я рассказываю анекдоты не лучше всякого другого.
— Ах, вот как? Тогда сделаем так. Мы с вами пойдем сейчас в одно маленькое заведение, где меня знают. Я вас представлю как юмориста, а вы потом встанете и скажете все, что захотите.
Могу вас уверить, друг мой, уговорить его было трудно. Мне пришлось использовать все свое личное обаяние в полную силу, но в конце концов я победил.
Мы с ним пошли в довольно дешевую забегаловку, которую я случайно знал. Для ее описания достаточно будет упомянуть, что она очень похожа на те, куда вы меня приглашаете обедать.
Управляющий в этой забегаловке был мне знаком, и благодаря этому удачному обстоятельству мне удалось добиться его разрешения на эксперимент.
В одиннадцать вечера, когда пьяное веселье было в самом разгаре, я поднялся на ноги, и аудитория была сражена моим величественным видом. Она состояла всего из одиннадцати человек, но мне казалось, что для первого раза этого достаточно.
— Леди и джентльмены, — объявил я им, — среди нас присутствует джентльмен величайшего интеллекта, мастер нашего языка, которого я с удовольствием вам сейчас представлю. Алистер Тобаго Крамп VI, профессор кафедры английского языка в колледже Колумбии, автор книги «Как говорить по-английски безупречно». Профессор Крамп, не будете ли вы столь любезны сказать несколько слов собранию?
Крамп с несколько сконфуженным видом встал и произнес: «А шо, ви таки да хочете мене послю-у-ушать?»
Я слыхивал, друг мой, ваши анекдоты, рассказанные с потугой на то, что вы считаете еврейским акцентом, но уверяю вас: по сравнению с Крампом вы сошли бы за выпускника Гарварда. Соль была в том, что Крамп и в самом деле выглядел так, как должен по понятиям публики выглядеть профессор кафедры английского языка. И от сочетания этой грустной породистой физиономии с внезапной фразой на чистейшем «идинглише» вся публика разом застыла. А потом был взрыв и раскаты истерического хохота.
На лице Крампа выразилось легкое изумление. Обратясь ко мне, он с удивительным шведским распевом, который я даже не пытаюсь воспроизвести, сказал:
— Обычно я не бываю получать реакцию такую силу.
— Не обращайте внимания, — сказал я ему. — Продолжайте.
Но пришлось чуть-чуть подождать, пока схлынет волна смеха, и тут он начал рассказывать анекдоты с ирландским кваканьем, с шотландским скрежетом, на лондонском кокни, с акцентом среднеевропейца, испанца, грека. Особенно ему удавался чистый бруклинский язык — ваш почти родной благородный язык, старина, как я понимаю.
После этого выступления я давал ему каждый вечер провести несколько часов в «Эдеме», а потом тащил в забегаловку. Слух о нем шел из уст в уста. В первый вечер в зале было свободно, зато потом целые орды кишели на улицах, стараясь проникнуть внутрь — но тщетно.
Крамп воспринимал это все спокойно. На самом деле он даже выглядел расстроенным.
— Послушайте, — говорил он мне, — какой смысл мне растрачивать ценный материал на этих обыкновенных олухов. Я хотел бы испытать свое искусство на своих товарищах по «Эдему». Они раньше не стали бы слушать моих анекдотов, потому что мне в голову не приходило использовать акценты. На самом деле я просто не понимал, что я это могу — какое-то неправдоподобное снижение самооценки, в которое впал такой веселый и остроумный человек, как я. Наверное, потому, что я не нахал и не проталкиваюсь вперед…
Он говорил на прекрасном бруклинском, который на мои деликатные уши действует неприятно — я не хочу вас обидеть, друг мой, — и поэтому я поспешил его заверить, что я все устрою.
Управляющему заведения я рассказал о богатстве членов «Эдема», ни слова не говоря об их фантастической скаредности, не уступающей их богатству. Управляющий, несколько остолбенев, разослал им контрамарки, чтобы заманить к себе. Это было сделано по моему совету, поскольку я знал, что ни один эдемит не в силах устоять против бесплатного приглашения на спектакль, тем более что я исподволь распустил слух, будто там покажут фильмы только для мужчин.
Члены клубы прибыли в полном составе, и Крамп вырос просто на глазах. Он заявил:
— Теперь они мои. У меня есть такой корейский выговор, что они просто лягут.
У него еще было такое южное растягивание гласных и такой носовой акцент штата Мэн, что, не услышав, не поверишь.
Несколько первых минут члены «Эдема» сидели в каменном молчании, и я даже испугался, что юмор Крампа до них не доходит, но это они просто окаменели от изумления, а как только чуть оправились, начали просто ржать.
Тряслись жирные пуза, спадали с носов пенсне, ветер поднимался от бакенбардов. Отвратительные звуки всех оттенков и диапазонов — от хихикающих фальцетов одних и до басового блеяния других, оскорбляющие само понятие «смех», оскорбляли его вовсю.
Крамп выступал в своей обычной манере, и хозяин заведения, ощущая себя на верной дороге к неисчислимому богатству, в перерыве подбежал к Крампу и произнес:
— Слушайте, дружище, знаю, что вы лишь просили меня дать вам возможность показать свое искусство и что вы намного выше той грязи, что люди зовут деньгами, но так больше продолжаться не может. Считайте меня сумасшедшим, дружище, но вот ваш чек. Вы это заработали, каждый цент, так что берите и ни в чем себе не отказывайте.
И тут, с щедростью истинного антрепренера, ожидающего миллионные прибыли, он сунул Крампу чек на двадцать пять долларов.
Это, как я понимал, было началом. Крамп добился славы и удовлетворения, стал кумиром завсегдатаев ночного клуба, предметом обожания зрителей. Деньги лились на него потоком, но он, будучи благодаря своим обиравшим сирот предкам богат, как не снилось Крезу, в деньгах не нуждался и передавал их своему бизнес-менеджеру — мне, короче говоря. За год я стал миллионером, и вот чего стоит ваша идиотская теория, что мы с Азазелом приносим только несчастье.
Я сардонически взглянул на Джорджа:
— Поскольку до миллионера вам не хватает только нескольких миллионов долларов, я полагаю, Джордж, вы собираетесь сейчас сказать мне, что это был всего лишь сон.
— Ничего подобного, — с достоинством ответил Джордж. — История абсолютно истинна, как и любое произнесенное мною слово. Окончание же, обрисованное мной сейчас, было бы абсолютно верным, кабы Алистер Тобаго Крамп не был бы дураком.
— А он был?
— Несомненно. Судите сами. Обуянный гордыней из-за того чека в двадцать пять долларов, он вставил этот чек в рамку, принес в «Эдем» и всем показывал. Что оставалось делать членам клуба? Он заработал деньги. Он получил деньги за труд. Они обязаны были его исключить. А исключение из клуба так на него подействовало, что с ним случился сердечный приступ, оказавшийся роковым. Разве это моя вина или вина Азазела?
— Но ведь если он вставил чек в рамку, значит, денег он не получил?
Джордж величественным жестом магистра поднял правую руку, левой в то же самое время перебрасывая счет за ужин в мою сторону.
— Здесь дело в принципе. Я вам говорил, что эдемиты очень набожны. Когда Адама изгнали из Эдема, Господь велел ему трудиться, чтобы жить. Мне кажется, дословно было сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». Отсюда следует и обратное: каждый, кто трудом зарабатывает себе на хлеб, должен быть изгнан из «Эдема». Логика есть логика.
Кто быстрее свой путь пройдет
Как раз тогда я только что вернулся из Вильямсбурга в Каролине, и мое чувство облегчения от возможности вернуться к любимой пишущей машинке и текстовому процессору смешивалось с остатками легкого возмущения от того, что, вообще пришлось туда ехать.
Джордж не рассматривал тот факт, что он только что прошелся как завоеватель по меню шикарного ресторана за счет моих потом заработанных денег, как достаточную причину для выражения мне сочувствия.
Выковыривая застрявшее меж зубов волокно бифштекса, Джордж произнес:
— На самом деле я не понимаю, старина, что вы находите неправильного в том, что организация, во всех остальных отношениях вполне респектабельная, согласна без видимого принуждения платить вам несколько тысяч долларов за часовое выступление. Мне случалось вас время от времени слушать, и я полагаю, что вам гораздо лучше было бы говорить совершенно бесплатно и не соглашаться прекратить, пока вам не заплатят этих тысяч. Это наверняка был бы более верный способ выжимать деньги из аудитории. Я отнюдь не хочу оскорблять ваши чувства, буде у вас таковые вдруг обнаружатся.
Я спросил:
— А где и когда вы, интересно, слышали мои выступления? В ваши монологи мне никогда не удавалось вставить и двух десятков слов подряд. (Я, разумеется, постарался уложить это замечание в двадцать слов.) Джордж не обратил на это внимания, как я и предполагал.
— Здесь как раз ваша душа и поворачивается весьма несимпатичной стороной, — продолжал он, — ибо в своей неуемной тяге к тому мусору, что зовется «деньги», вы так легко и часто подвергаете себя неприятностям путешествия, которые вы, по вашим же словам, не выносите. Это немножко напоминает мне историю Софокла Московитца, который также не выносил даже мысли о том, чтобы встать с кресла, кроме тех случаев, когда видел возможность увеличить свой и без того пухлый банковский счет. Он тоже выбрал для обозначения своей лени эвфемизм «нелюбовь к путешествиям». Чтобы его излечить, потребовалось обращение к моему другу Азазелу.
— Вы только на меня не напускайте это свое двухсантиметровое несчастье, — встревожился я — встревожился так правдоподобно, как если бы я и в самом деле верил в это порождение больной фантазии Джорджа.
Он снова не обратил на меня внимания.
Это был один из первых случаев (говорил Джордж), когда я обратился за помощью к Азазелу. Было это почти тридцать лет тому назад. Я только-только научился вызывать этого чертенка из его пространства и еще не очень разбирался в его возможностях.
Он, конечно, ими хвастался, но какое живое существо, кроме меня, не переоценивает свои силы и возможности?
В те времена я был более чем знаком с одной прекрасной юной дамой по имени Фифи, решившей за год до того, что лично Софокл Московитц не очень отличается от идеального образа богатого мужа, припасенного для нее судьбой.
Даже после их свадьбы мы сохранили наши не афишируемые, хотя почему-то вполне добродетельные отношения. Несмотря на эту добродетельность, я всегда был рад ее видеть, и вы сможете это понять, если я вам скажу, что превзойти ее фигуру было просто невозможно. Ее присутствие вызывало у меня приятнейшие воспоминания о тех милых нескромностях, которые мы с ней когда-то практиковали.
— Бобошка, — сказал я ей однажды, поскольку никак не мог отвыкнуть от ее сценического имени, данного ей публикой, с глубоким вниманием наблюдавшей за ее раздеванием, — Бобошка, ты прекрасно выглядишь. — Это я сказал без колебаний, поскольку в те времена я тоже выглядел ничего себе.
— Че, правда? — сказала она с той неистребимой манерой, что всегда напоминает улицы Нью-Йорка с их медным великолепием. — А чувствую я себя хреновато.
Я сперва не мог этому поверить, потому что с тех пор как она выросла, я полагаю, кто бы ее ни чувствовал, не мог не чувствовать хорошо. Тем не менее я спросил:
— А в чем дело, дорогая моя пружинка?
— В Софокле, в этом жирном клопе.
— Бобошка, не мог же тебе надоесть твой муж. Столь богатый человек просто не может быть утомительным.
— Много ты понимаешь! Жулик! Помнишь, ты мне говорил, что он богат, как тот мужик по фамилии Крез, про которого я не слыхала? Так чего ж ты мне не сказал, что этот парень Крез должен был быть чемпионом скряг?
— Софокл — скряга?
— Фантастический! Можешь поверить? Какой смысл выходить за богача, если он скряга?
— Бобошка, но ты же наверняка могла бы выдоить из него немножко денег манящими обещаниями ночного элизиума.
Фифи наморщила лобик:
— Не понимаю, что ты говоришь, но я тебя знаю, так что перестань говорить гадости. А кроме того, я ему обещала, что он этого не получит — ну, того, о чем ты говоришь, — если не развяжет кошелек, но он предпочитает обнимать свой бумажник, а не меня, и это, если подумать, оскорбительно. — Бедняжка слегка всхлипнула.
Я потрепал ее по ручке настолько не по-братски, насколько позволяли обстоятельства.
Она взорвалась:
— Когда я выходила за этого дубаря, я себе думала: «Ну, Фифи, теперь, наконец, попадешь в Париж, и на Ривейру, и на Канальские острова, и в Капабланку, и всякое такое». Ха! Хрен тебе.
— Не говори мне только, что этот сукин сын не возил тебя в Париж.
— Он не ездит никуда. Он говорит, что ему и на Манхэттене хорошо. Говорит, ему нигде не нравится. Говорит, что не любит растения, животных, деревья, траву, грязь, иностранцев и никаких зданий, кроме нью-йоркских. Я ему говорю: «А как насчет заграничных магазинов?» — так он говорит, ему они тоже не нравятся.
— А если поехать без него, Бобошка?
— Это ты прав, это было бы веселее. Только с чем ехать? Этот хмырь держит карманы на замке, а все кредитные карточки там. Мне приходится покупать у Мэйси. — Ее голос поднялся почти до визга: — Не для того я выходила замуж за этого шута горохового, чтобы у Мэйси покупать!
Я окинул взглядом различные участки этой дамы и пожалел, что мои финансы не дают возможности позволить себе такую роскошь. До замужества она иногда допускала занятия искусством для искусства, но я чувствовал, что теперешнее положение благородной замужней дамы заставит ее тверже соблюдать профессиональный кодекс в подобных вопросах. Вы должны понять, что в те дни я был в лучшей форме, чем даже сейчас, в зрелые годы жизни, но и тогда, как сейчас, был незнаком с презренным металлом мира сего.
Я спросил:
— А что, если я его уговорю полюбить путешествия?
— О Боже, если бы кто-нибудь смог!
— Допустим, я смогу. Могу я тогда рассчитывать на благодарность?
Она на меня взглянула, вспоминая.
— Джордж, — сказала она, — в тот день, когда он мне скажет, что мы едем в Париж, мы с тобой едем в номера Осбюри-парка. Помнишь?
Помнил ли я этот прибрежный кемпинг в Нью-Джерси? Мог ли я забыть эту сладостную боль в мышцах потом? Да у меня во всем теле (почти) не проходило окаменение еще и два дня спустя.
Мы с Азазелом обсудили этот вопрос за пивом (мне — кружка, ему — капля). Он считал, что оно приятно стимулирует. Я осторожно сказал:
— Азазел, а твоя магическая сила — она годится на то, чтобы сделать что-нибудь для моего удовольствия?
Он на меня глянул с пьяной добротой:
— Да ты мне только скажи, чего ты хочешь. Скажи мне, чего ты хочешь. И я тебе покажу, правда ли у меня «руки пучком растут». Всем покажу!
Когда-то он, поднабравшись политуры, настоянной на лимонных корочках (по его словам, экстракт из лимонных корок расширяет возможности разума), признался мне, что однажды получил такое оскорбление в своем мире.
Я капнул ему еще капельку пива и небрежно сказал:
— Есть у меня один друг, который не любит путешествовать. Я думаю, что для твоего искусства нет ничего трудного в том, чтобы изменить его неприязнь на горячую тягу к путешествиям.
Должен заметить, что удали в его голосе резко поубавилось.
— Я имел в виду, — сказал он своим писклявым голосом со странным акцентом, — что ты попросишь чего-нибудь разумного — например, выпрямить эту уродливую картину на стене чистым усилием воли.
Пока он говорил, картина сама по себе задвигалась и перекосилась на другую сторону.
— А зачем это надо? — спросил я. Мне столько пришлось потратить сил, чтобы повесить мои картины с правильными отклонениями от этой казарменной прямолинейности. — Мне надо, чтобы ты создал дромоманию у Софокла Московитца, такую, которая заставит его путешествовать, и при необходимости — даже без жены.
Последнее я добавил, сообразив, что присутствие Фифи в городе без Московитца создает дополнительные удобства.
— Это не просто, — сказал Азазел. — Укоренившаяся нелюбовь к путешествиям может зависеть от каких-то пережитых в детстве событий. Для коррекции таких случаев приходится использовать самые тонкие методы мозговой инженерии. Я не говорю, что это невозможно, поскольку грубый разум твоей расы не так-то легко повредить, но надо, чтобы этого человека мне показали. Я должен идентифицировать его разум и изучить.
Это было просто. Я попросил Фифи пригласить меня на обед и представить как одноклассника по колледжу. (Несколько лет назад она провела какое-то время в кампусе одного колледжа, но вряд ли ходила на занятия — она очень тяготела именно к внеклассной работе.)
Азазела я принес с собой в кармане пиджака, и мне было слышно, как он там бормочет себе под нос что-то математическое. Я предположил, что он анализирует разум Софокла Московитца, и если так, то по моей блестящей догадке, для проверки которой хватило недлинного разговора, не так уж там много было разума, чтобы так долго анализировать.
Дома я его спросил:
— Ну и как?
Он небрежно махнул крохотной ручкой и сказал:
— Это я могу. У тебя здесь есть под рукой мультифазный ментодинамический синаптометр?
— Не под рукой, — ответил я. — Свой я вчера одолжил приятелю для поездки в Австралию.
— Ну и глупо сделал, — буркнул Азазел. — Теперь мне придется все считать по таблицам.
Он так и продолжал злиться, даже когда закончил работу.
— Было почти невозможно, — проворчал он. — Только тому, кто, как я, обладает непревзойденной магической силой, это было по плечу, и то мне пришлось закреплять его отрегулированный разум здоровенными шипами.
Я понял, что он говорит в переносном смысле, и так и сказал. На что Азазел ответил:
— Нет, это так и есть. Никто никогда не сможет ничего в этом разуме изменить. У него появится такая жажда странствий, что он для ее утоления готов будет перевернуть вселенную. Теперь они увидят, эти…
Он разразился длинной тирадой, состоящей из каких-то слов его родного языка. Я, конечно, не понял, что он говорил, но, судя по тому, что в соседней комнате в холодильнике растаяли кубики льда, это были не комплименты. Подозреваю, что это были некоторые заявления в адрес тех, кто упрекал его в нестандартном расположении рук.
Не прошло и трех дней, как мне позвонила Фифи. По телефону она не производит особенного впечатления по причинам, вполне очевидным для всякого, хотя, возможно, не для вас с вашей врожденной способностью не понимать вообще никаких тонкостей. Видите ли, некоторая резкость ее голоса становится заметнее, когда не видно уравновешивающих эту резкость мягких мест.
— Джордж, — визгливо закудахтала Фифи, — ты волшебник. Я не знаю, что ты там придумал за обедом, но это помогло. Софокл берет меня с собой в Париж. Это его идея, и он страшно загорелся. Здорово, правда?
— Более чем здорово, — отозвался я с неподдельным энтузиазмом. — Это потрясающе. Теперь мы можем выполнить то маленькое обещание, которое дали друг другу. Поедем в Осбюри-парк и устроим землетрясение.
Женщинам, как можно иногда заметить, недостает понимания, что уговор — дело святое. Они в этом очень отличаются от мужчин. У них нет ни понятия о необходимости держать слово, ни чувства чести.
Она сказала:
— Джордж, мы уезжаем завтра, и у меня просто нет времени. Я тебе позвоню, когда вернусь.
И она повесила трубку. У нее было двадцать четыре часа, а мне с запасом хватило бы половины, но увы.
И она в самом деле позвонила мне, когда вернулась, но это было через полгода.
Она позвонила, но я не узнал голоса. В нем было что-то постаревшее, что-то усталое.
— С кем я говорю? — спросил я с моим обычным достоинством.
Она устало назвалась:
— Говорит Фифи Лаверния Московитц.
— Бобошка! — завопил я. — Ты вернулась! Это чудесно! Бросай все и езжай прямо…
— Джордж, — отозвалась она, — перестань. Если это твое волшебство, то ты самый мерзкий болтун, и я с тобой ни в какой Осбюри-парк не поеду, хоть ты об стенку головой бейся.
Я удивился:
— Разве Софокл не взял тебя в Париж?
— Взял, взял. Ты меня спроси, что я там купила. Я спросил:
— Так как тебе парижские магазины?
— Это смешно! Я даже начать не успела. Софокл не останавливался!
Усталость исчезла из ее голоса под напором эмоций, и она сорвалась на визг:
— Мы приехали в Париж и сразу пошли по городу. Он что-нибудь показывал и тут же бежал дальше. «Вот это — Эйфелева башня, — тыкал он пальцем в направлении какого-то глупого нагромождения стали. — А это — Нотр Дам». Он даже не знал, о чем говорит. Однажды меня два футболиста протащили в Нотр Дам, и это ни в каком не в Париже. Это в Саутбенде, в Индиане. Но кому какое дело? Мы поехали дальше, во Франкфурт, Берн и Вену, которую эти глупые иностранцы зовут Вин. И еще — есть такое место, которое называется «Трест»?
— Есть, — сказал я. — Триест.
— И там мы тоже были. И никогда не останавливались в отелях, а только на каких-то фермах. Софокл говорил, что именно так и надо путешествовать. Что он хочет видеть людей и природу. Да кому это надо — видеть людей и природу? Лучше бы мы увидели хотя бы душ. И водопровод. Тут просто начинаешь пахнуть. И в волосах завелись — насекомые. Я вот сейчас уже пятый раз моюсь под душем, и все никак не отмоюсь.
— Вымойся еще пять раз у меня, — внес я самое разумное предложение, — и устроим здесь Осбюри-парк.
Она, похоже, не слышала. Забавно, насколько может женщина не слышать самых простых доводов. Она сказала:
— На следующей неделе он начинает снова. Он сказал, что хочет пересечь Тихий океан и поехать в Гонконг. И едет на танкере. Это, говорит, лучший способ увидеть океан. Я ему сказала: «Слушай, ты, псих ползучий, если ты думаешь взять меня с собой на этом плавучем катафалке в Китай, то плыви, дикий гусь, один».
— Как поэтично, — заметил я.
— И ты знаешь, что он сказал? Он сказал: «Отлично, моя милая. Поеду без тебя». А дальше вообще был какой-то бред. Он заявил: «От заоблачных Трона высот до мрачных Геенны глубин тот быстрее свой путь пройдет, кто идет по нему один». Что это значит? Где это — Гиена? И как туда попал трон? Он что, думает, что он — королева Англии?
— Это из Киплинга, — сказал я.
— Не сходи с ума. Причем тут Киплинг? Я там не была, а он тем более. Я ему сказала, что подам на развод и оберу его до нитки. А он и говорит: «Делай как хочешь, недоразвитая, но оснований у тебя нет, и ты ничего не получишь. А мне важнее всего дорога». Как тебе понравится? Особенно вот это — «недоразвитая». Все еще заигрывает, паразит.
Видите ли, старина, это была одна из первых работ, что Азазел для меня делал, и он еще не научился как следует управлять своими действиями. А к тому же я его просил, чтобы Софокл иногда путешествовал без жены. Тем не менее у этой ситуации были свои преимущества, которые я предвидел с самого начала.
— Бобошка, — сказал я, — давай поговорим насчет твоего развода между Осбюри…
— А что до тебя, раздолбай несчастный, так что ты там напустил, какую магию, мне плевать, только держись от меня подальше, а то я скажу одному парню, который из тебя котлет наделает, стоит мне попросить, и ты от него даже в Киплинге не скроешься, понял?
Страстная женщина была Бобошка, хотя ее страсть проявилась не так, как мне хотелось бы.
Я позвал Азазела, но он, как ни старался, ничего поделать с тем, что уже было сделано, не смог. А попробовать сделать что-нибудь с Бобошкой, чтобы она более разумно на все это смотрела, он просто отказался. Это, он сказал, никому не под силу. Я не знаю почему.
Он, правда, помог мне проследить за Софоклом. Мания этого человека росла. Он преодолел на руках Панамский перешеек. Поднялся вверх по Нилу до озера Виктория на водных лыжах. Пересек Антарктиду в экипаже на воздушной подушке.
Когда президент Кеннеди объявил в шестьдесят первом году, что мы достигнем Луны еще до конца десятилетия, Азазел сказал:
— Моя работа действует.
Я спросил:
— Ты считаешь, что то, что ты проделал с его мозгом, дало ему возможность повлиять на решение президента и на космическую программу?
— Неосознанно, — ответил Азазел. — Я ведь тебе говорил, что изменения были достаточно сильны, чтоб потрясти Вселенную.
И в конце концов, старина, он попал на Луну. Помните «Аполлон-13», который предположительно потерпел аварию в космосе, и экипаж еле-еле добрался до Земли?
На самом деле на нем удрал Софокл и прихватил часть корабля на Луну, предоставив настоящему экипажу добираться до Земли на оставшемся как сумеют.
С тех пор он на Луне, бродит по ее поверхности. У него там нет ни воздуха, ни воды, ни еды, но нацеленность на путешествие, которую он получил, как-то это компенсирует. Может быть, сейчас где-то кем-то ведется работа, которая даст ему возможность рвануть на Марс или дальше.
Джордж с грустью покачал головой:
— Это насмешка. Просто насмешка судьбы.
— Какая насмешка? — спросил я.
— А вы не понимаете? Бедняга Софокл Московитц! Он ведь просто новый и улучшенный вариант Вечного Жида, а вся ирония судьбы в том, что он даже не правоверный еврей.
Джордж поднял левую руку утереть глаза, а правой потянулся за салфеткой. При этом он как-то случайно прихватил десятидолларовую бумажку, которую я положил на край стола как чаевые для официанта. Салфеткой он протер глаза, а бумажка — что с ней случилось, я не углядел. Джордж вышел, всхлипывая, а стол был пуст.
Я вздохнул и достал другую бумажку в десять долларов.
Глаз наблюдателя
Мы с Джорджем сидели на бульварной скамейке, глядя на широкий пляж и сверкающее вдали море. Я предавался невинному удовольствию разглядывания молодых дам в бикини и праздным мыслям о том, чем таким могла бы вознаградить их жизнь, что было бы хоть вполовину достойно той красоты, которую они ей придают.
Зная Джорджа уже не первый день, я не без оснований подозревал, что его мысли не ограничивались столь благородными этическими рассмотрениями. Я был уверен, что они относятся к гораздо более утилитарным аспектам существования юных дам.
Поэтому я с удивлением отреагировал на первые произнесенные им слова:
— Смотрите, старина, мы здесь сидим и упиваемся божественными красотами природы, принявшими вид прекрасных юных жен, — хорошая, кстати, получилась фраза, — а в то же время истинная красота не очевидна, да и не может ею быть. Истинная красота настолько драгоценна, что должна быть скрыта от глаз ординарного наблюдателя. Вам это не приходило на ум?
— Нет, — ответил я. — Я никогда так не думал, а теперь, когда вы это сказали, тем более не думаю. Более того, я считаю, что и вы так не думаете.
Джордж вздохнул:
— Разговор с вами, милый друг, напоминает плавание в патоке — малый результат ценой больших усилий. Я видел, как вы смотрели на эту высокую богиню, чьи два клочка текстиля только подчеркивали смысл тех нескольких квадратных дюймов, кои им положено скрывать. Но ведь вы не можете не понимать, что она выставляет лишь сугубо внешние атрибуты красоты.
— Я никогда не просил от жизни многого, — сказал я. — Сугубо внешние атрибуты такого рода меня вполне устраивают.
— Но вы подумайте, насколько красивее была бы любая молодая женщина, даже для глаз человека некомпетентного, как вы, обладай она вечными достоинствами доброты, любви к ближнему, жизнерадостности, неунывающего оптимизма — короче, всеми добродетелями, украшающими женщину, подобно золоту и мирре.
— А я думаю, Джордж, что вы пьяны. Что, ради всего святого, можете вы знать об этих или вообще о каких бы то ни было добродетелях?
— Я их знаю досконально, — внушительно ответил Джордж, — ибо совершенствуюсь в них усердно и во многом преуспел.
— Наверняка, — согласился я, — только в своей комнате и в полной темноте.
Игнорируя ваше грубое замечание (продолжал Джордж), я тем не менее считаю долгом объяснить, что, если бы даже я лично не имел таких добродетелей, я бы узнал о них из-за знакомства с молодой женщиной по имени Мелисанда Отт, урожденной Мелисандой Ренн, которая своему любящему мужу была известна как Мэгги. Я ее тоже знал под этим именем, потому что она была дочерью моего друга, ныне, увы, покойного, и всегда называла меня «дядя Джордж».
Должен сознаться, что во мне, как и в вас, есть некоторое пристрастие к тому, что вы назвали «сугубо внешними атрибутами»… Я знаю, что я первый сказал эти слова, но мы ни к чему не придем, если вы будете постоянно перебивать меня из-за каждой мелочи.
В силу этой моей маленькой слабости я должен также признать, что, когда она, увидав меня, бросалась мне на шею с радостным визгом, испытываемое мною удовольствие от такого события было бы несколько больше, если бы она была сложена более пропорционально. Она была очень худа, и выступающие кости пребольно кололись. Большой нос, слабо выраженный подбородок, волосы жидкие и прямые, мышиного цвета, а глаза — какие-то неопределенно серо-зеленые. Со своими широкими скулами она больше всего напоминала шимпанзе, который только что напихал за щеки приличный запас орехов. Короче, она не принадлежала к тем молодым женщинам, от одного появления которых молодые люди начинают учащенно дышать и стараются пододвинуться поближе.
Но у нее было доброе сердце. Она легко, с улыбкой, переносила, когда какой-нибудь впервые представленный ей без предупреждения молодой человек отшатывался и бледнел. С той же грустной улыбкой она перебывала подружкой на свадьбе у всех своих подруг. Многим детям она была крестной, еще большему числу — нянькой, а уж в искусстве кормить из бутылочки она могла бы заткнуть за пояс любую профессиональную сестру.
Она носила суп достойным беднякам и недостойным тоже, хотя многие говорили, что недостойные достойны этого гораздо больше. Она выполняла разные работы в местной церкви — за себя и за своих подруг, которые предпочитали самозабвенной службе греховные развлечения в виде кинотеатров. Она вела уроки в воскресной школе, и дети очень эти уроки любили из-за тех забавных гримас, которые она им строила (так они думали). Часто она наставляла их в изучении девяти заповедей (та, в которой говорилось о прелюбодействе, пропускалась, так как опыт показал, что она вызывает неудобные вопросы). Еще она служила добровольцем в местной публичной библиотеке.
Естественно, она потеряла всякую надежду выйти замуж еще в четыре года. Когда ей исполнилось десять, даже случайные встречи с представителем противоположного пола воспринимались как несбыточная мечта.
Она много раз мне говорила:
— Не думайте, что я несчастна, дядя Джордж. Пусть мир мужчин для меня закрыт — за исключением вашей дорогой особы и памяти о бедном батюшке — но намного больше счастья в том, чтобы творить добро.
Она посещала заключенных в окружной тюрьме, дабы побудить их к раскаянию и обратить к добру. Только двое из всех заключенных оказались настолько глупы, что потребовали в дни ее посещений перевода в одиночку.
Но однажды она познакомилась с Октавиусом Оттом, новоприбывшим молодым, но уже занимавшим ответственный пост инженером местной электрической компании. Это был замечательный молодой человек — основательный, предприимчивый, осмотрительный, смелый, честный и достойный, но при самом большом желании его нельзя было назвать красивым.
Под выпадающими — точнее, выпавшими — волосами был расположен бульбообразный лоб, под ним — бесформенный нос, тонкие губы, по бокам головы — неимоверно оттопыренные уши, а на тощей шее — выступающий кадык, никогда не пребывавший в покое. То, что еще оставалось от волос, было ржавого цвета, а на руках и лице беспорядочно толпились веснушки. Я присутствовал при первой случайной встрече Октавиуса и Мэгги на улице. Оба они не ожидали ничего подобного, и оба реагировали как пара норовистых лошадей, перед которыми вдруг выскочила дюжина клоунов в дюжине париков и дунула в дюжину свистков. На секунду мне показалось, что Мэгги и Октавиус сейчас развернутся и удерут.
Но эта секунда прошла, и каждый из них успешно подавил приступ панического ужаса. Мэгги только прижала руку к сердцу, как будто боясь, что сейчас оно выпрыгнет из грудной клетки в поисках более безопасного убежища, а он потер лоб рукой, словно Оттоняя кошмарное воспоминание. Я уже был несколько дней знаком с Октавиусом и представил их друг другу. Каждый нерешительно протянул руку, как будто боясь подкрепить ощущением зрительный образ.
Позже в тот же вечер Мэгги после долгого молчания сказала мне:
— Какой странный вид у этого молодого человека — мистера Отта.
Я ответил с той свойственной мне свежестью метафоры, что всегда так восхищает моих друзей:
— Не следует, дорогая, судить о книге по обложке.
— Но ведь обложка тоже существует, дядя Джордж, — серьезно возразила она, — и с этим приходится считаться. Позволю себе сказать, что обычная молодая женщина, легкомысленная и не слишком чувствительная, не стала бы общаться с мистером Оттом. Поэтому было бы добрым делом показать ему, что не все молодые женщины столь поверхностны, но по крайней мере одна из них не отвернется от человека на том только основании, что он похож на… на… — она задумалась, но так как не могла вспомнить ничего похожего из животного царства, закончила: — … на то, на что он похож. Мне следует проявить к нему внимание.
Мне неизвестно, был ли у Октавиуса конфидент, которому он мог бы сделать подобное заявление. Скорее всего нет, потому что очень мало кто из нас, если вообще кто-нибудь, имеет счастье числить среди своих близких дядю Джорджа. Тем не менее, учитывая последующие события, я уверен, что ему пришли в голову те же мысли — конечно, с соответствующей заменой действующих лиц.
Так или иначе, каждый из них постарался отнестись к другому с теплотой и добротой, сначала осторожно и робко, потом увлеченно и, наконец — страстно. Редкие встречи в библиотеке перешли в походы в зоопарк, потом в кино по вечерам, затем на танцы, которые вскоре сменились — извините мой язык — свиданиями.
Люди уже начинали, видя одного из них, тут же искать взглядом другого, поскольку привыкли к тому, что эта пара неразлучна. Часть соседей активно жаловалась, что двойная доза Октавиуса и Мэгги — это больше, чем можно требовать от выносливости обычного человеческого глаза, и среднемесячные расходы на солнечные очки резко возросли.
Не скажу, чтобы я совсем не сочувствовал этим крайним взглядам, но были и другие — более терпимые, а может быть, и более разумные, которые утверждали, что по какому-то странному стечению обстоятельств специфические черты каждого из них противоположны друг другу и взаимно компенсируются, так что их легче выносить, когда они вместе. По крайней мере так считалось.
Наконец наступил день, когда Мэгги вбежала ко мне домой и заявила:
— Дядя Джордж, Октавиус — смысл и свет моей жизни. Он сильный, стойкий, строгий, серьезный и стабильный. Он прекрасен.
— Внутренне — да, моя милая. В этом я уверен. Что же касается его внешности, то он…
— Превосходен, — сказала Мэгги сильно, стойко, строго, серьезно и стабильно. — Дядя Джордж, он испытывает ко мне те же чувства, что и я к нему, и мы решили пожениться.
— Вы с Оттом? — спросил я слабеющим голосом. Перед моим мысленным взором невольно мелькнул образ возможных последствий такого брака, и мой голос предательски пресекся.
— Да, — ответила она. — Он мне говорит, что я — солнце его жизни и луна его радости. А еще он добавил, что я — все звезды его счастья. Он очень поэтичен, дядя Джордж.
— Да, похоже, — сказал я, пытаясь не выдать голосом сомнения. — И когда вы планируете свадьбу?
— Как можно скорее, — заявила Мэгги.
Мне оставалось только скрипнуть зубами. Прошло оглашение, были выполнены все формальности, и, наконец, состоялась свадьба, на которой я был посаженым отцом невесты. Явилась вся округа, которая до конца в это не верила. Даже священнику иногда не удавалось скрыть удивление. Нельзя сказать, что хоть кто-нибудь приветствовал молодую чету счастливым взглядом. Во все время церемонии публика с интересом изучала собственные ботинки. Все, кроме священника. Его твердый взгляд не отрывался от потолка.
Вскоре после этого я должен был переехать в другую часть города и потерял контакт с Мэгги. Но где-то лет через одиннадцать я вернулся в связи с инвестициями в работу некоего моего друга по изучению скаковых лошадей. Я выкроил возможность навестить Мэгги, которая обладала, кроме прекрасно спрятанной красоты, талантами великолепной поварихи. Я угадал к ленчу. Октавиус уже ушел на работу, но я, как человек альтруистичный, доел за него его порцию.
Однако я не мог не заметить, что на лице у Мэгги лежала какая-то тень печали. Когда мы уже пили кофе, я спросил:
— Мэгги, что-нибудь не так? Ваш брак не оказался счастливым?
— Ну, что вы, дядя Джордж, — энергично возразила она, — наш брак заключен на небесах. Хотя мы и бездетны, мы так заняты друг другом, что почти и не чувствуем этого лишения. Мы просто купаемся в вечной любви, и больше нам просить у жизни нечего.
— Понимаю, — сказал я, с трудом удержавшись от комментариев. — Но почему тогда у тебя на лице какая-то грустная тень?
Она заколебалась, но потом ее прорвало:
— Вы такой чуткий, дядя Джордж, от вас ничего не скроешь. Да, есть одна вещь, которая подсыпает песок в колеса счастья.
— И это?
— И это — моя внешность.
— Твоя внешность? А что тебя не устраивает… Окончание фразы я проглотил, не будучи в силах его подобрать.
— Я некрасива, — сказала Мэгги таким тоном, каким сообщают очень глубокую тайну.
— А! — сказал я.
— А я хотела бы быть красивой — ради Октавиуса. Я хочу быть симпатичной только для него.
— А он когда-нибудь делал замечания насчет твоей внешности? — осторожно спросил я.
— Октавиус? Конечно, нет. Он гордо страдает молча.
— Откуда же ты тогда знаешь, что он страдает?
— Так мне подсказывает женская интуиция.
— Но, Мэгги, ведь Октавиус и сам — ну, не очень красив.
— Как вы можете? — возмутилась Мэгги. — Октавиус прекрасен!
— А он, наверное, думает, что ты прекрасна.
— Ну, что вы, — сказала Мэгги. — Как он мог бы такое предположить?
— Ладно. Он интересуется другими женщинами?
— Дядя Джордж! — Мэгги была шокирована. — Что за низкая мысль! Вы меня удивляете. Октавиус ни на кого, кроме меня, не смотрит.
— Так какая тогда разница, красива ты или нет?
— Но ведь для него же. Дядя Джордж, я хочу быть красивой для него.
И вдруг, уткнувшись мне в плечо самым неожиданным и неприятным образом, она стала поливать слезами мой пиджак. Когда она закончила, его можно было выжимать.
Я тогда уже был знаком с Азазелом — демоном ростом в два сантиметра. Может быть, я вам о нем случайно… Послушайте, вот такое демонстративное бормотание: «Тошнит уже» — это просто неприлично. Те, кто пишет так, как вы, вообще не должны бы упоминать ничего, что связано с тошнотой читателя или слушателя.
Ладно, как бы там ни было, я вызвал Азазела.
Азазел явился спящим. У него на крохотной головке была надета сумка из какого-то зеленого материала, и только сопранный писк откуда-то из нее указывал на то, что он жив. И еще жилистый хвост время от времени выпрямлялся и дрожал с легким жужжанием.
Я несколько минут подождал, а когда он не проснулся, я аккуратно снял пинцетом сумку у него с головы. Он медленно открыл глаза и посмотрел на меня. Он сказал:
— Я сначала подумал, что это просто кошмар. А оказывается, еще противнее!
Игнорируя эти детские обиды, я перешел к делу:
— Есть работа, которую я хочу, чтобы ты для меня сделал.
— Естественно, — сказал Азазел. — Ты же не предполагаешь, что я ожидаю, что ты предложишь, что ты сделаешь для меня работу.
— Я бы сделал немедленно, — сказал я прочувствованным голосом, — если бы нашлась такая работа, которую человек с моими малыми возможностями мог бы сделать для столь могущественного существа.
— Что верно, то верно, — буркнул Азазел, смягчаясь.
Омерзительно видеть, хотел бы добавить я, как любой разум доступен лести. Вот, например, я видел, как вы сходите с ума от животной радости, когда у вас просят автограф. Но вернемся к моему рассказу.
— В чем дело? — спросил Азазел.
— Я хотел бы сделать женщину красивой.
Азазел пожал плечами:
— Я не уверен, что это у меня получится. Стандарты красоты вашего примитивного и водянисто-разбухшего вида довольно отвратительны.
— Уж какие есть. Я тебе расскажу, что делать.
— Ты мне расскажешь?! — завопил он, дрожа от ярости. — Ты расскажешь мне, как стимулировать и преобразовывать волосяные луковицы, как укреплять мышцы, как наращивать и рассасывать кости? И все это ты будешь рассказывать мне?
— Отнюдь, — смиренно ответил я. — Детальное управление механизмами, которыми будет выполнено это действие, может быть осуществлено лишь существом с твоими сверхъестественными способностями. Я лишь прошу позволения описать те сугубо внешние эффекты, которых надлежит достигнуть.
Азазел снова смягчился, и мы стали говорить о деле.
— Не забудь, — попросил я, — чтобы эффект проявился постепенно — дней этак за шестьдесят. Слишком быстрая перемена может вызвать пересуды.
— Не хочешь ли ты сказать, — спросил Азазел, — что мне придется провести шестьдесят дней за надзором, регулировкой и коррекцией? По-твоему, мое время ничего не стоит?
— Но ведь ты сможешь описать эту работу в биологических журналах твоего мира. Для выполнения такой работы мало у кого из твоих соплеменников хватило бы умения или терпения.
Азазел задумчиво кивнул:
— За дешевой популярностью — я, разумеется, не гонюсь, — сказал он, — но я думаю, что должен подать пример меньшей братии нашего мира. — Он вздохнул, хотя вздох получился больше похож на тонкий свист. — Хлопотная и нудная работа, но это мой долг.
А у меня был свой долг. Я считал необходимым оставаться поблизости в течение всего времени изменения. Мой игравший на скачках приятель дал мне приют в обмен на мои советы и экспертизу прошедших заездов и благодаря этому проиграл очень мало.
Каждый день я под тем или иным предлогом встречался с Мэгги и замечал все более и более явные перемены. Волосы стали пушистее и легли волной, обещая завиться в золотые кудри.
Постепенно стал выступать подбородок, скулы становились тоньше и выше. Цвет глаз сместился к синему и с каждым днем становился все сочнее и сочнее, почти переходя в фиалковый. У век появился тонкий восточный разрез. Уши стали обретать изящную форму, и на них появились мочки. Фигура мало-помалу округлялась, а талия становилась тоньше. Знакомые были озадачены. Я сам слышал, как ее спрашивали:
— Мэгги, что ты с собой сделала? У тебя чудесные волосы, и ты вообще стала на десять лет моложе.
— Я ничего с собой не делала, — отвечала Мэгги. Она была озадачена, как и все остальные — кроме меня, разумеется.
Меня она спрашивала:
— Дядя Джордж, вы не находите, что я изменилась?
— Ты прекрасно выглядишь, Мэгги, — отвечал я, — но для меня ты всегда прекрасно выглядела.
— Может быть, — говорила Мэгги, — но для себя я никогда до последнего времени не выглядела хорошо. И я этого не понимаю. Вчера на меня уставился какой-то наглый молодой человек. Раньше они всегда старались проскочить мимо и прятали глаза, а этот — подмигнул. Меня это так поразило, дядя Джордж, что я даже ему улыбнулась.
Две-три недели спустя я встретил около ресторана ее мужа Октавиуса. Я стоял и изучал выставленное в окне меню. Поскольку он собирался зайти внутрь и заказать обед, у него не заняло много времени пригласить меня к нему присоединиться, а у меня заняло еще меньше времени это приглашение принять.
— У вас не слишком счастливый вид, Октавиус, — сказал я.
— Я действительно не слишком счастлив, — ответил он. — Я не знаю, что случилось с Мэгги в последнее время. Она так рассеянна, что почти меня не замечает. Она всегда хочет быть на людях. А вот вчера…
— Вчера? — переспросил я. — Что вчера?
— Вчера она попросила называть ее Мелисандой. Я же не могу называть Мэгги таким смешным именем — Мелисанда.
— А почему? Это имя ей дали при крещении.
— Но ведь она — моя Мэгги. А Мелисанда — это кто-то другой.
— Да, она слегка переменилась, — заметил я. — Вы не заметили, что она стала гораздо красивей?
— Да, — сказал Октавиус. Как будто зубами лязгнул.
— Ведь это хорошо?
— Нет! — отрубил он еще резче. — Мне нужна моя простая Мэгги с ее смешным личиком. А эта новая Мелисанда все время возится со своими волосами, мажется тенями то такими, то этакими, меряет какие-то платья и лифчики, а со мной почти и не говорит.
До конца обеда он не сказал больше ни слова.
Я подумал, что мне стоит увидеться с Мэгги и поговорить с ней как следует.
— Мэгги, — сказал я.
— Мелисанда, если вам не трудно, — поправила она меня.
— Мелисанда, — повторил я, — похоже, что Октавиус несчастлив.
— И я тоже, — ответила она довольно едко. — Октавиус становится таким нудным. Он не хочет выходить из дому. Не хочет развлекаться. Ему не нравятся мои новые вещи, моя косметика. Что он, в конце концов, из себя строит?
— Ты сама его считала королем среди мужчин.
— Ну и дура была. Он просто маленький уродец, на которого смотреть противно.
— Ты же хотела стать красивой только для него.
— Что вы имеете в виду — «стать красивой»? Я и так красивая. И всегда была красивая. Мне просто надо было сменить прическу и научиться правильно накладывать косметику. И я не дам Октавиусу стать мне поперек дороги.
Так она и сделала. Через полгода они с Октавиусом развелись, а еще через полгода Мэгги — теперь Мелисанда — вышла замуж за поразительно внешне красивого человека с мерзким характером. Однажды я с ним обедал, и он так долго мялся, принимая счет, — я даже испугался, что мне придется принять его самому.
Октавиуса я увидел примерно через год после их развода. Он по-прежнему был неженат, поскольку вид у него был все тот же, и по-прежнему от его присутствия молоко скисало. Мы сидели у него дома, где всюду были развешены фото Мэгги, прежней Мэгги, одно другого уродливей.
— Вы все еще тоскуете по ней, Октавиус, — сказал я.
— Ужасно, — ответил он. — Могу только надеяться, что она счастлива.
— Насколько я знаю, это не так. Она могла бы к вам вернуться.
Октавиус грустно покачал головой:
— Мэгги уже никогда ко мне не вернется. Может быть, ко мне хотела бы вернуться женщина по имени Мелисанда, но я бы ее не принял. Она не Мэгги — моей любимой Мэгги нет.
— Мелисанда, — заметил я, — красивей, чем Мэгги.
Он посмотрел на меня долгим взглядом.
— А в чьих глазах? — спросил он. И сам ответил: — Только не в моих.
Больше я никого из них не видел.
Минуту мы сидели в молчании, а потом я сказал: — Захватывающая история, Джордж. Вы меня тронули.
Более неудачный выбор слов в этой ситуации трудно было вообразить. Джордж сказал:
— Это мне напомнило об одной вещи, старина, — не мог бы я одолжить у вас пять долларов этак на недельку? Максимум десять дней.
Я достал бумажку в пять долларов, поколебался и сказал:
— Джордж, ваша история того стоит. Возьмите насовсем. Это ваши деньги (в конце концов, любая ссуда Джорджу оборачивается подарком де-факто).
Джордж принял банкнот без комментариев и вложил его в изрядно потрепанный бумажник. (Он, наверное, был потрепан, еще когда Джордж его купил, потому что с тех пор не использовался.) А Джордж сказал:
— Возвращаясь к теме: могу я одолжить у вас пять долларов на недельку? Максимум десять дней.
Я опешил:
— Но ведь у вас есть пять долларов!
— Это мои деньги, — сказал Джордж, — и вам до них дела нет. Когда вы у меня занимаете, разве я комментирую состояние ваших финансов?
— Да я же никогда…
Я осекся, вздохнул и дал Джорджу еще пять долларов.
Есть многое на небе и земле…
Во время обеда Джордж был непривычно тих. Он даже не стал меня останавливать, когда я решился просветить его, рассказав несколько из многочисленных придуманных мной за последние дни острот. Он лишь слегка фыркнул на лучшую из них.
За десертом (горячий пирог с черникой) он тяжело вздыхал из самой глубины своего чрева, обдавая меня не слишком приятным напоминанием о съеденных за обедом омарах.
— В чем дело, Джордж? — спросил я наконец. — Вы чем-то озабочены.
— Меня иногда забавляет, — ответил Джордж, — ваша вот такая спонтанная чуткость. Обычно вы слишком глубоко уходите в свои писательские мыслишки, чтобы замечать страдания других.
— Но уж если мне удалось такое заметить, — настаивал я, — то пусть те усилия, которых это мне стоило, не пропадут зря.
— Я просто вспомнил своего старого приятеля. Бедняга. Виссарион Джонсон его звали. Полагаю, вы о нем ничего не слышали.
— И в самом деле не слышал, — сказал я.
— Увы, такова слава мирская, хотя, я думаю, нельзя пенять человеку за то, что его не знает личность с вашим ограниченным кругозором. Виссарион же был великим экономистом.
— Это вы нарочно, — сказал я. — Даже вы не позволите себе такой неразборчивости в знакомствах.
— Неразборчивости? Виссарион Джонсон был весьма почтенным и образованным человеком.
— Нисколько в этом не сомневаюсь. Я имею в виду всю профессию в целом как таковую. Мне рассказывали анекдот, как президент Рейган, работая над федеральным бюджетом, встретился с математическими трудностями и обратился к физику: «Сколько будет дважды два?» Физик немедленно ответил: «Четыре, мистер президент». Рейган немножко посчитал на пальцах, сбился и спросил у статистика: «Сколько будет дважды два?» Статистик подумал и дал следующий ответ: «Мистер президент, последние опросы среди учеников четвертых классов дают выборку ответов со средним значением, разумно близким к четырем». Но поскольку дело касалось бюджета, президент решил проконсультироваться у специалистов самого высокого класса. И поэтому он обратился к экономисту: «Сколько будет дважды два?» Экономист сдвинул темные очки на нос, быстро глянул по сторонам и спросил: «А сколько вам нужно, мистер президент?»
Если Джорджа и позабавила эта история, то он не показал этого ни словом, ни жестом. Вместо этого он сказал:
— Вы, мой друг, ничего не понимаете в экономике.
— Экономисты тоже, Джордж, — сказал я.
— Давайте я вам расскажу историю моего друга, экономиста Виссариона Джонсона. Это случилось несколько лет назад.
Виссарион Джонсон, как я вам уже сказал, был экономистом, достигшим почти что вершин своей профессии. Он кончал Массачусетский технологический институт и научился там писать зубодробительные уравнения недрогнувшим мелом.
Получив образование, он сразу вступил на стезю практической работы и благодаря тем фондам, которые были ему предоставлены многочисленными клиентами, глубоко изучил важность случайных колебаний в процессе дневных изменений на рынке ценных бумаг. Его искусство поднялось так высоко, что последующие его клиенты почти ничего не проигрывали.
Иногда он набирался смелости предсказывать, что на следующий день акции поднимутся или упадут в зависимости от того, будет ли обстановка благоприятной или неблагоприятной, и каждый раз такое предсказание попадало в точку.
Разумеется, в результате подобных триумфов он прославился как Шакал Уолл-стрита, и его советы ценились многими из наиболее известных охотников за длинным долларом.
Но он метил куда выше фондовой биржи, выше коммерческих махинаций, выше умения предсказывать будущее. Он хотел ни больше, ни меньше, как звания Главного Экономиста Соединенных Штатов, или, как чаще называли этот пост, «экономического советника президента».
При ваших ограниченных интересах вряд ли можно ожидать от вас понимания, что такое — Главный Экономист. Президент Соединенных Штатов обязан принимать решения, определяющие правительственные установления по торговле и труду. Он должен управлять движением денег и влиять на работу банков. Он должен налагать вето, затрагивающие сельское хозяйство, торговлю и промышленность. Он должен из налоговых поступлений отделять долю для военных и распределять остальное — если будет что. И по всем этим вопросам он обращается за консультацией к Главному Экономисту.
И когда это происходит, Главный Экономист должен ответить немедленно и в точности то, что хочет услышать от него президент. И выразить это должен теми самыми двусмысленными фразами, которыми президент будет потом представлять свое решение американской общественности. Когда вы начали свой анекдот про президента, физика, статистика и экономиста, я было подумал на минуту, что вы понимаете суть дела, однако ваше глупое хихиканье в конце обнаружило полное непонимание вопроса.
К сорока годам Виссарион достиг квалификации, достаточной для занятия любого, даже самого высокого поста. В холлах и кабинетах Института правительственной экономики давно уже стало широко известно, что за последние семь лет Виссарион Джонсон ни разу не сказал никому ничего такого, что его собеседник не хотел бы услышать. И более того, он прошел в КУВ на «ура».
Не поднимая глаз от своей пишущей машинки, вы вряд ли слышали когда-нибудь о КУВ. Эта аббревиатура обозначает «Клуб Уменьшающихся Возвратов». На самом деле о нем знают очень немногие. Даже среди экономистов низшего ранга мало посвященных. Он представляет собой малый круг избранных, глубоко овладевших таинственным миром эзотерической экономики — или, как ее назвал один деревенщина-политик — «вудуистская экономика».
Хорошо известно, что никто, не входящий в КУВ, не может влиять на федеральное правительство, а любой входящий — может. Итак, когда довольно неожиданно умер председатель КУВ и организационный комитет предложил Виссариону занять этот пост, у того сердце замерло. Будучи председателем, он наверняка получил бы должность Главного Экономиста при первой возможности и находился бы у самого истока и корня власти, двигая рукой президента именно так, как хотел бы сам президент.
Был, однако, некоторый момент, не дававший Виссариону покоя и приводивший его в замешательство. Ему требовалась помощь равного ему по интеллекту и проницательности человека, так что он, как и любой бы на его месте, обратился ко мне.
— Джордж, — сказал он. — Стать председателем КУВ — это исполнение моих надежд и самых смелых мечтаний. Это открытые ворота славного пути экономического сикофанта, на котором я смогу потягаться с другим подтверждателем догадок президента — Главным Ученым Соединенных Штатов.
— Вы имеете в виду научного советника президента?
— Да, если вы хотите употреблять неофициальные названия. Стоит мне стать председателем КУВ, и меня через два года наверняка сделают Главным Экономистом. Однако…
— Однако? — переспросил я.
Виссарион сделал над собой видимое усилие:
— Я должен буду начать сначала. Клуб Уменьшающихся Возвратов был создан шестьдесят два года тому назад и получил свое имя в честь закона уменьшающихся возвратов, или уменьшающейся доходности, о котором слышал каждый экономист, как бы хорошо он ни был обучен. Первый президент клуба, весьма достойный человек, предсказавший серьезный спад на рынке ценных бумаг в ноябре 1929 года, был переизбираем на свой пост каждый год тридцать два раза подряд и умер в почтенном возрасте девяноста шести лет.
— Весьма похвально с его стороны, — сказал я. — Многие сдаются гораздо раньше, в то время как нужно лишь проявить решительность и целеустремленность, чтобы дожить до девяноста шести и даже больше.
— Второй наш председатель действовал почти столь же успешно и занимал этот пост шестнадцать лет. Он единственный, кто не стал Главным Экономистом. Он этого заслуживал и был назначен на этот пост Томасом И. Дьюи, но вот как-то… Наш третий председатель умер, пробыв на этом посту восемь лет, а четвертый — побыв председателем четыре года. Наш последний председатель, умерший в прошлом месяце, занимал свой пост два года. Вы здесь ничего не видите странного, Джордж?
— Странного? Они все умерли естественной смертью?
— Конечно.
— Ну, если принять в рассмотрение занимаемый ими пост, именно это и странно.
— Чушь, — сказал Виссарион несколько несдержанно. — Я прошу вас обратить внимание на время пребывания на посту каждого нашего председателя: тридцать два, шестнадцать, восемь, четыре и два.
Я на минуту задумался:
— Числа становятся все меньше и меньше.
— Не просто меньше. Каждое из них ровно половина от предыдущего. Можете мне поверить, я проверил у знакомого физика.
— Вы знаете, вы правы. Кто-нибудь еще заметил?
— Разумеется, — ответил Виссарион. — Я показал эти цифры моим сочленам по клубу, и они сказали, что эти цифры не имеют статистической значимости, если, конечно, президент не издаст указа по этому поводу. Но вы-то видите значимость? Если я приму пост председателя, я умру через год. Это непременно. А если так, то президенту будет крайне трудно назначить меня после этого на пост Главного Экономиста.
— Да, — сказал я, — это действительно дилемма, Виссарион. Мне случалось видеть правительственных чиновников, не проявляющих никаких признаков жизни разума, но среди них не было не проявляющих признаков жизни вообще. Давайте я это денек обдумаю, ладно?
Мы договорились о встрече на следующий день в то же время и на том же месте. Это был прекрасный ресторан, и, в отличие от вас, Виссарион не жалел для меня корки хлеба.
Как вы говорите? Ладно, омаров по-ньюбургски он для меня тоже не жалел.
Это очевидным образом был случай для Азазела, и я чувствовал, что поступаю справедливо, когда поручаю эту работу моему двухсантиметровому демону с его сверхъестественными возможностями. В конце концов, Виссарион не только был добрым человеком с хорошим вкусом насчет ресторанов. Я искренне считал, что он может сослужить огромную службу нашей нации, подтверждая мнения президентов и отвергая возражения специалистов, которые разбираются лучше. В конце концов, этих специалистов-то разве кто-нибудь выбирал?
Нельзя сказать, чтобы Азазел сильно обрадовался вызову. Он обратил на меня внимание только после того, как бросил то, что было у него в ручках. Предметы были слишком малы, чтобы я мог рассмотреть в деталях, но мне показалось, что это какие-то картонные прямоугольнички с любопытными рисунками.
— Ты! — сказал он, и его мордочка налилась сочным желтым цветом ярости. Он вертел хвостом, как сумасшедший, а рожки на голове дрожали от прилива чувств. — Ты понимаешь ли, ты, умственно отсталая биомасса, — визжал он, — что ко мне наконец пришел зотхил, и не просто зотхил, а зотхил полный и с парой рейлов! Они все против меня ставили, и выигрыш был точно мой! Да я бы половину всего стола обчистил!
Я сурово сказал:
— Не понимаю, о чем ты говоришь, но это звучит так, как будто ты только что играл в азартные игры. Разве это достойно цивилизованного и утонченного существа? Что бы сказала твоя бедная матушка, увидев, как ты тратишь время своей жизни на азарт среди шайки бездельников?
Азазел, похоже, был ошеломлен. Потом он промямлил:
— Ты прав. У моих матушек сердце бы разбилось. У всех троих. Особенно у моей бедной средней матушки, что столь многим для меня пожертвовала.
И он разразился сопрановыми рыданиями, от которых резало слух.
— Ну, ладно, ладно, — успокаивал я его. Мне хотелось заткнуть уши, но я боялся его обидеть. — Ты можешь искупить свой грех, оказав благодеяние этому миру.
И я рассказал ему о Виссарионе Джонсоне.
— Хм-м, — сказал Азазел.
— Что это значит? — встревоженно переспросил я.
— Это значит «хм-м», — огрызнулся Азазел. — Что это еще, по-твоему, может быть?
— Так ты считаешь, что все это чистое совпадение и что Виссариону не следует принимать его во внимание?
— Возможно — если бы не то, что это никак не может быть чистым совпадением и твоему Виссариону следует принять его во внимание. Случившееся должно быть проявлением закона природы.
— Какой тут может быть закон природы?
— Ты думаешь, что знаешь все законы природы?
— Да нет.
— Наверняка нет. Наш великий поэт Первосвят написал на эту тему очень тонкий куплет, который я, с присущим мне поэтическим даром, переведу на ваше варварское наречие.
Азазел прочистил горло, задумался и произнес:
«Натура — искусство сокрыто от Божьих детей, Ты не узришь никогда ея изощренных путей».Я подозрительно спросил:
— А что это значит?
— Это значит, что здесь дело в законе природы, и мы должны разобраться, в чем он заключается и как с его помощью перестроить ткань событий согласно нашим целям. Вот что это значит. Ты думаешь, великий поэт моего народа стал бы лгать?
— Никогда. Так что мы можем сделать?
— Посмотрим. Законов природы, знаешь ли, очень много.
— В самом деле?
— Ты себе представить не можешь. Есть вот один очень симпатичный закон природы — чертовски красивое уравнение, если записать его в тензорах Вайнбаума — определяющий связь температуры супа с тем, насколько быстро его надо доесть. Возможно, что, если такое странное убывание срока председания подчиняется тому закону, которому как я думаю, оно подчиняется, я смогу изменить природу твоего друга таким образом, чтобы ему ничто на земле не могло повредить. Это, конечно, не защитит его от физиологического старения. То, что я собираюсь с ним сделать, не даст ему бессмертия, но он не умрет от болезни или несчастного случая, а этого, я думаю, достаточно.
— Полностью. А когда это будет сделано?
— Я пока не знаю точно. На этих днях я очень занят с одной юной особой женского пола моего вида, которая, похоже, в меня втрескалась по уши, бедняжка. — Он зевнул, закрутил раздвоенный язычок винтом и раскрутил снова. — У меня намечается крупный недосып, но за два-три дня сделаю.
— Хорошо, а как я узнаю, что все сделано?
— Это просто, — ответил Азазел. — Подожди несколько дней и пихни своего приятеля под грузовик. Если он останется невредим, значит, моя работа удалась. А сейчас, если ты не против, я только доиграю этот единственный кон, а потом, с мыслью о моей бедной средней матушке, выйду из игры. Конечно, с выигрышем.
Не думайте, что убедить Виссариона в его безопасности не потребовало массы хлопот.
— Ничто на земле мне не повредит? — все спрашивал он меня. — А откуда вы знаете, что мне ничто на земле не повредит?
— Знаю. Послушайте, Виссарион, я же не ставлю под сомнение ваши профессиональные знания. Когда вы мне говорите, что процентная ставка упадет, я же не начинаю придираться и спрашивать, откуда вы знаете.
— Ладно, это все хорошо, но ведь если я скажу, что процентная ставка упадет, а она будет продолжать расти — это бывает не чаще, чем в половине случаев, — то будут задеты только ваши чувства. Если же я буду действовать в предположении, что мне ничто на земле повредить не может, а что-то меня все-таки заденет, то пострадают не только мои чувства. Это ведь Я пострадаю.
С такой логикой спорить невозможно, но я продолжал спорить. Я постарался его уговорить хотя бы не отказываться прямо, а постараться отложить решение вопроса на несколько дней.
— Они никогда не пойдут на такую задержку, — упрямился он, но вдруг, откуда ни возьмись, выяснилось, что настала годовщина «черной пятницы» и КУВ погрузился в ежегодный традиционный трехдневный траур с молитвами по усопшим. Проволочка возникла сама по себе, и уже одно это навело Виссариона на мысль, что ему кто-то ворожит.
Потом случилось, что, когда он снова вышел на люди и мы с ним переходили улицу с сильным движением, я как-то (уже точно и не помню как) резко наклонился завязать шнурок, случайно потерял равновесие и упал на него, он тоже потерял равновесие, и тут же раздался адский визг шин и скрежет тормозов, и три машины сплющились в лепешку.
Но и Виссарион не остался совершенно невредимым: у него растрепались волосы, очки съехали на сторону, а на колене правой брючины появилось здоровенное масляное пятно.
Он, однако, не обратил на это внимания. Со сверхъестественным ужасом глядя на катастрофу, он бормотал:
— Не зацепило. Боже мой, даже не зацепило! Подумать только, не зацепило.
В тот же самый день он без плаща, без зонтика, без калош попал под дождь — холодный, мерзкий дождь — и не простудился. Даже не потрудившись вытереть волосы, он позвонил и дал согласие занять пост председателя.
Его правление было примечательно. Прежде всего он увеличил впятеро свою ставку гонорара без всяких дурацких разговоров об увеличении средней точности прогнозов и т. п. В конце концов, клиент не может требовать слишком многого. Мало того, что он получает консультацию у профессионала, которому нет равных по престижу, так ему еще и советы подавай лучше, чем у других?
Во-вторых, он наслаждался жизнью. Никаких простуд, никаких вообще заразных заболеваний. Он переходил улицу, где хотел и когда хотел, не обращая внимания на светофоры, и при этом, надо сказать, катастрофы устраивал довольно редко. Он без колебаний заходил ночью в парк, а когда на улице хулиган приставил ему нож к груди и предложил произвести трансферт наличности, Виссарион просто двинул его ногой в пах и пошел дальше. Юный финансист был столь поглощен собственными ощущениями, что пренебрег необходимостью вовремя возобновить заявку.
В годовщину его председания я встретил его в парке. Он шел на торжественный обед, посвященный этому событию. Стоял дивный денек бабьего лета, и когда мы сели рядом на парковую скамейку, оба были спокойны и довольны.
— Джордж, — сказал он. — У меня был счастливый год.
— Приятно слышать, — ответил я.
— У меня репутация, которой мог бы позавидовать любой экономист всех времен и народов. Только в прошлом месяце я предупреждал, что «Лапша анлимитед» должна будет слиться с «Ушным эликсиром», и когда они образовали компанию «Лап Ушка», все восхищались, как я почти предсказал результат.
— Помню, как же, — отозвался я.
— А теперь — я рад, что могу сказать вам первому…
— О чем, Виссарион?
— Президент попросил меня стать Главным Экономистом Соединенных Штатов, и я достиг предела своих мечтаний и дерзновений. Вот, смотрите!
Он достал плотный конверт, у которого в углу стоял внушительный штамп «Белый дом». Я его открыл, и в это время раздалось какое-то странное «дзин-н-нь», как будто пуля свистнула мимо уха, и краем глаза я увидел что-то вроде вспышки.
Виссарион раскинулся на скамейке, спереди на рубашке расплескалась кровь, и был он мертв. Кто-то из прохожих остановился, кто-то вскрикнул и поспешил прочь.
— Вызовите врача! — крикнул я. — Вызовите полицию!
Они в конце концов приехали и вынесли вердикт, что он был застрелен прямо в сердце из пистолета неизвестного калибра каким-то сумасшедшим снайпером. Ни снайпера, ни пули на нашли. К счастью, оказались свидетели, видевшие, что я ничего, кроме конверта, в руках не держал и потому чист от всяких подозрений. Иначе я мог иметь массу неприятностей.
Бедняга Виссарион!
Он пробыл председателем точно один год, как он и опасался, но Азазел не был виноват. Он обещал только, что Виссариону ничто на земле на повредит, однако, как сказал Гамлет, «на небе и земле есть многое, друг Горацио, чего на земле нет».
Раньше, чем прибыли врачи и полиция, я заметил маленькую дырочку в деревянной спинке скамейки за спиной Виссариона. Перочинным ножиком я выковырял оттуда маленький темный предмет. Он был еще теплым. Через несколько месяцев я показал его в музее и понял, что был прав. Это был метеорит.
Короче говоря, Виссарион не был убит никаким земным предметом. Он — первый в истории человек, убитый метеоритом. Я об этом никому не рассказывал, поскольку Виссарион был человеком скромным, и подобная известность его бы не порадовала. Она затмила бы все его великие работы по экономике, а этого я допустить не мог.
Но каждый год в юбилей его взлета и его смерти я вспоминаю его и думаю: «Бедный Виссарион! Бедный Виссарион!»
Джордж промокнул глаза платком, а я сказал:
— А что случилось с его преемником? Он должен был удержаться на посту полгода, а следующий — три месяца, а следующий…
— Не надо, мой друг, угнетать меня своим знанием высшей математики, — сказал Джордж. — Я не из ваших страдальцев-читателей. Ничего подобного не случилось, поскольку клуб сам сменил закон природы.
— Да? А как?
— Им стукнуло в голову, что название клуба — Клуб Уменьшающихся Возвратов — и есть то зловещее имя, что управляет сроками власти председателей. И они просто сменили название КУВ на КСР.
— А что значат эти буквы?
— Клуб Случайного Распределения, конечно, — сказал Джордж, — и следующий председатель уже занимает свой пост около десяти лет и все пребывает в добром здравии.
Тут как раз вернулся официант со сдачей, и Джордж, поймав ее в свой платок, небрежным и одновременно величественным жестом положил платок с деньгами в нагрудный карман, встал и, весело махнув рукой, вышел.
Угадывание мысли
В то утро мной овладело философское настроение. Покачивая головой от грустных воспоминаний, я сказал:
— «Искусства нет, чтоб мысль с лица считать». Этому человеку я доверял безоглядно.
Было довольно прохладное воскресное утро. Мы с Джорджем сидели за столом в местной пирожковой, и Джордж, помню, заканчивал второй солидный пирог, хорошо начиненный сливочным сыром и форелью.
— Это чего-нибудь из рассказов, которые вы имеете привычку всучивать наиболее неразборчивым редакторам? — спросил он.
— Вообще-то это Шекспир, — ответил я. — Из «Макбета».
— Ах да, я забыл вашу приверженность мелкому плагиату.
— Выразить свою мысль подходящей цитатой — это не плагиат. Я хотел сказать, что у меня был друг, которого я считал человеком со вкусом и умом. Я его угощал обедами. Я иногда ссужал его деньгами. Я хвалил его внешность и характер. И обратите внимание, я это делал, совершенно не имея в виду, что этот человек по профессии — литературный критик, если это можно назвать профессией.
Джордж перебил:
— И несмотря на все эти ваши бескорыстные действия, пришло время, когда этот друг написал рецензию на одну из ваших книг и раздраконил ее немилосердно.
— А вы, — спросил я, — видели эту рецензию?
— Никоим образом. Я просто спросил себя, какой отзыв могла получить ваша книга, и правильный ответ пришел ко мне, как озарение.
— Да вы поймите, Джордж, пусть бы он написал, что книга плохая — я бы отреагировал не сильнее, чем реагирует на такие идиотские замечания любой другой автор. Но когда он употребляет выражение «старческое слабоумие» — это уже слишком. Сказать, что книга предназначена для восьмилетних, но им вместо ее чтения лучше поиграть в кубики — это удар ниже пояса. — Я вздохнул и повторил: «Искусства нет, чтоб мысль…»
— Это вы уже говорили, — сразу отозвался Джордж.
— Он был такой дружелюбный, такой компанейский, так был благодарен за эти маленькие одолжения. Откуда я мог знать, что под этой личиной таится злобная, коварная змея.
— Но ведь он — критик, — возразил Джордж. — Кем же ему еще быть? В обучение критика входит искусство охаять родную мать. Даже почти невероятно, что вас так до смешного просто обдурили. Вы переплюнули даже моего друга Вандевантера Робинсона, а он, если честно сказать, был кандидатом на Нобелевскую премию по наивности. С ним был любопытный случай…
— Вот, смотрите, — сказал я, — вот рецензия в «Нью-йоркском книжном обозрении» — пять колонок горькой желчи, яда и слюны бешеной собаки. Мне не до ваших историй, Джордж.
А я думаю, что вы будете слушать (так сказал Джордж), и это будет правильно. Это вас отвлечет от последствий вашей непоследовательности. Мой друг Вандевантер Робинсон был молодым человеком, которого каждый назвал бы многообещающим. Он был красивой, образованной, культурной и творческой личностью. Он учился в лучшем колледже и был счастливо влюблен в очень милое юное создание по имени Минерва Шлумп.
Минерва была одной из моих крестниц и очень меня любила, что вполне объяснимо. Конечно, человек моего морального уровня не любит позволять юным дамам выдающихся пропорций обнимать себя или вешаться на шею, но Минерве, с ее детской невинностью и, самое главное, такой упругой на ощупь, я это разрешал.
Разумеется, я никогда не позволял ей этого в присутствии Вандевантера, ревнивого до глупости.
Однажды он объяснил этот свой недостаток в таких выражениях, которые тронули мое сердце.
— Джордж, — сказал он, — с самого детства я мечтал полюбить женщину в высшей степени добродетельную, женщину нетронутой чистоты, женщину — да позволено мне будет употребить это слово — с фарфоровым сиянием невинности. И в Минерве Шлумп — осмелюсь прошептать это божественное имя — я как раз и нашел такую женщину. Это тот единственный случай, когда я знаю, что меня не предадут. Если бы здесь мое доверие было обмануто, я не знал бы, как мне дальше жить. Я бы стал стариком с разбитым сердцем, без единого утешения, если не считать такой золы и суеты, как особняк, слуги, клуб и полученные в наследство деньги.
Бедняга. Юная Минерва его не обманывала — я это хорошо знал, поскольку, когда она сиживала у меня на коленях, я мог с уверенностью сказать, что в ней не было ни малейшего следа порока. Но боюсь, что это был единственный человек, или единственный пункт, или единственный случай, когда он не был обманут. У бедного молодого человека не было вообще никакой критичности. Он был, грубо говоря, так же глуп, как вы. Ему не хватало искусства считывать мысли… я знаю, вы уже это говорили. Да, дважды, дважды.
Особенно осложняло его жизнь то обстоятельство, что он был начинающим сыщиком в нью-йоркской полиции.
Эта работа была целью его жизни (помимо цели найти совершенную даму). Быть одним из тех остроглазых, ястребиноносых джентльменов, кои являют собою повсеместно ужас для злодеев. С этой целью он изучал криминологию в Гротоне и в Гарварде и внимательнейшим образом прорабатывал все отчеты, когда-либо доверенные бумаге такими авторитетами, как сэр Артур Конан Дойль и леди Агата Кристи. Все это вместе, в сочетании с нещадным использованием влияния семьи и тем, что его родной дядя некогда был главой муниципалитета Квинса, привело к его назначению в полицию.
К сожалению — чего никак нельзя было ожидать, — он не преуспел. Непревзойденный в умении плести тончайшую цепь доказательств с использованием собранных другими показаний, он оказался совершенно неспособным снимать показания сам.
Трудность состояла в том, что у него была невероятная способность верить всему, что слышит. Любое алиби, самое дурацкое, сбивало его с толку. Любому заведомому мошеннику достаточно было дать честное слово — и Вандевантер уже не был способен даже на сомнение.
Это стало настолько известным, что все преступники, от мелких карманников до крупных политиков и промышленников, отказывались от допросов у других следователей.
— Приведите Вандевантера! — кричали они.
— Я ему расскажу все, как на духу! — говорил карманник.
— Я ознакомлю его с фактами, расположенными в должной последовательности мною лично, — говорил политик.
— Я объясню, что этот правительственный чек на сто миллионов долларов случайно лежал у меня в ящике с мелочью, а мне как раз надо было дать на чай чистильщику сапог, — говорил промышленник.
В результате он разваливал все, к чему прикасался. Он отличался абсолютной леворукостью — выражение, придуманное одним моим грамотным приятелем. Конечно, не помните — я имею в виду не вас. Я ведь сказал грамотным приятелем.
Шли месяцы, нагрузка в судах падала, а бесчисленные громилы, мошенники и рецидивисты возвращались в объятия родственников и друзей без малейшего пятнышка на репутации.
Естественно, Нью-Йорк довольно быстро оценил ситуацию и раскопал причину. Вандевантер проработал всего два с половиной года, как заметил, что товарищи, к которым он привык, его избегают, а начальство встречает его недовольной и озадаченной гримасой. О повышении даже и речи не было, хотя Вандевантер при всех казавшихся ему удобными случаях поминал своего дядю — главу администрации.
Он пришел ко мне, поскольку молодым людям в трудную минуту свойственно обращаться за помощью и советом к мудрым мира сего… не понимаю, что вы имеете в виду, когда спрашиваете, кого я мог бы рекомендовать. Пожалуйста, не отвлекайте меня на посторонние темы.
— Дядя Джордж, — сказал он. — Похоже, что я влип в полосу затруднений.
Он всегда называл меня «дядя Джордж» под впечатлением моего достойного и блестяще-благородного вида, сообщаемого мне ухоженными белыми манжетами — не то что эти ваши сомнительные запонки.
— Дядя Джордж, — продолжал он, — меня ни за что не хотят повышать по службе. Я все еще начинающий детектив нулевого класса. Мой кабинет посреди коридора, а ключ от уборной не подходит к замку. Мне это безразлично, но моя дорогая Минерва с ее безыскусной неиспорченностью может посчитать, что я — неудачник, и ее маленькое сердце при этой мысли просто разрывается. Она говорит: «Я не хочу выходить за неудачника. Надо мной смеяться будут», — и у нее губы дрожат.
Я спросил:
— Мой милый Вандевантер, у ваших неприятностей есть какая-нибудь причина?
— Никакой. Для меня это абсолютная загадка. Признаю, что я не раскрыл ни одного преступления, но я не думаю, что дело в этом. Никто же не ждет, что все они будут раскрываться.
— А другие детективы раскрывают хоть малую толику дел?
— Время от времени бывает, но их способ действия вызывает у меня глубокий шок. У них такое мерзкое чувство недоверия, такой разъедающий скептицизм, такая манера смотреть на подозреваемого и цедить сквозь зубы: «Вы подумайте!» Или: «Расскажите вашей бабушке!» Это унижает людей. Это… это не по-американски.
— А может быть, что такие подозреваемые говорят неправду, и к ним следует отнестись со скептицизмом?
Вандевантер на мгновение опешил:
— Вы знаете, я думаю, что это возможно. Какая ужасная мысль!
— Ладно, — сказал я. — Я подумаю, что можно сделать.
Тем же вечером я вызвал Азазела — двухсантиметрового демона, который мне пару раз помог за счет присущей ему волшебной силы. Я вам про него никогда не говорил… Ах, говорил? Что, в самом деле говорил? Ну, ладно. Он появился в маленьком круге слоновой кости на моем столе, когда я сжег по периметру этого круга специальные снадобья и произнес несколько древних заклинаний — к сожалению, не могу посвятить вас в детали.
Он появился одетый в длинную ниспадающую мантию — длинную по крайней мере в сравнении с двумя сантиметрами, коими измеряется его рост от основания хвоста до кончиков рогов. Одну руку он простер вверх и что-то быстро говорил визгливым голосом, помахивая хвостом.
Ясно, что он находился в процессе какой-то церемонии. Он из тех созданий, которых всегда занимают несущественные подробности. Мне никогда не удавалось его застать в состоянии спокойного отдыха или достойного ничегонеделания. Он всегда занят какой-нибудь несвоевременной ерундой и страшно злится, когда я его отрываю. Однако на этот раз он меня сразу признал и улыбнулся. По крайней мере, я думаю, что он улыбнулся, потому что черты его лица рассмотреть трудно, а когда я однажды взял для этого лупу, он безмерно оскорбился.
— Отлично, — сказал он. — Такая перемена меня устраивает. Речь была отличная, и я уверен в успехе.
— Успехе в чем, о Великий? Ведь успех, несомненно, сопровождает все твои начинания.
(У него слабость к такой грубой лести. В этом смысле он как-то забавно напоминает вас.)
— Я прохожу на правительственный пост, — сказал он довольно. — Меня должны выбрать мырдоловом.
— Могу ли я почтительно просить снизойти к моему невежеству и объяснить мне, что такое мырд?
— А, это такое мелкое домашнее животное, которое у нас разводят для забавы. У некоторых этих мырдов нет лицензии, и мырдолов их отлавливает. У этих мелких зверьков звериная хитрость и отчаянная храбрость, и заниматься этим должен кто-то с интеллектом и мощью — любой другой провалит дело. Тут некоторые фыркали и говорили: «Азазел? Да его разве можно выбирать мырдоловом?» — но я им покажу, что справлюсь. Так чем я могу тебе помочь?
Я объяснил ситуацию, и Азазел страшно удивился:
— Ты говоришь, что в твоем ничтожном мире особь не может определить, соответствует ли объективной истине утверждение, сделанное другой особью?
— У нас есть такое устройство, называется «детектор лжи», — объяснил я. — Он измеряет кровяное давление, электрическую проводимость кожи и тому подобное. Он может определить ложь, но с тем же успехом определяет нервозность и напряжение, принимая их за ложь.
— Это понятно, но ведь есть же тонкие параметры функционирования желез, свойственные любой особи, по которым всегда можно определить ложь — или это вам неизвестно?
Я уклонился от этого вопроса.
— Есть ли способ дать возможность детективу нулевого класса Робинсону определять эти параметры?
— Без ваших громоздких машин? Только средствами собственного разума?
— Да.
— Ты должен понять, что ты просишь меня воздействовать на разум особи твоего вида. Разум большой, но крайне примитивный.
— Я это понимаю.
— Ладно, я попробую. Ты должен отнести меня к нему или привести его сюда, чтобы я мог его исследовать.
— Конечно.
И так и было сделано.
Вандевантер пришел ко мне через месяц с изумленным выражением лица.
— Дядя Джордж, — сказал он, — со мной произошла необычайнейшая вещь. Я допрашивал молодого человека, подозреваемого в ограблении винного магазина. Он как раз рассказывал мне подробности, как он проходил мимо магазина, глубоко задумавшись о своей бедной матушке, что страдала от страшной головной боли после полубутылки джина. Он зашел в магазин проконсультироваться, разумно ли пить джин сразу после такого же количества рома, как вдруг владелец без всякого видимого повода сунул ему в руку пистолет и начал запихивать к нему в карманы содержимое кассы — а молодой человек изумлялся и брал, — и как раз в эту минуту вошел полисмен. Молодой человек предполагал, что владелец хотел как-то расплатиться за страдания, причиненные его (владельца) товаром его (молодого человека) бедной матушке. Вот он мне это рассказывает, а мной вдруг овладевает странное чувство, что он — э-э — выдумывает.
— В самом деле?
— Да. Очень забавное чувство. — Вандевантер понизил голос до шепота. — Мне каким-то образом стало известно не только то, что молодой человек вошел в магазин уже с пистолетом, но и то, что у его матушки вообще не болела голова. Вы можете себе представить, чтобы кто-то плел небылицы о родной матери?
Тщательное исследование показало, что Вандевантер был прав во всех отношениях. Молодой человек действительно говорил неправду о родной матери.
С этого момента способности Вандевантера неуклонно росли. За месяц он превратился в искусную, проницательную, безжалостную машину обнаружения лжи.
Весь департамент с возрастающей заинтересованностью наблюдал, как одна за другой проваливались попытки подозреваемых обвести Вандевантера вокруг пальца. Ни одна история о глубокой погруженности в молитву и чисто машинальном вскрытии при этом несчастного сейфа не могла выдержать его беспощадной логики допроса. Адвокаты, инвестировавшие доверенные им деньги сирот в обновление собственных офисов — совершенно случайно, по ошибке, — быстро выводились на чистую воду. Бухгалтеры, по недосмотру вычитавшие номер телефона из графы «налог к уплате», ловились на собственных противоречиях. Торговцы наркотиками, только что подобравшие пятикилограммовые пакеты с героином в ближайшем кафе и искренне принимавшие его за сахар, сдавались под напором неопровержимых аргументов.
Вандевантер Победоносный — так называли его теперь, и даже сам комиссар под аплодисменты всего отделения вручил ему настоящий ключ от уборной, не говоря уже о том, что его офис перенесли в начало коридора.
Я уже поздравлял себя с тем, что все отлично и что вскоре Вандевантер, убедившись в своем успехе, женится на Минерве Шлумп, как вдруг явилась сама Минерва.
— О дядя Джордж, — прошептала она с ужасом, покачивая всем своим упругим телом и падая ко мне на грудь. От страха она была на грани истерики.
Я подхватил ее, прижал к себе и минут пять-шесть выбирал стул, чтобы усадить ее поудобнее.
— Что случилось, моя милая? — спросил я, медленно сгружая ее с себя и оправляя на ней одежду на случай, если бы в ней был непорядок.
— Дядя Джордж, — сказала она, и в ее красивых глазах показались слезы. — Вандевантер.
— Я надеюсь, он не шокировал тебя непристойными или неуместными предложениями?
— О нет, дядя Джордж. Он слишком хорошо воспитан, чтобы делать такие вещи до свадьбы, хотя я ему осторожно объяснила, что вполне понимаю, какое влияние оказывает на поведение молодых людей гормональная сфера, и что я вполне готова простить его, если он не сможет этому влиянию противостоять. Но он держит себя под контролем.
— Так в чем же дело, Минерва?
— Ах, дядя Джордж, он расторг нашу помолвку.
— Это невероятно. Нет людей, которые друг другу подходили бы больше. Почему?
— Он сказал, что я… что я из тех женщин, которые говорят… говорят не то, что есть.
Мои губы невольно произнесли:
— Лгунья?
Она кивнула:
— Это мерзкое слово не слетело с его губ, но именно это он имел в виду. Только сегодня утром он смотрел на меня взглядом тающего обожателя и спрашивал: «Любимая, всегда ли ты была мне верна?» И я ответила, как всегда: «Как верен солнцу луч его, как верен розе лепесток ее». И тут у него глаза сузились и взгляд их полоснул меня как нож. Он сказал: «Так. Твои слова не соответствуют действительности. Ты меня дурачишь». Меня как будто ударили по голове. Я спросила: «Вандевантер, милый, что ты говоришь?» Он ответил: «То, что ты слышишь. Я в тебе ошибался, и мы должны расстаться навеки». И ушел. Что же мне делать? Дядя Джордж, что мне теперь делать? Где мне найти другого такого перспективного жениха?
Я задумчиво сказал:
— Вандевантер обычно не ошибается в таких вещах — по крайней мере последние месяца полтора. Ты бывала ему неверна?
У нее на щеках вспыхнул застенчивый румянец.
— Не по-настоящему.
— Насколько по-ненастоящему?
— Два-три года тому назад, когда я была всего лишь неопытной семнадцатилетней девушкой, я целовалась с одним молодым человеком. Я его крепко держала, но только чтобы он не убежал, а не потому, что он мне сколько-нибудь нравился.
— Понимаю.
— Это был не очень приятный опыт. Не очень. И когда я познакомилась с Вандевантером, я удивилась, насколько приятнее целоваться с ним, чем с тем, другим, раньше. Ну, и я, конечно, захотела проверить, что это так и есть. И при наших с Вандевантером отношениях я иногда — только в чисто научных целях, дядя Джордж, — целовалась с другими, чтобы еще раз убедиться, как ни один из них сравниться не может с моим Вандевантером. Я могу вас заверить, дядя Джордж, что я им предоставляла возможность для поцелуев любого стиля, не говоря уже о пожатиях и объятиях, — и ни один из них, никогда, ни в чем не мог сравниться с Вандевантером. А теперь он говорит — я была неверна.
— Это смешно, — сказал я. — Дитя мое, с тобой поступили нечестно. — Я поцеловал ее раза четыре или пять и спросил: — Видишь, ведь эти поцелуи совсем не так тебя радуют, как поцелуи Вандевантера?
— Давайте посмотрим, — сказала она и горячо поцеловала меня еще четыре или пять раз с величайшей искусностью. — Конечно, нет! — заявила она.
— Мне надо с ним увидеться, — сказал я.
Тем же вечером я пришел к нему на квартиру. Он задумчиво сидел у себя в гостиной, заряжая и разряжая револьвер.
— Вы, — сказал я, — несомненно, замышляете самоубийство.
— Никогда, — ответил он с деланным смехом. — С какой стати? Из-за потери фальшивого бриллианта? Из-за лгуньи? Я с ней отлично разобрался, скажу я вам.
— И скажете неправду. Минерва всегда была вам верна. Ни ее руки, ни ее губы, ни ее тело никогда не соприкасались ни с чьими руками, ни с чьими губами, ни с чьим телом, кроме ваших рук, ваших губ, вашего тела.
— Я знаю, что это не так, — сказал Вандевантер.
— А я вам говорю, что это так, — настаивал я. — Я говорил с этой плачущей девой долго, и она рассказала мне самый страшный секрет своей жизни. Однажды она целовалась с молодым человеком. Ей было пять лет, а ему шесть, и с тех самых пор ее снедает неумолимое раскаяние за это мгновение любовного безумия. Никогда с тех пор не повторилась подобная недостойная сцена, и это мучительное воспоминание вы и обнаружили.
— Вы говорите правду, дядя Джордж?
— Посмотрите на меня своим проницательным и безошибочным взглядом, я повторю вам слово за словом, а потом вы скажете мне, правду ли я говорю.
Я повторил весь рассказ, и он удивленно сказал:
— Дядя Джордж, вы говорите точную и буквальную правду. Как вы думаете, Минерва когда-нибудь меня простит?
— Конечно, — сказал я. — Покайтесь перед ней и продолжайте упражнять вашу проницательность на всех отбросах любой винной лавки, любого совета директоров и любого департамента, но никогда, слышите — никогда — не обращайте свои испытующие глаза на любимую вами женщину. Совершенная любовь — это совершенное доверие, и вы должны верить ей — совершенно.
— Я буду, я буду! — закричал он.
И с тех пор так оно и идет. Он теперь самый известный детектив во всей полиции, его повысили до детектива половинного класса и дали офис в цоколе рядом с прачечной. Он женился на Минерве, и они живут в идеальном согласии.
Она наслаждается поцелуями Вандевантера снова и снова до полного экстаза. Бывает, что она нарочно проводит целую ночь с кем-нибудь, кто кажется перспективным объектом исследования, но результат всегда один и тот же. Вандевантер лучше всех. У нее два сына, и один из них немного похож на Вандевантера.
И вот чего, старина, стоят все ваши слова о том, что наши с Азазелом труды всегда приносят несчастье.
— Вы знаете, — начал я, — если верить вашему рассказу, то вы лгали, когда говорили Вандевантеру, что Минерва никогда не касалась другого мужчины.
— Я лгал во спасение невинной юной девы.
— Но как же Вандевантер не распознал этой лжи?
— Я полагаю, — сказал Джордж, стирая с губ сливочный сыр, — что здесь все дело в моем неколебимом внешнем достоинстве.
— А у меня другая теория, — сказал я. — Я полагаю, что ни вы, ни ваше кровяное давление, ни электропроводность вашей кожи, ни тончайшие гормональные реакции уже не могут сами различить разницу между тем, что правдиво, и тем, что нет, а потому никто не может этого сделать на основании данных, полученных от изучения вас как объекта.
— Это даже не смешно, — сказал Джордж.
Весенние битвы
Мы с Джорджем глядели на другой берег реки, где раскинулся студенческий городок, и Джордж, наевшийся за мой счет до отвала, впал в слезливые воспоминания.
— Ах, студенческие годы, студенческие годы! — со стоном выдохнул он. — Разве есть в жизни хоть что-нибудь, что может вас заменить?
Я в удивлении уставился не него:
— Только не говорите мне, что вы учились в колледже!
Он смерил меня взглядом:
— Да понимаете ли вы, что я был величайшим из президентов, кто когда-либо возглавлял братство Фи Фо Фум?
— Но как вы заплатили за учебу?
— Стипендии, пособия. Меня ими просто завалили после того, как я показал свою доблесть в битвах за столом, когда мы праздновали наши победы в женских общежитиях. И еще — состоятельный дядя.
— Я не знал, что у вас был состоятельный дядя, Джордж.
— После тех шести лет, что мне понадобились на освоение программы для отстающих, — уже, увы, не было. Если и был, то не в таких количествах. Все деньги, что у него еще оставались, он оставил приюту нуждающихся кошек, сделав в своем завещании несколько таких замечаний на мой счет, что мне не хочется их повторять. И началась у меня жизнь печальная и безрадостная.
— Когда-нибудь, — сказал я, — в очень отдаленном будущем, вы мне расскажете о ней, не опуская никаких подробностей.
— Однако, — продолжал Джордж, — память о светлых студенческих годах озаряет время моей жизни золотым и жемчужным сиянием. Пару лет назад мои воспоминания вспыхнули ярче, когда мне пришлось снова навестить кампус университета Тэйта.
— Они позвали вас обратно? — спросил я, почти успешно пытаясь скрыть ноту недоверия в голосе.
— Я думаю, они собирались это сделать, — сказал Джордж, — но на самом деле я вернулся по просьбе моего дорогого друга, товарища студенческих лет, старины Антиоха Шнелля.
Так как вы, я вижу, заинтересовались этой историей (так говорил Джордж), то давайте я вам расскажу про старину Антиоха Шнелля. В старое время мы с ним были неразлучными приятелями, с моим верным Ахиляксом (хоть я и не знаю, зачем рассыпаюсь в античных аллюзиях перед такой, как вы, деревенщиной). Даже и теперь, хотя он состарился куда заметнее меня, я вспомнил, когда его увидел, как мы гонялись за золотыми рыбками, набивались на пари в телефонные будки и умели одним поворотом руки стягивать трусики со счастливо визжащих однокурсниц с ямочками на щеках. Короче говоря, наслаждались всеми благами образования. Поэтому, когда Антиох позвал меня посетить его по вопросу чрезвычайной важности, я приехал немедленно.
— Джордж, — сказал он. — Дело касается моего сына.
— Молодого Артаксеркса Шнелля?
— Именно так. Он сейчас второкурсник университета Тэйта, и с ним там не все в порядке.
Я прищурился:
— Он связался с дурной компанией? Залез в долги? Попался на удочку потрепанной официантке из пивного бара?
— Хуже, Джордж! Гораздо хуже! — с трудом выговорил Антиох Шнелль. — Он мне сам никогда этого не говорил — духу не хватило, — но ко мне пришло возмущенное письмо от его однокурсника, написанное строго конфиденциально. Старый мой друг, Джордж, мой сын — а, ладно! Назову вещи своими именами. Джордж, он изучает вычислительную математику!
— Изучает вычис…
Я был не в силах это повторить. Старый Антиох Шнелль безнадежно и горестно кивнул:
— И еще политологию. Он ходит на занятия, и его видели с книгой.
— О Боже! — только и мог я произнести.
— Я не могу поверить такому про моего сына, Джордж. Если бы об этом услышала его мать, ее бы это убило. Она очень чувствительна, Джордж, и у нее слабое сердце. Я заклинаю тебя старой дружбой, съезди в университет Тэйта и выясни, в чем дело. Если его заманили стипендией — приведи его в чувство как-нибудь — не для меня, а ради его бедной матушки и его самого.
Я, со слезами на глазах, схватил его за руку.
— Да не остановит меня ничто, — произнес я. — Никакая сила земная не свернет меня с пути к святой цели. Я для нее потрачу последнюю каплю крови своей — кстати, о тратах: выпиши-ка мне чек, старина.
— Чек? — дрогнувшим голосом переспросил Антиох Шнелль, всю жизнь бывший чемпионом по скорости застегивания бумажника.
— Отель, — сказал я, — еда, питье, расходы на представительство — я имею в виду чаевые — инфляция и накладные расходы. Слушай, старик, это все-таки твой сын, а не мой.
В конце концов я получил свой чек и сразу по прибытии в университет Тэйта, почти сразу, организовал себе встречу с юным Артаксерксом. Я только и успел, что хорошо пообедать, отведать превосходного бренди, как следует выспаться, со вкусом, не спеша, позавтракать — после чего сразу зашел к нему в комнату.
Это был шок. Полки вдоль каждой стены, и на них не безделушки для красоты, не бутылки с питательной смесью, наполненные искусством винодела, не фотографии победительных дам, где-то забывших свою одежду, но книги. Одна из них, бесстыдно раскрывшись, валялась прямо на столе, и он ее, листал, я уверен, как раз перед моим приходом. У него на пальце темнело подозрительное пятно, и он неуклюже пытался спрятать руку за спиной.
Но сам Артаксеркс был поражен еще больше. Он узнал во мне старого друга семьи. Мы девять лет не виделись, но эти годы не изменили моего благородного облика. Артаксеркс же девять лет назад был ничем не примечательным мальчишкой десяти лет, а теперь его было не узнать — он стал ничем не примечательным девятнадцатилетним юношей. Он еле-еле дотягивал до пяти футов пяти дюймов, носил большие круглые очки и имел отрешенный вид.
— Сколько ты весишь? — внезапно для себя самого спросил я.
— Девяносто семь фунтов, — отвечал он.
Я смотрел на него с чувством сердечной жалости. Девяносто семь фунтов очкастого хиляка. Лучшей мишени для брезгливости и омерзения просто не придумать.
Но сердце мое смягчилось, и я подумал: «Бедный, бедный мальчик! С таким телом можно ли заниматься чем бы то ни было, что дает хорошую основу для образования? Футбол? Баскетбол? Бокс? Борьба? Драка? Там, где другие юноши кричат: «Сарай наш, и теперь делаем по-своему! Мы теперь музыку заказываем!» — что мог сделать он? С такими легкими он мог разве что пискнуть фальцетом!»
Естественно, что он против воли был вынужден скатиться к позору. Я мягко, почти нежно, спросил:
— Артаксеркс, мальчик мой, это правда, что ты изучаешь вычислительную математику и политологию?
Он кивнул:
— И еще антропологию.
Я проглотил восклицание отвращения:
— И правда, что ты ходишь на занятия?
— Да, сэр, простите меня. И в конце года, боюсь, мне не избежать похвального листа.
У него в уголке глаза задрожала слеза, и по этому признаку я с надеждой отметил, что он хотя бы сознает глубину своего падения.
Я сказал:
— Дитя мое, не можешь ли ты даже теперь отвернуться от порока и возвратиться к чистой и безмятежной жизни студента?
— Не могу, — он всхлипнул. — Я слишком далеко зашел. Мне уже никто не поможет.
Я попытался ухватиться за соломинку.
— Нет ли в этом колледже достойной женщины, что могла бы взять тебя в свои руки? Любовь достойной женщины в былые времена творила чудеса и может сотворить их снова.
У него загорелись глаза. Ясно было, что я нащупал нерв.
— Филомела Крибб, — выдохнул он. — Она солнце, луна и звезды, озаряющие лучами гладь вод души моей.
— Ага! — сказал я. За этими сдержанными словами я ощутил скрытое чувство. — Она об этом знает?
— Как я могу открыться ей? Да вес ее презренья меня раздавит.
— А если тебе бросить учить вычислительную математику, чтобы не быть столь презренным?
Он покачал головой:
— Я слишком слабоволен.
Оставив его в покое, я решил разыскать Филомелу Крибб.
Это не заняло много времени. В учебной части я узнал, что она усиленно занимается в команде болельщиков-разрядников с уклоном в хоровую декламацию. Я нашел ее в студии подготовки болельщиков.
Терпеливо выждав, когда закончится ритмика по топанью ногами и мелодика ободрительных визгов, я попросил показать мне Филомелу. Она оказалась блондинкой среднего роста, дышала здоровьем и испариной, а при взгляде на ее фигуру у меня губы сами собой сложились сердечком. Да, в душе Артаксеркса под толстым слоем школярских мерзостей еще тлели искорки тяги к праведной жизни студента.
Выйдя из душа и нацепив свою одежду цветов колледжа, она подошла ко мне и была свежа, как росистая лужайка.
Я сразу перешел к сути дела:
— Молодой Артаксеркс считает вас астрономической иллюминацией своей жизни.
Мне показалось, что у нее как-то смягчился взгляд.
— Бедняга Артаксеркс. Он так нуждается в помощи.
— Хорошая женщина могла бы ему ее предоставить, — указал я.
— Я знаю, — согласилась она, — и я хорошая — то есть мне так говорили, — она очаровательно покраснела. — Но что я могу сделать? Я же не могу идти против биологии. Билл Мордуган его все время невероятно унижает. Он ему строит рожи на людях, толкает к стенке, выбивает из рук эти глупые книжки, и все это под злобный хохот зрителей. Вы же знаете, как это бывает, когда действует воздух пробуждающейся весны.
— О да, — сказал я с чувством, вспоминая счастливые дни, когда много, много раз приходилось мне держать пальто тех, кто сражался. — Весенние битвы!
Филомела вздохнула:
— Я долго, долго надеялась, что Артаксеркс восстанет против Билла Мордугана — может быть, ему помогла бы скамеечка под ноги, потому что Мордуган ростом в шесть футов шесть дюймов, но Артаксеркс почему-то не хочет. Вся эта учеба, — ее передернуло, — ослабляет моральный дух.
— Несомненно. Но если бы вы помогли ему вылезти из этого болота…
— Сэр, я знаю, что он в глубине души добрый и глубокомысленный юноша, и если бы я могла, я бы помогла ему. Но генетика моего тела доминирует, а она тянет меня на сторону Билла. Билл — красивый, мускулистый и победительный, а против этих качеств не может устоять сердце капитана болельщиц.
— А если бы Артаксеркс унизил Мордугана?
— Капитан болельщиц, — сказала она, гордо выпрямляясь и демонстрируя удивительно плавные округлости своего фронтального вида, — следует велению своего сердца, а оно неизбежно покинет униженного и перейдет на сторону унижателя.
И я понимал, что эти простые слова честная девушка произнесла от всей души.
Моя цель была проста. Если Артаксеркс не посмотрит на мизерную разницу в тринадцать дюймов и сто десять фунтов и посадит Билла Мордугана в лужу (в буквальном смысле), Филомела достанется Артаксерксу и обратит его в настоящего мужчину, который твердо идет по жизни к почтенной старости с кружкой пива и футболом по телевизору. Ясно, что это была работа для Азазела.
Не помню, рассказывал ли я вам об Азазеле. Это существо ростом два сантиметра из какого-то другого времени и места, которое я могу вызвать тайными заклинаниями, известными мне одному.
Азазел обладает возможностями, намного превосходящими наши, но ему недостает умения жить в обществе, потому что он неимоверно эгоистичен и свои мелкие делишки считает выше моих важных проблем.
В этот раз он явился, лежа на боку, с закрытыми глазами, нежно поглаживая пустой воздух перед собой плавными движениями кисточки хвоста.
— О Могучий! — позвал я его, потому что он всегда настаивал именно на таком обращении.
Он открыл глаза и издал режущий свист на пределе слышимости. Очень неприятно.
— Где Астарот? — вопил он. — Где моя прекрасная Астарот? Она же только что была в моих объятиях.
Тут он заметил меня и произнес, скрипя зубками:
— Так это ты! Да понимаешь ли ты, что позвал меня как раз тогда, когда Астарот… Ведь теперь ни здесь, ни там не будет такой минуты!
— Нигде в мире, — согласился я. — Но подумай, ведь когда ты мне немножко поможешь, ты сможешь вернуться в свой собственный континуум через полминуты после того, как ты его оставил. Астарот к тому времени забеспокоится от того, что тебя нет, но еще не рассердится. А твое появление наполнит ее радостью, и все, что было, может повториться еще раз.
Азазел секунду подумал, и затем сказал тем тоном, который следовало трактовать как благодарность:
— У тебя умишко маленький, примитивный червь, но изобретательный и изворотливый и может иногда пригодиться даже нам, обладающим мощным разумом, но от природы простым и прямодушным. Какая помощь тебе нужна?
Я объяснил существо дела относительно Артаксеркса, Азазел подумал и сказал:
— Я мог бы увеличить мощь его мускулов. Я покачал головой:
— Дело не только в силе. Гораздо важнее искусство и храбрость, а их ему здорово не хватает.
Азазел возмущенно фыркнул:
— Так мне что, ишачить над его моральными качествами, пока у меня хвост не отсохнет?
— А ты можешь предложить другое?
— Конечно, могу. Зря я, что ли, настолько превосхожу тебя? Если твой друг-слабак не может непосредственно поразить врага, почему бы не попробовать эффективное уклонение?
— Ты имеешь в виду — быстро удрать? — Я покачал головой. — Я не думаю, что это произведет хорошее впечатление.
— Я не говорил о бегстве. Я говорил об эффективном уклонении. Для этого придется только сильно сократить время реакции, что делается достаточно просто путем резкой концентрации сил. А чтобы он не тратил силы зря, это сокращение будет вызываться выбросом адреналина. Это будет оперативно — другими словами, будет включаться только в состоянии страха, ярости или другого сильного чувства. Мне только надо его увидеть, и я это сделаю.
— Это просто, — сказал я.
Через четверть часа я был уже в комнате Артаксеркса и дал Азазелу возможность понаблюдать за ним из моего нагрудного кармана. Азазел поработал с его вегетативной нервной системой с близкого расстояния, а потом вернулся к своей Астарот и к тому сомнительному занятию (каково бы оно ни было), которому собирался предаться.
В качестве следующего шага я, тщательно подделываясь под студента, мелом и печатными буквами, написал письмо и подсунул его под дверь Билла Мордугана. Долго ждать не пришлось. Билл повесил на доске объявлений вызов, в котором Артаксерксу предлагалось встретиться с ним в баре «Похмелье чревоугодника», и Артаксеркс знал, что отказаться будет еще хуже.
Мы с Филомелой тоже пришли и держались с краю толпы студентов, оживленно предвкушавших зрелище. Артаксеркс, стуча зубами, время от времени заглядывал в принесенную с собой толстую книгу с названием «Справочник по физике и химии». Даже в эту решающую минуту он был не в силах оторваться от пагубного пристрастия.
Билл Мордуган, во весь рост, в тщательно порванной футболке, под которой перекатывались наводящие ужас мускулы, сказал:
— Шнелль, мне довелось узнать, что ты распространяешь обо мне гнусную ложь. Я играю честно, и потому перед тем, как сровнять тебя с асфальтом, я тебе дам шанс оправдаться. Ты говорил кому-нибудь, что видел, как я читал книгу?
— Я однажды видел тебя с комиксами, — сказал Артаксеркс, — но ты их держал вверх ногами, и я не думал поэтому, что ты ее читал, и никому такого не говорил.
— Ты говорил кому-нибудь, что я боюсь девчонок и что у меня насчет них больше разговоров, чем дела?
— Я слышал, как однажды это говорили какие-то девушки, но никогда никому не повторял, Билл.
Мордуган сделал паузу. Худшее было впереди.
— О’кей, Шнелль. Ты когда-нибудь говорил, что я — кабинетный зубрила?
— Нет, сэр! Что я на самом деле говорил, так это то, что вы абсолютно необразованный.
— Итак, ты все отрицаешь?
— Решительно.
— И признаешь, что это все вранье?
— Во всеуслышание.
— И что ты — мерзкий лгун, трусливый врун?
— Безнадежный.
— Тогда, — произнес сквозь стиснутые зубы Мордуган, — я тебя не убью. Я только сломаю тебе парочку-другую твоих куриных ребрышек.
— Весенние битвы! — радостно вопили студенты, окружая кольцом двух бойцов.
— Будет честная драка! — объявил Билл, при всей своей жестокости, не отступающий от кодекса чести колледжа. — Никто не должен помогать мне, и никто не должен помогать ему. Деремся один на один!
— Что может быть честнее? — отозвался громкий хор публики.
— Сними очки, Шнелль, — сказал Мордуган.
— Нет! — храбро ответил Артаксеркс, а в это время кто-то из зрителей сорвал у него очки с носа. — Эй, — вскрикнул Артаксеркс, — ты помогаешь Биллу!
— Ничего подобного. Я помогаю тебе, — ответил студент, держащий в руках очки.
— Но я же не могу разглядеть Мордугана, — сказал Артаксеркс.
— Не волнуйся, — ответил Билл, — ты меня отчетливо почувствуешь.
И не тратя больше слов, залепил молотоподобный кулак Артаксерксу в челюсть.
Кулак просвистел в воздухе, и Билл провернулся на пол-оборота, в то время как Артаксеркс чуть отшатнулся назад, и кулак прошел на четверть дюйма в стороне.
Мордуган выглядел озадаченно. Артаксеркс выглядел ошеломленно.
— Ладно, — сказал Билл. — Теперь получай.
Он рванулся вперед, и его руки заходили, как шатуны паровой машины. Артаксеркс танцевал на месте из стороны в сторону с крайне недоумевающим лицом, и я уже боялся, что он может простудиться от ветра, поднятого руками Мордугана.
Билл явно устал. Мощная грудная клетка вздымалась и опадала, как кузнечные меха.
— Ты что ж это делаешь? — спросил он с обиженным недоумением.
Но тут Артаксеркс осознал, что он почему-то неуязвим. И он сделал шаг вперед, поднял руку с книгой и влепил Мордугану звучную пощечину, сказав:
— Получай, зубрила!
Все как один зрители резко выдохнули, а Билл Мордуган как с цепи сорвался. Была видна только мощная машущая, бьющая, вертящаяся машина, а где-то в середине этого вихря — неуязвимая танцующая цель. Но прошло несколько бесконечных минут, и в кругу стоял Мордуган, шатаясь от усталости и ловя ртом воздух, а по его лицу текли ручьи пота. Перед ним стоял Артаксеркс, свежий и невредимый. Он даже книгу не бросил.
И этой книгой он сильно двинул Билла в солнечное сплетение, а когда Билл сложился пополам, обрушил ту же книгу ему на голову еще сильнее. Книга сильно пострадала, но зато Билл впал в счастливое беспамятство. Артаксеркс близоруко огляделся и сказал:
— Тот мерзавец, что взял мои очки, пусть немедленно их вернет.
— Так точно, мистер Шнелль, сэр! — отозвался студент, который взял очки. У него на лице застыла улыбка, как на рекламе зубной пасты. — Вот они, сэр! Я их просто протер, сэр!
— Отлично. А теперь брызни отсюда. И ко всем прочим зубрилам тоже относится. Брысь!
Они выходили не по одному и не по порядку, а довольно сильно толпясь и мешая друг другу, хотя были едины в желании — оказаться где-нибудь в другом месте. Остались только Филомела и я.
Взгляд Артаксеркса упал на взволнованно дышащую девушку. Подняв бровь, он слегка махнул ей мизинцем. Она скромно подошла к нему, он повернулся на каблуках и вышел, а она так же скромно пошла вслед за ним.
Все кончилось хорошо. Артаксеркс поверил в себя и для самоуважения больше не нуждался в книгах. Все свое время он проводил на ринге и стал чемпионом колледжа. Молодые студентки его боготворили, но он в конце концов женился на Филомеле.
Его успехи в боксе создали ему в колледже такую репутацию, что он мог выбрать себе должность заместителя директора в большой компании. Его острый ум всегда чуял, где можно добыть денежки, и потому он сумел добыть от Пентагона концессию на производство сидений для туалета и еще добавил к ней стоимость шайб, которые покупал в скобяных лавках и продавал правительству.
Оказалось даже, что учеба в ранние зубрильские дни пошла ему на пользу. Математика помогает подсчитывать прибыли, политическая экономия учит вычитать из налогов суммы, не учтенные налоговой инспекцией, а антропология весьма полезна для контактов с представителями исполнительной власти.
Я глядел на Джорджа с недоверием:
— Получается, что в этом случае ваше с Азазелом вмешательство пошло на пользу какому-то бедняге?
— Разумеется, — ответил Джордж.
— Но это значит, что у вас есть неимоверно богатый знакомый, обязанный вам всем, что у него есть?
— Очень точное описание ситуации, старина.
— Но ведь вы тогда, по всей видимости, могли бы хорошо у него перехватить.
И тут Джордж насупил брови.
— Вы в самом деле так думаете? Вы думаете, что на свете существует такая вещь, как благодарность? Вы думаете, что есть такие индивидуумы, которые, узнав, что их сверхъестественные способности к уклонению исходят от тяжких трудов старого друга, прольют на него дождь благодеяний в награду?
— Значит, Артаксеркс этого не сделал?
— Вы правы. Когда я однажды к нему подошел с просьбой инвестировать десять тысяч долларов в одно мое предприятие, которое должно было дать стократную прибыль — паршивых десять тысяч долларов я попросил у него, который их зарабатывает каждый раз, когда продает армии десяток дешевых болтов и гаек, — так он велел лакею меня вышвырнуть.
— Но почему, Джордж? Вы не узнали почему?
— Случайно узнал. Видите ли, старина, он предпринимает действия по уклонению при повышенном выделении адреналина, как только возникает сильное чувство, такое, как страх или ярость. Так говорил Азазел.
— Ну так что?
— И потому, когда Филомела под влиянием рассмотрения семейных финансов чувствует неотвратимый наплыв либидо, она приближается к Артаксерксу, у которого, в свою очередь, под влиянием ответной страсти выделяется адреналин. И когда она подходит к нему и тянется его обнять со всем девичьим энтузиазмом и самозабвением…
— Так что же?
— Он уклоняется.
— А!
— Ей удается его коснуться не больше, чем Биллу Мордугану. Чем дольше это длится, тем сильнее его жажда, тем больше адреналина он выделяет при одном виде ее — и тем успешнее он от нее уклоняется. Конечно, она, в слезах отчаяния, все же может найти какое-то утешение вне дома, но стоит ему попробовать пуститься в приключения за тесными рамками семейной жизни, как ничего не выходит. Он уклоняется от любой молодой женщины, которая пытается к нему приблизиться — пусть даже с чисто деловыми целями. Артаксеркс живет в положении Тантала — желанное вечно доступно, но никогда не дается в руки.
Голос Джорджа поднялся до патетического возмущения:
— И из-за такого мелкого неудобства он вышвырнул меня из дому!
— Но вы могли бы, — сказал я, — с помощью Азазела снять прокля… то есть этот дар, которым вы пожелали его наградить.
— У Азазела сильное предубеждение против повторной работы с одним и тем же объектом — не знаю, почему. И к тому же зачем буду я оказывать дополнительные услуги человеку, который так неблагодарен за уже оказанные? Вот возьмем вас, для контраста! Допустим, вы, хотя и известны своей прижимистостью, иногда одалживаете мне пятерку — так я могу вас заверить, что я все такие вещи записываю на клочках бумаги, которые повсюду лежат у меня дома, и все же — я вам хоть когда-нибудь оказал услугу? Нет ведь? Так если вы мне помогаете без всякой услуги взамен, почему бы ему, получившему от меня любезность, мне не помочь?
Я это обдумал. Потом сказал:
— Слушайте, Джордж. Давайте я и дальше буду обходиться без услуг. У меня все в жизни хорошо. И для того чтобы подчеркнуть, что я не нуждаюсь ни в каких услугах, не одолжить ли мне вам десятку?
— Ладно, — сказал Джордж. — Если вы настаиваете.
Галатея
По каким-то непонятным никому, а особенно мне, причинам, я иногда делюсь с Джорджем своими самыми сокровенными чувствами. Поскольку Джордж обладает огромным и всеохватывающим даром сочувствия, полностью расходуемым на него самого, такое занятие бесполезно, но я все равно иногда это делаю.
Может быть, в этот момент мое чувство жалости к самому себе настолько меня переполняет, что ему нужен выход.
Мы тогда сидели после приличного обеда в ожидании клубничного пирога на Фазаньей аллее, и я сказал:
— Джордж, я так устал, я просто болен от того, насколько эти критики не понимают и не пытаются понять, что я делаю. Мне неинтересно, что делали бы они на моем месте. Ясно, что писать они не умеют, а то не тратили бы времени на критику. А если они хоть как-нибудь умеют писать, то цель всех их критических потуг — хоть как-то уязвить того, кто выше их. И вообще…
Но тут принесли клубничный пирог, и Джордж не преминул воспользоваться возможностью перехватить нить разговора, что он сделал бы в любом случае, даже если бы (страшно подумать!) пирог не принесли.
— Друг мой, — сказал Джордж, — пора бы вам научиться спокойно воспринимать превратности жизни. Говорите себе (и это будет правдой), что ваши ничтожные писания ничтожно мало влияют на мир, и уж тем более не имеет никаких последствий то, что скажут о них критики (если скажут вообще). Такие мысли доставляют большое облегчение и предотвращают развитие язвы желудка. И уж тем более вы могли бы воздержаться от подобных речей в моем присутствии, ибо могли бы понять, что моя работа гораздо весомее вашей, а удары критики гораздо разрушительнее.
— Вы хотите сказать, что вы тоже пишете? — сардонически спросил я, вгрызаясь в пирог.
— Отнюдь, — возразил Джордж, вгрызаясь в свой. — Моя работа гораздо важнее. Я — благодетель человечества, непризнанный, недооцененный благодетель человечества.
Готов был поклясться, что у него увлажнились глаза.
— Я не понимаю, — мягко сказал я, — как чье-нибудь мнение о вас может оказаться настолько низким, что его можно назвать недооценкой.
— Игнорируя эту издевку, поскольку от вас ничего другого не жду, я все же расскажу вам, что я думаю об этой красавице, Бузинушке Маггс.
— Бузинушке? — переспросил я с оттенком недоверия.
Бузинушка — это было ее имя (так говорил Джордж). Не знаю, почему родители так ее назвали — может быть, она напоминала им некоторые нежные моменты их предшествующих отношений, а может быть, как полагала сама Бузинушка, они поддали малость бузинной настойки, когда были заняты процессом, давшим ей жизнь. А иначе у нее был шанс и не появиться на свет.
В любом случае ее отец, который был моим старым другом, попросил меня быть ее крестным, и я не мог ему отказать. Естественно, что я относился к таким вещам серьезно и вполне ощущал возложенную на меня ответственность. В дальнейшем я всегда старался держаться как можно ближе к своим крестницам, особенно если они вырастали такими красивыми, как Бузинушка.
Когда ей исполнилось двадцать, умер ее отец, и она унаследовала приличную сумму, что, естественно, усилило ее привлекательность и красоту в глазах света. Я, как вы знаете, стою выше всей этой суеты вокруг такого мусора, как деньги, но я счел своим долгом защитить ее от охотников за приданым. Поэтому я взял себе за правило проводить с ней как можно больше времени и часто у нее обедал. В конце концов, она души не чаяла в своем дядюшке Джордже, и я никак не могу поставить это ей в минус.
Как оказалось, Бузинушка не слишком нуждалась в золотом яичке из семейного гнездышка, поскольку она стала скульптором и добилась признания. Художественная ценность ее работ не могла быть поставлена под сомнение хотя бы из-за их рыночной цены.
Я лично не вполне понимал ее творчество, поскольку мой художественный вкус весьма утончен, и я не мог слишком высоко оценивать работы, создаваемые для тех денежных мешков, которые могли себе позволить их покупать.
Помню, я как-то спросил ее, что представляет собой одна из ее скульптур.
— Вот, видишь, — сказала она, — на табличке написано: «Журавль в полете».
Изучив этот предмет, который был сделан из чистейшей бронзы, я спросил:
— Да, табличку я вижу. А где журавль?
— Да вот же он! — она ткнула в маленький заостренный конус, поднимавшийся из бесформенного бронзового основания.
Я внимательно рассмотрел конус и спросил:
— Это журавль?
— А что же еще, старая ты развалина! — она любила такие ласкательные прозвища. — Это острие длинного журавлиного клюва.
— Бузинушка, этого достаточно?
— Абсолютно! — твердо сказала Бузинушка. — Ведь не журавля представляет эта работа, а вызывает в уме зрителя абстрактное понятие журавлиности.
— А, — сказал я, несколько сбитый с толку. — Теперь, когда ты объяснила, действительно вызывает. Но ведь написано, что журавль в полете. Откуда это следует?
— Ах ты дуролом недоделанный! — воскликнула она. — Ты вот эту аморфную конструкцию бронзы видишь?
— Вижу, — ответил я. — Она просто бросается в глаза.
— Так не станешь же ты отрицать, что воздух, как и любой газ, если на то пошло, является аморфной массой. Так вот, эта аморфная бронза есть кристально ясное отражение атмосферы как абстрактного понятия. А вот здесь, на передней поверхности бронзы — тонкая и абсолютно горизонтальная линия.
— Вижу. Когда ты говоришь, все так ясно.
— Это абстрактное понятие полета через атмосферу.
— Замечательно, — восхитился я. — Просто глаза открылись от твоего объяснения. И сколько ты за это получишь?
— А, — она махнула рукой, как будто не желая говорить о таких пустяках. — Может быть, тысяч десять долларов. Это же такая простая и очевидная работа, что мне неловко запрашивать больше. Это так, между прочим. Не то что вот это.
Она показала на барельеф на стене, составленный из джутовых мешков и кусков картона, размещенных вокруг старой взбивалки для яиц, вымазанной чем-то напоминающим засохший желток.
Я взглянул с уважением:
— Это, разумеется, бесценно!
— Я так полагаю, — ответила она. — Это тебе не новая взбивалка — на ней вековая патина. Я эту взбивалку на свалке нашла.
Потом, не могу до сих пор взять в толк почему, у нее задрожала нижняя губа, и она всхлипнула:
— О дядя Джордж!
Я сразу встревожился и, схватив ее красивую, сильную руку скульптора, с чувством пожал.
— В чем дело, дитя мое?
— Джордж, если бы ты знал, как мне надоело лепить эти простенькие абстракции только потому, что публике они нравятся. — Она прижала костяшки пальцев ко лбу и трагическим голосом сказала: — Как бы я хотела делать то, что мне на самом деле хочется, чего требует мое сердце художника.
— А что именно, Бузинушка?
— Я хочу экспериментировать. Я хочу искать новые направления. Я хочу пробовать неиспробованное, изведать неизведанное, исполнить неисполнимое.
— Так кто же мешает тебе, дитя мое? Ты достаточно богата, чтобы это себе позволить.
И тут она улыбнулась, и ее лицо засияло красотой.
— Спасибо на добром слове, дядя Джордж. На самом деле я себе действительно это позволяю — время от времени. У меня есть потайная комната, в которой я храню то, что может понять только вкус настоящего художника. «Тот вкус, что привычен к черной икре», — закончила она цитатой.
— Мне можно на них посмотреть?
— Конечно, дорогой мой дядя. После того как ты меня так морально поддержал, разве я могу тебе отказать?
Она подняла тяжелую гардину, за которой была еле заметная потайная дверь, почти сливавшаяся со стеной. Девушка нажала кнопку, и дверь сама собой открылась. Мы вошли, дверь за нами закрылась, и вся комната осветилась ярчайшим светом.
Почти сразу я заметил скульптуру журавля, выполненную из какого-то благородного камня. Каждое перышко было на месте, в глазах светилась жизнь, клюв приоткрыт и крылья полуприподняты. Казалось, он сейчас взовьется в воздух.
— О Боже мой, Бузинушка! — вскрикнул я. — Никогда ничего подобного не видел!
— Тебе нравится? Я это называю «фотографическое искусство», и мне оно кажется красивым. Конечно, это чистый эксперимент, и критики вместе с публикой уржались бы и уфыркались, но не поняли бы, что я делаю. Они уважают только простые абстракции, чисто поверхностные и сразу понятные каждому, не то что это, для тех утонченных натур, кто может смотреть на произведение искусства и чувствовать, как его душу медленно озаряет понимание.
После этого разговора мне была предоставлена привилегия время от времени заходить в секретную комнату и созерцать те экзотические формы, что выходили из-под ее сильных пальцев и талантливой стеки. Я глубоко восхищался женской головкой, которая выглядела точь-в-точь как сама Бузинушка.
— Я назвала ее «Зеркало». Она отражает мою душу, ты с этим согласен?
Я с энтузиазмом соглашался.
Думаю, что благодаря этому она наконец доверила мне свой самый важный секрет.
Как-то я ей сказал:
— Бузинушка, у тебя есть… — я замешкался в поисках эвфемизма, — приятель?
— Приятели? Ха! — сказала она. — Они тут стадами ходят, эти кандидаты в приятели, но на них даже смотреть не хочется. Я же художник! И у меня в сердце, в уме и в душе есть идеальный образ настоящей мужской красоты, которая никогда не может повториться во плоти и крови и завоевать меня. Этому образу, и только ему, отдано мое сердце.
— Отдано твое сердце, дитя мое? — мягко повторил я. — Значит, ты его встретила?
— Встретила… Пойдем, дядя Джордж, я тебе его покажу. Ты узнаешь мою самую большую тайну.
Мы вернулись в комнату фотографического искусства, и за еще одной тяжелой гардиной открылся альков, которого я раньше не видел. Там стояла статуя обнаженного мужчины ростом шесть футов, и она была совершенна в каждом миллиметре.
Бузинушка нажала кнопку, и статуя медленно завращалась на своем пьедестале, поражая своей гладкой симметрией и совершенными пропорциями.
— Мой шедевр, — сказала Бузинушка.
Я лично не слишком большой поклонник мужской красоты, но на лице Бузинушки было написано такое самозабвенное восхищение, что я понял, как переполняют ее обожание и любовь.
— Ты влюблена в этого… изображаемого, — сказал я, стараясь избегать упоминания о статуе как неодушевленном предмете и местоимения «она».
— О да! — прошептала она. — Для него я готова умереть. Пока есть он, все другие для меня противны и бесформенны. Прикосновение любого из них для меня мерзко. Только его хочу. Только его.
— Бедное мое дитя, — сказал я. — Изваяние — не живое.
— Я знаю, — ответила она сокрушенно. — Что же мне делать? Боже мой, что же мне делать?
— Как это все грустно! — проговорил я вполголоса. — Это похоже на историю Пигмалиона.
— Кого? — спросила Бузинушка, будучи, как истинный художник, далека от событий внешнего мира.
— Пигмалиона. Это из древней истории. Пигмалион был скульптором, таким, как ты, только мужского пола. И он так же, как и ты, изваял красивую статую, только по свойственным мужчинам предрассудкам он изваял женщину и назвал ее Галатея. Статуя была столь прекрасна, что Пигмалион ее полюбил. Видишь, все как у тебя, только ты — живая Галатея, а статуя — изваянный Пиг…
— Нет! — резко возразила Бузинушка, — не жди, что я его буду называть Пигмалионом. Грубое, простецкое имя, а мне нужно поэтическое. Я его называю, — голос ее пресекся, она глотнула и продолжила: — Хэнк. Что-то такое мягкое есть в имени «Хэнк», что-то такое музыкальное, чему отзывается сама моя душа. А что там дальше было с Пигмалионом и Галатеей?
— Обуреваемый любовью, — начал я, — Пигмалион взмолился Афродите…
— Кому-кому?
— Афродите, греческой богине любви. Он взмолился ей, и она, из хорошего к нему отношения, оживила статую. Галатея стала живой женщиной, вышла замуж за Пигмалиона, и они жили долго и счастливо.
— Гм, — промычала Бузинушка, — Афродиты этой, наверное, на самом деле нет?
— В действительности, конечно, нет. Хотя с другой стороны… — я не стал продолжать. Не было уверенности, что Бузинушка правильно поймет упоминание о моем двухсантиметровом демоне Азазеле.
— Плохо, — сказала она. — Вот если бы кто-нибудь мог оживить для меня моего Хэнка, превратить этот холодный, твердый мрамор в теплую мягкую плоть, я бы для него… О дядя Джордж, ты только представь себе, каково было бы заключить в объятия Хэнка и почувствовать под ладонями мягкость, мягкость… — она чуть не мурлыкала на этом слове от воображаемого чувственного наслаждения.
— Дорогая Бузинушка, — сказал я, — мне бы не хотелось воображать, что это делаю я сам, но я понимаю — ты нашла бы это восхитительным. Однако ты говорила, что, если бы кто-нибудь превратил мертвый твердый мрамор в живую мягкую плоть, ты бы что-то там для него сделала. Ты имела в виду что-нибудь конкретное?
— Конечно! Такому человеку я бы дала миллион долларов.
Я сделал паузу, как и любой бы на моем месте — из чистого уважения к сумме — а потом спросил:
— Бузинушка, а у тебя есть миллион долларов?
— У меня два миллиона кругленьких баксов, дядя Джордж, — сказала она в своей простодушной и непосредственной манере, — и я буду рада отдать в этом случае половину. Хэнк этого стоит, тем более что я всегда могу наляпать еще несколько абстракций для публики.
— Это ты можешь, — согласился я. — Ладно, девочка, выше голову, и мы посмотрим, чем может тебе помочь дядя Джордж.
Это был явный случай для Азазела, так что я вызвал моего маленького друга, который выглядит как карманное издание дьявола ростом в два сантиметра, но с остриями рожек и закрученным остроконечным хвостом. Он был, как всегда, не в настроении и стал тратить мое время на подробный и утомительный рассказ, почему именно он не в настроении. Похоже было, что он занимался каким-то искусством — тем, что в его смешном мирке считается искусством, но хотя он описывал это очень подробно, я так ничего и не понял, кроме одного — что это было охаяно критиками. Критики одинаковы во всей вселенной — злобные и бесполезные все как один.
Хотя, как я думаю, вы должны радоваться, что земные критики обладают хотя бы минимальными следами порядочности. Если верить Азазелу, то высказывания критиков о нем далеко выходят за пределы того, что они позволяют себе говорить о вас. На самый мягкий из примененных к нему эпитетов можно было отвечать только хлыстом. Я это вспомнил потому, что его жалобы на критиков очень напоминают ваши.
Я долго, хотя и с трудом, выслушивал его причитания, пока не улучил момент ввернуть свою просьбу об оживлении статуи. От его визга у меня чуть уши не лопнули.
— Превратить кремниевый материал в углерод-водную форму жизни? А может быть, еще попросишь сотворить тебе планету из экскрементов? Как это — превратить камень в плоть?
— Уверен, что ты можешь измыслить способ, о Могучий, — сказал я. — Ведь если ты сделаешь столь невозможное и доложишь в своем мире, не окажутся ли критики кучкой глупых ослов?
— Они хуже, чем кучка глупых ослов, — буркнул Азазел. — Так о них думать — это значит безмерно их возвысить и незаслуженно оскорбить ослов. Я думаю, что они просто балдарговуины несчастные.
— Именно так они и будут выглядеть. И все, что для этого нужно — превратить холодное в теплое, а твердое в мягкое. Особенно в мягкое. Та молодая женщина, которую я имею в виду, особенно хотела бы, обняв статую, ощутить под своими руками мягкую эластичность тела. Это вряд ли будет трудно. Статуя — совершенное изображение человеческого существа, и тебе ее только надо наполнить мышцами, кровеносными сосудами, органами и нервами, обтянуть кожей — и готово.
— Вот всем этим заполнить, — проще простого, да?
— Вспомни, что ты выставишь критиков балдарговуинами.
— Хм, это стоит принять во внимание. Ты знаешь, как воняют балдарговуины?
— Нет, и не рассказывай, пожалуйста. А я могу послужить тебе моделью.
— Моделью, шмоделью, — пробормотал он, задумываясь (не знаю, где он берет такие странные выражения). — Ты знаешь, насколько сложен мозг, даже такой рудиментарный, как у людей?
— Ну, — ответил я, — над этим можешь особенно долго не стараться. Бузинушка — девушка простая, и то, что ей нужно от статуи, не требует особого участия мозга — как я думаю.
— Тебе придется показать мне статую и предоставить возможность изучить материал, — сказал он.
— Я так и сделаю. Только запомни: статуя должна ожить при нас, и еще — она должна быть страшно влюблена в Бузинушку.
— Любовь — это просто. Только подрегулировать гормональную сферу.
На следующий день я напросился к Бузинушке снова посмотреть статую. Азазел, сидя у меня в кармане рубашки, время от времени оттуда высовывался и тоненьким голосом фыркал. К счастью, Бузинушка смотрела только на статую и не заметила бы, даже если бы с ней рядом толпились двадцать демонов нормального роста.
— Ну и как? — спросил я Азазела.
— Попробую, — ответил он. — Я его начиню органами по твоему подобию. Ты, я думаю, вполне нормальный представитель своей мерзкой недоразвитой расы.
— Более чем нормальный, — гордо ответил я. — Я выдающийся образец.
— Ну и отлично. Она получит свою статую во плоти — мягкой на ощупь, теплой плоти. Ей только придется подождать до завтрашнего полудня — по вашему времени. Ускорить процесс я не смогу.
— Понял. Мы с ней подождем.
На следующее утро я позвонил Бузинушке.
— Деточка моя, я говорил с Афродитой.
Бузинушка переспросила взволнованным шепотом:
— Так она существует на самом деле?
— В некотором смысле, дитя мое. Сегодня в полдень твой идеальный мужчина оживет прямо у нас на глазах.
— О Господи! Дядя Джордж, вы меня не обманываете?
— Я никогда не обманываю, — ответил я, но должен признать, что несколько нервничал. Я ведь полностью зависел от Азазела, хотя, правда, он меня ни разу не подводил.
В полдень мы оба стояли перед альковом, глядя на статую, а она уставилась в пространство каменным взором. Я спросил:
— У тебя часы показывают точное время, моя милая?
— О да, дядя. Я их проверяла по обсерватории. Осталась одна минута.
— Превращение может на минуту-другую задержаться. В таких вещах трудно угадать точно.
— Богиня наверняка должна все делать вовремя, — возразила Бузинушка. — Иначе какой смысл быть богиней?
Это я и называю истинной верой, и таковая была вознаграждена. Как только настал полдень, по статуе прошла дрожь. Изваяние постепенно порозовело, приобретая цвет нормального тела. Медленно шевельнулся стан, руки опустились и вытянулись по бокам, глаза поголубели и заблестели, волосы на голове стали светло-каштановыми и появились в нужных местах и количествах на теле. Он наклонил голову, и его взгляд остановился на Бузинушке, глядящей, не отрывая глаз, и дышащей, как пловец в конце заплыва.
Медленно, казалось даже, что с потрескиванием, он сошел с пьедестала, сделал шаг к Бузинушке, раскрыл объятия и выговорил:
— Ты — Бузинушка. Я — Хэнк.
— О Хэнк! — выдохнула Бузинушка, тая в его руках.
Они долго стояли, застыв в неподвижном объятии, а потом она, сияя глазами в экстазе, взглянула на меня через его плечо.
— Мы с Хэнком, — сказала она, — на несколько дней здесь останемся одни и устроим себе медовый месяц. А потом, дядя Джордж, я тебя найду.
И она пошевелила пальцами, как бы отсчитывая деньги.
Тут и у меня глаза засияли, и я на цыпочках вышел из дому. Меня, откровенно говоря, неприятно поразила дисгармоничная картина — полностью обнаженный мужчина, обнимающий полностью одетую женщину, однако я был уверен, что, как только я выйду, Бузинушка эту дисгармонию устранит незамедлительно.
Десять дней я подождал, но она так и не позвонила. Я не слишком удивился, поскольку считал, что она была слишком занята другим, но все же подумал, что так как ее экстатические ожидания полностью оправдались, причем исключительно за счет моих — ну, и Азазела — усилий, то будет только справедливо, если теперь оправдаются и мои.
Итак, я направился к ее убежищу, где покинул счастливую чету, и позвонил в дверь. Ее открыли очень нескоро, и мне даже уже начала мерещиться кошмарная картина, как два молодых существа довели друг друга до смерти во взаимном экстазе. Но тут дверь с треском распахнулась.
У Бузинушки был вполне нормальный вид, если разозленный вид может быть назван нормальным.
— А, это ты, — сказала она.
— Вообще-то да, — ответил я. — Я уже боялся, что ты уехала из города, чтобы продлить медовый месяц.
О своих мрачных предположениях я промолчал — из дипломатических соображений.
— И что тебе надо? — спросила она.
Не так чтобы лопаясь от дружелюбия. Я понимал, что ей не мог понравиться причиненный мной перерыв в ее занятиях, но я считал, что после десяти дней небольшой перерыв будет очень кстати.
Я ответил:
— Такой пустяк, как миллион долларов, дитя мое. С этими словами я толкнул дверь и вошел.
Она поглядела на меня с холодной ухмылкой и произнесла:
— Бубкес ты получишь, дядя, а не миллион.
Я не знаю, сколько это — «бубкес», но немедленно предположил, что намного меньше миллиона долларов. Озадаченный и несколько задетый, я спросил:
— Как? А в чем дело?
— В чем дело? — переспросила она. — В чем дело! Я тебе сейчас скажу, в чем дело. Когда я сказала, что хочу сделать его мягким, я не имела в виду мягким всегда и во всех местах.
И своими сильными руками скульптора она вытолкнула меня за дверь и с грохотом ее захлопнула. Потом, пока я, ошеломленный, стоял столбом, дверь распахнулась снова.
— А если ты еще сюда заявишься, я прикажу Хэнку разорвать тебя на клочки. Он во всем остальном силен как бык.
И я ушел. А что было делать?
Вот такую критику получила моя работа в искусстве. И вы еще утомляете меня своими мелкими жалобами.
Закончив свою историю, Джордж так сокрушенно покачал головой, что я ощутил прилив сочувствия. Я сказал:
— Джордж, я знаю, что вы вините Азазела, но по-настоящему парнишка все же не виноват. Вы сами немножко пережали насчет мягкости.
— Так это ведь она настаивала! — возмутился Джордж.
— Верно, но вы сказали Азазелу, что он может использовать вас в качестве модели, и, конечно, с этим и связана неспособность…
Джордж прервал меня взмахом руки и уставился мне в глаза.
— Такое оскорбление, — процедил он сквозь зубы, — хуже потери миллиона заработанных долларов. И вы у меня сейчас это поймете, хотя я давно уже не в лучшей форме…
— Ладно, ладно, Джордж, примите мои глубочайшие извинения. Кстати, помните, я вам должен десять долларов?
Он, к моему счастью, помнил. Джордж взял банкнот и улыбнулся.
Полет фантазии
Обедая с Джорджем, я всегда помню, что расплачиваться надо не кредитной карточкой, а только наличными. Это дает Джорджу возможность следовать своей излюбленной привычке — якобы невзначай прихватывать принесенную официантом сдачу. Я, со своей стороны, стараюсь, чтобы этой сдачи не было слишком много, и на чай даю отдельно.
Однажды мы с ним, отобедав в Боатхаусе, шли обратно через Централ-парк. День был хорош, хотя чуть-чуть жарковат, и мы присели отдохнуть на скамеечку в тени.
Джордж наблюдал за птичкой, которая по птичьему обыкновению вертелась на ветке, а потом взлетела и скрылась в небе.
— В детстве, — заметил Джордж, — я страшно завидовал этим тварям: они могут парить в воздухе, а я нет.
— Я думаю, — подхватил я, — что птицам завидует каждый ребенок. Да и взрослый тоже. Теперь, правда, люди научились летать и лучше, и дальше птиц. Аэроплан без заправки и посадки облетает землю за девять дней. Ни одна птица так не может.
— А какой птице это надо? — с презрением возразил Джордж. — Я же не говорю о сидении в летающей машине или даже подвешивании к парящему дельтаплану. Это все — технологические протезы. Я-то имею в виду — летать самому: расправить руки, мягко взмыть в воздух и двигаться по собственной воле.
Я вздохнул:
— Вы подразумеваете — освободиться от тяготения. И я когда-то мечтал об этом, Джордж. Мне однажды снилось, что я подпрыгнул, завис в воздухе и легкими движениями направлял полет своего тела, а потом мягко и плавно приземлился. Я знал, конечно, что это невозможно, и осознавал, что все это во сне. Но когда я во сне проснулся, оказалось, что я по-прежнему могу парить. И я решил, что раз я уже не сплю, значит, я на самом деле летаю. И тут я проснулся по-настоящему и ощутил себя еще большим пленником гравитации, чем раньше. Какое это было чувство потери, Джордж, какое разочарование! Я несколько дней не мог прийти в себя.
И тут, что можно было почти наверняка предсказать, Джордж ответил:
— Со мной было хуже.
— Неужели? У вас был такой же сон, правда? Только побольше и получше?
— Сон?! Я не обращаю внимания на сны. Оставляю это старым бабам и бумагомаракам вроде вас. Я говорю о яви?
— То есть вы летали наяву. Вы полагаете, что я поверю, будто кто-то впустил вас в космический корабль?
— Ни в каком не в космическом корабле, а прямо на земле. И не я, а мой друг Бальдур Андерсон. Но лучше я вам расскажу все по порядку.
Большинство моих друзей (начал Джордж) — интеллектуалы и профессионалы высокой пробы, к каковым, может быть, и вы себя относите, но Бальдур в это большинство не входил. Он работал водителем такси, особого образования не имел, но глубоко уважал науку. Он проводил в нашем любимом пивбаре вечер за вечером, рассуждая о Большом взрыве, о законах термодинамики, о генной инженерии и о многом другом. Он бывал мне благодарен за объяснения по подобным вопросам и всегда настаивал, вопреки моим протестам (во что вы, зная меня, легко поверите), на своем праве платить по счету.
В его личности была одна очень неприятная черта: он был неверующим. Я не имею в виду тех философствующих атеистов, которые отрицают любые сверхъестественные проявления, объединяются в светские организации гуманистического толка и печатают на языке, которого никто не понимает, статьи в журналах, которые никто не читает. От этих-то — какой вред? Бальдур же принадлежал к той породе, которую в прежние времена называли «деревенский безбожник». Он вступал в споры в пивных с такими же невежественными людьми, как и он сам, и споры быстро переходили в перебранки на повышенных тонах и с личными характеристиками. Вот как это обычно выглядело:
— Ладно, если ты такой умный, головастик, так скажи мне, где Каин нашел себе жену?
— Не твое дело, — отругивался оппонент.
— Нет, где? Ведь Ева была единственной женщиной.
— А откуда ты знаешь?
— Так в твоей Библии сказано.
— Ничего там такого нет. Ты мне покажи, где там написано: «Ева была единственной женщиной на всей Земле».
— Это подразумевается.
— Подразумевается, видишь ли! Умник нашелся.
— От умника слышу!
Я пытался урезонить Бальдура в моменты, когда он успокаивался.
— Бальдур, — говорил я ему, — нет смысла дискутировать о вопросах веры. Вы ничего не докажете, а только создадите неприятности себе и другим.
Бальдур сразу же огрызался:
— Мое конституционное право не верить во всю эту кучу половы и об этом заявлять.
— Это верно, — соглашался я, — но однажды один из этих джентльменов, что вон там потребляют алкогольные напитки, может двинуть вас раньше, чем остановится сопоставить свои действия с конституцией.
— Эти люди, — отвечал Бальдур, — должны подставлять другую щеку. Так написано в ихней Библии. Там сказано: «Не шуми насчет зла. Пусть себе живет».
— Они могут и позабыть.
— Тогда и я смогу за себя постоять.
И он и вправду мог, потому что был здоровенный мускулистый мужик с таким носом, который принял на себя не одну сотню ударов, и такими кулаками, которые явно не оставляли без ответа подобные действия.
— Не сомневаюсь в ваших способностях, — соглашался я, — но в религиозных спорах обычно несколько человек отстаивают противоположную точку зрения и только один — вашу. Согласованные действия дюжины ребят могут превратить вас в нечто напоминающее пульпу. И к тому же, — добавил я, — предположим, что вы победили в споре на религиозную тему. Тогда вы послужили причиной тому, что один из этих джентльменов потерял свою веру. Вы действительно хотите почувствовать свою ответственность за такую потерю?
Бальдур несколько встревожился, поскольку в душе был добряком. Он сказал:
— Я же никогда ничего не говорю о настоящих основах веры. Я говорю про Каина, про Иону, который ну никак не мог трое суток жить во чреве кита, и насчет хождения по воде. А ничего такого по-настоящему оскорбительного я не говорю. Я же ничего никогда не сказал против Санта-Клауса, верно? Даже был случай, тут один распространялся насчет того, что у Санта-Клауса только восемь оленей, а олень по кличке Рудольф Красноносый никогда даже близко не подходил к этим саночкам. Я его тогда спросил: «Ты что, хочешь отнять у детишек Санта-Клауса?» — и врезал ему раз. И еще я никому не позволю слова сказать против Морозки — Снежного человека.
Меня такая чувствительность, разумеется, тронула. Я его спросил:
— Бальдур, а как вы до такого дошли? Что сделало из вас такого фанатика неверия?
— Ангелы, — сказал он, резко помрачнев.
— Ангелы?
— Они. В раннем детстве я видел ангелов на картинках. Вы их когда-нибудь видели?
— Конечно.
— Так у них крылья. У них руки и ноги, а на спине — большие крылья. А я в детстве читал научные книги, и там написано, что все существа, имеющие позвоночник, имеют четыре конечности. У них четыре плавника или четыре ноги, или две руки и две ноги, или две ноги и два крыла. Иногда две задние ноги исчезают, как у китов, или две передние, как у киви, или все четыре, как у змей. Но больше четырех конечностей не может быть ни у кого. Так как же у ангелов может быть шесть конечностей — две руки, две ноги и два крыла? Хребет-то у них есть, верно? Они же не насекомые или что-то вроде того? Я тогда спросил маму, а она мне посоветовала заткнуться. С тех пор я много думал на эту тему.
Я подумал и ответил:
— Бальдур, по-моему, вы напрасно так буквально воспринимаете эти изображения ангелов. Эти крылья — всего лишь символы того, что ангелы умеют перемещаться с огромной скоростью.
— Да неужто? — уязвленно отозвался Бальдур. — А вы спросите этих поклонников Библии, есть ли у ангелов крылья на самом деле. Они в этом более чем уверены. Они такие тупые, что слова насчет шести конечностей до них не доходят. А что до ангелов, то раз они умеют летать, почему тогда я не могу? Это нечестно.
Он надул губы и, казалось, сейчас заплачет. Мое доброе сердце толкнуло меня поискать слова утешения.
— К тому придет, Бальдур, — сказал я. — Когда вы умрете и попадете на небо, вы получите крылья вместе с нимбом и арфой и обретете умение летать.
— Вы верите в эту чушь, Джордж?
— Вообще-то нет, но такая вера давала бы большое утешение. Почему бы вам не попробовать?
— Никогда в жизни, потому что это ненаучно. Я всю жизнь хочу летать — по-настоящему, просто на руках. И я думаю, что наука может дать способ сделать это здесь, на Земле.
Я все еще пытался его как-то утешить и потому неосторожно (может быть, приняв на полбокала больше своего лимита) сказал:
— Уверен, что такой способ найдется.
Он уставил на меня сверлящий и чуть-чуть налитый кровью взгляд.
— Вы издеваетесь? Над мечтой моего детства?
— Нет-нет, — быстренько сказал я, тут же осознав, что он-то выпил на десяток бокалов выше черты и что его правый кулак самым недвусмысленным образом подергивается. — Да разве стал бы я смеяться над детской мечтой или даже над манией взрослого? Просто у меня есть знакомый — э-хм — ученый, который может случайно знать способ.
Но он все еще казался недружелюбным.
— Так вы его спросите, — сказал он, — и передайте мне, что он скажет. А то я не люблю тех, кто с меня смеется. Я вам не мальчик. Я-то с вас не смеюсь, нет? Я вам когда говорил про то, что вы всегда счет отпихиваете мне?
Я поспешил покинуть опасную почву.
— Я немедленно проконсультируюсь со своим другом. Вы не беспокойтесь, я все устрою.
В общем и целом, я решил, что так будет лучше всего. С одной стороны, не хотелось терять источник бесплатных выпивок, с другой стороны, еще меньше хотелось быть объектом недовольства Бальдура. Он не верил в библейские указания любить врагов своих, благословлять проклинающих тебя и делать добро ненавидящим тебя. Он твердо верил в то, что врагу своему надо давать в глаз.
Так что я проконсультировался с Азазелом, моим приятелем из другого мира. Я вам говорил когда-нибудь, что у меня есть… ах да, говорил. Как всегда, Азазел был в мерзком настроении, когда я его вызвал. Он как-то необычно держал хвост на отлете, и когда я об этом спросил, пустился в бешеные визгливые комментарии по поводу моей родословной, о которой он вообще ничего не мог знать.
Из всего этого я понял, что на него кто-то наступил. Он очень маленькое существо, всего два сантиметра ростом, от корня хвоста до кончиков рожек, и я сильно подозреваю, что даже в своем мире он просто путается под ногами. Вот на него кто-то случайно и наступил, и то, что его просто не заметили, так его и взбесило. Я попытался его успокоить.
— Если бы ты умел летать, о Могучий, коему вся вселенная платит дань поклонения, ты был бы защищен от нижайших из низших.
Это его несколько взбодрило. Последнюю фразу он даже повторил, как если бы старался запомнить ее на потом. И ответил:
— Я могу летать, о Жуткая Масса Бесполезной Плоти, и я бы взлетел, если бы заметил этого типа из низших классов, кто в неуклюжести своей на меня свалился. Ладно, чего тебе надо?
Он произнес эту фразу ворчливым тоном, что прозвучало, как дребезжание жести.
Я мягко сказал:
— Ты умеешь летать, о Возвышенный, но в моем мире есть люди, которые не умеют.
— В твоем мире нет людей, которые умеют. Они огромные, неуклюжие и распухшие, как и большинство из класса туподракониконидов. Если бы ты имел понятие об аэродинамике, Жалкое Насекомое, ты бы знал…
— Я преклоняюсь перед твоим высшим знанием, о Мудрейший из Мудрых, но мне вдруг пришло на ум, что ты мог бы устроить что-то вроде антигравитации.
— Антигравитации? Да ты себе представляешь, как…
— Необъятный Ум, — продолжал я, — позволишь ли ты тебе напомнить, что ты это уже однажды выполнил[6]?
— Помню, помню. Но это было только частичное изменение. Нужна была только возможность для некоторого лица передвигаться поверх куч замороженной воды, которыми изобилует твой дьявольский мир. А теперь ты, как я понимаю, просишь гораздо большего.
— Совершенно верно. У меня есть друг, который хотел бы уметь летать.
— Странные у тебя друзья. — Он присел на собственный хвост — поза, которую он обычно принимал, когда хотел подумать, — и тут же подскочил, шипя и ругаясь от боли, поскольку забыл о плачевном состоянии своей задней конечности.
Я подул ему на хвост, что как будто помогло и несколько его успокоило.
Он сказал:
— Потребуется механическое антигравитационное устройство, и я, конечно, его для тебя достану, но требуется еще содействие от центральной нервной системы твоего друга — если у него таковая имеется.
— Я думаю, что имеется, — ответил я, — но как именно он должен содействовать?
Азазел замялся:
— Понимаешь, он должен верить, что может летать. Через два дня я посетил Бальдура в его скромной квартирке. Протянув ему устройство, я сказал:
— Вот.
Устройство не производило впечатления. Было оно величиной с каштан и, если поднести его к уху, довольно странно жужжало. Не знаю, каков был у него источник энергии, но Азазел заверил меня, что он не иссякнет. Еще он говорил, что устройство должно соприкасаться с кожей летуна, и потому я прикрепил к нему цепочку и сделал медальон.
— Вот, — повторил я, и Бальдур в сомнении отступил назад. — Наденьте цепь на шею и носите под рубашкой. И под нижней рубашкой, если вы ее носите.
Он спросил:
— Джордж, а что это?
— Антигравитационный прибор, Бальдур. Последняя модель. Крайне научно и полностью секретно. Не говорите никому ни в коем случае.
Он осторожно протянул руку.
— Это дал вам ваш друг? Я кивнул:
— Наденьте это на шею.
Он нерешительно просунул голову в цепочку и, ободряемый мною, расстегнул рубашку, пропустил медальон внутрь и снова застегнулся.
— А теперь что?
— А теперь расставьте руки и летите.
Он расставил руки, но ничего не произошло. Он насупился, и его маленькие глазки остро взглянули из-под кустистых бровей.
— Издеваетесь?
— Нет! Вы должны поверить в то, что полетите. Вы смотрели «Питера Пэна» — диснеевский мультик? Вот и скажите себе: «Я могу летать, я могу летать, я могу летать».
— Так в мультике их еще посыпали волшебным порошком.
— Это ненаучно. А то, что на вас надето, крайне научно. Скажите себе, что можете летать.
Бальдур окинул меня долгим, тяжелым взглядом. У меня, как вы знаете, храбрость льва, но мне стало слегка не по себе. Я добавил:
— Бальдур, это требует времени. Вам надо научиться.
Все еще глядя на меня, он неуклюже расставил руки и произнес: «Я могу летать. Я могу летать. Я могу летать».
И ничего не произошло.
— Прыгайте! — сказал я. — Дайте затравку!
Я сильно забеспокоился, знает ли Азазел на этот раз, что он делает.
Бальдур, по-прежнему с расставленными руками и устремленным на меня недружелюбным взглядом, подпрыгнул. Он взлетел примерно на фут, провисел, пока я посчитал до трех, и медленно спустился.
— Ого! — красноречиво сказал он.
— Ого! — ответил я, не уступая в красноречии.
— Я вроде бы там плавал.
— И очень ловко, — заметил я.
— Ага. Эй, я умею летать. Давайте еще попробуем. И его волосы оставили на потолке ясно различимое жирное пятно. Он, потирая макушку, вернулся на пол.
— Вам не следует подниматься выше четырех футов, — сказал я.
— Это здесь, в комнате. Давайте-ка пойдем наружу.
— Вы с ума сошли? Вам что, надо, чтобы видели, как вы летаете? Так у вас тут же заберут на изучение антигравитационный прибор, и вы его уже никогда не увидите. Сейчас этот прибор и его секрет известны только моему другу.
— Ладно, так что же мне делать?
— Летайте по комнате для собственного удовольствия.
— Не так уж это много удовольствия.
— Не так много? А сколько у вас его было пять минут назад?
Моя несокрушимая логика, как всегда, победила.
Должен признать, что, глядя на его свободные и ловкие движения в пустом пространстве не слишком большой гостиной, я ощутил сильный порыв попробовать это самому. Однако я не был уверен, что он пожелает отдать прибор, а главное — у меня было сильное подозрение, что для меня прибор не сработает.
Азазел решительно отказывался делать что бы то ни было непосредственно для меня. Как он говорит в своей идиотской манере, его благодеяния должны приносить благо ближним. Я бы хотел, чтобы либо у него не было подобных дурацких идей, либо чтобы они были у моих ближних. Мне никогда не удавалось убедить облагодетельствованных мной отплатить мне достаточным количеством звонкой монеты.
Наконец Бальдур спустился на один из стульев и самодовольно спросил:
— Вы говорите, у меня получается, потому что я верю?
— Совершенно верно, — ответил я. — Это полет фантазии.
Мне понравился этот каламбур, но Бальдур, к сожалению, был лишен юмористического слуха — если ввести этот термин по аналогии с музыкальным. Он сказал:
— Видите, Джордж, насколько лучше верить в науку, чем во всю эту фигню насчет неба, ангелов и крыльев.
— Совершенно верно, — согласился я. — Не пойти ли нам куда-нибудь пообедать и чего-нибудь выпить?
— Непременно, — ответил он, и мы превосходно провели оставшийся вечер.
Но дальше все почему-то пошло не очень хорошо. На Бальдура, похоже, опустилась туманная завеса меланхолии. Он оставил свои прежние места охоты и нашел новые источники живой воды.
Мне это было все равно. Новые места бывали не в пример лучше старых, и в них подавали отличный сухой мартини. Но из любопытства я спросил почему.
— А я не могу больше спорить с этими болванами, — уныло ответил Бальдур. — Меня все подмывает их спросить: вот я умею летать, как ангел, так собираются ли они мне молиться? И поверят ли они мне? Они верят во все эти волшебные сказки насчет говорящих змеев и обращенных в соляной столб дам — это пожалуйста. Но мне они не поверят — можете голову давать на отсечение. Потому я и держусь от них подальше. Даже в Библии сказано: «Не шатайся с придурками и не сиди в совете недоумков».
Время от времени он срывался:
— Я не могу это делать у себя дома. Там просто нет места. Я не чувствую полета. Я должен подняться в открытое небо. Я хочу взлететь в воздух и полетать как следует.
— Вас увидят.
— Я могу ночью.
— Ночью вы врежетесь в холм и убьетесь.
— Я поднимусь повыше.
— А что вы тогда увидите ночью?
— Я найду место, где нет людей.
— Где, — спросил я, — где в наше время нет людей?
В этот день снова победила моя неопровержимая логика, но он становился все несчастнее и несчастнее и, наконец, не показывался мне на глаза несколько дней. Дома его не было. В его гараже мне сказали, что он взял двухнедельный отпуск, на который имел право, и где он сейчас — они не знают. Не то чтобы мне не хватало его щедрости — если и да, то не очень — но я был обеспокоен мыслями о том, на какие необдуманные поступки могла подвигнуть его тяга к парению в воздухе.
В конце концов он вернулся к себе домой и позвонил мне. Я еле-еле узнал его потерянный голос, и, конечно же, когда он сказал, что я ему очень нужен, я немедленно поспешил к нему.
Он сидел у себя в комнате, надломленный и печальный.
— Джордж, — сказал он. — Джордж, мне не следовало никогда этого делать.
— Чего, Бальдур? И тут его прорвало.
— Помните, я говорил вам, что хочу найти безлюдное место?
— Помню.
— Мне пришла в голову мысль. Я выбрал время, когда по прогнозу ожидалось несколько ясных дней, и поехал нанимать самолет. Знаете, есть такие аэропорты, где можно нанять самолет за деньги — как такси, только летающее.
— Знаю, знаю, — подтвердил я.
— Ну, я попросил этого парня отлететь за пригороды и полетать над сельской глушью. Сказал, что хочу полюбоваться пейзажами. На самом-то деле я хотел найти по-настоящему безлюдное место, а когда найду, узнать, как оно называется, чтобы потом вернуться туда одному и полетать всласть.
— Бальдур, — сказал я, — с неба нельзя это распознать. Место сверху покажется вам пустым, а на самом деле там полно народу.
Он горько ответил:
— Теперь-то что толку мне это говорить. — Он сокрушенно покачал головой, вздохнул и продолжил: — Это был настоящий допотопный аэроплан. С открытой кабиной спереди и открытым местом для пассажира сзади. Я высунулся подальше, чтобы посмотреть, нет ли внизу шоссе, или автомобилей, или ферм. Для удобства я отстегнул ремень — я же умею летать и высоты не боюсь. Только я высунулся, как тут летчик, не зная про то, заложил вираж, и аэроплан наклонился как раз на ту сторону, куда я высунулся. Я не успел ни за что схватиться и просто выпал.
— О Господи! — произнес я.
Рядом с Бальдуром стояла жестянка с пивом, и он жадно к ней припал. Вытерев рот тыльной стороной руки, он спросил:
— Джордж, вы когда-нибудь выпадали из самолета без парашюта?
— Нет, — ответил я. — Теперь, когда вы спросили, я припоминаю, что никогда даже и не пробовал.
— Попробуйте как-нибудь, — сказал Бальдур, — это довольно занятно. Для меня это случилось полностью неожиданно. Я довольно долго не мог сообразить, что же случилось. Вокруг был воздух, а земля вроде как вертелась у меня над головой туда и сюда, и я сам себя спросил, что это за чертовщина. А потом я почувствовал ветер, все сильнее и сильнее, только непонятно было, откуда он дул. И тогда мне в голову стукнуло, что это же я выпал. И тут я сказал себе: «Я падаю. Эй, я падаю!» А земля становилась ближе, и была внизу, и я очень быстро спускался. Хотелось закрыть глаза, но я понимал, что пользы с того не будет.
И можете мне поверить, Джордж, я за все это время даже не вспомнил, что умею летать. Я был так удивлен, что мог бы и погибнуть. Но когда я почти уже упал, я все вспомнил и тогда сказал себе: «Я могу летать! Я могу летать!» И это, понимаете, получилось как катание на пружинных качелях. Будто воздух ко мне привязали сверху, и он меня тормозил вроде большой резиновой ленты. И уже над верхушками деревьев я летел медленно-медленно и подумал: вот сейчас время парить. Однако я вроде как устал, так что я вытянулся, еще замедлился и очень плавно и мягко встал на землю.
И вы были правы, Джордж. Сверху казалось, что все пусто, а когда я спустился на землю, там уже собралась целая толпа, и рядом была какая-то вроде церковь, я ее сверху не заметил из-за деревьев.
Бальдур закрыл глаза и постарался унять судорожное дыхание.
— Что случилось, Бальдур? — наконец спросил я.
— Никогда не угадаете, — ответил он.
— Не собираюсь гадать, — ответил я. — Скажите, да и все.
Он открыл глаза и сказал:
— Они вылезли из церкви — настоящей церкви, где читают Библию, — и один из них пал на колени, поднял руки к небу и завопил: «Чудо! Чудо!», — а все остальные вслед за ним. Вы такого шума никогда не слышали. А другой какой-то подошел ко мне — толстый такой коротышка — да и говорит мне: «Я доктор. Что тут у вас случилось?» Я и не знал, что ему сказать. Как объяснить, если ты с неба свалился? Они уже стали меня в ангелы записывать. Так что пришлось сказать правду: «Я случайно свалился с самолета». А они снова завопили про чудо.
А доктор тогда и говорит: «У вас был парашют?» А как я ему скажу, что у меня был парашют, если никакого парашюта близко нет? «Нету», — говорю. А он говорит: «Все тут видели, как вы медленно спускались и мягко приземлились». А тут другой какой-то — потом выяснилось, что причетник местной церкви — говорит таким странным голосом, вроде как завывает: «Ибо рука Господа его поддержала».
Этого уже я не выдержал и говорю: «Ни фига. Это антигравитационный прибор». А доктор на меня: «Какой-какой?» — «Антигравитационный», — говорю. А он ржет, как будто я невесть как сострил, и говорит: «Я бы на вашем месте держался гипотезы о руке Господа».
А тем временем пилот на своем аэроплане приземлился, белый как бумага, и твердит как попугай: «Я не виноват. Этот дурень отстегнул ремень». Тут он меня увидел и заругался так, что вообразить невозможно. «Ты, — говорит. — Как ты сюда попал? У тебя ж ни хрена парашюта не было». Тут все вокруг запели что-то вроде псалма, а причетник хватает пилота за руку и объясняет, что рука Господа меня спасла, и спасла потому, что у меня в мире есть какая-то работа неимоверной важности, и что-то вроде того, что каждый в его пастве в этот великий день еще больше поверил в неусыпное попечение Господа на троне Его, и как печется Он о самом малом из нас, и прочее в том же роде.
Он даже меня заставил об этом задуматься — о том то есть, что я спасся для чего-то важного. Тут еще пачка докторов подвалила да еще корреспонденты, не знаю уж, кто их всех позвал, и они меня расспрашивали до тех пор, пока у меня вроде крыша уже поехала, тогда их остановили доктора и повезли меня в больницу на обследование.
— Вас на самом деле положили в больницу? — тупо переспросил я.
— И ни на секунду не оставляли одного. Меня тиснули в местной газете под крупным заголовком, и приехал какой-то ученый из Рутжерса или как-то в этом роде. Я ему сказал про антигравитацию, и он расхохотался. А я ему говорю: «Вы же ученый, неужели вы тоже верите в чудо?» А он отвечает: «Есть много ученых, что верят в Бога, но нет ни одного, который верил бы в антигравитацию и вообще в то, что она возможна». А потом говорит: «Вы мне покажите, мистер Андерсон, как это работает, и я переменю мнение».
И оно, конечно, не работало, и до сих пор не работает.
К моему ужасу, Бальдур закрыл лицо руками и зарыдал.
— Возьмите себя в руки, Бальдур! — сказал я. — Должно работать.
Он покачал головой и сдавленным голосом сказал:
— Нет, не работает. Оно работало, пока я в это верил, а я больше не верю. Все говорят, что это было чудо. В антигравитацию не верит никто. Они все ржут, а ученый сказал, что прибор — это просто кусок металла без источника питания и органов управления, а что антигравитация невозможна из-за Эйнштейна, который теория относительности. Джордж, мне надо было вас слушаться. Теперь я никогда не смогу летать, потому что потерял веру. Может быть, никакой антигравитации не было, а просто Бог решил почему-то действовать через вас. Я уверовал в Бога и потерял веру в науку.
Бедняга. Он и в самом деле больше никогда не летал. Устройство он мне вернул, и я отдал его Азазелу.
Вскоре Бальдур оставил работу, переехал поближе к той церкви, где приземлился, и теперь служит там дьяконом. Он там в большом почете, ибо они считают, что на нем почиет десница Господня.
Я посмотрел на Джорджа испытующим взглядом, но на его лице, как и всегда при упоминании Азазела, не отражалось ничего, кроме самой простодушной искренности.
— Джордж, — спросил я, — это было недавно?
— В прошлом году.
— Со всем этим шумом насчет чуда, толпами корреспондентов и аршинными заголовками в газетах?
— Совершенно верно.
— Как вы тогда объясните, что я ничего подобного в газетах не видел?
Джордж полез в карман, достал пять долларов восемьдесят два цента — сдачу, которую он аккуратно собрал, когда я расплатился за обед двумя бумажками в двадцать и десять долларов. Банкнот он отложил отдельно и сказал:
— Пять долларов ставлю, что смогу объяснить. Ни минуты не колеблясь, я сказал:
— Отвечаю пятью долларами, что не сможете.
— Вы, — сказал он, — читаете только «Нью-Йорк таймс», верно?
— Верно.
— А «Нью-Йорк таймс», из почтения к той публике, которую она называет «наш интеллектуальный читатель», все сообщения о чудесах помещает мелким шрифтом на тридцать первой странице, рядом с рекламой купальников-бикини, так ведь?
— Возможно, но почему вы не можете предположить, что я читаю даже самые мелкие сообщения о новостях?
— Да потому, — торжествующе объявил Джордж. — Все же знают, что ничего, кроме самых крупных заголовков, вы не замечаете. Вы же проглядываете «Нью-Йорк таймс» только в поисках упоминания своей фамилии.
Немного подумав, я дал ему еще пять долларов. Хотя сказанное им и было неправдой, это, как я понимал, вполне могло быть общепринятым мнением, а с ним спорить бессмысленно.
Сумасшедший ученый
Обычно мы с Джорджем встречаемся где-нибудь на нейтральной территории — в ресторане или на парковой скамейке, например. Причина этого проста: моя жена не хочет видеть его у нас дома, поскольку он, как она считает, «халявщик» — слово, заимствованное у младшей дочери и означающее нелестную характеристику любителя дармовщинки. Я с этим соглашаюсь. К тому же она совершенно иммунна к его обаянию, а я, по какой-то необъяснимой странности, — нет.
Но в тот день моя благоверная супруга была в отсутствии, и Джордж об этом знал, поэтому он зашел вечером. Я не решился выставить его за дверь и был вынужден пригласить в комнату, изображая гостеприимство, насколько был на это способен. Способен же я был на немногое, поскольку меня страшно поджимал срок сдачи рассказа и большая куча невычитанных гранок.
— Вы не против, надеюсь, — спросил я, — если я сначала закончу эту работу? Возьмите пока какую-нибудь книжку почитать — вон там, на полках.
Я не надеялся, что он возьмет книгу. Он посмотрел сначала на меня, потом показал на гранки и спросил:
— И давно вы зарабатываете на жизнь вот этим?
— Пятьдесят лет, — промямлил я.
— И не надоело? — спросил он. — Почему бы не бросить?
— Потому что, — с большим достоинством ответил я, — мне приходится зарабатывать деньги для поддержки своих друзей, имеющих привычку постоянно обедать за мой счет.
Я хотел его уколоть, но Джордж непробиваем. Он сказал:
— За пятьдесят лет писаний о сумасшедших ученых у человека мозги могут усохнуть в горошинку.
А вот ему меня удалось уколоть. И я довольно резко ответил:
— Историй о сумасшедших ученых я не пишу. И никто из фантастов, работающих на уровне хоть чуть-чуть выше комикса, этого не делает. Рассказы о сумасшедших ученых писали во времена неандертальцев и примерно с тех пор больше не пишут.
— А почему?
— А потому что это уже не носят. А главное, что сумасшествие ученых — это общепринятая банальность в среде самых необразованных и ограниченных людей. Сумасшедших ученых не бывает. У некоторых может проявляться свойственная гениям эксцентричность — бывает, но сумасшествие — никогда.
— Ну уж, — возразил Джордж. — Я знавал одного ученого-психа. Пол-Сэмюэл Иствуд Хэрман. Он даже по инициалам был П.С.И.Х. Слыхали вы о нем?
— Никогда, — ответил я, демонстративно впериваясь взглядом в гранки.
— Я бы не назвал его клиническим больным, — продолжал Джордж, полностью игнорируя мои действия, — но всякий средний, ограниченный, обыкновенный обыватель — вот вы, например, — признал бы его сумасшедшим. Я вам расскажу, что с ним произошло…
— В другой раз, — взмолился я.
Несмотря на вашу любительскую попытку изобразить занятость (говорил Джордж), я вижу, что вы сгораете от нетерпения услышать историю, и я не буду вас больше мучить, а приступаю прямо к рассказу. Мой добрый приятель Пол-Сэмюэл Иствуд Хэрман был физиком. Ученую степень он получил в Медведоугле, штат Теннесси, и во времена, о которых я рассказываю, занимал должность профессора физики в Недоумлендском подготовительном колледже с физическим уклоном для умственно отсталых студентов.
Мы с ним иногда завтракали в столовой колледжа на углу Дрекселя и авеню Д, там, где с лотка торгуют блинами. Мы обычно сидели на веранде и ели блины, иногда кныш, и он изливал мне душу.
Он был блестящим физиком, но желчным человеком. Мои познания в физике заканчиваются где-то около времени Ньютона и Декарта, поэтому я не мог лично судить о том, насколько он блестящий физик, но он мне об этом говорил сам, а так один блестящий физик всегда сможет распознать другого.
А желчность его вызывалась тем, что его не принимали всерьез. Он мне говаривал:
— Джордж, в мире физики все определяется связями. Если бы у меня была ученая степень полученная в Гарварде, диплом Йэля, или МИТ, или Калтеха, или даже из Колумбийского университета, весь мир ловил бы каждое мое слово. А степень присужденная в Медведоугле, и кафедра в Недоумлендском ПКУО, я должен признать, впечатляют гораздо меньше.
— Я так понимаю, что Недоумленд не входит в Лигу Плюща.
— И вы не ошибаетесь. Он именно что не входит. Гораздо хуже: у него нет даже футбольной команды. Но, — добавил он, как бы сам отводя это обвинение, — у Колумбийского тоже нет, и все равно меня просто игнорируют. «Физикал ревью» не печатает моих исследовательских работ. Они блестящие, революционные, они касаются самих основ мироздания, — тут у него в глазах появился тот блеск, из-за которого примитивные люди вроде вас считали его психом, — но ведь не только Ф.Р., но и «Американский космологический журнал», и «Коннектикутский журнал по взаимодействиям частиц» и даже «Латвийское общество недопустимых мыслей» их не берут!
— Это плохо, — отозвался я, пытаясь угадать, заплатит ли он еще за один картофельный кныш, которые в этой забегаловке делали превосходно. — А вы пробовали печататься самостоятельно?
— Я действительно бывал близок к отчаянию, — возразил он, — но у меня есть гордость, Джордж, и я ни за что не стану платить деньги, чтобы напечатать свою теорию, которая потрясет мир.
— А кстати, — спросил я из праздного, в общем-то, любопытства, — в чем состоит ваша теория, которая должна потрясти мир?
Он оглянулся по сторонам, проверяя, что в пределах слышимости нет ни одного его коллеги. К счастью, по соседству находились только несколько потрепанных индивидуумов, занимавшихся детальной инспекцией мусорных баков, и тщательное визуальное исследование позволило с достаточной степенью уверенности заключить, что никто из них не был членом ученого совета Недоумлендского ПКУО.
— Я не буду вдаваться в детали, — заявил он, — поскольку должен думать о приоритете. Дело в том, что мои академические собратья, весьма достойные люди во многих отношениях, без малейшего сомнения, сопрут любую интеллектуальную собственность у кого угодно. Потому я опущу все расчеты и намекну только о результатах. Я полагаю, вы знаете, что достаточная энергия в достаточной концентрации порождает электронно-позитронную пару, или, в более общем случае, произвольную пару «частица-античастица».
Я вдумчиво кивнул. В конце концов, старина, я однажды проглядел какое-то из ваших эссе на научную тему, и там что-то такое было.
А Хэрман продолжал:
— Эти частица с античастицей отклоняются магнитным полем, одна налево, другая направо, и если они находятся в глубоком вакууме, то разделяются навечно, не превращаясь снова в энергию, поскольку в этом вакууме им не с чем взаимодействовать.
— А, — сказал я, провожая мысленным взором эту мелюзгу в глубокий вакуум. — Вот это очень верно.
Он продолжал:
— Но уравнение, которому они подчиняются, работает в обе стороны, и я это могу доказать изящнейшей цепочкой рассуждений. Другими словами, можно создать пару «частица-античастица», хорошо разделенную, в глубоком вакууме — без добавления энергии, поскольку их формальное движение само вырабатывает энергию. Иначе говоря, из вакуума можно извлечь неограниченную энергию, исполнить вековую мечту человечества о лампе Аладдина. Я могу только предполагать, что гениальный автор этой средневековой арабской сказки предугадал мою теорию и применил ее.
Только не надо перебивать меня дурацкими напыщенными возгласами о законе сохранения энергии, который якобы запрещает подобный эффект. И не надо ничего говорить о невозможности обращения времени и нарушении обоих начал термодинамики. Я только передаю вам то, что говорил Хэрман, и делаю это без редактирования. А теперь вернемся к моему рассказу — да, да, вам удалось меня несколько задеть.
На слова Хэрмана я задумчиво ответил:
— Друг мой Пол-Сэмюэл, ведь то, что вы говорите, подразумевает либо обращение времени, либо нарушение одновременно первого и второго начала термодинамики.
На это он ответил, что на субатомном уровне обращение времени возможно, а законы термодинамики имеют статистическую природу и к отдельным частицам не приложимы.
— Тогда почему, друг мой, — спросил я, — вы не расскажете миру об этом вашем открытии?
— В самом деле, почему? — фыркнул Хэрман. — Вот так просто — пойти и рассказать. Как вы думаете, что будет, если я поймаю за пуговицу коллегу-физика и расскажу ему то, что вам сейчас? Он забормочет насчет обращения времени и законов термодинамики, вот как вы, и быстренько смоется. Нет! Я должен опубликовать свою теорию подробно и в престижном журнале с высокой научной репутацией. Вот тогда на нее в самом деле обратят внимание.
— Тогда почему вы не публикуете… Он не дал мне закончить:
— Да потому что какой из этих самодовольных редакторов или референтов без единой извилины примет мою статью, если в ней будет хоть что-нибудь необычное? Да знаете ли вы, что Джеймс П. Джоуль не мог напечатать свою статью по сохранению энергии ни в одном научном журнале, потому что он был пивоваром? Да вы знаете, что Оливер Хевисайд не мог никого убедить обратить внимание на свои важнейшие статьи, поскольку был самоучкой и употреблял не совсем обычную математическую символику? И вы думаете, что моя статья, статья какого-то научного сотрудника из Недоумлендского ПКУО, может быть напечатана?
— Плоховато, — сказал я из чистой симпатии.
— Плоховато? — сказал он, сбрасывая мою руку, которой я его приобнял за плечи. — Это все, что вы можете сказать? Да вы понимаете, что стоит мне только напечатать статью, как все, кто ее прочтет, поймут, что я имею в виду, и прославят ее как величайшее исследование по квантовой теории за все время ее существования? Да вы понимаете, что мне тут же дадут Нобелевскую премию и канонизируют наравне с Альбертом Эйнштейном? И лишь потому, что ни у кого из этого научного истеблишмента не хватает духу и мозгов распознать гения, я обречен лежать в безвестной могиле непризнанным, непонятым и неотпетым.
Это меня тронуло, старина, хотя я не очень понимал, почему Хэрман не получит отпевания и почему оно так ему нужно. Не мог себе представить, что хорошего будет его мертвому телу, если на его могиле будет грохотать и завывать даже целая рок-группа.
Я сказал:
— Знаете, Пол, я мог бы вам помочь.
— А, — сказал он с оттенком горечи в голосе. — Вы, наверное, троюродный брат редактора «Физикал ревью», или ваша сестра — его любовница, или вы случайно узнали, какими мерзкими способами он захватил свой нынешний пост, и намерены…
Я остановил его повелительным жестом руки.
— У меня свои методы, — веско сказал я. — Ваша статья будет напечатана.
И я этого добился, поскольку у меня есть способ связаться с внеземным существом два сантиметра ростом, которого я называю Азазел и которое обладает сверхъестественными возможностями благодаря хорошо разработанной технологии…
Я вам про него рассказывал? А я вас не предупреждал, что вам может сильно не поздоровиться, если он услышит ваше «до тошноты», которое вы упрямо и грубо прибавляете к подобным утверждениям?
Как бы там ни было, я с ним связался, и он явился, как всегда, в крайнем раздражении. Он очень мал по сравнению с человеческими существами нашей планеты и, что еще важнее, гораздо меньше по сравнению с разумными существами его планеты, у которых, как мне удалось узнать, длинные, изогнутые, острые рога, а не зачатки телячьих рожек, как у Азазела. Я отношу его раздражительность за счет глубокого комплекса неполноценности, вызванного этим обстоятельством. Человек с моими широкими взглядами может это понять и посочувствовать такой ситуации, поскольку его огорчения для меня полезны. В конце концов, он выполняет мои просьбы лишь потому, что для него это шанс блеснуть своим могуществом, на которое в его мире всем наплевать.
Но на этот раз его недовольство испарилось немедленно, как только я объяснил ситуацию. Он задумчиво сказал:
— Этот бедняга обнаружил, что находится не в равном положении с редакторами?
— Похоже, что так, — подтвердил я.
— Не удивляюсь, — сказал Азазел. — Редакторы — все как один садисты. И очень приятно было бы хоть раз с ними поквитаться. Насколько был бы этот мир лучше, чище и честнее, — его голос прервался от волнения, — если бы удалось закопать каждого редактора в кучу вонючего марадрама, хотя вонь и страшно усилилась бы.
— Откуда ты так хорошо знаешь редакторов? — спросил я.
— А как же иначе? — ответил он. — Однажды я написал трогательнейший рассказ об истинной любви и высокой жертвенности, а этот неимоверно тупой…
Тут он махнул ручкой и перевел разговор:
— Так ты говоришь, что на ваших задворках вселенной редакторы точно такие же, как и в нашем цивилизованном мире?
— Очевидно, так, — сказал я. Азазел покачал головой:
— Воистину подобны друг другу все разумные сообщества. Поверхностно мы различаемся, у нас разное биологическое оформление, строение ума, чувство морали но в основах — например, в свойствах редакторов — мы одинаковы.
Да, да, я знаю, что у вас нет проблем с редакторами, но это ведь потому, что вы к ним подлизываетесь.
— А можешь ли ты, о Могучий, Сила Вселенной, как-нибудь исправить положение?
Азазел задумался:
— Мне нужно было бы как-то идентифицировать физическое оформление какого-нибудь конкретного редактора. Я полагаю, что у твоего друга есть — как бы это помягче выразиться — отказ от редактора в письменной форме.
— Я в этом убежден, о Величайший.
— Словарь и стиль этого листка дадут мне все нужные сведения. А дальше — легкое изменение общей ауры, капля молока человеческой доброты, привкус интеллекта, следы терпимости… конечно, из редактора не сделаешь эталон морали, но можно слегка компенсировать содержащееся в нем зло.
Ну, я не буду вас утомлять тщательным описанием тонкой технологии Азазела, тем более что это было бы весьма небезопасно. Достаточно сказать, что я заполучил ответ с отказом от профессора Хэрмана с помощью блестящей и разумной стратегии, в которую входил подбор ключа к его кабинету и тщательный просмотр бумаг. А потом я убедил его повторно представить ту же статью в тот же журнал, из которого он получил этот отказ.
На самом деле я воспользовался приемом, который подцепил у вас. Я сказал:
— Друг мой Хэрман, отправьте снова эту статью тому же некомпетентному выродку с черной душой и напишите сопроводительное письмо со следующим текстом: «Я внес все изменения, предложенные референтом, и статья стала настолько лучше, что я сам не могу в это поверить. Очень благодарен вам за неоценимую помощь».
Хэрман сперва вяло возражал, что он не вносил никаких изменений и поэтому вышеприведенное утверждение не является отражением объективной реальности. Я ему на это ответил, что наша цель — пробить статью в печать, а не получить похвальный лист от организации бойскаутов.
Он минуту обдумывал это положение, затем сказал:
— Вы правы. Похвальный лист от бойскаутов никак не мог бы быть мною получен, ибо я не смог получить даже звание бойскаута. Я завалился на определении деревьев.
Статья отправилась и через два месяца появилась в печати. Вы себе не можете представить, как был счастлив Пол-Сэмюэл Иствуд Хэрман. Мы с ним накупили в том самом кафе на обочине столько жаренного на вертеле мяса, что у нас животы могли изнутри сгореть, если бы мы тщательно не сбивали пламя подходящими огнетушителями — одним за другим.
Не надо, старина, кивать головой и тянуться к своим дурацким гранкам. Я еще не кончил.
Примерно в те дни я уехал погостить в загородный дом к одному своему другу — тому самому, которого я учил ходить по снегу. Я вам, по-моему, это рассказывал. И получилось так, что профессора Хэрмана я не видел три или четыре месяца.
По возвращении в город я сразу постарался с ним увидеться, поскольку был уверен, что он уже запродал какой-нибудь японской фирме патент на получение энергии из ничего и прошел номинацию на Нобелевскую премию. Я считал, что он ни за что не станет меня сторониться и что обед в «Короле гамбургере» вполне может стать реальностью. В предвкушении обеда я даже захватил бутылку кетчупа, сделанного по собственному моему рецепту.
Я его нашел в его кабинете, где он сидел, тупо уставившись в стенку. Лицо у него было покрыто трехдневной щетиной, а костюм выглядел так, будто в нем спали три ночи подряд, хотя сам профессор имел вид человека, не спавшего уже четыре ночи. Разрешать суть этого парадокса я не стал и пытаться. Я спросил:
— Профессор Хэрман, что случилось?
Он взглянул тусклыми глазами. Постепенно, микроскопическими дозами, в них появлялось выражение, близкое к сознательному.
— Джордж? — спросил он.
— Именно я, — заверил я его.
— Это не помогло, Джордж, — сказал он. — Вы меня подвели.
— Подвел вас? Чем?
— Статья. Ее напечатали. Ее все прочли. Каждый, кто читал, нашел ошибку в математических доказательствах. Причем все нашли разные ошибки. Вы обманули меня, Джордж. Вы сказали, что поможете мне, — и не помогли. И я могу теперь сделать только одно. Я подытожил счета из того кафетерия на углу. Вы мне должны 116 долларов 50 центов только за пиццу, Джордж.
Я был в ужасе. Если мои друзья взялись за суммирование счетов, то к чему мы придем? Этак даже вы начнете подсчитывать свои убытки, невзирая на свои нелады со сложением и вычитанием.
— Профессор Хэрман, — ответил я. — Я вас не подводил. Я вам обещал, что вы увидите свою статью напечатанной, — и вы увидели. Более ничего я вам не обещал. Отсутствие ошибок в вашей математике я вам не гарантировал никак. Откуда мне знать, что вы там напутали?
— Я не напутал! — в его голосе от возмущения появилась сила. — Там все правильно.
— Но как же те профессора, что нашли у вас ошибки?
— Дураки все как один. Они математики не знают.
— Но все они нашли разные ошибки?
— Именно так. — Голос у него вырос почти до нормального, а глаза заблестели. — Мне надо было это предвидеть. Они некомпетентны и должны быть некомпетентными. Если бы они знали математику, они нашли бы одну и ту же ошибку.
Но блеск в глазах тут же потух, и голос упал.
— Но что толку? — продолжал он. — Моя репутация погублена. Я стал посмешищем навсегда. Если только… только…
Он вдруг резко приподнялся и схватил меня за руку.
— Если только я им не покажу.
— Но как вы сможете показать, профессор?
— До сих пор у меня была только теория, цепь аргументов, утонченные математические рассуждения. С этим можно спорить и можно пытаться опровергнуть. Если я смогу на самом деле создать эти пары частиц и античастиц, если я смогу создать их в достаточных количествах и высвободить существенные запасы энергии из ничего…
— Да, но сможете ли вы?
— Должен быть способ. Я должен подумать — подумать — подумать…
Он склонился головой на руки и пробормотал: «Подумать… подумать». Потом он вдруг посмотрел на меня и прищурился.
— В конце концов, это уже было сделано раньше.
— Было?
— Я абсолютно уверен, — заявил он. — Восемьдесят лет назад какой-то русский наверняка разработал метод для получения энергии из вакуума. В то время Эйнштейн только что построил свою теорию на основании изучения фотоэффекта, и из нее это можно было вывести…
Не буду скрывать, что отнесся к этому скептически.
— А как звали этого русского?
— Откуда мне знать? — возмущенно ответил Хэрман. — Но он явно создал массу частиц на земле и массу античастиц в космосе за пределами атмосферы — просто для демонстрации. Они понеслись друг другу навстречу и столкнулись в атмосфере. Это было в тысяча девятьсот восьмом году в Сибири, возле реки Тунгуска. Явление назвали Тунгусским метеоритом. Никто не мог понять его сути. Все деревья на расстоянии сорока миль повалены, а кратера не осталось. Но мы-то теперь понимаем, в чем дело, правда ведь?
Он сильно возбудился и вскочил на ноги, стал бегать вприпрыжку и потирать руки. Из него так и лез энтузиазм, перемежаемый примерно следующими рассуждениями:
— Этот русский, кто бы он ни был, специально выбрал для эксперимента центр Сибири, чтобы не повредить населенным районам, но сам наверняка погиб при взрыве. А в наши дни мы можем провести эксперимент с помощью дистанционного управления по радио.
— Хэрман, — сказал я, потрясенный его намерениями, — вы же не собираетесь ставить опасных экспериментов?
— Это я-то не собираюсь? Как бы не так! — прошипел он, и на его лице появилось выражение чистого зла. В этот момент его сумасшествие стало явным. Помните, я говорил вам, что он был ученым-психом.
— Я им покажу, — визжал он, — я им всем покажу! Они у меня посмотрят, можно получать энергию из вакуума или нельзя. Я такой взрыв устрою, что Земля содрогнется до самого нутра. Они мне посмеются!
И вдруг он напустился на меня:
— Убирайся отсюда, ты! Пошел вон! Ты хотел украсть мою идею — не выйдет! Я тебе сердце вырежу и собакам брошу!
Продолжая что-то бессвязно выкрикивать, он схватил со стола что-то острое и бросился ко мне.
Обо мне можно сказать всякое, старина, но никто не скажет, что я навязывал свое присутствие там, где оно нежелательно. Я с достоинством удалился, поскольку истинный джентльмен ни на какой скорости не теряет своего достоинства.
С Хэрманом я больше не виделся; знаю только, что в Недоумлендском ПКУО он больше не работает.
Вот и вся история про сумасшедшего ученого.
Я внимательно посмотрел на лицо Джорджа, на котором, как всегда, застыло невинно-простодушно-доброжелательное выражение.
— Когда это все случилось, Джордж? — спросил я.
— Несколько лет назад.
— У вас, наверное, сохранился оттиск статьи профессора Хэрмана?
— Честно говоря, у меня его нет.
— Может быть, ссылка на журнал, в котором она была напечатана?
— Мне даже в голову не приходило ее записывать. Меня такие тривиальности не интересуют, друг мой.
— Джордж, я вам не верю ни на грош и ни на секунду. Вы мне говорите, что это ваш сумасшедший приятель пытается устроить огромное столкновение материи с антиматерией. А я вам говорю, что это чушь.
— С точки зрения вашего душевного спокойствия, — мягко сказал Джордж, — лучше всего продолжать думать именно так. И тем не менее, где-то в этом мире упорно работает профессор Хэрман. Из его последних путаных замечаний я понял, что он захочет повторить тунгусское событие где-то в низовьях Потомака. Он заявил, что сразу после центра Сибири и, возможно, пустыни Гоби следующее наименее ценное место на Земле, которое ничуть не жалко, — это Вашингтон, округ Колумбия. Конечно, его разрушение наведет то, что еще останется от правительства, на мысль, что Советы нанесли термоядерный удар, и они тут же ответят, а потом весь мир сгорит в термоядерной войне. Кстати, друг мой, не могли бы вы одолжить мне пятьдесят долларов до первого числа?
— С чего вдруг?
— Если Хэрман добьется своего, деньги утратят всякое значение, и вы ничего не потеряете. Или, другими словами, потеряете все — так что при этом значат лишние пять десяток?
— А если он потерпит неудачу?
— На фоне безмерной радости спасения человечества от неминуемой гибели — каким мелочным человечком надо быть, чтобы жаться над несчастной полусотней долларов?
Я дал ему пятьдесят долларов.
РАССКАЗЫ
Маятник
Когда я вошел в кабинет, Джон Харман сидел за своим столом, погруженный в глубокую задумчивость. Это стало уже привычным — видеть, как он неотрывно смотрит в окно на Гудзон, подперев голову рукой и нахмурившись. Мне такое дело не нравилось. Куда это годится: день за днем наш маленький боевой петушок выматывает себе душу, когда по справедливости весь мир должен бы им восхищаться и превозносить до небес Я плюхнулся в кресло.
— Вы видели сегодняшнюю передовицу в «Кларион», босс?
Он обратил ко мне усталые покрасневшие глаза.
— Нет, не видел. Что там? Они снова призывают на мою голову отмщение Господне? — голос Хармана был полон горького сарказма.
— Ну, теперь им этого мало, босс, — ответил я. — Вы только послушайте:
«Завтра — день, когда Джон Харман совершит свою святотатственную попытку. Завтра этот человек, против воли и совести всего мира, бросит вызов Богу.
Разве открыта смертным дорога всюду, куда их манят тщеславие и необузданные желания? Есть вещи, навеки недоступные человеку, и среди них — звезды. Подобно Еве, Харман жаждет запретного плода, и как праматерь человеческую, его ждет за это справедливое наказание.
Но говорить об этом мало. Ведь если мы позволим ему навлечь гнев Господа, это будет вина всего человечества, а не одного Хармана. Если мы позволим ему осуществить свои гнусные замыслы, мы станем пособниками преступления и отмщение Господне падет на всех нас.
Поэтому совершенно необходимо принять немедленные меры, чтобы воспрепятствовать полету так называемой ракеты. Правительство, отказываясь сделать это, провоцирует насилие. Если ракета не будет конфискована, а Харман арестован, возмущенные граждане могут взять дело в свои руки…»
Гнев буквально выбросил Хармана из кресла. Выхватив у меня газету, он скомкал ее и швырнул в угол.
— Это же откровенный призыв к суду Линча! — взревел он. — Как будто этого, — он сунул мне в руки пять или шесть конвертов, — мало!
— Снова угрозы?
— Именно. Придется опять затребовать усиления полицейской охраны здания, а завтра, когда я отправлюсь за реку на полигон, будет нужен эскорт мотоциклистов.
Харман возбужденно забегал по комнате.
— Не знаю, что и делать, Клиффорд. Я отдал «Прометею» десять лет жизни, я работал, как раб, я потратил на него целое состояние, отказался от всех человеческих радостей — ради чего, спрашивается? Чтобы позволить кучке идиотов натравить на меня все общество? Чтобы даже моя жизнь оказалась в опасности?
— Вы опередили свое время, босс, — пожал я плечами. Фатализм, который Харман усмотрел в этом жесте, еще больше распалил его гнев.
— Что значит «опередил свое время»? На дворе как-никак 1973 год. Человечество готово к космическим путешествиям уже полстолетия. Пятьдесят лет назад люди начали мечтать о дне, когда они смогут покинуть Землю и устремиться в глубины космоса. За полвека наука медленно и с трудом проложила дорогу к этой цели, и вот теперь… Теперь эта возможность у меня в руках, а вы говорите, что человечество еще не готово!
— Двадцатые и тридцатые годы были временем анархии, упадка и слабости власти, не забывайте, — мягко произнес я. — Нельзя считать критерием то, что говорилось тогда.
— Да знаю я, знаю. Вы хотите напомнить мне о первой мировой войне 1914 года и второй — 1940-го. Но это же древняя история — в них участвовали мой дед и мой отец. Зато в те годы наука процветала. Люди тогда не боялись мечтать и рисковать. Тогда не было ограничений ни в чем, что касалось науки и техники. Ни одна теория не объявлялась слишком радикальной для того, чтобы ее разрабатывать дальше, ни одно открытие не признавалось чересчур революционным, чтобы сделать его всеобщим достоянием. А сегодня мир поражен гнилью, раз такая великая мечта, как космические путешествия, объявляется святотатственной.
Харман медленно опустил голову и отвернулся, чтобы я не увидел, как у него дрожат губы и наворачиваются слезы на глаза, но тут же решительно выпрямился:
— Но я им покажу! Я пойду до конца, и ни небеса, ни ад, не говоря уж о земных дураках, меня не остановят! Я слишком много в это дело вложил, чтобы теперь остановиться на полдороге.
— Не принимайте все так близко к сердцу, босс, — посоветовал я. — Переживания не пойдут вам на пользу завтра, когда вы заберетесь в свою ракету. Шанс остаться в живых у вас и так сомнителен, а что же будет, если вы стартуете, измученный всеми этими заботами и тревогами?
— Верно. Не стоит об этом больше думать. Где Шелтон?
— В Институте — готовит специальные фотографические пластинки для вас.
— Не слишком ли много у него уходит на это времени?
— Да нет Но знаете, босс, должен вам сказать, он мне в последнее время не нравится: что-то с ним не так.
— Ерунда! Он работает со мной уже два года, и мне не на что пожаловаться.
— Что ж поделаешь, — развел я руками, — не хотите меня слушать — дело ваше. Но только я однажды застал его за чтением одного из этих дрянных памфлетов Отиса Элдриджа. Ну вы знаете: «Покайся, род людской, ибо близок суд. Грядет наказание за твои грехи. Кающиеся да спасутся» — и все в таком роде.
Харман фыркнул:
— Дешевый проповеднический треп. Похоже, мир никогда не повзрослеет достаточно, чтобы избавиться от таких типов — по крайней мере пока хватает дураков, на которых эта чушь действует. Но все-таки нельзя выносить приговор Шелтону только потому, что он такое читает. Я ведь и сам иногда почитываю памфлеты.
— По его словам, он случайно поднял книжонку, валявшуюся на полу, и стал читать «из праздного любопытства», да только мне кажется, я видел, как он вынимал ее из портфеля. К тому же он ходит каждое воскресенье в церковь.
— Разве это преступление? В теперешние времена все туда ходят.
— Только не в церковь Евангелической Общины Двадцатого Века. Там же заправляет Элдридж.
Это наконец пробрало Хармана. Ясно, раньше он ничего такого про Шелтона не знал.
— Да, это уже серьезно, верно? Нужно за ним присматривать.
Но тут события стали развиваться с такой быстротой, что мы с боссом совсем забыли про Шелтона — а потом уже было поздно.
В тот день — накануне испытаний — дел уже особенных не оставалось, и я слонялся по своей комнате, пока мне на глаза не попался последний отчет Хармана Институту. В мои обязанности входила проверка всех данных, включенных в отчет, но, боюсь, работу я выполнял не очень тщательно. Сказать по правде, мне никак не удавалось сосредоточиться. Каждые пять минут мои мысли перескакивали на другое. Странно, что вокруг перспективы космического полета поднялся такой шум. Когда Харман впервые объявил о готовящемся испытании «Прометея» — около полугода назад, — в научных кругах это вызвало ликование. Конечно, ученые были осторожны в высказываниях и не скупились на оговорки, но всех охватил настоящий энтузиазм.
Но только массы посмотрели на все иначе. Вам, людям двадцать первого века, это может показаться странным, а вот нам, жившим в 1973 году, следовало такого ожидать. В те времена народ не был так уж прогрессивен. Религиозность росла год от года, и когда все церкви как одна выступили против ракеты Хармана, это решило дело.
Сначала, правда, недовольство выражалось только на церковных собраниях, и мы думали, что, может быть, оно заглохнет само собой. Но не тут-то было. Вопли церковников подхватили газеты, и протесты хлынули буквально как потоп. Бедняга Харман в считанные дни стал проклятием для всего мира. Тут-то его неприятности и начались.
Ему начали угрожать, письма с предсказаниями небесной кары приходили ежедневно. Ему стало небезопасно ходить по улицам. Десятки сект, ни к одной из которых он не принадлежал — Харман был одним из редких в наши времена вольнодумцев, — отлучили его и предали анафеме. И что хуже всего — Отис Элдридж и его Евангелическая Община стали подстрекать население.
Элдридж был странным типом — своего рода гением демагогии, которые появляются время от времени. Наделенный неистовым красноречием и запасом зажигательных лозунгов, он мог буквально загипнотизировать толпу. Десятки тысяч человек становились в его руках мягкой глиной, стоило ему только взять в руки микрофон. И вот уже четыре месяца он обрушивал громы и молнии на Хармана; четыре месяца на него изливался поток обличений. И четыре месяца ярость во всем мире нарастала.
Но Хармана было невозможно запугать. В щуплом теле этого низенького человечка жил дух, который сделал бы непобедимыми пятерых громил. Чем теснее смыкался круг щелкающих зубами волков, тем решительнее он отстаивал свою позицию. С почти сверхъестественной — его враги называли ее дьявольской — непоколебимостью он отказывался отступить хотя бы на шаг. Однако его твердость не могла скрыть от меня, хорошо знавшего Хармана, глубокую печаль и горькое разочарование.
Звонок в дверь прервал мои размышления и заставил меня в изумлении вскочить на ноги. Посетители стали редкостью в последние дни.
Выглянув из комнаты, я увидел высокого представительного человека, говорившего что-то сержанту Кэссиди, дежурному полицейскому Я узнал Говарда Уинстеда, главу Института Харман уже спешил ему навстречу, и, обменявшись несколькими фразами, двое мужчин прошли в кабинет Хармана. Я присоединился к ним, с любопытством гадая о том, что могло привести к нам Уинстеда, который был в большей мере политиком, чем ученым.
Уинстед явно чувствовал себя не в своей тарелке, что было весьма необычно для этого всегда уверенного в себе человека. Он смущенно отводил глаза и бормотал какие-то банальности о погоде. Наконец, отбросив все дипломатические уловки, Уинстед выпалил:
— Джон, а не отложить ли испытания на некоторое время?
— На самом деле вы хотите предложить отказаться от них совсем, не так ли? Ну так вот, я этого не сделаю — таков мой окончательный ответ.
Уинстед поднял руку:
— Не торопитесь с решением, Джон, и не стоит так волноваться. Позвольте мне объяснить ситуацию. Я знаю, что Институт предоставил вам полную свободу в этом вопросе и что вы оплатили по крайней мере половину расходов из собственного кармана… но дело все-таки придется отложить.
— Придется, вот как? — презрительно фыркнул Харман.
— Послушайте, Джон, я не собираюсь учить вас вашей науке, но вы мало смыслите в человеческой природе, а я в ней разбираюсь. «Безумные десятилетия» миновали, даже если вы не отдаете себе в этом отчета. С 1940 года в мире произошли глубокие изменения. — Речь Уинстеда потекла гладко, он явно произносил заранее тщательно подготовленный текст — После первой мировой войны, как вам известно, мир в целом отшатнулся от религии и вековых традиций. Люди были озлоблены, они лишились иллюзий, стали циничными и извращенными. Элдридж называет их «гнусными грешниками» Несмотря ни на что, наука процветала; как говорят, она всегда лучше всего развивается именно в такие времена разброда. С точки зрения ученых, тогда поистине настал золотой век.
Но вспомните тогдашнюю политическую и экономическую ситуацию. Хаос и международная анархия, самоубийственная, безмозглая, безумная — и кульминация всего этого, вторая мировая война. И если первая мировая война привела к росту интеллектуальной изощренности, то вторая вызвала возврат к религии.
Люди с ужасом и отвращением вспоминали «безумные десятилетия» и превыше всего боялись их повторения. Чтобы такого не случилось, они отказались от многого, и их мотивы можно понять. Вся эта свобода, полет воображения, отказ от традиций — от них ничего не осталось. Мы живем теперь в новом викторианском веке, маятник человеческой истории качнулся в сторону религиозности и порядка.
Одно только сохранилось от тех дней, отделенных от нас половиной столетия, — это уважение человечества к научному знанию. Да, в обществе появились запреты: курящая женщина оказалась вне закона, применение косметики не разрешается, открытые платья и короткие юбки — вещь теперь неслыханная, развод не одобряется. Но ограничения не коснулись науки — пока.
Поэтому чтобы сохраниться, наука должна быть осмотрительной, не вызывать народного гнева. Ведь было бы очень легко убедить людей — и Отис Элдридж вплотную подошел к этому в своих речах, — что именно наука виновата в ужасах второй мировой войны. Начнут говорить, что наука извратила культуру, технология оттеснила социологию, и эти перекосы чуть не привели к гибели всего мира. И должен сказать, мне не кажется, что это такие уж ошибочные взгляды.
И задумывались ли вы над тем, что случится, если эта точка зрения на науку возобладает? Научные исследования могут быть вовсе запрещены или, если дело не зайдет так далеко, подвергнутся таким жестким ограничениям, что задохнутся. Вот это будет катастрофой, от которой человечество не оправится и за тысячелетие.
Ваш пробный полет, Джон, может оказаться как раз последней каплей. Вы раздразнили общественное мнение до такой степени, что будет очень трудно успокоить людей. Я предостерегаю вас, Джон. Последствия падут на вашу голову.
Минуту в комнате царила абсолютная тишина. Наконец Харман выдавил из себя улыбку:
— Ну-ну, Говард, вы позволяете себе пугаться теней. Не хотите же вы сказать, что всерьез считаете мир стоящим на пороге нового средневековья? В конце концов, на стороне науки все разумные люди.
— Если это и так, то разумных людей осталось не очень много. — Уинстед вытащил трубку и начал медленно ее набивать. — Два месяца назад Элдридж организовал Лигу Праведных — и она растет так, что в это трудно поверить. Только в Соединенных Штатах в нее вступило двадцать миллионов человек. Элдридж похваляется, что после следующих выборов Конгресс будет у него в кармане, и это, к сожалению, не блеф. Даже теперь существует сильнейшее лобби, добивающееся принятия закона, запрещающего все эксперименты в области ракетостроения, а в Польше, Португалии и Румынии такие законы уже приняты Да, Джон, мы ужасно близки к открытым преследованиям науки. — Уинстед сделал несколько быстрых нервных затяжек.
— Но если мне удастся, Говард, если мне удастся! Что тогда?
— Ха! Вы же знаете, какова вероятность вашего успеха. По вашей же собственной оценке, у вас всего один шанс из десяти остаться в живых.
— Какое это имеет значение! Следующий испытатель учтет мои ошибки, и вероятность успеха увеличится. Таков научный метод.
— Толпе нет дела до научных методов, она их не знает и знать не хочет. Ладно, каков ваш ответ? Вы отложите испытание?
Харман вскочил, его кресло с грохотом опрокинулось.
— Знаете ли вы, о чем просите? Вы хотите, чтобы я отказался от дела всей моей жизни! Не думаете же вы, что я буду смирно сидеть и ждать, когда ваша драгоценная публика соблаговолит стать благосклонной. Да мне жизни не хватит, чтобы этого дождаться!
Вот вам мой ответ: я имею неотъемлемое право стремиться к знаниям, так же как наука имеет неотъемлемое право развиваться без помех. Мир, который пытается мне помешать, ошибается, а я прав. Пусть мне придется плохо, но я не откажусь от своих прав.
Уинстед грустно покачал головой:
— Вы заблуждаетесь, Джон, когда говорите о «неотъемлемых» правах. То, что вы называете правом, на самом деле привилегия, дарованная вам с общего согласия Правильно то, что принимается обществом; то, что им отвергается, ошибочно.
— Согласится ли ваш дружок Элдридж с таким определением в приложении к его «праведности»?
— Нет, не согласится, но это к делу не относится. Возьмите, например, африканские племена каннибалов. Их члены были воспитаны в традициях людоедства, обычай был общепринятым, их общество одобряло такую практику Для них каннибализм вполне правомерен, да и почему бы нет? Так что видите, как относительно само понятие добра и зла и сколь уязвимо ваше утверждение о «неотъемлемом» праве на эксперимент.
— Знаете ли, Говард, вы ошиблись при выборе карьеры: вам бы быть крючкотвором-адвокатом! — Теперь уже Харман разозлился всерьез. — У вас идет в дело любой замшелый аргумент, какой только вы можете вспомнить. Бога ради, не делайте вид, будто вы действительно видите преступление в том, что я отказываюсь разделять заблуждения толпы. То, за что вы ратуете, — абсолютная серость, ортодоксальные взгляды, мещанство — гораздо скорее покончат с наукой, чем правительственный запрет. — Харман обвиняюще ткнул в Уинстеда пальцем: — Вы предаете науку и традицию таких великолепных бунтарей, как Галилей, Дарвин, Эйнштейн. Моя ракета взлетит завтра по расписанию, что бы ни говорили вы и вам подобные. Все, я вас больше не стану слушать. Убирайтесь!
Глава Института, побагровев, повернулся ко мне:
— Будьте свидетелем, молодой человек: я предупреждал этого упрямого глупца, этого… этого безмозглого фанатика! — прошипел он и вышел — олицетворение оскорбленной добродетели.
Когда мы остались одни, Харман в упор взглянул на меня:
— Ну а что думаете вы? Вероятно, вы с ним согласны? У меня на это был единственный ответ:
— Вы платите мне за то, чтобы я выполнял ваши распоряжения. Я с вами.
Как раз в этот момент вернулся Шелтон, и Харман засадил нас обоих в который раз обсчитывать параметры орбиты; сам он отправился спать.
Следующий день, 15 июля, выдался великолепным, и мы с Харманом и Шелтоном почти радовались жизни, пересекая Гудзон — туда, где, окруженный полицейским кордоном, сверкал во всем своем великолепии «Прометей».
Вокруг ограждения, опоясывавшего ракету на безопасном расстоянии, кипела огромная толпа. Большинство не скрывало яростной враждебности. На какой-то момент, когда наш полицейский мотоциклетный эскорт расчищал нам дорогу и на нас обрушился град оскорблений и проклятий, я подумал, что, пожалуй, нам следовало прислушаться к словам Уинстеда.
Но Харман не обращал ни на что внимания — только презрительно улыбнулся в ответ на первый же крик: «Вот он, Джон Харман, порождение Велиала!» С полным спокойствием он руководил нами при подготовке ракеты. Я проверил, нет ли утечек через швы, соединяющие массивные плиты корпуса, и в воздушных шлюзах, удостоверился в исправности очистителя воздуха. Шелтон занимался защитным экраном и топливными баками. Наконец Харман примерил неуклюжий скафандр, убедился, что он в исправности, и объявил, что готов.
Толпа заволновалась. Еще раныше кто-то из собравшихся сколотил грубый дощатый помост, и теперь на него поднялся человек необыкновенной наружности — высокий и худой, с изможденным лицом аскета, глубоко посаженными пылающими глазами, пронзительным взглядом, густой белоснежной гривой волос — сам Отис Элдридж. Его узнали, толпа разразилась приветствиями. Энтузиазм был велик, и бурлящая человеческая масса выкрикивала его имя, пока крикуны не охрипли.
Элдридж поднял руку, требуя тишины, повернулся к Харману, на лице которого отразились изумление и отвращение, и указал на него длинным костлявым пальцем.
— Джон Харман, сын дьявола, сатанинское отродье, тебя сюда привел греховный замысел. Ты готов к святотатственной попытке приподнять покрывало, заглядывать за которое смертным запрещено. Ты жаждешь запретного плода — берегись, плоды греха горьки.
Толпа как эхо повторяла его слова. Элдридж продолжал:
— Длань Господа покарает тебя, Джон Харман. Господь не допустит, чтобы его заповеди были нарушены. Ты умрешь сегодня, Джон Харман. — Голос Элдриджа набирал силу, и последние слова прозвучали с пророческой мощью.
Харман с отвращением отвернулся. Громким ясным голосом он обратился к полицейскому:
— Нельзя ли, сержант, убрать отсюда зевак? Пробный полет может сопровождаться разрушениями от выхлопа ракеты, а любопытные толпятся слишком близко.
Полицейский ответил жестко и недружелюбно:
— Если вы боитесь, мистер Харман, что толпа растерзает вас, так и скажите. Впрочем, не беспокойтесь, мы сумеем ее сдержать. Что же касается опасности — от этого сооружения… — он сплюнул в сторону «Прометея», поддержанный издевательскими криками из толпы.
Харман больше ничего не сказал и молча двинулся к кораблю. Как только он приблизился к ракете, воцарилась странная тишина, полная ощутимого напряжения. Не было попытки взять корабль штурмом — что мне казалось неизбежным. Напротив, Отис Элдридж приказал людям отодвинуться подальше.
— Пусть на грешника падут грехи его! — закричал он. — Господь сказал: «Мне отмщение, и аз воздам!»
Момент запуска был близок, и Шелтон толкнул меня в бок:
— Пошли отсюда, — прошептал он напряженным голосом, — от выхлопа не поздоровится, — и бросился бежать, отчаянно махая мне рукой.
Мы еще не достигли передних рядов толпы, как сзади раздался оглушительный рев. Меня окатила волна горячего воздуха. Что-то с угрожающим свистом пролетело мимо моего уха, и меня с силой швырнуло на землю. Несколько минут я пролежал оглушенный.
Когда я, шатаясь, как пьяный, снова смог подняться на ноги, моим глазам открылась ужасная картина. Похоже, все топливо «Прометея» взорвалось разом; там, где только что находилась ракета, теперь зияла огромная воронка. Все вокруг было усеяно обломками. Душераздирающие вопли пострадавших, изуродованные тела… впрочем, лучше я воздержусь от описаний.
Слабый стон, раздавшийся рядом, привлек мое внимание. Посмотрев себе под ноги, я охнул в ужасе — там лежал Шелтон, и затылок его превратился в сплошную кровавую мешанину.
— Я сделал это, — в его хриплом голосе звучал триумф, но говорил он так тихо, что я еле разобрал слова. — Я сделал это. Я открыл задвижки в баках с жидким кислородом, и, когда было включено зажигание, все это проклятое Богом сооружение взорвалось. — Шелтон начал задыхаться, попробовал приподняться, но не смог. — Должно быть, в меня попал обломок, но это безразлично. Я умру, зная…
Его голос превратился в прерывистый шепот, на лице застыл экстаз мученика за святое дело. Через несколько секунд он был мертв, и я не нашел в себе сил проклясть его.
Только тут я подумал о Хармане. Начали прибывать машины скорой помощи из Манхэттена и Джерси-Сити, и одна из них помчалась к рощице в полукилометре от места старта. Там в вершинах деревьев застряла искореженная кабина «Прометея». Хромая, я бросился туда со всей доступной мне скоростью, но Хармана вытащили и увезли прежде, чем я добежал.
Я не стал там задерживаться. Стенающая толпа была занята погибшими и ранеными — но это теперь, а когда они опомнятся и воспылают жаждой мести, моя жизнь не будет стоить ни гроша. Я прислушался к совету разумного голоса собственной доблести и незаметно скрылся с места происшествия.
Следующая неделя была для меня весьма тревожной. Я прятался в доме у друзей, понимая, что дорого заплачу, если окажусь обнаруженным и узнанным. Сам Харман находился в госпитале Джерси-Сити; он отделался лишь незначительными порезами и ушибами — благодаря случайности, бросившей кабину «Прометея» на смягчившие удар верхушки деревьев. И именно на него всей тяжестью обрушилось негодование человечества.
Нью-Йорк, да и весь мир в придачу, словно сошел с ума. Все до одной газеты вышли с огромными заголовками — «28 убитых, 73 раненых — такова цена греха», — напечатанными кроваво-красной краской. Передовицы требовали смертного приговора Харману, настаивая на его аресте и предании суду за убийство.
Обезумевшие тысячные толпы из ближайших графств, выкрикивая призывы к суду Линча, хлынули в Джерси-Сити. Во главе их, конечно, оказался Отис Элдридж: обе его ноги были в гипсе, но он без устали обращался к людям из открытого автомобиля. Все это напоминало настоящую армию на марше.
Карсон, мэр Джерси-Сити, поднял по тревоге всех полицейских и отчаянно требовал из Трентона подкреплений. В Нью-Йорке власти перекрыли все мосты и туннели, ведущие из города, — но только после того, как многие тысячи успели прорваться в сторону Джерси-Сити.
На следующий день после катастрофы, 16 июля, на побережье разгорелись настоящие сражения. Полицейские работали дубинками направо и налево, но громадное численное превосходство противника заставляло их отступать и отступать. Конная полиция тоже не церемонилась, но и ее смели с дороги. Только когда был применен слезоточивый газ, толпу удалось остановить — но даже и тогда она не отступила.
На следующий день было объявлено чрезвычайное положение, и в Джерси-Сити вошли федеральные отряды. Это положило конец призывам к суду Линча. Элдридж был вызван к мэру и после разговора с ним приказал своим приверженцам разойтись.
По сообщениям газет, мэр Карсон сказал Элдриджу: «Джон Харман понесет наказание за свои преступления, но все должно происходить в соответствии с законом. Правосудие свершится, и правительство штата примет все необходимые меры».
К концу недели жизнь более или менее вошла в нормальную колею и Харман перестал быть объектом всеобщего внимания. Прошло еще дней десять, и его имя почти исчезло с газетных страниц, за исключением случайных упоминаний в связи с только что единогласно принятым обеими палатами Конгресса законом, запрещающим работы в области ракетостроения.
На протяжении этого времени Харман все еще оставался в госпитале. Судебному преследованию он не подвергся, но было похоже на то, что власти намерены до бесконечности держать его под домашним арестом «в целях защиты от покушений». Поэтому я решил, что мне пора действовать.
Госпиталь Темпл находится на отдаленной и малолюдной окраине Джерси-Сити, и темной безлунной ночью мне не составило труда проникнуть на его территорию. С ловкостью, удивившей меня самого, я влез в подвальное окно, оглушил сонного дежурного врача и проскользнул к палате 15Е, которая в книге регистрации значилась за Харманом.
— Кто там? — удивленный голос Хармана прозвучал в моих ушах музыкой.
— Ш-ш! Тихо! Это я, Клифф Маккенни.
— Вы! Что вы тут делаете?
— Пытаюсь вытащить вас отсюда. Если ничего не предпринять, вы останетесь здесь на всю жизнь. Пошли, нужно выбираться побыстрее.
Пока он с моей помощью одевался, я шепотом сообщил ему свой план. Через минуту мы уже крались по коридору, благополучно выбрались из госпиталя и сели в мой автомобиль. Только тут Харман достаточно преодолел растерянность, чтобы начать задавать вопросы.
Первое, о чем он спросил, было:
— Что тогда случилось? Я ничего не помню с того момента, как включил зажигание — очнулся я уже в госпитале.
— Разве вам не рассказали?
— Ни единого слова, — он выругался. — Я задавал вопросы, пока не охрип, и все без толку.
Я рассказал ему обо всем, что происходило с момента взрыва Харман широко раскрыл глаза в ужасе и изумлении, услышав о числе убитых и раненых, и вскипел от ярости, узнав о предательстве Шелтона. Мой рассказ о беспорядках и попытках линчевать его сопровождался глухими проклятиями сквозь стиснутые зубы.
— Как и следовало ожидать, газеты вопили об «убийстве», — продолжал я, — но им так и не удалось пришить вам это. Тогда они попытались протащить версию «преступной халатности», да только оказалось слишком много свидетелей, своими ушами слышавших, как вы требовали удалить толпу и как полицейский сержант отказал вам в этом. Это, конечно, полностью снимает с вас вину. Тот полицейский сам погиб при взрыве, и козла отпущения им найти не удалось.
И все равно Элдридж продолжает требовать вашей головы, и вы нигде не будете в безопасности. Лучше скрыться, пока есть такая возможность.
Харман согласно кивнул.
— Элдридж не погиб при взрыве, верно?
— К сожалению. У него сломаны обе ноги, но это не заставило его умолкнуть.
Еще через неделю мы добрались до нашего убежища — фермы моего дядюшки в Миннесоте. В этом тихом деревенском захолустье мы переждали, пока шум, поднятый исчезновением Хармана, уляжется, а власти прекратят свои не очень ретивые попытки его найти. Поиски продолжались недолго: правительство явно испытало скорее облегчение, чем озабоченность, когда Харман скрылся.
Мир и покой оказали на Хармана поистине чудесное действие. Через полгода он был как новенький — вполне готов к новой попытке отправиться в космическое путешествие. Казалось, никакие несчастья не могут остановить его, раз уж он чем-то загорелся.
— Моя ошибка в тот раз, — сказал он мне однажды зимним днем, — заключалась в том, что я объявил об испытании заранее. Мне нужно было принять во внимание настроение людей, как и говорил Уинстед. Ну на этот раз, — он потер руки и сосредоточенно уставился в пустоту, — я их перехитрю. Мы будем производить эксперименты в тайне — абсолютной тайне.
Я мрачно усмехнулся:
— Да уж придется. Разве вы не знаете, что любые исследования в ракетостроении, даже чисто теоретические разработки, — теперь преступление, за которое полагается смертная казнь?
— Вы боитесь?
— Конечно, нет, босс. Я просто напомнил вам о законе. Но есть еще кое-что. Мы с вами вдвоем не сможем построить корабль, знаете ли.
— Я об этом думал и, мне кажется, нашел выход. Главное, у меня хватит денег. А вам, Клифф, предстоит попутешествовать.
Первым делом вы отправитесь в Чикаго, свяжетесь с фирмой Робертса и Крентона и снимете со счетов все, что еще осталось от наследства моего отца. Правда, — добавил он с сокрушенной улыбкой, — больше половины состояния ушло на строительство первой ракеты. Потом отыщете всех, кого сможете, из нашей старой команды — Гарри Дженкинса, Джо О’Брайена, Нейла Стентона. Возвращайтесь побыстрее — я и так уже устал от ожидания.
Через два дня я выехал в Чикаго. Получить согласие моего дядюшки на нашу затею оказалось легко. «Семь бед — один ответ, — проворчал он, — так что валяйте. Я и так уже влип с вами — могу и дальше идти по той же дорожке».
Мне пришлось много поездить и еще больше умасливать и уговаривать, прежде чем удалось собрать на ферме четверых участников — тех троих, которых назвал Харман, и еще одного — Саула Симоноффа. Вот с этими-то ребятами и полумиллионом долларов — всем, что осталось от баснословного наследства Хармана, — мы и взялись за дело.
Про строительство «Нового Прометея» можно рассказывать долго — чего только мы не натерпелись за эти пять лет забот и неуверенности в успехе. Мало-помалу, закупая детали каркаса в Чикаго, плиты для обшивки из бериллиевого сплава в Нью-Йорке, ванадиевые лампы в Сан-Франциско, бесчисленные мелочи по всем концам страны, мы наконец собрали брата-близнеца несчастного «Прометея».
Трудности были громадные. Чтобы не навлечь на себя подозрения, нам приходилось отделять заказы друг от друга большими промежутками времени и к тому же делать их из разных мест. Мы привлекли себе на помощь живших по всей стране друзей — они, конечно, ничего не знали об истинном назначении своих покупок.
Нам пришлось самим синтезировать топливо — а его было нужно десять тонн, — и это, пожалуй, оказалась самая трудная часть работы и уж по крайней мере самая долгая. И наконец, когда деньги Хармана стали подходить к концу, мы столкнулись с необходимостью экономить на всем. Мы, конечно, с самого начала знали, что нам никогда не удастся сделать «Новый Прометей» таким же большим и таким же хорошо оснащенным, как первый корабль, но оказалось, что необходимость свести расходы к минимуму приводит к черте, за которой полет становится просто опасным. Защитный экран еле-еле выполнял свои функции, а от радиосвязи нам пришлось отказаться вообще.
Так мы и вкалывали все эти годы в деревенской глуши Миннесоты, а мир шел дальше, и оказалось, что предсказания Уинстеда удивительно совпали с действительностью.
События этих пяти лет — с 1973-го по 1978-й — теперь известны любому школьнику: это был пик того, что теперь называют «неовикторианством». В то, что происходило тогда, теперь трудно поверить.
Объявление космических исследований вне закона было только началом. За ним последовали драконовские меры против всей науки. Выборы 1974 года дали стране Конгресс, обе палаты которого полностью контролировались Элдриджем.
Элдридж времени зря не терял. На первом же заседании был принят знаменитый закон Стоунли — Картера, по которому создавалось Федеральное бюро научных расследований — ФБНР, — получившее право полностью распоряжаться всеми научными работами в стране. Любая лаборатория, как исследовательская, так и производственная, была теперь обязана заранее докладывать о своих планах ФБНР, а уж оно не стеснялось запрещать все, что хотело.
Начались неизбежные протесты. В ноябре 1974 года в Верховный суд поступил иск Вестли. Джон Вестли из Станфордского университета требовал защиты своего права продолжать исследования в области атомной энергетики и утверждал, что закон Стоунли — Картера противоречит Конституции.
Как же мы, затерянные в снегах Среднего Запада, следили за ходом дела! Мы выписали все миннеаполисские и сентполские газеты — хоть они и приходили к нам с двухдневным опозданием — и проглатывали все, что печаталось на эту тему. В течение двух месяцев надежд и разочарований всякая работа над «Новым Прометеем» приостановилась.
Сначала, по слухам, Верховный суд склонялся к тому, чтобы признать закон неконституционным. Во всех сколько-нибудь заметных городах начались массовые демонстрации, протестовавшие против этого гипотетического решения. Лига Праведных оказала мощное давление — и Верховный суд сдался. Пятью голосами против четырех закон Стоунли — Картера был признан соответствующим Конституции. Благодаря голосу одного человека наука оказалась задушена.
А в том, что она задушена, сомнений не оставалось. Члены ФБНР душой и телом принадлежали Элдриджу, и они налагали вето на любые разработки, не имевшие немедленного выхода в практику.
«Наука зашла слишком далеко, — сказал в своей знаменитой речи, произнесенной в эти дни, Элдридж. — Мы должны остановить ее навсегда и дать миру прийти в себя. Только это в сочетании с верой в Бога даст нам всеобщее и постоянное процветание».
Но это было одно из последних выступлений Элдриджа. Он так никогда полностью и не оправился от травм, полученных в тот незабываемый июльский день, а многотрудная жизнь требовала напряжения, приведшего к срыву. Второго февраля 1976 года он умер, оплаканный так, как никого не оплакивали со времен убийства Линкольна.
Его смерть не оказала немедленного влияния на развитие событий. Порядки, установленные ФБНР, с течением лет становились все более жесткими. Наука была столь слаба, что колледжи оказались вынуждены возродить преподавание философии и классических языков как основных предметов, но даже несмотря на эти меры число студентов достигло самого низкого уровня с начала двадцатого века.
Более или менее так же обстояли дела и во всем цивилизованном мире. Ситуация в Англии была еще хуже, чем в Соединенных Штатах, и лишь Германия в какой-то мере избежала упадка — она последняя подчинилась неовикторианскому влиянию.
Самой низкой точки падения наука достигла весной 1978 года — до завершения работ над «Новым Прометеем» к тому времени оставался какой-нибудь месяц. Был обнародован «Пасхальный эдикт» — он был принят за день до Пасхи. Согласно новому закону, все независимые научные работы были запрещены, а ФБНР было предписано разрешать только те исследования, которые оно же и заказывало.
В пасхальное воскресенье мы с Джоном Харманом стояли перед сверкающим металлическим корпусом «Нового Прометея». Меня преследовали мрачные мысли, а Харман был почти в жизнерадостном настроении.
— Ну вот, Клиффорд, мой мальчик, — говорил он, — еще одна тонна горючего, несколько последних доделок, и все будет готово для моей новой попытки. На этот раз среди нас не будет Шелтонов. — Харман начал напевать гимн. Только гимны теперь и передавались по радио, и даже мы, вольнодумцы, иногда принимались их петь — просто уж очень часто мы их слышали.
— Все это без пользы, босс, — мрачно пробормотал я. — Десять против одного, вам придет конец где-нибудь там в космосе, а даже если вы и вернетесь, то вас повесят. Нам не выиграть. — Я безнадежно покачал головой.
— Чепуха! Такое состояние дел не может длиться до бесконечности, Клифф.
— А я думаю, что может. Уинстед тогда был прав. Маятник качнулся, и с 1945 года он движется не в нашу сторону. Мы опережаем время — или отстали от него.
— Не говорите мне об этом дураке Уинстеде! Вы теперь повторяете его ошибку. Тенденции общественного развития меняются за века и тысячелетия, а не за годы. Пять столетий мы двигались в сторону расцвета науки. Нельзя вернуться к исходной точке за какие-то тридцать лет.
— Тогда что же сейчас происходит? — спросил я с сарказмом.
— Мы переживаем кратковременную реакцию на слишком быстрое развитие в «безумные десятилетия». Точно такая же реакция имела место в период романтизма — первый викторианский век — после слишком быстрой поступи восемнадцатого столетия — Века Разума.
— Вы на самом деле так думаете? — Я был потрясен его верой в собственную правоту.
— Конечно. События нашего времени — точная аналогия тех периодических «возрождений», которые случались в заштатных городишках Библейского Пояса[7] Америки столетие или около того назад. В течение недели обычно все клялись, что религия и добродетель воцарились навеки, а потом один за другим жители скатывались на привычные грешные пути, и дьявол снова собирал свою жатву.
На самом деле признаки возврата к нормальной жизни есть уже сейчас. Лигу Праведных после смерти Элдриджа раздирает одна склока за другой. Появилось полдюжины ересей. Даже самые крайности, в которые ударяются власти, работают на нас: народ быстро устает от них.
Тем и кончился наш спор — я, как всегда, потерпел поражение.
Спустя месяц «Новый Прометей» был готов. Он — был совсем не таким великолепным, как его предшественник, и следы вынужденной экономии были очень заметны, но мы гордились им — гордились и чувствовали себя триумфаторами.
— Я попробую еще раз, ребята, — голос Хармана был хриплым, и маленький человечек весь вибрировал от счастья. — Может, я и не вернусь, но это мне безразлично. — Его глаза сияли предвкушением. — Я все-таки устремлюсь в космос, и мечта человечества осуществится. Я облечу Луну, я первым увижу ее обратную сторону! Ради этого стоит рискнуть.
— Жаль, у вас, босс, не хватит топлива, чтобы сесть на Луне, — сказал я.
— Какое это имеет значение! Потом ведь будут еще полеты, лучше подготовленные и лучше оснащенные.
Ответом на это заявление был пессимистический шепот в группе, окружавшей Хармана, но он не обратил на это внимания.
— Пока, — сказал Харман, — скоро увидимся, — и полез в корабль.
Через пятнадцать минут мы пятеро сидели вокруг стола в гостиной, хмурясь и глядя в окно на выжженную землю там, где недавно находился «Новый Прометей».
Симонофф высказал вслух мысль, преследовавшую каждого из нас:
— Может быть, лучше, если он не вернется. Его здесь будет ждать не особенно теплая встреча. — Все мы печально согласились с этим.
Какой глупостью кажется мне теперь, по прошествии трех десятилетий, это предсказание!
То, что мне остается рассказать, я знаю лишь со слов других: я увиделся с Харманом только через месяц после того, как его полет завершился благополучным приземлением.
Прошло примерно тридцать шесть часов с момента старта, когда блестящий снаряд с воем пронесся над Вашингтоном и зарылся в мягкую грязь на берегу Потомака.
Первые любопытные были на месте происшествия через пятнадцать минут, а еще через пятнадцать там появилась полиция — стало ясно, что снаряд представляет собой космический корабль. Люди смотрели с невольным почтением на усталого и измученного человека, Который, шатаясь, выбрался из ракеты.
В полной тишине он погрозил им кулаком и закричал:
— Ну давайте повесьте меня, дурачье! Я долетел до Луны, и этот факт нельзя прикончить. Давайте, зовите агентов ФБНР! Может быть, они объявят мой полет незаконным и тем самым не состоявшимся? — Он засмеялся и неожиданно рухнул на землю.
Кто-то закричал:
— Его нужно отвезти в госпиталь! Ему плохо!
Тело потерявшего сознание Хармана запихнули в полицейскую машину и увезли, а вокруг корабля была выставлена охрана.
Правительственные чиновники обследовали корабль, прочли судовой журнал, познакомились с рисунками и фотографиями Луны, сделанными Харманом, и молча удалились. Толпа вокруг корабля все росла, слух о том, что человек достиг Луны, быстро распространился.
Как ни странно, это не вызвало возмущения. Люди были взволнованы и впечатлены, они шептались и бросали любопытные взгляды на тонкий серпик Луны, еле видный в ярких солнечных лучах. Толпа хранила молчание — молчание нерешительности.
Попав в госпиталь, Харман назвал себя, и непостоянный мир начал сходить с ума от ликования. Даже сам Харман был безмерно изумлен тем, как быстро изменилось общественное мнение. Это казалось невероятным, и тем не менее действительно было так. Тайное недовольство, подогретое известием о героическом подвиге человека, боровшегося с враждебной судьбой, — именно такие события будоражили душу человеческую с начала времен — привело к тому, что взметнулась мощная антивикторианская волна. Элдридж был мертв, и не нашлось никого, чтобы занять его место.
Вскоре после этого я навестил Хармана в госпитале. Он сидел в кровати, наполовину заваленный газетами, телеграммами и письмами. Улыбаясь, он кивнул мне и шепнул:
— Ну вот, Клифф, маятник качнулся в другую сторону.
Вслед за Черной Королевой
Хотите загадку? Насколько опасен для общества учебник по химии, переведенный на греческий язык? Можно сказать и по-иному Будет ли преступником человек, который в ходе недозволенного эксперимента полностью вывел из строя одну из крупнейших атомных электростанций страны?
Само собой, эти загадки нам пришлось решать потом. Начали мы с атомной электростанции — опустошенной. Я хочу сказать, опустошенной. Не знаю, сколько там было делящегося материала, только за две микросекунды он разделился весь.
Без взрыва. Без лишнего гамма-излучения. Только сплавились все движущиеся части в здании. Весь главный корпус немного нагрелся. Атмосфера на две мили вокруг — тоже, но послабее. Остался мертвый, бесполезный остов, замена которого обошлась в сто миллионов долларов.
Случилось это в три часа утра. Элмера Тайвуда нашли в центральной силовой камере. И все, что удалось обнаружить за следующие двадцать четыре суматошных часа, укладывалось в три абзаца.
1. Элмер Тайвуд — доктор физических наук, член и почетный член не одного научного общества, в далекой юности — участник Манхэттенского проекта, а ныне профессор ядерной физики — имел полное право находиться на станции. У него был пропуск категории А — без ограничений. Но никаких записей о том, что ему понадобилось в этот день, не сохранилось. Сплавившиеся в единую тепловатую массу приборы на столике-тележке не были зарегистрированы как затребованные для опыта.
2. Элмер Тайвуд был мертв. Его тело лежало рядом с тележкой, лицо потемнело от прилива крови. Никаких следов радиационной болезни или насилия. Заключение врача: инсульт.
3. В личном сейфе Элмера Тайвуда были обнаружены два странных предмета: два десятка блокнотных листов, густо исписанных формулами, и брошюра на неизвестном языке — как оказалось, перевод учебника по химии на древнегреческий.
Всю эту историю тут же покрыла такая секретность, что от нее мухи дохли. По-иному я сказать не могу. За все время расследования на электростанцию вошло ровным счетом двадцать семь человек, включая министра обороны, министра науки и еще двух-трех неизвестных широкой публике, но оттого не менее важных лиц. Весь дежурный персонал станции, физика, опознавшего Тайвуда, и врача, его осматривавшего, поместили под домашний арест.
Эта история не попала в газеты. О ней не шушукались в коридорах власти. Несколько членов Конгресса слышали о ней — немного.
И это естественно. Человек, или организация, или страна, способная высосать все энергию из полусотни, а то и сотни фунтов плутония, держит промышленность и оборону Соединенных Штатов мертвой хваткой, потому что сто шестьдесят миллионов человек по одному их слову могут оказаться мертвыми.
Был это один Тайвуд? Или не один? Или кто-то еще при помощи Тайвуда?
Чем занимался я? Служил подставкой; прикрытием, если вам так больше нравится. Кому-то ведь надо болтаться по университету и задавать о Тайвуде вопросы. В конце концов, он же пропал. Это могла быть амнезия, похищение, убийство, несчастный случай, сумасшествие, захват заложников — я мог еще лет пять служить мишенью для косых взглядов и отвлекать внимание. Получилось, правда, совсем иначе.
Только не думайте, что меня привлекли с самого начала. Я не входил в число тех двадцати семи человек (там был мой Босс). Но кое-что я знал — достаточно, чтобы начинать.
Профессор Джон Кейзер тоже занимался физикой Попал я к нему не сразу. Чтобы не казаться подозрительным, я начал с рутинных опросов. Совершенно бессмысленное занятие. Но необходимое. Зато теперь я стоял в кабинете Кейзера.
Профессорские кабинеты узнаются с первого взгляда. В них никогда не стирают пыль — разве что заглянет в восемь часов утра усталая уборщица, — потому что профессора пыли не замечают. Груды книг навалены в совершенном беспорядке. Те, что поближе к столу, используются часто — по ним профессор читает лекции. Те, что подальше, запихнул туда одолживший их когда-то студент. Ждут, что их когда-нибудь прочитают, профессиональные журналы — из тех, что выглядят дешевенькими, а оказываются чертовски дорогими. Стол завален бумагами, и на некоторых что-то нацарапано.
Профессор Кейзер был немолод — почти ровесник Тайвуду — и примечателен большим пурпурным носом и зажатой в зубах трубкой. На меня он взирал с рассеянностью и мягкостью типичного ученого — то ли эта работа таких людей привлекает, то ли создает.
— Чем занимался профессор Тайвуд? — осведомился я.
— Теоретической физикой.
Сейчас такие ответики от меня отскакивают, а еще несколько лет назад я бы взбесился.
— Это мы знаем, профессор, — намекнул я. — А поточнее нельзя?
— Если вы не физик-теоретик, — Кейзер благостно улыбнулся, — детали вам не помогут. Это имеет какое-то значение?
— Может быть, и нет. Но профессор пропал. И если с ним случилось что-нибудь, — я повел рукой, — то это связано, вероятно, с его работой, если только он не был богат.
— Университетские профессора богаты не бывают. — Кейзер сухо хохотнул: — Наш товар ценится невысоко — на рынке его в избытке.
Я не обиделся и на это. Я знаю, что внешность меня очень подводит. На самом деле я закончил колледж с оценкой «очень хорошо» (переведенной на латынь, чтобы декан понял) и никогда в жизни не играл в футбол, но, глядя на меня, ни за что так не скажешь.
— Тогда давайте вернемся к его работе, — сказал я.
— Вы намекаете на шпионаж? Международные интриги?
— А почему нет? Такое и раньше случалось. Он, в конце концов, ядерщик.
— Согласен. Но я, например, тоже ядерщик.
— Возможно, он знал что-то, чего не знали вы? Кейзер обиделся. Если застать их врасплох, профессора могут вести себя как люди.
— Если мне не изменяет память, — произнес он надменно, — Тайвуд публиковал статьи о влиянии вязкости на крылья кривой Рэйли, об уравнениях поля высоких орбиталей, и спин-орбитальном взаимодействии нуклеонов, но основные его работы были посвящены квадрупольным моментам. Во всех этих вопросах я вполне компетентен.
— А в последнее время он работал над квадрупольными моментами? — Я постарался не споткнуться на этих словах; кажется, получилось.
— Если так можно сказать, — почти фыркнул профессор. — Возможно, он наконец добрался до стадии экспериментов. Большую часть жизни он потратил на то, чтобы математически разработать одну свою личную теорию.
— Не эту ли? — Я кинул ему лист из блокнота.
Это был один из тех листов, что лежали у Тайвуда в сейфе. Вполне могло оказаться, что лист попал в сейф случайно — знаете, бывает, что вещи оказываются в сейфе только потому, что все ящики стола забиты непроверенными курсовыми работами. И, разумеется, из сейфа ничего не вынимают. У профессора Тайвуда мы нашли неразборчиво подписанные пыльные склянки с каким-то желтым порошком, несколько размноженных на мимеографе брошюр времен второй мировой со штампом «Секретно», копию старой зачетки, несколько писем с предложениями занять пост директора исследовательского отдела «Америкен Электрик» (десятилетней давности) и, конечно, химию на древнегреческом.
Ну и блокнот — свернутый трубочкой, как сворачивают обычно дипломы, перевязанный резинкой, без подписи. Двадцать листов покрывали мелкие аккуратные буковки.
Один из этих листов находился сейчас у меня. Не думаю, что нашелся бы в мире человек, которому доверили больше одного. И я совершенно уверен, что каждый из облеченных высоким доверием знал, что свой листок и собственную жизнь он потеряет настолько одновременно, насколько это удастся правительству.
Я кинул листок Кейзеру так, словно только что нашел эту бумаженцию в студенческом общежитии.
Профессор внимательно оглядел лист, потом осмотрел оборотную сторону — чистую. Глаза его несколько раз скользнули по странице вверх-вниз-вверх.
— Понятия не имею, о чем это, — кисло признался он.
Я молча свернул листок и засунул обратно во внутренний карман.
— Обычный дилетантский предрассудок, — раздраженно продолжал Кейзер, — думать, что ученый может глянуть на уравнение, сказать: «Ах да!..» — и написать о нем книгу. Математика — это миф, условный код, описывающий физические явления или философские концепции. И каждый человек может приспособить ее под свои нужды. Нельзя заранее сказать, что означает тот или иной символ. Наука уже использует все буквы алфавита, прописные и строчные, и каждую — по несколько раз. В дело пошли жирный шрифт, готический шрифт, буквы надстрочные и подстрочные, весь греческий алфавит, звездочки, даже иврит. Разные ученые обозначают одни и те же величины разными символами и разные величины — одной буквой. Так что если вы подсовываете выдернутую Бог знает откуда страничку человеку, незнакомому с используемыми обозначениями, он ни в малейшей степени не способен в ней разобраться.
— Но вы сказали, — прервал я его, — что Тайвуд работал в области квадрупольных моментов. Это вам не поможет? — Я побарабанил пальцами по лацкану пиджака, под которым второй день медленно прожигал дыру злополучный листок.
— Не могу сказать. Я не заметил там никаких стандартных обозначений, которые ожидал увидеть. Или не узнал. Точнее сказать не могу.
Наступила короткая пауза.
— Послушайте, — предложил наконец Кейзер, — почему бы вам не проконсультироваться с его учениками?
— Со студентами? — Я поднял брови.
— Нет, Господи Боже, конечно нет! — Моя глупость явно его раздражала. — С его ассистентами! Его аспирантами! Они работали с ним и должны знать детали его работ лучше, чем я или любой другой на нашем факультете.
— Интересная мысль, — небрежно бросил я. Мысль действительно была интересная. Не знаю почему, но мне бы она в голову не пришла — наверное, потому, что профессор, казалось бы, должен знать больше студента.
— Кроме того, — подергивая себя за лацкан, добавил Кейзер, когда я встал, — по-моему, вы на ложном пути. Пусть это останется между нами — в менее необычных обстоятельствах я промолчал бы, — но Тайвуд никогда не пользовался большим уважением коллег. Надо отдать ему должное — он хороший преподаватель, но его теоретические статьи интереса не вызывали. Наблюдалась в них склонность к теоретизированию, не подтвержденному экспериментами. Думаю, этот ваш листок из того же ряда. Ради этого никто не стал бы… похищать профессора Тайвуда.
— Разве? Что ж, ясно. Может быть, у вас есть догадки, куда и почему он пропал?
— Ничего конкретного. — Кейзер поджал губы. — Вообще-то все знают, что Тайвуд болен. Два года назад он перенес инсульт и весь семестр не мог преподавать. Он так и не оправился. Его парализовало на левую сторону, и он до сих пор хромает. Следующий удар его убьет. А случиться это может когда угодно.
— Так вы думаете, что он мертв?
— Это вполне вероятно.
— Тогда где же тело?
— Ну… это ваше дело, разве нет? Он был прав. И я ушел.
Одного за другим я допросил всех четырех Тайвудовых аспирантов. Допрос проходил в захламленной пещере, называемой исследовательской лабораторией. Обычно в таких лабораториях работают двое претендентов на ученую степень, причем примерно раз в год один из них достигает цели и на его место приходит новый.
Соответственно оборудование в таких лабораториях складывается штабелями. На столах громоздится то, что используется сейчас, а в трех-четырех ящиках под рукой — запасные части, которые могут пригодиться. А в дальних ящиках, на доходящих до потолка стеллажах, в самых неожиданных углах покрываются пылью отбросы жизнедеятельности многих поколений студентов. Общеизвестно, что ни один аспирант не знает всего, что лежит в его лаборатории.
Все четверо аспирантов Тайвуда волновались. Но троих беспокоило преимущественно собственное положение, то есть возможные последствия отсутствия Тайвуда касательно их «проблемы». Я отпустил всех троих — надеюсь, они благополучно защитились — и вызвал последнего, самого растрепанного и неразговорчивого (я счел это добрым знаком).
Теперь он сидел на жестком стуле по правую руку от меня. Звали его Эдвин Хоув, и он-то точно получил свою степень. Это я знаю совершенно определенно — теперь он большая шишка в министерстве науки.
Я откинулся в старом скрипучем вращающемся кресле и сдвинул шляпу на затылок.
— Вы, как я понимаю, занимались той же темой, что и остальные? — осведомился я.
— Ну, мы тут все ядерщики…
— Значит, не совсем?
Он медленно помотал головой:
— У нас разные подходы. Чтобы опубликоваться, нужна четко обозначенная тема. Степень-то получить надо.
Произнес он это тем же тоном, каким мы с вами могли бы сказать: «Жить-то надо». Может быть, для ученых это одно и то же?
— Ладно, — сказал я. — Так в чем заключался ваш подход?
— Я занимаюсь расчетами, — ответил Хоув. — Вместе с профессором Тайвудом, я хочу сказать.
— Какими именно?
Тут он чуть улыбнулся и сразу стал похож на профессора Кейзера. Выражение лица у него было совершенно то же — «Вы-думаете-я-могу-объяснить-такие-глубокие-мысли-этакому-кретину?».
Вслух он сказал только:
— Это несколько затруднительно будет объяснить…
— Я вам помогу, — заверил я его. — Что-то в этом роде? И я кинул ему листок.
Хоув не стал его разглядывать. Он впился в него с пронзительным воем: «Где вы это взяли?»
— У Тайвуда в сейфе.
— Остальное тоже у вас?
— В полной безопасности, — успокоил я его. Он немного расслабился — очень немного.
— Вы это кому-нибудь показывали?
— Профессору Кейзеру. Хоув презрительно фыркнул:
— Этому идиоту? И что он сказал? Я развел руками. Хоув рассмеялся.
— Вот этим я и занимаюсь, — снисходительно добавил он.
— И что это? Объясните, чтобы и я понял.
— Послушайте, — Хоув явно колебался, — это конфиденциально. Даже другие ассистенты профа об этом не знают. Даже я не знаю об этом всего. Я ведь не ради простой степени тружусь. В этих листочках — Нобелевская премия профа Тайвуда и мое место старшего преподавателя в Калтехе[8]. Прежде чем говорить об этом, мы должны это опубликовать.
— Нет, сынок, — очень мягко ответил я, покачивая головой, — ты все не так понял. Об этом надо рассказать до того, как вы это опубликуете. Потому что Тайвуд пропал. Может быть, он мертв, а может, и нет. И если он мертв, то скорее всего убит. А когда наша служба начинает подозревать убийство, свидетели принимаются разговаривать. И если ты, парень, решишь хранить тайну, тебе придется очень плохо.
Это сработало. Я и не сомневался — детективы читают все, и клише тоже все знают. Хоув вскочил со стула и забарабанил, точно по писаному:
— Конечно… вы не подозреваете меня в… в подобном. Моя карьера…
Когда я силой усадил его обратно, он уже взмок. Я выдал следующий перл:
— Мы еще никого ни в чем не подозреваем. Если ты обо всем расскажешь, у тебя не будет никаких неприятностей.
Он уже был готов.
— Но это строго секретно.
Бедняга. Он и не знал, что такое строгая секретность. А ведь наблюдатели не выпускали его из поля зрения до того момента, когда правительство решило похоронить все дело с наложенной резолюцией (Я не шучу. До сего дня это дело не закрыто и не разрешено. На нем просто поставлен вопросительный знак. В кавычках.).
— Вы, конечно, слышали о путешествиях во времени? — Хоув с сомнением глянул на меня.
Еще бы не слышать. Моему старшему двенадцать лет, и после уроков он столько просиживает у телевизора, что попросту раздувается от того мусора, что пожирает глазами и ушами.
— И что с того? — осведомился я.
— В определенном смысле мы этого добились. В принципе, это следовало бы называть микротемпоральным переносом…
Вот тут я чуть не вышел из себя. Или вышел. Этот надутый прыщ явно пытался втереть мне очки и не слишком при этом напрягался. Я уже привык, что меня принимают за идиота, но не за такого же!
— И сейчас вы мне расскажете, что Тайвуд шляется сейчас по эпохам, как Туз Роджерс, Одинокий странник Времени? — Это любимая программа моего сыночка — на прошлой неделе Туз Роджерс в одиночку останавливал вторжение Чингисхана.
Но Хоуву эта идея понравилась не больше, чем мне.
— Нет! — взвыл он. — Я не знаю, где проф! Вы же слушайте — микротемпоральный перенос! Это не видеошоу и не фокусы — это, чтобы вы знали, наука физика. Вы, надеюсь, слышали о связи массы и энергии?
Я мрачно кивнул. После Хиросимы в предпоследней войне об этом все слышали.
— Это хорошо, — кивнул Хоув. — Для начала. Так вот, если вы применяете к некоему предмету темпоральный перенос — отсылаете его назад во времени, — вы по сути создаете его заново в той точке, куда его послали. А для этого вы должны затратить эквивалентную создаваемой массе энергию. Другими словами, чтобы послать в прошлое грамм или унцию вещества, вы должны равную массу вещества полностью обратить в энергию.
— Хм-м, — пробурчал я, — это чтобы создать ее в прошлом. Но разве, изымая этот предмет из настоящего, вы не уничтожаете его массу? Разве это не создает эквивалентную энергию?
Хоув точно сел на живую осу. Мирянам, видимо, не положено оспаривать выводы великих ученых.
— Я пытался упростить ситуацию, чтобы вы поняли, — заявил он. — На самом деле все сложнее. Было бы очень удобно использовать энергию дезинтеграции, но это был бы замкнутый круг. Термодинамика запрещает. Если говорить совершенно точно, то для преодоления темпоральной инерции требуется энергия, равная в эргах произведению пересылаемой массы в граммах на скорость света в сантиметрах в секунду в квадрате — точно по уравнению Эйнштейна. Знаете, я могу показать вам формулы…
— Знаю, — постарался я охладить его неуместный энтузиазм. — Но этому есть экспериментальные подтверждения, или это все только теория?
Я пытался заставить его продолжать и преуспел. В глазах Хоува вспыхнул тот огонек, который загорается во взоре каждого аспиранта, рассказывающего о своей теме, которую он готов обсуждать с кем угодно — даже с тупым копом.
— Понимаете, — сказал он с видом жулика, пытающегося втянуть вас в сомнительную сделку, — началось все с нейтрино. Их пытались найти с конца тридцатых годов и безуспешно ищут до сих пор. Нейтрино — это элементарная частица, лишенная заряда, с массой, много меньшей массы электрона. Естественно, засечь ее очень сложно, и до сих пор это не удалось никому. Но поиски продолжаются, потому что без нейтрино невозможно свести энергию некоторых ядерных реакций. Около двадцати лет назад профу Тайвуду пришло в голову, что часть энергии в виде вещества ускользает в прошлое. И мы начали работать над этой темой — вернее, начал он, а я был первым учеником, которого он посвятил в свою теорию.
Естественно, нам пришлось работать с микроскопическими количествами вещества… и профессору пришла в голову гениальная идея использовать искусственные радиоактивные изотопы. Счетчики могут отследить даже несколько микрограммов активного изотопа, а с течением времени активность меняется вполне предсказуемо, и повлиять на ее падение еще никому не удавалось.
Так вот, мы посылали образец на пятнадцать минут назад, и за пятнадцать минут до этого — весь опыт проводился автоматически — активность скачкообразно возрастала вдвое, снижалась по экспоненте, и в момент переброса резко падала — намного ниже того уровня, с которого начиналась. Понимаете, материал накладывался сам на себя, и в течение пятнадцати минут мы считывали активность удвоенного количества…
— Вы хотите сказать — перебил я его, — что одни и те же атомы дважды существовали в одно и то же время в одном месте?
— Конечно, — чуть удивленно ответил Хоув. — А почему нет? Потому-то и требуется столько энергии — чтобы создать эти атомы — И он продолжил: — Я вам расскажу, в чем заключалась моя работа. Если вы посылаете образец на пятнадцать минут в прошлое, он попадает в ту же точку относительно Земли, несмотря на то что Земля за это время сместилась на шестнадцать тысяч миль относительно Солнца, а Солнце само пролетело еще несколько тысяч миль, и так далее. Но в реальности появляется определенное смещение, которое, по моим расчетам, вызывается двумя причинами.
Первая — это эффект трения. Материал смещается немного по отношению к земной поверхности, в зависимости от природы самого материала и от времени переноса. Но часть смещения можно объяснить только тем, что само путешествие во времени занимает время.
— Как так? — не понял я.
— Я хочу сказать, что часть активности распределяется по интервалу переноса равномерно, словно образец во время путешествия продолжал излучать с постоянной силой. По моим подсчетам, двигаясь назад во времени, вы постареете на один день за сто лет пути. Говоря иными словами, если бы внутри машины времени вы могли следить за часами, то, пока вы передвинетесь в прошлое на сто лет, часовая стрелка отсчитает двадцать четыре часа. По-моему, это универсальная константа, потому что скорость света — тоже константа. В любом случае это моя работа.
Несколько минут я пережевывал информацию, прежде чем спросить:
— А где вы брали энергию для опытов?
— Нам провели специальную линию от электростанции. Проф там большая шишка, он все и устроил.
— Хм-м. Каков был самый большой из отправленных вами образцов?
— Ну… — Хоув воздел очи горе. — По-моему, однажды мы послали сотую долю миллиграмма — десять микрограммов.
— А в будущее посылать предметы вы не пробовали?
— Это не сработает, — быстро ответил он. — Невозможно. Так знаки менять нельзя. Требуется бесконечно большая энергия. Это шоссе с односторонним движением.
Я внимательно осмотрел собственные ногти.
— А какой массы образец можно отправить в прошлое, если полностью расщепить… скажем, сотню фунтов плутония? — Кажется, это уже слишком прозрачный намек…
Ответил Хоув быстро:
— При делении плутония в энергию превращается лишь один-два процента массы. Так что сто фунтов плутония при полном использовании отправят в прошлое один-два фунта вещества.
— И все? Но как вы контролировали эту энергию? Я хочу сказать, что сотня фунтов плутония может вызвать мощный взрыв.
— Все относительно, — ответил Хоув напыщенно. — Если выпускать энергию по капле, с ней можно справиться. Если выпустить ее всю и тут же использовать — с ней тоже можно справиться. А посылая образец сквозь время, энергию можно расходовать как угодно быстро, даже быстрее, чем высвобождает ее ядерный взрыв. Теоретически.
— Так куда она девается?
— Рассеивается во времени, конечно. Поэтому минимальное время переноса зависит от массы материала. Иначе плотность энергии на единицу времени окажется слишком высока.
— Ладно, парень, — смилостивился я. — Я вызову штаб, пусть пришлют человека, чтобы отвезти тебя домой. Там и посидишь пару дней.
— Но… но почему?
— Это ненадолго.
Я был прав. К тому же он наверстал упущенное время.
Вечер я провел в штабе У нас там была библиотека — особенная библиотека На следующий же день после катастрофы двое-трое наших людей — специалистов в своем деле — незаметно проникли в библиотеки кафедр физики и химии в университете, нашли и пересняли все статьи, когда-либо опубликованные Тайвудом в научных журналах. Больше они не тронули ничего.
Другие наши люди проверили подшивки журналов и каталоги книг. Кончилось все тем, что в одной из комнат штаба скопилась полная тайвудиана. Не то чтобы этим преследовалась какая-то конкретная цель — скорее это говорит о том, с какой тщательностью велось расследование.
И я продрал эту библиотеку насквозь. Не научные статьи — я уже выяснил, что не найду там ничего интересного. Но двадцать лет назад Тайвуд написал для какого-то журнала серию статей. Их я прочел. И все его личные бумаги, какие нам удалось найти, — тоже.
А потом я сидел и думал И боялся.
Спать я пошел в четыре часа утра. Мне снились кошмары.
Но все равно у Босса в кабинете я был в девять утра, как часы.
Босс — крупный мужчина. Седые волосы он привык зачесывать назад. Не курит, но на столе держит коробку сигар, и, заполняя паузы в беседе, он берет одну, разминает, нюхает, хватает зубами и очень осторожно закуривает. К этому времени он или придумывает, что сказать, или обнаруживает, что говорить ничего не надо. Тогда он откладывает сигару, и она выгорает до конца.
Коробку он изводит недели за три, и на Рождество в половине подарков оказываются сигары.
Сейчас он, впрочем, за сигарой не тянулся. Он только сжал кулаки и глянул на меня из-под нахмуренных бровей:
— Какие результаты?
Я рассказал ему Медленно, потому что принять всерьез микротемпоральный перенос нелегко, особенно если назвать его путешествием во времени, как это сделал я. Вслух Босс усомнился в моей нормальности только один раз, и это лишний раз подчеркивает серьезность положения.
Я закончил, и мы воззрились друг на друга.
— Ты думаешь, что он попытался послать что-то в прошлое, — спросил Босс, — что-то весом в один-два фунта, — и выпотрошил всю электростанцию?
— Сходится, — ответил я.
Мы помолчали. Босс думал, а я старался ему не мешать, чтобы он, даст Бог, пришел к тому же выводу, что и я, чтобы мне не пришлось ему говорить…
Потому что мне очень не хотелось ему говорить…
Потому что идея была совершенно безумная. И очень страшная.
Так что я молчал, Босс думал, и по временам его мысли выныривали на поверхность.
— Предположим, что этот аспирант, Хоув, сказал правду, — проговорил Босс через несколько минут, — а тебе стоило бы проверить его лабораторные журналы — надеюсь, ты об этом не позабыл…
— Мы перекрыли все крыло на этом этаже, сэр. Журналы у Эдварда.
— Ладно. Предполагая, что он сказал правду, — почему Тайвуд перескочил от долей миллиграмма к фунту? — Босс жестко глянул на меня. — Ты сосредоточился на путешествиях во времени. Тебе этот вопрос кажется критическим, а случай с электростанцией — он и есть случай.
— Да, сэр, — мрачно подтвердил я. — Именно так.
— Тебе не приходило в голову, что ты можешь ошибаться? Что все обстоит совершенно иначе?
— Не понял?
— Тогда слушай. Ты, говоришь, читал статьи Тайвуда? Ладно. Он был из тех ученых, что после второй мировой боролись против ядерного оружия, за мировое государство — слышал об этом, да?
Я кивнул.
— У него был комплекс вины, — бодро продолжал Босс. — Он помогал создавать бомбу и не спал ночами оттого, что натворил. Этот страх грыз его годами. Пусть даже в третьей мировой атомные бомбы не падали — представь себе, что значил для него каждый день неопределенности. Представь себе, какой ужас мучил его, пока другие принимали решения, до самого Компромисса 65-го года?
Во время прошлой войны мы провели полный психиатрический анализ Тайвуда и еще нескольких ему подобных. Знал об этом?
— Нет, сэр.
— Анализ был сделан, но после шестьдесят пятого мы его забросили — был установлен международный контроль над ядерной энергетикой, уничтожены запасы ядерного оружия и налажены связи между учеными разных стран; большая часть этических конфликтов ученых сама собой разрешилась.
Но результаты анализа настораживали. В 1964 году Тайвуд испытывал к ядерной энергии глубокую подсознательную ненависть. Он начал делать ошибки, и ошибки серьезные. В конце концов мы вынуждены были вообще отстранить его от разработок, вместе с несколькими товарищами, несмотря на отчаянное положение. Мы тогда только что потеряли Индию, помнишь?
Я помнил. Я в тот год как раз был в Индии. Но я не понимал, к чему Босс клонит.
— Так вот, — продолжал он, — что, если остатки этой ненависти дожили в сознании Тайвуда до наших дней? Как ты не видишь — путешествие во времени — палка о двух концах? Зачем швырять в прошлое фунтовый образец? Чтобы доказать свое открытие? Он его уже доказал с помощью доли миллиграмма. Этого уже хватит на Нобелевскую премию.
Долей миллиграмма он не мог добиться только одного — он не мог выпотрошить электростанцию. Значит, этого он и добивался. Он нашел способ поглощать невообразимое количество энергии. Отправив в прошлое восемьдесят фунтов грязи, он мог уничтожить весь плутоний в мире. И надолго избавиться от ядерной энергии.
Меня его тирада не впечатлила совершенно. Я постарался не выдать этого.
— Вы думаете, что ему удалось бы совершить подобный трюк второй раз? — спросил я.
— Моя теория основывается на предположении, что Тайвуд был не совсем нормален. Мало ли что придет в голову безумцу? Кроме того, за ним могут стоять другие — менее образованные и более умные — те, кто готов продолжить дело Тайвуда.
— Нашли уже таких людей? Или хоть их следы? После короткой паузы рука Босса потянулась к сигарной коробке. Он вытащил сигару, повертел. Я терпеливо ждал. Босс решительно отложил сигару, так и не закурив.
— Нет, — сказал он, посмотрел сначала на меня, потом — сквозь меня. — Я тебя не убедил?
Я пожал плечами:
— Что-то тут не так.
— Есть своя идея?
— Да. Но мне о ней говорить не хочется. Если я не прав, это самая большая ошибка в истории. Если прав — самая страшная правда.
— Слушаю, — произнес Босс и сунул руку под стол.
Вот и пришел мой час. Броневые стены комнаты не пропускали ни звука, ни излучения любого вида; их разрушил бы разве что ядерный взрыв. А с нажатием кнопки на столе у секретаря загоралась лампочка, означавшая «С президентом США не соединять». Как сейчас.
Я откинулся на спинку стула и спросил:
— Шеф, вы помните, как встретились со своей женой? В первый раз?
Шеф, наверное, подумал, что этот вопрос поп sequitur[9]. А что он еще мог подумать? Но он меня не прерывал — по каким-то своим причинам.
— Я чихнул, — ответил он с улыбкой, — и она обернулась. Это было на углу.
— А почему вы оказались на том углу? И почему она? Помните вы, почему чихнули? Где простудились? Откуда прилетела та пылинка? Только представьте, сколько факторов привело к тому, что вы оказались в нужное время в нужном месте и встретились со своей будущей женой!
— Но мы, наверное, встретились бы где-то еще?
— А вы в этом уверены? Откуда вам знать, скольких девушек вы не повстречали, потому что в критический миг отвернулись или опоздали куда-то? Ваша жизнь ветвится каждый миг, и на каждой развилке вы делаете выбор, и так с каждым человеком. Начните двадцать лет назад, и развилки уведут вас очень далеко.
Вы чихнули — и познакомились с одной девушкой, а не другой. Поэтому вы приняли определенные решения, как и девушка, с которой вы не познакомились, и мужчина, с которым познакомилась та девушка, и все, с кем вы встречались потом, ваша семья, ее семья, их семьи — и ваши дети.
Из-за того, что двадцать лет назад вы чихнули, сегодня живы пять, или пятьдесят, или пятьсот человек, которые могли умереть, и умерли столько же, которые могли жить. А теперь отодвиньтесь в прошлое на двести лет или на две тысячи — и один чих может стереть вообще всех живущих на Земле!
Босс потер затылок:
— Теория расходящихся кругов. Я как-то читал рассказ…
— Я тоже. Это не новая идея. Я просто хочу, чтобы вы ее вспомнили, прежде чем я прочту вам статью, написанную профессором Элмером Тайвудом двадцать лет назад. Перед последней войной.
Копии пленки лежали у меня в кармане, а из белой стены получался превосходный экран — ее для этого и строили. Босс отмахнулся было, но я стоял на своем.
— Нет, сэр, — сказал я. — Я хочу прочесть вам это. А вы слушайте.
Он откинулся на спинку кресла.
— Статья, — продолжал я, — озаглавлена «Первая великая ошибка человечества!». Если припомните, перед войной разочарование полной несостоятельностью Объединенных Наций достигло своего пика. Я прочту только отрывки из первой части статьи…
И я начал читать:
— …То, что человек, при всех его технических достижениях, не смог решить великие социальные проблемы сегодняшнего дня, является второй величайшей трагедией в истории. А первая, еще большая трагедия заключается в том, что когда-то эти социальные проблемы были решены, но решение их оказалось недолговечным, ибо предшествовало нынешнему техническому прогрессу.
Хлеб без масла или масло без хлеба — и никогда вместе…
Вспомните Элладу, побегом которой являются наши философия, математика, этика, искусство, литература — вся наша культура… Во времена Перикла Греция походила на нынешний мир в миниатюре, на кипящий котел культурных и идеологических противоречий. Но затем пришел Рим, восприняв греческую культуру, но подарив и укрепив мир. Конечно, Pax Romana[10] продержался лишь двести лет, но подобной эпохи не было с тех пор…
Прекратились войны. Национализм перестал существовать. Римским гражданином был всякий житель империи — в том числе Павел из Тарса и Иосиф Флавий. Власть империи признавали жители Испании, Магриба и Иллирии. Рабство еще существовало, но то было неспецифическое рабство — рабство как наказание, как плата за деловой провал, как следствие военного поражения. Но никто из жителей империи не становился рабом из-за цвета кожи или места рождения.
Религиозная терпимость была абсолютной. Если для ранних христиан в этом вопросе было сделано исключение, то потому лишь, что они сами отказывались от принципа терпимости, настаивая, что только им одним открыта истина, — Мысль, отвратительная для любого цивилизованного римлянина.
Но почему же человек не сумел сохранить свои достижения — когда вся культура Запада подчинялась единому центру, в отсутствие язвы религиозного и национального обособленчества?
Только потому, что технология эпохи эллинизма оставалась неразвитой. А в отсутствие развитой технологии ценой досуга — а значит, и культуры, и цивилизации — для избранных становилось рабство для многих. Потому что эта цивилизация не могла обеспечить комфорт и свободу всем.
А потому угнетенные обратились к загробному миру и религии, отвергавшей мирские соблазны, — и наука в истинном значении слова оказалась погребенной под спудом на тысячу лет. Более того, данный эллинизмом начальный толчок слабел, и империи не хватало технологии, чтобы отбивать атаки варваров. Только к началу шестнадцатого века военная мощь стала производным промышленности настолько, чтобы развитые страны могли без труда справляться с вторжениями кочевников…
Только представьте себе, что случилось бы, овладей древние греки хотя бы начатками современной физики и химии. Представьте себе рост империи, сопровождающийся развитием науки, технологии, промышленности; империю, в которой машины заменили рабов, в которой каждый человек имеет право на достойную жизнь, в которой легион стал бронированной колонной, против которой не могли устоять полчища варваров. Представьте себе империю, распространившуюся на весь земной шар, лишенную религиозных или национальных предрассудков.
Империю, в которой все люди — свободны, и все люди — братья.
Если бы только можно было изменить историю и предотвратить величайшую ошибку человечества…
Тут я остановился.
— Ну? — спросил Босс.
— Ну, — ответил я, — несложно связать эту статью с двумя фактами: Тайвуд пошел на то, чтобы разрушить атомную электростанцию, чтобы отправить что-то в прошлое, а в его личном сейфе мы нашли учебник по химии на древнегреческом.
Лицо Босса окаменело. Он думал.
— Но ничего не случилось, — промолвил он тяжело.
— Знаю. Но аспирант Тайвуда говорит, что путешествие на сто лет в прошлое занимает сутки. Предполагая, что цель — Древняя Греция, мы получаем двадцать веков — двадцать дней ожидания.
— Можно его остановить?
— Я не знаю. Тайвуд мог знать, но он мертв.
Весь ужас случившегося обрушился на меня с новой силой, куда тяжелее, чем прошлой ночью… Всему человечеству вынесен смертный приговор. Это всего лишь жутковатая абстракция, но для меня она невыносимо реальна. Потому что приговор вынесен и мне. И жене моей. И сыну.
Непредставимая смерть. Прекращение бытия, не более. Смолкший вздох. Растаявшая мечта. Падение в смутное непространство и не-время. Я не умру — меня никогда и не будет.
Или все же останется что-то — моя личность, эго, душа, если хотите? Иная жизнь? Иная судьба?
Ничего подобного я тогда не сказал. Но если бы холодный ком у меня под ложечкой можно было описать словами — это те самые слова.
Боссу тоже пришло в голову нечто подобное:
— Тогда у нас еще две с половиной недели. Нельзя терять времени. Поехали.
Я криво усмехнулся:
— Побежим догонять книжку?
— Нет, — холодно ответил Босс. — У нас есть два направления работы. Во-первых, ты можешь ошибаться. Твои рассуждения могут еще оказаться ложным следом, подброшенным нам, чтобы скрыть истинную подоплеку событий. Это надо проверить.
Во-вторых, ты можешь быть прав, и тогда надо как-то остановить эту книгу, не преследуя ее на машине времени. Если есть способ, мы должны найти его.
— Я не хочу перебивать вас, но если это ложный след, то по нему пойдет только ненормальный. Что, если я прав и книгу невозможно остановить?
— Тогда, юноша, в следующие две с половиной недели я буду очень занят. И вам того же советую. Так время пролетает незаметно.
Босс был, как всегда, прав.
— С чего начинаем? — спросил я.
— Прежде всего надо составить список всех, кому Тайвуд делал выплаты из правительственного фонда.
— Зачем?
— Думай. Это твоя работа. Тайвуд не знал греческого — это только предположение, но вполне обоснованное Значит перевод делал кто-то другой. Вряд ли бесплатно. И Тайвуд скорее всего не стал бы расплачиваться из личных средств — на профессорской-то зарплате.
— Возможно, его больше волновала секретность, чем экономия, — предположил я.
— Почему? Какой смысл таиться? Разве это преступление — переводить учебник по химии на греческий? Кому придет в голову искать в этом жуткий заговор?
Нам потребовалось полчаса, чтобы не только обнаружить в графе «консультанты» Майкрофта Джеймса Боулдера, но и выяснить, что в университете он занимал должность профессора на кафедре философии и что среди его многочисленных достижений числилось свободное владение древнегреческим.
Забавное совпадение — Босс еще не успел надеть шляпу, как внутриконторский телетайп, затрещав, выдал нам, что профессор Боулдер уже два часа сидит в приемной и требует, чтобы его впустили.
Босс отложил шляпу и распахнул перед профессором двери.
Профессор Майкрофт Джеймс Боулдер был серым. Серые глаза, седые волосы, мышиный костюм, а главное — серое от напряжения лицо, изборожденное тонкими морщинами.
— Я уже три дня пытаюсь добиться, чтобы меня выслушали, сэр, — тихо произнес он. — Выше вас мне не удалось пробиться.
— Выше и не надо, — ответил Босс. — Что вам угодно?
— Мне крайне необходимо поговорить с профессором Тайвудом.
— Вы знаете, где он?
— Я абсолютно убежден, что правительство удерживает его.
— Почему?
— Мне известно, что он планировал эксперимент, нарушающий требования секретности. События последних дней, насколько я могу судить, свидетельствуют о том, что секретность была нарушена, откуда естественно вытекает предположение, что опыт был проведен. Меня интересует, был ли он доведен до конца.
— Профессор Боулдер, — проговорил Босс, — вы, как я знаю, владеете древнегреческим.
— Да, — спокойно ответил профессор.
— И вы за счет правительства переводили для профессора Тайвуда учебник по химии?
— Именно, как законно привлеченный консультант.
— Но данное действие, учитывая обстоятельства, является преступным, как пособничество преступлению Тайвуда.
— А какая, простите, связь?
— А разве Тайвуд не рассказывал вам о путешествиях во времени… как он их называл — микротемпоральный перенос?
— А, — Боулдер чуть улыбнулся. — Так он вам рассказал?
— Нет, не рассказал, — отрубил Босс. — Тайвуд мертв.
— Что?!! Я вам не верю.
— Он умер от инсульта. Смотрите.
Босс сунул Боулдеру одну из фотографий, сделанных той ночью. Лицо распростертого на полу Тайвуда искажала гримаса, но не узнать его было нельзя.
Боулдер выдохнул, точно застонали тормоза. Он вглядывался в фотографию полных три минуты — я засек по часам.
— Где сделан снимок? — спросил он.
— На атомной электростанции.
— Так он завершил эксперимент? Босс пожал плечами:
— Нельзя сказать. Мы нашли его уже мертвым. Поджатые губы Боулдера обесцветились.
— Это непременно следует выяснить. Придется собрать комиссию и, если понадобится, провести повторный опыт…
Босс молча посмотрел на него и потянулся за сигарой. Никогда еще процесс раскуривания не занимал у него столько времени.
— Двадцать лет назад, — произнес он, отложив бесполезно дымящую сигару, — Тайвуд написал статью в журнал…
— Ах, это, — губы профессора дернулись, — и дало вам ключ? Забудьте. Тайвуд был физиком и ничего не понимал ни в истории, ни в социологии. Так, мечта школьника, ничего больше.
— Так вы полагаете, что посланный им учебник не приведет к Золотому веку цивилизации?
— Разумеется, нет. Разве можно предполагать, что продукт двух тысячелетий мучительного труда можно внедрить в общество, еще не готовое к этому? Или вам кажется, что великое открытие или изобретение рождается готовым в мозгу гения и не связано с культурной средой, в которой этот гений живет? Ньютон провозгласил свой закон всемирного тяготения на двадцать лет позже, чем мог, потому что тогдашняя оценка радиуса Земли отличалась от реальности на десять процентов. Архимед едва не открыл дифференциальное исчисление, но не сумел, потому что не знал арабских цифр, изобретенных каким-то безвестным индусом!
Если уж говорить об этом, само существование рабства в древних Греции и Риме означало, что машины не могут привлечь внимания, — труд рабов был дешевле и качественнее. А от истинных мудрецов ждали, что они не станут тратить силы на низменные практические приспособления. Даже Архимед, величайший инженер античности, отказывался открывать публике свои технические новшества — только математические абстракции. Когда один юноша спросил Платона, в чем польза геометрии, его с позором изгнали из академии как человека подлого и низменного.
Наука не летит вперед — она продвигается ползком в тех направлениях, куда движут ее те великие силы, что движут общество и, в свою очередь, движимы им. Великие люди стоят на плечах взрастившей их культуры…
Тут Босс перебил его: — Расскажите лучше о своей роли в этой истории. Что историю нельзя изменить, мы поверим вам на слово.
— Почему же нельзя? Можно, но ненамеренно. Понимаете, когда Тайвуд впервые попросил меня о помощи — ему надо было перевести на греческий несколько отрывков текста — я согласился из-за денег. Но профессор Тайвуд требовал, чтобы перевод делался от руки на пергаменте, он требовал, чтобы использовалась только древнегреческая терминология, — язык Платона, как он говорил, — даже если мне при этом придется несколько исказить первоначальный смысл текста.
Меня это озадачило. Я тоже нашел ту статью. Очевидный для вас вывод я сделал довольно поздно — слишком невероятны для скромного философа достижения современной науки. Но в конце концов я узнал правду, и мне стало ясно, как инфантильны представления Тайвуда об истории. На каждое мгновение приходится двадцать миллионов переменных, и не создана еще математическая теория — назовем ее психоисторией, — способная охватить их все.
Проще говоря, любое вмешательство в историю двухтысячелетней давности изменит настоящее — непредсказуемо.
— Как камушек, вызывающий обвал? — обманчиво-негромко поинтересовался Босс.
— Именно. Теперь вы немного понимаете, в каком положении я оказался. Я размышлял неделями и понял, что должен действовать, — и увидел как.
Послышался басистый рык. Босс встал, отшвырнув стул, обошел стол и вцепился Боулдеру в глотку. Я шагнул было, чтобы разнять их, но Босс только отмахнулся. Он всего лишь держал профессора за галстук, и Боулдер мог дышать. Только побелел и все время, пока говорил Босс, дышал очень тихо.
— Да уж, я вижу, что вы нарешали, — говорил Босс — Я знаю, вам, философам тронутым, кажется, что мир всем плох, что стоит бросить кости и глянуть, что получится. Вам, наверное, наплевать, выживете ли вы или узнает ли кто-то о вашей великой роли. Вы все равно рветесь творить. Хотите навязать второй шанс Господу Богу.
Может, я просто хочу жить — но этот мир мог быть хуже. В двадцать миллионов раз хуже. Был такой писатель, Уайлдер, он написал пьесу «Зубы нашей кожи». Может, вы видели. Суть ее в том, что человечество все время находится на волосок от гибели. Я не стану говорить о том, как нас чуть не смел ледниковый период — я об этом почти ничего не знаю. Я не стану говорить о том, как греки победили при Марафоне, а арабы потерпели поражение при Туре, о том, как монголы повернули назад без боя, — я не историк.
Но вспомните двадцатый век. В первую мировую немцев дважды остановили на Марне. Во второй мировой был Дюнкерк, и немцев как-то сдержали под Москвой и Сталинградом. В последней войне мы могли начать швыряться ядерными бомбами, но не стали, потому что в критический момент был достигнут Большой Компромисс, — и все из-за того, что генерал Брюс задержался в цейлонском аэропорту и получил приказ лично. Раз за разом на протяжении веков мы вытаскивали счастливые билетики. На каждое несбывшееся «если», способное сделать из нас суперменов, приходится двадцать, способных навлечь гибель на весь мир.
А вы делаете ставку на этот шанс, один из двадцати, и эта ставка — жизнь на Земле. И вам это удалось, потому что Тайвуд послал свой учебник в прошлое.
Последнюю фразу Босс выдавил со скрежетом и разжал кулак. Боулдер упал в кресло.
И расхохотался.
— Дураки, — горько пробормотал он. — Так близко подобраться к разгадке и так ошибиться. Так Тайвуд все же послал книгу? Вы уверены?
— Учебника химии на древнегреческом поблизости не обнаружено, — мрачно подтвердил Босс, — а миллионы калорий энергии исчезли. И это не исключает того факта, что у нас есть еще две с половиной недели, чтобы… вы пожалели о своем решении.
— Ерунда. Прошу вас, давайте обойдемся без театральных сцен. Лучше выслушайте меня и постарайтесь понять. Двое древнегреческих философов, Левкипп и Демокрит, разработали атомную теорию. Они считали, что все сущее состоит из атомов, неизменных и различных, чьи комбинации образуют различные вещества. Эта теория возникла не в результате опытов или наблюдений — она появилась сразу разработанной.
Римский поэт Лукреций в своей «De Rerum Natura» — «О природе вещей» — развил эту теорию и высказал несколько удивительно современных мыслей.
Еще в эллинскую эпоху Герон построил паровой двигатель и едва не механизировал вооружение. Этот период называют иногда оборванной технической эрой, которая не получила развития, потому что не происходила из социальной и культурной среды, не сочеталась с ней. Александрийская наука остается удивительным и необъяснимым феноменом.
Можно упомянуть еще древнеримские легенды о книге Сивиллы, содержавшей тайные знания, полученные от самих богов…
Короче говоря, господа, хотя я не могу не согласиться с вами, что даже мельчайшие изменения прошлого могут привести к непредсказуемым последствиям и вызванные ими перемены в настоящем вряд ли нас обрадуют, в своих выводах вы допустили серьезную ошибку.
Потому что мы уже живем в мире, где учебник химии на греческом был отправлен в прошлое!
Мы бежали вслед за Черной Королевой. Если вы вспомните «Алису в Зазеркалье», то в саду Черной Королевы приходилось бежать изо всех сил, чтобы остаться на месте. Так случилось и с нами. Тайвуд полагал, что создает новый мир, но перевод готовил я, и я позаботился о том, чтобы туда вошли лишь те отрывки, которые могли объяснить полученные древними неизвестно откуда обрывки знаний.
Единственное, чего я хотел достичь своими усилиями, это остаться там, откуда мы начали.
Прошло три недели; потом три месяца; потом три года. Ничего не случилось. А когда ничего не случается, нет и доказательств. Мы с Боссом потеряли надежду объяснить случившееся и в конце концов сами стали во всем сомневаться.
Дело так и не было закрыто. Боулдера нельзя было назвать преступником, не назвав спасителем человечества, и наоборот. О нем просто забыли. А дело, так и не разрешенное, отложили в папку, пометили знаком? (в кавычках) и засунули в самый глубокий подземный вашингтонский сейф.
Босс теперь большая шишка в Вашингтоне; местным отделением Бюро заведую вместо него я.
А Боулдер так и остался профессором на кафедре философии. В университете карьеры не сделаешь.
Путь марсиан
Стоя в дверях короткого коридора, соединяющего обе каюты космолета, Марио Эстебан Риос с раздражением наблюдал, как Тед Лонг старательно настраивает видео-фон. На волосок по часовой стрелке, на волосок против, но изображение оставалось паршивым.
Риос знал, что лучше не будет. Они были слишком далеко от Земли и в невыгодном положении — за Солнцем. Но откуда же Лонгу знать это? Риос еще немного постоял в дверях — боком и нагнув голову, чтобы не упереться в притолоку. Затем вырвался в камбуз, словно пробка из бутылочного горлышка.
— Что это вас так заинтересовало? — спросил он.
— Хочу поймать Хильдера, — ответил Лонг.
Присев на уголок полки-стола, Риос снял с верхней полки коническую жестянку с молоком и надавил на верхушку. Жестянка открылась, издав негромкий хлопок. Слегка взбалтывая молоко, он ждал, пока оно согреется.
— Зачем? — он запрокинул жестянку и с шумом отхлебнул.
— Хотел послушать.
— Лишняя трата энергии.
Лонг взглянул на него и нахмурился:
— Считается, что личными видеофонами можно пользоваться без ограничения.
— В разумных пределах, — возразил Риос.
Они обменялись вызывающими взглядами. Сильная, сухощавая фигура Риоса, его лицо с впалыми щеками сразу же наводили на мысль, что он один из марсианских мусорщиков — космонавтов, которые терпеливо прочесывали пространство между Землей и Марсом. Его голубые глаза резко выделялись на смуглом, прорезанном глубокими складками лице, а оно в свою очередь казалось темным пятном на фоне белого синтетического меха, которым был подбит поднятый капюшон его куртки из искусственной кожи.
Лонг выглядел бледнее и слабее. Он был чем-то похож на наземника, хотя, конечно, ни один марсианин второго поколения не мог быть настоящим наземником, таким, как обитатели Земли. Его капюшон был откинут, открывая темно-каштановые волосы.
— Что вы считаете разумными пределами? — сердито спросил Лонг.
Тонкие губы Риоса стали еще тоньше.
— Этот рейс вряд ли окупит даже наши расходы, и, если дальше все пойдет так же, любая трата энергии неразумна.
— Если мы теряем деньги, — сказал Лонг, — то не лучше ли вам вернуться на место? Ваша вахта.
Риос что-то проворчал, потер заросший подбородок, потом встал и, неслышно ступая в тяжелых мягких сапогах, нехотя направился к двери. Он остановился, чтобы взглянуть на термостат, и в ярости обернулся:
— То-то мне показалось, что здесь жарко. Где, по-вашему, вы находитесь?
— Четыре с половиной градуса — не слишком много!
— Для вас — может быть. Только мы сейчас в космосе, а не в утепленной рудничной конторе.
Риос рывком перевел стрелку термостата вниз до отказа.
— Солнце достаточно греет.
— Но камбуз не на солнечной стороне.
— Прогреется!
Риос шагнул за дверь. Лонг поглядел ему вслед, потом снова повернулся к видеофону. Трогать термостат он не стал. Изображение оставалось неустойчивым, но что-то рассмотреть было можно. Лонг откинул вделанное в стену сиденье. Подавшись вперед, он терпеливо ждал, пока диктор объявлял программу и занавес медленно расплывался Но вот прожекторы выхватили из темноты знакомое бородатое лицо, оно росло и наконец заполнило весь экран.
— Друзья мои! Сограждане Земли…
* * *
Входя в рубку, Риос успел заметить вспышку радиосигнала. Ему показалось, что это импульс радара, и у него на мгновение похолодели руки. Но он тут же сообразил, что это иллюзия, порожденная нечистой совестью. Вообще говоря, во время вахты он не должен был выходить из рубки, хотя это делали все мусорщики. И все-таки каждого преследовало кошмарное видение находки, подвернувшейся именно за те пять минут, которые он урвет на чашку кофе, уверенный, что космос чист. И бывали случаи, когда этот кошмар оказывался явью.
Риос включил многополосную развертку. Это требовало лишней энергии, но все-таки лучше убедиться, чтобы не оставалось никаких сомнений.
Космос был чист, если не считать далеких отражений от соседних кораблей в цепи мусорщиков.
Риос включил радиосвязь, и экран заполнила русая голова длинноносого Ричарда Свенсона — второго пилота ближайшего корабля со стороны Марса.
— Привет, Марио, — сказал Свенсон.
— Здорово. Что нового?
Ответ раздался через секунду с небольшим: скорость электромагнитных волн не бесконечна.
— Ну и денек!
— Что-нибудь неладно? — спросил Риос.
— Была находка.
— И прекрасно.
— Если бы я ее заарканил, — мрачно ответил Свенсон.
— Что случилось?
— Повернул не в ту сторону, черт подери! Риос знал, что смеяться нельзя. Он спросил:
— Как же так?
— Я не виноват. Дело в том, что контейнер двигался не в плоскости эклиптики. Представляешь себе кретина пилота, который не смог даже правильно его сбросить? Откуда же мне было знать? Я установил расстояние до контейнера, а его путь просто прикинул, исходя из обычных траекторий. Как всякий нормальный человек. И пошел по самой выгодной кривой перехвата. Только минут через пять гляжу — дистанция увеличивается. Уж очень медленно возвращались импульсы. Тогда я измерил его угловые координаты, и оказалось, что догонять уже поздно.
— Кто-нибудь его поймал?
— Нет. Он далеко от плоскости эклиптики и так там и останется. Меня беспокоит другое. В конце концов, это был всего-навсего малый контейнер. Но как подумаю, сколько топлива я истратил, пока набирал скорость, а потом возвращался на место! Послушал бы ты Канута.
Канут был братом и компаньоном Ричарда Свенсона. — Взбесился? — спросил Риос.
— Не то слово. Чуть меня не убил! Но ведь мы здесь пять месяцев, и тут уж каждое лыко в строку. Ты же знаешь.
— Знаю.
— А у тебя как, Марио? Риос сделал вид, что сплюнул.
— Примерно столько за весь рейс. За последние две недели — два контейнера, и за каждым гонялись по шесть часов.
— Большие?
— Смеешься, что ли? Я бы мог дотащить их до Фобоса одной рукой. Хуже рейса у меня еще не было.
— Когда думаешь возвращаться?
— По мне — хоть завтра. Мы здесь всего два месяца, а я уже все время ругаюсь с Лонгом.
Длительность наступившей паузы нельзя было объяснить только запаздыванием радиоволн. Потом Свенсон сказал:
— Ну а как он? Лонг то есть.
Риос оглянулся. Из камбуза доносилось тихое бормотание и треск видеофона.
— Не могу понять. В первую же неделю после начала рейса он меня спрашивает: «Марио, почему вы стали мусорщиком?» Я только поглядел на него и говорю: «Чтобы зарабатывать на жизнь, а то почему же». Что за идиотский вопрос, хотел бы я знать? Почему человек становится мусорщиком? А он мне: «Не в том дело, Марио». Это он мне объяснять будет, представляешь! «Вы — мусорщик, — говорит, — потому что таков Марсианский путь».
— А что он этим хотел сказать? — спросил Свенсон. Риос пожал плечами:
— Не спрашивал Вот и сейчас он сидит там и слушает на ультрамикроволнах передачу с Земли. Какого-то наземника Хильдера.
— Хильдера? Он, кажется, политик, член Ассамблеи?
— Как будто. И Лонг все время занимается чем-то таким. Взял с собой фунтов пятнадцать книг, и все про Землю. Балласт, и больше ничего.
— Ну что ж, он твой компаньон. Кстати, о компаньонах: я, пожалуй, займусь делом. Если прохлопаю еще одну находку, здесь произойдет убийство.
Свенсон исчез, и Риос, откинувшись в кресле, принялся следить за ровной зеленой линией импульсной развертки. На мгновение он включил многополосную развертку. Космос был по-прежнему чист.
Ему стало чуть полегче. Хуже всего, когда тебе не везет, а все вокруг вылавливают контейнер за контейнером и на Фобос, на заводы по переплавке лома, отправляются контейнеры с любыми клеймами, кроме твоего. К тому же он отвел душу, и его раздражение против Лонга немного улеглось.
А вообще он зря связался с Лонгом. Никогда не надо связываться с новичками. Они думают, что тебе необходимы разговоры, особенно Лонг со своими вечными теориями про Марс и его великую роль в прогрессе человечества. Он так и говорил — все с прописной буквы: Прогресс Человечества, Марсианский Путь, Новая Горстка Творцов. А Риосу нужны не разговоры, а находки — два-три контейнера, и ничего больше.
Впрочем, выбора у него, собственно говоря, не было. Лонг был хорошо известен на Марсе и неплохо зарабатывал. Он был приятелем комиссара Сэнкова и уже принимал участие в одном-двух непродолжительных мусорных рейсах. Нельзя же взять и отказать человеку, не испытав его, как бы странно ни выглядело все дело. Зачем вдруг инженеру, имеющему приличную работу и хороший заработок, понадобилось болтаться в космосе?
Риос не задавал этого вопроса Лонгу. Компаньоны-мусорщики вынуждены жить и работать бок о бок столь долгое время, что любопытство становится нежелательным, а иногда и небезопасным. Но Лонг говорил так много, что в конце концов сам на него ответил. «Я должен был выбраться сюда, Марио, — сказал он. — Будущее Марса не шахты, а космос».
Риос прикинул: а не отправиться ли ему в следующий рейс одному? Все утверждали, что это невозможно. Не говоря уже о находках, которые будут упущены, так как надо спать, надо, помимо наблюдения, выполнять и другие обязанности. Кроме того, всем известно, что, оставаясь в космосе в одиночестве, человек быстро впадает в тяжелую депрессию, а с компаньоном можно пробыть в рейсе шесть месяцев. Лучше бы, конечно, иметь полный экипаж, но на таком большом корабле мусорщику ни черта не заработать. На одном топливе прогоришь!
Впрочем, быть в космосе и вдвоем вовсе не сахар. Обычно приходится каждый раз менять компаньона. С одними можно оставаться в рейсе дольше, чем с другими. Взять хотя бы Ричарда и Канута Свенсонов. Они выходят вместе через пять или шесть рейсов — ведь все-таки они братья. И даже у них каждый раз уже через неделю начинаются трения, и чем дальше, тем хуже… Ну да ладно!
Космос был чист, и Риос почувствовал, что ему станет легче, если он вернется в камбуз, чтобы загладить свою раздражительность. В конце концов, он старый космический волк и умеет справляться с дурным настроением, которое навевает космос.
Он встал и сделал три шага, которые отделяли его от короткого, узкого коридора между каютами.
* * *
Риос вновь постоял в дверях. Лонг внимательно смотрел на мерцающий экран видеофона.
— Я включу отопление, — грубовато сказал Риос. — Ничего страшного, энергии у нас хватит.
— Как хотите, — кивнул Лонг.
Риос, поколебавшись, шагнул вперед. Космос чист — какой толк сидеть и смотреть на неподвижную зеленую полоску?
Он спросил:
— О чем говорит этот наземник?
— В основном об истории космических путешествий. Старые штучки, но хорошо подано. Он пустил в ход, что мог: цветные мультипликации, комбинированные фотоснимки, кадры из старых фильмов — ну, все.
Словно в подтверждение слов Лонга, бородатое лицо на экране сменилось изображением космического корабля в разрезе. Хильдер продолжал говорить за кадром, давая объяснения, которые иллюстрировались на схеме различными цветами. Он говорил, и по изображению бежали красные линии — склады, двигатель с протонным микрореактором, кибернетические схемы…
Затем на экране вновь возник Хильдер. — Но это лишь капсула корабля. Что же приводит ее в движение? Что поднимает ее с Земли?
Каждый знал, что приводит в движение космический корабль, но голос Хильдера зачаровывал, и слушателям уже казалось, будто сейчас они проникнут в тайну веков, приобщатся к высшему откровению. Даже Риос почувствовал легкое нетерпение, хотя большую часть жизни он провел в космических кораблях.
Хильдер продолжал:
— Ученые называют это по-разному. Иногда законом действия и противодействия. Иногда третьим законом Ньютона. А иногда сохранением количества движения. Но нам не нужны никакие названия. Давайте просто обратимся к здравому смыслу. Когда мы плывем, мы отталкиваем воду назад, а сами продвигаемся вперед Когда мы идем, мы отталкиваемся от земли и движемся вперед. Когда мы летим на гиролете, мы отталкиваем воздух назад и движемся вперед. Движение вперед возможно только за счет движения назад. Старое правило: «Нельзя получить что-то взамен ничего» Теперь представьте себе, что космический корабль весом сто тысяч тонн поднимается с Земли. Чтобы это произошло, необходимо что-то отбросить назад. Космолет непомерно тяжел — значит, надо отбросить назад огромное количество вещества, столь огромное, что и всего корабля не хватит, чтобы вместить его. Для этого необходимо устроить позади специальное хранилище.
Хильдер снова исчез, и на экран вернулось изображение космолета. Оно съежилось, а снизу к нему добавился усеченный конус. Внутри конуса проступили ярко-желтые буквы: «Вещество, которое выбрасывается».
— Но теперь, — сказал Хильдер, — общий вес корабля намного увеличился. Следовательно, и движущая сила должна быть все больше и больше.
Изображение корабля стало еще меньше, к нему прибавился второй контейнер — больше первого, а потом еще один — колоссальных размеров. Собственно космолет — капсула — превратился в крохотное ярко-желтое пятнышко.
— Что за черт, да это просто детский лепет, — пробормотал Риос.
— Но не для тех, к кому он обращается, Марио, — ответил Лонг. — Земля не Марс. Миллиарды людей на ней, возможно, никогда не видели космолета и не знают даже самых элементарных вещей.
Хильдер продолжал:
— Когда самый большой контейнер опустеет, его отделяют от корабля. Он тоже выбрасывается.
Громадный контейнер на экране дрогнул и начал удаляться, постепенно уменьшаясь.
— Потом приходит очередь второго, и наконец, если рейс дальний, отделяется и последний.
Теперь космолет превратился в красную точку, позади которой, колыхаясь, исчезали в космосе три контейнера.
— Эти контейнеры, — сказал Хильдер, — не что иное, как сотни тысяч тонн вольфрама, магния, алюминия и стали. Для Земли они потеряны навсегда. Вокруг Марса, на трассах космических полетов, дежурят мусорщики. Они разыскивают пустые контейнеры, ловят их, клеймят и отправляют на Марс. Земля же не получает ни единого цента платы за их использование. Это спасенное имущество, и оно принадлежит кораблю, который его найдет.
— Мы рискуем деньгами, вложенными в это предприятие, — не выдержал Риос. — Если бы не мы, они не достались бы никому. Какой же тут ущерб для Земли?
— Понимаете, — сказал Лонг, — он же говорит о том, что Марс, Венера и Луна истощают Землю и это — лишь еще одна форма потерь.
— Но ведь они получают компенсацию. С каждым годом мы добываем все больше железной руды…
— …большая часть которой вновь возвращается на Марс. Если верить цифрам Хильдера, то Земля вложила в Марс двести миллиардов долларов, а получила взамен железной руды миллиардов на пять. В Луну было вложено пятьсот миллиардов, а получено магния, титана и различных легких металлов немногим более чем на двадцать пять миллиардов долларов; в Венеру Земля вложила 50 миллиардов, не получив взамен ничего. А налогоплательщиков Земли интересует именно это: деньги, которые с них берет государство, пускаются на ветер.
Пока Лонг говорил, на экране замелькали мультипликационные кадры, изображавшие корабли мусорщиков на трассе к Марсу: маленькие, карикатурные корабли хищно выбрасывали во все стороны гибкие, цепкие руки, нащупывали пролетающие мимо пустые контейнеры, хватали их, ставили на них пылающее клеймо «Собственность Марса», а затем сбрасывали на Фобос.
Снова появился Хильдер.
— Они говорят нам, что со временем все вернут. Со временем! Как только станут на ноги! Мы не знаем, когда это произойдет. Через сто лет? Через тысячу? Через миллион? Со временем, говорят они! Ну что ж, поверим им на слово. В один прекрасный день они вернут весь наш металл, сами будут обеспечивать себя продовольствием, будут пользоваться собственной энергией, жить своей жизнью. Но есть нечто, чего им не вернуть никогда. Даже через сотню миллионов лет. Это вода! На Марсе жалкие капли воды, ибо он слишком мал. На Венере совсем нет воды, ибо там слишком жарко. Луна безводна, так как слишком мала и на ней слишком жарко. Поэтому Земля вынуждена поставлять обитателям космоса не только питьевую воду и воду для мытья, не только воду для промышленности и воду для гидропонных плантаций, которые они якобы создают, но и ту воду, которую они просто выбрасывают в пространство миллионами тонн.
Что заставляет космолет двигаться? Что он отбрасывает назад, чтобы мчаться вперед? Когда-то это были газообразные продукты взрыва. Это обходилось очень дорого. Потом был изобретен протонный микрореактор — источник дешевой энергии, который может превращать любую жидкость в газ, находящийся под огромным давлением. Какая жидкость всегда под рукой? Какая жидкость самая дешевая? Конечно, вода. Каждый корабль, покидая Землю, уносит с собой около миллиона тонн — не фунтов, а тонн! — воды для одной лишь единственной цели: чтобы он мог передвигаться в пространстве. Наши предки безрассудно и опрометчиво сожгли нефть Земли, уничтожили ее уголь. Мы презираем и осуждаем их за это, но, в конце концов, у них было одно оправдание: они считали, что, если возникнет необходимость, будут найдены заменители. И они оказались правы: у нас есть планктонные фермы и протонные микрореакторы. Но для воды нет заменителя! Нет! И никогда не будет. И когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили Землю, какое оправдание найдут они для нас? Когда начнутся засухи, когда они станут все чаще…
Лонг наклонился и выключил видеофон.
— Это мне не нравится, — сказал он. — Проклятый болван умышленно… В чем дело?
Риос вдруг вскочил:
— Я же должен следить за импульсами.
— Ну их к черту!
Лонг тоже встал, прошел вслед за Риосом по узкому коридору и остановился на пороге рубки.
— Если Хильдер добьется своего, если он сумеет сделать из этого животрепещущую проблему… Ого!
Он тоже его увидел. Импульс был первого класса и мчался за исходящим сигналом, как борзая за электрическим кроликом.
Риос, захлебываясь, бормотал:
— Космос был чист, говорю вам, был чист. Марса ради, Тед, не лезьте. Попробуйте поймать его визуально.
Риос действовал быстро и умело: за его плечами был опыт почти двадцатилетней работы мусорщиком. За две минуты он определил дистанцию. Потом, вспомнив неудачу Свенсона, измерил угол склонения и радиальную скорость.
Он крикнул Лонгу:
— Один и семьдесят шесть сотых радиана. Вы легко его отыщете.
Лонг, затаив дыхание, крутил верньер.
— Всего лишь полрадиана от Солнца. Будет освещен только край.
Он быстро и осторожно усилил увеличение, разыскивая ту единственную «звезду», которая будет менять свое положение, расти и приобретать форму, доказывая, что она вовсе не звезда.
— Включаю двигатель, — сказал Риос. — Больше ждать нельзя.
— Вот он, вот он!
— Увеличения все еще не хватало, чтобы можно было точно судить о форме светящегося пятнышка, за которым следил Лонг, но оно ритмично мерцало, потому что при вращении контейнера солнечный свет падал то на большую, то на меньшую его часть.
— Держись!
Тонкие струи пара вырвались из выхлопных отверстий, оставляя длинные хвосты микрокристаллов льда, туманно сиявших в бледных лучах далекого Солнца. Расходясь, они тянулись за кораблем на сотню миль с лишком. Одна струя, другая, еще одна, и корабль мусорщиков сошел со своей орбиты и взял курс по касательной к пути контейнера.
— Летит, как комета в перигелии! — крикнул Риос. — Эти проклятые пилоты-наземники нарочно так сбрасывают контейнеры. Хотел бы я…
В бессильной злости, ругаясь, он все разгонял и разгонял корабль, так что гидравлическая прокладка кресла осела под ним на целый фут, а Лонг с большим трудом удерживался за поручень.
— Полегче! — взмолился он.
Но Риос следил только за импульсами.
— Не нравится, так сидели бы себе на Марсе. Струи пара продолжали глухо реветь.
Заработало радио. Лонг с трудом наклонился — воздух словно превратился в вязкую патоку — и включил экран. На них злобно уставился Свенсон.
— Куда это вы прете? — кричал он. — Через десять секунд вы будете в моем секторе.
— Гонюсь за контейнером, — ответил Риос.
— По моему сектору?
— Мы начали у себя. Тебе его не достать. Выключите радио, Тед.
Корабль с бешеным ревом несся в пространстве, но рев этот можно было услышать только внутри корпуса. Затем Риос выключил двигатели так резко, что Лонга швырнуло вперед. От внезапной тишины в ушах звенело еще больнее, чем от грохота, царившего секунду назад. Оба прильнули к окулярам. Теперь уже отчетливо был виден усеченный конус. Кувыркаясь с медлительной важностью, он двигался среди звезд.
— Да, контейнер первого класса, — удовлетворенно отметил Риос. «Настоящий гигант, — подумал он. — С ним у нас уже очистится прибыль».
Лонг сказал:
— Локатор показывает еще один импульс. Должно быть, Свенсон погнался за нами.
Риос мельком взглянул на экран:
— Не догонит.
Контейнер все рос и рос, пока не заполнил все поле зрения.
Руки Риоса лежали на рычаге сброса гарпуна. Он подождал, дважды с микроскопической точностью выверил угол, вытравил трос на нужную длину. Потом нажал.
Мгновение все оставалось как было. Затем к контейнеру пополз металлический трос, словно кобра, готовящаяся ужалить. Он коснулся контейнера, но не зацепился за него, иначе он тут же порвался бы, как паутинка. Контейнер вращался; момент его вращения достигал тысячи тонн, и трос должен был только создать мощное магнитное поле, которое затормаживало контейнер.
Вылетел еще один трос, еще и еще… Риос посылал их, нисколько не думая о расходе энергии.
— Этот от меня не уйдет, клянусь Марсом, не уйдет!
Он остановился, только когда между кораблем и контейнером протянулось десятка два стальных нитей. Энергия вращения контейнера при торможении превратилась в теплоту и до такой степени его раскалила, что излучение улавливали даже приборы космолета.
— Клеймо буду ставить я? — спросил Лонг.
— Ладно. Но только если хотите. Сейчас ведь моя вахта.
— Я с удовольствием.
Лонг влез в скафандр и направился в выходную камеру. Он еще помнил точно, сколько раз побывал в космосе в скафандре, — верный признак новичка. Это был пятый раз.
Ухватившись за трос и перебирая по нему руками, Лонг направился к контейнеру, чувствуя, как вибрирует трос под его металлическими перчатками. Он выжег на гладком металле контейнера их серийный номер. В пустоте космоса нечему было окислять сталь. Она просто плавилась и испарялась, а затем конденсировалась в нескольких футах от излучателя и серой матовой пленкой оседала на поверхность контейнера.
Лонг вернулся в космолет. Войдя внутрь, он снял шлем, который уже успел покрыться толстым слоем инея.
Первое, что услышал Лонг, был почти неузнаваемый от ярости голос Свенсона, доносившийся из репродуктора:
— …прямо к комиссару. Черт побери, есть же у нас какие-то правила!
Риос невозмутимо сидел в кресле.
— Послушай, ведь он был в моем секторе. Я поздно его заметил, и пришлось ловить в твоем. А ты, если бы погнался за ним, врезался бы в Марс Только и всего… Вернулись, Лонг?
Он выключил радио. Сигнальная лампочка яростно мигала, но Риос не обращал на нее внимания.
— Он подаст жалобу комиссару? — спросил Лонг.
— И не подумает. Это он просто чтобы развеять скуку. Он прекрасно понимает, что контейнер наш. А как вам понравилась наша добыча, Тед?
— Очень недурна.
— Очень недурна? Да она великолепна! Держитесь! Сейчас я его раскручу.
Боковые сопла извергли струи пара, и корабль начал медленно вращаться вокруг контейнера, который последовал за ним. Через полчаса они представляли собой гигантское боло, крутящееся в пустоте. Лонг определил по «Эфемеридам» положение Деймоса. В точно рассчитанный момент тросы сняли магнитное поле, и контейнер по касательной вышел на траекторию, по которой примерно через сутки должен был достичь этого спутника Марса и попасть в уловители находящегося там склада.
Риос проводил его довольным взглядом. Потом повернулся к Лонгу:
— Удачный денек.
— А речь Хильдера? — спросил Лонг.
— Кого? Вы о чем? Ах, это-то! Ну, если волноваться из-за болтовни каждого проклятого наземника, никогда не уснешь. Забудьте о нем.
— По-моему, об этом забывать не следует.
— Вот чудак! Да бросьте вы! Лучше поспите.
* * *
Тед Лонг, как всегда, упивался высотой и шириной главной улицы города.
Прошло уже два месяца с того дня, как комиссар наложил временный запрет на вылавливание контейнеров и отозвал все корабли мусорщиков из космоса, но бодрящее ощущение простора не покидало Лонга. Эту радость не могла омрачить даже мысль о том, что запрет был наложен в связи с намерением Земли провести в жизнь свое недавнее решение экономить воду, а для начала лимитировать ее расход на рейсы мусорщиков.
Крыша улицы была покрыта светящейся светло-голубой краской, — возможно, старомодная попытка имитировать земное небо. Тед точно не знал, так ли это. Витрины магазинов, прорезая стены улицы, освещали их.
Издалека, перекрывая шум транспорта и шаги прохожих, доносились взрывы — это пробивали в коре Марса новые туннели. Всю свою жизнь он слышал эти взрывы. Когда он родился, на месте этой улицы была еще нетронутая скальная порода. Город растет и будет расти и дальше, если ему не помешает Земля.
Лонг свернул в поперечную улицу, более узкую и не так ярко освещенную. Витрины магазинов сменились здесь жилыми домами, фасады которых были прочерчены рядами фонарей. Толпы покупателей и машины уступили место медленно прогуливающимся пешеходам и шумным ребятишкам, которые еще не вняли призывам матерей идти ужинать.
В последнюю минуту Лонг вспомнил о правилах приличия, остановился на углу, у водяной лавки, и протянул флягу:
— Налейте-ка!
Толстый лавочник отвинтил колпачок и заглянул во флягу, затем слегка встряхнул ее — там булькнуло.
— Немного осталось, — весело сообщил он.
— Верно, — согласился Лонг.
Лавочник держал флягу под самым наконечником шланга, чтобы не пролить ни капли воды. Зажужжал счетчик. Лавочник завинтил колпачок.
Лонг расплатился и взял флягу. Теперь она приятно похлопывала его по бедру. В семейный дом не принято приходить без полной фляги. К приятелям, конечно, можно зайти и так, во всяком случае этому не придается большого значения.
Он вошел в подъезд дома № 27, поднялся на несколько ступенек, приготовился нажать кнопку звонка и остановился. Из-за двери отчетливо доносились голоса. Женщина говорила с раздражением:
— Приглашай, приглашай своих дружков мусорщиков! Большое тебе спасибо, что ты целых два месяца в году бываешь дома! На меня, конечно, и пары дней хватит! А потом опять твои мусорщики!
— Но я уже давно дома, — ответил мужской голос. — И потом у нас есть дело. Марса ради, перестань, Дора. Они вот-вот придут.
Лонг решил подождать за дверью: может быть, они перейдут на более безобидную тему.
— И пусть их приходят! — отрезала Дора. — Пусть слушают. По мне, хоть бы навсегда запретили эти полеты. Слышишь?
— А на что мы будем жить? — раздраженно спросил мужчина. — Ответь-ка!
— И отвечу. Ты можешь прилично зарабатывать на самом Марсе, как и все другие. В этом доме только я одна — «мусорная вдова». Вот что я такое — вдова! Да что там, хуже вдовы! Будь я вдовой, то по крайней мере могла бы еще раз выйти замуж. Что ты сказал?
— Да ничего я не говорил.
— О, я знаю, что ты сказал. А теперь послушай меня, Дик Свенсон…
— Да, я сказал! — крикнул Свенсон. — Сказал, что теперь-то я знаю, почему мусорщики обычно не женятся.
— И тебе нечего было жениться! Мне надоело — все соседи жалеют меня, ухмыляются и спрашивают, когда ты вернешься. Другие могут быть горными инженерами. Во всяком случае, у жен бурильщиков есть нормальная семья, и дети у них как дети, а не беспризорники. У Питера с таким же успехом могло и не быть отца.
— Мама, а что такое беспризорник? — послышался тонкий мальчишеский фальцет. Голос доносился издалека, по-видимому, из другой комнаты.
— Питер! Занимайся уроками! — еще больше повысила голос Дора.
Свенсон тихо произнес:
— Нехорошо вести такие разговоры при ребенке. Что он обо мне подумает?
— Так оставайся дома, чтобы он думал так, как нужно. Снова раздался голос Питера:
— Знаешь, мама, я когда вырасту, стану мусорщиком. Послышались быстрые шаги, на мгновение наступила тишина, а затем раздался пронзительный вопль:
— Мама, ой, мама! Отпусти ухо! Что я сделал? — и снова все затихло — слышно было только обиженное сопение.
Лонг воспользовался паузой и энергично позвонил.
Свенсон открыл дверь, приглаживая волосы обеими руками.
— Здравствуйте, Тед, — приглушенным голосом сказал он. Потом громко произнес: — Дора, пришел Тед. Тед, а где Марио?
— Должен скоро прийти, — ответил Лонг.
Из другой комнаты торопливо вышла Дора, маленькая смуглая женщина с приплюснутым носом. Ее чуть тронутые сединой волосы были зачесаны назад.
— Здравствуйте, Тед. Ужинали?
— Да, я сыт, благодарю вас. Но вы, пожалуйста, не обращайте на меня внимания.
— Нет-нет. Мы давно уже кончили. Хотите кофе?
— Не откажусь. — Тед снял с пояса флягу и протянул ей.
— О, что вы, не нужно! У нас много воды.
— Прошу вас.
— Ну, что же…
Она ушла на кухню. Через качающуюся дверь Лонг мельком увидел посуду, стоявшую в «Секотерге» — «безводной мойке, которая всасывает и поглощает жир и грязь в одно мгновение. Одной унции воды хватает, чтобы дочиста отмыть восемь квадратных футов посуды. Покупайте «Секотерг»! «Секотерг» моет идеально. Не затратив лишней капли, так начистит вам посуду, что под силу только чуду!..»
Назойливая рекламная песенка зазвенела у него в голове, и, чтобы прогнать ее, он спросил:
— Как поживает Пит?
— Отлично. Перешел уже в четвертый класс. Ну конечно, мне редко приходится его видеть. Так вот, когда я в последний раз вернулся из рейса, он посмотрел на меня и говорит…
Последовало продолжение, которое было вполне терпимо — насколько бывают терпимы рассказы заурядных родителей о выдающихся высказываниях их выдающихся детей.
Прожужжал звонок, вошел хмурый, весь красный Марио.
Свенсон быстро шагнул к нему:
— Послушай, только ни слова о ловле контейнеров. Дора никак не может забыть, как ты захватил первоклассный контейнер на моем участке, а сегодня она вообще не в настроении.
— Только мне и заботы, что говорить о контейнерах. Риос сорвал с себя подбитую мехом куртку, швырнул ее на спинку кресла и сел.
Вошла Дора и деланно улыбнулась новому гостю:
— Привет, Марио Будешь пить кофе?
— Угу, — ответил он машинально потянувшись к своей фляге.
— Возьмите воды из моей фляги, Дора, — быстро проговорил Лонг — Он мне потом отдаст.
— Угу, — повторил Риос.
— Что случилось, Марио? — спросил Лонг.
— Валяйте! Говорите, что вы же меня предупреждали, — мрачно буркнул Риос — Год назад, после речи Хильдера. Ну, говорите, говорите!
Лонг с недоумением пожал плечами. Риос продолжал.
— Установлен лимит Об этом объявили четверть часа назад.
— Ну?
— Пятьдесят тысяч тонн воды на рейс.
— Что? — вспыхнул Свенсон. — Да с этим и с Марса не поднимешься!
— Так оно и есть Это обдуманный удар. Сбору мусора пришел конец.
Дора принесла кофе и расставила чашки.
— Что это вы говорили? Конец сбору мусора? — она села с решительным видом, и Свенсон беспомощно взглянул на нее.
— По-видимому, — сказал Лонг — С этого дня вводится лимит в пятьдесят тысяч тонн, а это значит, что мы не сможем больше летать.
— Ну и что из этого? — Дора отхлебнула кофе и весело улыбнулась. — Если хотите знать мое мнение, так это очень хорошо. Пора бы всем вам, мусорщикам, найти постоянную работу на Марсе Я не шучу Это не жизнь — рыскать по космосу…
— Дора, прошу тебя, — сказал Свенсон.
Риос что-то злобно буркнул Дора подняла брови:
— Я просто высказываю свое мнение.
— Ваше полное право, — сказал Лонг. — Но я имею в виду другое Пятьдесят тысяч тонн — это только начало. Мы знаем, что Земля — или по крайней мере партия Хильдера — хочет нажить себе политический капитал на кампании за экономию воды, так что наше дело плохо. Мы должны как-то раздобыть воду, не то они совсем нас прикроют, верно?
— Ну да, — сказал Свенсон.
— Но весь вопрос в том — как? Правильно?
— Если дело только в воде, — неожиданно разразился Риос, — то есть лишь один выход, и вы его знаете. Если наземники решат не давать нам воды, мы ее возьмем. То, что когда-то их сопливые трусы отцы и деды побоялись оставить свою тепленькую планету, еще не делает их хозяевами воды. Вода принадлежит всем людям, где бы они ни находились. Мы — люди, значит, вода и наша тоже. Мы имеем на нее право.
— А как вы предлагаете ее забрать? — спросил Лонг.
— Очень просто! У них на Земле целые океаны воды. Не могут же они поставить по сторожу на каждой квадратной миле! Мы можем в любое время, когда нам вздумается, сесть на ночной стороне планеты, заправить все контейнеры и улететь. Хотел бы я знать, как они нам помешают?
— Десятком способов, Марио. Как вы находите контейнеры в космосе на расстоянии до сотни тысяч миль? Тонкий металлический корпус, затерянный в бескрайнем пространстве? Как? С помощью радара. Неужели вы думаете, что на Земле нет радаров? Неужели вы думаете, если на Земле догадаются, что мы крадем воду, они там не сумеют установить сеть радаров и обнаруживать приближающиеся корабли еще в космосе?
Дора с возмущением перебила Лонга:
— Вот что я тебе скажу, Марио Риос. Мой муж никогда не будет участвовать в грабительских налетах, чтобы добывать воду для мусорных рейсов.
— Дело не только в мусорных рейсах, — сказал Марио. — Завтра они прижмут нас во всем остальном. Их нужно остановить теперь же.
— Да не нужна нам их вода, — сказала Дора. — Тут же не Луна и не Венера. Полярные шапки вполне обеспечивают нас водой. У нас даже в квартире есть водопровод. В этом квартале у всех есть.
— На личные потребности расходуется наименьшая часть воды, — сказал Лонг. — Вода нужна для рудников. А как быть с гидропонными бассейнами?
— Это верно, — сказал Свенсон. — Как быть с гидропонными бассейнами, Дора? Им необходима вода, и пора бы нам выращивать для себя свежие овощи вместо этой конденсированной дряни, которую нам присылают с Земли.
— Только послушайте его, — презрительно бросила Дора. — Что ты понимаешь в свежих овощах? Ты же никогда их не пробовал.
— Нет, пробовал, и не раз! Помнишь, один раз я достал моркови?
— Ну и что в ней было особенного? На мой взгляд, хорошо поджаренная протопища куда лучше. И полезнее.
Просто сейчас вошло в моду болтать о свежих овощах, потому что из-за этой гидропоники повышают налоги. И вообще все обойдется.
— Не думаю, — сказал Лонг. — Во всяком случае, не обойдется само собой. Хильдер, вероятно, будет следующим Координатором, и вот тогда дело может обернуться совсем скверно. Если они сократят еще и поставки продовольствия…
— Ну ладно! — воскликнул Риос. — Что же нам делать? Я говорю — воду надо брать. Брать, и все тут!
— А я говорю, что нельзя, Марио. Неужели вы не понимаете, что это Земной путь, путь наземников? Вы цепляетесь за пуповину, которая связывает Марс с Землей. Неужели вы не можете порвать ее? Неужели не видите Марсианского пути?
— Нет, не вижу Может быть, вы объясните?
— Да, объясню, если будете слушать. Что мы имеем в виду, когда говорим о Солнечной системе? Меркурий, Венеру, Землю, Луну, Марс, Фобос и Деймос. Семь небесных тел, и все. Но ведь это меньше одного процента Солнечной системы. И мы, марсиане, ближе всех к остальным девяноста девяти процентам. Там, по ту сторону Марса, дальше от Солнца, несметные запасы воды!
Все с недоумением уставились на него. Свенсон неуверенно спросил:
— Вы говорите о ледяных оболочках Юпитера и Сатурна?
— Не только о них, но, согласитесь, и это вода. Слой в тысячу миль толщиной — это немало воды.
— Но он ведь покрыт аммиаком или… или еще чем-то, а? — спросил Свенсон. — И потом, мы не можем садиться на большие планеты.
— Знаю, — ответил Лонг — Но я не их имел в виду. На больших планетах свет клином не сошелся. Есть же еще астероиды и спутники! Например, Веста — астероид диаметром двести миль и почти сплошной кусок льда. Одна из лун Сатурна — тоже. Что вы скажете на это?
— Разве вы не бывали в космосе, Тед? — спросил Риос. — Вы же знаете, что был Что вы имеете в виду?
— Да, знаю, но вы все еще говорите, как наземник. А вы подумали о расстояниях? В среднем астероиды не подходят к Марсу ближе чем на сто двадцать миллионов миль. Это вдвое больше, чем от Марса до Венеры, а вы знаете, что даже лайнеры почти никогда не совершают этого рейса в один прием. Обычно они делают остановку на Земле или на Луне. В конце-то концов, сколько времени, по-вашему, человек может находиться в космосе?
— Не знаю. А как по-вашему?
— Вы и сами знаете. Нечего меня спрашивать. Шесть месяцев. Загляните в любой справочник. Пробудьте в космосе больше шести месяцев, и вам одна дорога — к психиатру. Так ведь, Дик?
Свенсон кивнул.
— И это только астероиды, — продолжал Риос. — От Марса же до Юпитера триста тридцать миллионов миль, а до Сатурна — семьсот миллионов. Кто сумеет преодолеть такие расстояния? Представьте себе, что вы летите с обычной скоростью или, для круглого счета, делаете даже двести тысяч миль в час. Это займет… погодите, надо еще учесть ускорение и торможение… это займет месяцев шесть-семь до Юпитера и почти год до Сатурна. Конечно, теоретически можно разогнаться и до миллиона миль в час, но где вы возьмете для этого воду?
— Ух ты! — произнес тонкий голосок, обладатель которого с чумазым носом и округлившимися глазами стоял тут же. — Сатурн!
Дора резко обернулась:
— Питер, марш в свою комнату!
— Ну ма-ам!
— Не нукай на меня!
Она привстала, и Питер исчез.
— Послушай, Дора, — сказал Свенсон, — посиди-ка с ним немного, а? Ему трудно не отвлекаться, когда мы все тут разговариваем.
Дора упрямо фыркнула и не сдвинулась с места. — Я никуда не уйду, пока не узнаю, что задумал Тед Лонг. Скажу вам прямо: мне это не очень нравится.
— Ну ладно, — сказал Свенсон, — оставим в покое Юпитер и Сатурн. Тед, конечно, на них и не рассчитывает. А Веста? Мы могли бы добраться туда за десять — двенадцать недель, и столько же на обратный путь. Двести миль в диаметре — это четыре миллиона кубических миль льда!
— Ну и что? — сказал Риос — А что мы будем делать на Весте? Добывать лед? Строить рудники? Послушайте, вы представляете, сколько времени это займет?
— Я имел в виду именно Сатурн, а не Весту, — возразил Лонг.
— Ему говорят, что до Сатурна семьсот миллионов миль, а он все свое!
— Ладно, — сказал Лонг, — скажите-ка мне, Марио, откуда вы знаете, что в космосе можно оставаться не больше шести месяцев?
— Черт возьми, это всем известно!
— Только потому, что так написано в «Руководстве по космическим полетам». Этот предел был установлен земными учеными на основе опыта земных пилотов и космонавтов Вы рассуждаете, как наземник, а не как марсианин.
— Марсианин может быть марсианином, но он остается человеком.
— Откуда такая слепота? Сколько раз вы сами бывали в рейсе больше шести месяцев и без всяких последствий?
— Это совсем не то, — сказал Риос.
— Потому что вы марсиане? Потому что вы профессиональные мусорщики?
— Нет. Потому что мы не в дальнем рейсе и знаем, что можем вернуться на Марс, как только захотим.
— Но вы этого не хотите. Об этом я и говорю. Земляне строят огромные космолеты с библиотеками микрофильмов, с экипажем из пятнадцати человек, не считая пассажиров. И все-таки они могут находиться в полете максимум шесть месяцев У марсианских мусорщиков корабли на две каюты и только один сменщик. Но мы можем выдержать в космосе больше шести месяцев.
— Вы, кажется, не прочь прожить в корабле год и полететь на Сатурн? — заметила Дора.
— А почему бы и нет, Дора? — сказал Лонг. — Мы можем это сделать. Неужели вы не понимаете? Земляне не могут. Они живут в настоящем мире. У них открытое небо и свежая пища, у них сколько угодно воздуха и воды. И, попадая на корабль, они оказываются в чуждой и тягостной обстановке. Вот почему шесть месяцев для них предел. Но марсиане — дело другое. Мы всю жизнь живем словно на борту корабля! Ведь Марс — это большой корабль диаметром в четыре с половиной тысячи миль, а в нем — крохотное помещение, где живут пятьдесят тысяч человек. Мы здесь закупорены, как в корабле. Мы дышим привозным воздухом и пьем привозную воду, которую без конца очищаем и снова пьем… Мы едим то же самое, что едят на корабле. И когда мы оказываемся в космолете, то продолжаем привычную жизнь. Если понадобится, мы способны продержаться гораздо больше года.
— И Дик тоже? — спросила Дора.
— Мы все.
— Так вот, только не Дик. Вы, Тед Лонг, и этот Марио, который крадет чужие контейнеры, можете сколько угодно болтать о том, как вы год проторчите в космосе Вы холостяки. А Дик женат. У него жена и сын, и этого с него хватит. Он может получить постоянную работу и здесь, на Марсе. Бог мой, а представьте себе, что вы прилетите на Сатурн и не найдете там никакой воды. Как тогда вы вернетесь? А если у вас и останется вода, так кончится продовольствие. Ничего нелепее я еще не слыхала.
— Погодите, — напряженно произнес Лонг. — Я все обдумал. Я говорил с комиссаром Сэнковом, он поможет. Но нам нужны корабли и люди. Мне их не подобрать. Меня никто и слушать не станет. Я новичок. Вас же знают и уважают Вы ветераны. Если вы меня поддержите — можете сами не лететь, — если вы просто поможете мне убедить остальных, найти добровольцев…
— Прежде всего, — ворчливо прервал его Риос, — вам придется объяснить еще кое-что. Ну ладно, прилетим мы на Сатурн, а где там вода?
— В этом-то все дело, — ответил Лонг. — Для того и нужно лететь на Сатурн. Вода там просто летает в космосе и ждет, пока за ней явятся!
* * *
Когда Хэмиш Сэнков прибыл на Марс, марсиан по рождению не существовало. Теперь здесь насчитывалось двести с лишним младенцев — марсиан третьего поколения, чьи деды родились на Марсе.
Сэнкову тогда не было и двадцати. Колония на Марсе представляла собой всего лишь кучку приземлившихся кораблей, связанных между собой герметизированными подземными туннелями. В течение многих лет на его глазах под поверхностью планеты разрастались здания, высовывая тупые носы в разреженную, негодную для дыхания атмосферу На его глазах появлялись товарные пакгаузы, вмещавшие целые корабли вместе со всем грузом. На его глазах из ничего возникло грандиозное переплетение шахт, источившее кору Марса. А население Марса увеличилось с пятидесяти человек до пятидесяти тысяч.
Из-за этих воспоминаний Сэнков чувствовал себя стариком. Из-за этих и еще более давних воспоминаний, навеянных присутствием землянина. Гость всколыхнул в его памяти давно забытые отрывочные картины теплого, уютного мира, лелеющего человечество, как материнское лоно.
Землянин, казалось, только что покинул это лоно. Не очень высокий, не очень худой, скорее, пожалуй, полный. Темные волосы с аккуратно уложенной волной, аккуратные усики, тщательно вымытая кожа. На нем был модный костюм, такой свежий и аккуратный, каким только может быть костюм из пластика.
Одежда, которую носил Сэнков, была изготовлена здесь, на Марсе. Она была опрятна и удобна, но безнадежно старомодна. По его суровому лицу пролегла густая сеть морщин, волосы давно побелели, и, когда он говорил, его кадык подергивался.
Землянина звали Майрон Дигби, он был членом Генеральной Ассамблеи Земли. Сэнков был комиссаром Марса. Сэнков сказал:
— Все это тяжелый удар для нас.
— Для большинства из нас тоже.
— Гм… Тогда я должен честно признаться, что ничего не понимаю. Конечно, я не претендую на то, чтобы разбираться в земных проблемах, хоть и родился на Земле. На Марсе жить нелегко, и вам следует это уяснить. Только для того, чтобы обеспечить нас пищей, водой и сырьем, на кораблях требуется много места. А для книг и кинохроники места почти не остается. Даже видеопрограммы доходят до нас только в месяц противостояния, но тогда здесь все слишком заняты, чтобы их смотреть. Я, как комиссар, получаю от агентства «Межпланетная пресса» еженедельную сводку, но обычно у меня не бывает времени, чтобы внимательно с ней ознакомиться. Можете назвать нас провинциалами — вы будете правы. Так что, когда случается нечто подобное, мы только беспомощно переглядываемся.
— Не хотите же вы сказать, — медленно произнес Дигби, — что вы здесь, на Марсе, ничего не слышали о кампании против расточительства, которую проводит Хильдер?
— Кое-что слышал. Один молодой мусорщик, сын моего большого друга, который погиб в космосе, — Сэнков задумчиво потер рукой шею, — очень любит читать об истории Земли и тому подобное. Когда он бывает в рейсе, он ловит видеопередачи, и он слушал этого Хильдера. Насколько я могу понять, это была первая речь Хильдера о расточителях. Молодой человек пришел с этим ко мне. Я, естественно, не принял его рассказы всерьез. Впрочем, после этого я стал как-то просматривать сводки новостей «Межпланетной прессы», но там почти ничего не говорилось о Хильдере, а то, что было, представляло его довольно-таки нелепой фигурой.
— Да, комиссар, — сказал Дигби, — вначале все это было похоже на шутку.
Сэнков вытянул длинные ноги и заложил их одну за другую.
— Сдается мне, что и до сих пор это во многом остается шуткой. Какие доводы он приводит? Мы тратим воду? А поинтересовался он цифрами? У меня они все есть. Я велел их приготовить к прибытию вашей комиссии.
Океаны Земли содержат четыреста миллионов кубических миль воды, а каждая кубическая миля весит четыре с половиной миллиарда тонн. Это не так уж мало! Часть этой громады мы тратим на полеты. Разгон происходит в основном в пределах поля тяготения Земли, значит, выбрасываемая вода возвращается в океаны. Этого Хильдер не учитывает. Когда он говорит, что за полет расходуется миллион тонн воды, он лжет. Меньше ста тысяч тонн! Теперь допустим, что на год приходится пятьдесят тысяч полетов. Этого, конечно, не бывает — их и полутора тысяч не наберется. Но, допустим, пятьдесят тысяч. Ведь со временем число полетов, безусловно, увеличится. При пятидесяти тысячах полетов в год в космосе будет невозвратимо теряться одна кубическая миля воды. Это значит, что за миллион лет Земля потеряет четверть процента своих водных запасов!
Дигби развел руками:
— Комиссар, «Межпланетные сплавы» попробовали использовать подобные цифры в борьбе против Хильдера. Но разве можно сухой математикой победить мощное эмоциональное движение? Хильдер пустил в ход словечко «расточители». Понемногу он сделал из него символ гигантского заговора банды алчных жестоких негодяев, грабящих Землю ради своей минутной выгоды. Хильдер обвинил правительство в том, что оно почти все состоит из подобных людей, Ассамблею — в том, что она им подчиняется, прессу — в том, что она им принадлежит. К сожалению, все это не кажется нелепостью среднему человеку. Он прекрасно знает, что могут сделать эгоисты с богатствами Земли. Он знает, например, что случилось с нефтью в Смутные времена, знает, как погубили плодородие почв. Когда наступает засуха, фермера не интересует, что на космические полеты расходуется лишь крохотная капелька по сравнению с общими водными запасами Земли. Хильдер назвал ему виновников, а в несчастье нет лучшего утешения, чем знать, кого винить. И ради каких-то цифр он от этого утешения не откажется.
— Вот этого я и не понимаю, — сказал Сэнков. — Может быть, я просто не знаю, как живет Земля, но мне кажется, что, кроме напуганных засухой фермеров, там есть и другие люди. Насколько я понимаю из сводок новостей, сторонников Хильдера меньшинство Почему же вся Земля идет за горсткой фермеров и сумасбродных подстрекателей?
— Потому, комиссар, что у людей есть обыкновение беспокоиться о своем личном благополучии, о своем личном будущем. Сталелитейные компании видят, что эпоха космических полетов требует все больше легких сплавов, в которые не входит железо. Профсоюзы горняков опасаются внеземной конкуренции. Каждый землянин, которому не удается получить алюминий для какой-нибудь своей постройки, уверен, что алюминий идет на Марс. Я знаю одного профессора археологии, который выступает против «расточителей» только потому, что не может получить от правительства денег на свои раскопки. Он убежден, что все государственные фонды расходуются на ракетные исследования и космическую медицину, и это его возмущает.
— Все это показывает, — заметил Сэнков, — что земляне не очень-то отличаются от нас, марсиан. Но как же Генеральная Ассамблея? Почему ей приходится идти на поводу у Хильдера?
Дигби кисло усмехнулся:
— Не так уж приятно объяснять тонкости политики. Хильдер внес законопроект об организации нашей комиссии для расследования расточительства в космических полетах. Пожалуй, не менее трех четвертей Генеральной Ассамблеи было против такого расследования, как вредного и ненужного бюрократического мероприятия, каковым оно и является. Но какой законодатель рискнет возражать против расследования случаев расточительства? Немедленно создалось бы впечатление, будто он сам чего-то боится, что-то скрывает. Будто он сам извлекает какую-то выгоду из расточительства. Хильдер не стесняется выдвигать подобные обвинения, и, справедливы они или нет, они могут подействовать на избирателей во время следующих выборов. И законопроект прошел. Потом встал вопрос о назначении членов комиссии. Те, кто был против Хильдера, не захотели в нее войти, потому что это заставило бы их принимать компрометирующие решения Держась в стороне, легче не попасть под огонь Хильдера. В результате я оказался единственным членом комиссии, открыто осуждающим Хильдера, и это может стоить мне мандата на следующих выборах.
— Надеюсь, до этого не дойдет, — сказал Сэнков. — Оказывается, у Марса меньше друзей, чем мы думали. И нам не хотелось бы потерять одного из них. Но чего Хильдер вообще хочет?
— По-моему, это очевидно, — сказал Дигби. — Он хочет занять пост Всемирного Координатора.
— По-вашему, это ему удастся?
— Если ничто его не остановит, — да.
— И тогда он прекратит кампанию против расточительства?
— Не знаю. Возможно, он еще не думал, что будет делать потом, когда станет Координатором. Впрочем, если вас интересует мое мнение, он не сможет прекратить кампанию, сохранив при этом популярность. Движение это уже вышло из-под его контроля.
Сэнков почесал шею.
— Ну что ж! В этом случае я хочу попросить у вас совета. Что мы, жители Марса, можем сделать? Вы знаете Землю. Вы знаете ситуацию там. Мы не знаем. Скажите, что нам делать?
Дигби встал и подошел к окну. Он взглянул на низкие купола соседних зданий, на разделяющую их совершенно безжизненную равнину, усеянную красными скалами, на лиловое небо и съежившееся солнце. Не поворачивая головы, он спросил:
— А вам в самом деле нравится здесь, на Марсе? Сэнков улыбнулся:
— Большинство из нас просто не знают ничего другого, и Земля, наверное, покажется нам после этого чем-то странным и непривычным.
— Но неужели вы к ней не привыкнете? После Марса на Земле не может не понравиться. Неужели вашим людям не будет приятно свободно дышать свежим воздухом под открытым небом? Вы же когда-то жили на Земле. Вы помните, какая она.
— Смутно. И все-таки это трудно объяснить. Земля просто существует. Она приспособлена для людей, и люди к ней приспособлены. Они воспринимают Землю такой, какая она есть. На Марсе все иначе. Он не обжит, не приспособлен для людей. Его приходится переделывать. Здесь люди строят свой мир, а не получают его готовым. Марс пока еще не Бог весть что, но мы строим, и, когда кончим, получится то, что нам нужно. Это по-своему замечательное чувство — знать, что ты сам строишь мир. После этого на Земле будет, пожалуй, скучновато.
— Ну не все же марсиане настолько философы, чтобы довольствоваться невыносимо тяжелой жизнью ради будущего, которого, может быть, никто из них не увидит, — возразил Дигби.
— Нет, не совсем так.
Сэнков закинул левую ногу на правое колено и, поглаживая лодыжку, продолжал:
— Я говорил, что марсиане очень похожи на землян. Они люди, а люди не так уж склонны к философии. И все-таки жить в растущем мире — это что-то да значит, даже если ты об этом не думаешь. Когда я только приехал на Mapc, я переписывался с отцом. Он был бухгалтером и так им и остался. Когда он умер, Земля была почти такой же, как тогда, когда он родился. Он не видел никаких перемен. Один день был неотличим от другого, жить для него означало просто коротать время до самой смерти. На Марсе все иначе. Здесь каждый день приносит что-то новое: город растет, расширяется система вентиляции, протягивают водопровод с полюсов. Сейчас мы собираемся организовать собственную ассоциацию кинохроники. Она будет называться «Марсианская пресса». Если вы не жили в таком месте, где все вокруг непрерывно растет и меняется, вы никогда не поймете, как это замечательно. Нет, Марс, конечно, суровая и скудная планета и Земля куда уютнее, но все-таки, мне кажется, если вы заберете наших ребят на Землю, они будут несчастны. Большинство, возможно, и не поймет почему, но они будут чувствовать себя потерянными, потерянными и ненужными. Боюсь, что многие так и не смогут к этому привыкнуть.
Дигби отвернулся от окна, и гладкая розовая кожа на его лбу собралась в хмурые морщины.
— В таком случае, комиссар, мне жаль вас. Всех вас.
— Почему?
— Потому что я не думаю, чтобы вы, марсиане, смогли что-нибудь изменить. И вы, и жители Луны и Венеры. Это случится еще не сегодня; может быть, пройдет еще год-два, может быть, даже пять. Но очень скоро всем придется вернуться на Землю, если только…
Седые брови Сэнкова почти закрыли глаза. — Ну?
— Если только вы не найдете другого источника воды, кроме планеты Земля.
Сэнков покачал головой:
— Вряд ли нам это удастся, верно?
— Да, пожалуй.
— А другого выхода, по-вашему, нет?
— Нет.
Дигби ушел. Сэнков долго седел, глядя прямо перед собой, потом набрал местный видеофонный номер.
Через некоторое время перед ним появилось лицо Теда Лонга.
— Ты был прав, сынок, — сказал Сэнков. — Они бессильны. Даже те, кто на нашей стороне, не видят выхода. Как ты догадался?
— Комиссар, — ответил Лонг, — когда прочтешь все, что только можно, о Смутном времени, особенно о двадцатом веке, перестаешь удивляться самым неожиданным капризам политики.
— Возможно. Так или иначе, сынок, Дигби сочувствует нам, искренне сочувствует, но и только. Он говорит, что нам придется покинуть Марс или же найти воду где-нибудь еще. Только он считает, что мы ее нигде найти не сможем.
— Но вы-то знаете, что сможем, комиссар?
— Знаю, что могли бы, сынок. Это страшный риск.
— Если я соберу достаточно добровольцев, это уж наше дело.
— Ну, и как там у вас?
— Неплохо. Кое-кто уже на моей стороне. Я уговорил, например, Марио Риоса, а вы знаете, что он из лучших.
— Вот именно — добровольцами будут найти лучшие люди. Очень мне не хочется разрешать вам это.
— Если мы вернемся, весь риск будет оправдан.
— Если! Словечко, над которым задумаешься.
— Но и дело, на которое мы идем, стоит того, чтобы о нем подумать.
— Хорошо. Я обещал, что, если Земля нам не поможет, я распоряжусь, чтобы водохранилища Фобоса дали вам столько воды, сколько понадобится. Желаю удачи!
* * *
В полумиллионе миль над Сатурном Марио Риос крепко спал, паря в пустоте Понемногу пробуждаясь, он долго лежал в скафандре, считал звезды и мысленно соединял их линиями.
Сначала, в первые недели, полет почти ничем не отличался от обычного «мусорного» рейса, если бы не тоскливое сознание, что с каждой минутой еще тысячи миль ложатся между ними и всем человечеством.
Они полетели по крутой линии, чтобы выйти из плоскости эклиптики, проходя Пояс астероидов. Это потребовало большого расхода воды и, возможно, не было так уж необходимо. Хотя десятки тысяч крохотных миров на фотоснимках в двумерной проекции кажутся густым скоплением насекомых, в действительности они настолько редко разбросаны по квадрильонам кубических миль пространства, охватываемых их общей орбитой, что столкновение с одним из них могло быть результатом только нелепейшего случая. Но они все-таки обошли Пояс. Кто-то подсчитал вероятность встречи с частицей вещества, достаточно большой, чтобы столкновение с ней могло стать опасным. Полученная величина оказалась столь ничтожной, что кому-нибудь неизбежно должна была прийти в голову мысль о парении в космосе.
Медленно тянулись долгие дни — их было слишком много. Космос был чист, в рубке мог дежурить один человек. И эта мысль родилась как-то сама собой.
Первый храбрец решился выйти из корабля минут на пятнадцать. Второй провел в космосе полчаса. Со временем, еще до того как они окончательно миновали астероиды, свободный от вахты член экипажа постоянно висел в космосе на конце троса.
Это было очень просто. Кабель — один из предназначаемых для работ в конце полета — сперва магнитно закрепляется на скафандре. Потом вы выбираетесь через камеру на корпус корабля и прикрепляете другой конец там. Некоторое время вас удерживают на металлической обшивке корабля электромагниты башмаков. Потом вы выключаете их и делаете еле заметное мускульное усилие.
Медленно-медленно вы отрываетесь от корабля, и еще медленнее большая масса корабля уходит от вас на пропорционально меньшее расстояние вниз. И вы повисаете в невесомости в густой черноте, испещренной светлыми точками. Когда корабль отодвинулся на достаточное расстояние, вы чуть сжимаете кабель рукой в перчатке. Без рывка — иначе вы поплывете назад, к кораблю, а корабль — к вам. При правильной же хватке трение вас остановит. Так как скорость вашего движения равна скорости движения корабля, корабль кажется неподвижным, будто нарисованным на невиданном фоне, а кабель между вами свивается кольцами, которые ничто не заставляет расправиться.
Вы видите только половину корабля, ту сторону, которая освещена Солнцем, далеким, но все еще слишком ярким, чтобы смотреть на него без надежной защиты поляризованного фильтра гермошлема. Теневая сторона корабля невидима — черное на черном.
Космос смыкается вокруг вас, и это похоже на сон В скафандре тепло, воздух автоматически очищается, в специальных контейнерах хранится пища и вода, и вы посасываете их, почти не поворачивая головы. Но всего лучше — восхитительное, блаженное чувство невесомости.
Никогда еще вы не чувствовали себя так хорошо. Дни уже не кажутся чрезмерно длинными, они проходят слишком быстро, их слишком мало.
Орбиту Юпитера они пересекли примерно в 30 градусах от его положения в тот момент. На протяжении многих месяцев он был для них самым ярким небесным телом, если не считать сияющей белой горошины, в которую превратилось Солнце. Когда они были ближе всего к нему, кое-кто даже уверял, что видит не точку, а крохотный шарик, выщербленный с одного бока ночной тенью. Потом, месяц за месяцем, Юпитер бледнел, а новая светлая точка росла и росла, пока не стала ярче его. Это был Сатурн — вначале сверкающая точка, затем сияющее овальное пятно.
(«Почему овальное?» — спросил кто-то, и через некоторое время ему ответили: «Кольца, конечно». Ну конечно же, — кольца!)
До самого конца полета каждый парил в космосе все свободное время, не спуская глаз с Сатурна.
(«Эй, ты, обормот, валяй назад! Твоя вахта!» — «Чья вахта? У меня еще пятнадцать минут по часам». — «Ты перевел стрелки назад. И потом, я тебе вчера одолжил двадцать минут». — «Ты и своей бабушке двух минут не одолжил бы». — «Возвращайся, черт возьми, я все равно выхожу!» — «Ладно, иду. Сколько шуму из-за какой-то паршивой минуты!» Но все это не всерьез — в космосе серьезной ссоры не получалось. Слишком уж хорошо было.)
Сатурн все рос, пока наконец не сравнялся с Солнцем, а потом не превзошел его. Кольца, расположенные почти под прямым углом к траектории полета, величественно охватывали планету, которая заслоняла лишь небольшую их часть. День ото дня кольца раскидывались все шире, одновременно сужаясь, по мере того как уменьшался угол их наклона. В небе, словно мерцающие светлячки, уже виднелись самые большие луны Сатурна. Марио Риос был рад, что проснулся и теперь снова видит все это.
Сатурн закрывал полнеба — весь в оранжевых полосах, с расплывчатой границей ночной тени, отрезавшей его правую четверть. Два маленьких круглых пятнышка на его яркой поверхности были тенями двух лун. Слева и сзади (Риос оглянулся через левое плечо, и, когда он это сделал, его тело слегка сдвинулось вправо, сохраняя угловое количество движения) белым алмазом сверкало Солнце.
Больше всего Риосу нравилось разглядывать кольца. Слева они выходили из-за Сатурна плотной, яркой тройной полосой оранжевого цвета. Справа они уходили в ночную тень и от этого казались ближе и шире. Ближе к нему они расширялись, как сверкающий раструб горна, становились все более туманными и расплывчатыми, пока наконец не заполняли все небо, теряясь в нем.
Там, где находились корабли мусорщиков, внутри внешнего кольца, у самого его наружного края, кольца, казалось, распадались и выглядели тем, чем они были на самом деле, — феноменальным скоплением твердых обломков, а не сплошными, плотными полосами света.
Милях в двадцати под Риосом, или, вернее, там, куда были направлены его ноги, находился один из таких обломков. Он казался большим пятном неправильной формы, нарушавшим симметрию космоса. Три четверти его были освещены, а остальное обрезано, как ножом, ночной тенью. Поодаль виднелись другие обломки, сверкавшие, точно звездная пыль. Чем дальше, тем слабее казался их свет, а они сами как будто сближались, пока вновь не сливались в кольцо.
Обломки эти были неподвижны, но так казалось лишь потому, что корабли двигались по той же орбите, что и внешний край колец.
Накануне Риос вместе с двумя десятками своих товарищей работал на ближайшем обломке, придавая ему нужную форму. Завтра он снова будет работать там.
Сегодня… Сегодня он парит в космосе.
— Марио? — вопросительно прозвучало в его наушниках. Риос на мгновение рассердился. К черту, сейчас ему хочется побыть одному!
— Слушаю, — буркнул он.
— Я так и думал, что это твой корабль. Как дела?
— Прекрасно. Это ты, Тед?
— Да, — ответил Лонг.
— Что-нибудь случилось на обломке?
— Ничего. Просто парю.
— Это ты-то?
— И меня иногда тянет Красиво, правда?
— Хорошо, — согласился Риос.
— Знаешь, в земных книгах…
— В книгах наземников, ты хочешь сказать?
Риос зевнул и обнаружил, что ему не удалось произнести слово «наземник» с должным презрением.
— …мне приходилось читать, как люди лежат на траве, — продолжал Лонг. — Знаешь, на такой зеленой штуке, вроде тонких, длинных полосок бумаги, которой покрыта там вся почва. Они лежат и глядят вверх, в голубое небо с облаками. Ты когда-нибудь видел это в фильмах?
— Конечно. Только мне не понравилось. Того гляди замерзнешь.
— На самом деле там вовсе не холодно. В конце концов, Земля совсем близко к Солнцу, и говорят, у нее достаточно плотная атмосфера, чтобы удерживать тепло. Признаться, мне бы тоже не хотелось оказаться под открытым небом в одной одежде. Но, по-моему, им это нравится.
— Все наземники — сумасшедшие!
— Знаешь, там еще говорится о деревьях — таких больших бурых стеблях, и о ветре — движении воздуха.
— Ты хочешь сказать — о сквозняках? Этим тоже пусть наслаждаются сами.
— Неважно. Они пишут об этом так красиво, с любовью. Но я часто задумывался: на что же это похоже, на самом деле? Могу я это когда-нибудь испытать или это доступно только землянам? Мне все казалось, что я упускаю что-то очень важное. Теперь я знаю, на что это должно быть похоже. Вот на это — глубокий покой в центре Вселенной, напоенной красотой!
— Им бы это не понравилось, — сказал Риос. — Наземникам, я хочу сказать. Они так привыкли к своему паршивому крохотному миру, что им просто не понять, до чего же хорошо парить в космосе, глядя на Сатурн.
Он сделал легкое движение и начал медленно, спокойно покачиваться. Лонг сказал:
— Да, я тоже так думаю. Они рабы своей планеты. Даже если они прилетают на Марс, только дети их освобождаются от этого. Когда-нибудь будут построены звездолеты — невообразимо огромные корабли, которые будут вмещать тысячи людей и смогут десятилетиями, может быть, даже столетиями существовать как замкнутые системы. Человечество расселится по всей Галактике. Но людям придется всю жизнь проводить на борту кораблей, пока они не найдут новых способов межзвездного полета. И, значит, марсиане, а не привязанные к своей планете земляне колонизируют Вселенную. Это неизбежно. Так должно быть. Это — Путь марсиан.
Но Риос не ответил. Он снова задремал, мягко покачиваясь, в полумиллионе миль над Сатурном.
* * *
Работа на обломке оказалась оборотной стороной медали. О блаженном покое и уединении свободного парения в пространстве приходилось забыть. Правда, осталась невесомость, но в новых условиях она была уже не райским блаженством, а настоящей пыткой. Попробуйте поработать хотя бы обычным стационарным тепловым излучателем. Его можно было легко поднять: несмотря на то что он был шести футов в высоту и столько же в ширину и сделан почти целиком из металла, здесь он весил считанные граммы. Но инерция его ничуть не уменьшилась, поэтому стоило толкнуть его слишком резко, и он спокойно продолжал двигаться, увлекая вас за собой. Тогда приходилось включать искусственное поле тяготения скафандра и плюхаться вниз.
Керальский неосторожно увеличил искусственное поле и вместе с излучателем опустился слишком резко. Ему перебило лодыжку — это был первый несчастный случай в экспедиции.
Риос ругался яростно и почти беспрерывно. Его все время тянуло вытереть пот со лба. Раза два он не выдержал, и в результате металлическая перчатка ударялась о силиконовый шлем с грохотом, отдававшимся в скафандре, но не приносившим ощутимой пользы. Осушители внутри скафандра работали на полную мощность и, конечно, собирали влагу, регенерировали ее с помощью ионообмена, а затем, восстановив нужное содержание соли, сливали в специальное хранилище.
— Черт побери, Дик, жди, пока я не скажу, слышишь? — рявкнул Риос.
В его наушниках прогремел голос Свенсона:
— И долго мне тут сидеть?
— Пока не скажу, — огрызнулся Риос.
Он увеличил поле искусственного тяготения и немного приподнял излучатель Потом снял тяготение, предварительно убедившись, что излучатель все равно останется на месте в течение нескольких минут, даже если его не держать. Отодвинув ногой кабель, который уходил за близкий горизонт к невидимому отсюда источнику энергии, он включил излучатель.
Вещество, из которого состоял обломок, закипело под тепловым лучом и стало исчезать. Края огромной выемки — тоже его работа, — расплавляясь, становились все более округлыми.
— Ну, давай! — крикнул Риос.
Свенсон находился в корабле, висевшем почти над головой Риоса.
— Все в порядке? — спросил Свенсон.
— Говорю тебе, давай!
Из переднего сопла корабля вылетела слабая струйка пара. Космолет медленно опускался на обломок. Ещё одна струйка — и боковой дрейф корабля прекратился. Теперь он опускался точно. Третья — из кормы, и его движение стало едва заметным.
Риос напряженно следил за ним.
— Давай, давай! Получается, говорю тебе.
Корма вошла в выемку, почти целиком заполнив отверстие. Раздутое брюхо корабля все больше приближалось к его краям. Раздался скрежет, космолет содрогнулся и замер.
Теперь проклятиями разразился Свенсон.
— Не входит! Риос в ярости отшвырнул излучатель и взмыл вверх.
Излучатель поднял целую тучу белой кристаллической пыли, как и Риос, когда он вернулся, включив поле тяготения.
— Ты криво вошел, тупоголовый наземник!
— Нет, я вошел точно, неумытая ты деревенщина! Обращенные назад боковые сопла корабля выпустили струи пара, и Риос отскочил в сторону.
Космолет, царапая бока, выбрался из ямы и взлетел вверх на полмили, прежде чем заработавшие передние сопла успели его остановить.
— Еще раз, и мы сорвем с обшивки полдюжины плит. Сделай наконец все как надо!
— Я-то сделаю! Не беспокойся! Только ты входи правильно.
Риос подпрыгнул и поднялся метров на триста, чтобы взглянуть на выемку сверху Борозды, оставленные на ее стенках кораблем, отсюда были видны ясно. Больше всего их было в одном месте, примерно на половине ее глубины. Сейчас он это уберет.
Стены начали оплавляться под пламенем излучателя.
Через полчаса корабль аккуратно вошел в выемку, и Свенсон, облачившись в скафандр, присоединился к Риосу.
— Если хочешь, я займусь вмораживанием, а ты иди на корабль и сбрось скафандр, — сказал он.
— Ничего, — ответил Риос, — я лучше посижу здесь и посмотрю на Сатурн.
Он уселся на край выемки. Между ним и корпусом космолета было футов шесть свободного пространства. В других местах зазор составлял примерно два фута, а кое-где — всего несколько дюймов. Лучше вручную и не сделаешь. Теперь оставалось осторожно расплавить лед, чтобы вода замерзла между стенками выемки и корпусом космолета.
Сатурн заметно для глаза перемещался по небу, огромной глыбой медленно уползая за горизонт.
— Сколько еще кораблей осталось встроить? — спросил Риос.
— В последний раз говорили — одиннадцать. У нас готово, значит, только десять. Из тех, что уже встали на место, семь вморожены, а два или три демонтированы.
— Дело идет на лад.
— Работы много, — возразил Свенсон. — Ведь еще надо поставить главные двигатели с другой стороны. А кабели, а силовая проводка? Иногда я начинаю сомневаться, удастся ли нам это. Когда мы летели сюда, меня это как-то мало беспокоило. Но вот сейчас я сидел в рубке и твердил «Не выйдет. Мы так и просидим здесь и умрем с голоду под этим Сатурном». Я чувствую, что просто…
Он так и не объяснил, что именно чувствует. Просто сидел и молчал.
— Уж очень много ты стал задумываться, — заметил Риос.
— Тебе что, — ответил Свенсон. — А я вот все думаю о Пите и о Доре.
— Зачем? Она ведь позволила тебе лететь, верно? Комиссар потолковал с ней о патриотизме и как ты станешь героем и будешь обеспечен на всю жизнь, когда вернешься, и она сказала, что ты можешь лететь. Ты ведь не сбежал тайком, как Адамс.
— Адамс — другое дело. Его жену следовало бы пристрелить, как только она родилась. И могут же некоторые женщины испортить человеку жизнь, а? Она не хотела, чтобы он летел, но, наверное, будет только рада, если он не вернется, а ей назначат за него пенсию.
— Ну так чего же ты хнычешь? Дора ведь ждет твоего возвращения?
Свенсон вздохнул:
— Я всегда вел себя с ней как свинья.
— Ты, по-моему, отдавал ей все жалованье. Я бы не сделал этого ни для одной женщины. Сколько заслужила, столько и получай, и ни цента больше.
— Дело не в деньгах. Я тут начал задумываться. Женщине нужен друг. А малышу нужен отец. И что я тут делаю?
— Делаешь все, чтобы поскорее добраться до дому.
— Эх, ничего ты не понимаешь!
* * *
Тед Лонг бродил по неровной поверхности обломка, и в его душе царил такой же ледяной холодок, как и вокруг него. Там, на Марсе, все казалось абсолютно логичным, но то был Марс. Мысленно он рассчитал все так тщательно, так безукоризненно последовательно. Он и сейчас еще точно помнил ход своих рассуждений.
Для приведения в движение тонны веса корабля совсем не обязательно требовалась именно тонна воды. Тут не масса равнялась массе, а произведение массы на скорость — произведению массы на скорость. Другими словами, все равно, выбросить ли тонну воды со скоростью мили в секунду или сто фунтов воды со скоростью двадцать миль в секунду, — корабль получал одну и ту же конечную скорость.
Это значило, что сопла становились все уже, а температура пара все выше. Но тут появились трудности. Чем уже сопла, тем больше энергии теряется на трение и завихрения. Чем выше температура пара, тем более жароупорным должно быть сопло и тем короче его жизнь. Предел в этом направлении был быстро достигнут.
Затем, поскольку каждое данное количество воды, если пар выбрасывался через узкие сопла, могло привести в движение значительно более тяжелую массу, выгоднее было увеличить это количество. Но с увеличением объема контейнеров увеличивалась и капсула корабля, даже относительно. Поэтому лайнеры становились все вместительнее и тяжелее. Но чем больше контейнер, тем тяжелее его конструкции, тем труднее сварка, сложнее его постройка. В этом направлении предел также был уже достигнут.
И тогда он, как ему казалось, нащупал ошибочную предпосылку: почему-то считалось обязательным, что Горючее должно находиться внутри корабля, что миллионы тонн воды нужно заключать в металл.
Зачем? Ведь вода — это не обязательно вода. Это может быть лед, а ледяной глыбе можно придать любую форму. Во льду можно проплавлять отверстия. В него можно вставить капсулу и двигатели. А тросы могут жестко удерживать вместе капсулу и двигатели в тисках магнитного силового поля.
Поверхность, по которой шел Лонг, ритмично вибрировала. Он находился неподалеку от места работы, где десяток кораблей вгрызался в лед, и обломок содрогался от непрерывных ударов.
Добывать лед не потребовалось — он плавал кусками нужного размера в кольцах Сатурна. Вернее сказать, сами кольца представляли собой вращающиеся вокруг Сатурна глыбы почти чистого льда. Так говорила спектроскопия, так оказалось на самом деле. Сейчас Лонг стоял на одной из этих глыб длиной в две мили с лишком и толщиной почти с милю. Примерно полмиллиарда тонн воды, все в одном куске — и он стоит на нем.
И теперь Лонг лицом к лицу столкнулся с действительностью. Он никогда не говорил товарищам, сколько именно времени, по его мнению, потребуется им, чтобы превратить обломок в космический корабль, но про себя считал, что дня два, не больше. Однако прошла уже неделя, а он даже не осмеливался прикинуть, сколько еще остается. Теперь он даже не был уверен, что их план вообще осуществим. Смогут ли они с достаточной точностью управлять двигателями с помощью кабелей, переброшенных через две мили ледяной поверхности, когда им придется преодолевать мощное притяжение Сатурна? Питьевой воды оставалось мало, но, правда, они всегда могли растопить лед. Однако и продовольствие подходило к концу.
Лонг остановился и внимательно всмотрелся в небо. Действительно ли этот обломок увеличивается? Надо бы измерить расстояние до него. Но сейчас у него просто не хватило духа добавить к остальным неприятностям еще и эту. Мысли его вернулись к более насущным проблемам.
Хорошо хоть, что настроение у всех просто великолепное. По-видимому, его спутники очень рады, что достигли орбиты Сатурна. Ведь они первые люди, забравшиеся так далеко, первые, кто прошел Пояс астероидов, первые, кто невооруженным глазом смог увидеть Юпитер как шар, первые, кто увидел Сатурн — вот таким!
Ему и в голову не приходило, что пятьдесят практичных, прошедших огонь и воду мусорщиков окажутся способными испытывать подобные чувства. Но это было так. И они были горды собой.
Он продолжал идти, и из-за отодвигавшегося горизонта выросли две фигуры около полузарытого космолета. Лонг бодро окликнул их:
— Эй, ребята!
— Это ты, Тед? — ответил Риос.
— Он самый А кто с тобой? Дик?
— Ну да. Иди-ка присядь. Мы как раз готовимся вмораживать корабль и только и думаем, как затянуть время.
— Только не я! — немедленно возразил Свенсон. — Когда мы вылетаем, Тед?
— Как только закончим. Это не ответ, верно?
— Но другого-то ответа и нет, — уныло согласился Свенсон.
Лонг поглядел вверх, на светлое пятно неправильной формы.
Риос проследил его взгляд.
— В чем дело?
Лонг промолчал. Небо было черное, и обломки кольца казались на его фоне оранжевой пылью. Сатурн больше чем на три четверти ушел за горизонт, а с ним и кольца. В полумиле от них из-за ледяного края их обломка в небо стремительно выскочил корабль, блеснул в оранжевом свете Сатурна и тут же исчез. Лед под их ногами задрожал.
— Что-нибудь неладно с Призраком? — спросил Риос. Так они называли ближайший к ним обломок. Он был совсем близко, если учесть, что они находились у внешнего края колец, где обломки были разбросаны относительно редко. От Призрака их отделяло миль двадцать. Это была четко рисовавшаяся в небе зубчатая глыба.
— Вы ничего не замечаете? Риос пожал плечами:
— Не вижу ничего особенного. Все нормально.
— Вам не кажется, что он увеличивается?
— С чего бы это?
— А все-таки? — настаивал Лонг.
Риос и Свенсон внимательно посмотрели на Призрак.
— Пожалуй, он действительно стал больше, — сказал Свенсон.
— Ты нам это внушил, — возразил Риос. — Ведь если он становится больше, значит, он приближается сюда.
— Но ведь это же вполне возможно.
— Нет, потому что у этих обломков стабильные орбиты.
— Были, когда мы только прилетели сюда, — сказал Лонг. — Вот, чувствуете?
Лед под ними снова задрожал.
— Мы долбим наш обломок уже неделю. Сначала на него сели двадцать пять кораблей, что сразу изменило его скорость. Чуть-чуть, разумеется, но изменило. Потом мы расплавляли лед, наши корабли садились и взлетали — и все это к тому же на одном конце обломка. За неделю мы вполне могли немного изменить его орбиту. Два обломка, наш и Призрак, возможно, начали сближаться.
— Ну, пока еще ему хватит места проскочить мимо, — сказал Риос, посмотрев вверх. — К тому же раз мы не можем даже сказать с уверенностью, что он увеличивается, то какая же у него может быть скорость? Относительно нас, конечно.
— Ему и не надо иметь большую скорость. Его масса не меньше нашей, и, как бы слабо мы ни столкнулись, он собьет нас с орбиты, возможно, в сторону Сатурна. А это нам вовсе ни к чему. К тому же у льда очень низкая прочность на разрыв и оба обломка могут разлететься в пыль.
Свенсон встал.
— Черт возьми, уж если я могу точно определить, как движется сброшенный контейнер в тысяче миль от меня, то и подавно могу узнать, как ведет себя эта гора всего в двадцати милях отсюда.
Он направился к кораблю. Лонг его не остановил.
— Нервничает парень, — заметил Риос.
Призрак поднялся к зениту, прошел над ними и начал заходить. Через двадцать минут горизонт напротив того места, где исчез Сатурн, загорелся оранжевым заревом — там восходил Призрак.
Риос окликнул по радио:
— Эй, Дик, ты еще жив?
— Проверяю, — донесся глухой ответ.
— Движется? — спросил Лонг. — Да.
— К нам?
Наступило молчание. Потом раздался испуганный голос Свенсона:
— Прямо в лоб, Тед. Орбиты пересекутся через три дня.
— Да ты рехнулся! — крикнул Риос.
— Проверял четыре раза, — сказал Свенсон.
«Что же теперь делать?» — растерянно подумал Лонг.
* * *
Часть команды мучилась с кабелями. Их необходимо было проложить идеально точно, чтобы магнитное поле достигло максимальной мощности. В космосе и даже в воздухе это не имело бы значения. Кабели сами расположились бы как надо, как только по ним пошел бы ток. Здесь было иначе. По поверхности обломка прокладывались канавки, в которые предстояло уложить кабель. Если бы при этом была допущена ошибка всего в несколько минут от расчетного направления, возникло бы скручивающее усилие, приложенное ко всему обломку, что привело бы к неизбежной потере драгоценной энергии. Тогда пришлось бы заново прокладывать канавки, переносить кабели и снова вмораживать их.
Усталые люди занимались этой однообразной работой, когда вдруг услышали:
— Все на монтаж двигателей!
Не следует забывать, что мусорщики отнюдь не принадлежат к людям, которым по вкусу дисциплина. Приказ был встречен громким ворчанием и руганью: ведь предстояло демонтировать оставшиеся двигатели, перенести их на другой конец обломка, впаять в лед в нужных местах и протянуть по поверхности тросы и кабели.
Так что прошли почти сутки, прежде чем кто-то, глянув на небо, произнес: «Ух ты!» — и еще одно словечко, не подходящее для печати.
Его сосед посмотрел туда же и ахнул:
— Будь я проклят!
Вслед за ними в небо уставились и все остальные. Такого поразительного зрелища им еще не приходилось видеть!
— Взгляните-ка на Призрак!
Он разрастался по всему небу, как гнойная язва. Все с удивлением обнаружили, что он стал вдвое больше прежнего, и не могли понять, каким образом никто не заметил этого раньше.
Работа была брошена. Все столпились вокруг Теда Лонга. Он сказал:
— Улететь мы не можем. У нас нет горючего, чтобы вернуться на Марс, и нет снаряжения, чтобы захватить другой обломок. Значит, нам придется остаться тут. Призрак приближается к нам, так как взрывные работы изменили нашу орбиту. Мы можем вновь изменить орбиту, продолжая взрывы. Но тут взрывать больше нельзя — это опасно для корабля, который мы строим. Давайте попробуем с другой стороны.
Они взялись за дело с бешеной энергией. Их пыл подогревался каждые полчаса, когда Призрак вырастал на горизонте, все более огромный и грозный.
Лонг отнюдь не был уверен, что у них что-нибудь выйдет. Даже если реактивные двигатели не откажут при дистанционном управлении, даже если наладится подача воды — а для этого резервуар необходимо было встроить прямо в ледяные недра обломка, установить там излучатели, которые испаряли бы движущуюся жидкость, направляя ее в камеры истечения, — все равно не было никакой уверенности, что обломок, не скрепленный магнитными тросами, не рассыплется под воздействием разрушительных напряжений огромной силы.
— Готово! — услышал Лонг по радио.
— Готово! — повторил Лонг и включил контакт.
Он почувствовал, как все вокруг заколебалось. Россыпь звезд на экране, настроенном на дальний конец обломка, задрожала, и вдали возник пенный хвост стремительно несущихся ледяных кристаллов.
— Работают! — послышался крик. Выключить двигатели Лонг не осмеливался.
Целых шесть часов они извергали кипящие струи, обращая в пар и выбрасывая в пространство лед, в который были встроены.
Призрак приблизился настолько, что все бросили работу, как завороженные глядя на гору, занявшую все небо, — более эффектную, чем даже сам Сатурн. Каждая выбоина и трещина на поверхности Призрака была видна совершенно четко. Но, когда он пересек орбиту их обломка, тот уже успел проскочить на полмили вперед.
Лонг сгорбился в кресле и прикрыл глаза рукой. Он не ел уже двое суток. Впрочем, сейчас он мог бы и поесть. Все остальные обломки кольца были так далеко, что не могли доставить им новых неприятностей, даже если бы какой-нибудь из них и начал к ним приближаться.
А снаружи Свенсон говорил:
— Все время, пока я следил, как эта проклятая скала наваливается на нас, я твердил про себя: «Этого не случится. Мы этого не допустим».
— Черт побери, — сказал Риос. — Мы все понервничали. Ты видел Джима Дэвиса? Он прямо позеленел. Да и мне было не по себе.
— Дело не в том. Смерть… это само собой. Но я все время вспоминал — знаю, что это смешно, но ничего не могу поделать, — все время вспоминал, как Дора сказала, что, если я наконец допрыгаюсь и погибну, она мне это припомнит. Глупо — в такую минуту, а?
— Послушай, — сказал Риос, — ты хотел жениться, и ты женился Ну так не ищи у меня сочувствия.
* * *
Слитая в единое целое флотилия возвращалась, преодолевая необозримо громадное пространство, отделявшее Сатурн от Марса. Каждый день она покрывала расстояние, на которое по пути сюда требовалось девять дней. Лонг объявил аврал. Синхронизация работы двигателей двадцати пяти кораблей, встроенных в кусок льда из колец Сатурна и лишенных возможности двигаться и маневрировать самостоятельно, была невероятно трудной задачей.
И в первый же день полета начались беспорядочные рывки, которые чуть не вытрясли из них душу. Впрочем, стремительное возрастание скорости положило конец этой тряске. К концу второго дня они перевалили за отметку 100 000 миль в час, но стрелка продолжала упорно двигаться, достигла отметки «1 000 000» и преодолела ее.
Корабль Лонга служил носом ледяного сооружения, и только с него было возможно вести наблюдение во всех направлениях. Лонг ловил себя на том, что напряженно наблюдает за космосом, почему-то ожидая, что звезды вот-вот начнут скользить назад и замелькают по бокам их составного корабля — так колоссальна была их скорость.
Но этого, конечно, не случилось. Звезды оставались пригвожденными к черному занавесу космоса, недвижно взирая на людей с таких расстояний, которые сводили на нет любую скорость, какой только мог добиться человек.
Через несколько дней начались жалобы. Дело было не только в том, что команда лишилась возможности парить в космосе. Всех измучила сила тяжести, намного превышавшая обычное искусственное поле тяготения кораблей, — это был результат свирепого ускорения, которому они подверглись. Лонг, неумолимой силой прижатый к гидравлической прокладке кресла, и сам чувствовал смертельную усталость.
Пришлось каждые три часа выключать на час двигатели, и Лонга это сердило.
Ведь с того дня когда он в последний раз видел в иллюминаторе своего (тогда еще самостоятельного) корабля медленно исчезающий Марс, прошло уже больше года.
Что случилось за это время? Существует ли еще колония?
Тревожась все больше и больше, Лонг ежедневно, используя объединенную энергию всех кораблей, посылал к Марсу радиосигналы. Ответа не было. Да он его и не ждал. Марс и Сатурн сейчас находились по разные стороны от Солнца, и помехи были слишком велики: оставалось ждать того дня, когда корабли поднимутся над эклиптикой достаточно высоко.
За внешним краем Пояса астероидов они достигли максимальной скорости. Короткие струи из одного бокового двигателя, потом из другого повернули огромный корабль кормой вперед. Вновь мощно взревел составной задний двигатель, но теперь он уже тормозил их движение. Они прошли в ста миллионах миль от Солнца и по кривой направились к Марсу.
В неделе пути от Марса впервые были услышаны ответные сигналы — отрывочные, еле слышные и неразборчивые. Но они доносились с Марса! Земля и Венера находились в другом направлении, так что сомневаться не приходилось.
Лонг немного успокоился. Во всяком случае, на Марсе все еще есть люди.
В двух днях пути от Марса сигналы стали сильными и отчетливыми. Их вызывал Сэнков.
Сэнков сказал:
— Здравствуй, сынок. У нас сейчас три часа утра. Никакого уважения к старику — вытащили меня прямо из постели…
— Мне очень жаль, сэр…
— И зря! Я сам так велел. Я боюсь спрашивать, сынок. Есть раненые? Может быть, кто-нибудь погиб?
— Погибших нет, сэр. Ни единого.
— А… а как с водой? Что-нибудь осталось?
Лонг, пытаясь придать голосу оттенок безразличия, ответил:
— Хватит.
— В таком случае возвращайтесь домой как можно скорее. Разумеется, без лишнего риска.
— Значит, дело плохо?
— Да так себе. Когда вы достигнете Марса?
— Через два дня. Столько вы продержитесь?
— Продержусь.
Сорок часов спустя Марс вырос в ярко-оранжевый шар, заполнивший все иллюминаторы, и ледяной корабль вышел на последнюю спираль перед посадкой. «Спокойно, — твердил про себя Лонг, — спокойно!» Даже разреженная атмосфера Марса могла стать для них крайне опасной, если бы они вошли в нее на слишком большой скорости.
Сначала под ними пронеслась одна белая полярная шапка, затем другая, поменьше, летнего полушария, снова большая, опять меньшая — промежутки все увеличивались.
Планета приближалась. Вскоре уже стали отчетливо видны отдельные черты ландшафта.
— Приготовиться к посадке! — скомандовал Лонг.
* * *
Сэнков старался сохранить невозмутимый вид, что было нелегко: все-таки экспедиция едва не опоздала. Впрочем, теперь все устроилось наилучшим образом.
Всего несколько дней назад он не был даже уверен, что они живы. Казалось вероятным, даже почти неизбежным, что где-то в непроторенных пространствах между Марсом и Сатурном носятся их замерзшие трупы — новые небесные тела, которые когда-то были живыми существами.
Последние месяцы он всячески торговался с комиссией по мелочам. Им нужна была его подпись для соблюдения законности. Однако Сэнков понимал, что откажи он им наотрез, и они будут действовать односторонне, махнув рукой на формальности. Победа Хильдера на выборах казалась несомненной, и его сторонники могли даже пойти на риск вызвать сочувствие к Марсу. Поэтому Сэнков всячески затягивал переговоры, давая комиссии основание полагать, что он вот-вот капитулирует.
Но после разговора с Лонгом Сэнков тут же согласился на все условия.
В тот же день, несколько часов спустя, перед ним уже лежали документы, и он, поглядывая на журналистов, обратился к комиссии с последним заявлением. Он говорил:
— Общий импорт воды с Земли составляет двадцать миллионов тонн в год. Он сокращается, по мере того как мы совершенствуем собственную водопроводную систему. Если я подпишу, дав тем самым согласие на эмбарго, наша промышленность будет парализована, исчезнет всякая возможность дальнейшего ее развития. Не может быть, чтобы это входило в намерения Земли. Не так ли?
Он посмотрел на членов комиссии, но их взгляд не смягчился. Дигби давно вывели из комиссии, а все остальные не симпатизировали Марсу.
Председатель комиссии раздраженно заметил:
— Вы все это уже говорили.
— Знаю, но раз я готов подписать, то хочу, чтобы все было ясно. Так, значит, Земля твердо решила покончить с нами?
— Конечно, нет. Земля заинтересована лишь в сохранении своих невозобновимых ресурсов, только и всего.
— На Земле полтора квинтильона тонн воды.
— Мы не можем поделиться своей водой, — отрезал председатель комиссии.
И Сэнков подписал.
Именно такие заключительные слова и были ему нужны. Земля имеет полтора квинтильона тонн воды и не может ею поделиться.
И вот сейчас, полтора года спустя, члены комиссии и журналисты ждали в куполе космопорта. За толстыми выгнутыми стенками виднелась голая, пустынная территория марсианского космодрома.
Председатель комиссии спросил с досадой:
— Долго ли еще ждать? И позвольте наконец узнать, чего мы ждем.
— Кое-кто из наших ребят побывал в космосе, — ответил Сэнков, — за астероидами.
Председатель комиссии снял очки и протер их белоснежным платком.
— И они возвращаются? — Да.
Председатель пожал плечами и, повернувшись к репортерам, выразительно поднял брови.
У другого окна в соседнем помещении тесной кучкой стояли женщины и дети. Сэнков повернулся и взглянул на них. Он предпочел бы быть вместе с ними, разделять их волнение и ожидание. Как и они, он ждал больше года. Как и они, он снова и снова думал, что те, кого они ждали, погибли.
— Видите? — сказал Сэнков, указывая в окно.
— Эге! — воскликнул какой-то журналист. — Да это корабль!
Из соседней комнаты донеслись возбужденные крики.
Это был еще не корабль, а яркая точка, светившаяся сквозь зыбкое белое облачко. Облачко росло. Оно простерлось по небу двойной полосой, нижние концы которой расходились в стороны и загибались вверх. Облачко приблизилось, и яркая точка на его верхнем конце превратилась в подобие цилиндра. Поверхность цилиндра была неровной и скалистой, а там, где на нее падал солнечный свет, она отбрасывала ослепительные блики.
Цилиндр снижался с тяжеловесной медлительностью космолета. Он повис на мгновение, покоясь на многотонной отдаче отбрасываемых струй пара, как усталый человек в кресле.
В куполе воцарилась тишина. Женщины и дети в одной комнате, члены комиссии и журналисты в другой, окаменев, не веря своим глазам, смотрели вверх. Посадочные ноги цилиндра под нижними соплами коснулись поверхности, погрузились в зыбучую гальку, и корабль застыл неподвижно. Рев двигателей смолк.
В куполе по-прежнему стояла тишина.
С огромного корабля спускались люди — им предстояло карабкаться вниз мили две в ботинках с шипами и с ледорубами в руках. На фоне слепящей поверхности они казались муравьями.
— Что это? — сорвавшимся голосом спросил один из журналистов.
— Это, — спокойно ответил Сэнков, — глыба вещества, которая вращалась вокруг Сатурна в составе его колец. Наши ребята снабдили ее капсулой и двигателями и доставили на Марс. Видите ли, кольца Сатурна состоят из огромных глыб чистого льда.
И в мертвой тишине он продолжал:
— Эта глыба, похожая на корабль, — всего лишь гора твердой воды. Если бы она стояла вот так на Земле, она растаяла бы, а может быть, рассыпалась бы под действием собственной тяжести. На Марсе холоднее, а сила тяжести меньше, поэтому тут ей это не грозит. Разумеется, когда мы как следует наладим дело, мы заведем водные станции и на лунах Сатурна и Юпитера, и на астероидах. Мы будем собирать такие кусочки в кольцах Сатурна и отправлять на эти станции. Наши мусорщики это хорошо умеют. У нас будет столько воды, сколько понадобится. Объем глыбы, которую вы видите, чуть меньше кубической мили — примерно столько же Земля послала бы нам за двести лет. Ребята истратили довольно много воды, возвращаясь с Сатурна. По их словам, на весь путь понадобилось пять недель и они израсходовали около ста миллионов тонн воды. Но в этой горе даже щербинки не видно. Вы записываете?
Он повернулся к репортерам. О да, они записывали.
— И вот еще что. Земля опасается, что ее водные запасы истощаются. Она располагает всего-навсего какими-нибудь полутора квинтильонами тонн воды. Она не может уделить нам из них ни одной тонны. Так запишите, что мы, жители Марса, опасаемся за судьбу Земли и не хотим, чтобы с ее обитателями случилась беда. Запишите, что мы будем продавать воду Земле по миллиону тонн за умеренную плату. Запишите, что через десять лет мы рассчитываем продавать воду кубическими милями. Запишите, что Земля может не волноваться: Марс продаст Земле столько воды, сколько ей понадобится.
Председатель комиссии уже ничего не слышал. Он чувствовал, как на него обрушивается будущее. Как в тумане, он видел, что репортеры усмехаются, продолжая бешено строчить.
Усмехаются!
Он знал, что на Земле эта усмешка превратится в громовой хохот, едва там узнают, как Марс побил антирасточителей их же собственным оружием. Он слышал, как разражаются хохотом целые континенты, когда до них доходит известие об этом позорном фиаско. И еще он видел пропасть — глубокую и черную, как космос, пропасть, куда навсегда проваливаются все политические надежды Джона Хильдера и любого из оставшихся на Земле противников космических полетов, включая, конечно, и его самого.
В соседней комнате плакала от радости Дора, а Питер, успевший подрасти дюйма на два, прыгал и кричал:
— Папа! Папа!
Ричард Свенсон только что ступил на землю и зашагал к куполу. Его лицо было хорошо видно сквозь прозрачный силикон гермошлема.
— Ты когда-нибудь видел, чтобы человек выглядел таким счастливым? — спросил Тед Лонг. — Может, в этой семейной жизни и на самом деле что-то есть?
— Брось! Просто ты слишком долго был в космосе, — ответил Риос.
Глубина
Рано или поздно, но любая планета умирает. Смерть ее может оказаться быстрой, если греющая планету звезда взрывается. Или медленной, если звезда угасает постепенно, и тогда океаны сковывает лед. В последнем случае разумная жизнь имеет хотя бы шанс на выживание.
Выжить можно по-разному. Можно отправиться в космос и перебраться на другую планету, поближе к остывающему солнцу, или на планету возле другой звезды. Этот путь оказывается закрыт, если в системе нет иной крупной планеты или же если в пределах пятисот световых лет нет другой звезды.
Можно поступить иначе — углубиться в кору планеты. Это доступно всегда. Под землей строят жилища, а энергию черпают из тепла планетного ядра. Для осуществления задачи могут потребоваться тысячи лет, но умирающее солнце остывает медленно.
Но со временем слабеет и поток внутреннего тепла. Планета остывает снаружи, и приходится зарываться все глубже и глубже.
Такое время настало.
На поверхности дул слабый неоновый ветерок, едва морща гладь натекших в низины лужиц жидкого кислорода. Иногда, во время долгого дня, покрывшаяся коркой звезда ненадолго вспыхивала тускло-красным сиянием, и тогда кислородные лужи пузырились.
Во время долгих ночей их гладь затягивал голубовато-белый кислородный ледок, а голые скалы серебрил неоновый иней.
В восьми сотнях миль под поверхностью сохранился последний пузырек тепла и жизни.
* * *
Венду связывали с Рои узы, теснее которых не бывает. Гораздо более тесные, чем ей следовало бы знать.
В оварий ей позволили войти один-единственный раз и весьма ясно дали понять, что первый раз так и останется последним Расолог сказал ей:
— Ты не вполне отвечаешь стандартам, Венда, но ты не бесплодна, и мы попробуем тебя один раз. Может получиться.
Ей хотелось, чтобы все получилось. Отчаянно хотелось. Она еще в ранней молодости узнала, что не блещет умом и ей никогда не подняться выше простой работницы. Ее выводила из себя мысль о том, что она подводит собственную расу, и поэтому она страстно желала получить хотя бы один шанс помочь в создании другого существа. Это желание превратилось для нее в навязчивую идею.
Она отложила яйцо в ячейку инкубатора, а через некоторое время вернулась посмотреть. Ей повезло — устройство, аккуратно перемешивающее яйца во время механического оплодотворения (чтобы обеспечить равномерное распределение генов), не повредило ее яйцо.
Венда терпеливо просидела возле инкубатора, наблюдая за созреванием своего яйца, вгляделась в появившегося из него малыша, запомнила отметинки на его тельце.
Малыш оказался здоровым, хорошо рос, и расолог его одобрил. Как-то, придя в очередной раз в инкубатор, Венда как можно небрежнее спросила:
— Посмотрите-ка на того. Он не болен?
— Кто? — встревожился расолог. Наличие больных малышей такого возраста сильно подорвало бы его репутацию специалиста. — Ты говоришь о Рои? Ерунда. Хотелось бы мне, чтобы все малыши появлялись на свет такими здоровенькими.
Поначалу Венда была лишь довольна собой, потом ее одолел страх, а позднее — и ужас. Она поймала себя на том, что повсюду следует за малышом, интересуется его успехами в учебе, подглядывает, как он играет. Рядом с ним она была счастливой, без него — скучной и унылой О подобном ей не доводилось слышать, и ей стало стыдно.
Ей следовало бы сходить к менталисту, но она была не настолько тупа и понимала, что у нее не легкое отклонение от нормы, которое лечат, воздействуя на клетки мозга, а настоящая психическая болезнь. В этом она не сомневалась. Не исключено, что ее подвергнут эвтаназии, сочтя ее существование бесполезным расходом драгоценной энергии И не только ее, а, возможно, и появившегося из ее яйца малыша — если опознают.
Долгие годы она боролась со своей ненормальностью и до какой-то степени небезуспешно. А потом услышала новость о том, что Рои избран участником длительной экспедиции, и это известие наполнило ее мучительной жалостью к своему отпрыску.
Она пришла следом за ним в один из пустых коридоров пещеры в нескольких милях от центра города Единственного города на планете.
Венда помнила, как закрывали эту пещеру. Старейшины обошли ее и прилегающие коридоры, оценили население и количество потребляемой энергии и решили затемнить. Немногочисленное население переселили ближе к центру, а квоту на очередное посещение овария урезали.
Венда обнаружила, что разговорный уровень Рои весьма неглубок, словно большинство его мыслей сосредоточено в глубине сознания.
— Ты боишься? — мысленно спросила она.
— Потому что пришел сюда подумать? — Он немного помедлил с ответом. — Да, боюсь. Для нашего народа это последний шанс. Если у меня не получится…
— Ты боишься за себя?
Он взглянул на нее с удивлением, и мысленный поток Венды всколыхнулся от стыда за ее непорядочность.
— Жаль, что я не могу отправиться вместо тебя, — сказала она.
— Думаешь, что сумеешь справиться лучше?
— О нет. Но если не получится у меня и я… не вернусь, то это станет меньшей потерей для нашего народа.
— Ты или я, — бесстрастно произнес он, — потеря в любом случае окажется одинаковой. Наша раса перестанет существовать.
Если Венда и помнила в тот момент о существовании расы, то мысли об этом бродили где-то в глубине ее сознания. Она вздохнула.
— Экспедиция будет такой долгой.
— А ты знаешь, насколько долгой? — улыбнулся он. Она молчала, не желая показаться ему глупой. Потом робко произнесла:
— Говорят, что на Первый уровень.
Когда Венда была маленькой и обогреваемые коридоры простирались гораздо дальше от города, чем сейчас, она часто бродила по ним из свойственного молодости любопытства. Однажды, забредя настолько далеко, что застоявшийся в коридоре ледяной воздух начал покусывать кожу, она вошла в зал, ведущий наверх. Но выход закрывала огромная, наглухо приваренная пробка.
По ту сторону пробки и выше, как узнала она много лет спустя, находился Семьдесят девятый уровень, еще выше Семьдесят восьмой, и так далее.
— Мы отправляемся еще выше Первого уровня, Венда.
— Но выше его ничего нет.
— Правильно. Ничего. Там кончается твердое вещество планеты.
— Но как там может оказаться что-то, кроме пустоты? Ты не про воздух говоришь?
— Нет, не про воздух, а про ничто. Вакуум. Ты ведь знаешь, что это такое?
— Да. Но когда создают вакуум, воздух откачивают, а сосуд закупоривают.
— Неплохие знания для обслуги. Так вот, за пределами Первого уровня — только невероятный объем вакуума. Он тянется бесконечно во всех направлениях.
Некоторое время Венда размышляла, потом спросила:
— А там кто-нибудь бывал?
— Нет, конечно. Но остались записи.
— Может, записи неправильные?
— Такого не может быть. Знаешь, какое пространство мне придется пересечь?
Поток мыслей Венды всколыхнулся изумленным отрицанием.
— Полагаю, ты знаешь о скорости света?
— Конечно, — с готовностью подтвердила она. Об этой универсальной константе знали даже младенцы. — Тысяча девятьсот сорок четыре длины пещеры туда и обратно за секунду.
— Правильно. Но свету, чтобы пролететь расстояние, которое мне предстоит преодолеть, потребуется десять лет.
— Ты смеешься надо мной. Или хочешь меня напугать. — Зачем мне тебя пугать? — Рои встал. — Но я и так здесь болтаюсь слишком долго…
На мгновение одна из его шести хватательных конечностей легко коснулась конечности Венды в жесте понимания и дружбы. Поддавшись неосознанному порыву, она крепко сжала ее, чтобы Рои не уходил.
Венду на секунду затопил ужас — а вдруг он заглянет поглубже в ее сознание, минуя разговорный уровень? Тогда его охватит отвращение, он никогда больше с ней не заговорит, а может быть, и сообщит куда надо, чтобы ей вправили мозги. Но вскоре она успокоилась. Ведь Рои нормальный, а не больной, как она. Он никогда не поддастся искушению, и ему даже в голову не придет проникать в сознание друга глубже разговорного уровня.
Он пошел, а она смотрела ему вслед и любовалась его красотой. Какие у него прямые и сильные хватательные конечности. Как цепки его многочисленные манипуляторные вибриссы. А таких красивых переливов оптических пятнышек она ни у кого за всю жизнь не видела.
* * *
Лаура уселась на свое место. Какими мягкими и удобными стали делать сиденья! И вообще, насколько уютны самолеты внутри — совсем не похожи на те жесткие, серебристые и не предназначенные для людей конструкции, какими они представляются снаружи.
Плетеная колыбелька стояла на соседнем кресле. Она заглянула в щелочку между одеяльцем и полукруглой крышечкой. Уолтер спал. Безмятежное пухлое младенческое личико с полукружиями век, осененных пушистыми ресницами.
Прядка светло-каштановых волос свесилась ему на лоб, и Лаура, затаив дыхание, осторожно заправила ее под чепчик.
Приближалось время очередного кормления, и мать надеялась, что ребенок еще слишком мал и непривычность обстановки его не встревожит. Стюардесса оказалась очень добра и приветлива и даже поставила его бутылочки в холодильник. Подумать только — холодильник в самолете!
Люди, сидящие по другую сторону прохода, поглядывали на Лауру с особым выражением, ясно показывающим, что они охотно заговорили бы с ней, отыскав подходящий предлог. Такой момент настал, когда она вынула Уолтера из колыбельки и уложила на колени розовое тельце, закутанное в белые пеленки.
Когда люди незнакомы, младенец всегда уважительный повод начать разговор. Сидящая напротив дама (как нетрудно было предсказать) сказала:
— Какой чудесный ребенок. Сколько ему уже, милая?
— На следующей неделе исполнится четыре месяца, — ответила Лаура, правда, несколько невнятно (зажав губами булавки, она расстелила на коленях одеяльце и меняла Уолтеру пеленки). Уолтер смотрел на любопытную даму и глуповато улыбался, демонстрируя влажные беззубые десны. (Ему всегда нравилось, когда меняли пеленки.)
— Посмотри, как он улыбается, Джордж, — сказала дама. Ее муж улыбнулся в ответ и пошевелил толстыми пальцами.
— Гу-у-у, — сказал он. Уолтер пискляво рассмеялся.
— Как его зовут, милочка? — спросила дама.
— Уолтер Майкл, — ответила Лаура, потом добавила: — В честь отца.
Вскоре все мешавшие разговору барьеры рухнули. Лаура узнала, что супругов зовут Джордж и Элеонора Эллис, что они возвращаются из отпуска, у них трое детей — две девочки и мальчик, уже взрослые. Обе дочери замужем, и одна даже подарила им двух внуков.
Лаура слушала их, изобразив на лице интерес. Муж всегда говорил ей, что его привлекло именно ее умение слушать других.
Уолтер заерзал, и Лаура освободила ему ручки, чтобы он смог потратить часть энергии на движение.
— Вы не подогреете его бутылочку? — спросила она стюардессу.
Угодив под град строгих, но сочувственных вопросов, Лаура рассказала, сколько раз в день малышу нравится есть, какой именно смесью она его кормит и не появляется ли у него на ножках сыпь от мокрых пеленок.
— Надеюсь, у него сегодня не расстроится желудочек, — взволнованно добавила она. — Сами знаете — самолет качает…
— Господи, — отозвалась миссис Эллис, — да он еще слишком маленький, чтобы такое замечать. К тому же нынешние большие самолеты просто замечательны. Мне даже не верится, что мы в воздухе, пока я не выгляну в окошко. Да и тебе, Джордж, правда?
Однако мистер Эллис, человек прямой и откровенный, сурово произнес:
— Признаться, я удивлен, что вы взяли такого маленького ребенка в полет.
Его жена повернулась к нему и нахмурилась.
Лаура прижала Уолтера к плечу и нежно похлопала ладонью. Начавший было похныкивать малыш тут же смолк, запустив пальчики в гладкие светлые волосы матери. Вскоре он уже теребил свисающую на шею прядку.
— Я везу его к отцу, — пояснила Лаура. — Уолтер еще не видел сына.
Мистер Эллис возмущенно покраснел и едва не разразился гневным комментарием, но миссис Эллис быстро вставила:
— Полагаю, ваш муж служит?
— Да, служит.
(Мистер Эллис открыл рот в беззвучном «О!» и смущенно смолк.)
— Его часть расположена неподалеку от Давао, он должен встретить меня в Николс-Филде.
Пока стюардесса грела бутылочку, Лаура успела рассказать, что ее муж — старший сержант в интендантской части, что в армии он уже четыре года, а женаты они два года, что мужа скоро демобилизуют и они перед возвращением в Сан-Франциско проведут здесь же долгий медовый месяц.
Тут подошла стюардесса. Лаура уложила Уолтера на согнутую левую руку и поднесла к его губам бутылочку. Десны малыша тут же сдавили соску, в молоке забулькали пузырьки. Ручки малыша хватались за теплое стекло, а голубые глазки внимательно смотрели на мать.
Лаура слегка прижала к себе Уолтера и подумала, что сколько бы трудностей и хлопот ни причиняли дети, все равно нет ничего чудеснее собственного малыша.
* * *
Теория, думал Ган, всегда теория. Те, кто миллион лет назад жил на поверхности, могли видеть Вселенную, могли ощущать ее непосредственно. А сейчас, когда над нашими головами восемьсот миль камня, Раса может лишь строить предположения, основываясь на показаниях подрагивающих стрелок приборов.
Лишь теоретически считается, что клетки мозга, кроме обычного электрического потенциала, излучают и энергию совершенно другого вида. Энергию, которая по своей природе не электромагнитная и потому не привязана намертво к черепашьей скорости света. Энергию, связанную лишь с высшими функциями мозга и потому характерную только для разумных существ.
Только подрагивающая стрелка показывала, что такая энергия просачивается в их пещеру, а другие стрелки указали на ее источник, находящийся на расстоянии десяти световых лет. Должно быть, как минимум одна звезда приблизилась к их планете с той поры, когда жившие на поверхности определили, что до ближайшей звезды пятьсот световых лет. Или же ошибочна теория?
— Ты боишься? — Ган без предупреждения ворвался на его разговорный уровень и резко нарушил течение и без того встревоженных мыслей Рои.
— Это великая ответственность, — ответил тот.
Вот уже и другие заговорили об ответственности, подумал Ган. Многие поколения очередной Главный Техник, сменяя прежнего, трудился над созданием Резонатора и Приемной Станции. Гану же выпало поставить в этой работе точку. Что могли другие знать об ответственности?
— Да, великая, — подтвердил Ган. — Мы многословно рассуждали о гибели Расы, всегда предполагая, что такое может случиться когда-нибудь в будущем, но не в наше время. Но это время пришло, понимаешь? Пришло. То, что мы сегодня сделаем, поглотит две трети всего нашего запаса энергии. На повторную попытку ее уже не останется. Ее не хватит даже нынешнему поколению — прожить отпущенный срок. Но если ты выполнишь все указания, это уже не будет иметь значения. Мы подумали обо всем. Жизни целых поколений ушли на то, чтобы продумать все до мелочей.
— Я выполню все, что мне скажут.
— Твое мысленное поле будет сравниваться с полем, приходящим к нам из космоса. У каждой личности свое, неповторимое мысленное поле, и обычно вероятность совпадения двух полей очень мала. Но космическое поле суммирует в себе миллиарды индивидуальных полей. Весьма вероятно, что твое поле совпадет с одним из них, и в этом случае установится резонанс — до тех пор, пока будет работать Резонатор. Известны ли тебе принципы его работы?
— Да, старший.
— Тогда ты знаешь, что на время резонанса твой разум окажется на Планете X в мозгу существа, чье поле идентично твоему. Этот процесс почти не требует расхода энергии. В резонанс с твоим разумом мы настроим и массу Приемной Станции. Методика пересылки массы подобным способом была последней из стоявших перед нами проблем. Мы решили и ее. Но сама пересылка потребует столько энергии, сколько Раса обычно расходует за сто лет.
Ган взял черный куб Приемной Станции и угрюмо на него посмотрел. Три поколения назад считалось невозможным изготовить этот прибор со всеми нужными свойствами, уместив всю его начинку в объем менее двадцати кубических метров. Сумели-таки… Вот он — куб размером с его кулак.
— Мысленное поле клеток разумного мозга может иметь лишь одну, четко определенную структуру, — продолжил он. — Все живые существа, на какой бы планете они ни развились, должны иметь белковую основу тел и кислородно-водную биохимию Если они живут в своем мире, то и мы сможем в нем жить.
Теория, подумал Ган, перейдя на более глубокий уровень мышления. Опять теория.
— Но это вовсе не означает, — предупредил он, — что тело, в котором ты очутишься, его мозг и эмоции не окажутся для тебя совершенно чужими. Поэтому мы предусмотрели три метода активации Приемной Станции. Если ты станешь существом с сильными конечностями, тебе следует надавить на любую из граней куба с силой пятьсот фунтов. Если же твои конечности окажутся слабыми, тебе достаточно будет нажать на кнопку, до которой ты сможешь дотянуться через единственное отверстие в кубе. А если у тебя вовсе не окажется конечностей, если твое будущее тело окажется парализовано или по какой угодно причине беспомощно, то ты сможешь активировать Станцию энергией мысли. Едва Станция будет активирована, мы получим две разнесенные в пространстве точки, а не одну, как сейчас, и Раса сможет переместиться на Планету X с помощью обычной телепортации.
— Но это означает, что мы воспользуемся электромагнитной энергией, — сказал Рои.
— И что же?
— Перемещение продлится десять лет.
— Мы не ощутим его длительности.
— Я это понимаю, но в таком случае Станция на десять лет останется на Планете X. А если она за это время окажется уничтоженной?
— Мы подумали и об этом. Мы обо всем подумали. Едва включившись, Станция начнет генерировать поле парамассы и перемещаться в направлении гравитационного притяжения, проходя сквозь обычную материю до тех пор, пока не достигнет вещества с плотностью достаточно высокой, чтобы ее затормозить. Для этого хватит нескольких метров скальной породы Менее плотное вещество ее не остановит. Станция останется в нескольких метрах под землей все десять лет, затем противоположно направленное поле вытолкнет ее на поверхность, где мы и появимся один за другим.
— В таком случае почему бы не сделать активацию Станции автоматической? В нее уже встроено столько автоматики…
— В отличие от нас ты не обдумал проблему достаточно тщательно, Рои Не всякое место на поверхности Планеты X может оказаться подходящим. Если ее обитатели — могучие и развитые существа, то тебе придется самому отыскать укромное место для Станции. Не годится, если она возникнет где-нибудь на площади посреди города. К тому же тебе нужно будет убедиться, что Станции не угрожают любые прочие опасности.
— Какие?
— Не знаю. В древних архивах, записанных еще на поверхности, упоминается многое, ставшее с тех пор непонятным. Эти явления не объяснялись, потому что считались очевидными, но мы не были на поверхности почти сто тысяч поколений и теперь теряемся в догадках. Техники не пришли к единому мнению даже насчет сущности звезд, а ведь их архивы упоминают часто и неоднократно. Но что такое «штормы», «землетрясения», «вулканы», «смерчи», «оползни», «наводнения», «молнии» и так далее? Все эти понятия означают явления на поверхности, которые считались опасными, но мы не знаем их сути. Не знаем также, как от них защищаться. Поэтому ты, отыскав нужную информацию в сознании другого существа, возможно, сумеешь предпринять необходимые действия.
— Каким временем я буду располагать?
— Резонатор не может работать непрерывно более двенадцати часов. Мне хотелось бы, чтобы ты уложился в два. Ты вернешься автоматически, как только Станция будет активирована. Ты готов?
— Готов.
Ган подвел его к сооружению из дымчатого стекла. Рои уселся, расположив конечности в соответствующих углублениях и опустив вибриссы в ртуть для лучшего контакта.
— А, если я обнаружу, что нахожусь в теле умирающего существа? — спросил Рои.
— Когда разумное существо при смерти, — ответил Ган, настраивая установку, — его мысленное поле искажается. И нормальное мысленное поле — такое, как у тебя, — не сможет войти с ним в резонанс.
— А если существо погибает от внезапной смерти?
— Об этом мы тоже думали. Защитить тебя от такой случайности невозможно, но вероятность того, что смерть чужого существа наступит столь быстро, что ты не успеешь активировать Станцию мысленно, меньше одной двадцатитриллионной, если только таинственные опасности, подстерегающие на поверхности, не являются еще большими, чем мы ожидаем… У тебя осталась минута.
Рои и сам не знал почему, но последняя его мысль перед трансляцией была о Венде.
* * *
Лаура проснулась внезапно, словно ее кольнули булавкой. Что случилось?
Лучи послеполуденного солнца били ей в лицо. Лаура заморгала, прикрыла окошко иллюминатора шторкой и склонилась над колыбелькой Уолтера.
Она немного удивилась, увидев, что глаза ребенка открыты. В это время ему полагалось спать. Лаура взглянула на часы. Да, рано ему просыпаться, и до кормления еще целый час. Она придерживалась вольной системы кормления, предоставляя малышу криком уведомлять мать, что он проголодался, но, как правило, Уолтер весьма близко придерживался расписания.
— Проголодался, малыш? — спросила она.
Уолтер никак не отреагировал, разочаровав мать. Лауре хотелось бы, чтобы сын улыбнулся. Еще больше ей хотелось, чтобы он рассмеялся, обнял ее пухлыми ручками, сказал: «Мамочка», но сейчас он был еще слишком мал для таких нежностей. Зато улыбаться научился давно.
Лаура почесала малышу подбородочек. Он всегда улыбался, когда она так делала.
Но он лишь моргнул в ответ.
— Хоть бы он не заболел, — пробормотала она и с тревогой посмотрела на миссис Эллис. Та опустила журнал.
— Что-то не так, дорогая?
— Не знаю. Уолтер просто лежит.
— Бедняжка. Наверное, устал.
— Но почему он тогда не спит?
— Он в непривычной обстановке. Наверное, лежит и все разглядывает.
Она поднялась, подошла к Лауре и склонилась, разглядывая малыша.
— Наверное, удивляешься, где это ты оказался, маленький проказничек, — заворковала она. — Да-да. И куда это подевалась моя уютная кроватка и зверюшки на обоях? Ути-ути…
Уолтер повернул головку и внимательно посмотрел на миссис Эллис. Та внезапно выпрямилась, словно ее пронзила боль, и провела ладонью по лбу.
— Господи! Какая странная боль!
— Думаете, он голоден? — спросила Лаура.
— Боже, — ответила миссис Эллис, постепенно успокаиваясь, — уж когда младенцы голодны, они сразу дают матери знать С ним все в порядке, поверьте мне. Я троих вырастила.
— Пожалуй, стоит попросить стюардессу подогреть ему еще бутылочку.
— Ну, если, по-вашему, так будет лучше… Когда стюардесса принесла бутылочку, Лаура вынула малыша из колыбельки.
— Сейчас ты покушаешь, потом я переменю тебе пеленки, а потом…
Она уложила головку Уолтера на согнутую руку, чмокнула его в щечку, поднесла к губам бутылочку… Уолтер завопил!
Широко раскрыв рот, он вытянул перед собой ручки с растопыренными пальцами. Его тельце напряглось и окаменело, словно от судороги. Крик малыша разнесся по всему салону.
Лаура тоже закричала и выронила бутылочку. Та разбилась, молоко растеклось белой лужицей.
— Что случилось? — с тревогой спросила миссис Эллис.
— Не знаю, не знаю. — Уложив Уолтера на плечо, она отчаянно его трясла, поглаживая по спине. — Детка, детка, не плачь. Что с тобой, малыш? Детка…
По проходу к ней уже торопилась стюардесса Ее нога едва не наступила на стоящий возле кресла Лауры куб. Уолтер яростно извивался, вопя все громче и громче.
* * *
Разум Рои затопил ужас. Только что он, привязанный к креслу, находился в контакте с ясным сознанием Гана, а мгновение спустя (разум не уловил длительности перехода) оказался погружен в мешанину странных, варварских и обрывочных мыслей.
Он полностью замкнул свое сознание, перед этим распахнутое для увеличения эффективности резонанса. Первое прикосновение к разуму чужака оказалось…
Не болезненным, нет Вызывающим головокружение и тошноту? Нет, и не таким Подходящего слова попросту не существовало.
Укрывшись в уютной пустоте замкнутого сознания, он собрался с духом и обдумал ситуацию, ощущая слабый мысленный контакт с Приемной Станцией. Ее удалось перебросить сюда. Прекрасно!
Некоторое время он игнорировал тело, в котором очутился. Вскоре оно потребуется ему для выполнения важнейших действий, поэтому не стоит раньше времени возбуждать подозрения чужака.
Затем Рои начал его изучать, входя наугад в разные участки нового сознания и отыскивая те из них, что отвечали за органы чувств. Так, существо различает часть электромагнитного спектра, улавливает колебания воздуха и, разумеется, ощущает прикосновения. Имеются также локализованные органы химического восприятия…
И, кажется, все. Изумившись, Рои проверил еще раз. Мало того, что у чужака не имелось органов оценки массы и электрического потенциала, без которых невозможно по-настоящему воспринимать окружающий мир, так он оказался еще и глух к мысленным контактам!
Сознание чужака было полностью изолированным.
Тогда как же они общаются? Он копнул глубже и выяснил наличие сложного кода, основанного на управляемых колебаниях воздуха.
Да разумны ли они вообще? Может, он угодил в мозг калеки? Нет, они все такие.
Выпустив мысленные щупальца, он обшарил сознания группы ближайших к нему существ, отыскивая Техника или того, кто считался таковым среди этих полуразумных калек, и наткнулся на разум существа, считавшего себя водителем транспортного средства. Так Рои выяснил, что находится на борту летательного аппарата.
Выходит, даже не зная о мысленных контактах, они создали зачаточную техническую цивилизацию. А может, они попросту одушевленные инструменты настоящих разумных существ с этой же планеты? Нет… Мысли чужаков отрицали такую возможность.
Рои принялся обшаривать сознание Техника. Что знает он об опасностях, которых так боялись древние? Да, в окружающей среде есть опасные явления. Движения воздуха. Изменения температуры. Падающая с неба жидкая или твердая вода. Электрические разряды. Каждое из явлений обозначалось своим вибрационным кодом, но можно было лишь гадать, как называли жившие на поверхности предки любое из них.
Впрочем, неважно. Главное, существует ли опасность сейчас? Здесь? Есть ли основания чего-либо опасаться?
Нет, понял он, обшарив сознание Техника. Этого оказалось достаточно. Он вернулся в разум своего хозяина, немного отдохнул, затем осторожно проверил… Ничего!
Сознание хозяина оказалось пустым! Он смог отыскать лишь ощущение тепла и слабые, едва мерцающие отклики на бытовые стимулы.
Может, его хозяин все-таки умирает? Утратил память? Сошел с ума?
Рои быстро переместился в сознание ближайшего существа и отыскал нужную информацию. Его хозяин оказался ребенком.
Ребенком? Нормальным ребенком? И настолько неразвитым?
Вернувшись в сознание ребенка, он решил проверить его возможности. С трудом отыскав моторные области мозга, он осторожно их простимулировал. Ребенок беспорядочно зашевелил конечностями. Попробовал управлять движениями — безуспешно.
Рои рассердился. И они еще утверждали, что подумали обо всем! А подумали они о разумных существах, не умеющих общаться мысленно? О младенцах настолько недоразвитых, словно они еще не вылупились из яйца?
Это, разумеется, означало, что, оставаясь в сознании младенца, он не сможет активировать Приемную Станцию. Мускулы и разум ребенка слишком слабы и не поддаются контролю настолько, чтобы воспользоваться любым из трех методов, перечисленных Ганом.
Рои напряженно размышлял. Вряд ли ему удастся воздействовать на материальное тело, воспользовавшись еще несовершенными клетками мозга ребенка, но что, если попробовать непрямое воздействие через сознание взрослого? В этом случае прямое физическое воздействие будет минимальным — достаточно разорвать связи между конкретными молекулами аденозинтрифосфата и ацетилхолина, а затем существо станет действовать по собственной воле.
Опасаясь неудачи, он медлил, потом обругал себя трусом и вновь проник в ближайший разум. Это оказалась женщина, временно отключившая свое сознание — такое состояние он успел отметить и у других. Стоит ли удивляться? Столь примитивному мозгу требуется регулярный отдых.
Некоторое время он отыскивал области мозга, способные откликнуться на стимуляцию, и, найдя подходящие, пробудил их. Сознание женщины мгновенно ожило, в мозг хлынули ощущения, уровень мышления начал быстро возрастать.
Прекрасно!
Но не совсем. Рои осмелился лишь на легкий толчок, мысленный укол, а не на приказ к конкретному действию.
Он заерзал, когда на него хлынули эмоции. Они лились из разума, который он только что простимулировал, и были направлены, разумеется, не на него, а на его хозяина. Тем не менее Рои раздражала их примитивность, и он замкнул свой разум, ограждаясь от неприятной теплоты откровенных материнских эмоций.
Ко всему прочему вскоре на ребенке сосредоточило мысли еще одно существо, так что раздосадованный Рои, обладай он реальным телом или удовлетворительным контролем над телом хозяина, непременно бы огрызнулся.
О, великие пещеры, неужели ему так и не дадут сосредоточиться на серьезном деле?
Он резко вломился в сознание второго существа, заставил его ощутить неловкость и отойти. Удача обрадовала Рои. Тут потребовалось нечто большее, чем простая стимуляция, и все прошло очень гладко. Ментальная атмосфера очистилась.
Рои вернулся в сознание управлявшего аппаратом Техника — ему потребовались подробности о поверхности, над которой они пролетали.
Вода? Он быстро рассортировал информацию.
Вода! И снова вода!
Теперь он уяснил смысл древнего слова «океан». Кому могло прийти в голову, что такое количество воды вообще может существовать на планете?
Но раз это «океан», то и традиционное слово «остров» также приобретает очевидный смысл. Рои начал обшаривать сознание Техника в поисках географической информации. «Океан» усеивали пятнышки суши, но ему требовался точный…
Размышления застигнутого врасплох Рои прервались, когда тело его хозяина-ребенка переместилось в пространстве — мать взяла его на руки. Сознание Рои было распахнуто, и в него хлынул поток ничем не сдерживаемых материнских эмоций.
Рои содрогнулся. Пытаясь избавиться от отвлекающих примитивных чувств, он заблокировал клетки мозга хозяина, через которые проникала помеха.
Но сделал это слишком быстро и энергично. Разум хозяина затопила рассеянная боль, и через мгновение сознания всех окружающих существ отреагировали на испускаемые ребенком колебания воздуха.
Раздраженный Рои попытался заглушить боль, но в результате лишь усилил ее.
Продираясь сквозь цепкий ментальный туман детской боли, он с трудом пробился в умы Техников, едва удерживая ускользающий контакт.
И оцепенел. Наилучшая возможность вот-вот представится! У него от силы минут двадцать. Позднее возможны и другие попытки, но столь хороших обстоятельств уже не будет. Но нельзя даже пытаться управлять действиями других существ, пока в сознании хозяина царит полный хаос.
Рои вернулся и заперся, Оттородившись ментальным барьером и сохраняя минимальную связь с двигательными центрами хозяина. Он стал ждать, постепенно и осторожно восстанавливая силу контакта.
У него осталось пять минут. Рои выбрал объект.
* * *
— Кажется, бедняжка начинает чувствовать себя лучше, — сказала стюардесса.
— Он никогда так себя не вел, — рыдая, твердила Лаура. — Никогда.
— Наверное, у него были колики, — предположила стюардесса.
— А может, слишком долго пролежал в пеленках, — высказала свою версию миссис Эллис.
— Возможно, — согласилась стюардесса. — В салоне довольно тепло.
Она развернула одеяльце и подняла распашонку. Показался розовый пухлый животик. Уолтер все еще вопил.
— Хотите, я сменю ему пеленки? — спросила стюардесса. — Он весь мокрый.
— Да, будьте так добры.
Ближайшие к ним пассажиры расселись по своим местам, дальние перестали вытягивать шеи. Мистер Эллис остался стоять в проходе рядом с женой.
— Посмотрите-ка! — воскликнул он.
Лаура и стюардесса были слишком заняты, чтобы обращать на него внимание, а миссис Эллис проигнорировала слова мужа чисто по привычке.
Мистер Эллис давно привык к такому обращению, да и восклицание его было чисто риторическим. Присев на корточки, он потыкал пальцем стоящую под сиденьем кубическую коробочку. Миссис Эллис бросила на мужа раздраженный взгляд.
— Господи, Джордж, не смей так обращаться с чужими вещами! Сядь на место. Ты загораживаешь проход.
Мистер Эллис смущенно выпрямился.
— Это не мое, — сказала Лаура, все еще всхлипывая. — Я даже не знала, что под моим сиденьем что-то есть.
— Что там такое? — спросила пеленавшая младенца стюардесса, подняв голову.
— Коробочка, — пожал плечами мистер Эллис.
— И что ты собираешься с ней делать? — поинтересовалась жена.
Мистер Эллис задумался. Действительно, зачем ему коробочка?
— Мне было просто любопытно, — пробормотал он наконец.
— Ну вот! — сказала стюардесса. — Теперь малышу сухо и уютно. Могу поспорить, что через пару минут он станет всем доволен. Правда, пухлячок?
Но маленький пухлячок продолжал всхлипывать и даже резко отвернулся, когда ему предложили бутылочку.
— Давайте я ее немного подогрею, — сказала стюардесса. Она взяла бутылочку и ушла.
Мистер Эллис решился. Он взял коробочку и поставил ее на подлокотник своего кресла, не обращая внимания на нахмуренные брови жены.
— Я ничего этой коробочке не сделаю, — пояснил он. — Просто посмотрю. Кстати, из чего она сделана?
Он постучал по ней костяшками пальцев. Никто из пассажиров не заинтересовался. Они словно не замечали ни мистера Эллиса, ни коробочки, как будто кто-то отключил их внимание. Даже его жена, разговаривая с Лаурой, повернулась к нему спиной.
Повертев коробочку, мистер Эллис обнаружил отверстие. Он знал, что в ней должно быть отверстие. Оно оказалось достаточно большим, чтобы в него пролез палец. Хотя, разумеется, с какой стати ему захочется засовывать палец в странную коробочку?
Тем не менее он осторожно засунул палец в отверстие и наткнулся на кнопку, которую ему очень захотелось нажать. Он так и поступил.
Коробочка дрогнула, неожиданно выскользнула из его рук и прошла сквозь подлокотник. Он успел заметить, как она провалилась сквозь пол, но мгновение спустя он увидел лишь целехонький коврик и… ничего. Он медленно развел руки и уставился на свои ладони, затем, опустившись на колени, пощупал коврик на полу.
— Вы что-то потеряли, сэр? — вежливо спросила вернувшаяся с бутылочкой стюардесса.
— Джордж! — воскликнула жена, глянув на мужа. Мистер Эллис проворно выпрямился. На его покрасневшем от смущения лице застыло изумление.
— Коробочка… выскользнула из рук и упала…
— Какая коробочка, сэр? — спросила стюардесса.
— Вы не могли бы передать мне бутылочку, мисс? — попросила Лаура. — Он перестал плакать.
— Конечно. Вот она.
Уолтер нетерпеливо зачмокал, ощутив во рту соску. В молоке забулькали пузырьки.
— Кажется, успокоился, — просияла Лаура. — Спасибо, стюардесса. И вам, миссис Эллис. Знаете, мне даже на некоторое время показалось, будто у меня в руках не Уолтер, а кто-то другой.
— Не волнуйтесь за малыша, — успокоила ее миссис Эллис. — Наверное, его немного укачало. Сядь, наконец, Джордж.
— Если вам что-нибудь понадобится, вызовите меня, — сказала стюардесса.
— Спасибо, — поблагодарила Лаура.
— Коробочка… — начал было мистер Эллис. И смолк. Какая коробочка? Не помнил он ни про какую коробочку.
Но кое-кто на борту самолета следил за черным кубом, падающим вниз по идеальной параболе, не искаженной ветром или сопротивлением воздуха, и проникающим сквозь молекулы газов.
Далеко внизу пятнышко атолла казалось «яблочком» огромной мишени. Когда-то, во время войны, на нем соорудили взлетную полосу и построили бараки. Теперь бараки развалились, а взлетная полоса превратилась в заросшие обломки бетона. Атолл опустел.
Куб пронзил перистую листву пальмы, не шелохнув ни листика, просочился сквозь ствол, проник в коралл и погрузился в кору планеты, не выдав себя даже легким облачком пыли.
На глубине двадцати футов куб застыл, слившись с атомами коралла, но все же оставаясь самим собой.
Вот и все. Миновала ночь, миновал день. Шел дождь, дул ветер, белопенные волны Тихого океана разбивались о белый коралл. Ничего не происходило.
Ничего и не произойдет… еще десять лет.
* * *
— Мы уже сообщили всем новость о твоем успехе, — сказал Ган. — Думаю, сейчас тебе надо отдохнуть.
— Отдохнуть? Сейчас? Когда меня окружают соплеменники с нормальным сознанием? — удивился Рои. — Нет, спасибо. Я только теперь понял, насколько велика роскошь общения.
— Неужели тебя так раздражал разум, не способный к ментальному контакту?
— Да, — коротко ответил Рои. Ган тактично отказался от попытки уловить ускользающую мысль собеседника и вместо этого спросил:
— А поверхность?
— Нечто ужасное, — сказал Рои. — То, что древние называли «солнцем», похоже на невыносимо яркое пятно, висящее над головой. Это, несомненно, источник света, яркость которого периодически меняется. «День» и «ночь», другими словами. Но существуют и непредсказуемые колебания яркости.
— Вероятно, из-за «облаков», — предположил Ган.
— Почему «облаков»?
— Слышал, наверное, традиционную фразу: «Облака скрыли солнце»?
— Ты так считаешь? Да, может быть.
— Продолжай.
— Так, что еще? «Океан» и «остров» я уже объяснил. «Дождь» означает падающую каплями с небес воду. «Ветер» есть мощное перемещение воздуха. «Гром» — или спонтанный статический разряд в воздухе, или сильный спонтанный шум. «Град» — это падающий лед.
— Странное явление, — заметил Ган. — Откуда может падать лед? Как? Почему?
— Понятия не имею. Там все непрерывно меняется. Дождь начинается и кончается. На поверхности есть регионы, где всегда холодно, в других постоянно жарко, а в третьих попеременно то холодно, то жарко.
— Поразительно. Как ты считаешь, какова здесь доля неправильно понятой информации?
— Нулевая. Я в этом уверен и все понял совершенно точно. У меня было достаточно времени, чтобы разобраться в их странном мышлении. Даже слишком много.
— Это хорошо, — заметил Ган. — Я постоянно опасался нашей склонности романтизировать так называемый Золотой век, когда наши предки жили на поверхности. Я чувствовал, что среди нас может зародиться сильное стремление жить наверху, а не в пещерах.
— Нет, — решительно произнес Рои.
— Теперь очевидно, что я ошибался. Никто, даже самый стойкий из нас, не захочет провести хотя бы день жизни в среде, которую ты описал, — с ее грозами, днями, ночами, с ее отвратительными и непредсказуемыми изменениями. — В мыслях Гана проявилась озабоченность. — Завтра мы начнем перемещение. Едва мы окажемся на острове… Ты сказал, что он необитаем?
— Совершенно необитаем. Воздушный корабль пролетел только над одним таким островом. Информация в сознании Техника была очень подробной.
— Прекрасно. Мы начнем обустраиваться. Эта работа, Рои, продлится нескольких поколений, зато потом мы станем жить в Глубине нового, теплого мира, в уютных пещерах, где контролируемая окружающая среда даст толчок развитию культуры и прогрессу.
— И, — добавил Рои, — никаких контактов с существами на поверхности.
— Почему? — удивился Ган. — Хоть они и примитивны, но все же смогут помочь нам основать базу. Раса, умеющая строить воздушные суда, обладает кое-какими способностями.
— Дело не в их способностях. Они очень воинственны. Если подворачивается возможность, они нападают с животной яростью, и…
— Меня тревожит взволнованность, окружающая твои мысли, связанные с чужаками, — прервал его Ган. — Ты что-то скрываешь.
— Поначалу я думал, что они смогут нам помочь, — продолжил Рои. — И если они не позволят нам стать их друзьями, то мы, по крайней мере, сумеем ими управлять. Я заставил одного из них замкнуть контакт внутри куба, и это оказалось трудно сделать. Очень трудно. У них принципиально другое мышление.
— В каком смысле?
— Если я сумею это описать, различие не покажется существенным. Но попробую привести пример. Я находился в сознании ребенка. У них нет помещений для взросления, о детях заботятся взрослые. Существо, которое заботилось о моем хозяине…
— Да.
— Она (это была самка) испытывала особое чувство, связь со своим ребенком. Чувство владения им, исключающее все остальное общество. Кажется, я сумел уловить среди них очень слабое ощущение, напоминающее то, которое связывает человека с родственником или другом, но чувство матери было гораздо более сильным и несдержанным.
— Ну что ж, — заметил Ган, — не имея ментальных контактов, они, вероятно, не имеют и реальной концепции общества, потому среди них и развиваются отношения другого уровня. А может, ее чувства были патологией?
— Вовсе нет. Они универсальны. Самка, которая заботилась о ребенке, была его матерью.
— Невозможно. Его настоящей матерью?
— Это неизбежно. Первую фазу своего существования ребенок проходит в организме матери. Яйца этих существ остаются внутри материнского тела. Оплодотворяются они также внутри его. Дети развиваются в теле матери и появляются на свет уже живыми.
— О, великие пещеры! — пробормотал Ган, переполнившись отвращением. — Тогда каждая их мать знает своего ребенка. У каждого ребенка есть конкретный отец…
— И он ему тоже известен. Моего хозяина везли за пять тысяч миль, если я правильно оценил расстояние, как раз на встречу с отцом.
— Не могу поверить!
— Стоит ли продолжать? Теперь тебе ясно, что никакого единения наших разумов быть не может. Различия слишком фундаментальны.
Мысли Гана огрубели и подернулись желтизной сожаления.
— Мне очень жаль, — сказал он. — Я подумал…
— О чем?
— Я подумал, что разумные существа двух видов впервые могут помочь друг другу. Я думал, что вместе мы сможем продвигаться вперед быстрее, чем по отдельности. И даже если они примитивны технологически, а это так, то технология не определяет все. Я даже думал, что мы сможем от них чему-нибудь научиться.
— Чему научиться? — грубо спросил Рои. — Знать своих родителей и делать из детей друзей?
— Конечно, нет. Ты прав. Разделяющий нас барьер должен всегда оставаться прочным. Им останется поверхность, нам — Глубина, и да будет так.
Выйдя из лаборатории, Рои встретил Венду. Ее мысли выразили концентрированную радость.
— Я так рада, что ты вернулся, — сказала она. Мысли Рои тоже были приятными. Ясный ментальный контакт с другом всегда доставляет удовольствие.
В плену у Весты
— Может быть, ты перестанешь ходить взад и вперед? — донесся с дивана голос Уоррена Мура. — Вряд ли нам это поможет; подумай-ка лучше о том, как нам дьявольски повезло — никакой утечки воздуха, верно?
Марк Брэндон стремительно повернулся к нему и скрипнул зубами.
— Я рад, что ты доволен нашим положением, — ядовито заметил он. — Конечно, ты и не подозреваешь, что запаса воздуха хватит всего на трое суток. — С этими словами он возобновил бесконечное хождение по каюте, с вызывающим видом поглядывая на Мура.
Мур зевнул, потянулся и, расположившись на диване поудобнее, ответил:
— Напрасная трата энергии только сократит этот срок. Почему бы тебе не последовать примеру Майка? Его спокойствию можно позавидовать.
«Майк» — Майкл Ши — еще недавно был членом экипажа «Серебряной королевы». Его короткое плотное тело покоилось в единственном на всю каюту кресле, а ноги лежали на единственном столе. При упоминании его имени он поднял голову, и губы у него растянулись в кривой усмешке.
— Ничего не поделаешь, такое случается, — заметил он. — Полеты в поясе астероидов — рискованное занятие. Нам не стоило делать этот прыжок. Потратили бы больше времени, зато были бы в безопасности. Так нет же, капитану не захотелось нарушать расписание; он решил лететь напрямик, — Майк с отвращением сплюнул на пол, — и вот результат.
— А что такое «прыжок»? — спросил Брэндон.
— Очевидно, наш друг Майк хочет этим сказать, что нам следовало проложить курс за пределами астероидного пояса вне плоскости эклиптики, — ответил Мур. — Верно, Майк?
После некоторого колебания Майк осторожно ответил:
— Да, пожалуй.
Мур вежливо улыбнулся и продолжал:
— Я не стал бы обвинять во всем случившемся капитана Крейна. Защитное поле вышло из строя за пять минут до того, как в нас врезался этот кусок гранита. Так что капитан не виноват, хотя, конечно, ему следовало бы избегать астероидного пояса и не полагаться на антиметеорную защиту. — Он задумчиво покачал головой. — «Серебряная королева» буквально рассыпалась на куски. Нам просто волшебно повезло, что эта часть корабля осталась невредимой и, больше того, сохранила герметичность.
— У тебя странное представление о везении, Уоррен, — заметил Брэндон. — Сколько я тебя помню, ты всегда этим отличался. Мы находимся на обломке — это всего одна десятая корабля, три уцелевшие каюты с запасом воздуха на трое суток и перспективой верной смерти по истечении этого срока, и у тебя хватает наглости говорить о том, что нам повезло!
— По сравнению с теми, кто погиб в момент столкновения с астероидом, нам действительно повезло, — последовал ответ Мура.
— Ты так считаешь? Тогда позволь напомнить тебе, что мгновенная смерть совсем не так уж плоха по сравнению с тем, что предстоит нам. Смерть от удушья — чертовски неприятный способ проститься с жизнью.
— Может быть, нам удастся найти выход, — с надеждой в голосе заметил Мур.
— Почему ты отказываешься смотреть правде в глаза? — лицо Брэндона покраснело, и голос задрожал. — Нам конец! Конец!
Майк с сомнением перевел взгляд с одного на другого, затем кашлянул, чтобы привлечь внимание.
— Ну что ж, джентльмены, поскольку наше дело — труба, я вижу, что нет смысла что-то утаивать. — Он вытащил из кармана плоскую бутылку с зеленоватой жидкостью. — Превосходная джабра, ребята. Я готов со всеми вами поделиться.
Впервые за день на лице Брэндона отразился интерес.
— Марсианская джабра! Что же ты раньше об этом не сказал?
Но только он потянулся за бутылкой, как его кисть стиснула твердая рука. Он повернул голову и встретился взглядом со спокойными синими глазами Уоррена Мура.
— Не валяй дурака, — сказал Мур, — этого не хватит, чтобы все три дня беспробудно пьянствовать. Ты что, хочешь сейчас накачаться, а потом встретить смерть трезвым как стеклышко? Оставим эту бутылочку на последние шесть часов, когда воздух станет тяжелым и будет трудно дышать — вот тогда мы ее прикончим и даже не почувствуем, как наступит конец, — нам будет все равно.
Брэцдон неохотно убрал руку.
— Черт побери, Майк, у тебя в жилах не кровь, а лед. Как тебе удается держаться молодцом в такое время? — Он махнул рукой Майку, и бутылка исчезла у того в кармане. Брэндон подошел к иллюминатору и уставился в пространство.
Мур приблизился к нему и по-дружески положил руку на плечо юноши.
— Не надо так переживать, приятель, — сказал он. — Эдак тебя ненадолго хватит. Если ты не возьмешь себя в руки, то через сутки свихнешься.
Ответа не последовало. Брэндон не сводил глаз с шара, заполнившего почти весь иллюминатор. Мур продолжил:
— И лицезрение Весты ничем не поможет тебе.
Майк Ши встал и тоже тяжело двинулся к иллюминатору.
— Если бы нам только удалось спуститься, мы были бы в безопасности. Там живут люди. Сколько нам осталось до Весты?
— Если прикинуть на глазок, не больше чем триста— четыреста миль, — ответил Мур. — Не забудь, что диаметр самой Весты всего двести миль.
— Спасение — в трех сотнях миль, — пробормотал Брэндон. — А мог бы быть весь миллион. Если бы только нам удалось заставить этот паршивый обломок изменить орбиту… Понимаете, как-нибудь оттолкнуться, чтобы упасть на Весту. Ведь нам не угрожает опасность разбиться, потому что силы тяжести у этого карлика не хватит даже на то, чтобы раздавить крем на пирожном.
— И все же этого достаточно, чтобы удержать нас на орбите, — заметил Брэндон. — Должно быть, Веста захватила нас в свое гравитационное поле, пока мы лежали без сознания после катастрофы. Жаль, что мы не подлетели поближе; может, нам удалось бы опуститься на нее.
— Странный астероид эта Веста, — заметил Майк Ши. — Я раза два-три был на ней. Ну и свалка! Вся покрыта чем-то, похожим на снег, только это не снег. Забыл, как называется…
— Замерзший углекислый газ? — подсказал Мур.
— Во-во, сухой лед этот самый углекислый. Говорят, именно поэтому Веста так ярко сверкает в небе.
— Конечно, у нее высокий альбедо.
Майк подозрительно покосился на Мура, однако решил не обращать внимания…
— Из-за этого снега трудно разглядеть что-нибудь на поверхности, но если присмотреться, то вон там, — он ткнул пальцем, — видно что-то вроде грязного пятна. По-моему, это обсерватория, купол Беннетта. А вот купол Калорна, у них там заправочная станция. На Весте много других зданий, только отсюда я не могу их рассмотреть.
После минутного колебания Майк повернулся к Муру:
— Послушай, босс, вот о чем я подумал. Разве они не примутся за поиски, как только узнают о катастрофе? К тому же нас будет нетрудно заметить с Весты, верно?
Мур покачал головой:
— Нет, Майк, никто нас не станет разыскивать. О катастрофе узнают только тогда, когда «Серебряная королева» не вернется в назначенный срок. Видишь ли, когда мы столкнулись с астероидом, то не успели послать SOS, — он тяжело вздохнул, — да и с Весты очень трудно нас заметить. Наш обломок так мал, что даже с такого небольшого расстояния нас можно увидеть, только если знаешь, что и где искать.
— Хм. — На лбу у Майка прорезались глубокие морщины. — Значит, нам нужно сесть на поверхность Весты еще до того, как истекут эти три дня.
— Ты попал в самую точку, Майк. Вот только бы узнать, как это сделать…
— Когда наконец вы прекратите эту идиотскую болтовню и приметесь за дело? — взорвался Брэндон. — Ради Бога, придумайте что-нибудь!
Мур пожал плечами и молча вернулся на диван. Он откинулся на подушки с внешне беззаботным видом, но крохотная морщинка между бровями свидетельствовала о сосредоточенном раздумье.
Да, сомнений не было; положение у них незавидное. В который раз он вспомнил события вчерашнего дня.
Когда астероид врезался в космический корабль, разнеся его на куски, Мур мгновенно потерял сознание; неизвестно, как долго он пролежал, потому что его часы разбились при падении, а других поблизости не было. Придя наконец в сознание, он обнаружил, что Марк Брэндон, его сосед по каюте, и Майк Ши, член экипажа, были наряду с ним единственными живыми существами на оставшемся от «Серебряной королевы» обломке.
И этот обломок вращался сейчас по орбите вокруг Весты. Пока что все было в порядке — более или менее. Запаса пищи хватит на неделю. Под их каютой находится региональный гравитатор, создающий нормальную силу тяжести, — он будет работать неограниченное время, во всяком случае больше трех дней, на которые хватит воздуха. С системой освещения дело обстояло похуже, но пока она действовала.
Не приходилось сомневаться, где тут уязвимое место. Запас воздуха на три дня! Это, конечно, не означало, что неполадок больше не существует. У них отсутствовала отопительная система, но пройдет немало времени, прежде чем их обломок излучит в космическое пространство такое большое количество тепла, что температура внутри заметно понизится. Намного важнее было то, что у них не имелось ни средств связи, ни двигателя. Мур вздохнул. Одна исправная дюза поставила бы все на свои места — достаточно лишь одного толчка в нужном направлении, чтобы в целости доставить их на Весту.
Морщинка между бровями стала глубже. Что же делать? В их распоряжении — один космический костюм, один лучевой пистолет и один детонатор. Вот и все, что удалось обнаружить после тщательного осмотра всех доступных частей корабля. Да, дело дрянь.
Мур встал, пожал плечами и налил себе стакан воды. Все еще погруженный в свои мысли, он машинально проглотил жидкость; затем ему в голову пришла некая идея. Он с любопытством взглянул на бумажный стаканчик в своей руке.
— Послушай, Майк, а сколько у нас воды? — спросил он. — Странно, что я не подумал об этом раньше.
Глаза Майка широко раскрылись, и на лице его отразилось крайнее удивление.
— А разве ты не знаешь, босс?
— Не знаю чего? — нетерпеливо спросил Мур.
— У нас сосредоточен весь запас воды. — Майк развел руки, как будто хотел охватить весь мир. Он замолчал, но, поскольку выражение лица Мура по-прежнему было недоумевающим, добавил; — Разве не видите? Нам достался основной резервуар, в котором находится весь запас воды для «Серебряной королевы», — и Майк показал на одну из стен.
— Ты хочешь сказать, что рядом с нами резервуар, полный воды?
Майк энергично кивнул:
— Совершенно точно, сэр! Бак в форме куба, каждая сторона — тридцать футов. И он на три четверти полон.
Мур был поражен.
— Семьсот пятьдесят тысяч кубических футов воды… — Внезапно он спросил: — А почему эта вода не вытекла через разорванные трубы?
— Из бака ведет только одна труба, проходящая по коридору возле этой каюты. Когда астероид врезался в корабль, я как раз ремонтировал кран и был вынужден закрыть его перед началом работы. Когда ко мне вернулось сознание, я открыл трубу, ведущую к нашему крану, но в настоящее время это единственная труба, ведущая из бака.
— Ага. — Где-то глубоко внутри Мур испытывал странное чувство. В его мозгу маячила какая-то мысль, но он никак не мог ухватиться за нее. Он понимал только одно — что сейчас услышал важное сообщение, но был не в силах установить, какое именно.
Тем временем Брэндон молча выслушал Ши и разразился коротким смехом, полным горечи:
— Кажется, судьба решила потешиться над нами вволю. Сначала она помещает нас на расстоянии протянутой руки от спасения, а затем поворачивает дело так, что спасений становится для нас недостижимым.
— И еще она дает нам запас пищи на неделю, воздуха — на три дня, а воды — на год. На целый год, слышите! Теперь у нас хватит воды, чтобы и пить, и полоскать рот, и стирать, и брать ванны — для чего угодно! Вода — черт бы побрал эту воду!
— Ну, не надо принимать это так близко к сердцу, — сказал Мур, стараясь поднять настроение Брэндона. — Представь себе, что наш корабль — спутник Весты, а он и на самом деле ее спутник. У нас есть свой период вращения и оборота вокруг нее. У нас есть экватор и ось. Наш «северный полюс» находится где-то в районе иллюминатора и обращен к Весте, а наш «юг» — на обратной стороне, в районе резервуара с водой. Как и подобает спутнику, у нас есть атмосфера, а теперь мы открыли у себя и океан.
— А если говорить серьезно, положение наше не так уж плохо. Те три дня, на которые нам хватит запаса воздуха, мы можем есть по две порции и пить, пока вода не польется из ушей. Черт побери, у нас столько воды, что мы можем даже выбросить часть…
Прежде смутная мысль теперь внезапно оформилась и созрела. Небрежный жест, которым он сопровождал свое последнее замечание, был прерван. Рот Мура захлопнулся, а голова резко дернулась вверх.
Однако Брэндон, погруженный в свои мысли, не заметил странного поведения Мура.
— Почему бы тебе не довести до конца эту аналогию со спутником? — язвительно заметил он. — Или ты, как Профессиональный Оптимист, не обращаешь внимания на те факты, которые противоречат твоим выводам? На твоем месте я бы добавил вот что. — И он продолжал голосом Мура: — В настоящее время спутник пригоден для жизни и обитаем, однако в связи с тем, что через три дня запасы воздуха истощатся, ожидается его превращение в мертвый мир.
— Ну, почему ты не отвечаешь? Почему стремишься обратить все в шутку? Разве ты не замечаешь?.. Что случилось?
Последняя фраза прозвучала как возглас удивления, и, право же, поведение Мура заслуживало такой реакции. Внезапно он вскочил и, постучав себя костяшками по лбу, молча застыл на месте, глядя куда-то вдаль отсутствующим взглядом. Брэндон и Майк Ши следили за ним в безмолвном изумлении.
Внезапно Мур воскликнул:
— Ага! Вот! И как же я раньше до этого не додумался? — Затем его восклицания перешли в неразборчивое бормотание.
Майк со значительным видом достал из кармана бутылку джабры, но Мур только нетерпеливо отмахнулся. Тогда Брэндон без всякого предупреждения ударил потрясенного Мура правым кулаком в челюсть и опрокинул его на пол.
Мур застонал и потер щеку. Затем он спросил негодующим голосом:
— За что?
— Только встань на ноги, получишь еще! — крикнул Брэндон. — Мое терпение лопнуло! Мне до смерти надоели все
ваши проповеди и многозначительные разговоры. Ты просто спятил!
— Еще чего, спятил! Просто возбужден, вот и все. Послушай, ради Бога. Мне кажется, я нашел способ…
Брэндон посмотрел на Мура недобрым взглядом:
— Нашел способ, вот как? Пробудишь в нас надежду каким-нибудь идиотским планом, а потом обнаружишь, что он нереален. С меня хватит. Я найду применение воде — утоплю тебя, к тому же при этом сэкономлю воздух.
Хладнокровие изменило Муру.
— Послушай, Марк, это не твое дело. Я все сделаю один. Мне не нужна твоя помощь, обойдусь как-нибудь. Если ты так уверен, что умрешь, и так этого боишься, почему бы тебе не покончить сразу? У нас есть лучевой пистолет и детонатор, и то и другое — надежное оружие. Выбирай одно из них и убей себя. Обещаю, что я и Ши не будем тебе мешать.
Брэндон попытался вызывающе посмотреть на Мура, но вдруг сдался целиком и полностью.
— Ну хорошо, Уоррен, я согласен. Я… я и сам не знаю, что на меня нашло. Мне нехорошо, Уоррен. Я…
— Ну-ну, ничего, мой мальчик, — Муру стало жалко юношу. — Не надо волноваться. Я понимаю тебя, со мной то же самое. Только не поддавайся панике. Держи себя в руках, а то спятишь. Попытайся теперь заснуть и положись на меня. Все еще изменится к лучшему.
Брэндон, схватившись за голову, разламывающуюся от боли, неверными шагами подошел к дивану и упал на него. Безмолвные рыдания сотрясали его тело. Мур и Ши, не зная, чем помочь, в замешательстве стояли рядом.
Наконец Мур толкнул локтем Ши.
— Пошли, — прошептал он. — Пора браться за дело. Шлюз номер пять находится в конце коридора, верно? — Ши кивнул, и Мур продолжал: — Он по-прежнему герметичен?
— Ну, — ответил Ши, подумав, — внутренняя дверь, конечно, герметична, но за внешнюю я не ручаюсь. Возможно, она похожа на решето. Видишь ли, когда я испытывал стену на герметичность, я не решился открыть внутреннюю дверь, потому что если внешняя дверь неисправна — жжж-ик! — И он сопроводил свои слова красноречивым жестом.
— Тогда нам в первую очередь нужно проверить внешнюю дверь. Мне необходимо выбраться наружу, придется пойти на риск. Где космический костюм?
Мур снял с вешалки в шкафу единственный костюм, перекинул его через плечо и пошел по длинному коридору, ведущему вдоль каюты. Он миновал закрытые двери, служившие герметическими барьерами — раньше за ними находились каюты для пассажиров, но сейчас это были открытые в космос пещеры. В конце коридора находилась тяжелая, заподлицо со стеной дверь шлюза номер пять.
Мур остановился и внимательно осмотрел ее.
— Как будто все в порядке, — заметил он, — но, конечно, неизвестно, что по ту сторону. Надеюсь, там тоже все в порядке. — Он нахмурился. — Пожалуй, можно использовать весь коридор в качестве воздушного шлюза — пусть дверь в нашу каюту будет внутренней, а эта дверь — наружной, однако в таком случае мы потеряем половину нашего запаса воздуха. Мы не можем себе этого позволить, пока еще не можем. — Он повернулся к Ши: — Ну что ж, хорошо. Индикатор показывает, что последний раз шлюз использовался для входа, так что он должен быть полон воздуха. Чуть-чуть приоткрой дверь и, если услышишь шипение, немедленно захлопни ее. Ну, поехали!
И дверь чуть приоткрылась. При столкновении с метеором механизм открывания двери был, очевидно, поврежден — обычно он работал бесшумно, а сейчас громко скрипел, но все же действовал. В левом углу двери появилась тонкая, как волосок, черная линия — это дверь на крохотную долю дюйма откатилась на своих подшипниках. Шипения не было! С лица Мура исчезло обеспокоенное выражение. Он достал из кармана небольшой кусок картона и приложил его к щели. Если бы через образовавшуюся щель вытекал воздух, его поток прижал бы кусок картона к двери. Картон соскользнул на пол. Майк Ши сунул указательный палец в рот, а затем приложил его к щели.
— Слава Богу! — прошептал он. — Никаких следов утечки.
— Ладно, ладно. Открой пошире. Действуй.
Новый нажим на рычаг, и дверь приоткрылась еще немного. Все еще никакой утечки. Медленно, очень медленно, с жалобным скрипом дверь открывалась, все шире и шире. Мур и Ши затаили дыхание — они боялись, как бы наружная дверь, хотя и герметически закрытая, не оказалась настолько расшатанной, чтобы податься в любую минуту. Но она устояла! С ликующим видом Мур начал натягивать космический костюм.
— Пока все идет хорошо, Майк, — сказал он. — Сиди здесь и жди меня. Не знаю, сколько времени мне потребуется, но я вернусь. А где лучевой пистолет? Ты его захватил?
Ши протянул ему пистолет.
— Что ты задумал, Уоррен? Хотелось бы знать.
Мур, который в этот момент застегивал шлем, остановился.
— Ты слышал, как я сказал, что у нас много воды и часть ее мы можем даже выбросить? Вот над этим-то я и задумался— не такая уж плохая мысль. Я как раз и собираюсь выбросить воду. — И без дальнейших объяснений он вошел в шлюз, оставив по ту сторону двери весьма озадаченного Майка Ши.
С бешено колотящимся сердцем Мур ждал, когда откроется наружная дверь. Его план был необыкновенно прост, но осуществить его будет нелегко.
Раздался скрежет храповиков и шестеренок. Воздух с шипением исчез в пустоте. Дверь соскользнула на несколько дюймов и остановилась. Сердце Мура замерло — на мгновение он подумал, что дверь больше не откроется, — несколько раз дернул ее, и дверь наконец скользнула в сторону.
Мур пристегнул к руке магнитный держатель и осторожно сделал шаг в пространство. Неловко, на ощупь начал он пробираться вдоль борта корабля. Ему еще ни разу не приходилось бывать в открытом космосе, и его, прижавшегося к металлической стене, подобно мухе, охватил смертельный страх. На мгновение он почувствовал головокружение.
Он закрыл глаза и минут пять висел, прижавшись к гладкой поверхности, которая еще недавно была бортом «Серебряной королевы». Магнитный присосок надежно удерживал его, и, когда Мур снова открыл глаза, он почувствовал, что к нему вернулась уверенность.
Он огляделся и впервые с момента катастрофы увидел не только Весту, как из иллюминатора их каюты, а и звезды. Он окинул взглядом небосвод в поисках крошечной бело-голубой искорки — планеты Земля. Его всегда забавляло, что космонавты, глядя на небо, неизменно искали в первую очередь Землю, но на этот раз ему было не до смеха. Однако его поиски остались безрезультатными. Земля не была видна. Очевидно, Веста закрывала и Землю и Солнце…
И все-таки Мур не мог не обратить внимания на другие небесные тела. Слева от него был Юпитер — сверкающий шар размером с горошину. Мур увидел два спутника, обращающихся вокруг него. Невооруженным глазом был виден и Сатурн — яркая планета небольшой величины, при наблюдении с Земли соперничающая с Венерой.
Мур ожидал, что увидит немало астероидов, поскольку их орбита проходила через астероидный пояс, однако космическое пространство выглядело удивительно пустым. Только один раз ему показалось, что в нескольких милях что-то стремительно пронеслось мимо, однако скорость была настолько велика, что он не был уверен, не почудилось ли это ему.
Ну и, конечно, Веста. Астероид прямо под ним выглядел, как воздушный шар, закрывающий четверть небосклона. Веста медленно плыла в пространстве, белая как снег, и Мур смотрел на нее с нескрываемым вожделением. Если как следует оттолкнуться от борта корабля, подумал он, можно упасть на Весту. Может, ему удастся благополучно достичь ее, и тогда он сумеет спасти остальных. Однако скорее всего он просто перейдет на другую орбиту вокруг Весты. Нет, нельзя так рисковать.
Он вспомнил, что время не ждет. Окинул взглядом борт корабля, разыскивая бак с водой, но увидел только переплетение металлических стен, зазубренных, остроконечных и изогнутых. Он заколебался. Очевидно, ему не оставалось ничего другого, как отыскать освещенный иллюминатор своей каюты и уж оттуда добраться до бака.
Осторожно Мур начал ползти вдоль стены корабля. Не успел он одолеть и пяти ярдов, как гладкая обшивка кончилась. Перед ним открылась зияющая пещера, в которой Мур опознал каюту, примыкавшую к коридору с дальнего конца. Он нервно передернул плечами. Вдруг он натолкнется в одной из кают на раздувшееся мертвое тело? Он был знаком с большинством пассажиров, многих знал близко. Однако Мур преодолел охватившее его чувство брезгливости и заставил себя продолжить опасное путешествие.
Но тут на его пути встало первое серьезное препятствие. Обшивка самой каюты в основном состояла из немагнитных сплавов. Магнитный присосок предназначался для использования на внешней обшивке корабля, а внутри был бесполезен. Мур совсем забыл об этом, но внезапно почувствовал, что плавает по каюте. Он глотнул воздуха и судорожно сжал рукой ближайший выступ, потом медленно подтянулся и двинулся обратно.
На мгновение он застыл, затаив дыхание. Теоретически здесь он должен быть в состоянии невесомости — притяжение Весты было ничтожным, — однако работал региональный гравитатор, расположенный под их каютой. Поскольку он не был сбалансирован остальными гравитаторами, по мере продвижения Мура тяготение непрерывно и резко менялось. Если магнитный присосок подведет, его может внезапно отбросить от корабля. И что тогда?
По-видимому, ему будет еще труднее осуществить свое намерение, чем казалось раньше.
Мур снова пополз вперед, каждый раз проверяя надежность захвата. Иногда ему приходилось долго ползти кружным путем, чтобы приблизиться к цели на несколько футов. Иногда он был вынужден перемахивать через небольшие куски обшивки из немагнитного материала. И он постоянно испытывал изматывающее притяжение гравитатора, непрерывно меняющееся по мере продвижения вперед, так что горизонтальная палуба и вертикальные стены то и дело оказывались под самыми невероятными углами.
Мур тщательно осматривал все предметы на своем пути. Однако его поиски были бесплодны. Все незакрепленные предметы, стулья, столы во время столкновения были отброшены в сторону и теперь стали независимыми небесными телами Солнечной системы. Тем не менее ему удалось подобрать небольшой полевой бинокль и авторучку и положить их в карман. Сейчас они были бесполезны, но придавали некую реальность его кошмарному путешествию вдоль борта мертвого корабля.
Пятнадцать, двадцать минут, полчаса он медленно полз туда, где, по его расчетам, должен был находиться иллюминатор. Пот заливал ему глаза, и волосы слиплись в бесформенную массу От непривычного напряжения болели мышцы. Его разум, переживший тяжелое потрясение накануне, стал сдавать, выкидывать необычные трюки
Ему начало чудиться, что он ползет бесконечно, что так было и так будет всегда. Цель путешествия, к которой он стремился, представлялась малозначительной, он знал только одно — нужно ползти вперед. Час назад он был вместе с Брэндоном и Ши, но это казалось туманным и далеким-далеким. А обычную жизнь, какая была два дня назад, он и совсем забыл.
В его слабеющем мозгу вертелась только одна мысль — через лес остроконечных выступов доползти до некоей неясной цели. Он хватался, напрягался, подтягивался Рука с магнитным присоском искала листы железа Вниз, в зияющие пещеры, бывшие когда-то каютами, и снова на поверхность Нащупал — подтянулся, нащупал — подтянулся, и., свет!
Мур остановился. Если бы он не прилип к борту, то упал бы. Каким-то образом этот свет прояснил ситуацию. Перед ним был иллюминатор — не темный, безжизненный иллюминатор, мимо которых он проползал, а живой, освещенный. За стеклом был Брэндон. Мур глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше, его мозг снова прояснился
Теперь он отчетливо видел цель. Он полз к этой искорке жизни. Все ближе, ближе, ближе, пока не дотронулся до иллюминатора. Наконец-то!
Его глаза жадно разглядывали знакомую каюту Видит Бог, это зрелище не вызывало у него приятных ассоциаций, однако это было нечто реальное, почти естественное. На диване спал Брэндон. Его лицо было измученным, изборожденным морщинками, но время от времени по нему пробегала улыбка.
Мур поднял руку, чтобы постучать по стеклу. Его охватило непреодолимое желание поговорить с кем-то, хотя бы при помощи жестов, и все-таки в последнее мгновение он остановился. Может быть, юноше снится родной дом? Он молод и чувствителен и много пережил. Пусть себе поспит. Успеем разбудить его, когда добьемся успеха… если это вообще произойдет…
Он увидел стену, за которой находился бак с водой, и попытался отыскать его внешнюю стенку Теперь это было нетрудно — стенка резервуара отчетливо выступала. «Настоящее чудо, что резервуар не был поврежден во время столкновения», — подумал Мур. Может, судьба и не была такой неблагосклонной по отношению к ним.
Добраться до резервуара оказалось нетрудно, хотя он и находился на другом конце обломка. То, что раньше было коридором, вело почти прямо к нему Когда «Серебряная королева» была невредима, этот коридор был ровным и горизонтальным, но теперь, под непрерывно меняющимся воздействием гравитатора, он казался крутым подъемом Тем не менее ползти по нему было легко Поскольку пол был сделан из обычной бериллиевой стали, Мур не испытывал никаких затруднений с магнитным держателем на всем своем двадцатифутовом пути к водяному баку
И вот настала кульминация — последняя ступень. Он знал, что ему следовало бы сначала отдохнуть, однако волнение все нарастало. Теперь или никогда! Он пробрался к центру задней стенки резервуара Там, устроившись на маленьком выступе, который образовал пол коридора, ранее простиравшегося по эту сторону резервуара, он принялся за работу. — Как жаль, что выходная труба идет не в ту сторону, — пробормотал он. — Можно было бы обойтись без многих неприятностей. А сейчас… — Он вздохнул и принялся за дело: поставил лучевой пистолет на полную мощность, и невидимое излучение сконцентрировалось примерно в футе от дна резервуара.
Постепенно воздействие раскаленного луча на молекулы стены начало становиться заметным. В фокусе действия луча тускло засветилось пятно размером с десятицентовую монету. Оно как бы колыхалось — то светлела, то тускнело — в зависимости от того, насколько Муру удавалось притушить дрожь усталой руки. Он положил руку на выступ, и дело пошло на лад. Крошечное пятно становилось все ярче.
Пятно медленно меняло окраску в соответствии со шкалой спектра. Появившийся вначале темный, кирпичный цвет сменился вишневым. По мере того как на освещенное пятно лился поток энергии, его яркость росла и пятно все расширялось, напоминая стрелковую мишень с концентрическими кругами все более темно-красных оттенков. Даже на расстоянии нескольких футов стенка была нестерпимо горячей, хотя и не светилась, и Муру пришлось следить за тем, чтобы не прикасаться к ней металлическими частями своего костюма.
С губ Мура то и дело срывались ругательства, потому что выступ тоже накалился. Казалось, его успокаивали только крепкие слова. А когда плавящаяся стенка начала сама излучать тепло, объектом его проклятий стали создатели костюма. Почему они не сделали такой костюм, который не пропускал бы не только холод, но и тепло?
Но Профессиональный Оптимист — как назвал его Брэндон — одержал в нем верх. Глотая соленый пот, Мур успокаивал себя. Пожалуй, могло быть и хуже. Во всяком случае, двухдюймовая стена — не слишком серьезное препятствие. А если бы резервуар примыкал задней стенкой к наружной обшивке! Вот было бы дело — прожигать стальную броню толщиной в целый фут! Он скрипнул зубами и наклонился над пистолетом.
Раскаленное пятно светилось теперь оранжево-желтым цветом, и Мур понял, что скоро будет достигнута температура плавления бериллиевой стали. Он заметил что из-за яркости пятна он смотрит на него лишь какую-то долю секунды, и то через большие интервалы.
Очевидно, если он хочет добиться своего, необходимо работать как можно быстрее. Лучевой пистолет не был полностью заряжен, и сейчас, выбрасывая поток энергии при максимальной концентрации почти десять минут подряд он был уже при последнем издыхании. А стенка едва лишь миновала стадию размягчения. Снедаемый горячкой нетерпения, Мур ткнул дулом пистолета прямо в центр раскаленного пятна и тут же отдернул его обратно.
В мягком металле образовалась глубокая впадина, хотя дыры еще не было. Тем не менее Мур почувствовал удовлетворение. Цель почти достигнута. Если бы между ним и стенкой был слой воздуха, он бы уже слышал шипение и бульканье кипящей внутри воды. Давление нарастало. Сколько еще продержится плавящаяся стенка?
Затем, настолько внезапно, что Мур даже не сразу осознал это, он прожег стенку. На дне впадины образовалось крохотное отверстие, и в следующее мгновение наружу вырвалась струя кипящей воды.
Жидкий металл облепил отверстие со всех сторон, и вокруг дырки размером с горошину образовались неровные металлические лепестки. Изнутри доносился рев. Мура окутало облако пара.
Сквозь туман он увидел что пар тотчас же конденсируется в ледяные градинки, стремительно исчезающие в пустоте.
С четверть часа он не отрывал взгляда от струи пара.
Затем он почувствовал, как едва ощутимое давление отталкивает его от корабля. Невыразимая радость охватила его, так как он понял что корабль ускорил свой ход. Мура отталкивала от корабля его собственная инерция.
Это означало, что работа кончена — кончена успешно. Струя пара заменила ракетный двигатель.
Мур отправился в обратный путь.
Велики были ужасы и опасности путешествия к резервуару, однако еще большие ужасы и опасности должны были подстерегать Мура на обратном пути. Он безмерно устал, глаза у него болели и ничего не видели, да еще к сумасшедшей тяге гравитатора прибавилось нарастающее ускорение всего корабля. Но каким бы трудным ни был его обратный путь, он не слишком беспокоил Мура. Позднее он даже не мог припомнить деталей.
Мур не помнил как ему удалось преодолеть все многочисленные препятствия на пути к шлюзу. Большую часть времени он был поглощен ощущением счастья и поэтому вряд ли воспринимал окружающую его реальность. В его мозгу билась одна мысль — как можно быстрее вернуться к товарищам и сообщить им радостную весть о спасении.
Внезапно он увидел перед собой дверь шлюза. Мур едва ли даже понял что это такое. Почти неосознанно он нажал сигнальную кнопку. Инстинкт подсказал ему, что сделать это необходимо.
Майк Ши ждал его. Раздался скрип, внешняя дверь откатилась, заклинилась на прежнем месте, но потом все-таки отошла в сторону и закрылась за Муром. Затем открылась внутренняя дверь, и он упал на руки Ши.
Он чувствовал, как во сне, что его не то волокут, не то ведут по коридору к каюте. С него сорвали костюм. Горячая, жгучая жидкость обожгла ему горло. Мур захлебнулся, сделал глоток и почувствовал себя лучше. Ши спрятал бутылку джабры в карман.
Расплывчатые фигуры Брэндона и Ши сфокусировались перед его глазами и приняли нормальные очертания. Мур вытер дрожащей рукой пот со лба и попытался изобразить слабую улыбку.
— Подожди, — запротестовал Брэндон, — не говори ничего. Ты просто ходячий труп. Отдохни, тебе говорят!
Но Мур покачал головой. Хриплым, надтреснутым голосом он рассказал, как мог, о событиях последних двух часов. Повествование было бессвязным, едва понятным, но поразительно впечатляющим. Оба слушателя затаили дыхание.
— Ты хочешь сказать, — заикаясь, произнес Брэндон, — что струя воды толкает нас к Весте, подобно выхлопу ракеты?
— Совершенно верно — подобно выхлопу ракеты, — прохрипел Мур. — Действие и противодействие. Дыра находится на стороне, противоположной Весте, следовательно, толкает нас к Весте.
Ши отплясывал перед иллюминатором.
— Он совершенно прав, Брэндон, мой мальчик. Уже отчетливо виден купол Беннетта. Мы приближаемся к Весте, приближаемся!
Мур почувствовал себя лучше.
— Так как раньше мы находились на кольцевой орбите, то теперь приближаемся к астероиду по спирали. По-видимому, мы опустимся на Весту через пять-шесть часов. Воды хватит еще надолго, и давление внутри по-прежнему высокое, поскольку вода вырывается наружу в виде пара.
— Пар — при такой низкой температуре в космосе? — спросил пораженный Брэндон.
— Да, пар — при таком низком давлении в космосе, — давления падает, так что в космосе она крайне низка. Даже у льда давление пара достаточно для возгонки.
На его лице появилась улыбка.
— Между прочим, вода одновременно и замерзает и кипит. Я сам видел это. — После короткой паузы он спросил: — Ну, как ты теперь себя чувствуешь, Брэндон? Гораздо лучше, правда?
Брэндон смутился и покраснел. Несколько секунд он тщетно пытался подобрать слова, затем прошептал:
— По-моему, я… я просто не заслуживаю спасения, после того как потерял самообладание и взвалил все бремя на твои плечи. Если хочешь, двинь меня как следует за то, что я тебя ударил. Честное слово, после этого мне будет гораздо лучше.
Мур дружески похлопал его по плечу.
— Забудь про это. Ты даже не подозреваешь, насколько близок к отчаянию был я сам. — Он заговорил громче, чтобы заглушить дальнейшие извинения Брэндона. — Эй, Майк, перестань глазеть в иллюминатор и давай сюда твою джабру.
Мгновенно на столе появилась бутылка, и Майк поставил рядом с ней три плексатроновых колпачка вместо чашек. Мур наполнил каждый до краев. Ему хотелось напиться вдрызг.
— Джентльмены, — торжественно провозгласил он, — я хочу произнести тост. — Все трое подняли стаканы. — Джентльмены, выпьем за годовой запас доброй старой Н20, который был у нас раньше!
Годовщина
Все было готово к празднику. В этот раз пришла очередь Уоррену Муру предоставить свое жилище для совершения ежегодного ритуала, поэтому он не церемонясь отправил жену вместе с детьми к ее родителям.
Рассеянно улыбаясь, Уоррен оглядел комнату. Собственно, идея отмечать годовщины крушения «Серебряной королевы» принадлежала Марку Брэндону. Мур сначала отнесся к ней скептически, но со временем привык и даже полюбил пробуждать в себе — раз в год — воспоминание об этом драматическом событии.
Это, конечно, сказывался возраст. Как-никак двадцать лет минуло с той поры… Он, Уоррен Мур, отрастил брюшко, облысел, у него появился двойной подбородок, и, что, быть может, самое непростительное, стал сентиментален.
Нажав на кнопку в стене, Мур сделал окна непроницаемыми для дневного света и опустил шторы — в память о том дне, когда им было страшно и одиноко. На столе лежали тюбики с ежедневным рационом космолетчиков, а посредине стояла бутылка искристой зеленой джабры — довольно крепкого напитка, обязанного своими достоинствами исключительно химическим свойствам марсианских лишайников.
Мур посмотрел на часы. Брэндон запаздывал, что было на него непохоже. Вдобавок из головы не выходили загадочные слова, которыми Марк закончил их телефонный разговор: «Уоррен, у меня для тебя сюрприз. Жди, останешься доволен».
Марк Брэндон, так всегда казалось Муру, был не подвержен процессу старения. Самый младший из них троих, он, доныне стройный и подвижный, отдавался любому своему увлечению с поистине юношеской пылкостью, — и это несмотря на то, что ему вот-вот должно было стукнуть сорок. Он и в нынешнем солидном возрасте сохранил способность безудержно радоваться, когда ему улыбалась удача, и впадать в глубокое уныние, если дела шли неважно. Волосы у него уже были тронуты сединой, но, когда он принимался бегать по комнате, громогласно развивая очередную из своих сумасбродных идей, Муру сразу вспоминался тот мальчишка, который двадцать лет назад в ужасе метался по отсекам терпящей бедствие «Серебряной королевы».
В дверь позвонили. Мур, не оборачиваясь, нажал на кнопку:
— Входи, Марк.
Вместо зычного приветствия, с каковым обычно являлся Брэндон, прозвучало тихое, неуверенное:
— Мистер Мур?
Голос был странно знакомый. Мур мгновенно обернулся. Да, на пороге действительно стоял Брэндон, рот, разумеется, до ушей, а рядом с ним смущенно переминался с ноги на ногу приземистый, широкоплечий мужчина, загорелый и абсолютно лысый… похожий на звездолетчика…
В изумлении Мур воскликнул:
— Майк?.. Клянусь космосом, да это же Майк Ши!
Хохоча, они крепко обняли друг друга.
— Он нашел меня в офисе, — пояснил Брэндон. — Оказывается, он еще не забыл, что я работаю в «Атомик Продакшн»…
— Сколько лет, сколько зим, — растроганно говорил Мур. — Погоди, погоди, Майк, последний раз ты был на Земле двенадцать лет назад, верно?
— Майк ни разу не отмечал с нами годовщину, — сказал Брэндон. — Что ты на это скажешь, Уоррен? Его выгнали на пенсию, он прямо из космоса направляется в Аризону, где приобрел кой-какую недвижимость, а по пути заглянул в наш городок. Ему, видишь ли, захотелось повидаться со старыми друзьями, прежде чем навсегда забраться в свою глухомань. А я-то решил, что звездолетчик Ши все-таки вспомнил о нашей знаменательной дате. Представляешь, Уоррен, этот старый балбес еще спрашивает: «Годовщина? Какая годовщина?»
Ши, смущенно улыбаясь, кивнул.
— Марк сказал, что вы ежегодно отмечаете этот день.
— Еще бы! — воскликнул Брэндон. — Но сегодня мы в конто веки собрались все вместе — и это настоящий праздник. Майк, ты только вдумайся: двадцать лет прошло с тех пор, как Уоррен дотащил нас до Весты на обломках «Королевы»!
Ши оглядел стол.
— Эге, космический рацион? Ну прямо как на корабле. И джабра! Признаться, не предполагал, что вы так трепетно относитесь к этой дате. Да, двадцать лет — срок немалый. Хотя у меня такое чувство, будто это случилось только вчера. Помните, как нас встречали на Земле?
— Как не помнить! — засмеялся Брэндон. — Парады, торжественные речи!. По справедливости все почести заслужил лишь Уоррен, и мы пытались им это растолковать, но никто нас не слушал…
— Да ладно тебе, — сказал Мур. — Просто мы были первые, кто сумел выжить после кораблекрушения в космосе. До нас этого никому не удавалось, вот с нами и носились. Каким образом люди становятся популярными и почему их потом забывают — все это не поддается рациональному объяснению.
— Эй, парни, — сказал Ши, — а кто из вас помнит песню, которую про нас сочинили? Ну, такую маршевую, бравурную: «Давайте споем, как шли мы втроем по звездным тернистым путям…»
Брэндон подхватил своим чистым тенорком, Мур тоже присоединился, и заключительный куплет они грянули таким оглушительным хором, что задрожали шторы:
— И до Весты дотянули на обломках корабля!..
После чего все трое дружно расхохотались.
— Давайте поскорее откупорим джабру и сделаем по глотку, — предложил Брэндон. — Жаль, что у нас всего одна бутылка.
Мур хмыкнул
— Ты же сам обычно настаиваешь, чтобы все было, как тогда. Удивляюсь, почему ты до сих пор не потребовал, чтобы я в этот день вылетал в окно и кружился над зданием.
— А что, это идея, — откликнулся Брэндон.
— Не забыли наш последний тост? — Ши, держа в руке пустой стакан, провозгласил- «Господа, позвольте разделить с вами эту порцию доброй Н2О — все, что осталось от нашего годового обеспечения!» Помните, когда нас доставили на Землю, мы сходили по трапу пьяные в дым! Мы вели себя как мальчишки. Мне было тридцать, и я считал себя стариком. А теперь… — он погрустнел, — теперь меня отстранили от полетов именно по возрасту.
— Выпьем! — сказал Брэндон. — Сегодня нам снова по тридцать, и мы помним тот день, даже если никто в целом мире не желает о нем вспоминать. У человечества короткая память.
Мур засмеялся:
— А чего ты хотел? Чтобы этот день сделали национальным праздником? С традиционной раздачей бесплатного космического рациона и бутылки джабры?
— Нет, но послушай, ведь мы единственные, кто тогда уцелел! И что же получается? О нас забыли!
— И слава Богу. Зато вначале известность нам здорово помогла. Все мы сразу продвинулись по службе. Нет, Марк Брэндон, с нами все в порядке. То же самое мог бы сказать о себе и Марк, если бы ему не хотелось вернуться в космос.
Ши усмехнулся и нервно повел плечом:
— Мне там нравилось. Впрочем, не жалею. Я получил приличную страховку, на мой век хватит.
Брэндон произнес задумчиво:
— Из-за крушения «Серебряной королевы» Межпланетной компании пришлось раскошелиться. Да, деньги мы получили, но вообще судьба обошлась с нами несправедливо. Спроси в наши дни любого, что ему приходит в голову, когда он слышит это название — «Серебряная королева», и он вспомнит разве что о Квентине.
— О ком, о ком? — переспросил Ши.
— При крушении «Королевы» погиб доктор Гораций Квентин. А спроси у кого угодно: «Что вам известно о тех, кто спасся?» — и на тебя посмотрят, как на идиота. В лучшем случае промычат что-нибудь невразумительное.
— Такова жизнь, Марк. Принимай ее такой, какая она есть, — спокойно возразил Мур. — Доктор Квентин был ученым с мировым именем. А мы… мы люди маленькие.
— Зато мы единственные, кто…
— Вот заладил! Лучше вспомни, что у нас на борту был еще доктор Хестер, тоже корифей в своей области. Конечно, не такой, как Квентин, но тем не менее. Между прочим, я сидел с Хестером в столовой за одним столиком, когда в «Королеву» угодил тот каменюка. Так вот, о докторе Хестере никто не вспоминает. Его смерть для всех осталась незамеченной. А ведь он тоже погиб при крушении. Зато о Квентине помнят все. И ты еще плачешься, что о нас забыли! Живы — и ладно.
— Нет, парни, — помолчав, сказал Брэндон, нисколько не убежденный доводами Мура, — мы с вами снова терпим бедствие. Двадцать лет назад нам ничего другого не оставалось, как высадиться на Богом забытую Весту, а теперь угрожает полное и окончательное забвение, что ничуть не лучше. Это большая удача, что мы снова вместе. В тот раз Уоррен посадил нас на Весту. Неужели чудо не может повториться? Давайте подумаем, как нам выкарабкаться из нынешней передряги.
— Подумаем, что нужно сделать, чтобы о нас снова заговорили? — спросил Мур.
— Вот именно. Почему бы и нет? Это ли не лучший способ отметить нашу годовщину?
— Допустим, только любопытно, с чего ты намерен начать. Повторяю, люди вспоминают о «Серебряной королеве» лишь в связи с гибелью гениального Квентина. Тебе придется потрудиться, чтобы они вспомнили подробности кораблекрушения.
Ши нетерпеливо поднял руку, безмятежное выражение на его лице сменилось озабоченным:
— Ты ошибаешься, Уоррен. О «Королеве» помнят. Например, Межпланетная страховая компания о ней, похоже, ни на миг не забывает. Могу рассказать вам одну забавную историю. Лет десять назад мне довелось снова побывать на Весте, и я поинтересовался у тамошних жителей, где находится металлолом, на котором мы тогда приземлились. Почему-то я расчувствовался и решил взглянуть на эти обломки. Ну, прицепил к спине портативный двигатель и полетел, куда мне показали. Помните, какой на Весте уровень гравитации? Портативный двигатель — все, что требуется для передвижения. И вот, представьте, мне не удалось даже приблизиться к останкам нашей старушки. Вокруг них — защитное силовое поле.
Брэндон удивленно поднял брови:
— Вокруг нашей «Королевы»? Зачем?
— Я попытался выяснить, в чем дело. Оказывается, это собственность страховой компании.
Мур кивнул:
— Так оно и есть. Они прибрали все это железо к рукам, как только выплатили нам страховку. А еще мы подписывали бумагу: дескать, не претендуем на премию за спасение корабельного имущества. Ну и правильно, мы же ничего не спасли.
— Но при чем здесь силовое поле? — не унимался Брэндон. — К чему такая секретность?
— Не знаю.
— То, что осталось от «Королевы», гроша ломаного не стоит. Даже в качестве металлолома. Одна перевозка обойдется дороже.
— Верно, — подтвердил Ши. — Тем не менее страховая компания подобрала все обломки, что летали вокруг Весты, и сложила их в одном месте. Искореженные части каркаса и прочий хлам. Также мне стало известно, что компания объявила вознаграждение за каждый найденный обломок, поэтому экипажи кораблей, чьи маршруты пролегали поблизости от Весты, только и делали, что пялились в экраны — все высматривали эти самые обломки. Между прочим, иногда находили. Не так давно я снова побывал на Весте, и куча стала значительно больше.
— Ты хочешь сказать, что компания до сих пор что-то ищет? — Глаза у Брэндона азартно заблестели.
— Не знаю. Может, и перестала. Но куча была гораздо больше, чем одиннадцать лет назад. Значит, все это время поиски продолжались.
Брэндон откинулся в кресле и положил ногу на ногу.
— Странные вещи ты рассказываешь, Майк, очень странные. Прижимистая страховая компания тратит бешеные деньги на то, чтобы прочесывать космос вокруг Весты и вылавливать никому не нужные железки!
— Может, они подозревают, что крушение было не случайным? И надеются найти доказательства? — предположил Мур.
— Спустя двадцать лет? Дохлый номер. При всем желании им не вернуть свои денежки.
— Мы же не знаем, может, поиски уже прекратились, — напомнил Ши.
Брэндон вскочил в явном возбуждении:
— А давайте спросим! Все это крайне любопытно. К тому же я достаточно выпил, чтобы чувствовать себя в состоянии разрешить любую загадку.
— Это заметно, — сказал Ши. — Но у кого ты собираешься спрашивать?
— У Мультивака.
Ши вытаращил глаза:
— У Мультивака? Эй, Мур, у тебя что, имеется терминал Мультивака?
— Да.
— Никогда его не видел. Интересно, что он собой представляет?
— Ничего особенного, Майк. Не путай Мультивак с его терминалом. Терминал выглядит как обыкновенная пишущая машинка. Что касается самой машины, я тоже ее не видел, и среди моих знакомых нет никого, кто мог бы этим похвастаться.
Мур усмехнулся при мысли о том, как трудно, практически невозможно познакомиться с кем-либо из тех, кто работает глубоко во чреве Земли, обслуживая этот — в милю длиной — суперкомпьютер, каковой является хранилищем абсолютно всей информации, накопленной человечеством. Ведь именно Мультивак направляет развитие экономики и науки, помогает политическим деятелям принимать правильные решения и вдобавок имеет миллионы дополнительных терминалов, позволяющих каждому пользователю обратиться к нему и получить ответ на любой вопрос, не затрагивающий, разумеется, сферу чьих бы то ни было частных интересов.
Пока они спускались лифтом на второй этаж, Брэндон сказал:
— Я подумываю, не установить ли и мне дома терминал Мультивака-младшего. Для детей. Нагрузки в школе растут. С другой стороны, хочется, чтобы они приучались мыслить самостоятельно. Да и дорогое это удовольствие. А твои дети, Уоррен, пользуются Мультиваком?
— Сначала они показывают свой вопрос мне, — ответил Мур. — Если я вижу, что им просто лень пошевелить мозгами, до Мультивака дело не доходит,
Терминал действительно был похож на пишущую машинку. Мур набрал на клавиатуре комбинацию цифр, открывающую доступ в отведенную ему часть памяти Мультивака, и сказал:
— Теперь внимание. Имейте в виду, что мне эта затея совсем не нравится. Я согласился вам помогать только потому, что сегодня годовщина. И еще потому, что мне, старому дураку, тоже стало интересно. Ладно, как сформулируем вопрос?
— Спроси: ищет ли до сих пор Межпланетная страховая компания обломки «Серебряной королевы», раскиданные вокруг Весты, — предложил Брэндон. — На такой вопрос достаточно однозначного ответа. Либо «да», либо «нет».
Мур пожал плечами и напечатал вопрос. Ши глядел на него с нескрываемым восхищением.
— Он ответит человеческим голосом? — шепотом спросил он.
Мур рассмеялся:
— Нет, конечно. Я не могу позволить себе такую роскошь. Эта модель выдает ответы, отпечатанные на бумажной ленте.
Пока он объяснял Ши принцип действия терминала, из прорези уже высунулась лента. Мур мельком взглянул на нее:
— Мультивак ответил «да».
— Ага! — вскричал Брэндон. — Я же вам говорил, что дело нечисто! Теперь спроси зачем.
— Ну, это уже глупо. Мы получим в ответ желтый листок с требованием обосновать причину вопроса. Думаю, что наше любопытство можно расценивать как попытку нарушить неприкосновенность частных интересов.
— Попытка не пытка. Спрашивай, ведь компания не скрывает факт, что она что-то ищет. Может, и предмет поисков не является тайной.
Мур снова пожал плечами и напечатал: «С какой целью Межпланетная страховая компания ведет поиски обломков космического корабля «Серебряная королева»?
Он не ошибся — из прорези высунулся желтый листок.
— «Укажите причину, по которой затребована данная информация», — вслух прочитал Мур.
— Отлично, — кивнул ничуть не обескураженный Брэндон. — Скажи ему, кто мы такие. Скажи, что мы единственные трое, кто тогда остался в живых, и имеем право знать, что это за тайна такая! Давай-давай, спрашивай, не стесняйся!
Мур постарался придать вопросу Брэндона нейтральное оформление, но в ответ получил еще один желтый листок:
— «Причина недостаточна».
— Не понимаю, что все это значит, — пробормотал Брэндон.
— Мультиваку виднее, — сказал Мур. — Он анализирует причину каждого вопроса, чтобы не допустить возможности вторгнуться кому бы то ни было в сферу частных интересов кого бы то ни было. Даже правительство не имеет на это право без санкции Верховного суда. Если подобное и случается, то не чаще, чем раз в десять лет. Ну, каковы наши дальнейшие действия?
Брэндон принялся расхаживать по комнате, что свидетельствовало о крайней степени его возбуждения.
— Хорошо, тогда попробуем разобраться сами, — наконец сказал он. — Мы сошлись на том, что пытаться доказать умышленное кораблекрушение спустя двадцать лет после того, как оно случилось, нелепо. Похоже, на борту «Королевы» находилось нечто чрезвычайно важное, если компания не жалеет на поиски ни средств, ни времени.
— Марк, тебя уже заносит, — пробормотал Мур.
Брэндон, не обратив внимания на его реплику, продолжал
рассуждать:
— Разумеется, это не деньги и не драгоценности. Компания не окупила бы затраты на поиски, даже если бы «Серебряная королева» была отлита из чистого золота. Что же это может быть?
— Да что угодно! — ответил Мур. — Листок бумаги, стоимостью несколько центов, способен принести доход в сотни миллионов долларов. Важно, что на нем написано.
Брэндон энергично кивнул:
— Согласен. Не исключено, что ищут какие-то научные материалы. Ну а кто из пассажиров «Королевы» мог иметь при себе таковые материалы?
— Почем я знаю.
— А как насчет доктора Горация Квентина? Того самого доктора Квентина, о гибели которого человечество скорбит до сих пор? Он же считался у нас на борту самой важной персоной. Вот, наверное, у него и были с собой какие-нибудь дискеты с формулами. Чертовски жаль, что за весь рейс я так и не сподобился лицезреть этого великого человека. Может, если бы мы познакомились, он поделился бы со мной своими последними открытиями. Шучу, конечно. А ты его видел хоть раз своими глазами, Уоррен?
— Не припоминаю. Разве что мог столкнуться с ним в коридоре, даже не зная, кто он такой.
— Это исключено, — задумчиво сказал Ши. — Помнится, стюард жаловался мне, что один пассажир не желает ходить в столовую и ему носят пищу в каюту.
— Ты хочешь сказать, что этим пассажиром был Квентин? — Брэндон остановился посреди комнаты и пристально посмотрел на Ши.
— Может, и он. Не помню, о ком именно шла речь, но и так понятно, что это была большая шишка. На корабле никто не станет носить тебе пищу в каюту, если ты, что называется, простой смертный.
— Ну да, а Квентин был как раз непростой, — удовлетворенно подтвердил Брэндон. — Выходит, были у него основания прятаться в своей каюте.
— Не все пассажиры легко переносят полет, — сказал Мур. — Может, его просто мутило. Хотя… — Он нахмурился и замолчал.
— Ты тоже что-то вспомнил? — насторожился Брэндон. — Давай, выкладывай!
— Пожалуй, да. Я уже говорил вам, что за последним обедом сидел вместе с доктором Хестером. Хестер ворчал, что вот, дескать, надеялся за время рейса побеседовать с Квентином, а тот как сквозь землю провалился.
— Правильно! — закричал Брэндон. — Потому что Квентин не высовывал нос из своей каюты!
— Этого Хестер не говорил. Но как же он выразился? — Мур сжал ладонями виски. — В общем, смысл был таков: Квентин обожает напускать на себя таинственность, вечно темнит и скрытничает. Вот и теперь — они вместе летят на конференцию, а тема доклада Квентина еще никому не известна.
— Все понятно, — Брэндон снова зашагал из угла в угол. — Квентин сделал какое-то потрясающее открытие, но до поры держал его в секрете. Хотел, чтобы на конференции все попадали со стульев. Знаете, почему этот любитель эффектов не вылезал из каюты? Боялся, что в разговоре с Хестером не вытерпит и проболтается! Бьюсь об заклад так оно и было. Ну а потом в нас попал метеорит, и Квентин погиб. Страховая компания, расследуя обстоятельства крушения, пронюхала про открытие и теперь надеется прибрать его к рукам. Тем самым она не только возместит убытки, но и сорвет изрядный куш. Вот почему она приобрела в собственность обломки «Королевы»! Вот почему она до сих пор не прекращает поиски!
Мур улыбнулся:
— Звучит все это очень увлекательно. Одно удовольствие слушать, как ты битый час пытаешься из ничего сотворить нечто.
— Так-таки из ничего? Ну-ка спроси еще раз у Мультивака. Я оплачу счета.
— Относительно счетов не беспокойся. Ты мой гость. Спрашивай сам, если хочешь, а я пока поднимусь за бутылкой.
Мне нужно сделать пару лишних глотков, чтобы тебя догнать.
— Мне тоже, — сказал Ши.
Теперь за машинку уселся Брэндон. Дрожащими от волнения пальцами он напечатал: «Каковы темы последних исследований доктора Горация Квентина?»
Мур вернулся с бутылкой и стаканами как раз в тот момент, когда из прорези высунулась лента с длинным перечнем книг, статей и ссылок на научные издания двадцатилетней давности.
Мур пробежал глазами список.
— Я не физик, но мне кажется, что все это связано с оптикой.
Брэндон упрямо мотнул головой:
— Здесь указаны только публикации. А нам нужны названия его неопубликованных работ.
— Мало ли что нам нужно!
— Но ведь страховая компания каким-то образом их узнала.
— Это ты так думаешь.
Брэндон ожесточенно тер рукой подбородок:
— Разреши мне задать Мультиваку еще один вопрос.
Он быстро напечатал: «Сообщите имена и телефоны коллег доктора Квентина по университету, с которыми он сотрудничал в последние годы жизни».
— Откуда ты знаешь, что он работал в университете?
— Если я ошибаюсь, Мультивак меня поправит.
Из прорези появился ответ. Очень короткий. На ленте было отпечатано всего одно имя.
— Ты что, собрался звонить этому человеку? — спросил Мур.
— Разумеется, — ответил Брэндон. — Итак, Отис Фитцсиммонс. Судя по коду города, он живет в Детройте. Можно, Уоррен?
— Да ради Бога. Если тебе охота и дальше валять дурака…
Брэндон уже набирал номер. Ответил ему женский голос.
Брэндон попросил к телефону доктора Фитцсиммонса. Последовала короткая пауза, потом тоненький старческий голос произнес:
— Алло!
— Доктор Фитцсиммонс, вас беспокоят из Межпланетной страховой компании. Хотелось бы задать вам несколько вопросов относительно покойного доктора Горация Квентина.
— Черт бы тебя побрал, Марк! — прошептал Мур.
Брэндон поднял руку, показывая: не мешай!
Снова возникла пауза, на сей раз такая долгая, что Брэндон решил, что связь прервалась, Наконец старик на том конце линии ответил:
— Прошло столько лет, а вы опять за свое?
Брэндон, не опуская руку, торжествующе сжал кулак. Постаравшись придать своему голосу деловитые интонации, он сказал:
— Мы все еще надеемся, что вы вспомните дополнительные подробности, касающиеся открытия доктора Квентина… открытия, с которым он отправился в свой последний полет…
— Я уже говорил вам, что ничего не знаю, — в голосе старика послышалось явное раздражение. — Более того, мне совершенно не хочется снова забивать себе голову подобной чепухой. Понятия не имею, что это за прибор и существовал ли он в действительности. Доктор Квентин всегда говорил о своих новых открытиях так уклончиво…
— Но хотя бы приблизительно?
— Повторяю, мне это неизвестно. Квентин лишь однажды о нем обмолвился. Название прибора я вам уже сообщал, хотя вряд ли это имеет какое-нибудь значение.
— Доктор Фитцсиммонс, в нашей картотеке названия нет.
— Нет, оно у вас есть. Гм-м, как же он его назвал-то? А, вот как: эноптикон. И позвольте на этом закончить нашу беседу. Мне некогда. До свидания, — ворчливо закончил старик и повесил трубку.
Брэндон сиял.
— Глупее ничего нельзя было придумать, — сказал Мур. — Выдавать себя за представителя страховой компании! Если ты хочешь нажить себе неприятности…
— Да брось ты, он уже забыл про наш разговор. Нет, Уоррен, ты только подумай! Компания к нему тоже обращалась!
— Ну хорошо, хорошо. Чего тебе еще не хватает для полного счастья?
— Также нам теперь известно, что название прибора «эноптикон».
— Мне показалось, что Фитцсиммонс произнес это слово не очень уверенно. Но даже если он произнес его правильно, даже если мы выясним, что в последние годы Квентин занимался проблемами оптики, какой нам от всего этого прок?
— Вероятно, Квентин держал данные по эноптикону в голове, но имел в распоряжении опытный образец. Понимаете, почему компания собирает обломки? Надеется найти прибор или хотя бы то, что от него осталось!
— Я же говорю, что на Весте целая гора металлолома, — снова подтвердил Ши.
— Если бы компании нужны были чертежи, она оставила бы эти железки болтаться в космосе. Выходит, и нам нужно искать именно прибор.
— Допустим, ты прав, — попытался урезонить Брэндона Мур, — но ведь наши поиски все равно ни к чему не приведут. Вокруг Весты кружится процентов десять, не больше, от общей массы обломков «Королевы». Скорость убегания там ничтожная. Нам тогда просто повезло — мы оказались в случайно уцелевшем отсеке, который случайно полетел в нужную сторону и с нужной скоростью. Остальное разметало, наверное, по всей Солнечной системе в самых немыслимых направлениях.
— Однако кое-что компания все-таки собрала, — заметил Брэндон.
— Да, те самые десять процентов.
— Предположим, — продолжал Брэндон, не слушая Мура, — этот эноптикон летал где-то там возле Весты. Компания его не нашла. Значит, нашел кто-то другой?
Ши засмеялся:
— Кроме нас там никого не было. Мы и сами-то еле унесли оттуда ноги.
— Верно, — согласился Мур. — И если этот «кто-то» нашел эноптикон, почему он держит свою находку в секрете?
— Может, не понимает, что это такое, — сказал Брэндон.
— А ты уверен, что мы могли бы оказаться умнее других? — спросил Мур и вдруг обернулся к Ши: — Стоп! Как ты сказал, Майк?
Ши воззрился на него непонимающе:
— Когда?
— Да только что!.. О том, как мы уходили с корабля… — Мур прищурился, тряхнул головой. — О Боже… — прошептал он.
— Что с тобой, Уоррен? — забеспокоился Брэндон.
— Я не уверен… у меня уже крыша едет от твоих фантазий. Я начинаю относиться к ним серьезнее, чем они того заслуживают. Помните, мы забирали с собой какие-то вещи? Ну там одежду, что-то из личного имущества. Во всяком случае, я это сделал.
— И что?..
— Вижу как сейчас… я пробираюсь через обломки… поднимаю с пола какие-то вещи и засовываю их в карман скафандра. Сам не знаю зачем. На память, наверное. Я был не в себе. Но я привез их сюда, на Землю.
— Где они?
— Понятия не имею. С тех пор я много раз переезжал с места на место.
— Но ты их, надеюсь, не выкинул?
— Да вроде не должен был. Правда, при переездах вещи имеют свойство пропадать.
— Если ты их не выкинул, они должны быть здесь, в доме.
— Могли потеряться… Клянусь, я не вспоминал о них лет пятнадцать.
— Что это за вещи?
— Если мне не изменяет память, во-первых, авторучка. Старинная, с баллончиком, который заправляется пастой. А другая вещица… она меня особенно заинтересовала… такая маленькая подзорная труба… даже скорее трубка, не более шести дюймов длиной…
— Да это же и есть эноптикон! — закричал Брэндон. — Точно!
— Ну уж сразу и эноптикон, — сказал Мур нарочито спокойным тоном. На самом деле он чувствовал, что его тоже охватывает волнение. — В конце концов, это просто смешно.
— Смешно? Страховая компания двадцать лет потратила на поиски, а ты все это время держал его у себя и ни о чем не догадывался! Потрясающе!
— Марк, не сходи с ума.
— Нет, мы должны немедленно найти эту твою подзорную трубку!
Мур без особого желания поднялся со стула.
— Хорошо, давайте поищем, если вам так хочется. Правда, я сильно сомневаюсь, что наши поиски увенчаются успехом. Придется спуститься ниже этажом. Если рассуждать логически, эти вещи должны быть в кладовой. Там для них самое подходящее место.
Ши усмехнулся:
— А может, самое неподходящее.
Все трое быстро направились к лифту.
В кладовой царил запах плесени. Мур нажал кнопку воздухоочистителя:
— Э, да тут и за год не проветришь. Давненько я сюда не заглядывал. Посмотрим сначала вон в том углу, где свалены мои пожитки холостяцкой поры.
Он начал перекладывать из одного места в другое пластиковые альбомы.
Брэндон напряженно смотрел ему через плечо.
— Знаешь, что это такое? — спросил Мур. — Это ежегодные университетские справочники. В студенческие годы я принимал участие в их составлении и страшно этим увлекался. Здесь голограммы всех выпускников нашего университета, — он постучал пальцами по обложке, — и вдобавок записи их голосов!
Заметив, что Брэндон нетерпеливо нахмурился, Мур отложил альбом.
— Ладно, продолжим поиски.
Он открыл пластмассовый, под цвет дерева, сундук и принялся разбирать его содержимое.
— Вот это что такое? — вдруг спросил Брэндон, указывая на небольшой цилиндрик, который, слабо позвякивая, покатился по дну сундука.
— Глазам своим не верю… — пробормотал Мур. — Та самая авторучка! А вот и подзорная трубка. И то, и другое, конечно, неисправны. Во всяком случае, в авторучке что-то брякает. Слышите? В свое время я безуспешно пытался ее починить. Да и баллончики к ней не выпускаются уже лет сто.
Брэндон внимательно рассматривал авторучку.
— Здесь чьи-то инициалы.
— В самом деле? Никогда не обращал внимания.
— Они почти совсем стерлись: «Г», «К», «К»… Авторучка вполне могла принадлежать Квентину. Нечто вроде фамильной реликвии, которую хранят в качестве талисмана или как память. Наверное, досталась ему от прапрадедушки. В те времена такими авторучками еще пользовались. Прапрадедушку звали, допустим, Грегори Кеннет Квентин. Или Годфри Кент Квентин. Или еще как-нибудь в этом духе. У Мультивака можно справиться о предках доктора.
Мур кивнул:
— Несомненно. Слушай, ты кого угодно способен заразить своим безумием.
— А если я прав, следовательно, ты подобрал авторучку в каюте Квентина. Скорее всего и эта трубка — оттуда.
— Необязательно. Впрочем, ей-Богу, не помню.
Брэндон и так и этак поворачивал трубку, рассматривая ее.
— Инициалы отсутствуют, — объявил он наконец.
— С чего ты взял, что они должны быть? Авторучка — это одно, а прибор — совсем другое…
— Я вижу только узкую поперечную канавку, — Брэндон осторожно поглаживал трубку, потом легонько ее встряхнул и приставил к глазу. — Да, похоже, что-то в ней сломано.
— Я же тебе говорил. И стекол нет.
Вмешался Ши:
— Что же вы хотите? Огромный космический корабль разнесло вдребезги…
— Даже если прибор исправен, — с досадой сказал Мур, — нам от этого не легче. Все равно мы не знаем, как им пользоваться.
Он взял трубку из рук Брэндона, провел пальцем по краю внутренней поверхности.
— Непонятно, как сюда вставляются линзы, как они крепятся. Такое впечатление, что эта штука и не предполагает их наличие. Погодите!.. — Мур с изумлением уставился на друзей. — Я, кажется, понял!
— Что ты понял? — спросил Брэндон.
— Название! Название все объясняет!
— Ты имеешь в виду название прибора?
— Фитцсиммонс произнес «эноптикон», и мы решили, что он употребил это слово с английским неопределенным артиклем «эн».
— Ну да, с артиклем, — подтвердил Ши.
— Дальше-то что? — спросил Брэндон.
— Так вот, он произнес «аноптикон»! Понимаете меня? Не два слова: «эн» и «оптикон», а одно! Аноптикон!
— Да какое это имеет значение! — отмахнулся Брэндон.
— Огромное! «Оптикон» вызывает в представлении некий оптический прибор с линзами, зеркалами, призмами и другими деталями, тогда как слово «аноптикон» имеет греческую приставку «ан», которая означает «без» и присутствует во многих словах греческого же происхождения. Например, анархия, то есть безвластие, анемия — малокровие или, иначе говоря, беcкровие, аноним — сочинение без указания имени автора. Следовательно, аноптикон — это оптический прибор…
— Без линз! — восторженно подхватил Брэндон.
— Вот именно! И я уверен, что он целехонек!
— Гляжу я, гляжу в эту трубку и ни черта не вижу, — проворчал Ши.
— Как же все-таки действует прибор? — Мур попробовал, взявшись за один конец трубки, повернуть по оси другой.
— Смотри, не сломай, — не преминул предостеречь его Брэндон.
— Поворачивается, но очень туго. Наверное, так и было задумано. А может, просто туда попала пыль… — Мур, нажав на кнопку, сделал окно прозрачным, испытующе посмотрел на трубку, приставил ее к глазу и повернулся лицом к панораме вечернего города.
— Ух ты! — выдохнул он. — Как будто я снова в космосе…
— Что? Что ты там увидел? — заволновался Брэндон.
Мур молча передал ему прибор. Брэндон приставил трубку к глазу и завопил как безумный:
— Да это же телескоп!
— Ребята, дайте и мне поглядеть, — попросил Ши.
Они, наверное, часа два забавлялись этим удивительным прибором: поворачивая по оси один конец трубки вправо, можно было превратить ее в телескоп, поворачивая влево — в микроскоп.
— Как же это так получается? — недоумевал Брэндон.
Мур и сам терялся в догадках:
— Я могу лишь предположить, что мы имеем дело с искривлением силовых полей, поэтому приходится прикладывать такое усилие, чтобы привести прибор в действие. Если бы размеры у него были больше, потребовалась бы специальная пусковая установка.
— Хитрая штуковина, — заметил Ши.
— Да уж непростая, — согласился Мур. — Не ошибусь, если скажу, что намечается переворот в теоретической физике. Аноптикон фокусирует свет без помощи линз и не нуждается в перенастройке независимо от величины и дальности рассматриваемого объекта. Бьюсь об заклад, он обладает не только разрешающей способностью пятьсотдюймового телескопа, но также может заменить собой электронный микроскоп. Знай поворачивай вправо или влево!.. Кроме того, я не заметил никаких хроматических искажений, а это означает, что он одинаково хорошо преломляет весь спектр световых волн. А может быть, и радиоволны, и гамма-лучи. Не исключено, что и с гравитацией он способен справиться — если гравитация представляет собой волновое явление…
— Короче, — перебил его Ши, — сколько он стоит?
— Очень дорого. А уж если ты разберешься в его устройстве, ну тогда…
— Тогда мы повременим извещать страховую компанию о нашей находке. Сходим сначала к адвокату. Ведь когда мы отказывались от премии за спасение корабельного имущества, прибор уже находился в твоей собственности. Да, мы подписали эту бумагу, но имеет ли она юридическую силу, если мы даже не догадывались, о чем в действительности шла речь? Сдается мне, нас просто хотели облапошить.
— Кстати, — заметил Мур, — еще неизвестно, может ли частная компания получить монополию на пользование прибором такой важности. Нам следует обратиться в государственное агентство. Да, тут пахнет очень большими деньгами…
Брэндон возмущенно ударил кулаком по колену.
— Хватит о деньгах, Уоррен! То есть я хочу сказать, что кругленькая сумма мне тоже не помешает, но главное не в этом! Ребята, ведь мы дождались своего часа! Мы снова станем знаменитыми! Представьте, что будут писать о нас в газетах. В космосе потерян чрезвычайно ценный прибор! Двадцать лет гигантская компания ищет его и все без толку, в то время как мы, всеми позабытые, держим у себя сокровище, сами о том не подозревая! И вдруг, в двадцатую годовщину крушения «Серебряной королевы», мы его находим! Если, как ты говоришь, Уоррен, этот аноптикон действительно такое чудо техники, тогда о нас будут помнить вечно.
Мур засмеялся:
— Пожалуй… И это сделал ты, Марк. Ты все-таки добился своего — вытащил нас из забвения.
— Мы это сделали все вместе, — возразил Брэндон. — Ши дал нам толчок, когда рассказал про кучу железа на Весте. Я разработал теорию, а ты… ты отыскал прибор.
— Хорошо, пусть будет так. Однако уже поздно, с минуты на минуту вернется жена. Давайте на сегодня закончим, а завтра Мультивак нам посоветует, в какое агентство обратиться.
— Нет-нет! — воскликнул Брэндон. — Ритуал превыше всего! Последний тост, но с поправкой на изменившиеся обстоятельства. Будь любезен, Уоррен, — он передал Муру бутылку, в которой еще оставалось больше половины.
Мур, не пролив ни капли, наполнил стаканы до краев.
— Господа, — начал он торжественно. Все трое встали и одновременно подняли стаканы. — Господа, позвольте разделить с вами радость от находки этих сувениров, каковые суть наше пожизненное, да и посмертное обеспечение! Да здравствует «Серебряная королева»!
Секрет бронзовой комнаты
— Ну же, смелее, — довольно вежливо для демона произнес Шапур. — Ты только понапрасну тратишь мое время. Да и свое, пожалуй, тоже, поскольку тебе осталось лишь полчаса. — И его хвост дернулся.
— Это не дематериализация? — задумчиво спросил Исидор Уэлби.
— Я уже говорил, что нет, — ответил Шапур.
В который раз Уэлби окинул взглядом монолитную бронзу, окружавшую его со всех сторон. Демон испытал поистине дьявольское наслаждение (да и какое еще ему испытывать?), демонстрируя безупречно гладкую поверхность пола, потолка и четырех стен, состоявших из массивных бронзовых плит двухфутовой толщины, скрепленных между собой без единого признака сварных швов. Уэлби находился в абсолютно замкнутом пространстве. В его распоряжении оставалось только полчаса и ни минутой больше, в то время как демон в нетерпеливом ожидании наблюдал за ним.
Исидор Уэлби подписался ровно за десять лет до настоящих событий (день в день, разумеется).
— Мы платим тебе авансом, — убеждал его демон. — В течение десяти лет у тебя будет все, что пожелаешь, — в разумных пределах, конечно, — а затем ты становишься демоном. Одним из нас. Ты получишь новое имя, означающее демоническую мощь, и, кроме того, множество других привилегий. Тебе едва ли даже будут известны те муки ада, на какие обречены проклятые души. Ну а если ты не распишешься, но не исключено, что естественный ход твоей жизни все равно приведет тебя к адскому огню. Никогда не знаешь, что случится завтра… Взять хотя бы меня. Дела мои не так уж плохи. Я подписался, прожил свои десять лет и — вот он я. Совсем неплохо.
— Тогда почему тебя волнует, поставлю я свою подпись или нет, если мне, похоже, все равно не избежать мук ада? — спросил Уэлби.
— Не очень-то легко вербовать новых сотрудников в штат ада, — признался демон, пожимая плечами. От этого движения слабый запах сернистого ангидрида в воздухе чуть усилился. — Каждому хочется попасть в число счастливчиков, выигравших место в раю. Шансов на выигрыш почти никаких, но люди все равно продолжают ставить на него.
Мне кажется, что ты слишком благоразумен для такой игры. А между тем осужденных душ у нас больше, нежели идей, что с ними делать, и все острее ощущается нехватка административных кадров.
Уэлби, только что оставивший службу в армии и обнаруживший, что она ничего ему не дала, кроме хромоты и прощального письма от девушки, которую почему-то все еще любил, уколол палец и подписался.
Сначала он, конечно, ознакомился с коротким текстом договора.
Подписание этого документа кровью означало, что ему, Исидору Уэлби, отныне передавалась определенная часть демонической власти. В документе подробно не раскрывалось, как обращаться с данными ему сверхъестественными силами, о механизме действия которых также многое умалчивалось. Но все его желания, тем не менее, исполнялись бы таким образом, что их воплощение в реальность казалось бы вполне обычным делом и ни у кого не вызывало бы подозрений.
Правда, ни одно желание, которое шло бы вразрез с высшими целями и замыслами относительно развития человеческой истории, осуществиться бы не смогло.
При чтении этого пункта Уэлби поднял брови.
Шапур кашлянул.
— Мера предосторожности, навязанная нам… э-э… свыше. Ты здраво мыслишь. Эти ограничения не послужат тебе помехой.
— Тут, кажется, есть и каверзное условие, — проговорил Уэлби.
— Да, что-то в этом роде. В конце концов, нам ведь надо проверить твое соответствие будущей должности. Как видишь, условие заключается в том, что по прошествии десяти лет тебя попросят выполнить для нас какое-либо задание.
Твоя демоническая сила поможет тебе легко справиться с ним. Сейчас мы не можем раскрыть тебе суть задания, но у тебя в запасе будет целых десять лет, чтобы изучить сущность демонической силы, заключенной в тебе. Смотри на все это как на вступительный тест.
— А если я не пройду его, что тогда?
— В таком случае, — сказал демон, — по окончании испытания ты станешь всего лишь обычной осужденной душой. — Он был демоном, и потому при одной мысли об осужденной душе в его глазах блеснул дымящийся огонь, а когтистые пальцы конвульсивно задергались, словно он чувствовал, как они уже глубоко вонзились в человеческую плоть. Но он только учтиво добавил: — Давай же, подписывай — испытание будет простым. Нам бы хотелось видеть тебя в руководящих кадрах, нежели получить еще одного безработного подсобника.
Уэлби, полного грустных раздумий о своей недосягаемой любимой, мало беспокоило, что произойдет через десять лет. И он подписался.
Однако десять лет пролетели довольно быстро. Исидор Уэлби никогда не терял трезвости мышления, как и предсказывал демон, и дела его шли в гору.
Уэлби поступил на работу и, поскольку всегда оказывался в нужном месте в нужное время и всегда говорил о нужном с нужным человеком, его быстро продвинули по службе наверх, где он занял весьма высокий пост.
Капиталовложения, которые он делал, неизменно окупались. Его девушка, исполненная самого искреннего раскаяния и горячо обожающая его, вернулась к нему, что послужило причиной еще большей радости.
Его брак оказался счастливым и был благословлен четырьмя детьми — двумя мальчиками и двумя девочками, смышлеными и довольно хорошо воспитанными. На исходе десяти лет Уэлби достиг вершины власти, славы и богатства, а что касается его жены, то с возрастом она становилась все прекрасней.
И вот десять лет спустя после подписания договора (день в день, разумеется) он проснулся и увидел, что находится не в своей спальне, а в какой-то ужасной бронзовой комнате, страшной своей монолитностью, и рядом нет никого, кроме сгоравшего от нетерпения демона.
— Тебе нужно только выйти отсюда, и ты станешь одним из нас, — сказал Шапур. — Если ход твоих мыслей будет логичен и правилен, то задание можно выполнить с помощью твоей демонической силы. Но при одном условии: ты должен точно знать, что именно ты предпринимаешь. Сейчас тебе бы уже следовало это знать.
— Моя жена и дети будут очень встревожены моим исчезновением, — произнес Уэлби, начиная раскаиваться.
— Они увидят твой труп, — утешил его демон. — Ты будешь выглядеть так, будто умер от сердечного приступа. Тебе устроят великолепные похороны, а священник предаст тебя в руки Господни. Мы же, со своей стороны, не будем разрушать иллюзий ни его самого, ни тех, кто внимает ему. Ну давай, Уэлби, времени тебе осталось только до полудня.
В течение десяти лет Уэлби безотчетно готовился к этому моменту, и сейчас паническое чувство овладело им в гораздо меньшей степени, чем можно было бы предположить для подобной ситуации. Уэлби обвел помещение оценивающим взглядом.
— Эта комната изолирована полностью? И никаких потайных отверстий?
— Ни в стенах, ни в полу, ни в потолке нет никаких отверстий, — с профессиональной гордостью ответил демон, испытывая явное удовольствие от проделанной работы. — То же самое касается и стыков между ними. Ты сдаешься?
— Нет, нет. Дай мне время подумать.
Уэлби погрузился в размышления. В комнате, казалось, совсем не чувствовалось духоты. Скорее наоборот: Уэлби не покидало ощущение движущегося потока воздуха. Возможно, воздух проникал сквозь стены путем дематериализации. Тем же путем, видимо, сюда вошел и демон. Значит, есть шансы на то, что Уэлби и сам сможет воспользоваться дематериализацией, чтобы выйти отсюда. Он спросил об этом.
Демон ухмыльнулся.
— Дематериализация нам не подвластна. Я вошел в комнату, не дематериализуясь.
— Ты так уверен в этом?
— Комната — мое собственное творение, — самодовольно проговорил демон, — и сконструирована специально для тебя.
— И ты вошел с наружной стороны?
— Ну да.
— С помощью такой же демонической силы, какой обладаю и я?
— Совершенно верно. Ладно, давай уточним. Ты не можешь перемещаться сквозь материю, но зато можешь двигаться в любом измерении с помощью простого усилия воли. Можно перемещаться вверх, вниз, направо, налево, под углом и так далее, но сквозь материю — ничего не выйдет.
Уэлби снова задумался, а Шапур продолжал демонстрировать исключительно непоколебимую прочность массивных бронзовых стен, пола и потолка; их цельность, доведенную до абсолюта.
Уэлби ничуть не сомневался в том, что Шапур — какой бы ни была его убежденность в необходимости вербовки новых сотрудников администрации — едва сдерживал в себе порывы дьявольского восторга по поводу возможного обладания обычной осужденной душой, которой он всласть позабавится.
— У меня, по крайней мере, — в жалкой попытке пофилософствовать произнес Уэлби, — будет о чем вспоминать — о моих десяти счастливых годах.
Это несомненно послужит утешением даже для души, обреченной на все муки ада.
— Вовсе нет, — возразил демон. — Ад не был бы адом, если бы вам позволили иметь при себе утешение. Все, приобретенное вами на Земле по договору с дьяволом — как и в случае с тобой (или со мной, если на то пошло), — это как раз то, что можно было бы получить и без заключения такого договора. Если, конечно, усердно работать и полностью уповать на… э-э…
Небо. Именно это обстоятельство и придает подобным сделкам поистине демонический характер. — И демон радостно захохотал.
— То есть по-твоему выходит, что моя жена вернулась бы ко мне, даже если бы я никогда не подписывал твой контракт? — возмутился Уэлби.
— Вполне возможно, — сказал Шапур. — Все происходит по воле… э-э…
Неба, знаешь ли. А сами мы даже не пытаемся что-либо изменить.
Потрясение, которое пережил Уэлби в тот момент, очевидно, усилило его способность соображать, потому что в следующий момент он исчез. Бронзовая комната опустела, если не считать изумленного демона. Изумление сменилось безудержной яростью, когда взгляд демона упал на контракт с Уэлби, который
Шапур вплоть до сего момента держал в руке, приготовившись к финальному действию по завладению человеческой душой. В любом случае.
Прошло десять лет (день в день, разумеется) с тех пор, как Исидор Уэлби подписал свой договор с Шапуром. В кабинет Уэлби вошел разъяренный демон.
— Послушай… — начал он свирепо.
Уэлби оторвался от работы и удивленно взглянул на посетителя:
— Кто вы?
— Ты прекрасно знаешь, кто я такой, — ответил Шапур.
— Вовсе нет, — возразил Уэлби.
Демон пристально посмотрел на человека.
— Вижу, что ты говоришь правду, вот только не могу разобраться с подробностями. — Он тут же начинил мозг Уэлби событиями последних десяти лет.
— О да, — произнес Уэлби. — Я, конечно же, могу все объяснить, но ты уверен, что нам не помешают?
— Не помешают, — с мрачной решимостью заверил его демон.
— Я сидел в той закрытой со всех сторон бронзовой комнате, — начал Уэлби, — и…
— Это неважно, — вспылил демон. — Я хочу знать…
— Позволь мне, пожалуйста, рассказать все по-своему.
Демон захлопнул челюсти. От него стал распространяться едкий запах сернистого ангидрида, и Уэлби раскашлялся. Вид у него при этом был страдальческий.
— Ты не мог бы чуть отодвинуться? Благодарю… Итак, я сидел в той закрытой со всех сторон бронзовой комнате и вдруг вспомнил, как ты все время твердил об абсолютной цельности четырех стен, пола и потолка. Я тогда спросил себя: почему ты специально упоминал об этом? Что еще было там, помимо стен, пола и потолка? Ты обрисовал вполне узнаваемое трехмерное пространство.
Да, именно так: трехмерное. Комната не была замкнута в четвертом измерении. Существование ее в прошлом было не беспредельно. Ты признался, что создал ее специально для меня. Значит, если отправиться в прошлое, то в результате можно очутиться в той временной точке, в которой комнаты еще не
было, и таким образом оказаться за ее пределами.
Более того, по твоим словам, я обладал способностью перемещаться в любом измерении, а время, несомненно, можно рассматривать как одно из измерений. Во всяком случае, как только я решил двигаться по направлению к прошлому, то тут же попал в мчащийся с огромной скоростью поток событий своей жизни, повернутой вспять, и… внезапно обнаружил, что вокруг меня и в помине нет никакой бронзы.
— Как я не догадался о подобном исходе? — вскричал демон с мукой в голосе. — Другим путем ты и не смог бы ускользнуть. Что меня волнует — так это твой контракт. Раз уж ты не попадаешь в разряд обычных осужденных душ — что ж, прекрасно. Это входит в условия игры. Но ты должен стать, по меньшей мере, одним из нас, одним из сотрудников администрации. Тебе заплатили именно за это, и если я не доставлю тебя в преисподнюю, у меня будут крупные неприятности.
Уэлби пожал плечами:
— Я тебе сочувствую, конечно, но ничем помочь не могу. Ты, должно быть, смастерил ту бронзовую комнату сразу же после того, как я поставил свою подпись на документе, потому что момент моего освобождения из комнаты совпал с той временной точкой, в которой я заключал с тобой сделку. В тот момент прошлого я снова увидел тебя. И себя тоже. Ты подталкивал ко мне контракт, а с ним и иглу, которой я мог бы уколоть палец. Конечно, когда я переместился назад во времени, то уготованное мне будущее изгладилось из моей памяти, но, видимо, не совсем. Когда ты подтолкнул ко мне контракт, мне стало не по себе. Поэтому я не подписал его. Я наотрез отказался это делать.
Шапур заскрежетал зубами.
— Как же я не сообразил? Если бы вероятностные модели влияли на демонов, я бы с удовольствием переместился вместе с тобой в этот новый условный мир. Однако все, что я могу тебе сказать, — это то, что ты потерял те десять счастливых лет, которые получил от нас в качестве платы. Это меня утешает. А еще утешает то, что мы тебя все равно заполучим после твоей смерти.
— Да ну, брось, — сказал Уэлби. — Разве в аду позволительно иметь утешение? Хотя в течение десяти лет, которые я к настоящему моменту уже прожил, я ничего не знал о том, что мог бы приобрести. Но сейчас, когда ты вложил в мою голову память о тех десяти годах, которые могли бы быть, я припоминаю, как ты говорил мне в той бронзовой комнате, что демонические соглашения не могут дать больше того, что можно приобрести усердным трудом и упованием на Небо. Я трудился усердно, и я уповал.
Уэлби посмотрел на фотографию своей прекрасной жены и четверых прекрасных детей, затем окинул взглядом со вкусом подобранную роскошную обстановку своего кабинета.
— И я, возможно, сумею даже избежать ада. Тут ты тоже ничего не поделаешь — не в твоей это власти.
И демон с ужасным воплем исчез навсегда.
Я в Марспорте без Хильды
Сначала все шло просто сказочно. Без всяких усилий, само собою Вообще без моего участия Я и пальцем не шевельнул — удача сама плыла в руки. Тут-то я и должен был почуять, что добром это не кончится!
Был первый день моего отпуска Месяц работы — месяц отдыха: все как положено в Галактической безопасности. И этот месяц отдыха, как всегда, начинался тремя днями в Марсопорте. А уж потом была Земля.
Обычно Хильда (благослови ее Бог, она лучшая из всех жен на свете) уже дожидалась меня, и мы славно проводили время, — такая миленькая маленькая прелюдия к отпуску. Все дело лишь в том, что Марсопорт — самое буйное местечко во всей Системе и для миленькой маленькой прелюдии не совсем подходит. Только как втолковать это Хильде?
На сей раз моя теща (Боже, если уж без этого никак не обойтись, благослови и ее) заболела за пару дней до моего прилета на Марс, и в ночь перед посадкой я получил от Хильды космограмму, что она останется на Земле подле своей мамочки и меня не встретит.
Я послал ответ, полный сожалений, любви и озабоченности здоровьем ее обожаемой мамаши, а когда спустился с трапа, оказался.
Я ОКАЗАЛСЯ В МАРСОПОРТЕ БЕЗ ХИЛЬДЫ!
Это еще не все, как вы понимаете Что-то вроде рамы без картины или женского скелета В раму просятся линии и краски, на скелет — соблазнительная плоть
И тогда я решил позвонить Флоре — той самой Флоре, о которой у меня сохранилось несколько замечательных воспоминаний.
Решил — и рванул к ближайшему видеофону (к чертям экономию, полный вперед!).
Я прикинул шансы. Десять против одного, что ее не окажется дома, что она занята и отключила аппарат или что она, скажем, вообще умерла.
Но видеофон был включен, она была дома и — о, Великая Галактика! — до того жива, что дух захватывало.
Она была бесподобна. Ни время, ни привычка над дивной новизной ее не властны, как кто-то когда-то сказал.
Уж не знаю, искренним ли был ее восторг, но, увидев меня, она так и взвизгнула. — Макс! Сколько лет!
— Много, Флора, много. Но это я, и у меня вопрос — к тебе Можно? Я в Марсопорте… и, представь себе, без Хильды!
— Вот это да! Приезжай!
Я ошалело вытаращился на экран Это уж слишком. Понимаете, Флора пользовалась сногсшибательным успехом и всегда была занята
— Ты что… свободна?
— Ну, намечалось тут у меня кое-что Но, Макс, я все улажу, давай ко мне!
— Еду! — отозвался я с чувством.
Флора — это такая девушка. К тому же у нее в квартире марсианская гравитация — 0,4 земной. Аппаратура для нейтрализации псевдогравитационного поля Марсопорта, конечно, штука дорогая, но она того стоит, а трудностей с оплатой у Флоры никогда не было. Да что там, если вы хоть раз держали в объятиях девушку при 0,4 д, так ничего объяснять не требуется, а если не держали, так и объяснять бесполезно, могу только посочувствовать, что толку рассказывать, как летают в облаках!
Я отключил видеофон — зачем пялиться на изображение, если есть возможность увидеть оригинал во плоти, — и шагнул из кабинки.
Вот тут-то, в этот самый момент, на меня и дохнуло катастрофой. Это дуновение приняло мерзкий облик Рога Кринтона из Марсианского управления службы безопасности — лысина, сияющая над блекло-голубыми глазами, тускло-желтая физиономия и непотребного окраса усы Впрочем, я и не подумал падать на карачки и отбивать ему поклоны мой отпуск начался с той самой минуты, как я сошел с корабля.
Так что я поинтересовался вполне вежливо. — Какого тебе черта? У меня свидание. Я тороплюсь.
— У тебя свидание со мной. Я ждал еще у трапа, — ответствовал мой плешивый шеф.
— Я тебя не видел.
— Ты вообще ничего не видел.
Он был прав. Если он пытался перехватить меня в шлюзе, так у него голова кружится до сих пор, наверное: я проскочил через камеру быстрее, чем комета Галлея сквозь солнечную корону.
— Ладно. Что тебе от меня нужно?
— Есть тут одно дельце, приятель.
Я выдал ему точную анатомическую характеристику того места, куда он может засунуть свое дельце, и предложил помочь, если он сам не справится.
— У меня отпуск, приятель.
А он мне:
— Готовность номер один, друг мой!
Это могло значить только одно — мой отпуск кончился, не начавшись. Я не поверил. Я взмолился:
— Рог, имей совесть! У меня самого готовность номер один!
— И думать забудь.
— Рог! — взвыл я. — Неужели нельзя вызвать кого-нибудь другого?
— На Марсе ты единственный агент класса А.
— Так запросите с Земли. У них же в штабе куча агентов.
— А нам надо с этим разделаться до двадцати трех ноль-ноль. Да что у тебя — трех часов не найдется?
Он был непробиваем. Оставалось вернуться к видеофону, гордо бросив Рогу через плечо: «Частный разговор!»
Флора снова засияла на экране, словно мираж на астероиде:
— Что-нибудь не так, Макс? Только не вздумай сказать, что не приедешь. Я уже отказалась от приглашения.
— Флора, детка, — сказал я. — Я буду. Я в любом случае буду. Но тут надо кое-что уладить.
Ее не интересовало, что я там собрался улаживать. Она задала самый естественный вопрос. И голос у нее был обиженный.
— Нет никакой другой девушки, — тоскливо ответил я. — В одном с тобой городе не бывает других девушек. Существа женского пола — возможно, но не девушки. Флора, сладость моя, это — работа. Подожди. Совсем недолго!
— Хорошо, — ответила она, но от ее ответа я вздрогнул.
Я выбрался из кабины и вяло поинтересовался:
— Ну, Рог, какую кашу мне предстоит расхлебывать?
Мы пошли в бар космопорта, заняли отдельный кабинет, и Рог Кринтон наконец сказал:
— В восемь по местному времени, то есть через полчаса, с Сириуса прибывает «Гигант Антареса».
— О’кей.
— Среди прочих с него сойдут три человека. Они останутся ждать «Пожирателя пространства», который сядет в одиннадцать и немного погодя уйдет к Капелле. Стоит этой троице ступить на «Пожирателя», как она окажется вне нашей юрисдикции.
— Так.
— Между восемью и одиннадцатью им предстоит сидеть в отдельном зале ожидания, и тебе вместе с ними. У меня с собой голограммы всех троих, так что ты не ошибешься. За это время, тебе надо узнать, кто из них везет контрабанду.
— Какую?
— Самую скверную. Измененный спейсолин.
— Что?
Все. Нокаут. Я знал, что такое спейсолин. Если вы хоть раз бывали в космосе, вы тоже знаете. И даже если никогда не Покидали Земли, все равно знаете. Он необходим для путешествий в Пространстве. Первую дюжину полетов в нем нуждаются почти все, а многие вообще без него не обходятся. Боятся головокружения в невесомости, тошноты, а то и психоза. Спейсолин все это снимает, а привыкания и побочных эффектов не дает. Спейсолин идеален и незаменим.
— Вот именно, — сказал Рог, — обработанный спейсолин. Простейшая химическая реакция в простейших условиях превращает его в препарат, с первого раза делающий человека наркоманом. Эта штука пострашнее самых опасных алкалоидов.
— И мы только сейчас об этом узнали?
— Служба знает об этом уже несколько лет. Но прежде удавалось прихлопнуть любое заведение, где додумывались до такого. А сейчас дело зашло слишком далеко.
— Каким образом?
— Один из троих везет с собой немного обработанного спейсолина. Система Капеллы не входит в Федерацию — ее химики легко сделают анализ образца и еще легче его синтезируют. После этого нам останется либо бороться с торговлей самым опасным наркотиком без всяких шансов на успех, либо сразу закрыть лавочку, запретив исходный продукт — спейсолин, — и поставить крест на полетах в Пространстве.
— И кто же из них его везет?
Рог осклабился:
— Да если бы мы это знали, на что бы ты понадобился? Ты и разберешься — кто.
— Ну и работенку ты мне подсунул.
— Смотри не ошибись. Каждый из них — большая шишка на своей планете. Первый — Эдвард Харпонастер, второй — Джоакин Липски, третий — Андьямо Ферручи. Ну как?
— Он был прав. Я слышал обо всех. Вы, наверное, тоже. И без серьезных улик ни к одному из них не подступиться.
— Неужели кто-то из них связался с такой гадостью? — спросил я.
— Тут пахнет миллиардами, — ответил Рог. — А значит, каждый из них мог связаться. И один связался — Джек Хоук установил это прежде, чем его убили.
— Джека Хоука убили?! — На минуту я забыл о новом наркотике. На минуту я забыл даже о Флоре.
— Да. Именно один из этих типов и организовал убийство. Теперь слушай. Ткнешь в него пальцем до одиннадцати — получишь повышение, прибавку к жалованью, сочтешься за беднягу Джека и в придачу — спасешь всю Галактику. Ошибешься — будет скандал галактических масштабов, а ты вылетишь из Службы и угодишь во все черные списки отсюда до Антареса и дальше.
— А если я ни в кого не ткну?
— Для тебя это ничем не будет отличаться от ошибки, обещаю тебе от лица Службы.
— То есть мне просто снимут голову?
— Снимут и ломтиками нарежут. Наконец-то ты начал меня понимать, Макс.
Рог Кринтон всегда был уродом, но сейчас он выглядел омерзительно даже для урода. Глядя на него, я утешался только мыслью, что он тоже женат и уж его-то половина круглый год безвылазно торчит в Марсопорте. И он это заслужил. Быть может, я к нему жесток, но он заслужил!
Как только Рог отправился восвояси, я позвонил Флоре.
— Бэби, сладость моя! Есть дело, которое я обязан провернуть, но говорить об этом я не имею права. Ты только подожди, а я буду у тебя, даже если мне придется проплыть через весь Большой канал до полярной шапки в одних подштанниках, сковырнуть Фобос с неба или разрезать себя на кусочки и послать тебе бандеролью…
— Ха! — сказала она. — Если б я знала, что меня заставят ждать…
Я поморщился Флора явно не относится к поэтическим натурам. Но когда я поплыву с ней в облаке жасминового аромата при 0,4д, романтика окажется не самым главным…
— Ну подожди чуть-чуть, Флора, — только и сказал я. — Это не займет много времени. Я искуплю свою вину.
Я был раздосадован, но не слишком горевал Рог предоставил мне разбираться, кто из троих — преступник. Дело не стоило выеденного яйца. Оно было настолько простым, что я мог бы сразу вернуть Рога и выложить ему все. Но, собственно, чего ради? Пусть этот умник двигает меня по службе, а не наоборот. Я потрачу на все это пять минут и поеду к Флоре, слегка опоздав, зато с повышением, симпатичным чеком в кармане и слюнявыми поцелуями Службы на щеках.
Весь фокус в том, что большие шишки недолюбливают космические перелеты, предпочитая видеосвязь. А если им так уж необходимо присутствовать на какой-нибудь суперконференции лично, то они без спейсолина не обходятся. Во-первых, без него они не рискнут лететь, во-вторых, спейсолин дорог, а крупные промышленники любят все дорогое — знаю я их психологию.
Но это относится только к двоим. Тот, третий, что везет контрабанду, не рискнет принять спейсолин даже под страхом подхватить букет неврозов. Под спейсолиновым кайфом можно не только проболтаться о наркотике, но вообще вышвырнуть его или отдать по первой просьбе; так что он должен быть в леном уме. Вот и вся премудрость.
, «Гигант Антареса» прибыл точно в восемь. Я принял боевую стойку, готовясь прищемить хвост ядовитой крысе и проводить с миром двух почтенных акул галактического бизнеса.
Первым передо мной предстал Липски. Плотоядные губы, седеющие волосы и внушительные брови. Он глянул сквозь меня и… сел.
— Добрый вечер, сэр! — радушно поздоровался я.
— Вечерняя чашечка кофе панамцев сердца горячи и перебор сердечный, — последовал сонный ответ.
Вот это и есть спейсолин: в мозгах короткое замыкание, а слова сплетаются в немыслимых ассоциациях.
Вторым явился Андьямо Ферручи. Черные усы, длинные и набриолиненные, оливковая кожа, испещренная оспинами. И тоже сел.
— Как путешествие? — поинтересовался я.
— Шествие под бой часов кукушка куковала, — было мне ответом на этот раз.
— Кукушка путь лет предсказала, — донеслось от Липски.
Я усмехнулся. Значит, остается Харпонастер. Что ж, для него у меня наготове пистолет с хорошей дозой снотворного и магнитные наручники.
В дверях обрисовалась худощавая фигура. Лысый и моложе, чем на голограмме. Харпонастер И он был напичкан спейсолином под завязку.
— Проклятье! — вырвалось у меня.
— Клятвы выполняют клятвенно клянутся, — заявил Харпонастер.
— Минуты наполнили вазы цветами, — сказал Ферручи.
— Стая в цвету на вишневых ветках, — закончил Липски.
Я смотрел то на одного, то на другого, пока вся эта чушь наконец не стихла.
Я понял, в чем дело Кто-то из них притворяется Этот кто-то все продумал и решил, что выдаст себя, если откажется от спейсолина. Он хорошо заплатил врачу, чтобы вместо спейсолина ему впрыснули, скажем, физиологический раствор. А может, придумал еще что-то.
Один из них притворялся. Не так уж и трудно это имитировать. Комики по визиону частенько разыгрывают такие сценки. Вы их наверняка видели.
Тут я впервые спросил себя: «А вдруг это дело окажется мне не по зубам?»
На часах полдевятого. На карту поставлена моя работа, моя репутация, а заодно и бедная моя голова. Я отложил эту проблему на потом и подумал о Флоре. Она-то вечно ждать не будет. Да что там вечно, она не станет ждать и полчаса!
Интересно, а сможет притворщик и дальше играть со мной в ассоциации, если его подвести вплотную к опасной теме? А, черт, надо попробовать.
— Выключи сонар, котик! — крикнул я в коридор.
— По крышам котики охотятся поодиночке, — с готовностью откликнулся Липски.
— Котики кошки будут котята, — дополнил Ферручи.
Харпонастер был совсем краток.
— Котята — утята.
Я попытался снова — очень осторожно, ведь, очухавшись, они вспомнят всю эту странную беседу:
— Я думаю, здесь сходятся сотни космических линий…
Это должно было развернуть их извилины в сторону спейсолина.
— Линии по глине или звери к водопою шкуры принесут большую пользу прибыль по лесам…
— Полосатые преступники глину месили…
— Мешали шоколад с жареным картофелем на седле барашка…
Дальше они принялись неразборчиво вторить друг другу. Из всех их откровений я уловил только «карты» и «рты». Негусто.
Я подбросил им еще пару фраз, но ничего не добился. Преступник, кто бы он ни был, хорошо попрактиковался или от природы умел подбирать свободные ассоциации. И он постарался, чтобы слова уводили в сторону. Тем более что все уже понял — и кто я такой, и что мне нужно. Двух других можно не опасаться но этот — ЗНАЕТ. И дразнит меня. Все трое наговорили такого, что могло указывать на вину. «Охотятся поодиночке», «большая прибыль», «преступники» Двое честно несли околесицу, третий забавлялся. Кто? Как найти этого третьего?
Крыса была готова погубить Галактику Больше того — крыса убила моего друга. Более того — она не пускает меня к Флоре.
Проще всего было бы обыскать их. Двое под спейсолином не пошевелятся, не почувствуют ни страха, ни злобы и уж тем более не станут сопротивляться.
Если хоть один из них шевельнется — он попался Невиновные потом все вспомнят Вспомнят обыск. И устроят грандиозный скандал Вонь пойдет на всю Галактику. Служба огребет очередную порцию оплеух, в шуме и неразберихе выплывет секрет обработанного спейсолина — так какого черта?!
Я вздохнул. Один шанс из трех — наткнуться сразу на того, кто нужен. Один из трех — а я не всемогущ.
О, бедная моя голова! О, Флора!
Я тоскливо посмотрел на часы: четверть десятого. Куда, к чертям, ушло время? И что мне делать?
Метнувшись к ближайшей видеокабине, я позвонил Флоре — немножко поговорить с ней, понимаете, чтобы как-то оживить дела, если их еще можно было оживить. Я говорил себе: «Она не ответит». Я старался подготовить себя к этому. Есть же другие девушки, есть же другие…
Правда, других девушек не было.
Будь Хильда в Марсопорте, мне бы и в голову не пришло связываться с Флорой, но Я БЫЛ В МАРСОПОРТЕ БЕЗ ХИЛЬДЫ и с Флорой уже связался.
Сигнал гудел и гудел, а я все не решался разъединиться.
Ответь! Ответь! И она ответила.
— Это ты? — сказала она.
— Конечно, душа моя. Кто же еще?
— Многие. Те, что не заставляют девушек ждать.
— У меня почти все в ажуре, дорогая. Еще чуть-чуть…
— Что у тебя в ажуре? Опять этот твой пластон?
Господи, при чем тут пластон? Ах да, вспомнил: когда-то меня угораздило ляпнуть, что я работаю агентом по сбыту пластоновых изделий. Еще и ночную рубашку пластоновую приволок в доказательство. Чудо, как она в ней смотрелась!
— Слушай, дай мне еще полчасика, — простонал я.
Ее губы задрожали:
— Я тут сижу одна…
— Я тебя утешу. — С отчаяния я готов был ринуться в ювелирный магазин, стараясь не вспоминать, что для зоркого глаза Хильды любая прореха в моем банковском счете будет заметнее туманности Конская Голова на фоне Млечного Пути. Вот до чего я дошел
— У меня было назначено такое классное свидание, и я им пожертвовала, — добавила Флора.
— Ты только сказала, что у тебя кое-что намечалось…
Это было непростительной глупостью.
— Кое-что намечалось?!
Она действительно сказала так. Но упаси вас Бог спорить с женщиной! Можно подумать, я этого не знал.
— Он обещал мне целое состояние на Земле!..
Флора говорила и говорила об этом состоянии на Земле. Не было в Марсопорте девчонки, которая не надеялась бы рано или поздно получить состояние на Земле. Но сосчитать, кому это удалось, можно по шестым пальцам ваших рук. Я пытался остановить ее. Куда там!
— …и вот я сижу совсем одна, — закончила она и отключилась.
Она была права Стоит кому-то проведать, что к ней не пришли, и все будут говорить, что к ней не приходят, а значит — она уже не та. Такой вечер и впрямь может обойтись ей дорого. Я чувствовал себя последним пакостником во всей Галактике.
Когда я возвращался в зал ожидания, часовой у двери отдал мне честь. Я разглядывал трех бизнесменов и меланхолично размышлял, с кого бы я начал, если бы удалось разжиться ордером на их удушение. Пожалуй, с Харпонастера. Так славно обхватить руками его тонкую длинную шею, упираясь большими пальцами в кадык…
При этой вдохновляющей картине у меня вырвалось восторженное «у-мм» — и мои клиенты зашевелились.
Ферручи сказал:
— Ум животных расположен горизонтально, как если видеть многомерный танец…
Длинношеий Харпонастер сказал:
— Танец занятие племянниц и по столбам лез кот…
Липски сказал:
— Скот держат в краале деньги в банке…
— Банка пива хорошая вещь…
— Вещи надо беречь…
— Беречь если честь…
— Есть…
И все.
Они смотрели на меня. Я — на них. У них не было никаких эмоций (во всяком случае, у двоих). У меня — никаких мыслей. А время шло.
Я смотрел на них и думал о Флоре. Мне пришло в голову, что терять, пожалуй, больше нечего, так почему бы…
— Джентльмены, — начал я, — в этом городе живет девушка. Имени ее вам не называю, чтобы не скомпрометировать, но позвольте, джентльмены, вам ее описать…
Так я и сделал. Последние два часа до того меня разгорячили, что вдохновенное описание прелестей Флоры изливалось прямо из глубин моего мужского подсознания. Троица не перебивала. Люди под спейсолином становятся по-своему вежливыми и никогда не перебивают говорящего. Поэтому-то они и изъяснялись по очереди
Иногда я делал паузы в слабой надежде, что один из них скажет нечто новое.
— Океаны шампанского со взбитыми сливками…
— Округлых и нежных, как полет в облаках…
— Леопарды насилия с марсианскою девушкой флота…
Они были безнадежны. Я продолжал:
— Эта девушка, джентльмены, снимает квартиру с низкой гравитацией. Вы можете спросить, на что ей низкая гравитация? Позволю себе объяснить вам это, джентльмены…
И уж я постарался, чтобы им ничего не пришлось додумывать. Я им не оставил простора для фантазии. Они, конечно, все запомнят, но не думаю, чтобы кому-нибудь пришло в голову преследовать меня за это: уж скорее начнут разыскивать, чтобы спросить телефончик…
Я расписывал им все в мельчайших подробностях с тщательностью и любовной тоской в голосе, пока динамик не объявил о прибытии «Пожирателя пространства».
— Вставайте, джентльмены, — сказал я громко. — К тебе, убийца, это не относится!
Мои магнитные наручники защелкнулись на запястьях Ферручи прежде, чем я закончил фразу.
Ферручи отбивался, как дьявол. Он-то не был под спейсодином. Обработанный спейсолин нашли в плоских пластиковых пакетиках, прикрепленных к внутренней стороне бедер. На вид они не отличались от кожи, их можно было только нащупать. А. для того чтобы окончательно убедиться в их содержимом. Казалось достаточно простого ножа.
…Потом Рог Кринтон, сияющий, одуревший от радости, взял меня за лацкан мертвой хваткой:
— Как ты это сделал? Чем он себя выдал?
— Один из них только притворялся наспейсолиненным, — объяснил я, безуспешно пытаясь высвободиться. — Так я им рассказал (тут я придержал язык: детали его, знаете ли, не касались), ну, об одной знакомой. Двое, напичканные спейсолином, никак не отреагировали. А у Ферручи дыхание участилось, на лбу выступила испарина. Ну а раз мой увлекательный рассказ его пробрал, значит, он не принимал спейсолина. Теперь ты меня отпустишь?
Он отпустил, и я чуть не сел на пол.
Я так нацелился исчезнуть, что ноги несли меня прочь, но я все-таки заставил себя обернуться
— Эй, Рог, — поинтересовался я, — не мог бы ты мне черкнуть чек кредитов этак на тысячу? Без занесения на мой счет… За службу, сослуженную Службе?
Тут я убедился, что он действительно не в себе от радости и очень своевременной благодарности. Скупердяй Рог Кринтон Вдруг выпалил:
— Конечно, Махе, конечно. Десять тысяч, если хочешь!
— Хочу, — ответил я. — Еще как хочу.
Он заполнил официальный чек Службы на 10 000 кредитов — деньги лучшего сорта в доброй половине Галактики. Вручая его, он широко улыбался, и можете быть уверены, что я улыбался еще шире.
Как он собирался отчитываться за этот чек — его дело. Главное, я не должен был отчитываться перед Хильдой!
В который раз я стоял в кабине видеофона и звонил Флоре. Мне нельзя было рисковать получасом на дорогу. За эти полчаса она вполне могла подцепить кого-нибудь, если уже не подцепила. Хоть бы она ответила, хоть бы она…
Она ответила, но к долгому разговору была не расположена. Судя по всему, я застал ее в последнюю минуту.
— Я ухожу, — заявила она. — На свете есть еще порядочные мужчины. А тебя я не желаю больше видеть! И я буду вам очень признательна, мистер Как-вас-там, если вы отключитесь от моего аппарата и не станете поганить его своей…
Я молчал. Стоял, затаив дыхание и держа чек так, чтобы он был ей виден. Просто стоял и просто держал чек.
На слове «поганить» она его заметила. Флора вообще редко что-нибудь читала, но слова «десять тысяч кредитов» умела прочесть быстрее самого башковитого ученого в Солнечной системе.
Она ахнула:
— Макс! Это мне?!
— Все тебе, детка. Я же говорил, что мне надо провернуть небольшое дельце. Хотел сделать тебе сюрприз.
— Ой, Макс, какой ты милый! Я никуда не собиралась, просто пошутила. Приезжай! — Она сняла жакет.
— А как насчет твоего свидания? — поинтересовался я.
— Я же сказала, что пошутила, — промурлыкала она. Жакет соскользнул на пол, и пальцы Флоры взялись за брошь, составлявшую большую часть ее блузки.
— Еду, — сказал я слабым голосом.
— Со всеми этими кредитами? — игриво добавила она. — Не растеряешь по пути?
— Со всеми до единого, — ответил я и вывалился из кабины. Теперь все. Теперь уже все.
Кто-то окликнул меня. И этот кто-то бежал ко мне.
— Макс! Макс! Рог Кринтон сказал, что ты еще здесь. Маме уже лучше, и я взяла билет на «Пожирателя пространства». А что это за десять тысяч?
Я застыл.
— Здравствуй, Хильда, — сказал я, не оборачиваясь.
Только потом я обернулся и сделал самое трудное за всю свою злосчастную службу в Космосе.
Я ей улыбнулся.
Звёздный свет
Артур Трент прекрасно их слышал. Энергичные, сердитые слова доносились до него из приемника:
— Трент! Тебе не удастся сбежать. Мы пересечем твою орбиту через два часа, а если ты окажешь сопротивление, мы просто вышвырнем тебя из космоса.
Трент улыбнулся, но ничего не сказал. У него не было никакого оружия, потому что он не собирался ни с кем сражаться. Пройдет гораздо меньше двух часов, прежде чем его корабль совершит Скачок через гиперпространство, и тогда ищи ветра в поле… Ему удалось заполучить почти килограмм криллиума, а этого достаточно для того, чтобы обеспечить мозгами тысячи роботов; кроме того, на любой планете Галактики он сможет получить за него миллионы кредитов — и никто не станет задавать лишних вопросов.
Спланировал все старина Бренмейер. На подготовку ушло целых тридцать лет или даже больше. Это было делом всей его жизни.
— Мы сбежим, молодой человек, — сказал он Тренту. — Именно за этим вы мне и нужны. Вы знаете, как оторвать корабль от земли и направить его в космос. Я на это не способен.
— В космосе нам нечего делать, мистер Бренмейер, — возразил Трент. — Нас моментально поймают.
— Вовсе нет, — с довольным видом сказал Бренмейер, — потому что мы совершим Скачок. Что произойдет, если мы промчимся сквозь гиперпространство и окажемся где-нибудь в нескольких световых годах отсюда?
— Чтобы спланировать Скачок, нужно полдня, но даже если у нас и будет достаточно времени, полиция успеет предупредить все звездные системы.
— Нет, приятель, нет, — рука старика легла на руку Трента, Бренмейер дрожал от возбуждения. — Не все звездные системы; только те, что находятся поблизости. Галактика велика, и колонисты за последние пятьдесят тысяч лет потеряли связь друг с другом.
Он рисовал яркие, живые картинки. Сейчас Галактика похожа на родную планету человека — они называли ее Земля, — какой она была в доисторические времена. Люди жили на разных континентах, каждая отдельная группа была хорошо знакома только со своими соседями.
— Совершив Скачок в неопределенном направлении, — сказал Бренмейер, — мы можем оказаться где угодно, возможно, на расстоянии многих тысяч световых лет от родного дома — разве реально найти определенный камешек в метеоритном облаке?
— А сами мы себя найдем? — покачав головой, спросил Трент. — Мы же не будем иметь ни малейшего представления о том, как добраться до какой-нибудь населенной планеты.
Бренмейер быстро огляделся по сторонам. Рядом никого не было, но старик все равно понизил голос до шепота:
— Вот уже тридцать лет я собираю сведения обо всех населенных планетах Галактики. Изучил архивные записи. Пролетел тысячи световых лет, побывал дальше, чем любой космический пилот. Так что теперь расположение всех населенных миров внесено в память самого лучшего компьютера в мире.
Трент изобразил вежливое удивление.
— Я занимаюсь созданием компьютеров, — пояснил Бренмейер, — и, естественно, имею в своем распоряжении самые лучшие. Кроме того, я рассчитал точное местоположение каждой испускающей излучение звезды спектрального класса F, В, А и О — это я тоже занес в память моего компьютера. Как только мы совершим Скачок, компьютер произведет спектральный анализ окружающих светил и сравнит полученные результаты с имеющейся у него картой Галактики. Как только он определит, где мы находимся — а рано или поздно он это обязательно сделает, — корабль автоматически совершит следующий Скачок в сторону ближайшей населенной планеты.
— Звучит слишком сложно.
— Тут не может быть никаких проколов. Я работал над этой проблемой целую жизнь, все получится. Мне осталось лет десять, которые я смогу прожить, как миллионер. Вы молоды — у вас впереди долгие годы, наполненные самыми разнообразными удовольствиями.
— Совершая Скачок в неопределенном направлении, существует шанс попасть внутрь звезды.
— Ни в коем случае, Трент! Конечно, мы можем оказаться так далеко от всех известных звезд, что компьютер не найдет* аналога в своей программе. Или мы прыгнем всего на один или два световых года, и полиция сядет нам на хвост. Впрочем, эта вероятность пренебрежимо мала. Если вам охота найти повод для беспокойства, почему бы не представить себе, что во время старта у вас случится сердечный приступ. Это, кстати, вполне реально.
— Для вас, мистер Бренмейер. Вы же гораздо старше.
— Я не в счет, — пожав плечами, сказал Бренмейер. — Компьютер сделает все сам, автоматически.
Трент кивнул, он запомнил эти слова. Однажды в полночь, когда корабль был готов к отлету и Бренмейер прибыл с чемоданчиком, в котором был криллиум — тут у него не возникло никаких проблем, потому что ему всецело доверяли, — Трент взял у него чемоданчик одной рукой, а другая сделала быстрое уверенное движение.
Нож по-прежнему оставался самым надежным оружием, он действовал так же быстро, как и молекулярный деполяризатор, был столь же смертоносным, но производил гораздо меньше шума. Трент оставил нож в теле, не позаботившись даже о том, чтобы стереть отпечатки пальцев. В этом не было никакой необходимости. Полиция его все равно не достанет.
Сейчас, находясь в глубоком космосе, зная, что его преследуют, Трент ощущал, как нарастает напряжение — так всегда бывало перед Скачком. Еще ни один физиолог не смог объяснить это чувство, известное любому пилоту.
На один короткий миг показалось, будто все вокруг вывернуто наизнанку: Трент и его корабль попали в не-космос и в не-время, превратились в не-материю и не-энергию — а потом, почти сразу, все снова вернулось на свои места, корабль стал единым целым, уже в другой части Галактики.
Трент улыбнулся. Он был жив. Ни одна из звезд не находилась слишком близко, но тысячи располагались совсем рядом. Расположение светил показалось Тренту незнакомым; значит, совершив Скачок, он попал достаточно далеко. Какие-то из этих звезд наверняка принадлежат к спектральному классу F, может быть, здесь даже найдется что-нибудь и получше. Компьютер без проблем справится с задачей, у него в памяти наверняка есть все, что необходимо. Много времени на это не уйдет.
Он устроился поудобнее в кресле и принялся наблюдать, как меняется рисунок звездного сияния — корабль, разумеется, вращался. Трент увидел яркую звезду — по-настоящему яркую. Звезда находилась всего в нескольких световых годах от корабля, опыт подсказал что это живая звезда, прекрасная и горячая. Компьютер возьмет ее за основу и станет искать среди своей огромной базы данных нужную информацию. И снова Трент подумал, что компьютеру не понадобится на это много времени.
Однако он ошибся. Проходили минуты. Прошел час. Компьютер по-прежнему деловито урчал, моргая огоньками.
Трент нахмурился. Почему проклятый ящик не в состоянии определить, куда они попали? В памяти компьютера наверняка хранятся данные об этой части Галактики. Бренмейер показывал, во что вылились долгие годы его кропотливой работы. Он не мог пропустить какую-нибудь звезду или ошибочно поместить ее в другое место.
Конечно же, звезды рождаются и умирают, и передвигаются в космическом пространстве, но все это происходит очень медленно, медленно. Миллионы лет… данные Бренмейера не могли…
Неожиданно Трента охватила паника. Нет! Не может быть! Вероятность настолько мала… скорее можно предположить, что попадешь внутрь звезды.
Он подождал, пока яркая звезда не оказалась снова у него перед глазами, и дрожащими руками навел на нее телескопическое увеличение. Настроил на максимум… и вокруг яркого пятна увидел едва различимую дымку — турбулентные газы, застывшие в самый разгар движения.
Сверхновая!
Прятавшаяся в неизвестности звезда вспыхнула ярким светом — может быть, всего месяц назад. Раньше она принадлежала к спектральному классу, на который компьютер не обратил бы внимания, зато теперь он не мог не принять ее в расчет.
Однако эта сверхновая не была внесена в память компьютера, потому что Бренмейер ее туда не поместил. Ее просто не существовало, когда он собирал свои данные — по крайней мере в виде звезды такой яркости.
— Плюнь на нее! — взвыл Трент. — Оставь в покое!
Но он обращался к машине, которая будет сравнивать расположение звезд с теми данными, что внесены в память, не найдет ничего похожего и продолжит свои поиски, снова и снова пытаясь решить задачу… и так до тех пор, пока не кончится запас энергии.
Воздух кончится гораздо раньше. Жизнь Трента кончится гораздо раньше.
Он безвольно откинулся на спинку кресла, не сводя глаз с мерцающих звезд и приготовившись к долгому, мучительному ожиданию смерти.
Если бы только он не поспешил пустить в ход нож…
Уродливый мальчуган
Как всегда, прежде чем открыть тщательно запертую дверь, Эдит Феллоуз сперва оправила свою униформу и только потом переступила ту невидимую черту, что отделяла реальный мир от несуществующего. При ней были ее записная книжка и авторучка, хотя с некоторых пор она больше не вела дневник и делала записи лишь от случая к случаю, когда без этого нельзя было обойтись.
На этот раз она несла с собой чемодан.
— Это игры для мальчиков, — улыбнувшись, сказала она охраннику, который давным-давно уже перестал задавать ей какие бы то ни было вопросы и только махнул рукой, пропуская ее.
И как всегда, уродливый мальчуган сразу же почувствовал ее присутствие и с плачем бросился ей навстречу.
— Мисс Феллоуз, мисс Феллоуз, — бормотал он, произнося слова мягко и не очень внятно — он единственный обладал такой дикцией.
— Что случилось, Тимми? — спросила она, проводя рукой по его бесформенной головке, поросшей густыми коричневыми волосами.
— Джерри будет приходить играть со мной? Мне ужасно совестно, что так получилось.
— Забудь об этом, Тимми. Вот почему ты плачешь, да?
Он отвернулся.
— Не совсем, мисс Феллоуз. Понимаете, я снова видел сон.
— Тот самый? — Мисс Феллоуз стиснула зубы.
Ну разумеется, сегодняшняя история с Джерри не могла не вызвать у мальчика то старое сновидение.
Он кивнул, пытаясь улыбнуться, и его широко растянувшиеся, выпяченные вперед губы обнажили слишком большие зубы.
— Мисс Феллоуз, когда же я наконец достаточно подрасту, чтобы выйти отсюда?
— Скоро, — ласково ответила она, чувствуя, как спелось ее сердце, — скоро.
Мисс Феллоуз позволила Тимми взять себя за руку и с радостью ощутила теплое прикосновение грубой сухой кожи его ладони. Он повел ее через комнаты, из которых состояла Первая Секция «Стасиса». Комнаты, бесспорно, вполне комфортабельные, но тем не менее они были для семилетнего (семилетнего ли?) уродца местом вечного заточения.
Он подвел ее к одному из окон, выходившему на заросшую кустарником опушку леса, скрытую сейчас ночной мглой. Прикрепленные к забору таблички запрещали кому бы то ни было приближаться к домику без особого на то разрешения.
Он прижался носом к оконному стеклу.
— Ты увидишь места гораздо лучше, красивее, чем это, — преодолевая грусть, сказала она, глядя на скорбное лицо маленького узника.
На его низкий скошенный лоб свисали спутанные пряди волос. Затылочная часть черепа выступом торчала над шеей, голова ребенка казалась непомерно тяжелой и, наклоняясь вперед, заставляла его сутулиться. Уже начали разрастаться, растягивая кожу, надбровные дуги. Его массивные челюсти гораздо больше выдавались вперед, чем широкий приплюснутый нос, а подбородка не было и в помине, только челюстная кость, плавно сходившая на нет. Он был слишком мал для своего возраста, неуклюж и кривоног.
Это был невероятно уродливый мальчик, и Эдит Феллоуз очень любила его.
Губы ее задрожали — она могла позволить себе сейчас такую роскошь: ее собственное лицо находилось вне поля зрения ребенка.
Нет, они не убьют его. Она пойдет на все, чтобы воспрепятствовать этому. На все. Она открыла чемодан и начала вынимать из него одежду для мальчика.
Эдит Феллоуз впервые переступила порог акционерного общества «Стасис инкорпорейтид» немногим более трех лет назад. Тогда у нее не было ни малейшего представления о том, что крылось за этим названием. Впрочем, этого в то время не знал никто, за исключением тех, кто там работал. И действительно, ошеломляющее известие потрясло мир только на следующий день после ее зачисления в штат. А незадолго до этого они дали в газете краткое объявление, в котором приглашали на работу женщину, обладающую знаниями в области физиологии, фармакологии и любящую детей. Эдит Феллоуз работала медсестрой в родильном отделении и посему пришла к выводу, что отвечает всем этим требованиям.
Джеральд Хоскинс, доктор физических наук, о чем свидетельствовала укрепленная на его письменном столе пластинка с соответствующей надписью, потер щеку большим пальцем и принялся внимательно ее разглядывать.
Инстинктивно сжавшись, мисс Феллоуз почувствовала, что у нее стало подергиваться лицо.
«Сам-то он отнюдь не красавец, — с обидой подумала она, — лысеет, начинает полнеть, да вдобавок выражение губ у него какое-то угрюмое, замкнутое…» Но так как сумма, предложенная за работу, оказалась значительно выше той, на которую она рассчитывала, мисс Феллоуз решила не торопиться с выводами.
— А вы действительно любите детей? — спросил Хоскинс.
— В противном случае я не стала бы притворяться.
— А может, вы любите только хорошеньких детей? Этаких прелестных сюсюкающих херувимчиков с крошечными носиками?
— Дети всегда остаются детьми, доктор Хоскинс, — ответила мисс Феллоуз, — и случается, что именно некрасивые дети больше других нуждаются в ласке.
— Предположим, что мы возьмем вас…
— Так вы согласны нанять меня?
На его широком лице мелькнула улыбка, придав ему на какой-то миг странную привлекательность.
— Я быстро принимаю решения, — сказал он. — Пока я еще ничего не предлагаю вам и вполне могу отпустить вас ни с чем. А сами-то вы готовы принять мое предложение?
Стиснув руками сумочку, мисс Феллоуз со всей доступной ей быстротой стала подсчитывать в уме выгоды, которые сулила ей новая работа, но, повинуясь внезапному импульсу, сразу оставила все расчеты.
— Да.
— Прекрасно. Сегодня вечером мы собираемся пустить «Стасис» в ход, и я думаю, что вам следует присутствовать при этом, чтобы сразу же приступить к своим обязанностям. Это произойдет в восемь часов вечера, и я надеюсь увидеть вас здесь в семь тридцать.
— Но, что…
— Ладно, ладно. Пока все.
По сигналу вошла улыбающаяся секретарша и выпроводила ее из кабинета.
Выйдя, мисс Феллоуз какое-то время молча смотрела на дверь, за которой остался мистер Хоскинс. Что такое «Стасис»? Какое отношение к детям имеет это огромное, напоминающее сарай здание, служащие с прикрепленными к одежде непонятными значками, длинные коридоры и та характерная атмосфера технического производства, которую ни с чем не спутаешь?
Она спрашивала себя, стоит ли ей возвращаться сюда вечером или же лучше не приходить совсем, проучив тем самым этого человека за его высокомерную снисходительность. И в то же время не сомневалась, что вернется, хотя бы только из любопытства. Она должна выяснить, при чем же здесь все-таки дети.
Когда ровно в половине восьмого она снова пришла туда, она сразу обратила внимание на то, что ей не понадобилось ничего о себе сообщать. Все, кто попадались ей на пути, как мужчины, так и женщины, казалось, отлично знали не только, кто она, но и характер ее будущей работы. Ее немедленно провели внутрь здания.
Она увидела доктора Хоскинса, но он, рассеянно взглянув на нее и буркнув ее имя, даже не предложил ей сесть. Она сама спокойно пододвинула стул к перилам и села.
Они находились на балконе, с которого открывался вид на обширную шахту, заполненную какими-то приборами, представляющими собой на первый взгляд нечто среднее между пультом управления космического корабля и контрольной панелью ЭВМ.
В другой части шахты были перегородки, служившие стенами для лишенной потолка квартиры. Это походило на гигантский кукольный домик, внутреннее убранство которого просматривалось как на ладони с того места, где сидела мисс Феллоуз.
Ей были ясно видны стоявшие в одной из комнат электронная плита и холодильная установка и расположенное в другом помещении оборудование ванной. А предмет, который ей удалось рассмотреть в третьей комнате, мог быть только кроватью, маленькой кроватью…
Хоскинс разговаривал с каким-то мужчиной. Вместе с мисс Феллоуз на балконе их было трое. Хоскинс не представил ей незнакомца, и мисс Феллоуз оставалось лишь исподтишка разглядывать его. Это был худой мужчина средних лет, довольно приятной наружности. У него были маленькие усики и живые глаза, казалось ничего не упускающие из виду.
— Я отнюдь не собираюсь, доктор Хоскинс, делать вид, что мне все это понятно, — говорил он. — Я хочу сказать, что понимаю кое-что лишь в тех пределах, которые доступны достаточно эрудированному неспециалисту. Ко, учитывая ограниченность моих познаний, хочу заметить, что одна сторона проблемы мне менее ясна, чем другая. Я имею в виду выборочность. Вы в состоянии проникнуть очень далеко; допустим, это можно понять. Чем дальше вы продвигаетесь, тем туманнее, расплывчатое становятся объекты, а это требует большой затраты энергии. Но в то же время вы не можете достичь более близкого объекта. Вот что для меня загадка.
— Если вы позволите мне воспользоваться аналогией, Девени, я постараюсь объяснить вам это так, чтобы суть изобретения казалась менее парадоксальной.
Проскользнувшее в разговоре имя незнакомца, помимо ее воли, произвело на мисс Феллоуз большое впечатление, и ей тут же стало ясно, кто он. Это, видимо, был тот самый Кэндид Девени, писавший для телевизионных программ сценарии научных передач, тот Кэндид Девени, личным присутствием которого были отмечены все крупнейшие события в научном мире. Теперь его лицо показалось ей знакомым. Конечно же, именно его видела она на экране, когда объявили о посадке космического корабля на Марс. А если это действительно тот самый Девени, значит, доктор Хоскинс собирается сейчас продемонстрировать нечто очень важное.
— Если вы считаете, что это поможет, почему бы вам и не воспользоваться аналогией? — спросил Девени.
— Ну хорошо. Итак, вам, конечно, известно, что вы не в состоянии читать книгу со шрифтом обычного формата, если эта книга находится от вас на расстоянии шести футов, но это сразу же становится возможным, как только расстояние между вашими глазами и книгой сократится до одного фута. Как видите, в данном случае пока действует правило — чем ближе, тем лучше. Но если вы приблизите книгу настолько, что между нею и вашими глазами останется всего лишь один дюйм, вы снова потеряете способность читать ее. Таким образом, вам должно быть ясно, что слишком большая близость — это тоже препятствие.
— Хм, — произнес Девени.
— А вот вам другой пример. Расстояние от вашего правого плеча до кончика указательного пальца правой руки составляет примерно тридцать дюймов, и вы можете свободно коснуться этим пальцем правого плеча. Расстояние же от вашего правого локтя до кончика указательного пальца той же руки вдвое меньше, и если руководствоваться простейшей логикой, то получается, что коснуться правым указательным пальцем правого локтя легче, чем правого плеча, однако же вы этого сделать не можете. И опять-таки этому мешает слишком большая близость.
— Вы разрешите использовать эти аналогии в Моем очерке? — спросил Девени.
— Пожалуйста. Я только буду рад. Я ведь достаточно долго ждал того времени, когда кто-нибудь вроде вас напишет о нашей работе. Я дам все необходимые вам сведения. Наконец-то мы можем разрешить всему миру заглянуть через наше плечо. И мир кое-что увидит.
(Мисс Феллоуз поймала себя на том, что невольно восхищается его спокойствием и уверенностью. В нем угадывалась огромная сила духа.)
— Каков предел ваших возможностей? — спросил Девени.
— Сорок тысяч лет.
У мисс Феллоуз перехватило дыхание.
— Лет?!
Казалось, сам воздух застыл в напряжении. Люди у приборов управления почти не двигались. Кто-то монотонно бросал в микрофон короткие фразы, смысл которых мисс Феллоуз не могла уловить.
Перегнувшись через перила балкона, Девени внимательно всматривался в то, что происходит на дне шахты.
— Мы увидим что-нибудь, доктор Хоскинс? — спросил он.
— Что вы сказали? Нет, мы ничего не увидим до тех пор, пока все не свершится. Мы обнаруживаем объект косвенно, как бы по принципу радарной установки, с той разницей, что вместо электромагнитных волн используем мезоны. При наличии соответствующих условий мезоны возвращаются, причем некоторая часть их отражается от каких-либо объектов, и наша задача состоит в исследовании этих отражений.
— Должно быть, это задача не из легких.
На лице Хоскинса промелькнула его обычная улыбка.
— Перед вами результат пятидесяти лет упорных исканий. Лично я занялся этой проблемой десять лет назад. Да, это действительно трудновато.
Человек у микрофона поднял руку.
— Уже несколько недель мы фиксируем один объект из отдаленного прошлого. Предварительно рассчитав наши собственные перемещения во времени, мы то прекращаем опыт, то воссоздаем его заново, еще и еще раз проверяя нашу способность с достаточной точностью ориентироваться во времени. Теперь это должно сработать безотказно.
Но лоб его блестел от пота.
Эдит Феллоуз вдруг заметила, что машинально встала со стула и тоже стоит у перил, но смотреть пока было не на что.
— Готово, — спокойно произнес человек у микрофона.
Наступила тишина, продолжавшаяся ровно столько, сколько требуется времени на один вздох, и из кукольного домика раздался пронзительный вопль смертельно испуганного ребенка.
Ужас! Непередаваемый ужас!
Мисс Феллоуз резко повернула голову в направлении крика. Она забыла, что во всем этом замешан ребенок.
А Хоскинс, стукнув кулаком по перилам, голосом, изменившимся и дрожащим от торжества, произнес:
— Сработало.
Подталкиваемая в спину твердой рукой Хоскинса, который не соизволил даже заговорить с ней, мисс Феллоуз спустилась по короткой винтовой лестнице в шахту.
Те, кто до этого момента находился у приборов, собрались теперь здесь. Они курили и, улыбаясь, наблюдали за появившейся в главном помещении троицей. Со стороны кукольного домика доносилось слабое жужжание.
— Вхождение в «Стасис» не представляет ни малейшей опасности, — обратился Хоскинс к Девени. — Я сам проделывал это множество раз. На какой-то миг у вас возникнет странное ощущение, которое никак не влияет на человеческий организм.
И словно желая продемонстрировать правильность своих слов, он вошел в открытую дверь. Напряженно улыбаясь и почему-то сделав глубокий вдох, за ним последовал Девени.
— Идите сюда, мисс Феллоуз! — нетерпеливо воскликнул Хоскинс, поманив ее пальцем.
Мисс Феллоуз кивнула и неловко переступила порог. Ей показалось, что по телу ее пробежала дрожь, но как только она очутилась внутри дома, это ощущение полностью исчезло. В доме пахло свежей древесиной и влажной почвой.
Теперь здесь было тихо, во всяком случае больше не слышно было голоса ребенка, но зато откуда-то доносилось шарканье ног и шорох, будто кто-то проводил рукой по дереву. Потом послышался стон.
— Где же он? — в отчаянии воскликнула мисс Феллоуз. — Неужели этим недоумкам безразлично, что там происходит?
Мальчик находился в спальне или, вернее, в комнате, где стояла кровать.
Он был наг, и его забрызганная грязью грудь нервно вздымалась. Охапка смешанной с землей жесткой травы лежала на полу у его босых коричневых ног. От этой кучи исходил запах земли с примесью какого-то зловония.
Хоскинс прочел откровенный ужас в ее устремленных на ребенка глазах и с раздражением произнес:
— Не было никакой возможности, мисс Феллоуз, вытащить мальчишку чистым из такой глубины веков. Мы вынуждены были захватить для безопасности кое-что из того, что его окружало. Может, вы предпочли бы, чтоб он явился сюда без ноги или части черепа?
— Прошу вас, не надо! — воскликнула мисс Феллоуз, изнемогая от желания прекратить этот разговор. — Почему мы бездействуем? Бедный ребенок испуган. И он грязный.
Она была права. Мальчик был покрыт кусками засохшей грязи и какого-то жира, а его бедро пересекала воспаленная царапина.
Когда Хоскинс приблизился к нему, ребенок, которому на вид можно было дать года три, низко пригнулся и быстро отскочил назад. Его верхняя губа оттопырилась, и он издал какой-то странный звук, нечто среднее между ворчанием и кошачьим шипением.
Хоскинс резким движением схватил его за руки и оторвал отчаянно кричащего и извивающегося ребенка от пола.
— Держите его так, — сказала мисс Феллоуз. — Прежде всего ему требуется теплая ванна. Его нужно как следует отмыть. У вас есть здесь все необходимое? Если есть, то попросите принести вещи сюда и хотя бы вначале помогите мне с ним управиться. Кроме того, ради всех святых, распорядитесь, чтобы отсюда убрали весь этот мусор.
Теперь настал ее черед отдавать приказания, и чувствовала она себя в новой роли прекрасно. И поскольку растерянная наблюдательница уступила место опытной медицинской сестре, она взглянула на ребенка уже другими глазами, с профессиональной точки зрения, и на какой-то миг в замешательстве замерла. Грязь, которой он был покрыт, его вопли, извивающееся в тщетной борьбе тело — все куда-то отступило. Она рассмотрела самого ребенка.
Это был самый уродливый мальчуган из всех, которых ей приходилось когда-либо видеть. Он был невероятно безобразен — от макушки бесформенной головы до изогнутых колесом ног.
С помощью трех мужчин ей удалось выкупать мальчика. Остальные в это время пытались очистить помещение от мусора. Она работала молча, с чувством оскорбленного достоинства, раздраженная ни на минуту не прекращающимися криками и сопротивлением маленького урода.
Доктор Хоскинс намекнул ей, что ребенок будет некрасив, но кто мог предположить, что он окажется столь безобразным. И ни мыло, ни вода не в состоянии были до конца уничтожить исходивший от него отвратительный запах, который лишь постепенно становился слабее.
Ей вдруг страстно захотелось швырнуть намыленного мальчишку Хоскинсу на руки и уйти, но ее удержала от этого профессиональная гордость. В конце концов ведь она сама согласилась на эту работу… А кроме того, она представила, какими глазами посмотрит на нее доктор Хоскинс, его холодный взгляд, в котором она прочтет неизбежный вопрос: «Так, значит, вы все-таки любите только красивых детей, мисс Феллоуз?»
Он стоял в некотором отдалении, с холодной улыбкой наблюдая за ними. Когда она встретилась с ним взглядом, ей показалось, что кипевшее в ее душе чувство оскорбленного достоинства забавляет его.
Она тут же решила, что немного повременит с уходом. Сейчас это только унизило бы ее.
Когда кожа ребенка приняла наконец вполне сносный розовый оттенок и запахла душистым мылом, она, несмотря на все переживания, почувствовала себя лучше. Кричать мальчик уже был не в состоянии, он лишь устало скулил, а его испуганный, настороженный взгляд быстро перебегал с одного лица на другое, не упуская из виду никого, кто находился в комнате. То, что он был теперь чист, только подчеркивало худобу его обнаженного, дрожащего от холода после ванны тела.
— Дайте же наконец ночную рубашку для ребенка! — резко сказала мисс Феллоуз.
В тот же миг откуда-то появилась ночная рубашка. Казалось, все было подготовлено заранее, однако никто не трогался с места до ее приказа, как будто умышленно оставляя за ней право распоряжаться и тем самым испытывая ее профессиональные качества.
— Я подержу его, мисс, — подойдя к ней, сказал Девени. — Одна вы не справитесь.
— Благодарю.
Прежде чем удалось надеть на ребенка рубашку, им пришлось выдержать настоящую битву, а когда мальчик попытался сорвать ее, мисс Феллоуз сильно ударила его по руке.
Ребенок покраснел, но не заплакал. Он во все глаза уставился на нее, ощупывая неловкими пальцами фланель рубашки, как бы исследуя этот неведомый ему предмет.
«А теперь что?» — в отчаянии подумала мисс Феллоуз.
Все они, даже уродливый мальчуган, замерли, как бы ожидая, что она будет делать дальше.
— Вы позаботились о пище, о молоке? — решительно спросила мисс Феллоуз.
Они предусмотрели и это. В комнату вкатили специальный передвижной агрегат, состоявший из холодильного отделения, в котором стояло три кварты молока, и нагревательного устройства; в нем была и аптечка с большим количеством укрепляющих средств. Она заметила витаминизированные капли, медно-кобальтово-железистый сироп и много других препаратов, рассмотреть которые не успела. Кроме того, там находился набор самосогревающегося детского питания.
Для начала она взяла одно только молоко. Электронная установка за каких-нибудь десять секунд согрела его до нужной температуры и автоматически выключилась. Она налила немного молока в блюдце, не сомневаясь, что уровень развития ребенка очень низок и он не умеет обращаться с чашкой.
Мисс Феллоуз кивнула мальчику и, обращаясь к нему, произнесла:
— Пей, ну пей же. — Она жестом показала ему, как поднести блюдце ко рту.
Глаза ребенка следили за ее движениями, но он не шевельнулся.
Внезапно она решилась. Схватив мальчика за руку повыше локтя, она опустила свою свободную руку в молоко и провела ею по его губам, так что капли жидкости потекли по его щекам и подбородку.
Он отчаянно завопил, но, вдруг умолкнув, начал облизывать свои влажные губы. Мисс Феллоуз отступила назад.
Мальчик приблизился к блюдцу, наклонился к нему и затем, быстро оглянувшись по сторонам, как бы высматривая притаившегося врага, снова нагнулся к молоку и начал его жадно лакать, как кошка, издавая при этом какой-то неопределенный звук. Он даже не попытался приподнять блюдце руками.
Мисс Феллоуз была не в силах до конца скрыть охватившее ее при виде этого чувство, и, вероятно, кое-что отразилось на ее лице, потому что Девени, взглянув на нее, спросил:
— Доктор Хоскинс, а сестра в курсе того, что происходит?
— В курсе чего? — поинтересовалась мисс Феллоуз.
Девени заколебался, но Хоскинс, по выражению лица которого снова можно было заключить, что все это втайне его забавляет, произнес:
— Что ж, можете ей сказать.
— Вы, по всей вероятности, даже не подозреваете, — обратился Девени к мисс Феллоуз, — что волею случая вы — первая в истории цивилизованная женщина, которой пришлось ухаживать за ребенком-неандертальцем.
Сдержав гнев, мисс Феллоуз повернулась к Хоскинсу.
— Вы могли бы предупредить меня заранее, доктор.
— А зачем? Какая вам разница?
— Речь шла о ребенке.
— А разве это не ребенок? У вас когда-нибудь был щенок или кошка, мисс Феллоуз? Неужели в них больше человеческого? А если бы это оказался детеныш шимпанзе, вы бы почувствовали к нему отвращение? Вы медицинская сестра, мисс Феллоуз. Судя по вашим документам, вы работали три года в родильном отделении. Вы когда-нибудь отказывались ухаживать за ребенком-уродом?
— Вы все-таки могли бы сказать мне это раньше, — уже менее решительно произнесла она.
— Для того чтобы вы отказались от этой работы? Не следует ли из этого, что вы собираетесь это сделать сейчас?
Он холодно посмотрел ей прямо в глаза. С другого конца комнаты за ними наблюдал Девени, а маленький неандерталец, — покончив с молоком и вылизав начисто блюдце, поднял к ней мокрое лицо с широко раскрытыми, о чем-то молящими глазами.
Мальчик жестом указал на блюдце, и вдруг из его рта посыпались отрывистые гортанные звуки вперемежку с искусным прищелкиванием языка.
— А ведь он говорит! — удивленно воскликнула мисс Феллоуз.
— Конечно, — сказал Хоскинс. — Homo neanderthalensis в действительности является не отдельным видом, а скорее разновидностью Homo sapiens. Так почему бы ему не уметь говорить? Возможно, он просит еще молока.
Мисс Феллоуз машинально потянулась за бутылкой, но Хоскинс схватил ее за руку.
— А теперь, мисс Феллоуз, прежде чем вы сделаете еще хоть одно движение, вы должны сказать, остаетесь вы или нет.
Мисс Феллоуз раздраженно высвободила руку.
— А если я уйду, вы что, не собираетесь кормить его? Я побуду с ним… некоторое время.
Она налила ребенку молока.
— Мы намерены оставить вас здесь с мальчиком, мисс Феллоуз, — сказал Хоскинс. — Это единственный вход в Первую Секцию «Стасиса». Дверь тщательно запирается и охраняется снаружи. Я хотел бы, чтобы вы изучили систему замка, который будет, конечно, настроен на отпечатки ваших пальцев, так же как он настроен на отпечатки моих. Пространство наверху (он поднял взгляд к несуществующему потолку кукольного домика) охраняется тоже, и мы будем предупреждены, если здесь произойдет что-либо необычное.
— Вы хотите сказать, что я все время буду находиться под наблюдением? — возмущенно воскликнула мисс Феллоуз, вдруг вспомнив, как она сама рассматривала с балкона внутреннюю часть помещения.
— О нет, — серьезно заверил ее Хоскинс, — мы гарантируем, что ни один человек не будет свидетелем вашей частной жизни. Все объекты в виде электронных символов передаются вычислительной машине, и только она будет иметь с ними дело. Вы проведете с мальчиком эту ночь, мисс Феллоуз, а также и все последующие впредь до особого распоряжения. Мы предоставим вам несколько свободных часов в дневное время, и вы сами составите их расписание, исходя из ваших потребностей.
Мисс Феллоуз в недоумении окинула взглядом внутренность кукольного домика.
— А для чего столько предосторожностей, доктор Хоскинс? Разве мальчик представляет собой какую-нибудь опасность?
— Видите ли, мисс Феллоуз, все дело в энергии. Он никогда не должен покидать это помещение. Никогда. Ни на секунду. Ни по какой причине, даже если от этого зависит его жизнь. Даже для того, чтобы спасти вашу жизнь, мисс Феллоуз. Вы поняли меня?
Мисс Феллоуз гордо вскинула голову.
— Я знаю, что такое приказ, доктор Хоскинс. Медицинская сестра привыкает к тому, чтобы во имя долга жертвовать собственной безопасностью.
— Отлично. Вы всегда можете просигнализировать, если вам что-нибудь понадобится.
И двое мужчин покинули «Стасис».
Обернувшись, мисс Феллоуз увидела, что мальчик, не притрагиваясь к молоку, по-прежнему не спускает с нее настороженного взгляда. Она попыталась жестами показать ему, как поднять блюдце ко рту. Он не последовал ее примеру, однако на этот раз, когда она прикоснулась к нему, он не закричал.
Его испуганные глаза ни на секунду не переставали следить за ней, словно подстерегая ее малейшее неверное движение. Она вдруг заметила, что инстинктивно пытается успокоить его, медленно приближая руку к его волосам, стараясь, однако, чтобы ее рука была все время в поле его зрения. Тем самым она давала ему понять, что в этом жесте не кроется никакой для него опасности.
И ей удалось погладить его по голове.
— Я хочу показать тебе, как пользоваться туалетом, — произнесла она. — Как, по-твоему, ты сможешь этому научиться?
Она говорила очень мягко и осторожно, отлично сознавая, что он не поймет ни одного слова, надеясь на то, что сам звук ее голоса повлияет на него успокаивающе.
Мальчик снова защелкал языком.
— Можно взять тебя за руку? — спросила она. Она протянула ему обе руки и замерла в ожидании. Рука ребенка медленно двинулась навстречу ее руке.
— Правильно, — кивнула она.
Но когда рука мальчика была уже в каком-нибудь дюйме от ее собственной, он отдернул ее.
— Ну что ж, — спокойно сказала мисс Феллоуз, — позже мы попробуем еще раз. Не хочется ли тебе посидеть? — Она похлопала рукой по кровати.
Медленно текло время, еще медленнее продвигалось воспитание ребенка. Ей не удалось приучить его ни к туалету, ни к кровати. Когда мальчику явно захотелось спать, он опустился на ничем не покрытый пол и быстрым движением юркнул под кровать.
Она нагнулась, чтобы взглянуть на него, и из темноты на нее уставились два горящих глаза, и она услышала уже знакомое прищелкивание.
— Ладно, — сказала она, — если ты чувствуешь себя там в большей безопасности, можешь спать под кроватью.
Она прикрыла дверь спальни и удалилась в самую большую из трех комнат, где для нее была приготовлена койка, над которой по ее требованию натянули временный тент.
«Если эти дураки хотят, чтобы я здесь ночевала, — подумала она, — они должны повесить в этой комнате зеркало, заменить шкаф более вместительным и оборудовать отдельный туалет».
Она никак не могла заснуть, невольно напрягая слух, чтобы не упустить ни одного звука, который мог раздаться в соседней комнате. Она убеждала себя в том, что ребенок не в состоянии выбраться из дома, но, несмотря на это, ее грызли сомнения. Совершенно гладкие стены были, безусловно, очень высоки, ну а вдруг мальчишка лазает как обезьяна? Впрочем, Хоскинс заверил ее, что за всем происходящим внизу следят специальные наблюдательные устройства.
Неожиданно ей пришла в голову новая мысли: а что, если мальчик все-таки опасен? Опасен в самом прямом смысле этого слова? Нет, Хоскинс не скрыл бы это от нее, не оставил бы; ее с ним одну, если б…
Она попыталась разубедить себя, смеясь про себя над своими страхами. Ведь это был всего лишь трех — или четырехлетний ребенок. Однако ей, несмотря на все усилия, не удалось обрезать ему ногти. А что если, когда она заснет, он вздумает напасть на нее, пустив в ход зубы и ногти…
У нее участилось дыхание. Как странно, и все же… Она мучительно напрягла слух, и на этот раз ей удалось уловить какой-то звук.
Мальчик плакал.
Не кричал от страха или злобы, не выл и не визжал, а именно тихо плакал, как убитый горем, глубоко несчастный одинокий ребенок.
«Бедняжка», — подумала мисс Феллоуз, и впервые со встречи с ним сердце ее пронзила острая жалость.
Ведь это настоящий ребенок, так какое же, в сущности, значение имеет форма его головы? И это не просто ребенок, а ребенок осиротевший, как ни одно дитя за всю историю человечества. Тысячи лет назад не только умерли его родители, но безвозвратно исчезло все, что его когда-то окружало. Грубо выхваченный из давно ушедшего времени, он был теперь единственным во всем мире существом такого рода. Последним и единственным.
Она почувствовала, как ее все больше охватывает глубокое сострадание и стыд за свое бессердечие. Тщательно оправив ночную сорочку, чтобы она по возможности лучше прикрывала ей ноги (и ловя себя на совершенно неуместной сейчас мысли, что завтра же необходимо принести сюда халат), она встала с постели и направилась в соседнюю комнату.
— Мальчик, а мальчик! — шепотом позвала она.
Она совсем уж было собралась просунуть под кровать руку, но, сообразив, что он может укусить ее, решила не делать этого. Она зажгла ночник и отодвинула кровать.
Несчастный ребенок, прижав колени к подбородку, комочком свернулся в углу, глядя на нее заплаканными, полными страха глазами.
В полумраке его внешность показалась ей не такой отталкивающей.
— Ах ты, бедняга, бедняга, — произнесла она, осторожно гладя его по голове, чувствуя, как мгновенно напряглось, а потом постепенно расслабилось его тело. — Бедный мальчуган. Можно мне побыть с тобой?
Она села рядом с ним на пол и начала медленно и ритмично гладить его волосы, щеку, руку, тихо напевая какую-то ласковую песенку.
Когда она запела, ребенок поднял голову, пытаясь разглядеть при слабом свете ночника ее губы, словно его заинтересовал этот непривычный для него звук.
Воспользовавшись этим, она притянула его к себе, и ласковым, но решительным движением ей удалось постепенно приблизить его голову к своему плечу. Она просунула руку под его ноги и не спеша, плавно подняла его к себе на колени. Снова и снова повторяя все тот же несложный куплет и не выпуская из рук ребенка, она медленно качалась вперед и назад, баюкая его. Он постепенно успокоился, и вскоре по его ровному дыханию она поняла, что мальчик заснул.
Очень осторожно, стараясь не шуметь, она пододвинула на место кровать и положила на нее ребенка. Укрыв спящего, она внимательно посмотрела на него. Во сне его лицо казалось таким мирным, таким ребячьим, что, право же, его безобразие как-то меньше бросалось в глаза.
Она уже направилась на цыпочках к двери, как вдруг подумала: «А что, если он вдруг проснется?» И повернула назад.
Преодолев внутреннее сопротивление и справившись с охватившими ее разноречивыми чувствами, она вздохнула и медленно опустилась на кровать рядом с ребенком.
Кровать была для нее слишком мала, и ей пришлось скорчиться, чтобы как-то улечься на ней. Кроме того, она не могла избавиться от чувства неловкости, причиной которого было отсутствие над кроватью тента. Но рука ребенка робко скользнула в ее ладонь, и вскоре она задремала.
Она проснулась, как от внезапного толчка, и едва не вскрикнула от ужаса. Мальчик смотрел на нее в упор широко раскрытыми глазами, и ей понадобилось довольно много времени, чтобы вспомнить, как она очутилась на его кровати. Медленно, не отрывая от него взгляда, она спустила на пол сначала одну, лотом другую ногу.
Бросив быстрый испуганный взгляд в сторону отсутствующего потолка, она напрягла мускулы для последнего решительного движения, чтобы побыстрей встать с кровати.
Но в этот миг мальчик, вытянув руку, коснулся ее губ своими похожими на обрубки пальцами и что-то произнес.
Это прикосновение заставило ее невольно отпрянуть. При дневном свете он был непередаваемо безобразен.
Мальчик опять повторил какую-то фразу, а затем, широко разинув рот, движением руки попытался показать, будто из него что-то вытекает.
Мисс Феллоуз задумалась, пытаясь отгадать, что означает этот жест, и вдруг взволнованно воскликнула:
— Ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь спела?
Мальчик молча смотрел на ее губы.
Несколько фальшивя от напряжения, мисс Феллоуз запела ту самую песенку, что накануне ночью, и маленький урод улыбнулся, неуклюже раскачиваясь в такт мотива и издавая при этом какой-то булькающий звук, похожий на смех.
Мисс Феллоуз незаметно вздохнула. Да, правильно говорят, что музыка усмиряет дикаря. Она может помочь…
— Подожди немного, — сказала она, — дай мне привести себя в порядок — это займет не больше минуты. А потом я приготовлю тебе завтрак.
Ни на секунду не забывая об отсутствии потолка, она быстро покончила со своими делами. Мальчик лежал в постели, внимательно наблюдая за ней, когда она появлялась в поле его зрения. И каждый раз она улыбалась и махала ему рукой. В конце концов он тоже помахал ей в ответ, и она нашла этот жест очаровательным.
— Ты хочешь молочную овсяную кашу? — спросила она.
На приготовление каши ушло несколько секунд, и когда еда была на столе, она поманила его рукой.
Неизвестно, понял ли он значение ее жеста или его привлек запах пищи, но мальчик тут же вылез из кровати.
Она попыталась научить его пользоваться ложкой, но он в страхе отпрянул. («Ничего, у нас впереди еще много времени», — подумала она.) Однако она настояла на том, чтобы он руками поднял миску ко рту. Он повиновался, но действовал так неловко, что весь перепачкался, хотя большую часть каши он все-таки проглотил.
На этот раз она дала ему молоко в стакане, и мальчуган, обнаружив, что отверстие сосуда слишком мало, чтобы просунуть а него голову, жалобно захныкал. Она взяла его руку и, прижав его пальцы к стакану, заставила его поднести стакан ко рту.
Снова все было облито и испачкано, но, как и в первый раз, большая часть молока все-таки попала ему в рот, а что касается беспорядка, то она привыкла и не к такому.
К ее удивлению, освоить туалет оказалось задачей попроще, что принесло ей немалое облегчение. Он довольно быстро понял, чего она ждет от него. Она поймала себя на том, что гладит его по голове, приговаривая:
— Вот это хороший мальчик, вот это умница!
И ребенок улыбнулся, доставив ей неожиданное удовольствие.
«Когда он улыбается, он, право же, вполне сносен», — подумала она.
В этот же день после полудня прибыли представители прессы. Пока они устанавливали в дверях свою аппаратуру, она взяла мальчика на руки, и он крепко прижался к ней. Суета испугала его, и он громко заплакал, но несмотря на это, прошло не менее десяти минут, пока ей разрешили унести ребенка в соседнюю комнату.
Она вскоре вернулась, покраснев от возмущения, и в первый раз за восемнадцать часов вышла из домика, плотно закрыв за собой дверь.
— Я думаю, что с вас на сегодня хватит. Теперь мне понадобится бог знает сколько времени, чтобы успокоить его. Уходите.
— Ладно, ладно, — произнес репортер из «Таймс геральд». — А это действительно неандерталец или какое-нибудь жульничество?
— Уверяю вас, что это не мистификация, — раздался откуда-то сзади голос Хоскинса. — Ребенок — настоящий Homo neanderthalensis.
— Это мальчик или девочка?
— Это мальчик-обезьяна, — вмешался репортер из «Ньюс». — Нам сейчас показали детеныша обезьяны. Как он себя ведет, сестра?
— Он ведет себя точно так же, как любой другой маленький мальчик, — отрезала мисс Феллоуз. Раздражение заставило ее стать на защиту ребенка, — и он вовсе не детеныш обезьяны. Его зовут… Тимоти, Тимми.
Имя Тимоти было выбрано ею совершенно случайно — просто оно первым пришло ей в голову.
— Тимми — мальчик-обезьяна, — изрек репортер из «Ньюс», и сложилось так, что именно под этой кличкой ребенок впервые стал известен всему миру.
— Скажите, док, что вы собираетесь делать с этой обезьяной? — спросил, обращаясь к Хоскинсу, репортер из «Глоба».
Хоскинс пожал плечами.
— Видите ли, моя первоначальная задача заключалась в том, чтобы доказать возможность перенесения его в наше время. Однако я полагаю, что он заинтересует антропологов и физиологов. Ведь перед нами существо, по своему развитию стоящее на грани между животным и человеком. Теперь у нас есть возможность узнать многое о нас самих и о наших предках.
— И долго вы намерены держать его здесь?
— Столько, сколько нам понадобится на его изучение плюс еще какой-то период после завершения исследований. Не исключено, что на это потребуется довольно много времени.
— Не могли бы вы вывести его из дома? Тогда мы установили бы телевизионную аппаратуру и состряпали потрясающий сюжет.
— Очень сожалею, но ребенок не может выйти за пределы «Стасиса».
— А что такое «Стасис»?
— Боюсь, джентльмены, что объяснять это придется слишком долго. — Хоскинс позволил себе улыбнуться. — А вкратце суть дела в том, что время, каким мы его себе представляем, в «Стасисе» не существует. Эти комнаты как бы покрыты невидимой оболочкой и не являются в полном смысле слова частью нашего мира. Именно поэтому и удалось извлечь, так сказать, ребенка из прошлого.
— Постойте-ка, — перебил репортер из «Ньюс», которого явно не удовлетворило объяснение Хоскинса, — что это вы несете? Ведь сестра свободно входит в помещение и выходит из него.
— Это может сделать любой из вас, — небрежно ответил Хоскинс. — Вы будете двигаться параллельно временным силовым линиям, и это не повлечет за собой сколько-нибудь значительной потери или притока энергии. Ребенок же был доставлен сюда из далекого прошлого. Его движение происходило поперек силовых линий, и он получил временной потенциал. Для того чтобы переместить его в наш мир, в наше время, потребуется израсходовать всю энергию, накопленную нашим акционерным обществом, а также, возможно, и весь запас энергии города Вашингтона. Мы были вынуждены сохранить доставленный сюда вместе с мальчиком мусор, и нам придется выносить его отсюда постепенно, по крупицам.
Пока Хоскинс давал объяснения, корреспонденты что-то деловито строчили в своих блокнотах. Из всего сказанного они ровным счетом ничего не поняли и были убеждены в том, что их читателей постигнет та же участь: однако все звучало мудрено, научно, а именно это и требовалось.
— Вы сможете дать сегодня вечером интервью? — спросил представитель «Таймс геральда». — Оно будет передаваться по всем каналам.
— Пожалуй, смогу, — быстро ответил Хоскинс, и репортеры удалились.
Мисс Феллоуз молча смотрела им вслед. Все, что было сказано о «Стасисе» и о временных силовых линиях, она поняла не лучше, чем журналисты. Но одно усвоила твердо. Тимми (она поймала себя на том, что уже думает о мальчике, как о «Тимми») приговорен к вечному заключению в стенах «Стасиса», причем это не было простым капризом Хоскинса. Видимо, и вправду невозможно выпустить его отсюда. Никогда.
Бедный ребенок. Бедный ребенок.
Внезапно до ее сознания дошло, что он все еще плачет, и она поспешила в дом, чтобы успокоить его.
Мисс Феллоуз не удалось увидеть выступление Хоскинса по телевидению; хотя его интервью передавалось не только в самых отдаленных уголках Земли, но даже на станции на Луне, оно не проникло в маленькую квартирку, где жили теперь мисс Феллоуз и уродливый мальчуган.
На следующее утро Хоскинс спустился к ним, сияя от торжества.
— Интервью прошло удачно? — спросила мисс Феллоуз.
— Исключительно удачно. А как поживает… Тимми?
Услышав, что он назвал мальчика по имени, мисс Феллоуз была приятно удивлена.
— Все в порядке. Иди сюда, Тимми, это добрый дядя, он тебя не обидит.
Но Тимми не пожелал выйти из другой комнаты, из-за полуприкрытой двери виднелся только клок его спутанных волос да время от времени робко показывался один блестящий глаз.
— Мальчик удивительно быстро привыкает к обстановке, право же, он весьма сообразителен.
— Вас это удивляет?
— Да. Боюсь, что вначале я приняла его за детеныша обезьяны, — секунду поколебавшись, ответила она.
— Кем бы он ни был, он очень много для нас сделал. Ведь он прославил «Стасис инкорпорейтид». Мы теперь на коне, да, мы на коне.
Видимо, ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своим торжеством, пусть даже с ней, с мисс Феллоуз.
— Каким же образом ему это удалось? — спросила она, давая Хоскинсу возможность высказаться.
Засунув руки в карманы, Хоскинс продолжал:
— Десять лет мы работали, имея в своем распоряжении крайне ограниченный капитал, собирая буквально по пенсу. Мы просто обязаны были создать сразу нечто очень эффектное, пусть для этого пришлось бы поставить на карту все наши средства. Уверяю вас, это был каторжный труд. На попытку извлечь из прошлого этого неандертальца ушли все деньги, которые нам удалось собрать, то одалживая, а то и воруя, да-да, именно воруя. На осуществление этого эксперимента пошли средства, ассигнованные на другие цели. Их мы использовали без разрешения. Если б опыт не удался, моя песенка была бы спета.
— Поэтому-то у домика нет потолка? — прервала его мисс Феллоуз.
— Что вы сказали? — переспросил Хоскинс.
— Вам не хватило денег на потолок?
— Видите ли, это не единственная причина. Честно говоря, мы не в состоянии были угадать точный возраст неандертальца. Наши возможности точно определить характеристику объекта, столь удаленного во времени, пока ограниченны, и он вполне мог оказаться существом огромного роста и дикого нрава, и нам пришлось бы общаться с ним на расстоянии, как с посаженным в клетку животным.
— Но поскольку ваши опасения не оправдались, мне думается, вы могли бы теперь достроить потолок.
— Теперь, да. Денег у нас теперь много. Все обернулось блестяще, мисс Феллоуз. — Улыбка не сходила с его широкого лица, и когда он повернулся, чтобы уйти, казалось, даже спина его излучала улыбку.
«Он довольно приятный человек, когда забывается и сбрасывает маску ученого, отрешенного от всего земного», — подумала мисс Феллоуз.
Ей вдруг захотелось узнать, женат ли он, но, спохватившись, она постаралась отогнать эту мысль.
— Тимми, — позвала она, — иди сюда, Тимми!
За протекшие с того дня месяцы мисс Феллоуз все больше и больше начинала чувствовать себя неотъемлемой частью Компании «Стасис инкорпорейтид». Ей предоставили отдельный маленький кабинет, на двери которого красовалась табличка с ее именем, неподалеку от кукольного домика (как она продолжала называть служившую для Тимми жильем камору «Стасиса»). Ей теперь платили намного больше, чем вначале, а у кукольного домика был наконец достроен потолок и улучшено внутреннее оборудование: появилась вторая туалетная комната, и мало того — у нее теперь была собственная квартира на территории «Стасиса», и иногда ей даже удавалось там ночевать. Между кукольным домиком и этой ее новой квартирой провели телефон, и Тимми научился им пользоваться.
Мисс Феллоуз привыкла к Тимми настолько, что меньше стала замечать его уродство. Однажды на улице она поймала себя на том, что какой-то обыкновенный мальчик показался ей крайне непривлекательным — у него был высокий выпуклый лоб и выступающий вперед резко очерченный подбородок. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы избавиться от этого наваждения.
И еще приятнее было привыкать к случайным посещениям Хоскинса. Совершенно очевидно, что он с удовольствием расставался на время со своей становившейся все более утомительной ролью главы акционерного общества «Стасис инкорпорейтид» и что к ребенку, с появлением которого было связано нынешнее процветание Компании, он питал особые чувства, граничащие с сентиментальностью. Но мисс Феллоуз казалось, что ему было приятно беседовать и с ней. (За это время ей удалось узнать, что Хоскинс разработал метод анализа отражения мезонного луча, проникающего в прошлое; его изобретением был и сам «Стасис». Холодность его была чисто внешней — ею он пытался замаскировать природную доброту, и, о да, он был женат.)
К чему мисс Феллоуз никак не могла привыкнуть, так это к мысли, что она участвует в научном эксперименте. Несмотря на все свои усилия, она все больше чувствовала себя органической частью происходящего, и дело порой доходило до прямых стычек с физиологами.
Однажды, спустившись к ним, Хоскинс нашел ее в таком гневе, что, казалось, она способна была в этот момент совершить убийство. «Они не имеют права, они не имеют права… Даже если Тимми — неандерталец, все равно он человек, а не животное».
Она следила за ними через открытую дверь. Почти ослепнув от ярости, она прислушивалась к всхлипываниям Тимми. Вдруг она заметила стоящего рядом Хоскинса. Не исключено, что он появился здесь уже давно.
— Можно войти? — спросил он.
Коротко кивнув, она поспешила к Тимми, который тесно прижался к ней, обвив ее своими маленькими кривыми и все еще такими худыми ножками.
— Вы ведь знаете, что они не имеют права проделывать подобные опыты _над человеком_, — сказал Хоскинс.
— А я решительно заявляю, доктор Хоскинс, что они не имеют права проделывать это и над Тимми. Вы когда-то сказали мне, что своим процветанием «Стасис» обязан Тимми. Если вы чувствуете хоть каплю благодарности, избавьте беднягу от этих людей, по крайней мере до той поры, пока он не подрастет и станет разумнее. После их манипуляций он не может спать, его душат кошмары. Я предупреждаю вас (ярость ее достигла кульминации), что я их больше сюда не впущу! (До ее сознания дошло, что она перешла на крик, но она уже не владела собой.) Я знаю, что он неандерталец, — несколько успокоившись, продолжала она, — но мы их во многом недооцениваем. Я читала о неандертальцах. У них была своя культура, и некоторые из величайших человеческих открытий, такие, как, например, одомашнивание животных, изобретение колеса и различных типов каменных жерновов, были сделаны именно в их эпоху. У них, несомненно, были и духовные потребности. Это видно из того, что при погребении они клали вместе с умершим его личные вещи, следовательно, они верили в загробную жизнь и, может быть, у них уже была какая-то религия. Неужели все это не дает Тимми права на человеческое отношение?
Она ласково похлопала мальчика по спине и отослала его играть в другую комнату. Когда открылась дверь, Хоскинс увидел целую гору самых разнообразных игрушек.
Он улыбнулся.
— Несчастный ребенок заслужил эти игрушки, — поспешно заняв оборонительную позицию, сказала мисс Феллоуз. — Это все, что у него есть, и он заработал их своими страданиями.
— Поверьте, я ничего против этого не имею. Я только подумал, как изменились вы сами с того первого дня. Вы тогда были возмущены, что я подсунул вам неандертальца.
— Мне кажется, что я не была так уж возмущена этим, — тихо возразила мисс Феллоуз, но тут же умолкла.
— Как вы считаете, мисс Феллоуз, сколько ему может быть лет? — переменил тему Хоскинс.
— Не берусь вам сказать точно, ведь мы не знаем, как физически развивались неандертальцы, — ответила мисс Феллоуз. — Если исходить из его роста, то ему не более трех лет, но неандертальцы были низкорослыми, а если учесть характер проделываемых над ним опытов, то он, быть может, и вовсе перестал расти. А судя по тому, как он усваивает английский язык, можно заключить, что ему больше четырех.
— Это правда? Я что-то не заметил в ваших докладах ни слова о том, что он учится говорить.
— Он не станет говорить ни с кем, кроме меня, во всяком случае, пока. Он всех ужасно боится, и это не удивительно. Он может, например, попросить какую-нибудь определенную пищу. Более того, он теперь в состоянии высказать свое любое желание и понимает почти все, что я говорю ему. Впрочем, вполне возможно, что его развитие приостановится. — Произнося последнюю фразу, мисс Феллоуз напряженно следила за выражением лица Хоскинса, стараясь определить, вовремя ли коснулась она этого вопроса.
— Почему?
— Для развития каждому ребенку нужна стимуляция, а Тимми живет здесь как в одиночном заключении. Я делаю для него все, что в моих силах, но ведь я не всегда нахожусь подле него, а кроме того, я не в состоянии дать ему все, в чем он нуждается. Я хочу сказать, доктор Хоскинс, что ему необходимо общаться с каким-нибудь другим мальчиком.
Хоскинс медленно наклонил голову.
— К сожалению, у нас имеется всего лишь один такой ребенок. Бедное дитя!
Услышав это, мисс Феллоуз сразу смягчилась.
— Ведь вы любите Тимми, не правда ли? — Было так приятно сознавать, что еще кто-то испытывает к ребенку теплые чувства.
— О да, — ответил Хоскинс, на секунду теряя самоконтроль, и в этот краткий миг она заметила в его глазах усталость.
Мисс Феллоуз тут же оставила намерение довести свой план до конца.
— Вы выглядите очень утомленным, доктор Хоскинс, — с искренним участием произнесла она.
— Вы так думаете? Придется сделать над собой усилие, чтобы выглядеть пободрее.
— Мне кажется, что «Стасис инкорпорейтид» не дает вам ни минуты покоя.
Хоскинс пожал плечами.
— Вы правы. В этом еще повинны находящиеся у нас в настоящее время животное, растения и минералы. Кстати, мисс Феллоуз, вы, наверное, еще не видели наши экспонаты.
— Честно говоря, нет… Но вовсе не потому, что это меня не интересует. Я ведь была очень занята.
— Ну теперь-то у вас больше свободного времени, — повинуясь какому-то внезапно принятому решению, сказал Хоскинс. — Я зайду за вами завтра утром в одиннадцать и сам все покажу вам. Вас это устраивает?
— Вполне, доктор Хоскинс, я буду очень рада, — улыбнувшись, ответила она.
В свою очередь улыбнувшись, он кивнул ей и ушел.
Весь остаток дня мисс Феллоуз в свободное от работы время что-то про себя напевала. И в самом деле, хотя, безусловно, даже сама мысль об этом показалась ей невероятной, но ведь это было похоже… почти похоже на то, что он назначил ей свидание.
Обаятельный и улыбающийся, он явился на следующий день точно в назначенное время. Вместо привычной униформы она надела на этот раз платье. Увы, весьма старомодного покроя, но тем не менее уже много лет она не чувствовала себя столь женственной.
Он сделал ей несколько сдержанных комплиментов, и она приняла его похвалы в столь же сдержанной манере, подумав, что это прекрасное начало. Однако в тот же миг ей пришла в голову другая мысль: «А собственно говоря, начало чего?»
Чтобы отогнать от себя эти мысли, она поспешила попрощаться с Тимми, пообещав, что скоро вернется.
Хоскинс повел ее в новое крыло здания, где она до сих пор ни разу не была. Здесь еще сохранился запах, свойственный только что выстроенным помещениям. Доносившиеся откуда-то приглушенные звуки свидетельствовали о том, что строительные работы еще не закончены.
— Животное, растения и минералы, — снова, как накануне, произнес Хоскинс. — Животное находится здесь — это наиболее живописный из наших экспонатов.
Вся внутренняя часть здания была разделена на несколько помещений, каждое из которых представляло собой отдельную камеру «Стасиса». Хоскинс подвел ее к смотровому окну одной из них, и она заглянула внутрь. Существо, представившееся ее взору, показалось ей вначале чем-то вроде покрытой чешуей хвостатой курицы. Покачиваясь на двух тощих лапках, оно бегало по камере, быстро поворачивая из стороны в сторону изящную птичью голову с костным наростом, напоминающим петушиный гребень. Пальцеобразные отростки коротких передних конечностей непрерывно сжимались и разжимались.
— Это наш динозавр, — сказал Хоскинс. — Он находится здесь несколько месяцев. Уж не знаю, когда мы сможем с ним расстаться.
— Динозавр?
— А вы ожидали увидеть гиганта?
Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки.
— Мне кажется, что некоторые их так себе и представляют. Я-то знаю, что существовали динозавры небольшого размера.
— А мы старались извлечь из прошлого именно маленького динозавра. Его все время обследуют, но сейчас, видно, его ненадолго оставили в покое. Эти обследования дали интереснейшие результаты. Так, например, он не является в полном смысле слова холоднокровным животным. Он способен поддерживать температуру тела несколько выше температуры окружающей среды. К сожалению, это самец. С тех пор как он появился здесь, мы пытаемся зафиксировать другого динозавра, который может оказаться самкой, но пока безуспешно.
— А для чего нужна самка?
В его глазах промелькнула откровенная насмешка.
— В этом случае мы, возможно, получили бы оплодотворенные яйца, а следовательно, и детенышей динозавра.
— Ах, да.
Он повел ее к отделению трилобитов.
— Это профессор Дуэйн из Вашингтонского университета, — сказал Хоскинс. — Специалист по ядерной химии. Если мне не изменяет память, он занимается определением изотопного состава кислорода воды.
— С какой целью?
— Это доисторическая вода; во всяком случае возраст ее исчисляется по крайней мере полумиллиардом лет. Изотопный состав позволяет определить температуру океана в ту эпоху. Самого Дуэйна трилобиты не интересуют, их анатомированием занимаются другие ученые. Им повезло: ведь им нужны только скальпели и микроскопы, тогда как Дуэйну приходится для каждого опыта устанавливать сложный масс-спектрограф.
— Но почему? Разве он не может?..
— Нет, не может. Ему нельзя ничего выносить из этого помещения, пока существует хоть какая-то возможность избежать этого.
Здесь были также собраны образцы первобытной растительности и обломки скал — это и были растения и минералы, о которых упомянул Хоскинс. У каждого экспоната имелся свой исследователь. Все это напоминало музей, оживший музей, ставший центром активной научной деятельности.
— И всем этим руководите вы один?
— О нет, мисс Феллоуз, слава богу, в моем распоряжении большой штат сотрудников. Меня интересует только теоретическая сторона вопроса: время как таковое, техника мезонного обнаружения удаленных во времени объектов и тому подобное. Все это я охотно променял бы на метод обнаружения объектов, удаленных во времени менее чем на десять тысяч лет. Если бы нам удалось проникнуть в историческую эпоху…
Его прервал какой-то шум у одной из отдаленных камер, откуда донесся до них чей-то высокий раздраженный голос. Хоскинс нахмурился и, извинившись, поспешил в ту сторону.
Мисс Феллоуз почти бегом бросилась за ним.
— Неужели вы не можете понять, что мне необходимо закончить очень важную часть моих исследований? — крикливо вопрошал пожилой мужчина с красным, обрамленным жидкой бородкой лицом.
Служащий, на лабораторном халате которого были вышиты буквы «СИ» («Стасис инкорпорейтид»), сказал, обращаясь к Хоскинсу:
— Профессора Адемевского с самого начала предупреждали, что этот экспонат будет находиться здесь только две недели.
— Я тогда еще не знал, сколько времени займут мои исследования, я не пророк! — возбужденно выкрикнул Адемевский.
— Вы же понимаете, профессор, что мы располагаем весьма ограниченным пространством, — сказал Хоскинс. — Поэтому мы вынуждены время от времени менять наши экспонаты. Этот обломок халкопирита должен вернуться туда, откуда он к нам прибыл, Ученые ждут, когда поступят новые экспонаты.
— Почему же я не могу получить его в личное пользование? Разрешите мне унести его отсюда.
— Вы знаете, что это невозможно.
— Вам жаль отдать мне кусок халкопирита, этот несчастный пятикилограммовый обломок? Но почему?
— Нам не по карману связанная с этим утечка энергии! — раздраженно воскликнул Хоскинс. — И вам это отлично известно.
— Дело в том, доктор Хоскинс, — прервал его служащий, — что вопреки правилам профессор пытался унести минерал с собой и чуть было не прорвал «Стасис».
На мгновение все умолкли. Повернувшись к ученому, Хоскинс холодно спросил:
— Это правда, профессор?
Адемевский смущенно кашлянул.
— Видите ли, я не думал, что это нанесет ущерб…
Хоскинс протянул руку и дернул за шнур, свободно висевший на наружной стене камеры, перед которой они сейчас стояли.
У мисс Феллоуз, которая в тот миг разглядывала этот ничем не примечательный, но вызвавший столь горячий спор кусок камня, перехватило дыхание — на ее глазах камень мгновенно исчез. Камера была пуста.
— Я очень сожалею, профессор, — сказал Хоскинс, — но выданное вам разрешение на исследование объектов, находящихся в «Стасисе», аннулируется навсегда.
— Но погодите…
— Я еще раз очень сожалею. Вы нарушили одно из наших самых важных правил.
— Я подам жалобу в Международную Ассоциацию…
— Жалуйтесь кому угодно. Вы только убедитесь, что в случаях, подобных этому, никто не заставит меня отступить.
Он демонстративно отвернулся от продолжавшего протестовать профессора и, все еще бледный от гнева, сказал, обращаясь к мисс Феллоуз:
— Вы не откажетесь позавтракать со мной?
Он провел ее в ту часть кафетерия, которая была отведена для членов администрации. Он поздоровался с сидевшими за столиками знакомыми и спокойно представил им мисс Феллоуз, испытавшую мучительную неловкость. «Что они подумают?» — эта мысль не давала ей покоя, и она изо всех сил старалась принять по возможности деловой вид.
— Доктор Хоскинс, у вас часто случаются подобные неприятности? — спросила она, взяв вилку и принимаясь за еду. — Я имею в виду это происшествие с профессором.
— Нет, — с усилием ответил Хоскинс, — такое произошло впервые. Мне, правда, частенько приходится спорить с желающими вынести из «Стасиса» тот или иной экспонат, но до сегодняшнего дня никто еще не пытался сделать это.
— Мне помнится, вы однажды сказали, что с этим связан большой расход энергии.
— Совершенно верно. Мы, конечно, постарались учесть такую возможность, так как подобные случаи будут повторяться, и у нас имеется теперь специальный запас энергии, рассчитанный на покрытие утечки при непредусмотренном выносе из «Стасиса» какого-нибудь предмета. Но это не означает, что нам доставит удовольствие за полсекунды потерять годовой запас энергии. Ведь ущерб, нанесенный нашему капиталу потерей такого количества энергии, заставил бы нас на долгие годы отложить дальнейшее претворение в жизнь планов проникновения в глубины времени… Кроме того, вы можете себе представить, что случилось бы, находись профессор в камере в тот миг, когда «Стасис» был прорван!
— А что бы с ним произошло?
— Видите ли, мы экспериментировали на неодушевленных предметах и на мышах — они бесследно исчезают. Мы полагаем, что они отправляются назад, в прошлое, вместе с тем объектом, который мгновенно переносится в то время, из которого его извлекли. Поэтому нам приходится как бы ставить на якорь те предметы, исчезновение которых из «Стасиса» нам нежелательно. Что касается профессора, то он отправился бы прямо в плиоцен вместе с исчезнувшим куском камня и очутился бы там в то самое время, из которого этот камень извлекли, плюс те две недели, что он находился у нас.
— Это было бы ужасно!
— Уверяю вас, что судьба самого профессора меня мало беспокоит: если он был настолько глуп, чтобы совершить подобный поступок, то туда ему и дорога, это послужило бы ему хорошим уроком. Но представьте себе, какое это произвело бы впечатление на публику, если бы факт его исчезновения стал широко известен. Достаточно только людям узнать, что наши опыты столь опасны, как нас тут же лишат средств на их продолжение.
Хоскинс выразительно щелкнул пальцами и принялся мрачно ковырять вилкой стоявшую перед ним еду.
— А вы не могли бы вернуть его назад? — спросила мисс Феллоуз. — Тем же способом, каким вы раздобыли этот камень?
— Нет. Потому что, как только предмет отправлен обратно, он уже больше не фиксируется, если только связь с ним не предусматривается заранее, а в данном случае у нас не было для этого никаких оснований. Да и вообще мы никогда к этому не прибегаем. Для того, чтобы найти профессора, нужно было бы восстановить первоначальное направление поиска, а это все равно что забросить удочку в океан с целью поймать одну определенную рыбу. О господи, когда я думаю о всех мерах предосторожности, принимаемых нами, чтобы избежать несчастных случаев, мне начинает казаться, что я схожу с ума. Каждая камера «Стасиса» имеет свое прорывающее устройство — без этого нельзя, так как все они фиксируют различные предметы и должны функционировать независимо друг от друга. Кроме того, ни одно прорывающее устройство не вводится в действие до последней минуты, причем мы тщательно разработали единственно возможный способ прорыва потенциального поля «Стасиса» — для этого необходимо дернуть за шнур, выведенный за пределы камеры. А чтобы это устройство сработало, нужно приложить значительную физическую силу — для этого недостаточно случайного прикосновения к шнуру.
— Скажите, а… не влияет ли на ход истории подобное перемещение объектов из прошлого в настоящее время и обратно? — спросила мисс Феллоуз.
Хоскинс пожал плечами.
— Если подходить к этому с точки зрения теории, на ваш вопрос можно ответить утвердительно, но на самом-то деле, если исключить из ряда вон выходящие случаи, это не сказывается на ходе истории. Мы все время что-то удаляем из «Стасиса» — молекулы воздуха, бактерии, пыль. Около десяти процентов потребляемой энергии тратится на возмещение связанной с этим утечки. Но даже перемещение во времени сравнительно больших объектов вызывает изменения, которые быстро сходят на нет. Возьмите хотя бы этот халкопирит из плиоцена. За его двухнедельное отсутствие какое-нибудь насекомое могло остаться без крова и погибнуть, что, в свою очередь, могло повлечь за собой целую серию изменений. По нашим математическим расчетам — это изменения самозатухающие.
— Вы хотите сказать, что природа сама восполняет нанесенный ей ущерб?
— До известной степени. Если вы перенесете человека из другой эпохи в настоящее время или, наоборот, отправите его назад в прошлое, то в последнем случае вы нанесете более существенный ущерб. Если вы проделаете это с обычным рядовым человеком, то рана может залечиться сама. Мы ежедневно получаем множество писем с просьбой перенести а нынешнее время Авраама Линкольна, или Магомета, или Ленина. Это, конечно, исключено. Даже если бы нам удалось их обнаружить, перемещение во времени одного из творцов истории человечества нанесло бы невосполнимый ущерб. Есть методы, с помощью которых мы рассчитываем, какие могут произойти изменения при перемещении того или иного объекта во времени, и мы делаем все, чтобы избежать необратимых последствий.
— Значит, Тимми… — начала было мисс Феллоуз.
— Нет, с ним все обстоит благополучно. Это абсолютно безопасно. Но… — Он как-то странно взглянул на нее. — Нет, ничего. Вчера вы сказали мне, что Тимми необходимо общаться с детьми.
— Да. — Мисс Феллоуз радостно улыбнулась. — Я не думала, что вы запомнили мою просьбу.
— Но почему же? Я питаю к ребенку самые теплые чувства и ценю ваше к нему отношение. Мне это не безразлично, и я не намерен обойти этот вопрос, не объяснив вам, как обстоит дело. Вы видели, чем мы занимаемся, до некоторой степени вам теперь известны трудности, которые нам приходится преодолевать, и вы должны понять, почему при всем желании мы не можем допустить, чтобы Тимми общался со своими сверстниками.
— Не можете? — растерянно воскликнула мисс Феллоуз.
— Но ведь я только что вам все объяснил. Нет ни малейшего шанса найти другого неандертальца его возраста — на такую удачу и рассчитывать не приходится. А даже если б нам повезло, то совершенно неразумно было бы пойти не риск и поселить в «Стасисе» еще одно человеческое существо.
— Но вы меня неправильно поняли, доктор Хоскинс, — отложив в сторону ложку, решительно сказала мисс Феллоуз. — Я вовсе не хочу, чтобы вы перенесли в настоящее время еще одного неандертальца. Я знаю, что это невозможно. Но ведь можно привести в «Стасис» другого ребенка, чтобы он играл с Тимми.
— Ребенка человека? — Хоскинс был потрясен.
— Другого ребенка, — отрезала мисс Феллоуз, чувствуя, как мгновенно ее расположение к Хоскинсу сменилось враждебностью. — Тимми — человек!
— Мне это и в голову не пришло.
— Но почему? Что в этом дурного? Вы вырвали ребенка из его эпохи, обрекли его на вечное заточение. Неужели вы не чувствуете себя в долгу перед ним? Доктор Хоскинс, если есть в этом мире человек, который по всем показателям, кроме биологического, может считаться отцом этого ребенка, так это вы. Почему же вам не хочется сделать для него такую малость?
— Я — _его отец_? — спросил Хоскинс, как-то неловко поднявшись из-за стола. — Если вы не возражаете, мисс Феллоуз, я провожу вас обратно в «Стасис».
Они молча возвратились в кукольный домик. Никто из них больше не произнес ни слова.
Если не считать случайных, мимоходом брошенных взглядов, прошло много времени, пока она снова встретилась с Хоскинсом. Иногда она жалела об этом, но когда Тимми впадал в тоску или молча стоял часами у окна, за которым почти ничего не было видно, она с возмущением думала: «Какой же он недалекий человек, этот доктор Хоскинс!»
Тимми говорил с каждым днем все более бегло и правильно. Правда, он так и не смог до конца избавиться от некоторой невнятности в произношении, в которой мисс Феллоуз находила даже своеобразную привлекательность. В минуты волнения он иногда, как вначале, прищелкивал языком, но это случалось все реже. Должно быть, он постепенно забывал те далекие дни, что предшествовали его появлению в нынешнем времени…
По мере того как Тимми подрастал, интерес к нему физиологов шел на убыль, но зато теперь им занялись психологи. Мисс Феллоуз так и не могла решить, кто из них вызывал в ней большую неприязнь. Со шприцами было покончено — уколы и выкачивания из организма жидкостей прекратились; его перестали кормить по специально составленной диете. Но зато теперь Тимми, чтобы получить пищу и воду, приходилось преодолевать препятствия. Он должен был поднимать половицы, отодвигать какие-то нарочно установленные решетки, дергать за шнуры. Удары слабого электрического тока доводили его до истерики, и от этого мисс Феллоуз приходила в отчаяние.
Она не желала больше обращаться к Хоскинсу — каждый раз, когда она думала о нем, перед ней всплывало его лицо, каким оно было в то утро за завтраком. Глаза ее наполнялись слезами, и она снова и снова думала: «Какой недалекий человек!»
И вот однажды возле кукольного домика совершенно неожиданно раздался его голос — он звал ее.
Поправляя на ходу свой форменный халат, она, не спеша, вышла из дома и, внезапно смутившись, остановилась, увидев перед собой стройную женщину среднего роста. Благодаря светлым волосам и бледному цвету лица незнакомка казалась очень хрупкой. За ее спиной, крепко уцепившись за ее юбку, стоял круглолицый большеглазый мальчуган лет четырех.
— Дорогая, это мисс Феллоуз, сестра, наблюдающая за мальчиком. Мисс Феллоуз, познакомьтесь с моей женой.
(Неужели это его жена? Мисс Феллоуз представляла ее совсем другой. Хотя почему бы и нет? Такой человек, как Хоскинс, вполне мог для контраста выбрать себе в жены слабое существо. Возможно, это именно то, что ему нужно…)
Она заставила себя непринужденно поздороваться.
— Добрый день, миссис Хоскинс. Это ваш… ваш малыш?
(Это было для нее полной неожиданностью. Она могла представить себе Хоскинса в роли мужа, но не отца, за исключением, конечно, того…) Она вдруг поймала на себе мрачный взгляд Хоскинса и покраснела.
— Да, это мой сын Джерри, — сказал Хоскинс. — Джерри, поздоровайся с мисс Феллоуз.
(Не сделал ли он ударение на слове «это»? Не хотел ли он дать ей понять, что это его сын, а не…)
Джерри немного подался вперед, не расставаясь, однако, с материнской юбкой, и пробормотал приветствие. Миссис Хоскинс явно пыталась заглянуть через плечо мисс Феллоуз в комнату, как бы стремясь увидеть там нечто весьма ее интересовавшее.
— Ну что ж, зайдем в «Стасис», — сказал Хоскинс. — Входи, милочка. На пороге тебя ждет несколько неприятное ощущение, но это быстро пройдет.
— Вы хотите, чтобы Джерри тоже вошел туда? — спросила мисс Феллоуз.
— Конечно. Он будет играть с Тимми. Вы ведь говорили, что Тимми нужен товарищ для игр. Может, вы уже забыли об этом?
— Но… — В ее взгляде, брошенном на него, отразилось глубочайшее удивление. — Ваш мальчик?
— А чей же еще? — раздраженно сказал он. — Разве не этого вы добивались? Идем, дорогая. Входи же.
С явным усилием подняв Джерри на руки, миссис Хоскинс переступила через порог. Джерри захныкал — видимо, ему не понравилось испытываемое при входе в «Стасис» ощущение.
— Где же это существо? — тонким голоском спросила миссис Хоскинс. — Я не вижу его.
— Иди сюда, Тимми! — позвала мисс Феллоуз.
Тимми выглянул из-за двери, во все глаза уставившись на пожаловавшего к нему в гости мальчика. Мускулы на руках миссис Хоскинс заметно напряглись.
Обернувшись к мужу, она спросила:
— Ты уверен, Джеральд, что он не опасен?
— Если вы имеете в виду Тимми, то он не представляет никакой опасности, — тут же вмешалась мисс Феллоуз. — Он спокойный и послушный мальчик.
— Но ведь он ди… дикарь.
(Вот оно что! Результат все тех же газетных историй о мальчике-обезьяне.)
— Он вовсе не дикарь, — резко произнесла мисс Феллоуз. — Он спокоен и рассудителен, как любой другой пятилетний ребенок. Вы поступили очень великодушно, миссис Хоскинс, разрешив вашему мальчику играть с Тимми, и я убедительно прошу вас не беспокоиться за него.
— Я не уверена, что соглашусь на это, — раздраженно проговорила миссис Хоскинс.
— Мы ведь уже обсудили этот вопрос, дорогая, — сказал Хоскинс, — и я думаю, что не стоит перемалывать все заново. Спусти Джерри на пол.
Миссис Хоскинс повиновалась. Мальчик прижался к ней спиной и уставился на находившегося я соседней комнате ребенка, который, в свою очередь, не спускал с него глаз.
— Тимми, иди сюда, — сказала мисс Феллоуз, — иди, не бойся.
Тимми медленно вошел в комнату. Хоскинс наклонился, чтобы отцепить пальцы Джерри от материнской юбки.
— Отойди немного назад, дорогая, пусть дети познакомятся.
Мальчики очутились лицом к лицу. Несмотря на то что Джерри был младше, он был выше Тимми на целый дюйм, и на фоне его стройной фигурки и красиво посаженной пропорциональной головы гротескность облика Тимми вдруг бросилась в глаза почти как в первые дни.
У мисс Феллоуз задрожали губы.
Первым заговорил маленький неандерталец.
— Как тебя зовут? — дискантом спросил он, быстро приблизив к Джерри свое лицо, как бы желая получше рассмотреть его.
Вздрогнув от неожиданности, Джерри вместо ответа дал Тимми тумака, и Тимми, отлетев назад, не удержался на ногах и упал на пол. Оба громко заревели, а миссис Хоскинс поспешно схватила Джерри на руки, в то время как мисс Феллоуз, покраснев от сдерживаемого гнева, подняла Тимми, стараясь успокоить его.
— Они инстинктивно невзлюбили друг друга, — заявила миссис Хоскинс.
— Они инстинктивно относятся друг к другу точно так же, как любые другие дети, будь они на их месте, — устало сказал Хоскинс. — А теперь спусти Джерри с рук и дай ему привыкнуть к обстановке. По правде говоря, нам лучше сейчас уйти. Мисс Феллоуз может через часок привести Джерри ко мне в кабинет, и я позабочусь, чтобы его доставили домой.
В последовавший за этим час дети ни на минуту не спускали друг с друга глаз. Джерри плакал и звал мать, боясь отойти от мисс Феллоуз, и только спустя какое-то время позволил наконец утешить себя леденцом. Тимми тоже получил леденец, и через час мисс Феллоуз удалось добиться того, что оба они сели играть в кубики, правда в разных концах комнаты.
Когда мисс Феллоуз в этот день повела Джерри к отцу, она до такой степени была исполнена благодарности и Хоскинсу, что с трудом сдерживала слезы.
Мисс Феллоуз искала слова, чтобы выразить свей чувства, но подчеркнутая сдержанность Хоскинса помешала ей высказаться. Может быть, он до сих пор не простил ей того, что она заставила его прочувствовать жестокость его отношения к Тимми. А может, он привел собственного сына, чтобы доказать ей, как хорошо он относится к Тимми, и одновременно дать понять, что он вовсе не его отец. Да, именно это он и имел в виду!
Так что она ограничилась лишь скупой фразой:
— Спасибо, большое спасибо, доктор Хоскинс.
На что ему оставалось лишь ответить:
— Не за что, мисс Феллоуз. Все нормально.
Постепенно это вошло в обычай. Два раза в неделю Джерри приводили на час поиграть с Тимми, потом этот срок был продлен до двух часов. Дети познакомились, постепенно изучили привычки друг друга и стали играть вместе.
И теперь, когда схлынула первая волна благодарности, мисс Феллоуз поняла, что Джерри ей не нравится. Телом он был значительно крупнее Тимми, да и вообще превосходил его во всех отношениях: он властвовал над Тимми, отводя ему в играх второстепенную роль. С создавшимся положением ее примиряло только то, что как бы там ни было, а Тимми со все большим нетерпением ждал очередного прихода своего товарища по играм.
— Это все, что у него есть в жизни, — с грустью говорила она себе.
И однажды, наблюдая за ними, она вдруг подумала; «Эти два мальчика — оба дети Хоскинса, один от жены, другой — от «Стасиса». В то время как я сама…»
«О господи, — сжав кулаками виски, со стыдом подумала она, — ведь я ревную!»
— Мисс Феллоуз, — спросил однажды Тимми (она не разрешала ему иначе называть себя), — когда я пойду в школу?
Она взглянула в его карие глаза, умоляюще смотревшие на нее в ожидании ответа, и мягко провела рукой по его густым волосам. Это была самая неаккуратная часть его внешности: она стригла его сама, и мальчик юлой вертелся под ножницами и мешал ей. Она никогда не просила прислать для этой цели парикмахера, ибо ее неумелая стрижка удачно маскировала низкий покатый лоб ребенка и чрезмерно выпуклый затылок.
— Откуда ты узнал о школе? — спросила она.
— Джерри ходит в школу. В детский сад, — старательно выговаривая слоги, ответил он. — Джерри бывает во многих местах там, на воле. Когда же я выйду отсюда на волю, мисс Феллоуз?
У мисс Феллоуз мучительно сжалось сердце. Она, конечно, понимала: ничто не сможет помешать Тимми узнавать все больше и больше о внешнем мире, о том мире, который для него закрыт навсегда.
Постаравшись придать своему голосу побольше бодрости, она спросила:
— А что бы ты стал делать в детском саду, Тимми?
— Джерри говорит, что они играют там в разные игры, что им показывают ленты с движущимися картинками. Он говорит, что там много-много детей. Он рассказывает… — Тимми на мгновение задумался, потом торжествующе развел в стороны обе руки с растопыренными пальцами и только тогда кончил фразу: — Вот как много он рассказывает!
— Тебе хотелось бы посмотреть движущиеся картинки? — спросила мисс Феллоуз. — Я принесу тебе эти ленты и ленты с записью музыки.
Так удалось на какое-то время успокоить его.
В отсутствие Джерри он жадно просматривал детские киноленты, а мисс Феллоуз часами читала ему вслух книжки.
В самом простом рассказике содержалось столько для него непонятного, что приходилось объяснять сущность самых обычных вещей, находившихся за пределами трех комнат «Стасиса». Теперь, когда в его мысли вторгся внешний мир, он все чаще стал видеть сны.
Ему снилось всегда одно и то же — тот неведомый мир, что находился за пределами его домика. Он неумело пытался рассказать мисс Феллоуз содержание этих сновидений, в которых он всегда переносился в огромное пустое пространство, где кроме него были еще дети и какие-то странные, непонятные предметы, созданные его воображением на основе далеко не до конца понятых им книжных образов. Иногда ему снились картины из его полузабытого далекого прошлого, когда он жил еще среди неандертальцев.
Снившиеся ему дети не замечали его, и хотя он чувствовал, что находится вместе с ними за пределами «Стасиса», он в то же время понимал, что не принадлежит внешнему миру, и оставался всегда в страшном одиночестве, как будто и не покидал своей комнаты. Он всегда просыпался в слезах.
Пытаясь успокоить Тимми, мисс Феллоуз старалась обратить его рассказы в шутку, смеялась над ними, но сколько ночей она сама проплакала в своей квартире!
Однажды, когда мисс Феллоуз читала вслух, Тимми протянул руку к ее подбородку и, осторожно приподняв ее лицо от книги, заставил ее взглянуть себе в глаза.
— Мисс Феллоуз, откуда вы узнаете то, что рассказываете мне? — спросил он.
— Ты видишь эти значки? Они-то и говорят мне о том, что я потом уже рассказываю тебе. Из этих значков составляются слова.
Взяв из ее рук книгу, Тимми долго с любопытством рассматривал буквы.
— Некоторые из значков совсем одинаковые, — произнес он наконец.
Она рассмеялась от радости, которую ей доставила его сообразительность.
— Правильно. Хочешь, я покажу тебе, как писать эти значки?
— Хорошо, покажите. Это будет интересная игра.
Ей тогда даже в голову не пришло, что он может научиться читать. До того самого дня, когда он прочел ей вслух книжку, она отказывалась верить в это. Через несколько недель она внезапно осознала огромную важность этого события и была ошеломлена. Сидя у нее на коленях, Тимми читал ей вслух детскую книжку, не пропуская ни одного слова. Он читал!
Потрясенная, она поднялась со стула и сказала:
— Я скоро вернусь, Тимми, Мне необходимо повидать доктора Хоскинса.
Ее охватило граничащее с безумием возбуждение. Ей показалось, что теперь ей удастся наконец найти средство сделать Тимми в какой-то степени счастливым. Если Тимми нельзя войти в современную жизнь, то эта жизнь сама должна прийти к нему в его трехкомнатную тюрьму, запечатленная в книгах, кинофильмах и звуках.
Ему необходимо дать образование, использовав все его природные способности. Этим человечество могло бы как-то возместить то зло, которое оно ему причинило.
Она нашла Хоскинса в настроении, странно сходном с ее собственным — все его существо излучало неприкрытую радость и торжество. В правлении царило необычное оживление, и мисс Феллоуз, когда она растерянно остановилась в приемной, даже подумала, что ей не удастся сегодня поговорить с Хоскинсом.
Но он заметил ее, и его широкое лицо расплылось в улыбке.
— Идите сюда, мисс Феллоуз, — позвал он.
Он быстро сказал что-то по интеркому и выключил его.
— Вы уже слышали?.. Ну конечно, нет, вы еще ничего не можете знать. Мы ведь добились своего! Мы уже можем фиксировать объекты из недалекого прошлого.
— Вы хотите сказать, что теперь вам удастся перенести в настоящее время человека, жившего уже в историческую эпоху? — спросила мисс Феллоуз.
— Вы меня поняли абсолютно правильно. Только что мы зафиксировали одного индивидуума, жившего в четырнадцатом веке. Вы только представьте себе всю важность этого события! Как же я буду счастлив избавиться наконец от концентрации всех сил на мезозойской эре: казалось, этому не будет конца; какое я получу удовольствие от замены палеонтологов историками… Вы, кажется, что-то хотели сообщить мне? Ну давайте, выкладывайте, что там у вас. Говорите же. Вы застали меня в хорошем настроении и можете получить все, что пожелаете.
— Я очень рада, — улыбнулась мисс Феллоуз. — Меня как раз интересует один вопрос: не могли бы мы разработать систему образования для Тимми?
— Образования? Какого еще образования?
— Ну, общего образования. Я имею в виду школу. Надо дать ему возможность учиться.
— Но может ли он учиться?
— Конечно, ведь он уже учится. Он умеет читать, этому я научила его сама.
Ей показалось, что настроение Хоскинса вдруг резко ухудшилось.
— Я, право, не знаю, что вам на это сказать, мисс Феллоуз, — произнес он.
— Но ведь вы только что пообещали, что исполните любую мою просьбу…
— Я это помню. К сожалению, в данном случае я поступил опрометчиво. Видите ли, мисс Феллоуз, я думаю, вы прекрасно понимаете, что мы не можем продолжать эксперимент с Тимми до бесконечности.
Охваченная внезапным ужасом, она в упор взглянула на него, еще до конца не осознав весь смысл сказанных только что слов. Что он подразумевал под этим «не можем продолжать»? Ее сознание вдруг озарила яркая вспышка — она вспомнила о профессоре Адемевском и минерале, отправленном назад после двухнедельного пребывания в «Стасисе».
— Но ведь сейчас речь идет о мальчике, а не о куске камня…
Хоскинс явно чувствовал себя не в своей тарелке.
— В случаях, подобных этому, даже ребенку нельзя придавать слишком большое значение. Теперь, когда мы надеемся заполучить сюда людей, живших в историческую эпоху, нам понадобятся все помещения «Стасиса».
Она все еще ничего не понимала.
— Но вы не сделаете этого. Тимми… Тимми…
— Ну-ну, не принимайте все так близко к сердцу, мисс Феллоуз. Быть может, Тимми пробудет здесь еще несколько месяцев, и за это время мы постараемся сделать для него все, что в наших силах.
Она продолжала молча смотреть на него.
— Не хотите ли вы выпить чего-нибудь, мисс Феллоуз?
— Нет, — прошептала она. — Мне ничего не нужно.
Едва сознавая, что делает, она с трудом поднялась на ноги и, словно во власти кошмара, вышла из комнаты.
«Ты не умрешь, Тимми, — подумала она. — Ты не умрешь!»
С той поры ее неотступно преследовала мысль о необходимости как-то предотвратить гибель Тимми. Но одно дело думать, а другое — осуществить задуманное. Первое время мисс Феллоуз упорно цеплялась за надежду на то, что попытка перенести кого-либо из XIV века в настоящее время потерпит полную неудачу. Хоскинс мог допустить ошибку с точки зрения теории эксперимента, могли также обнаружиться недостатки в методе его осуществления. И тогда все останется по-старому.
Остальная часть человечества, конечно, надеялась на противоположный исход, и мисс Феллоуз вопреки рассудку возненавидела за это весь мир. Ажиотаж, поднявшийся вокруг «Проекта «Средневековье», достиг предельного накала. Печать и общественность изголодались по чему-либо из ряда вон выходящему. Акционерное общество «Стасис инкорпорейтид» давно уже не производило подобной сенсации. Какой-нибудь новый камень или ископаемая рыба уже никого не волновали. А это было как раз то, что требовалось.
Человек, живший уже в историческую эпоху, взрослый индивид, говорящий на понятном и теперь языке, тот, кто поможет ученым воссоздать неведомую поныне страницу истории.
Решительный час приближался, и на сей раз уже не только трое на балконе должны были стать свидетелями столь важного события. Теперь весь мир превращался в гигантскую аудиторию, а техническому персоналу «Стасиса» предстояло играть свою роль на глазах у всего человечества.
Среди чувств, кипевших в душе мисс Феллоуз, отсутствовало лишь одно: она отнюдь не была в захлебе от радостного ожидания.
Когда Джерри пришел, как обычно, играть с Тимми, она едва узнала его. Секретарша, которая привела его, небрежно кивнув мисс Феллоуз, поспешила удалиться. Она торопилась занять хорошее место, откуда ей удастся без помех следить за воплощением в жизнь «Проекта «Средневековье». Мисс Феллоуз с горечью подумала, что если б наконец пришла эта глупая девчонка, она тоже смогла бы уйти, причем у нее была более веская, чем простое любопытство, причина присутствовать при эксперименте.
— Мисс Феллоуз, — смущенно произнес Джерри, неуверенно, бочком приближаясь к ней и доставая из кармана какой-то обрывок газеты.
— Да! Что это там у тебя, Джерри?
— Это фотография Тимми.
Мисс Феллоуз внимательно посмотрела на ребенка и затем быстро выхватила из его рук клочок газеты. Всеобщее возбуждение, вызванное «Проектом «Средневековье», возродило в печати некоторый интерес к Тимми.
Джерри внимательно следил за выражением ее лица.
— Тут говорится, что Тимми — мальчик-обезьяна. Что это значит, мисс Феллоуз?
Мисс Феллоуз схватила мальчишку за руку, с трудом подавив желание как следует встряхнуть его.
— Никогда не говори этого, Джерри. Никогда, понимаешь? Это гадкое слово, и ты не должен употреблять его.
Перепуганный Джерри отчаянно старался освободиться от ее руки.
Мисс Феллоуз с яростью разорвала бумагу.
— А теперь иди в дом и играй с Тимми. Он покажет тебе свою новую книжку.
Наконец появилась та девушка. Мисс Феллоуз никогда раньше не видела ее. Дело в том, что никто из постоянных служащих «Стасиса», иногда замещавших ее, когда ей необходимо было отлучаться по делам, сейчас, в связи с приближением осуществления «Проекта «Средневековье», не мог помочь. Однако секретарша Хоскинса обещала найти какую-нибудь девушку, которая побудет с детьми.
— Вы и есть та девушка, которую прикрепили к Первой Секции «Стасиса»? — стараясь сдержать дрожь в голосе, спросила мисс Феллоуз.
— Да. Меня зовут Мэнди Террис. А вы — мисс Феллоуз, правильно?
— Совершенно верно.
— Простите, что я немного опоздала. Везде такая суматоха.
— Я знаю. Итак, я хочу, чтобы вы…
— Вы ведь будете смотреть, правда? — перебила ее Мэнди. На хорошеньком, тонком, но каком-то пустом личике отразилась жгучая зависть.
— Это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы вошли в дом и познакомились с Тимми и Джерри. Они будут играть часа два и не причинят вам никакого беспокойства. Им оставлено молоко, у них много игрушек. Будет даже лучше, если вы по возможности предоставите их самим себе. А теперь я покажу вам, где что находится и…
— Это Тимми — мальчик-обез…?
— Тимми — ребенок, который живет в «Стасисе», — резко перебила ее мисс Феллоуз.
— Я хотела сказать, что Тимми — это тот, кому нельзя выходить из дома, не так ли?
— Да. А теперь зайдите в помещение, у нас мало времени.
И когда ей наконец удалось уйти, за ее спиной раздался пронзительный голос Мэнди Террис:
— Надеюсь, вам достанется хорошее местечко. Ей богу, мне так хочется, чтобы опыт удался.
Не уверенная в том, что, если она попытается ответить Мэнди, ей удастся сохранить самообладание, мисс Феллоуз, даже не оглянувшись, поспешила поскорее уйти.
Но из-за того, что она задержалась, ей не удалось занять хорошее место. Она с трудом протолкалась только до экрана в Зале Собраний. Если бы ей повезло очутиться поблизости от места, где проводился эксперимент, если б только она могла подойти к какому-нибудь чувствительному прибору, если б ей удалось сорвать опыт…
Она нашла в себе силы совладать с охватившим ее безумием. Ведь разрушение какого-нибудь прибора ни к чему бы не привело. Они бы все равно исправили его и поставили бы эксперимент заново… А ей никогда бы не разрешили вернуться к Тимми.
Ничто не могло ей помочь. Ничто, за исключением естественного и притом непоправимого провала эксперимента.
И в те мгновения, когда отсчитывались последние секунды, ей оставалось только ждать, напряженно следя за каждым движением на огромном экране, внимательно всматриваясь в лица занятых в опыте сотрудников, когда то один, то другой из них попадал в кадр; она старалась уловить в их взглядах выражение беспокойства и неуверенности — намек на возникновение неожиданных затруднений в осуществлении опыта; она ни на секунду не отрывала взгляд от экрана…
Но ее надежды не оправдались. Была отсчитана последняя секунда, и очень спокойно, без лишнего шума опыт был благополучно завершен!
В недавно отстроенном новом помещении «Стасиса» стоял бородатый сутулый крестьянин неопределенного возраста, в рваной, грязной одежде и деревянных башмаках; он с тупым ужасом озирался по сторонам: его сознание не в состоянии было воспринять внезапную и совершенно невероятную перемену обстановки.
И в тот момент, когда весь мир обезумел от восторга, мисс Феллоуз, застывшая от горя, одна стояла неподвижно в поднявшейся сутолоке. Ее пинали, швыряли из стороны в сторону, только что не топтали ногами; она стояла в гуще ликующем толпы, вся сжавшись под бременем рухнувших надежд.
И когда скрипучий голос громкоговорителя назвал ее имя, это дошло до ее сознания только после троекратного повторения.
— Мисс Феллоуз, мисс Феллоуз, вас требуют в Первую Секцию «Стасиса». Мисс Феллоуз, мисс Феллоуз…
— Пропустите меня! — задыхаясь, крикнула ом, я громкоговоритель, ни на секунду не останавливаясь, продолжал повторять все ту же фразу. Собрав все силы, она стала отчаянно пробиваться через толпу, расталкивая окружающих ее людей. Не останавливаясь ни перед чем, пустив в ход даже кулаки, раздавая направо и налево удары и поминутно застревая в людском водовороте, она медленно, как в кошмаре, но все же продвигалась к выходу.
Мэнди Террис рыдала.
— Я просто не могу себе представить, как это произошло. Я отлучилась всего лишь на минутку, чтобы взглянуть на тот маленький экран, который они установили в коридоре. Только на минуту. И вдруг, прежде чем я успела что-либо сделать… Вы сами сказали мне, что они не причинят никакого беспокойства, вы сами посоветовали оставить их одних! — выкрикнула вдруг Мэнди, переходя в наступление.
— Где Тимми? — глядя на нее непонимающими глазами, спросила мисс Феллоуз. Она не заметила, что ее сотрясает нервная дрожь.
Одна сестра протирала плачущему Джерри руку дезинфицирующим средством, другая готовила шприц с противостолбнячной сывороткой.
— Он укусил меня, мисс Феллоуз! — задыхаясь от злости, крикнул Джерри. — Он укусил меня!
Но мисс Феллоуз не обратила на него внимания.
— Что вы сделали с Тимми? — крикнула она.
— Я заперла его в ванной комнате, — ответила Мэнди. — Я просто-напросто швырнула туда это маленькое чудовище и заперла его там.
Мисс Феллоуз бегом помчалась в кукольный домик. Она задержалась у дверей ванной — казалось, прошла целая вечность, пока ей удалось наконец открыть дверь и отыскать забившегося в угол уродливого мальчугана.
— Не бейте меня, мисс Феллоуз, — прошептал он. Глаза его покраснели, губы дрожали. — Я это сделал не нарочно.
— О Тимми, откуда ты взял, что я буду тебя бить?
Подхватив ребенка на руки, она крепко прижала его к себе.
— Она сказала, что вы выпорете меня длинной веревкой. Она сказала, что вы будете меня бить, бить, бить… — взволнованно ответил Тимми.
— Никто тебя не будет бить. С ее стороны очень дурно сказать такое. Но что случилось? Что случилось?
— Он назвал меня мальчиком-обезьяной. Он сказал, что я не настоящий мальчик, что я животное.
Из глаз Тимми хлынули слезы.
— Он сказал, что не хочет больше играть с обезьяной. А я сказал, что я не обезьяна. Я не обезьяна! Потом он сказал, что я очень смешно выгляжу, что я ужасно безобразен. Он повторил это много-много раз, и я укусил его.
Теперь они плакали оба.
— Но ты же знаешь, Тимми, что это неправда, — всхлипывая, сказала мисс Феллоуз, — ты настоящий мальчик. Ты самый настоящий и самый хороший мальчик на свете. И никто, никто никогда тебя у меня не отнимет.
Теперь ей легко было решиться — она наконец знала, что делать. Но действовать нужно было быстро. Хоскинс не станет больше ждать, ведь пострадал его собственный ребенок…
Нет, это должно произойти ночью, сегодня ночью, когда почти все служащие «Стасиса» будут либо спать, либо праздновать успешное претворение в жизнь «Проекта «Средневековье».
Она вернется в «Стасис» в необычное время, но это случалось и раньше. Охранник хорошо знал ее, и ему даже в голову не придет требовать от нее каких бы то ни было объяснений. Он и внимания не обратит на то, что у нее в руке будет чемодан. Она несколько раз прорепетировала эту простую фразу: «Игры для мальчиков» — и последующую за ней спокойную улыбку. И он поверит.
Когда она снова появилась в кукольном домике, Тимми еще не спал, и она изо всех сил старалась вести себя как обычно, чтобы не испугать его. Она поговорила с ним о его снах и выслушала его вопросы о Джерри.
Потом ее увидят немногие, и никому не будет никакого дела до узла, который она будет нести. Тимми поведет себя очень спокойно, а затем все уже станет fait accompli [свершившимся фактом (фр.)]. Задуманное будет выполнено, и что толку пытаться исправить то, что уже произошло. Ей дадут возможность существовать. Им будет дарована жизнь.
Она открыла чемодан и вытащила из него пальто, шерстяную шапку с наушниками и еще кое-что из одежды.
— Мисс Феллоуз, почему вы надеваете на меня все эти вещи? — встревожившись, спросил Тимми.
— Я хочу вывести тебя отсюда, Тимми. Мы отправимся в страну твоих снов, — ответила мисс Феллоуз.
— Моих снов? — его лицо загорелось радостью, но он еще не полностью избавился от страха.
— Не бойся, ты будешь со мной. Ты не должен бояться, когда ты со мной, не так ли, Тимми?
— Конечно, мисс Феллоуз. — Он прижался к ней своей бесформенной головкой, и, обняв его, она ощутила под рукой биение его маленького сердца.
Наступила полночь. Мисс Феллоуз взяла ребенка на руки, выключила сигнализацию и осторожно открыла дверь.
И тут из ее груди вырвался крик ужаса — она оказалась лицом к лицу со стоявшим на пороге Хоскинсом!
С ним были еще двое, и, увидев ее, он был поражен не меньше, чем она сама.
Мисс Феллоуз пришла в себя на какую-то долю секунды раньше и попыталась быстро проскочить мимо него, но, несмотря на этот выигрыш во времени, Хоскинс все же опередил ее. Он грубо схватил ее и оттолкнул назад в глубину комнаты по направлению к шкафу. Он знаком приказал остальным войти в помещение и сам стал у выхода, загородив дверь.
— Этого я не ожидал. Вы что, окончательно сошли с ума?
Когда Хоскинс толкнул ее, она успела повернуться так, что ударилась о шкаф плечом и Тимми почти не ушибся.
— Что случится, если я возьму его с собой, доктор Хоскинс? — умоляюще произнесла она. — Неужели потеря энергии для вас важнее, чем человеческая жизнь?
Хоскинс решительно вырвал из ее рук Тимми.
— Потеря энергии в таком размере привела бы к утечке многих миллионов долларов из карманов вкладчиков. Это катастрофически затормозило бы работы, ведущиеся акционерным обществом «Стасис инкорпорейтид». Это означало бы то, что всем и каждому стала бы известна история чувствительной медсестры, которая нанесла колоссальный ущерб обществу во имя спасения мальчика-обезьяны.
— Мальчика-обезьяны! — в бессильной ярости воскликнула мисс Феллоуз.
— Под такой кличкой он фигурировал бы в описаниях этого события.
Между тем один из пришедших с Хоскинсом мужчин начал протягивать через отверстия в верхней части стены нейлоновый шнур. Мисс Феллоуз вспомнила шнур, висевший на стене камеры, где находился обломок камня профессора Адемевского, тот шнур, за который дернул в свое время Хоскинс.
— Нет! — вскричала она.
Но Хоскинс опустил Тимми на пол и, осторожно сняв с него пальто, сказал:
— Оставайся здесь, Тимми, с тобой ничего не случится. Мы только выйдем на минутку из комнаты. Хорошо?
Побледневший и лишившийся дара речи Тимми, однако, нашел в себе силы утвердительно кивнуть головой. Хоскинс вывел мисс Феллоуз из кукольного домика, держась на всякий случай позади нее. На какой-то миг мисс Феллоуз утратила способность к сопротивлению. Она тупо следила за тем, как укрепляли снаружи конец шнура.
— Мне очень жаль, мисс Феллоуз, — сказал Хоскинс, — я охотно избавил бы вас от этого зрелища. Я намеревался сделать это ночью, чтобы вы узнали обо всем уже после.
— И все из-за того, что пострадал ваш сын, который замучил этого ребенка до такой степени, что он уже не мог совладать с собой и поранил его?
— Поверьте мне, что дело не в этом. Мне понятна причина того, что здесь сегодня произошло, и я знаю, что во всем виноват Джерри. Но эта история уже получила огласку, да иначе и не могло быть при том количестве корреспондентов, которые собрались здесь в такой день. Я не могу пойти на риск и допустить, чтобы появившиеся в печати ложные слухи о нашей небрежности и о так называемых «диких неандертальцах» умалили успех «Проекта «Средневековье». Так или иначе Тимми все равно должен скоро исчезнуть, так почему бы ему не исчезнуть сейчас, умерив тем самым пыл любителей сенсаций и сократив количество грязи, которое они постараются на нас вылить.
— Но ведь это не то же самое, что отправить назад, в прошлое, осколок камня. Вы убьете человеческое существо.
— Это не убийство. Он ничего не почувствует, он просто опять станет мальчиком-неандертальцем и попадет в свою привычную среду. Он не будет больше чужаком, обреченным на вечное заключение. Ему представится возможность жить на свободе.
— Какая такая возможность? Ему всего лишь семь лет, и он привык, чтоб в нем заботились, чтобы его кормили, одевали, оберегали. Он будет одинок, ведь за эти четыре года его племя могло уйти из тех мест, где он его покинул. А если даже племя еще там, ребенка никто не узнает, он должен будет сам о себе заботиться, а ведь ему негде было научиться этому.
Хоскинс беспомощно покачал головой.
— О господи, неужели вы считаете, мисс Феллоуз, что мы не думали об этом? Разве вы не понимаете, что мы вызвали из прошлого ребенка только потому, что это было первое человеческое или, вернее, получеловеческое существо, которое нам удалось зафиксировать, и мы боялись отказаться от этого, так как не были уверены, что нам так повезет еще раз? Неужели мы держали бы здесь Тимми столь долго, если б нас не смущала необходимость отослать его обратно в прошлое! Мы делаем это сейчас потому, — в его голосе зазвучала решимость отчаяния, — что мы не в состоянии больше ждать. Тимми может послужить причиной компрометирующей нас шумихи. Мы находимся сейчас на пороге великих открытий, и мне очень жаль, мисс Феллоуз, но мы не можем допустить, чтобы Тимми помешал нам. Не можем. Я очень сожалею, мисс Феллоуз, но это так.
— Ну что ж, — грустно произнесла мисс Феллоуз. — Разрешите мне хоть попрощаться с ним. Дайте мне пять минут, я не прошу ничего больше.
— Идите, — после некоторого колебания сказал Хоскинс.
Тимми бросился ей навстречу. В последний раз он подбежал к ней, и она в последний раз прижала его к себе.
Какое-то мгновение она молча сжимала его в своих объятиях, Потом она ногой пододвинула к стене стул и села.
— Не бойся, Тимми.
— Я ничего не боюсь, когда вы со мной, мисс Феллоуз. Этот человек очень сердит на меня? Тот, что остался за дверью?
— Нет. Он просто нас с тобой не понимает… Тимми, ты знаешь, что такое мать?
— Это как мама Джерри?
— Он рассказывал тебе о своей матери?
— Немного. Мне кажется, что мать — это женщина, которая о тебе заботится, которая очень добра к тебе и делает для тебя много хорошего.
— Правильно. А тебе когда-нибудь хотелось иметь мать, Тимми?
Тимми откинул голову, чтобы увидеть ее лицо. Он медленно протянул руку и стал гладить ее по щеке и волосам, как давным-давно, в первый день его появления в «Стасисе», она сама гладила его.
— А разве вы не моя мать? — спросил он.
— О Тимми!
— Вы сердитесь, что я так спросил?
— Нет, что ты! Конечно, нет.
— Я знаю, что вас зовут мисс Феллоуз, но… иногда я про себя называю вас «мама». В этом нет ничего дурного?
— Нет, нет. Я никогда не покину тебя, и с тобой ничего не случится. Я всегда буду с тобой, всегда буду заботиться о тебе. Скажи мне «мама», но так, чтобы я слышала.
— Мама, — удовлетворенно произнес Тимми, прижавшись щекой к ее лицу.
Она поднялась и, не выпуская его из рук, взобралась на стул. Она уже не слышала внезапно поднявшегося за дверью шума и криков. Свободной рукой она ухватилась за протянутый между двумя отверстиями в стене шнур и всей своей тяжестью повисла на нем.
«Стасис» был прорван, и комната опустела.
Ловушка для простаков
Космический корабль «Трижды Г» вырвался из пустоты гиперпространства и появился в бесконечном пространстве — времени. Вокруг него сияло огромное звездное скопление Геркулеса.
Корабль неуверенно повис, окруженный бесчисленными солнцами, каждое из которых было центром могучего поля тяготения, вцепившегося в крохотную металлическую скорлупку. Но вычислительные машины корабля не ошиблись — он оказался точно в назначенном месте. Только один день полета — обычного пространственного полета — отделял его от системы Лагранжа.
Каждый, кто был на борту, воспринял это известие по-своему. Для экипажа это означало еще один день работы, еще один день оплаты по ставкам за полетное время, а потом — отдых на поверхности. Планета, куда они направлялась, была необитаема, но отдохнуть приятно даже на астероиде. Что могли думать по этому поводу пассажиры, членов экипажа не интересовало. Пассажиров они недолюбливали и старались держаться от них подальше. Ведь это же были сплошь «головастые»!
Так оно и было — все пассажиры, кроме одного, были «головастыми». Выражаясь вежливее, это были ученые, и притом довольно разношерстная компания. Единственным чувством, которое объединяло их в тот момент, было беспокойство за свои приборы и смутное желание еще раз проверить, все ли с ними в порядке.
Ну и, пожалуй, едва заметное ощущение тревоги. И возросшего напряжения. Планета была необитаема — каждый не однажды высказывал в этом свое твердое убеждение. Но в чужую душу не влезешь: у каждого на этот счет могли быть и свои мысли.
Что касается единственного на борту корабля человека, который не принадлежал ни к экипажу, ни к ученым, то он чувствовал прежде всего смертельную усталость. С трудом поднявшись на ноги, он пытался стряхнуть с себя последние остатки космической болезни. Звали его Марк Аннунчио, и он провел в постели, почти без еды, все эти четыре дня, пока корабль находился вне Вселенной, преодолевая расстояние во много световых лет.
Но сейчас Марку уже не казалось, что он вот-вот умрет, и настало время явиться по вызову капитана. Удовольствия это Марку не доставляло: он привык делать все по-своему и видеть только то, что ему хотелось. Кто такой этот капитан, чтобы…
Его снова и снова подмывало рассказать все доктору Шеффилду и с этим покончить.
Но Марк был любопытен и знал, что все равно пойдет к капитану. Любопытство было его единственным недостатком.
Оно же было его профессией и призванием в жизни.
* * *
Капитану Фолленби все было нипочем. Так он обычно о себе думал. А совершать рейсы по заданию правительства ему приходилось и раньше. Прежде всего это сулило прибыль. Конфедерация не скупилась на расходы. Это означало, что корабль каждый раз проходил капитальный ремонт, что все ненадежные части заменяли новыми, что экипажу хорошо платили. Это было выгодное дело. Чертовски выгодное.
Но этот рейс был не совсем обычным.
Дело не в том, что пришлось взять на борт таких пассажиров. Он было опасался склок, истерик, невозможной тупости, но оказалось, что «головастые» лишь немногим отличаются от нормальных людей.
Дело даже не в том, что его корабль наполовину разобрали, переоборудовав в «универсальную лабораторию», как было сказано в контракте. Об этом он старался не думать.
Дело было в Малышке — далекой планете, куда они направлялись.
Экипаж, конечно, ничего не знал. Но сам капитан, хоть ему было все нипочем и так далее, начинал беспокоиться.
Только начинал…
А сейчас его больше всего раздражал этот Марк Аннунсио — так, что ли, его зовут? Капитан сердито потер руки, и его широкое, круглое лицо побагровело от гнева.
Вот наглость!
Мальчишка, которому нет еще и двадцати, пустое место по сравнению с другими пассажирами — и вдруг такое потребовать!
Что-то тут неспроста. Во всяком случае, это предстоит выяснить.
Вместо выяснения он с удовольствием взял бы кое-кого за шиворот и тряхнул бы так, чтобы зубы застучали… Но нельзя. Нельзя.
В конце концов уж очень странным был этот рейс, зафрахтованный Конфедерацией Планет, и, возможно, двадцатилетний любитель совать нос не в свое дело тоже для чего-то нужен. Но зачем он понадобился? Вот, например, у этого доктора Шеффилда, можно подумать, нет другого дела, как только носиться с этим мальчишкой, Что это значит? Кто такой этот Аннунсио?
Всю дорогу он страдал космической болезнью. А может быть, это был просто предлог, чтобы сидеть в своей каюте?
У двери прожужжал звонок.
Это он.
Спокойнее, подумал капитан. Спокойнее.
* * *
Входя в каюту капитана, Марк Аннунчио облизал губы, тщетно пытаясь избавиться от горечи во рту. У него слегка кружилась голова и было тяжело на сердце. В этот момент он был бы рад отказаться даже от своей работы, лишь бы снова попасть на Землю.
Он с сожалением вспомнил свою маленькую, но уютную комнату, знакомую до мелочей, где он наслаждался уединением среди себе подобных. Там стояли только кровать, стол, стул и шкаф, но к его услугам а любой момент была вся Центральная библиотека. Здесь не было ничего. Он думал, что на борту корабля можно узнать много нового. Он еще никогда не бывал на борту корабля. Но он не ожидал, что проваляется все эти долгие дни, страдая космической болезнью.
Ему до слез хотелось домой. Он чувствовал отвращение к самому себе, зная, что его глаза покраснели и слезятся и что капитан это наверняка заметит. Он чувствовал отвращение к себе, потому что знал, что мал, тщедушен и похож на мышонка.
Так оно и было. У него были шелковистые прямые волосы мышиного цвета, узкий, уходящий назад подбородок, маленький рот и острый носик. Для полного сходства не хватало только пяти-шести усиков, которые торчали бы с каждой стороны. И роста он был ниже среднего.
Но тут он увидел в иллюминаторе капитанской каюты звездное небо, и у него захватило дух.
Звезды!
Таких он никогда еще не видел!
Марк ни разу не бывал за пределами Земли. (Доктор Шеффилд говорил, что именно поэтому он и заболел космической болезнью. Марк ему не верил. Он пятьдесят раз читал в книгах, что космическая болезнь имеет психогенное происхождение. Даже доктор Шеффилд иногда пытался его обмануть.)
Он ни разу не бывал за пределами Земли и привык к земному небу. Он привык видеть разбросанные по небосводу две тысячи звезд, и из них только десять первой величины.
Здесь же они теснились несметными толпами. В одном маленьком квадрате иллюминатора их было в десять раз больше, чем на всем земном небе. А какие яркие!
Он жадно запечатлевал в уме их расположение. Звезды потрясли его. Конечно, он знал все цифровые данные о скоплении Геркулеса, содержавшем до 10 миллионов звезд (точной переписи еще не было). Но цифры — это одно, а звезды — совсем другое.
Ему захотелось их сосчитать. Это желание внезапно охватило его с непреодолимой силой. Любопытно, сколько их здесь, все ли они имеют названия, известны ли их астрономические характеристики. Минутку…
Он отсчитывал их по сотням. Две, три… Он мог бы делать это и по памяти, но ему нравилось смотреть на реальные физические предметы, особенно такой потрясающей красоты. Шесть, семь…
Добродушный раскатистый голос капитана заставил его вспомнить, где он находится.
— Мистер Аннунсио? Рад вас видеть.
Марк вздрогнул и с негодованием повернулся к нему. Почему ему помешали считать? Показав на иллюминатор, он раздраженно сказал:
— Звезды!
Капитан повернулся и уставился на них.
— Ну и что! Что-нибудь неладно?
Марк стоял, глядя на широкую спину капитана и его толстый зад, на серую щетку волос, покрывавшую его голову, и на две большие руки с толстыми пальцами, переплетенными за спиной и ритмично похлопывавшими по блестящему пластику куртки.
«Что он понимает в звездах? — подумал Марк. — Какое ему дело до их размера, светимости, спектрального класса?»
Нижняя губа Мерка дрогнула. Этот капитан — тоже «нонкомпос». Все на этом корабле — нонкомпосы. Так их прозвали сотрудники мнемонической Службы. Нонкомпосы. Все до единого. Без счетной машины и пятнадцать в куб не возведут.
Марк почувствовал себя очень одиноким.
Он решил, что объяснять все это нет смысла, и сказал:
— Звезды здесь такие густые. Как гороховый суп.
— Это только кажется, мистер Аннунсио. (Капитан произносил «Аннунсио» вместо «Аннунчио», и это резало слух Марка.) — Среднее расстояние между звездами в самом густом скоплении — не меньше светового года. Места хватает, а? Правда, на вид тесновато. Это верно. Если выключить свет, они светят не хуже, чем триллион точек Чисхольма в осциллирующем силовом поле.
Но он не предложил выключить свет, а просить его об этом Марк не собирался.
— Садитесь, мистер Аннунсио, — продолжал капитан. — В ногах правды нет, а? Курите? Не возражаете, если я закурю? Жаль, вас на было тут утром. В шесть локального времени были прекрасно видны Лагранж-I и Лагранж-II. Красный и зеленый. Как светофор, а? Но вас не видно всю дорогу. Космическая болезнь одолела, а?
Эти «а?», которые капитан выкрикивал резким, визгливым голосом, страшно раздражали Марка. Он тихо ответил:
— Сейчас я чувствую себя хорошо.
Казалось, это не очень обрадовало капитана. Он запыхтел сигарой, уставился на Марка, сдвинув брови, и медленно сказал:
— Все равно, рад вас видеть. Немного познакомиться. Вашу руку. «Трижды Г» не первый раз в специальном правительственном рейсе. До сих пор никаких неприятностей. Никогда не имел неприятностей. Не желаю неприятностей. Понимаете?
Марк ничего не понимал и даже не пытался. Его жадный взгляд снова вернулся к звездам. Их расположение немного изменилось.
Капитан на мгновение перехватил его взгляд, нахмурился и, казалось, хотел пожать плечами. Он подошел к пульту управления, и металлическая штора, скользнув по сверкавшему звездами иллюминатору, закрыла его, как гигантское веко. Марк вскочил, закричав в бешенстве:
— Что еще такое? Я считал их, идиот!
— Считал?.. — капитан побагровел, но заставил себя вежливо продолжать. Извините. Нам нужно поговорить о деле. На словах «о деле» он сделал едва слышное ударение. Марк знал, что он имеет в виду.
— Говорить не о чем. Я хочу посмотреть судовой журнал. Я звонил вам несколько часов назад и так и сказал. Вы меня задерживаете.
— А не скажете ли вы, зачем вам смотреть журнал, а? — спросил капитан. Еще никто об этом не просил. Вы имеете на это право?
Марк был изумлен.
— Я имею право смотреть все, что захочу. Я из Мнемонической Службы.
Капитан запыхтел сигарой — специальной марки, выпускавшейся для космических полетов, с добавлением окислителя, чтобы не расходовать кислорода воздуха. Он осторожно ответил:
— Да? Никогда о такой не слыхал. Что это такое?
— Мнемоническая Служба, и все тут, — возмущенно ответил Марк. — Это моя работа: я должен смотреть все, что захочу, и задавать любые вопросы, какие захочу. И я на это имею право.
— Но вы не получите журнал, если я не пожелаю.
— Вашего мнения не спрашивают, вы… нонкомпос!
Терпение капитана иссякло. Он в ярости швырнул на пол сигару и растоптал ее, потом подобрал остатки и тщательно запихнул в мусоропровод.
— Куда вы гнете? — спросил он. — Кто вы вообще такой? Секретный агент? В чем дело? Выкладывайте сейчас же.
— Я сказал вам все, что нужно.
— Мне нечего скрывать, — сказал капитан, — но у меня есть свои права.
— Нечего скрывать? — завопил Марк. — А почему этот корабль называется «Трижды Г»?
— Такое у него название.
— Рассказывайте! В земном регистре такого нет. Я это знал с самого начала и собирался вас спросить.
Капитан заморгал глазами и ответил:
— Официальное название — «Георг Г. Гронди». Но все называют его «Трижды Г».
Марк рассмеялся.
— Ну вот, видите? А когда я посмотрю журнал, я поговорю с экипажем. У меня есть на это право. Спросите доктора Шеффилда.
— И с экипажем тоже, а? — капитан был вне себя от ярости. — Давайте сюда вашего доктора Шеффилда, и мы вас обоих запрем в каюте до посадки. Щенок!
Он схватил телефонную трубку.
* * *
Научный персонал «Трижды Г» был невелик для той работы, которая ему предстояла, и личный состав его был довольно молод. Может быть, не настолько, как Марк Аннунчио, который был сам по себе, но даже самому старшему из ученых, астрофизику Эммануэлю Джорджу Саймону, еще не было тридцати девяти. А темные густые волосы и большие блестящие глаза делали его еще моложе. Правда блеском глаз он отчасти был обязан контактным линзам.
Саймон, слишком хорошо помнивший о своем возрасте, а также и о том, что именно он назначен номинальным начальником экспедиции (о чем большинство остальных было склонно забывать), обычно напускал на себя скептическое отношение к стоявшей перед ними задаче. Вот и сейчас он, просмотрев на руках перфоленту, дав ей снова свернуться в рулон и усевшись в самое мягкое кресло в крохотной гостиной для пассажиров, вздохнул и сказал:
— Все то же самое. Ничего.
Перед ним лежали последние цветные снимки системы двойной звезды Лагранжа, но даже их красота не производила на него никакого впечатления. Лагранж-I, поменьше и чуть горячее земного Солнца, сиял ярким зелено-голубым светом, окруженный жемчужной зеленовато-желтой короной, как изумруд в золотой оправе. Он казался не больше горошины. Недалеко от него (насколько можно было судить по фотографии) находился Лагранж-II. Он был расположен так, что казался вдвое больше Лагранжа-I (на самом деле его диаметр составлял всего 4/5 диаметра Лагранжа-I, объем — половину, а масса — две трети). Его красно-оранжевые тона, к которым пленка была менее чувствительна, чем сетчатка человеческого глаза, выглядели на снимке еще тусклее, чем обычно, рядом с сиянием соседнего солнца.
Оба солнца окружала небывалая свергающая россыпь звезд скопления Геркулеса, не тонувшая в солнечном свете благодаря специальным поляризованным объективам. Это было похоже на густо рассыпанную алмазную пыль — желтую, белую, голубую и красную.
— Ничего, — вздохнул Саймон.
— А по-моему, неплохо, — отозвался сидевший в гостиной врач Гроот Новенаагль — небольшого роста, полный человек, которого никто не называл иначе, чем «Нови».
— А где Малышка? — спросил он и нагнулся над Саймоном, глядя ему через плечо слегка близорукими глазами. Саймон покосился на него.
— Она называется не «Малышка». Если вы имеете в виду планету Трою, то в этой проклятой мешанине заезд ее не видно. Эта картинка годится разве что для научно-популярного журнала. Толку от нее немного.
— Жаль… — разочарованно протянул Нови.
— А вам-то какая разница? — спросил Саймон. — Предположим, я скажу вам, что одна из этих точек — Троя. Любая. Вы все равно не отличите ее от других, так зачем вам это?
— Нет, погодите, Саймон. Пожалуйста, не изображайте такое презрение. Это же вполне законное чувство. Мы ведь будем жить на Малышке. Как знать, может быть, на ней мы и умрем…
— Нови, здесь нет ни слушателей, ни оркестра, ни микрофонов, ни фанфар зачем ломать комедию? Мы там не умрем. Если и умрем, будем сами виноваты, да и то скорее всего — от обжорства.
Это было сказано так, как обычно люди с плохим аппетитом говорят о любителях поесть, будто скверное пищеварение неотделимо от безупречной добродетели и интеллектуального превосходства.
— Умерло же там больше тысячи человек, — тихо сказал Нови.
— Верно. Во всей Галактике умирает миллиард человек в день.
— Но не так.
— Не как?
Нови ответил, как обычно, лениво растягивая слова, хотя это стоило ему некоторого усилия:
— Решено этот вопрос обсуждать только на официальных заседаниях.
— Нечего тут и обсуждать, — мрачно сказал Саймон. — Это просто два обыкновенные звезды. Будь я проклят, если знаю, зачем вызвался лететь. Наверное, просто потому, что представился случай увидеть вблизи необычно большую звездную систему троянского типа. И еще — взглянуть на пригодную для обитания планету с двойным солнцем. Не знаю, почему я решил, что в этом есть что-нибудь удивительное.
— Потому что вы подумали о тысяче погибших мужчин и женщин, — сказал Нови и торопливо продолжал:
— Послушайте, не можете ли вы мне сказать, что такое вообще «планета троянского типа»?
Врач стойко выдержал полный презрения взгляд собеседника и добавил:
— Ладно, ладно. Ну, я не знаю. Вы тоже не всё знаете. Что вы знаете об ультразвуковых разрезах?
— Ничего, — ответил Саймон, — и, по-моему, это очень хорошо. Я считаю, что всякая информация, выходящая за пределы прямой специальности, бесполезна и требует пустой траты умственного потенциала. С точкой зрения Шеффилда я не согласен.
— А все-таки я хочу знать. Конечно, если вы можете объяснить.
— Могу. Правда, об этом говорилось в первом информационном сообщении, если вы его слушали. У большинства кратных звезд — а это значит, у трети всех звезд, — есть какие-нибудь планеты. К сожалению, они обычно непригодны для жизни. Если они достаточно далеки от центра тяготения звездной системы, чтобы иметь более или менее круговую орбиту, то на них так холодно, что их покрывают океаны жидкого гелия. Если же они достаточно близки, чтобы получать тепло, то их орбиты так неправильны, что по меньшей мере один раз за оборот они приближаются к какой-нибудь из звезд настолько, что на них и железо бы расплавилось. А здесь, в системе Лагранжа, все не так, как обычно. Обе звезды — Лагранж-I и Лагранж-II — и планета Троя со своим спутником Илионом находятся в вершинах воображаемого равностороннего треугольника. Ясно? А такое расположение, оказывается, устойчиво; только ради чего угодно, не спрашивайте меня, почему. Считайте, что это мое профессиональное мнение.
— Мне никогда не пришло бы в голову подвергать его сомнению, — пробормотал вполголоса Нови. Казалось, Саймон остался чем-то недоволен, но продолжал:
— Вся система в целом вращается вокруг общего центра. Троя всегда находится в ста миллионах миль от каждого из солнц, а солнца — в ста миллионах миль друг от друга.
Нови почесал ухо. Он был как будто не совсем удовлетворен ответом.
— Это все я знаю. Я все-таки слушал информационное сообщение. Но почему это называется «планетой троянского типа»? Что за «троянский тип»?
Тонкие губы Саймона на мгновение сжались, как будто он усилием воли сдержал резкое слово.
— У нас в Солнечной системе тоже есть такое сочетание. Солнце, Юпитер и группа мелких астероидов образуют устойчивый равносторонний треугольник, А астероидам были даны имена Гектора, Ахиллеса, Аякса и других героев троянской войны. Поэтому… Есть необходимость продолжать?
— И это все? — спросил Нови.
— Да. Теперь вы больше не будете ко мне приставать?
— О, пропадите вы пропадом.
Нови встал, оставив возмущенного астрофизика, но за мгновение до того, как его рука коснулась кнопки на дверном косяке, дверь скользнула вбок, и в гостиную вошел Борис Вернадский — широколицый, чернобровый и большеротый геохимик экспедиции, отличавшийся неумеренным пристрастием к рубашкам в мелкий горошек и магнитным запонкам из красного пластика. Не обратив никакого внимания на раскрасневшееся лицо Нови и каменное выражение на физиономии астрофизика, он сказал:
— Братья-ученые, если вы внимательно прислушаетесь, то услышите там, наверху, а капитанской каюте, такой взрыв, какого еще никогда не слыхали.
— Что случилось? — спросил Нови.
— Капитан взял в оборот Аннунчио — этого драгоценного мага и чародея, с которым так носится Шеффилд, и тот понесся наверх с налитыми кровью очами.
Саймон, до сих пор слушавший его, фыркнул и отвернулся.
Нови сказал:
— Шеффилд? Но ведь он и сердиться не умеет. Я никогда не слышал, чтобы он повысил голос.
— На этот раз он не выдержал. Когда он узнал, что мальчишка ушел из своей каюты, не сказав ему, и что капитан его кроет… Ого-го! Вы знали, что он уже гуляет. Нови?
— Нет, не знал, но это не удивительно. Такая уж штука космическая болезнь. Когда она тебя одолевает, кажется, что вот-вот умрешь. Даже хочется, чтобы поскорее. А через две минуты все как рукой снимет, и чувствуешь себя здоровым. Слабым, но здоровым. Я утром сказал Марку, что мы завтра садимся. Вероятно, это его и вылечило. Мысль о близкой посадке на планете творит чудеса при космической болезни. Ведь мы в самом деле садимся, правда, Саймон?
Астрофизик издал невнятный звук, который можно было истолковать как утвердительное ворчание. По крайней мере так понял его Нови.
— А все-таки что случилось? — спросил Нови.
— Ну, Шеффилд живет у меня в каюте с тех пор, как мальчишка загнулся. Сидит он сегодня за столом со своими дурацкими таблицами и крутит карманную вычислительную машинку, как вдруг по телефону звонит капитан. Оказывается, мальчишка у него, и капитан желает знать, зачем такое-сякое и этакое правительство вздумало подослать к нему шпиона. А Шеффилд орет ему, что проткнет его насквозь макронивелировочной трубкой Колламора, если он что-нибудь позволит себе с мальчишкой. А потом он вылетает из каюты, бросив трубку и оставив капитана с пеной у рта от ярости.
— Вы все выдумали, — сказал Нови. — Шеффилд никогда не скажет ничего подобного.
— Ну, что-то в этом роде.
Нови повернулся к Саймону.
— Вы возглавляете нашу группу. Почему вы ничего не предпримете?
— Ну да, в таких случаях я возглавляю группу, — огрызнулся Саймон. — Если что-нибудь случается, отвечаю всегда я. Пусть разбираются сами. Шеффилд за словом в карман не полезет, а капитан никогда не вынет рук из-за спины. Яркое описание Вернадского еще не значит, что произойдет кровопролитие.
— Да, но зачем допускать ссоры в такой экспедиции?
— Вы говорите о нашей высокой миссии? — Вернадский в притворном ужасе воздел руки и закатил глаза. — О, как страшит меня мысль о том времени, когда мы окажемся среди костей и остатков первой экспедиции!
Представившаяся всем картина не вызывала особого веселья, и все замолчали. Даже затылок Саймона — единственное, что виднелось поверх спинки кресла, казалось, на мгновение напрягся.
* * *
Освальд Мейер Шеффилд, психолог, был тощ, как жердь, и обладал столь же высоким ростом, а также могучим голосом, позволявшим ему с неожиданной виртуозностью исполнять оперные арии или же спокойно, но язвительно добивать противника в споре. Когда он входил в каюту капитана, на его лице не было заметно гнева, которого можно было бы ожидать, судя по рассказу Вернадского. Он даже улыбался.
Как только он вошел, капитан набросился на него:
— Слушайте, Шеффилд…
— Минутку, капитан Фолленби, — прервал его Шеффилд. — Как ты себя чувствуешь, Марк?
Марк опустил глаза и глухо ответил:
— Все в порядке, доктор Шеффилд.
— Я не знал, что ты уже встал с постели.
В его голосе не был слышен упрек, но Марк виновато ответил:
— Я почувствовал себя лучше, доктор Шеффилд, и мне не по себе без дела. Все время, что я на корабле, я ничего не делаю. Поэтому я позвонил капитану и попросил его показать мне судовой журнал, а он вызвал меня сюда.
— Ну, хорошо. Я думаю, он не будет возражать, если ты сейчас вернешься к себе.
— Ах, не буду?.. — начал капитан.
Шеффилд ласково поднял на него глаза.
— Я отвечаю за него, сэр.
И капитан почему-то не смог ничего возразить.
Марк послушно повернулся, чтобы идти. Шеффилд подождал, пока дверь за ним плотно закроется, и повернулся к капитану:
— Какого черта, капитан?
Капитан несколько раз угрожающе качнулся всем телом и с отчетливо слышным хлопком судорожно сцепил руки за спиной.
— Этот вопрос должен задать я. Я здесь капитан, Шеффилд.
— Я знаю.
— Знаете, что это значит, а? Пока этот корабль находится в космосе, он рассматривается как планета, и мне предоставлена на нем абсолютная власть. В космосе мое слово — закон. Даже Центральный Комитет Конфедерации не может его отменить. Я должен поддерживать дисциплину, и никакие шпионы…
— Ладно. А теперь, капитан, послушайте, что я вам скажу. Вас зафрахтовало Бюро по делам периферии, чтобы вы доставили правительственную экспедицию в систему Лагранжа, находились там столько, сколько понадобится для ее работы и сколько позволит безопасность экипажа и корабля, а потом доставили нас домой. Вы подписали договор и приняли на себя некоторые обязательства. Например, вы не должны трогать или портить наши приборы.
— Кто же их трогает? — возмутился капитан, Шеффилд спокойно ответил:
— Вы. Капитан, оставьте в покое Марка Аннунчио. Вы не должны его трогать, так же как вы не трогаете монохром Саймона и микрооптику Вайо. Ясно?
Облаченная в мундир грудь капитана поднялась.
— Я не желаю выслушивать приказания на борту своего собственного корабля. Ваши разговоры — нарушение дисциплины, мистер Шеффилд. Еще слово — и вы будете арестованы в своей каюте вместе с вашим Аннунчио. Не нравится — можете обращаться в Контрольное бюро, когда вернетесь. А до тех пор — помалкивайте!
— Постойте, капитан, дайте мне объяснить, Марк — из Мнемонической Службы…
— Ну конечно, он так и говорил. Номоническая служба, номоническая служба… По-моему, это просто тайная полиция. Так вот, на борту моего корабля этого не будет, а?
— Мне-мо-ни-чес-кая Служба, — терпеливо повторил Шеффилд. — Это от греческого слова «память».
Капитан прищурился.
— Он что, все запоминает?
— Именно, капитан. Понимаете, это отчасти я виноват. Я должен был поставить вас в известность об этом. Я так и сделал бы, если бы мальчик на заболел сразу после старта. Я больше ни о чем не мог думать. И потом мне не приходило в голову, что он может заинтересоваться самим кораблем. Хотя почему же нет? Его все должно интересовать.
— Все, а? — капитан взглянул на стенные часы. — Так поставьте меня в известность сейчас, а? Без долгих разговоров. И вообще поменьше разговоров. Время ограничено.
— Это недолго, уверяю вас. Вот, капитан, вы старый космический волк. Сколько обитаемых планет входит в Конфедерацию?
— Восемьдесят тысяч, — ответил капитан не задумываясь.
— Восемьдесят три тысячи двести, — поправил Шеффилд. — Кто, по-вашему, руководит такой огромной политической организацией?
Капитан снова без колебаний ответил:
— Вычислительные машины.
— Верно. Существует Земля, где половина населения обслуживает правительство и только и делает, что считает, а на всех других планетах есть вычислительные центры. И все равно многие сведения теряются. Каждая планета знает что-то такое, чего не знают другие. Даже почти каждый человек. Возьмите нашу маленькую группу. Вернадский не знает биологии, а я ничего не понимаю в химии. Ни один из нас, кроме Фоукса, не мог бы пилотировать самый простой патрульный космолет. Поэтому мы и работаем вместе: каждый приносит те познания, которых не хватает другим. Но тут есть одна зацепка. Ни один из нас не знает точно, что именно из того, что он знает, важно для других при данных обстоятельствах. Мы же не можем сидеть и рассказывать друг другу все, что знаем. Поэтому приходится гадать, и не всегда правильно. Например, есть два факта, А и Б, которые очень хорошо вяжутся друг с другом. И А, который знает факт А, говорит Б, который знает факт Б: «Почему же ты мне это не сказал десять лет назад?». А Б отвечает: «Я не знал, что это так важно», или «А я думал, об этом все знают».
— Вот для этого и нужны вычислительные машины, — сказал капитан.
— Но их возможности ограниченны, капитан, — возразил Шеффилд. — Им нужно задавать вопросы; больше того, вопросы должны быть только такие, чтобы их можно было выразить ограниченным набором символов. А кроме того, машины все понимают буквально. Они отвечают на вопрос, который вы задаете, а не на тот, что вы при этом имеете в виду. Бывает, никому не приходит в голову задать нужный вопрос или ввести в машину нужные символы, а в таких случаях по своей инициативе она информацию не выдает. Нам, всему человечеству нужна не механическая вычислительная машина, а машина, наделенная воображением. Вот одна такая машина, капитан, — Шеффилд постучал себя пальцем по виску. — У каждого такая есть, капитан.
— Может быть, — проворчал капитан, — только я уж лучше предпочту обычную, а? Ту, что с кнопками.
— Вы уверены? Ведь у машин не бывает неожиданных догадок. А у вас бывают.
— А это относится к делу? — капитан снова взглянул на часы.
— Где-то в глубине человеческого мозга хранятся все сведения, которые ему попадаются. Сознательно он помнит очень немногое, но все они там есть, и по ассоциации могут вспомниться любые из них, а человек даже не будет знать, откуда что взялось. Это и называется догадкой, или интуицией. У некоторых людей это получается лучше, чем у других. А некоторых можно этому научить. Кое-кто почти достигает совершенства, как Марк Аннунчио и еще сотня ему подобных. Я надеюсь, что когда-нибудь их будет миллиард, и тогда Мнемоническая Служба в самом деле заработает.
— Всю свою жизнь, — продолжал Шеффилд, — эти люди ничего не делают только читают, смотрят и слушают. И учатся делать это все лучше, эффективнее. Неважно, какие сведения они запоминают. Эти сведения могут на первый взгляд не иметь ни смысла, ни значения. Пусть кому-нибудь из мнемонистов вздумается целую неделю изучать результаты соревнований по космическому поло в секторе Канопуса за последние сто лет. Любые сведения могут когда-нибудь пригодиться. Это основная аксиома. А время от времени кто-нибудь из мнемонистов делает такие сопоставления, какие не могла бы сделать ни одна машина. Потому что ни одна машина не может располагать этими совершенно не связанными между собой сведениями, а если она их и имеет, то ни один нормальный человек никогда не задаст ей нужного вопроса. Одна хорошая корреляция, предложенная Мнемонической Службой, может окупить все затраты на нее за десять лет, а то и больше.
Капитан забеспокоился и поднял свою широкую руку:
— Погодите. Аннунчио сказал, что в земных регистрах нет корабля под названием «Трижды Г». Значит, он знает наизусть все названия, какие только есть в регистрах?
— Вероятно. Наверное, он прочитал Регистр торговых судов. В этом случае он знает все названия, тоннаж, годы постройки, порты приписка, численность экипажа и все остальное, что есть в Регистре.
— И еще он считал звезды.
— А почему бы и нет? Это тоже информация.
— Будь я проклят!
— Не исключено, капитан. Но я хочу сказать, что люди, подобные Марку, не такие, как все. Он получил необычное, ненормальное воспитание, у него выработалось необычное, ненормальное восприятие жизни. С тех пор, как в пятилетнем возрасте он поступил в Мнемоническую Службу, он впервые покинул ее территорию. Он легко возбудим, и ему можно нанести непоправимый вред. Это не должно произойти, и мне поручено следить, чтобы этого не случилось. Он — мой прибор; он ценнее, чем любой прибор на этом корабле. Таких, как он, на весь Млечный Путь всего сотня.
Лицо капитана Фолленби ясно выражало уязвленное чувство собственного достоинства.
— Ну, ладно. Значит, журнал. Строго конфиденциально, а?
— Строго. Он рассказывает все только мне, а я никому не рассказываю, если только не сделано ценное сопоставление.
Судя по виду капитана, это не совсем соответствовало тому, что он понимал под словами «строго конфиденциально», но он сказал:
— И никаких разговоров с экипажем.
После многозначительной паузы он добавил:
— Вы знаете, что я имею в виду.
Шеффилд шагнул к двери.
— Марк в курсе дела. Поверьте, экипаж от него ничего не узнает.
Когда он уже выходил, капитан окликнул его:
— Шеффилд!
— Да?
— А что такое «нонкомпос»?
Шеффилд подавил улыбку.
— Он вас так назвал?
— Что это такое, я спрашиваю!
— Просто сокращение слов «нон компос ментис». Все мнемонисты называют так всех, кто не принадлежит к Мнемонической Службе. Это относится и к вам. И ко мне. По-латыни это значит «не в своем уме». И знаете, капитан, по-моему, они правы.
Он быстро вышел.
* * *
На просмотр судового журнала Марку Аннунчио понадобилось секунд пятнадцать. Он ничего там не понял, но он не понимал большинство из того, что запоминал. Это его не смущало. Не смутило его и то, что журнал оказался скучным. Но Марк так и не нашел там того, что искал, и отложил журнал со смешанным чувством облегчения и неудовольствия.
Марк направился в библиотеку и просмотрел десятка четыре книг с такой скоростью, какую только позволяло развить сканирующее устройство. В детстве он три года учился так читать и до сих пор с гордостью вспоминал, как на выпускных экзаменах установил рекорд школы.
Наконец Марк забрел в лабораторный отсек и начал заглядывать то в одну, то в другую лабораторию. Он не задавал никаких вопросов и уходил, как только кто-нибудь обращал на него внимание.
Марк ненавидел их невыносимую привычку глядеть на него, как на какое-то диковинное животное. Он ненавидел их всезнающий вид, как будто стоило тратить все возможности мозга на один крохотный предмет и при этом помнить какую-то ничтожную его часть.
Конечно, со временем придется задавать им вопросы. Это его работа, а даже если бы и было иначе, он все равно бы не удержался — из любопытства. Впрочем, он надеялся выдержать до тех пор, когда они сядут на планету.
Марк был рад, что корабль находится уже в пределах звездной системы. Скоро он увидит новую планету с новыми солнцами, да еще двумя, и новой луной. Четыре объекта, каждый из которых содержит свеженькую информацию; бездна фактов, которые можно любовно собирать и сортировать…
У Марка захватило дух при одной мысли об этой бесформенной гора сведений, которая его ожидала. Ему представился собственный мозг в виде огромной картотеки с перекрестным указателем, простиравшейся бесконечно во всех направлениях. Аккуратный, четкий, хорошо смазанный механизм высочайшей точности.
Он чуть не засмеялся, подумав о тех пыльных чердаках, которые называют своим мозгом нонкомпосы. Он чувствовал это даже тогда, когда говорил с доктором Шеффилдом. А этот еще был из лучших: он очень старался все понять, и иногда это ему почти удавалось. У всех остальных пассажиров корабля были не мозги, а дровяные склады — пыльные дровяные склады, заваленные трухой, и достать оттуда можно было только то, что лежало сверху.
Бедные глупцы! Он бы их пожалел, не будь они такими злобными. Если бы они только знали, на что похожи их мозги! Если бы они это поняли!
Все свободное время Марк проводил в наблюдательных рубках, следя за приближением новых миров.
Корабль прошел недалеко от Илиона. Саймон педантично называл планету, куда они направлялись, Троей, а ее спутник — Илионом, хотя все остальные окрестили их Малышкой и Сестренкой. По другую сторону от двух солнц, в противоположной «троянской точке», находилась группа астероидов. Саймон называл их «Лагранж-Эпсилон», все остальные — Щенками.
Все эти смутные мысли пронеслись одновременно в мозгу Марка, как только он подумал об Илионе. Он почти не осознал их и пропустил как не представляющие в данный момент интереса. Еще более смутно и еще глубже в его подсознании зашевелилось еще сотен пять подобных нехитрых кличек, заменявших торжественные астрономические наименования. Некоторые из них он где-то вычитал, другие услышал в субэфирных передачах, третьи узнал из обычных разговоров, а некоторые встречались ему в последних известиях. Кое-что ему говорили прямо, кое-что было подслушано. Даже «Трижды Г», заменившее «Георга Г. Гронди», тоже стояло в этой туманной картотеке.
Шеффилд часто расспрашивал Марка о том, что происходило а его мозгу расспрашивал очень мягко, очень осторожно.
— Мнемонической Службе нужно много таких, как ты, Марк. Миллионы, а со временем — и миллиарды, если наша раса заселит всю Галактику. А откуда они возьмутся? Полагаться на врожденный талант не приходится. Им наделены все мы, в большей или меньшей степени. Важнее всего обучение, а чтобы обучать, мы должны узнать, как это делается.
И, понуждаемый Шеффилдом, Марк следил за собой, слушал себя, изучал себя, пытаясь это осознать. Он понял, что его мозг подобен гигантской картотеке; он видел, как карточки строятся одна за другой; он заметил, как нужные сведения выскакивают по первому зову, трепеща от готовности служить. Это было трудно объяснить Шеффилду, но он старался, как мог.
И его уверенность в себе росла. Забывались тревоги его детства, первых лет Службы. Он перестал просыпаться среди ночи, весь в поту, с криком ужаса при мысли о том, что он может все забыть. Прекратились и головные боли.
Марк увидел в иллюминаторе Илион. Он был ярче, чем любая луна, какую только Марк мог себе представить. (В его мозгу в убывающем порядке проплыли цифры — отражающая способность поверхности трехсот обитаемых планет. Он почти не обратил на них внимания.)
Перед ним ослепительно сверкали огромные пятна неправильной формы. Недавно Марк подслушал, как Саймон, устало отвечая на чей-то вопрос, сказал, что когда-то это было морское дно. Тут же в мозгу Марка возник еще один факт. В первом сообщении Хидошеки Макоямы говорилось, что состав этих ярких солевых отложений — 78,6 % хлористого натрия, 19,2 % карбоната магния, 1,4 % сульфата ка… Мысль оборвалась — она была не нужна.
На Илионе была атмосфера. Всего около 100 миллиметров ртутного столба. (Чуть больше 1/8 земной, в десять раз больше марсианской, 0,254 атмосферы Коралемона, 0,1376 — Авроры…) Он лениво следил, как растут десятичные знаки. Это было полезное упражнение, но скоро оно ему надоело. Мгновенный счет они проходили еще в пятом классе. Сейчас для него представляли трудность лишь интегралы. Иногда ему приходило в голову: это оттого, что он не знает, что такое интеграл. Мелькнуло полдюжины определений, но ему не хватало математических знаний, чтобы их понять, хотя процитировать их на память он мог.
В школе им всегда говорили: «Старайтесь не увлекаться каким-нибудь одним предметом или темой. Как только вы заинтересуетесь, вы начнете отбирать факты, а этого вы никогда не должны делать. Для вас важно все. Раз уж вы запомнили тот или иной факт, неважно, понимаете вы его или нет».
А нонкомпосы думают иначе. Зазнавшиеся дырявые мозги!
Теперь они приближались к самой Малышке. Она тоже ярко светилась, но по-своему. На севере и на юге планеты сверкали полярные шапки. (Перед глазами Марка поплыли страницы учебников палеоклиматологии Земли, но он не стал их останавливать.) Полярные шапки отступали. Еще миллион лет — и на Малышке будет такой же климат, как сейчас на Земле. Размер и масса Малышки были такими же, как у Земли, а период ее вращения составлял 36 часов.
Это был настоящий двойник Земли. А те отличия, о которых говорилось в сообщении Макоямы, были в пользу Малышки. Насколько было известно до сих пор, на Малышке ничто не угрожало человеку. Никто и не подумал бы, что там может таиться какая-то опасность.
Если бы только не то обстоятельство, что первая колония людей на этой планете погибла до последнего человека.
Хуже того, это произошло таким образом, что вся сохранившаяся информация никак не могла объяснить, что же все-таки случилось.
* * *
За два часа до посадки Шеффилд пришел в каюту к Марку. Сначала их поселили в одной каюте. Это был эксперимент: мнемонисты не любили находиться в обществе нонкомпосов. Даже самых лучших. Во всяком случае, эксперимент не удался. Почти сразу же после старта покрытое испариной лицо и умоляющие глаза Марка ясно показали, что ему необходимо остаться одному.
Шеффилд чувствовал себя виноватым. Он отвечал за все, что было связано с Марком, — неважно, была в этом его вина или нет. Он и ему подобные брали детей вроде Марка и своим воспитанием губили их. Их рост искусственно ускоряли. Из них делали все, что хотели. Им не разрешали общаться с нормальными детьми, чтобы они не приобрели привычки к нормальному мышлению. Ни один мнемонист еще не вступил в нормальный брак, даже в пределах своей группы.
Поэтому Шеффилд чувствовал себя страшно виноватым.
Первую дюжину таких ребят вырастили двадцать лет назад в школе Ю. Караганды. Со временем Караганда по каким-то неясным причинам покончил с собой, но другие психологи, менее гениальные но более респектабельные, и в том числе Шеффилд, успели поработать с ним и стать его учениками. Школа росла, к ней прибавились другие. Одна из них даже была основана на Марсе. В данный момент в ней училось пять человек. По последним сведениям, в живых насчитывалось 103 человека, прошедших полный курс (естественно, до конца доучивалась лишь малая часть поступавших). А пять лет назад Общепланетное правительство Земли организовало в системе Департамента внутренних дел Мнемоническую Службу.
Мнемоническая Служба уже окупилась сторицей, но об этом эмали лишь немногие. Общепланетное правительство не устраивало вокруг нее шума. Это было его уязвимое место — эксперимент, неудача которого могла дорого обойтись. Оппозиция, которую с трудом уговорили не замешивать этого вопроса в предвыборную кампанию, не упускала случая поговорить на общепланетных съездах о «разбазаривании средств налогоплательщиков». И это — несмотря на то, что существовали документальные доказательства обратного.
В условиях машинной цивилизации, заполнившей всю Галактику, трудно научиться оценивать достижения невооруженного разума. Этому нужно долго учиться. «Сколько же?» — подумал Шеффилд.
Однако в присутствии Марка следовало скрывать грустные мысли. Слишком велика опасность того, что это повлияет на его настроение. Поэтому Шеффилд сказал:
— Ты выглядишь прекрасно.
Марк, казалось, был рад с ним увидеться. Он задумчиво произнес:
— Когда мы вернемся на Землю, доктор Шеффилд…
Он запнулся, слегка покраснел и продолжал:
— То есть, если мы вернемся, я достану, сколько смогу, книг и пленок о народных обычаях и суевериях. Я почти ничего о них не читал. Я был в корабельной библиотеке — там на эту тему ничего нет.
— А почему это тебя интересует?
— Да это все капитан. Вы, кажется, говорили — он сказал, команда не должна знать, что мы посетим такую планету, на которой погибла первая экспедиция?
— Да, конечно. Ну и что?
— Потому что космолетчики считают плохой приметой посадку на такой планете, особенно если она с виду безобидна, да? Их называют «ловушками для простаков».
— Верно.
— Так говорит капитан. Но только, по-моему, это неправд. Я помню, что есть семнадцать годных для жизни планет, с которых не вернулись первые экспедиции и не основали там колоний. И все равно потом все они были освоены и теперь входят в Конфедерацию. Взять хотя бы Сармат — теперь это вполне приличная планета.
— Но есть и такие планеты, где постоянно происходят несчастья.
Шеффилд нарочно сказал это в утвердительной форме. «Никогда не задавайте наводящих вопросов», — таков один из Законов Караганды. Мнемонические сопоставления — не сознательное порождение разума; они не подчиняются воле человека. Как только задается прямой вопрос, появляются в изобилии сопоставления, но лишь такие, какие мог бы сделать любой более или менее сведущий человек. Только подсознание может перебросить мостик через огромные, неожиданные пробелы.
Марк попался на эту удочку, как это сделал бы на его месте любой мнемонист. Он энергично возразил:
— Нет, я о таких не слыхал. Во всяком случае, если планета вообще годится для жизни. Если она вся ледяная или сплошная пустыня — тогда другое дело. Но Малышка не такая.
— Да, не такая, — согласился Шеффилд.
— Тогда почему бы команде ее бояться? Я думал об этом все время, пока лежал в постели. Вот почему я и решил посмотреть судовой журнал. Я никогда ни одного не видел, так что все равно это было бы полезно. И, конечно, я думал, что найду там правду.
— Угу, — произнес Шеффилд.
— И, знаете, я, кажется, ошибался. Во всем журнале нигде не говорится о цели экспедиции. Это значит, что цель составляет секрет. Похоже, что он держит ее в тайне даже от других офицеров корабля. А корабль там в самом деле назван «Георг Г. Гронди».
— А как же иначе?
— Ну, не знаю. У меня были кое-какие подозрения насчет «Трижды Г», загадочно ответил Марк.
— Ты как будто разочарован, что капитан не солгал, — сказал Шеффилд.
— Не разочарован. Пожалуй, я чувствую облегчение. Я думал… Я думал…
Он замолчал в крайнем смущении, но Шеффилд и не пытался прийти ему на помощь. Марку пришлось продолжать:
— Я думал, может быть, все мне говорят неправду, а не только капитан? Может быть, даже вы, доктор Шеффилд. Я думал, вы просто почему-то не хотите, чтобы я разговаривал с экипажем.
Шеффилд попытался улыбнуться, что ему удалось. Подозрительность была профессиональным заболеванием мнемонистов. Они жили отдельно от остальных людей и многим отличались от них. Последствия этого были ясны.
Шеффилд весело ответил:
— Я думаю, когда ты прочитаешь про народные поверья, ты увидишь, что они могут быть совершенно нелогичными. От планеты, пользующейся дурной славой, ждут зла. Если случается что-нибудь хорошее, на это не обращают внимания, а обо всем плохом кричат на каждом перекрестке, да еще с преувеличениями. Молва растет, как снежный ком.
Шеффилд подошел к гидравлическому креслу. Скоро посадка. Он без всякой надобности потрогал широкие лямки и, стоя спиной к юноше, чтобы тому не было видно его лицо, произнес почти шепотом:
— Но, конечно, хуже всего то, что Малышка совсем не такая, как те планеты.
(«Полегче, полегче. Не нажимай. Это уже не первая попытка…»)
— Нет, ничуть, — отвечал Марк. — Те экспедиции, что погибли, были не такими. Вот это верно.
Шеффилд стоял, повернувшись к нему спиной, и ждал. Марк продолжал:
— Все семнадцать экспедиций, что погибли на планетах, которые сейчас заселены, были маленькими разведочными партиями. В шестнадцати случаях причиной гибели была какая-нибудь авария с кораблем, а в семнадцатом, на Малой Коме, — неожиданное нападение местной формы жизни — конечно, не разумной. Я помню все подробности…
Шеффилд невольно затаил дыхание. Марк и в самом деле мог рассказать все подробности. Все. Процитировать на память все сообщения каждой из экспедиций, слово в слово, было для него так же легко, как сказать «да» или «нет». И он это сделает, если ему вздумается. Мне монисты не обладают избирательностью. Это было одним из обстоятельств, которые делали невозможным их нормальное общение с нормальными людьми. По существу своему все мнемонисты — страшные зануды. Даже Шеффилд, привычный выслушивать все и не собиравшийся прерывать Марка, если тому захотелось поговорить, даже он вздохнул про себя.
— …Но это неважно, — продолжал Марк, и Шеффилд почувствовал огромное облегчение. — Они просто были совсем не такими, как экспедиция на Малышку. Это же была настоящая колония — 789 мужчин, 207 женщин и 15 детей моложе тринадцати лет. За первый же год к ним прибавилось еще 315 женщин, 9 мужчин и двое детей. Колония просуществовала почти два года, и причина ее гибели не установлена, если не считать того, что судя по их сообщениям, это могла быть какая-то болезнь. Вот в чем действительно есть различие. Но сама Малышка ничем не выделяется, — конечно, если не говорить о…
Марк умолк, как будто это было слишком несущественно и не заслуживало упоминания. Шеффилд чуть не закричал от нетерпения, но заставил себя спокойно произнести:
— А, об этом…
Марк сказал:
— Ну, это все знают. У Малышки два солнца, а у других — по одному.
Психолог чуть не заплакал от разочарования. Опять неудача!
Но что делать? В другой раз может повезти. С мнемонистом приходится быть терпеливым, иначе от него не будет никакого толку.
Он сел в гидравлическое кресло и поплотнее пристегнулся. Марк сделал то же (Шеффилд хотел бы ему помочь, но это было бы неразумно). Он взглянул на часы. Уже сейчас они, вероятно, спиралью идут на снижение.
Кроме разочарования, Шеффилд ощущал сильное беспокойство. Марк Аннунчио поступил неправильно, начав действовать согласно своему убеждению, будто капитан и все остальные его обманывают. Мне монисты нередко думали, что раз им известно огромное количество фактов, — значит, они знают все. Очевидно, это было их первейшее заблуждение. Поэтому они должны (так говорил Караганда!) сообщать свои сопоставления соответствующему начальству и никогда не должны действовать сами.
Но что означал этот проступок Марка? Он первым из мнемонистов покинул территорию Службы, первым расстался с себе подобными, первым оказался в одиночестве среди нонкомпосов. Как это на него подействует? Что он будет делать дальше? Не будет ли беды? И если будет, то как ее предотвратить?
На все эти вопросы доктор Освальд Мейер Шеффилд ответить не мог.
* * *
Тем, кто управлял кораблем, повезло. Им и, конечно, Саймону, который в качестве астрофизика и начальника экспедиции присоединился к ним по специальному разрешению капитана. Остальные члены экипажа были заняты на своих постах, а ученые на время спирального спуска к Малышке предпочли относительный комфорт своих гидравлических кресел.
Самым великолепным это зрелище было тогда, когда Малышка была еще довольно далеко, и всю ее можно было окинуть взглядом.
На севере и на юге треть планеты покрывали ледяные шапки, только начавшие свое тысячелетнее отступление. Посадочная спираль «Трижды Г» была проложена с севера на юг специально, чтобы можно было разглядеть полярные области, как настоял Саймон, хотя это была и не самая безопасная траектория. Поэтому под ними расстилалась то одна, то другая ледяная шапка. Обе они одинаково сияли в солнечных лучах: ось Малышка не имела наклона. И каждая шапка была разделена на секторы, как торт, разрезанный радужным ножом.
Одна треть была освещена обоими солнцами и сверкала ослепительно белым светом, который понемногу желтел к западу и зеленел к востоку. Восточнее белого сектора лежал следующий, вдвое уже его, освещенный только Лагранжем-I, и здесь снег горел сапфировыми отблесками, К западу еще полсектора, доступные только лучам Лагранжа-II, светились теплыми оранжево-красными тонами земного заката. Цвета полосами переходили друг в друга, отчего сходство с радугой еще усиливалось.
И, наконец, последняя треть казалась сравнительно темной, но можно было разглядеть, что и она делится на неравные части. Меньшая была в самом деле черной, а большая — слегка молочного цвета.
— Лунный свет? Ну, конечно, — пробормотал Саймон и поспешно огляделся, не слышал ли кто-нибудь. Он не любил, когда кто-то наблюдал за тем, как в его уме складываются заключения. Они должны были представать перед студентами и слушателями в готовом, законченном виде, без всяких следов рождения и развития.
Но вокруг сидели только космонавты, которые ничего не слышали. В своих полетах они всякого насмотрелись, но здесь и они отрывались от приборов лишь для того, чтобы пожирать глазами открывавшиеся перед ними чудесные картины.
Спираль спуска изогнулась, переменила свое направление на юго-западное, потом на западное, обещавшее меньше всего риска при посадке. В рубку проник глухой рев прорезаемой атмосферы — сначала резкий и высокий, но становившийся все более низким и гулким.
До сих пор в интересах научных наблюдений (и к немалому беспокойству капитана) спираль была крутой, скорость снижалась медленно, а облетам планеты не было конца. Но как только корабль вошел в воздушную оболочку Малышки, перегрузки резко возросли, а поверхность планеты как будто бросилась им навстречу.
Ледяные шапки исчезли из виду, сменившись равномерным чередованием суши и воды. Под ними все реже и реже проносился материк с гористыми окраинами и равниной посередине, как суповая миска с двумя ледяными ручками. Материк занимал половину планеты — остальное было покрыто водой.
Большая часть океана в этот момент приходилась на темный сектор, а остальное было залито красновато-оранжевым светом Лагранжа-II. В этом свете вода казалась тускло-пурпурной. Там и сям виднелись багровые точки, к северу и к югу их становилось больше. Айсберги!
Часть суши находилась в красновато-оранжевом полусекторе, другая часть была освещена ярким белым светом. Только восточное побережье казалось синевато-зеленым. Поразительное зрелище представлял восточный горный хребет. Его западные склоны были красными, восточные — зелеными.
Корабль быстро замедлял свое движение. Он в последний раз пролетел над океаном. Началась посадка.
* * *
Первые шаги экспедиции на новой планете были достаточно осторожными и медленными. Саймон долго разглядывал цветные фотографии Малышки, снятые из космоса с наибольшей возможной точностью. По требованию членов экспедиции снимки были розданы и им, и не один из них застонал про себя при мысли, что в порыве за комфортом лишил себя возможности видеть это великолепие в оригинале.
Борис Вернадский, что-то ворча, не отрывался от своего газового анализатора.
— По-моему, мы примерно на уровне моря, — сказал он. — Судя по величине g.
И он небрежно добавил, объясняя остальным:
— То есть гравитационной постоянной.
Большинство все равно ничего не поняло, но он продолжал:
— Атмосферное давление — около 800 миллиметров ртутного столба, значит, процентов на 5 выше, чем на Земле. И из них 240 миллиметров — кислород, а на Земле только 150. Неплохо.
Он как будто ожидал одобрительных откликов, но ученые предпочитали как можно меньше высказываться по доводу данных из чужой области. Вернадский продолжал:
— Конечно, азот. Скучно — природа повторяется, как трехлетний ребенок, который выучил только три урока. Теряешь всякий интерес, когда видишь, что планета, где есть вода, всегда имеет кислородно-азотную атмосферу. Тоска, да и только.
— Что еще в атмосфере? — раздраженно спросил Саймон. — До сих пор мы слышали только про кислород, азот и еще познакомились с собственными соображениями дядюшки Бориса.
Вернадский оперся на спинку кресла и довольно добродушно огрызнулся:
— А вы кто такой? Начальник, что ли?
Саймон, для которого руководство экспедицией сводилось к необходимости писать длинные отчеты для Бюро, покраснел и мрачно повторил:
— Что еще есть в атмосфере, доктор Вернадский?
Не глядя в свои записи, Вернадский ответил:
— От 0,01 до 1 процента водорода, гелия и двуокиси углерода — в порядке убывания. От 0,0001 до 0,001 процента метана, аргона и неона в порядке убывания. От 0,000001 до 0,00001 процента радона, криптона и ксенона в порядке убывания. Информация не очень обильная. Все, что я могу из этих цифр извлечь, — это то, что Малышка окажется богатой ураном, бедной калием, и не удивительно, что у нее такие симпатичные ледяные шапки.
Это было сказано явно в расчете на то, что кто-нибудь удивленно спросит, откуда он знает, и кто-то, конечно, спросил. Довольный Вернадский ласково улыбнулся и ответил:
— Радона в атмосфере в 10 — 100 раз больше, чем на Земле. Гелия тоже. Радон и гелий образуются при радиоактивном распаде урана и тория. Вывод: урановых и ториевых минералов в коре Малышки в 10 — 100 раз больше, чем в земной. С другой стороны, аргона более чем в 100 раз меньше, чем на Земле. Скорее всего, на Малышке вовсе не осталось первоначального аргона. На планетах такого типа аргон может образовываться только из калия-40 — одного из изотопов калия. Мало аргона — значит, мало калия. Проще пареной репы.
Один из ученых спросил:
— А насчет ледяных шапок?
Саймон, который знал ответ на этот вопрос, перебил Вернадского, собравшегося было ответить:
— Каково точное содержание двуокиси углерода?
— Ноль ноль шестнадцать миллиметра, — ответил Вернадский.
Саймон кивнул и от дальнейших разговоров воздержался.
— Ну и что? — нетерпеливо спросил тот, кто задал первый вопрос.
— Двуокиси углерода примерно вдвое меньше, чем на Земле, а она вызывает парниковый эффект. Она пропускает к поверхности коротковолновую часть солнечного излучения, но не выпускает наружу длинноволновое тепловое излучение планеты. Когда в результате вулканической деятельности содержание двуокиси углерода повышается, планета нагревается, и начинается каменноугольный период с высоким уровнем океанов и минимальной поверхностью суши. Когда растительность начинает поглощать бедную двуокись углерода и толстеть за ее счет, температура падает, образуются ледники, начинается порочный круг оледенения, и вот пожалуйста…
— Что-нибудь еще есть в атмосфере? — спросил Саймон.
— Водяные пары и пыль. И вдобавок, вероятно, в каждом кубическом сантиметре взвешено несколько миллионов возбудителей разных заразных болезней.
Он произнес это довольно весело, но по комнате прошло какое-то движение. У многих захватило дыхание. Вернадский пожал плечами и сказал:
— Пока погодите волноваться. Мой анализатор хорошо отмывает пыль и споры. И вообще это не мое дело. Предлагаю Родригесу сейчас же вырастить свои проклятые культуры под стеклом. Под хорошим толстым стеклом!
* * *
Марк Аннунчио бродил повсюду. Он слушал с сияющими глазами и лез везде, чтобы слышать лучше. Члены экспедиции терпели это, относясь к нему с разной степенью неприязни в зависимости от характера и темперамента. Никто с ним не заговаривал.
Шеффилд держался поблизости от Марка. Он тоже почти не разговаривал. Все его усилия были направлены на то, чтобы не попадаться Марку на глаза. Он не хотел, чтобы Марк чувствовал, будто он его преследует; он хотел, чтобы мальчик чувствовал себя свободным. Он старался, чтобы каждое его появление выглядело случайным.
Он чувствовал, что эти попытки тщетны, но что он мог поделать? Он должен следить, чтобы мальчик не впутался в беду.
* * *
Микробиолог Мигель Антонио Родригес-и-Лопес был смуглый человек небольшого роста с иссиня-черными длинными волосами и репутацией заправского сердцееда, как и подобало представителю латинской расы (избавиться от этой репутации он не стремился). Со своей обычной тщательностью и аккуратностью он вырастил культуры микроорганизмов из пыли, уловленной газовым анализатором Вернадского.
— Ничего, — сказал он в конце концов. — Те дурацкие культуры, которые растут, выглядят совершенно безвредными.
Ему возразили, что бактерии Малышки могут только казаться безобидными и что токсины и метаболические процессы нельзя изучать на глазок, даже вооружившись микроскопом.
Это вторжение в область его профессии возмутило его. Подняв бровь, он заявил:
— У меня на это чутье. Кто с мое поработает с микромиром, начинает чуять, есть опасность или нет.
Это было чистейшее хвастовство, но Родригес сумел подтвердить свои слова, тщательно перенеся пробы различных колоний микробов в буферные изотонические растворы и введя их концентрат хомякам, что не произвело на них никакого впечатления.
В большие контейнеры взяли пробы воздуха и впустили туда несколько мелких животных с Земли и других планет. На них это тоже не произвело впечатления.
* * *
Ботаником экспедиции был Невил Фоукс, державшийся весьма высокого мнения о своей красоте и подчеркивавший ее прической наподобие той, с которой древние скульпторы обычно изображали Александра Македонского; правда, наружность Фоукса сильно портил нос, куда более орлиный, чем у Александра. В течение двух суток (по счету Малышки) Фоукс совершал облет планеты на одной из атмосферных ракет «Трижды Г». Он был единственный человек на корабле, помимо экипажа, который умел управлять такой ракетой, так что задача, естественно, легла на его плечи. Казалось, Фоукс не слишком этому радовался.
Он вернулся в целости и сохранности, не пытаясь скрыть улыбку облегчения. Его облучили, чтобы стерилизовать поверхность эластичного скафандра, предназначенного для защиты от губительного действия внешней среды на планетах с нормальным давлением: в таких случаях прочный суставчатый космический скафандр был не нужен. Ракету еще сильнее облучили и укрыли пластиковым чехлом.
Фоукс с гордостью демонстрировал множество цветных снимков. Центральная равнина континента была невероятно плодородной. Реки были полноводны, горы круты и покрыты снегом, с обычными пиротехническими эффектами солнечного освещения. При свете одного Лагранжа-II растительность казалась мрачноватой, темной, как запекшаяся кровь. Но в лучах Лагранжа-I или обоих солнц сразу яркая пышная зелень и блеск многочисленных озер (особенно на севере и на юге, у кромки отступающих ледников) заставили многих с тоской вспомнить далекую родину.
— Посмотрите, — сказал Фоукс.
Он снизился, чтобы снять луг, поросший огромными цветами ярко-алого цвета. При высоком ультрафиолетовом излучении Лагранжа-I экспозиции были по необходимости очень короткими, и несмотря на скорость ракеты, каждый цветок выделялся ярким, резким пятном.
— Уверяю вас, — сказал Фоукс, — каждый из них не меньше двух метров в поперечнике.
Все не скрывали своего восхищения цветами. Потом Фоукс добавил:
— Конечно, никакой разумной жизни.
Шеффилд поднял взгляд от фотографий. В конце концов люди и разум были его специальностью.
— Откуда вы знаете?
— Посмотрите сами, — сказал ботаник. — Вот фотографии. Никаких городов, никаких дорог, никаких искусственных водоемов, никаких признаков искусственных сооружений.
— Это значит, что нет машинной цивилизации, — возразил Шеффилд, — только и всего.
— Даже обезьянолюди построили бы хижины и разводили бы огонь, — ответил обиженный Фоукс.
— Континент в десять раз больше Африки, а вы облетели его за два дня. Вы могли многое не заметить.
— Не так уж много, — горячо возразил Фоукс. — Я пролетел над всеми значительными реками от устья до истоков и осмотрел оба побережья. Если здесь есть поселения, то они должны быть именно там.
— Если считать семьдесят два часа на два побережья по восемь тысяч миль каждое в десяти тысячах миль друг от друга, да еще много тысяч миль рек, то это был довольно-таки беглый осмотр.
— К чему эти разговоры? — вмешался Саймон. — Во всей Галактике, на ста с лишним тысячах планет, единственная обнаруженная разумная жизнь — хомо сапиенс. Вероятность разумной жизни на Трое практически равна нулю.
— Да? — возразил Шеффилд. — Таким же способом можно доказать, что и на Земле нет разумной жизни.
— В докладе Макоямы не говорилось ни о какой разумной жизни, — ответил Саймон.
— А много ли у него было времени? Это то же самое, что потыкать пальцем в стог сена и сообщить, что иглы там нет.
— О, вечная Вселенная, — раздраженно сказал Родригес, — что за дурацкие споры? Будем считать гипотезу о наличии здесь разумной жизни неподтвержденной и оставим это. Надеюсь, мы еще не кончили исследования?
* * *
Копии этих первых снимков поверхности Малышки были помещены в картотеку, доступ к которой был открыт для всех. После второго облета Фоукс вернулся подавленным, и последовавшее совещание проходило в куда более мрачной атмосфере.
Новые снимки обошли всех, а потом Саймон запер их в сейф, который мог открыть только он сам или же мощный ядерный взрыв.
Фоукс рассказывал:
— Оба большие реки текут в меридиональном направлении вдоль восточных отрогов западной горной цепи. Та, что побольше, вытекает из северной полярной шапки, поменьше — из южной. Притоки текут к западу с восточного хребта, пересекая всю центральную равнину. Очевидно, она имеет уклон к западу. Вероятно, этого можно было ожидать: восточная горная цепь выше, мощнее и протяженнее западной. Я не смог ее измерить, но не удивлюсь, если она не уступит Гималаям. Она похожа на хребет Ву-Чао на Гесперусе. Чтобы перелететь ее, приходится забираться в стратосферу, а обрывы… Ух!
Он заставил себя вернуться к теме разговора.
— Так вот, обе главные реки сливаются в сотне миль южнее экватора и изливаются через разрыв в западном хребте. Оттуда до океана чуть меньше восьмидесяти миль. Их устье — идеальное место для столицы планеты. Здесь сходятся торговые пути со всего континента, так что это неизбежно должен быть центр торговли. Даже если говорить о торговле только в пределах планеты, товары с восточного берега все равно пришлось бы везти морем. Преодолевать восточный хребет невыгодно. Кроме того, есть еще острова, которые мы видели при посадке. Поэтому даже если бы мы не знали широты и долготы поселения, я искал бы его именно там. А эти поселенцы думали о будущем. Именно там они и устроились.
Нови тихо сказал:
— Во всяком случае, им казалось, что они думают о будущем. От них, наверное, немного осталось?
Фоукс попытался отнестись к этому философски.
— Прошло больше ста лет, чего же вы хотите? Но от них осталось куда больше, чем я ожидал. Дома были в основном сборными. Они обрушились, и местность заросла. Но то, что сохранилось, обязано этим ледниковому климату Малышки. Деревья — или что-то вроде деревьев — невелики и, очевидно, растут медленно. Но все равно расчищенное место заросло. С воздуха узнать его можно только потому, что молодая поросль имеет другую окраску и выглядит не так, как окружающие леса.
Он показал на одну из фотографий.
— Вот просто куча лома. Может быть, здесь когда-то стояли механизмы. А это, по-моему, кладбище.
— А останки? Кости? — спросил Нови. Фоукс покачал головой.
— Но не могли же последние, кто остался в живых, похоронить сами себя? сказал Нови.
— Вероятно, это сделали животные, — сказал Фоукс. Он встал и отвернулся от собеседников.
— Когда я пробирался там, шел дождь. Он падал на плоские листья над головой, а под ногами была мягкая, мокрая земля. Было темно и мрачно. Дул холодный ветер. На снимках это не чувствуется, но мне казалось, что вокруг тысяча призраков, которые чего-то ждут…
Его настроение передалось всем присутствующим.
— Прекратите! — в ярости сказал Саймон.
Острый носик Марка Аннунчио, стоявшего позади всех, прямо-таки дрожал от любопытства. Он повернулся к Шеффилду и прошептал:
— Призраки? Но не было ни одного достоверного случая…
Шеффилд дотронулся до тощего плеча Марка.
— Это только так говорится, Марк. Но не огорчайся, что он не имел это в виду буквально. Ты присутствуешь при рождении суеверия, а это тоже неплохо, верно?
* * *
Вечером в тот день, когда Фоукс вернулся из второго облета, угрюмый капитан Фолленби разыскал Саймона и, откашлявшись, сказал:
— Дело плохо, доктор Саймон. Люди беспокоятся. Очень беспокоятся.
Ставни иллюминаторов были открыты. Лагранж-I уже шесть часов как закатился, и кроваво-красный свет заходящего Лагранжа-II окрашивал в багровый цвет лицо капитана и его короткие седые волосы.
Саймон, у которого вся команда вообще и капитан в особенности вызывали сдержанное раздражение, спросил:
— В чем дело, капитан?
— Уже две недели здесь. По земному счету. До сих пор никто не выходит без скафандра. Каждый раз облучаются, когда приходят обратно. Что-нибудь неладное в воздухе?
— Насколько нам известно, нет.
— Тогда почему нельзя им дышать?
— Это решаю я, капитан.
Лицо капитана и в самом деле побагровело. Он сказал:
— В договоре сказано, что я не должен оставаться, если что-нибудь угрожает безопасности корабля. А перепуганный экипаж на грани бунта мне ни к чему.
— Разве вы не можете сами управиться со своими людьми?
— В разумных пределах.
— Но что их беспокоит? Это новая планета, и мы стараемся не рисковать. Неужели они этого не понимают?
— Две недели, и все еще не хотим рисковать. Они думают, мы что-то скрываем. И они правы. Вы это знаете. Кроме того, выход на поверхность всегда необходим. Он нужен команде. Даже на голый обломок в милю шириной. Нужно отвлечься от корабля. От обычных дел. Не могу им в этом отказывать.
— Дайте мне время до завтра, — недовольно ответил Саймон.
* * *
На следующий день ученые собрались в обсерватории. Саймон сказал:
— Вернадский говорит, что исследования воздуха дают отрицательные результаты. Родригес не обнаружил в нем никаких патогенных организмов.
Последние его слова вызвали всеобщее сомнение.
— Но поселок умер от болезни, даю голову на отсечение, — возразил Нови.
— Возможно, — ответил сразу Родригес, — но попробуйте объяснить, каким образом. Этого не может быть. Я могу это повторять сколько угодно. Судите сами. Почти на всех планетах типа Земли зарождается жизнь, и эта жизнь почти всегда имеет белковую природу и почти всегда — или клеточную, или вирусную организацию. И только. Этим сходство исчерпывается. Вы, неспециалисты, думаете, что все равно — Земля или другая планета. Что микробы — это микробы, а вирусы — это вирусы. А я говорю, что вы не понимаете, какие бесконечные возможности разнообразия заложены в молекуле белка. Даже на Земле у каждого вида — свои болезни. Некоторые могут распространяться на несколько видов, но на Земле нет на единой патогенной формы жизни, которая могла бы угрожать всем видам. Вы думаете, что для вируса или бактерии, развивавшихся на другой планете независимо в течение миллиарда лет, со своими аминокислотами, со своими ферментными системами, со своим обменом веществ, человек окажется питательным, как конфетка? Уверяю вас, это наивно.
Нови, глубоко уязвленный тем, что его, врача, отнесли к «вам, неспециалистам», не собирался так легко отступить.
— Но человек везде несет с собой своих микробов. Кто сказал, что вирус обычного насморка не может в условиях какой-нибудь планеты дать мутацию, которая неожиданно окажется смертоносной? Или грипп. Такое случалось даже на Земле. Помните, в 2755 году…
— Я прекрасно знаю про эпидемию парамори 2755 года, — перебил Родригес. И про эпидемию гриппа 1918 года, и про Черную Смерть. Но разве такое случалось за последнее время? Пусть это поселение было основано больше столетия назад но ведь все равно это была не доатомная эпоха. Там были врачи. У них были запасы антибиотиков. В конце концов, они умели вызывать защитные реакции организма. Это не так уж сложно. А кроме того, сюда была послана санитарная экспедиция.
Нови похлопал себя по круглому животу и упрямо сказал:
— Все симптомы указывали на заболевание дыхательной системы: одышка…
— Я все это знаю, но я говорю вам, что это не могло быть инфекционное заболевание. Это невозможно.
— Тогда что же это было?
— Это выходит за пределы моей компетенции. Я могу сказать, что это была не инфекция. Даже мутантная. Это математически невозможно.
Он сделал ударение на слове «математически».
Среди слушателей произошло какое-то движение. Вперед, к Родригесу, проталкивался Марк Аннунчио. Он заговорил — впервые на подобном совещании.
— Математически? — живо переспросил он.
Шеффилд, пустив в ход локти и с полдюжины раз извинившись, протолкался за ним. Родригес, охваченный крайним раздражением, выпятил нижнюю губу:
— А тебе чего от меня надо?
Марк весь съежился, но переспросил, хотя уже без прежней живости:
— Вы сказали, что это математически не может быть инфекция. Я не понял каким образом… математика…
Он умолк.
— Я высказал свое профессиональное мнение, — официальным, немного напыщенным тоном произнес Родригес и отвернулся. Ставить под вопрос профессиональное мнение было не принято: это могли позволить себе только коллеги по профессии. Во всех остальных случаях это означало подвергнуть сомнению опыт и знания специалиста. Марк знал все это, но он был сотрудником Мнемонической Службы. Все остальные в изумлении застыли, когда он дотронулся до плеча Родригеса и сказал:
— Я знаю, что это ваше профессиональное мнение, но я все-таки хотел бы, чтобы вы его объяснили.
Он не стремился быть навязчивым: он просто констатировал факт.
Родригес резко повернулся к нему.
— Ты хотел бы, чтобы я его объяснил? А кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?
Марка немного смутила горячность, с которой это было сказано, но тут рядом с ним оказался Шеффилд, и к нему снова вернулась смелость, а вместе с ней пришел и гнев. Он не обратил внимания на Шеффилда, который что-то быстро ему зашептал, и громко сказал:
— Я — Марк Аннунчио из Мнемонической Службы, и я задал вам вопрос. Я хочу, чтобы вы объяснили свои слова.
— А я их объяснять не желаю. Шеффилд, будьте добры, уберите отсюда этого молодого психа и уложите его спать. И пусть он потом держится от меня подальше. Сопливый осел!
Последние слова были сказаны как будто про себя, но вполне явственно.
Шеффилд взял Марка за руку, но тот вырвался и завопил:
— Вы — глупец! Нонкомпос! Вы… кретин! Двуногая забывальня! Дырявые мозги! Пустите меня, доктор Шеффилд! Вы ничего не знаете, ничего не помните из тех жалких крох, которые ухитрились выучить! Вы не знаете собственной специальности! Все вы…
— Ради бога, — крикнул Саймон, — Шеффилд, уведите отсюда вашего молодого идиота!
Побагровевший Шеффилд нагнулся к Марку, схватил его в охапку, поднял на воздух и вытащил из комнаты.
За дверью Марк, из глаз которого брызнули слезы, с трудом проговорил:
— Пустите меня. Я хочу слушать… Слушать, что они говорят.
— Тебе не надо туда возвращаться. Прошу тебя, Марк, — ответил Шеффилд.
— Я не буду. Не беспокойтесь. Но…
Он не закончил.
* * *
В это время в обсерватории измученный Саймон говорил:
— Ладно, Все в порядке. Давайте вернемся к делу. Ну, успокойтесь! Я согласен с точкой зрения Родригеса. Она меня вполне удовлетворяет, и я не думаю, что профессиональное мнение Родригеса кто-нибудь еще здесь будет оспаривать.
— Пусть только попробует! — проворчал Родригес. Его глаза горели сдержанной яростью.
Саймон продолжал:
— И так как инфекции бояться не приходится, я разрешаю капитану Фолленби выпустить экипаж из корабля без специальных мер предосторожности. Кажется, задержка отпуска плохо сказывается на настроении людей. Есть у кого-нибудь возражения?
Возражений не было.
— Кроме того, я не вижу причины, почему бы нам не перейти к следующему этапу исследований. Я предлагаю поставить лагерь на месте первого поселения. Я назначаю группу из пяти человек, которая переедет туда. Фоукс — он умеет водить ракету; Нови и Родригес — для обработки биологических данных; Вернадский и я, представители химии и физики. Все существенные данные по специальности остальных будут, конечно, им сообщаться, и мы будем ждать от них помощи в выборе направления работ и так далее. Со временем, возможно, там будут работать все, но пока — только эта маленькая группа. И до особого распоряжения связь между нами и основной группой на корабле будет поддерживаться только по радио. Если выяснится, что причина катастрофы, какова бы она ни была, локализована на месте поселения, вполне достаточно будет потерять пять человек.
— Но колония прежде, чем погибнуть, жила на Малышке несколько лет, возразил Нови. — Во всяком случае больше года. Может пройти много времени, пока мы убедимся, что опасности нет.
— Мы не колония, — ответил Саймон. — Мы — группа специалистов, которая ищет причину катастрофы. Если ее можно найти, мы ее найдем, а найдя, устраним. И никаких нескольких лет на это нам не потребуется.
* * *
Марк Аннунчио сидел на койке, охватив руками колено и опустив голову. Глаза его были сухими, но в голосе слышалась горькая обида.
— Они меня не берут, — сказал он. — Они не хотят, чтобы я ехал с ними.
Шеффилд в полной растерянности сидел в кресле напротив юноши.
— Может быть, они возьмут тебя потом.
— Нет, — горячо возразил Марк, — не возьмут. Они меня ненавидят. И потом я хочу ехать сейчас. Я еще никогда не был на другой планете. Тут столько можно увидеть и изучить! Они не имеют права не взять меня, если я хочу.
Шеффилд покачал головой. Мне монисты были твердо приучены к мысли, что их долг — собирать факты и что никто и ничто не может и не должно их остановить. Может быть, по возвращении на Землю стоит внести предложение — как-то ослаблять это убеждение внушением. В конце концов время от времени мнемонистам придется жить в реальном мире. Может быть, все больше и больше с каждым поколением, по мере того, как их роль в Галактике будет расти.
В виде опыта он попробовал предостеречь Марка:
— Знаешь, это может быть опасно.
— Неважно. Я должен знать. Я должен узнать все об этой планете. Доктор Шеффилд, пойдите к доктору Саймону и скажите ему, что я поеду.
— Ну, Марк!
—. Если вы не хотите, я сам пойду.
Он поднялся с постели, всерьез готовый отправиться немедленно.
— Посмотри, ты же очень возбужден.
Марк стиснул кулаки.
— Это несправедливо, доктор Шеффилд. Эту планету нашел я. Это моя планета!
Шеффилд почувствовал сильные угрызения совести. То, что сказал Марк, отчасти было правдой. Никто, кроме разве что Марка, не знал этого лучше, чем Шеффилд. И никто лучше, чем Шеффилд, опять-таки кроме Марка, не знал историю Малышки.
Только в последние двадцать лет, столкнувшись с проблемой растущего перенаселения старых планет, Конфедерация Планет приступила к систематическому исследованию Галактики. До этого человечество заселяло новые миры наугад. В поисках новых земель и лучших условий жизни мужчины и женщины отправлялись туда, где, по слухам, были пригодные для жизни планеты, или посылали туда разведочные группы добровольцев.
110 лет назад одна такая группа обнаружила Малышку. Они не сделали официального объявления об открытии, потому что не хотели, чтобы за ними последовали полчища земельных спекулянтов, предпринимателей, горнопромышленников и вообще всякого сброда. Спустя несколько месяцев некоторые холостые мужчины добились доставки туда женщин, и некоторое время колония процветала.
Только через год, когда часть людей уже умерла, а большинство остальных были больны или при смерти, они дали сигнал бедствия на ближайшую населенную планету Преторию. Преторианское правительство, которое переживало в этот момент очередной кризис, переслало весть о несчастье секторальному правительству на Альтмарк и сочло себя вправе забыть о нем.
С Альтмарка на Малышку был сразу же выслан санитарный корабль. Он сбросил на планету сыворотки и разные другие медикаменты. Садиться корабль не стал, потому что находившийся на борту врач на расстоянии поставил диагноз — «грипп» — и в своем докладе сильно преуменьшил опасность. По его словам, сброшенные медикаменты должны были прекрасно помочь справиться с болезнью. Вполне возможно, что сесть на планету не позволил экипаж корабля, опасавшийся заразы. Впрочем, об этом в официальном докладе ничего не говорилось.
Три месяца спустя с Малышки пришло последнее сообщение, гласившее, что в живых осталось только десять человек, и те уже умирают. Они умоляли о помощи. Это сообщение было переправлено на Землю вместе с докладом санитарной экспедиции. Но Центральное правительство представляло собой огромный лабиринт, в котором сообщения то и дело терялись, если не находилось какого-нибудь лично заинтересованного человека, достаточно влиятельного, чтобы довести дело до конца. А людей, заинтересованных в судьбе далекой неизвестной планеты, где умирали десять мужчин и женщин, не нашлось.
Сообщение было зарегистрировано и забыто. В течение столетия человеческая нога не ступала по поверхности Малышки.
Потом, когда началась новая шумиха вокруг галактических исследований, сотни кораблей начали там и сям бороздить огромные просторы Галактики. Сообщения об открытии новых планет сначала потекли тонкой струйкой, а потом хлынули потоком. Многие из них принадлежали Хидошеки Макояме, который дважды пролетел через звездное скопление Геркулеса. Во второй раз он и погиб, совершая вынужденную посадку. По субэфиру прилетел его напряженный, полный отчаяния голос, несший последнее сообщение: «Поверхность быстро приближается; корпус раскаляется докр…», и все оборвалось.
Год назад все накопившиеся сведения, обработка которых была уже никому не под силу, ввали в перегруженную вычислительную машину в Вашингтоне. Этому придавалось такое большое значение, что ждать очереди пришлось всего пять месяцев. Машине был задан вопрос о планетах, пригодных для жизни, и Малышка возглавила список.
Шеффилд помнил, какой восторг это вызвало. Звездная система Лагранжа была разрекламирована на всю Галактику, а один толковый молодой служащий Бюро по делам периферии, понимавший необходимость дружеской теплоты в отношении людей к планете, придумал название — «Малышка». Преимущества Малышки были стократно преувеличены. О ее плодородии, климате («вечная весна Новой Англии») и, прежде всего, о ее великом будущем шумели повсюду. «В течение миллиона лет, — кричала реклама, — Малышка будет становиться все богаче. В то время как все планеты стареют, Малышка будет молодеть по мере того, как будут отступать ледники, освобождая новые просторы суши. Всегда — новые земли; всегда — непочатые природные ресурсы!»
В течение миллиона лет!
Это был шедевр Бюро. Это должно было стать успешным началом правительственной программы колонизации. С этого, наконец-то, должно было начаться научное освоение Галактики на благо человечества.
И тут появился Марк Аннунчио. Он многое слышал обо всем этом и, как любой простой землянин, был потрясен открывающимися перспективами. Но однажды он припомнил кое-что такое, что он видел, лениво перелистывая архивные дела Бюро по делам периферии. Это был доклад санитарной экспедиции, посвященный одной планете в одной звездной системе, местонахождение и описание которой в точности совпадало с местонахождением и описанием группы Лагранжа.
Шеффилд прекрасно помнил тот день, когда Марк пришел к нему с этой новостью.
Он помнил и выражение лица государственного секретаря по делам периферии, когда эту новость сообщили ему. Он видел, как квадратная челюсть секретаря медленно отвисла, а его глаза наполнились бесконечным испугом.
Это касалось правительства! Оно собиралось отправить на Малышку миллионы людей. Оно обещало предоставлять земельные участки и ссуды на обзаведение посевным фондом, сельскохозяйственными машинами и промышленным оборудованием. Малышка должна была стать для многочисленных избирателей обетованной землей, а для остальных — воплощением мечты о новых обетованных землях.
Если по какой-нибудь причине Малышка окажется опасной для жизни, это будет означать политическое самоубийство для всех лиц в правительстве, так или иначе связанных с этим проектом. А это были немалые фигуры, помимо секретаря по делам периферии.
После нескольких дней колебаний секретарь сказал Шеффилду:
— Похоже, придется выяснить, что случилось, и как-нибудь использовать это в пропаганде. Как вы думаете, сможем мы это нейтрализовать?
— Если то, что случилось, не слишком ужасно.
— Но ведь этого не может быть? Что там могло случиться?
На лице секретаря было написано отчаяние.
Шеффилд пожал плечами.
Секретарь сказал:
— Послушайте, мы можем послать на эту планету корабль со специалистами. Конечно, добровольцев, и таких, на которых можно положиться. Мы задержим дела здесь и протянем до их возвращения. Как вы думаете, выйдет из этого что-нибудь?
Шеффилд не был в этом уверен, но ему внезапно представилось, как он летит в эту экспедицию и берет с собой Марка. Он мог бы изучить поведение мнемониста в необычной обстановке, а если благодаря Марку тайна будет раскрыта…
Что там скрывается какая-то тайна, предполагалось с самого начала. В конце концов от гриппа не умирают. А санитарный корабль не садился на планету и не мог сообщить, что там происходило на самом деле. Счастье корабельного врача, что он умер 37 лет назад, иначе теперь ему не миновать бы трибунала.
Так вот, если Марк поможет раскрыть тайну, это послужит небывалому укреплению Мнемонической Службы. Она заслужит благодарность правительства…
Но теперь…
Шеффилд подумал: а знает ли Саймон, как всплыло дело о первом поселении? В том, что этого не знает никто из экипажа, Шеффилд был уверен. Бюро не стало бы кричать об этом на каждом перекрестке.
Но воспользоваться этой историей, чтобы вырвать уступку у Саймона, было бы неразумно. Если всем станет известно, как Марк исправил ошибку Бюро («глупость», как это, несомненно, назовет оппозиция), Бюро попадет в неудобное положение. А оно может не только отблагодарить, но и отомстить. Не стоило рисковать навлечь на Мнемоническую Службу месть Бюро.
Впрочем…
Шеффилд принял решение и встал.
— Ладно, Марк. Я добьюсь, чтобы тебя взяли на место первого поселения. Я добьюсь, чтобы взяли нас обоих. А пока сиди тут и жди меня. Обещай, что ты ничего не будешь предпринимать сам.
— Ладно, — ответил Марк и снова уселся на койку.
* * *
— Ну, что у вас, доктор Шеффилд? — спросил Саймон. Астрофизик сидел за столом, на котором аккуратные стопки бумаг и микрофильмов окружали маленький интегратор Макфрида, и смотрел на вошедшего Шеффилда.
Шеффилд небрежно присел на тщательно застеленную койку Саймона. Он заметил недовольный взгляд астрофизика, но не смутился.
— Я не согласен с вашим выбором людей для работы на месте поселения. Получается, что вы отобрали двоих представителей точных наук и троих биологов, верно?
— Да.
— И вы думаете, что охватили все?
— О, господи! Вы хотите что-нибудь предложить?
— Я хотел бы отправиться сам.
— Зачем?
— У вас некому будет заниматься наукой о человеческой психике.
— О человеческой психике? Великий космос! Доктор Шеффилд, посылать туда даже пять человек — уже большой риск. В сущности, доктор, вы и ваш… хм… подопечный были включены в научный персонал экспедиции по распоряжению Бюро по делам периферии без всякого согласования со мной. Я буду говорить прямо; если бы спросили меня, я высказался бы против. Я не вижу, чем наука о человеческой психике может помочь в таком исследовании. Очень жаль, что Бюро пожелало провести в подобной обстановке эксперимент с мнемонистом. Мы не можем допустить таких сцен, как только что с Родригесом.
Шеффилду стало ясно: Саймон не знает о том, какое отношение имел Марк к самому решению послать эту экспедицию. Он сел прямо, уперся руками в колени, выставив локти в стороны, и напустил на себя ледяную официальность.
— Итак, вы, доктор Саймон, не видите, чем науке о человеческой психике может помочь в таком исследовании? А что если я скажу вам, что гибель первого поселения можно объяснить очень просто на основе психологии?
— Это меня не убедит. Психолог все, что угодно, может объяснить, но ничего не может доказать.
Саймон ухмыльнулся, довольный только что придуманным афоризмом. Шеффилд пропустил его мимо ушей и продолжал:
— Позвольте мне высказаться несколько подробнее. Чем Малышка отличается от всех 83 тысяч населенных планет?
— Мы еще не располагаем полной информацией. Я не могу этого сказать.
— Бросьте. Вся необходимая информация была у вас еще до того, как мы отправились сюда. У Малышки — два солнца.
— Ну, конечно.
На лице астрофизика отразилось какое-то едва заметное смущение.
— И цветных солнца, заметьте. Цветных. Знаете, что это значит? Это значит, что человек, например вы или я, стоя в свете обоих солнц, отбрасывает две тени — зелено-голубую и красно-оранжевую. Длина каждой, естественно, меняется в зависимости от времени суток. Вы изучили распределение цветов в этих тенях? Как это у вас называется — спектры отражения?
— Я думаю, — высокомерно произнес Саймон, — что они будут такими же, как спектры испускания солнц. Что вы хотите этим сказать?
— Надо было посмотреть. Может быть, некоторые длины волн поглощаются атмосферой? Или растительностью? А луна Малышки — Сестренка? Я следил за ней последние несколько ночей. Она тоже цветная, и цвета меняют свое расположение.
— Ну, конечно же, черт возьми. Она проходит два независимых цикла фаз — от каждого солнца.
— Вы и ее спектр отражения не исследовали, верно?
— Где-то он есть. Это не представляет интереса. А почему это интересует вас?
— Дорогой доктор Саймон, это давно установленный психологией факт сочетание красных и зеленых цветов оказывает вредное влияние на психическую устойчивость. Здесь перед нами случай, где неизбежна, как мы говорим, красно-зеленая хромопсихическая ситуация, да еще при таких обстоятельствах, которые представляются человеку в высшей степени противоестественными. Вполне возможно, что хромопсихоз может в этих условиях развиться в летальную стадию, когда он вызывает гипертрофию троицыных фолликул с последующей церебральной кататонией.
Саймон был совершенно сражен. Он пробормотал:
— Никогда ни о чем подобном не слыхал.
— Конечно, нет, — ответил Шеффилд (теперь настала его очередь быть высокомерным). — Вы не психолог. Не собираетесь же вы усомниться в моем профессиональном мнении?
— Разумеется, нет. Но из последних сообщений колонии ясно, что они умирали от чего-то вроде дыхательного расстройства.
— Верно, но Родригес это отрицает, а вы соглашаетесь с его профессиональным мнением.
— Я не говорил, что это дыхательное расстройство. Я сказал — что-то вроде. А при чем здесь ваш красно-зеленый хромо— как его бишь?
Шеффилд покачал головой.
— У вас, неспециалистов, всегда бывают неправильные представления. Если имеется какое-то физическое явление, это еще не значит, что оно не может иметь психологической причины. Самый убедительный довод в пользу моей теории — то, что хромопсихоз, как известно, проявляется сперва как психогенное дыхательное расстройство. Я полагаю, вы не знакомы с психогенными заболеваниями?
— Нет. Это за пределами моей компетенции.
— Да, пожалуй. Так вот, мои расчеты показывают, что при повышенном содержании кислорода на этой планете психогенное дыхательное расстройство не только неизбежно, но и должно проходить особенно остро. К примеру, вы наблюдали луну… то есть Сестренку в последние ночи?
— Да, я наблюдал Илион, — даже сейчас Саймон не забыл официального названия Сестренки.
— Вы подолгу, внимательно разглядывали ее? При большом увеличении?
— Да.
Саймону явно становилось не по себе.
— Ага, — ответил Шеффилд. — Так вот, цвета луны в последние несколько ночей были особенно опасны. Вы не могли не ощутить, что у вас слегка воспалена слизистая оболочка носа и слегка зудит в горле. Боли пока еще, вероятно, нет. Вы, наверное, кашляете, чихаете? Вам что-то чуть мешает глотать?
— Пожалуй, я…
Саймон проглотил слюну и сделал глубокий вдох. Потом он вскочил с искаженным лицом, стиснув кулаки:
— Клянусь великой Галактикой, Шеффилд, вы не имели права об этом молчать! Я все это чувствую. Что теперь делать, Шеффилд? Это ведь излечимо? Проклятье, Шеффилд, — он сорвался на крик, — почему вы не сказали этого раньше?!
— Потому что в том, что я сказал, — спокойно ответил Шеффилд, — нет ни слова правды. Ни единого слова. Цвет никому не приносит вреда. Сядьте, доктор Саймон. У вас довольно глупый вид.
— Вы сказали, — произнес ничего не понимающий Саймон, начиная задыхаться, — вы сказали, что это ваше профессиональное мнение…
— Мое профессиональное мнение! Господи, Саймон, почему профессиональное мнение производит такое магическое действие? Человек может солгать, или же просто чего-то не знать, даже в своей области. Специалист может ошибиться из-за незнания смежных дисциплин. Он может быть убежден в своей правоте и все-таки ошибаться. Взять хотя бы вас. Вы знаете, как устроена вся Вселенная, а я ничего не знаю, если не считать того, что звезды иногда мерцают, а световой год — это что-то очень длинное. И все равно вы благополучно проглотили такую чушь, которая уморила бы со смеху любого психолога-первокурсника. Не думаете ли вы, Саймон, что нам пора поменьше заботиться о профессиональных мнениях и побольше — о всеобщей координации действий?
Кровь медленно отпивала от лица Саймона, пока оно не стало белым, как воск. Дрожащими губами он прошептал:
— Под прикрытием профессионального мнения вы хотели меня одурачить!
— Примерно так, — ответил Шеффилд.
— Никогда еще, никогда я не… — Саймон осекся и продолжал: — Никогда не видел ничего столь гнусного и неэтичного.
— Я хотел доказать вам, что я прав.
— О, вы доказали. Вы все доказали, — Саймон понемногу приходил в себя, и его голос уже приближался к обычному. — Вы хотите, чтобы я взял с собой вашего мальчишку.
— Верно.
— Нет. Нет и еще раз нет. Такой ответ был бы до того, как вы вошли сюда, а теперь — тысячу раз нет.
— Но почему? Я хочу сказать — почему еще до того, как я сюда вошел?
— Он психически болен. Его нельзя держать вместе с нормальными людьми.
Шеффилд мрачно возразил:
— Я бы попросил вас не говорить о психических болезнях. Вы для этого недостаточно компетентны. Если уж вы так строго соблюдаете профессиональную этику, будьте добры не вторгаться в мою область в моем присутствии. Марк Аннунчио совершенно нормален.
— После этой сцены с Родригесом? Ого! Как бы не так!
— Марк имел право задать вопрос. Это его работа и его долг, Родригес не имел права хамить.
— С вашего разрешения, я должен считаться прежде всего с Родригесом.
— Почему? Марк Аннунчио знает больше Родригеса. Уж если на то пошло, он знает больше нас с вами. Что вам нужно — привезти на Землю толковый доклад или удовлетворить свое мелочное самолюбие?
— Вы говорите, что ваш мальчишка много знает. Это ничего не значит. Я согласен, что он — прекрасный попугай. Но он ничего не понимает. Мой долг обеспечить ему доступ ко всем данным, потому что меня обязало Бюро. Они меня не спросили, но хорошо, я согласен пойти навстречу. Он получит все данные здесь, на корабле.
— Это несправедливо, Саймон, — возразил Шеффилд. — Он должен выехать на место. Он может увидеть такое, чего не заметят ваши драгоценные специалисты.
Ледяным тоном Саймон ответил:
— Очень может быть. Тем не менее, Шеффилд, я отказываю. И нет таких доводов, которые могли бы меня переубедить.
Даже нос у астрофизика побелел от сдерживаемой ярости.
— Потому что я вас одурачил?
— Потому что вы нарушили самый святой долг специалиста. Ни один уважающий себя специалист не употребит во зло незнание другого специалиста в своей области.
— Значит, я вас одурачил.
Саймон отвернулся.
— Я прошу вас уйти. Впредь до конца экспедиции мы с вами будем общаться только по самым необходимым делам.
— Но если я уйду, — ответил Шеффилд, — об этом могут услышать остальные.
Саймон вздрогнул.
— Вы расскажете об этом?
На его губах мелькнула холодная, презрительная усмешка.
— Вы только покажете всем, какой вы негодяй.
— О, сомневаюсь, чтобы они приняли это всерьез. Все знают, что психологи непрочь пошутить. И потом, им будет не до того — так они будут смеяться над вами. Представляете — такой величественный доктор Саймон поверил, что у него болит горлышко, и взмолился о помощи, наслушавшись всякой таинственной чепухи!
— Кто вам поверит? — вскричал Саймон.
Шеффилд поднял правую руку. Между большим и указательным пальцами он держал маленький прямоугольный предмет, утыканный кнопками.
— Карманный магнитофон, — сказал он и тронул одну из кнопок. Голос Саймона произнес:
— Ну, что у вас, доктор Шеффилд?
Голос звучал напыщенно, властно и самодовольно.
— Дайте!
Саймон бросился на долговязого психолога. Шеффилд оттолкнул его.
— Не прибегайте к насилию, Саймон. Я не так уж давно занимался борьбой. Послушайте, я предлагаю вам сделку.
Саймон все еще рвался к нему, кипя яростью и забыв о собственном достоинстве. Шеффилд, медленно отступая, удерживал его на расстоянии вытянутой руки.
— Разрешите нам с Марком лететь, и никто никогда об этом не услышит.
Саймон понемногу приходил в себя.
— Тогда вы мне это отдадите? — задыхаясь, с трудом выговорил он.
— Обещаю, что отдам — и после того, как мы с Марком будем на месте поселения.
— Я должен поверить на слово вам? — Саймон постарался вложить в свои слова как можно больше презрения.
— А почему бы и нет? Во всякое случае можете поверить, что я наверняка расскажу обо всем, если вы не согласитесь. И первым это услышит Вернадский. Он будет в восторге. Вы знаете, какое у него чувство юмора.
— Можете лететь, — произнес Саймон чуть слышно. Потом он энергично добавил: — Но запомните, Шеффилд. Когда мы вернемся на Землю, вы будете отвечать перед Центральным комитетом ГАРН. Я вам это обещаю. Вас лишат всех званий…
— Я не боюсь Галактической Ассоциации Развития Науки, — раздельно произнес Шеффилд. — В конце концов в чем вы меня обвините? Не собираетесь же вы воспроизвести эту запись перед Центральным комитетом в качестве доказательства? Ну, ну, не сердитесь. Не хотите же вы, чтобы о вашей… хм… ошибке услышали самые надутые индюки на все 83 000 планет?
Он с ласковой улыбкой отступил за дверь.
Но закрыв дверь за собой, он перестал улыбаться. Жаль, что пришлось это сделать. Стоило ли дело того, чтобы нажить себе такого врага?
* * *
Недалеко от места первого поселения выросло семь палаток. Все они были видны с невысокого холма, на котором стоял Невил Фоукс. Люди жили здесь уже семь дней.
Фоукс взглянул на небо. Над головой нависли густые дождевые тучи. Очень хорошо. Когда эти тучи закрывают оба солнца, все предметы, освещенные рассеянным серовато-белым светом, выглядят почти нормально.
Дул свежий, влажный ветерок — совсем как в Вермонте в апреле. Фоукс был родом из Новой Англии, и это сходство было ему приятно. Через 4–5 часов Лагранж-I зайдет, и тучи побагровеют, а ландшафт станет тусклым и мрачным. Но Фоукс рассчитывал к этому времени вернуться в палатку.
Так близко к экватору и так прохладно! Ну, это через несколько тысяч лет изменится. По мере отступления ледников воздух будет согреваться, земля подсыхать. Появятся джунгли и пустыни. Уровень воды в океанах поползет вверх, поглощая бесчисленные острова. Долины двух больших рек превратятся во внутренние моря, и форма единственного материка Малышки изменится, в может быть, он разделится на несколько маленьких.
Интересно, будет ли затоплено место поселения, подумал он. Вероятно, будет. Может быть, тогда над ним уже не будет тяготеть проклятье.
Он понимал, почему Конфедерации так позарез понадобилось раскрыть тайну этого первого поселения. Даже если бы дело было просто в заболевании, это нужно было доказать. Иначе кто осмелится поселиться на этой планете? «Ловушки для простаков» вызывали суеверный страх не только у космонавтов.
Да и сам он… Впрочем, его первое посещение этого места прошло благополучно, хоть он и рад был оставить позади этот дождь и мрак. Возвращаться сюда во второй раз было куда хуже. Ему не давала спать мысль о том, что его окружает тысяча загадочных смертей, от которых его отделяло только неощутимое время.
Нови с профессиональным хладнокровием врача раскопал истлевшие останки десятка первых поселенцев. Фоукс отказался взглянуть на них. Он сказал, что по этим истлевшим костям ничего нельзя определить.
— Кажется, есть какие-то ненормальности в отложении костной ткани, сказал он, но после допроса с пристрастием признал, что замеченные им признаки могли быть вызваны и столетним пребыванием костей в сырой почве.
Перед глазами Фоукса снова встала картина, преследовавшая его даже наяву. Ему виделась неуловимая раса разумных подземных жителей, которые сто лет назад, никем не замеченные, посетили это первое поселение. Он представил себе, как они готовили бактериологическую войну, как они в своих лабораториях под корнями деревьев выращивали грибки и споры в поисках разновидности, которая жила бы в человеческом организме. Может быть, для своих экспериментов они похищали детей. А когда они нашли то, что искали, споры ядовитыми тучами бесшумно поплыли над поселением…
Фоукс знал, что все это — плод его фантазии. Он придумал все это в часы бессонницы, охваченный непонятной тревогой. Но когда он оставался один в лесу, он не раз резко оборачивался в ужасе, чувствуя на себе пристальный взгляд чьих-то глаз, скрывавшихся в сумрачной тени деревьев.
Поглощенный этими мыслями, Фоукс по привычке ботаника оглядывал окружавшую его растительность. Он нарочно пошел новой дорогой, но и здесь увидел все то же самое. Леса на Малышке были редкими и лишенными подлеска. Никакого препятствия для передвижения они не представляли. Деревья были невысоки, редко выше трех метров, хотя по толщине ствола почти не уступали земным.
Фоукс составил приблизительную схему классификации растительного мира Малышки. При этом ему не раз приходило в голову, что он, возможно, закладывает этой работой фундамент собственного бессмертия.
Например, там росло «штыковое дерево». Его громадные белые цветы привлекали каких-то насекомоподобных существ, которые строили в них свои крохотные гнезда. Потом, по какому-то совершенно непонятному Фоуксу сигналу или импульсу, все цветы того или иного дерева за ночь выбрасывали по сверкающему белому пестику в два фута длиной. Казалось, дерево внезапно ощетинивалось штыками. На следующий день цветок опылялся, и его лепестки смыкались, закрывая собой и пестик, и насекомых. Первый исследователь Макояма назвал это дерево «штыковым», но Фоукс взял на себя смелость переименовать его в «Мигранию фоуксии».
У всех деревьев была одна общая черта. Их древесина была невероятно крепкой. Биохимикам еще предстояло определить физическое состояние содержащихся в ней молекул клетчатки, а биофизикам — выяснить, как сквозь эту непроницаемую ткань может транспортироваться вода. Фоукс же по своему опыту знал, что сорванные цветы ломаются, как стекло, а ветки с трудом удается согнуть и совершенно невозможно сломать. Его перочинный нож затупился, не оставив на дереве даже царапины. Чтобы расчистить поля, первым поселенцам, очевидно, приходилось выкапывать деревья вместе с корнями.
Животных в здешних лесах по сравнению с Землей почти не было. Возможно, они погибли во время ледникового периода.
У всех насекомоподобных существ было по два крыла — маленьких пушистых перепонки. Летали они бесшумно. Кровососущих насекомых здесь, очевидно, не было.
Единственным представителем животного мира, который попался на глаза экспедиции, было внезапно появившееся однажды над лагерем крупное крылатое создание. Чтобы разглядеть его форму, пришлось прибегнуть к моментальной фотографии: зверь, очевидно, охваченный любопытством, с огромной скоростью снова и снова проносился над самыми палатками. Это было четырехкрылое существо. Передние крылья, заканчивавшиеся мощными когтями, представляли собой почти голые перепонки и, очевидно, служили для планирующего полета. Задняя пара крыльев, покрытых пухом, похожим на шерсть, совершала быстрые взмахи. Родригес предложил назвать это существо «тетраптерусом».
Фоукс отвлекся от своих воспоминаний, чтобы разглядеть траву новой разновидности, которая ему еще не попадалась. Трава росла тесными кустиками; каждый стебель вверху разветвлялся на три отростка. Фоукс вынул лупу и осторожно потрогал пальцем один из стеблей. Как и остальная трава на Малышке, она была…
И тут он услышал позади себя шорох. Ошибки быть не могло. Какое-то мгновение он внимательно вслушивался, но биение собственного сердца заглушало все остальные звуки. Тогда он резко обернулся. Тень, похожая на человеческую, метнулась за дерево.
У Фоукса захватило дыхание. Он потянулся к кобуре, но его рука двигалась как будто сквозь густую патоку.
Значит, его фантазии вовсе не были фантазиями? Значит, Малышка все-таки обитаема?
Преодолев оцепенение, Фоукс укрылся за другим деревом. Отступить он не мог. Он знал, что будет не в силах сказать остальным: «Я видел что-то живое. Возможно, это и была разгадка. Но я испугался и позволил ей скрыться».
Придется попытаться что-нибудь предпринять.
Позади того дерева, где пряталось неизвестное существо, стояло «кубковое дерево». Оно цвело — бело-кремовые цветы были обращены вверх в ожидании надвигавшегося дождя. Вдруг раздался слабый звон сломанного цветка, и кремовые лепестки, вздрогнув, повернулись вниз.
Значит, ему не показалось. За деревом кто-то был. Фоукс перевел дух и выскочил из-за своего укрытия, держа перед собой лучевой пистолет, готовый стрелять при первом же намеке на опасность.
Но его окликнул голос:
— Не стреляйте. Это я.
Из-за дерева выглянула перепуганная, но несомненно человеческая физиономия. Это был Марк Аннунчио.
Фоукс застыл на месте и уставился на него. Наконец, он смог хрипло проговорить:
— Что ты тут делаешь?
— Я шел за вами, — ответил Марк, не отрывая взгляда от пистолета.
— Зачем?
— Посмотреть, что вы делаете. Мне было интересно, что вы найдете. Я думал, если вы меня увидите, то прогоните назад.
Фоукс вспомнил, что все еще держит пистолет, и спрятал его в кобуру. Это удалось ему только с третьей попытки.
Упали первые крупные капли дождя. Фоукс грубо сказал:
— Чтобы никто об этом не узнал!
Он бросил враждебный взгляд на юношу, и они молча, держась поодаль друг от друга, направились к лагерю.
* * *
Некоторое время спустя к семи палаткам прибавился сборный домик, поставленный в центре лагеря. Как-то вся группа собралась в нем вокруг длинного стола.
Приближался торжественный момент, хотя все почему-то притихли. Командовал парадом Вернадский, который в студенческие годы научился сам себе готовить еду. Сняв с высокочастотного подогревателя какое-то дымящееся варево, он объявил:
— Кому калорий?
Еда была щедро разложена по тарелкам.
— Пахнет очень хорошо, — неуверенно заметил Нови. Он поднял на вилка кусок мяса. Оно было лиловатого цвета и, несмотря на то, что долго варилось, оставалось жестким. Окружающая его мелко нарезанная зелень выглядела помягче, но казалась еще менее съедобной.
— Ну, — сказал Вернадский, — ешьте! Уплетайте за обе щеки! Я пробовал вкусно.
Он набил рот мясом и долго жевал.
— Жестковато, но вкусно.
— Не исключено, что мы от этого умрем, — мрачно сказал Фоукс.
— Ерунда, — ответил Вернадский. — Крысы питались им две недели.
— Две недели — не так уж много, — возразил Нови.
— Ну ладно, была не была, — решился Родригес. — Послушайте, и в самом деле вкусно!
Немного погодя с ним согласились все. До сих пор все живые организмы Малышки, которые можно было есть, оказывались вкусными. Зерно было почти невозможно измолоть в муку, но когда это удавалось, можно было испечь богатый белком хлеб. Несколько таких хлебов и сейчас стояло на столе. Они были темного цвета и тяжеловаты, но вовсе не плохи.
Фоукс, изучив растительность Малышки, пришел к выводу, что при должном орошении и правильном посеве один акр поверхности планеты сможет прокормить в десять раз больше скота, чем акр земной альфальфы. Это произвело большое впечатление на Шеффилда, который тут же назвал Малышку житницей сотни планет. Однако Фоукс только пожал плечами.
— Ловушка для простаков, — сказал он.
Неделей раньше вся группа была сильно встревожена: хомяки и белые мыши неожиданно отказались есть некоторые новые виды травы, только что принесенные Фоуксом. Когда небольшие количества этих трав начали подмешивать в их обычный рацион, животные стали погибать.
Разгадка тайны? Не совсем. Через несколько часов вошел Вернадский и заявил:
— Медь, свинец, ртуть.
— Что? — переспросил Саймон.
— В этих растениях. Они содержат много тяжелых металлов. Возможно, это эволюционное защитное приспособление, чтобы их не ели.
— Значит, первые поселенцы… — начал Саймон.
— Нет, этого не может быть. Большинство растений совершенно безвредно. Только эти, а их никто есть не станет.
— Откуда вы знаете?
— Не стали же их есть крысы.
— То крысы…
Только этого Вернадский и ждал. Он торжественно произнес:
— Вы видите перед собой скромного мученика науки. Я их попробовал.
— Что? — вскричал Нови.
— Только лизнул, не беспокойтесь. Нови. Я — из осторожных мучеников. В общем, они горькие, как стрихнин. Да и как же иначе? Если растение набирается свинца только для того, чтобы его не съело животное, и если животное узнает об этом только когда умрет, то какой растению от этого толк? Горечь дает сигнал опасности. А тех, кто им пренебрегает, ждет наказание.
— А кроме того, — добавил Нови, — первые поселенцы погибли не от отравления тяжелыми металлами. Симптомы были совсем другие.
Эти симптомы прекрасно знали все. Кое-кто — в популярном изложении, остальные — более подробно. Затрудненное, болезненное дыхание, и чем дальше тем хуже. К этому сводилось все.
Фоукс отложил вилку.
— Постойте, а что если в этой еде есть какой-нибудь алкалоид, который парализует дыхательные мышцы?
— У крыс тоже есть дыхательные мышцы, — ответил Вернадский. — Их она не убила.
— А может быть, он накапливается?
— Ладно, ладно. Если почувствуете, что вам больно дышать, перейдите на обычный корабельный рацион — возможно, он вам поможет. Только берегитесь самовнушения.
— Это по моей части, — проворчал Шеффилд. — Насчет этого не беспокойтесь.
Фоукс тяжело вздохнул и мрачно положил в рот кусок мяса. Марк Аннунчио сидел на дальнем конце стола. Он ел медленнее, чем другие, и все вспоминал монографию Норриса Вайнограда «Вкус и обоняние». Вайноград разработал классификацию вкусов и запахов на основе механизма ингибирования ферментативных реакций во вкусовых сосочках. Аннунчио толком не знал, что это значит, но помнил все обозначения, характеристики и определения. К тому времени, когда он доел свою порцию, он определил вкус мяса, отнеся его одновременно к трем подклассам. Его челюсти слегка ныли от напряженного жевания.
* * *
Приближался вечер. Лагранж-I стоял уже низко над горизонтом. День выдался ясный, теплый, и Борис Вернадский был им доволен. Он сделал кое-какие интересные измерения, в его яркий свитер причудливо менял свои цвета от часа к часу по мере того, как солнца передвигались по небосводу.
Сейчас Вернадский отбрасывал длинную красную тень, и только нижняя ее треть, совпадавшая с тенью от Лагранжа-II, была серой. Он протянул руку, и от нее упали две тени — нечеткая оранжевая футах в 15 от него и более густая голубая в той же стороне, но футах в пяти.
Все это так ему нравилось, что у него не вызвало никакого неприятного чувства даже появление поодаль Марка Аннунчио. Вернадский отставил в сторону свой нуклеометр и помахал рукой:
— Иди сюда!
Юноша робко приблизился.
— Здравствуйте.
— Тебе чего-нибудь надо?
— Я… я просто смотрел.
— А! Ну, смотри. Знаешь, что я делаю?
Марк замотал головой.
— Это нуклеометр, — сказал Вернадский. — Его втыкают в землю, вот так. У него наверху — генератор силового поля, так что его можно воткнуть в любой камень.
Продолжая говорить, он нажал на нуклеометр, и тот на два фута погрузился в выход каменной породы.
— Видишь?
У Марка заблестели глаза, и это доставило Вернадскому удовольствие. Он продолжал:
— По бокам его стержня есть микроскопические атомные устройства, каждое из которых испаряет около миллиона молекул окружающей породы и разлагает их на атомы. Потом атомы разделяются по массе и заряду ядер, и результаты можно прямо считывать вот с этих шкал наверху. Понимаешь?
— Не очень. Но это полезно знать.
Вернадский улыбнулся и сказал:
— Мы получаем содержание различных элементов в коре. На всех водно-кислородных планетах эти цифры примерно одинаковы.
Марк серьезно сказал:
— Из тех планет, которые я знаю, больше всего кремния содержит Лепта 32,765 %. В составе Земли его только 24,862 %. По весу.
Улыбка застыла на лице Вернадского. Он сухо спросил:
— Слушай, парень, ты знаешь такие цифры для всех планет?
— Нет, это невозможно. По-моему, они еще не все исследованы. В «Справочнике по коре планет» Бишуна и Спенглоу есть данные только для 21 854 планет. Их я, конечно, знаю все.
Обескураженный Вернадский продолжал:
— А на Малышке элементы распределены еще более равномерно, чем обычно. Кислорода мало — по моим данным, в среднем каких-нибудь 42,113 %. Кремния тоже мало — 22,722 %. Тяжелых металлов в 10 — 100 раз больше, чем на Земле. И это не местное явление: общая плотность Малышки на 5 % выше земной.
Вернадский и сам не знал, зачем он все это говорит мальчишке.
Отчасти потому, что всегда приятно иметь внимательного слушателя. Когда не с кем поговорить о своей профессии, иногда становится одиноко и грустно. Он продолжал, начиная получать удовольствие от своей лекции:
— С другой стороны, легкие элементы распределены тоже более равномерно. В составе океанов здесь не преобладает хлористый натрий, как на Земле, а довольно много магниевых солей. А литий, бериллий и бор? Они легче углерода, но на Земле и на всех других планетах встречаются очень редко. А на Малышке их много. Все три этих элемента составляют около 0,4 % коры, а на Земле — только 0,004 %.
Марк дотронулся до его рукава.
— А есть у вас список всех элементов с их содержанием в коре? Можно его посмотреть?
— Пожалуйста.
Вернадский вынул из заднего кармана брюк сложенную бумажку, протянул ее Марку и сказал, усмехнувшись:
— Только не публикуй эти цифры раньше меня.
Марк бросил взгляд на листок и протянул его Вернадскому.
— Ты уже? — удивленно спросил тот.
— Да, — задумчиво ответил Марк. — Теперь я помню их все.
Он повернулся и пошел прочь, не попрощавшись. Вернадский поглядел ему вслед, пожал плечами, вытащил из земли свой нуклеометр и зашагал в сторону лагеря.
* * *
Шеффилд был более или менее доволен. Марк вел себя даже лучше, чем он ожидал. Правда, он почти не разговаривал, но это было не так важно. Во всяком случае, он проявлял интерес к окружающему и не тосковал. И не устраивал никаких сцен.
Шеффилд узнал от Вернадского, что накануне вечером Марк вполне нормально, без всякого крика побеседовал с ним о составе планетной коры. Вернадский со смехом сообщил, что Марк знает состав коры двадцати тысяч планет и что когда-нибудь он заставит парня сказать наизусть все цифры, просто чтобы посмотреть, сколько времени это займет.
Сам Марк об этом ничего Шеффилду не говорил. Все утро он просидел в палатке. Шеффилд заглянул к нему, увидел, что он сидит на койке, уставившись на свои ноги, и оставил его в покое.
Шеффилд чувствовал, что он сам нуждается в какой-нибудь оригинальной идее. На самом деле оригинальной.
До сих пор они ничего не добились. Ничего — за целый месяц. Родригес и слышать не хотел ни о какой инфекции. Вернадский совершенно не допускал мысли о пищевом отравлении. Нови яростно тряс головой при всяком упоминании о нарушениях обмена веществ. «Где доказательства?» — говорил он.
Все сводилось к тому, что любая физическая причина смерти исключалась на основании мнения специалиста. Но мужчины, женщины и дети умерли. Какая-то причина должна была существовать. Может быть, психологическая?
Еще на корабле Шеффилд воспользовался этим, чтобы разыграть Саймона. Но теперь ему было не до шуток. Может быть, что-то заставило поселенцев совершить самоубийство? Но что? Человечество колонизировало десятки тысяч планет, и это никак не сказалось на его психической устойчивости. Самоубийства и психозы были больше распространены на самой Земле, чем в любом другом месте Галактики.
Кроме того, колония отчаянно взывала о медицинской помощи. Люди не хотели умирать.
Умственное расстройство? Что-нибудь такое, что было свойственно только этой группе людей? Достаточно сильное, чтобы вызвать смерть тысячи человек? Мало вероятно. И потом как об этом узнать? Место поселения было тщательно обыскано, но ни пленок, ни записей, даже самых отрывочных, найти не удалось.
За столетие влага сделала свое дело.
Шеффилд чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Он был беспомощен. У других, по крайней мере, были данные, с которыми можно было работать. У него не было ничего.
Он снова оказался у палатки Марка и машинально заглянул внутрь. Палатка была пуста. Он огляделся и заметил Марка, направлявшегося в лес. Шеффилд закричал ему вслед:
— Марк! Подожди меня!
Марк остановился, потом как будто хотел двинуться дальше, передумал и дал Шеффилду себя догнать.
— Куда ты собрался? — спросил Шеффилд. Даже пробежавшись, он не запыхался, — так богата кислородом была атмосфера Малышки.
— К ракете, — нехотя ответил Марк.
— Да?
— Мне до сих пор не довелось ее как следует разглядеть.
— Но ты же имел такую возможность, — заметил Шеффилд. — Когда мы летели сюда, ты не отходил от Фоукса.
— Это совсем не то, — возразил Марк. Там было много народа. Я хочу посмотреть ее один.
Шеффилд забеспокоился. Парень на что-то сердится. Лучше пойти с ним и выяснить, в чем дело. Он сказал:
— Пожалуй, и я бы непрочь поглядеть ракету. Не возражаешь, если я пойду с тобой?
Марк заколебался, потом сказал:
— Ну… Ладно. Если вам так хочется.
Приглашение прозвучало не совсем вежливо. Шеффилд спросил:
— Что это ты несешь, Марк?
— Палку. Я срезал ее на случай, если кто-нибудь вздумает меня остановить.
Он взмахнул палкой так, что она со свистом прорезала плотный воздух.
— Зачем кому-то тебя останавливать, Марк? Я бы ее выбросил. Она тяжелая и твердая. Ты можешь кого-нибудь поранить.
Но Марк шагал вперед.
— Не выброшу.
Шеффилд подумал и решил пока воздержаться от ссоры. Сначала лучше выяснить причину этой враждебности.
— Ну, как хочешь, — сказал он.
Ракета лежала на поляне. Ее светлая металлическая поверхность сверкала зелеными отблесками: Лагранж-II еще не показался над горизонтом.
Марк внимательно огляделся вокруг.
— Никого не видно, Марк, — сказал Шеффилд.
Они вошли внутрь. Это была большая ракета. Семь человек и все необходимое снаряжение она перевезла на место всего в три приема.
Шеффилд не без робости поглядел на утыканный кнопками пульт управления.
— И как это ботаник вроде Фоукса ухитрился научиться управлять этой штукой? Это так далеко от его специальности.
— Я тоже умею ею управлять, — внезапно сказал Марк.
— Ты? — Шеффилд удивленно уставился на него.
— Я смотрел, что делал доктор Фоукс, когда мы летели сюда. Я знаю все, что он делал. И потом у него есть руководство по ремонту ракеты. Я как-то стащил его и прочел.
— Очень хорошо, — весело сказал Шеффилд. — Значит, у нас есть на всякий случай еще один пилот.
Он стоял к Марку спиной и не видел, как тот замахнулся. Палка обрушилась ему на голову. Он не слышал, как Марк озабоченно произнес: «Простите, доктор Шеффилд». Собственно говоря, он даже не почувствовал удара, от которого потерял сознание.
* * *
Потом Шеффилд понял, что сознание вернулось к нему от сотрясения при посадке ракеты. Пока еще ничего не соображая, он смутно почувствовал сильную боль.
Откуда-то донесся голос Марка. Это было первое, что Шеффилд осознал. Он попытался перевернуться и встать на колени. В голове у него шумело.
Сначала голос Марка был для него просто набором бессмысленных звуков. Потом они начали складываться в слова. Наконец, когда он с трудом поднял веки и тут же был вынужден закрыть их снова, потому что ему стало больно от яркого света, он уже понимал целые фразы. Он стоял на одном колене, не в силах приподнять голову, и слушал, как Марк, задыхаясь, выкрикивает:
— …Тысяча людей, и все погибли. Остались только могилы. И никто не знает, почему.
Послышался гомон, в котором Шеффилд ничего не мог разобрать. Потом прозвучал чей-то хриплый бас. Потом снова заговорил Марк:
— А как по-вашему, для чего на борту все эти ученые?
Шеффилд, превозмогая боль, поднялся на ноги и прислонился к стене. Он дотронулся до головы и увидел на руке кровь. Она запеклась в слипшихся волосах. Застонав, он качнулся вперед, нащупал засов и распахнул люк.
Трап был опущен. Шеффилд постоял у люка, пошатываясь, боясь сделать шаг.
Он понемногу начинал воспринимать окружающее. Высоко в небе стояли оба солнца, а в тысяче футов от него над низкорослыми деревьями возвышался гигантский стальной цилиндр «Трижды Г». Марк стоял у подножья трапа, окруженный членами экипажа, обнаженными по пояс и дочерна загоревшими под ультрафиолетом Лагранжа-I. (Спасибо плотной атмосфере и мощному слою озона в ее верхней части, которые задерживали ультрафиолетовое излучение, доводя его до безопасного предела!).
Космонавт, стоявший прямо перед Марком, опирался на бейсбольную биту. Другой подбрасывал и ловил мяч. Многие были в бейсбольных перчатках.
«Чудно, — пронеслась в голове Шеффилда шальная мысль, — Марк приземлился прямо на стадионе».
Марк посмотрел вверх, увидел его и возбужденно закричал:
— Ну, спросите его! Спросите! Доктор Шеффилд, правда, на этой планете уже побывала экспедиция, которая погибла неизвестно от чего?
Шеффилд попытался произнести «Марк, что ты делаешь?», но не смог. С его губ сорвался только стон. Космонавт с битой спросил:
— Мистер, правду говорит этот пузырь?
Шеффилд вцепился обеими руками в поручень трапа. Лицо космонавта поплыло у него перед глазами. Толстые губы и маленькие глазки, смотревшие из-под густых бровей, покачнулись и заплясали перед ним. Потом трап взмыл в воздух и бешено завертелся у него над головой. Он схватился за подвернувшуюся откуда-то землю и почувствовал холодную боль в скуле. Тут он перестал сопротивляться и снова потерял сознание.
* * *
Во второй раз он очнулся не так болезненно. Он лежал в кровати, над ним склонились два расплывшихся лица. Перед глазами у него проплыло что-то длинное и тонкое, и сквозь шум в голове он услышал:
— Теперь он придет в себя, Саймон.
Шеффилд закрыл глаза. Каким-то образом он знал, что его голова обмотана бинтами.
С минуту он полежал спокойно, глубоко дыша. Снова открыв глаза, он яснее увидел лица. Одно из них принадлежало Нови — его серьезно нахмуренный лоб разгладился, когда Шеффилд сказал:
— Привет, Нови.
Второе лицо — злое, со сжатыми губами, но с едва заметным довольным выражением глаз, — было Саймона.
— Где мы? — спросил Шеффилд.
— В космосе, доктор Шеффилд, — ледяным тоном ответил Саймон. — Вот уже два дня.
— Два дня? — Шеффилд широко открыл глаза.
— У вас было серьезное сотрясение мозга, Шеффилд, — вмешался Нови, — чуть не треснул череп. Спокойнее.
— Что случи… Где Марк? Где Марк?!
— Спокойнее. Спокойнее.
Нови положил руки на плечи Шеффилда и заставил его снова лечь.
— Ваш мальчишка в карцере, — сказал Саймон. — Если вы хотите знать, почему, то он намеренно подстрекал к бунту на корабле, из-за чего жизнь пяти человек была подвергнута опасности. Мы чуть не остались во временном лагере, потому что команда хотела лететь немедленно. Капитан еле уговорил их захватить нас.
Теперь Шеффилд начал смутно припоминать. Перед ним, как в тумане, возникли фигуры Марка и человека с битой. Марк говорил:
«…тысяча людей, и все погибли…»
Сделав огромное усилие, психолог приподнялся на локте.
— Послушайте, Саймон, я не знаю, почему Марк это сделал, но дайте мне с ним поговорить. Я все узнаю.
— В этом нет необходимости, — ответил Саймон. — Все выяснится на суде.
Шеффилд попытался оттолкнуть руку Нови, удерживавшую его в постели.
— Но зачем такая официальность? Зачем впутывать Бюро? Мы можем и сами разобраться.
— Именно это мы и собираемся сделать. По космическому законодательству, капитан уполномочен лично разбирать дела о преступлениях, совершенных в космосе.
— Капитан? Устроить суд здесь? На корабле? Саймон, вы не должны этого допустить. Это будет убийство.
— Ничуть. Это будет справедливое и уместное судебное разбирательство. Я совершенно согласен с капитаном. В интересах дисциплины суд необходим.
— Послушайте, Саймон, не надо, — вмешался обеспокоенный Нови. — Он не в таком состоянии, чтобы все это переживать.
— Очень жаль, — сказал Саймон.
— Но вы не понимаете, — настаивал Шеффилд, — за мальчика отвечаю я.
— Наоборот, я это понимаю, — ответил Саймон. — Вот почему мы ждали, пока вы придете в себя. Вас тоже будут судить вместе с ним.
— Что?
— Вы отвечаете за все его действия. Кроме того, вы были вместе с ним, когда он угнал ракету. В тот момент, когда он призывал команду взбунтоваться, вас видели у люка ракеты.
— Но он раскроил мне череп, чтобы угнать ракету. Неужели вы не видите, что это серьезное умственное расстройство? Он не несет ответственности.
— Это решит капитан, Шеффилд. Останьтесь с ним, Нови.
Он повернулся, чтобы уйти.
Шеффилд собрал все силы и крикнул:
— Саймон! Вы хотите отплатить мне за тот урок психологии, который я вам дал. Вы — ограниченный, мелочный…
Задыхаясь, он упал на подушку. Саймон, который был уже в дверях, обернулся и произнес:
— И между прочим, Шеффилд, подстрекательство к бунту на борту корабля карается смертью!
* * *
«Ничего себе суд!» — мрачно подумал Шеффилд. Никто не придерживался законной процедуры; впрочем, психолог был уверен, что никто ее и не знает, и меньше всего — капитан.
Все сидели в большой кают-компании, где во время обычных рейсов команда собиралась смотреть субэфирные передачи. На этот раз никто из членов экипажа сюда допущен не был, хотя научный персонал присутствовал а полном составе.
Капитан Фолленби сидел за столом как раз под субэфирным приемником. Шеффилд и Марк Аннунчио сидели отдельно левее, лицом к нему.
Капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он то обменивался со «свидетелями» непринужденными репликами, то сверхофициально требовал прекратить шепот среди зрителей.
Шеффилд и Марк, увидевшиеся впервые после полета на ракете, обменялись торжественным рукопожатием. (Инициатива принадлежала Шеффилду: Марк, увидев заклеенное крест-накрест полосками пластыря выбритое место на голове Шеффилда, сначала не решился к нему подойти.)
— Простите меня, доктор Шеффилд. Простите.
— Ничего, Марк. Как с тобой обращались?
— По-моему, хорошо.
— Обвиняемые, не разговаривать! — раздался окрик капитана.
Шеффилд спокойно возразил:
— Послушайте, капитан, у нас не было адвокатов, и мы не успели подготовиться к ведению дела.
— Никаких адвокатов не нужно, — сказал капитан. — Это не суд присяжных на Земле. Это капитанское расследование. Совсем другое дело. Важны только факты, а не юридическая болтовня. Процесс может быть пересмотрен на Земле.
— Но нас к этому времени может не быть в живых, — горячо возразил Шеффилд.
— Начинаем! — объявил капитан, грохнув по столу алюминиевой скобой в виде буквы «Т».
Саймон сидел в первом ряду и слегка улыбался. Шеффилд с большим беспокойством следил за ним. Эта улыбка оставалась неизменной все время, пока вызывались свидетели, которые должны были показать, что команда ни в коем случае не должна была знать о цели экспедиции и что Марк с Шеффилдом присутствовали, когда им это говорилось. Миколог экспедиции рассказал о своем разговоре с Шеффилдом, из которого явствовало, что Шеффилд хорошо знал об этом запрете.
Было установлено, что Марк проболел большую часть полета к Малышке и что после посадки на нее он хотя и поправился, но вел себя странно.
— Как вы все это объясните? — спросил капитан.
Оттуда, где сидели зрители, вдруг раздался спокойный голос Саймона:
— Он перетрусил. Он был готов на все, лишь бы смыться с этой планеты.
Шеффилд вскочил.
— Его замечания не относятся к делу. Он не свидетель.
— Сядьте! — сказал капитан, ударив скобой по столу. Суд продолжался. Был вызван один из членов экипажа, показавший, что Марк сообщил им о первой экспедиции и что при этом присутствовал Шеффилд.
— Я требую перекрестного допроса, — вскричал Шеффилд.
— Ваша очередь потом, — сказал капитан, и космонавта выпроводили.
Шеффилд внимательно вглядывался в зрителей. Было очевидно, что не все симпатии на стороне капитана. Шеффилд был все-таки психолог, и даже при таких обстоятельствах ему пришла в голову мысль, что многие из них, вероятно, в душе рады убраться с Малышки и благодарны Марку за то, что он это ускорил. Кроме того, им, очевидно, была не по вкусу эта поспешная судебная инсценировка. Вернадский сидел, нахмурившись, а Нови поглядывал на Саймона с явным неодобрением.
Шеффилда беспокоил Саймон. Психолог чувствовал, что не кто иной, как он, уговорил капитана устроить суд, и что он может настаивать на высшей мере наказания. Шеффилд горько пожалел, что задел патологическое тщеславие этого человека.
Но больше всего Шеффилда озадачивало поведение Марка. Он не проявлял никакого беспокойства, не видно было и следов космической болезни. Марк слушал внимательно, но происходящее, казалось, не очень волновало его, как будто он знал что-то такое, по сравнению с чем все остальное ничего не значило.
Капитан стукнул по столу и сказал:
— Кажется, все. Факты установлены. Бесспорно. Можно кончать.
Шеффилд опять вскочил с места.
— Погодите. А наша очередь?
— Молчите! — приказал капитан.
— Нет, это вы молчите! — Шеффилд обратился к зрителям. — Послушайте, нам не дали возможности оправдаться. Нам даже не разрешили допросить свидетелей. Разве это справедливо?
Поднялся гомон, который не могли перекрыть даже удары молотка.
— Чего там оправдываться? — холодно произнес Саймон.
— Может быть, и нечего, — крикнул ему в ответ Шеффилд. — Но тогда что вы потеряете, если нас выслушаете? Или вы боитесь, что нам есть чем оправдаться?
Теперь стали слышны отдельные выкрики:
— Дайте ему говорить!
— Валяйте! — пожал плечами Саймон.
Капитан угрюмо спросил:
— Чего вы хотите?
Шеффилд ответил:
— Выступить в качестве собственного адвоката и вызвать свидетелем Марка Аннунчио!
Марк спокойно встал. Шеффилд повернулся вместе со стулом к зрителям и сделал Марку знак сесть.
Он решил, что не стоит подражать судебным драмам, какие показывают по субэфиру. Торжественно спрашивать имя и биографию не было никакого смысла. Лучше приступить прямо к делу. И он сказал:
— Марк, ты знал, что произойдет, если ты расскажешь команде о первой экспедиции?
— Да, доктор Шеффилд.
— Тогда зачем ты это сделал?
— Потому что нам всем нужно было убраться с Малышки, на теряя ни минуты. Это был самый быстрый способ покинуть планету.
Шеффилд почувствовал, что этот ответ произвел на зрителей невыгодное впечатление, но он мог лишь довериться интуиции. Его психологическое чутье подсказывало, что только зная что-то определенное, Марк, да и любой мнемонист, способен так спокойно держаться в подобных условиях. В конце концов все знать — это их специальность.
— Марк, почему так важно было покинуть Малышку?
Марк, на колеблясь, поглядел прямо на сидевших против него ученых и ответил:
— Потому что я знаю, отчего погибла первая экспедиция, и мы погибли бы от того же — это был только вопрос времени. Может быть, и сейчас уже поздно. Может, мы уже умираем. Может быть, мы умрем все до единого.
Шеффилд услышал шум среди зрителей, потом все стихли. Даже капитан не дотронулся до своего молотка, даже с губ Саймона сползла улыбка.
В этот момент Шеффилд думал не о том, что знает Марк, а о том что он начал действовать самостоятельно на основе того, что знает. Такое уже случилось однажды, когда Марк, придумав собственную теорию, решил изучить судовой журнал. Шеффилд пожалел, что не занялся тогда же исследованием этой тенденции. Поэтому он довольно мрачно спросил:
— Почему ты не посоветовался со мной, Марк?
Марк чуть смутился.
— Вы бы мне не поверили. Поэтому мне пришлось ударить вас, чтобы вы мне не помешали. Никто из них мне бы не поверил. Они все меня ненавидят.
— Почему ты думаешь, что они тебя ненавидят?
— Ну, вспомните, что было с доктором Родригесом.
— Это было давно. С другими же ты не сталкивался.
— Я видел, как на меня смотрит доктор Саймон. А доктор Фоукс хотел застрелить меня из лучевого пистолета.
— Что? — Шеффилд повернулся к фоуксу, забыв, в свою очередь, обо всех формальностях. — Фоукс, вы пытались застрелить его?
Побагровевший Фоукс встал, и все уставились на него.
— Я был в лесу, — сказал он, — а он подкрался ко мне. Я думал, это животное, и принял меры предосторожности. Когда я увидел, что это он, я спрятал пистолет.
Шеффилд снова повернулся к Марку:
— Это верно?
Марк упрямо продолжал:
— А когда я попросил у доктора Вернадского посмотреть кое-какие данные, которые он собрал, он сказал, чтобы я их не публиковал. Как будто я нечестный человек!
— Клянусь Землей, я же пошутил! — раздался вопль, Шеффилд поспешно сказал:
— Ну ладно, Марк, ты нам не веришь и поэтому решил действовать сам. А теперь — к делу. От чего, по-твоему, умерли первые поселенцы?
Марк ответил:
— От этого же мог бы умереть и Макояма, если бы не погиб при аварии через два месяца и три дня после своего сообщения о Малышке.
— Ладно, но от чего же?
Все затихли. Марк поглядел вокруг и сказал:
— От пыли.
Раздался общий хохот, и щеки Марка вспыхнули.
— Что ты хочешь сказать? — спросил Шеффилд.
— От пыли! Пыли, которая в воздухе! В ней — бериллий. Спросите у доктора Вернадского.
Вернадский встал и протолкался вперед.
— При чем тут я?
— Ну, конечно же, — продолжал Марк. — Это было в тех данных, которые вы мне показывали. Бериллия очень много в коре, значит, он должен быть с пылью и в воздухе.
— А что если там есть бериллий? — спросил Шеффилд. — Вернадский, прошу вас, позвольте мне задавать вопросы.
— Отравление бериллием, вот что. Когда вы дышите бериллиевой пылью, в легких образуются незаживающие гранулемы. Я не знаю, что это такое, но во всяком случае, становится все труднее дышать, и потом вы умираете.
К всеобщему шуму прибавился еще один возбужденный голос. Это был Нови:
— О чем ты говоришь? Ты же не врач!
— Знаю, — серьезно ответил Марк, — но как-то я прочитал очень старинную книгу о ядах. Такую старинную, что она была напечатана на настоящей бумаге. В библиотеке всего несколько таких, и я их просмотрел — ведь это такая диковинка.
— Ладно, — сказал Нови, — и что ты прочел? Ты можешь мне рассказать?
Марк гордо поднял голову.
— Могу сказать на память. Слово в слово. «Любой из двухвалентных металлических ионов, имеющих одинаковый радиус, может активировать в организме поразительное разнообразие ферментативных реакций. Это могут быть ионы магния, марганца, цинка, железа, кобальта, никеля и другие. Во всех этих случаях ион бериллия, имеющий такой же размер и заряд, действует как ингибитор. Поэтому он тормозит многие реакции, катализируемые ферментами. Поскольку бериллий, по-видимому, никак не выводится из легких, вдыхание пыли, содержащей соли бериллия, вызывает различные метаболические расстройства, серьезные заболевания и смерть. Известны случаи, когда однократное действие бериллия приводило к летальному исходу. Первичные симптомы незаметны, и признаки заболевания появляются иногда через три года после действия бериллия. Прогноз тяжелый».
Капитан в волнении наклонился вперед.
— Что он говорит. Нови? Есть в этом какой-нибудь смысл?
— Не знаю, прав он или нет, — ответил Нови, — но в том, что он говорит, нет ничего невероятного.
— Вы хотите сказать, что не знаете, ядовит бериллий или нет, — резко сказал Шеффилд.
— Не знаю. Никогда об этом не читал. Мне не попалось ни единого случая.
Шеффилд повернулся к Вернадскому:
— Где-нибудь бериллий применяется?
Не скрывая своего изумления, Вернадский ответил:
— Нет. Черт возьми, на могу припомнить, чтобы он где-нибудь применялся. Впрочем, вот что. В начале атомной эпохи его использовали в примитивных атомных реакторах в качестве замедлителя нейтронов вместе с парафином и графитом. В этом я почти уверен.
— Значит, сейчас он не применяется? — настаивал Шеффилд.
— Нет.
Внезапно вмешался электронщик:
— По-моему, в первых люминесцентных лампах использовались цинк-бериллиевые покрытия. Кажется, где-то я об этом слышал.
— И все? — спросил Шеффилд.
— Все.
— Так вот, слушайте. Во-первых, все, что цитирует Марк, точно. Значит, так и было написано в той книге. Я считаю, что бериллий ядовит. В обычных условиях это неважно, потому что его содержание в почвах ничтожно. Когда же человек концентрирует бериллий, чтобы применять его в ядерных реакторах, или люминесцентных лампах, или даже в виде сплавов, он сталкивается с его ядовитыми свойствами и ищет ему заменителей. Он их находит, забывает о бериллии, потом забывает и о том, что бериллий ядовит. А потом мы встречаем планету, необычно богатую бериллием, вроде Малышки, и не можем понять, что с нами происходит.
Саймон, казалось, не слушал. Он тихо спросил:
— А что значит; «Прогноз тяжелый»?
Нови рассеянно ответил:
— Это значит, что если вы отравились бериллием, вам не вылечиться.
Саймон закусил губу и откинулся в кресле. Нови обратился к Марку:
— Я полагаю, симптомы отравления бериллием…
Марк сразу же ответил:
— Могу прочесть весь список. Я не понимаю этих слов, но…
— Было среди них слово «одышка»?
— Да.
Нови вздохнул и сказал:
— Предлагаю вернуться на Землю как можно скорее и пройти медицинское обследование.
— Но если мы все равно не вылечимся, — слабым голосом произнес Саймон, то что толку?
— Медицина сильно продвинулась вперед с тех пор, как книги печатали на бумаге, — возразил Нови, — Кроме того, мы могли не получить смертельную дозу. Первые поселенцы больше года прожили под постоянным действием бериллия. Мы же подвергались ему только месяц — благодаря быстрым и решительным действиям Марка Аннунчио.
— Ради всего космоса, капитан, — вскричал в отчаянии Фоукс, — давайте выбираться отсюда! Скорее на Землю!
Похоже было, что суд окончен. Шеффилд и Марк вышли в числе первых.
Последним поднялся с кресла Саймон. Он побрел к двери с видом человека, который уже считает себя трупом.
* * *
Система Лагранжа превратилась в звездочку, затерянную в оставшемся позади скоплении.
Шеффилд поглядел на это пятнышко света и со вздохом сказал:
— А такая красивая планета… Ну что ж, будем надеяться, что останемся в живых. Во всяком случае, впредь правительство будет остерегаться планет с высоким содержанием бериллия. В эту разновидность ловушки для простаков человечество больше не попадет.
Марк не ответил. Суд был окончен, и его возбуждение улеглось. В глазах его стояли слезы. Он думал только о том, что может умереть; а если он умрет, во Вселенной останется столько интересных вещей, которых он никогда не узнает!..
Некролог
Мой супруг Ланселот имеет привычку читать за завтраком газету. Он выходит к столу, и первое, что я вижу, — это выражение неизменной скуки и легкого замешательства на его худом, отрешенном лице. Он никогда не здоровается. Газета, предусмотрительно развернутая, ждет его на столе, и через мгновение лицо его исчезает.
И потом в продолжение всей трапезы я вижу только его руку, которая высовывается из-за газеты, чтобы принять от меня вторую чашку кофе, куда я насыпаю одну ложку сахара. Ровно одну — ни больше и ни меньше. Иначе он испепелит меня своим взглядом.
Все это меня давно уже не волнует. По крайней мере за столом царит мир — и на том спасибо.
Но в это утро спокойствие было нарушено. Нежданно-негаданно Ланселот разразился следующей речью:
— Хос-споди! Эта дубина Пол Фарбер, а? Загнулся!
Я не сразу сообразила, о ком он говорит. Ланселот упоминал однажды это имя — кажется, это был кто-то из их компании. Тоже физик, и, судя по тому как аттестовал его мой супруг, довольно известный. Во всяком случае, из тех, кто сумел добиться успеха, чего нельзя сказать о моем муже.
Отшвырнув газету, он уставился на меня злобным взглядом.
— Нет, ты только почитай, что они там наворотили! — проскрежетал он. — Можно подумать, второй Эйнштейн вознесся на небо. И все из-за того, что этого дурака хватил кондрашка.
Ланселот встал и вышел из комнаты, не доев яйца, не притронувшись ко второй чашке кофе.
Я вздохнула. А что мне еще оставалось делать?
Само собой разумеется, настоящее имя мужа не Ланселот Стеббинз: я изменила имя и некоторые подробности, во избежание осложнений. Но в том-то и дело, что, если б назвать моего супруга его подлинным именем, это имя вам все равно ничего бы не сказало.
Ланселот обладал удивительной способностью оставаться неизвестным. Это был прямо какой-то талант — ни у кого не вызывать к себе никакого интереса. Все его открытия уже были кем-то открыты до него. А если ему и удавалось открыть что-то новое, то всегда кто-нибудь другой в это время создавал нечто более замечательное, и о Ланселоте никто не вспоминал. На конгрессах его доклады никто не слушал, потому что именно в эту минуту в соседней аудитории кто-то делал более важное сообщение.
Все это не могло не повлиять на моего мужа. Он стал другим человеком.
Двадцать пять лет назад, когда мы поженились, это был парень что надо. Блестящая партия. Человек состоятельный, только что получивший наследство, и вдобавок уже сложившийся ученый — не лишенный честолюбия, энергичный и подающий большие надежды. Я тоже, по-моему, была очень недурна собой. Только от всей моей красоты ничего уже не осталось. А вот моя замкнутость, моя полная неспособность завоевать успех в обществе, как это полагалось бы жене молодого и многообещающего научного деятеля, — все это осталось при мне. Быть может, этим отчасти объяснялось то, что Ланселот был таким невезучим. Будь у него другая жена, он светил бы по крайней мере ее отраженным светом.
Понял ли он это в конце концов? И не потому ли он охладел ко мне после первых счастливых лет нашего брака? От этой мысли мне частенько становилось не по себе, и я осыпала себя упреками.
Но иногда я думаю, что виной всему было его тщеславие — тщеславие, которое терзало Ланселота тем сильнее, чем меньше он мог его утолить. Он уволился с факультета и выстроил собственную лабораторию далеко за городом. Говорил, что хочет наслаждаться чистым воздухом подальше от людей.
Денежный вопрос его не тревожил. На физику правительство средств не жалело, поэтому он всегда мог получить столько, сколько нужно. Вдобавок он без всякой меры расходовал наши собственные сбережения.
Я пыталась его урезонить. «Послушай, Ланселот, — говорила я. — Мы же, в конце концов, не нуждаемся. Никто тебя не гонит из университета. К чему все это? Дети и спокойная жизнь — вот все, что мне нужно».
Но его словно ослепил огонь честолюбия, пожиравший его. В ответ он злобно огрызался: «Есть кое-что поважнее! Меня должны признать! Должны же они наконец понять, кто я такой. Я… я — великий исследователь!»
Тогда он еще не решался назвать себя гением.
И что же? Ему по-прежнему не везло. В лаборатории кипела работа. За бешеные деньги он нанял наилучших помощников. Сам трудился как вол. А толку никакого.
Я еще надеялась, что он все же опомнится и мы вернемся в город и заживем тихо и мирно. Не тут-то было. Едва оправившись от очередного поражения, он снова рвался в бой — штурмовать бастионы славы. Каждый раз он загорался новой надеждой, и каждый раз судьба швыряла его в грязь.
Вот тогда он вспоминал о моем существовании. Свои обиды он вымещал на мне. Я не очень отважная женщина, но и мне в конце концов стало ясно, что мы должны расстаться.
Должны, но…
В этот последний год Ланселот готовился к новому сражению. К последнему — я это поняла. В нем появилось нечто новое, незнакомое мне, — какая-то судорожная напряженность. Иногда он говорил сам с собой, ни с того ни с сего смеялся коротким смешком. Целыми днями не брал в рот ни крошки, не спал по ночам. Дошло до того, что он стал прятать на ночь в нашей спальне лабораторные журналы, словно боялся, что его ограбят собственные сотрудники.
Я-то была уверена, что и эта затея обречена на провал. Но теперь он был уже в том возрасте, когда человек должен понять, что это его последняя ставка. Ну что ж, пускай попытает счастья. Расшибет себе в последний раз лоб и бросит все к черту. Я набралась терпения и стала ждать.
Тут как раз и произошла эта история с некрологом, который он прочитал в газете. Я забыла сказать, что однажды у нас уже был подобный случай. Тогда я не выдержала и брякнула ему что-то вроде того, что, мол, на худой конец его похвалят в его собственном некрологе.
Я, конечно, понимаю, что это не очень-то остроумно. Но тогда мне хотелось отвлечь его, помешать ему утонуть в ощущении полной безысходности, которое делало его совершенно невыносимым. А может быть, я, сама того не понимая, затаила на него злобу. Честно говоря, не знаю.
Как бы то ни было, услышав мои слова, он весь перекосился. Колючие брови нависли над его глубоко запавшими глазами; резко повернувшись ко мне, он взвизгнул пронзительным фальцетом;
— Но я-то ведь не смогу прочесть свой некролог! Я даже этого лишен!
И он плюнул. Плюнул мне в лицо.
Я выбежала в свою комнату.
Он так и не извинился; несколько дней подряд я старалась с ним не встречаться, потом мало-помалу взаимоотношения восстановились, такие же безрадостные, как и прежде. Никто из нас больше не вспоминал об этом инциденте. И вдруг — опять некролог, и тут мне стало ясно, что это — последняя капля, что в цепи его неудач наступила некая кульминация.
Кризис приближался, я это чувствовала и не знала, бояться мне или радоваться. Пожалуй, все-таки надо было радоваться. Терять было нечего: любая перемена могла быть только к лучшему.
Перед ленчем он вошел ко мне в комнату, где я сидела за каким-то рукоделием — лишь бы чем-нибудь заняться — и следила краешком глаза за телевизором, опять-таки с единственной целью занять чем-нибудь свой мозг.
Он выпалил:
— Ты должна мне помочь.
Прошло уже лет двадцать, если не больше, с тех пор как он в последний раз обращался ко мне с подобной просьбой — и сердце у меня сжалось. Я увидела, что он возбужден до крайности. На его щеках, всегда бледных, выступила краска. Я пролепетала:
— Охотно, если только смогу…
— Сможешь. Я отправил моих помощников на месяц в отпуск. С субботы их не будет. Будем работать в лаборатории вдвоем. Имей это в виду, чтобы в следующую неделю ничем другим не заниматься.
— Но… Ланселот, — я была в полном замешательстве, — как же я помогу тебе, ведь я ничего не понимаю в этом.
— Знаю, — сказал он презрительно, — тебе и не нужно понимать. Будешь выполнять то, что я тебе скажу, вот и все. Я, видишь ли… кое-что открыл… и это даст мне возможность…
— Ох, Ланселот! — вырвалось у меня. Сколько раз я уже это слышала.
— Слушай меня, дурья башка, и попытайся хоть раз вести себя как взрослый человек. Да, открыл. Но на этот раз меня уже никто не обскачет, потому что идея моего открытия превосходит всякое воображение. Во всем мире ни один физик, будь он даже семи пядей во лбу, никогда не сможет выдумать ничего подобного. Для этого нужно, чтобы сменилось по крайней мере одно поколение… Словом, если мир узнает о моих работах, меня должны признать величайшим ученым всех времен.
— Я очень рада, поздравляю тебя, Ланселот.
— Должны, я сказал. Могут и не признать. В научном мире заслуги распределяются достаточно несправедливо, я испытал это на собственной шкуре… Но только теперь я уже не буду таким дураком, дудки! Я попридержу открытие. А то, глядишь, кто-нибудь подключится. И кончится тем, что мое имя будет плесневеть в каком-нибудь паршивом учебнике по истории науки, а настоящая слава достанется всем этим молодым да ранним.
Он больше не мог сдерживаться. Его буквально распирало. И теперь, когда до осуществления его замысла оставалось всего три дня, он решил, что перед таким ничтожеством, как я, он может открыться без всяких опасений.
Он продолжал:
— Я подам свое открытие так, что все человечество ахнет. Уж тогда никому не придет в голову упоминать о других — все будут говорить только обо мне.
Это уж было слишком. Я перепугалась: а вдруг его ждет новое разочарование? Ведь тогда он окончательно лишится рассудка.
— Дорогой, — сказала я, — к чему такая спешка? Давай немного подождем. Ты слишком много работал, передохни. Возьми отпуск. Мы могли бы съездить в Европу. Кстати, я давно собиралась…
Он топнул ногой.
— Да прекратишь ли ты наконец свою идиотскую болтовню?! В субботу пойдешь со мной в лабораторию. Ясно?
Все эти три ночи я почти не смыкала глаз. Он еще никогда не был таким, не было в нем такого ожесточения. Может, он и вправду спятил? Что он задумал? Чего доброго, поставит на мне какой-нибудь безумный эксперимент. Или просто укокошит меня.
О чем я только не передумала в эти беспросветные, полные ужаса ночи. Хотела звать полицию, хотела убежать, словом, сама не знаю что.
Но приходил рассвет, и я успокаивалась. Нет, он не был сумасшедшим и не был способен на насилие. Даже когда он плюнул в меня — то был в сущности чисто символический акт. И вообще он никогда не осмеливался поднять на меня руку.
И я снова ждала. Наступила суббота. И я покорно, как на заклание, двинулась навстречу неизвестности. Вдвоем мы молча шагали по тропинке, ведущей от дома к лаборатории.
Один вид этой лаборатории вселил в меня ужас. Когда мы приблизились к ней, у меня стали подкашиваться ноги, но Ланселот, заметив мое смятение, буркнул: «Да перестань ты озираться, никто тебя не тронет. Твое дело — выполнять мои указания и смотреть, куда я скажу».
— Да, милый…
На дверях висел замок. От отомкнул его, и мы оказались в тесной комнатке, сплошь заставленной диковинными приборами, от которых во все стороны тянулись провода.
— Ну-с, начнем, — сказал он. — Видишь вон тот стальной тигель?
— Да, милый. — Это был высокий и узкий сосуд с толстыми стенками, кое-где покрытыми ржавчиной. Сверху на него была наброшена проволочная сетка.
Муж подвел меня к тиглю, и я увидела, что там сидит белая мышка. Передними лапками она упиралась в стенку, пытаясь просунуть мордочку сквозь петли проволочной сетки, и мелко дрожала — не то от страха, не то от любопытства.
Я отшатнулась. Все-таки это неприятно — неожиданно увидеть мышь.
Ланселот проворчал:
— Да не укусит она тебя… Ладно, теперь отойди и следи за мной.
Все мои страхи вернулись ко мне. В ужасе я ждала, что вот сейчас вылезет откуда-нибудь стальное чудовище и раздавит меня или ударит молния и превратит меня в кучку пепла… Я зажмурилась.
Но ничего особенного не произошло, по крайней мере со мной. Что-то зашипело, как будто пытались разжечь отсыревшую хлопушку, потом я услышала голос Ланселота: «Эй, проснись».
Я открыла глаза. Ланселот смотрел на меня. Он сиял.
— Ну как?
Ничего не понимая, я беспомощно озиралась вокруг.
— Дурочка, — сказал он. — Это же прямо перед твоим носом.
Тут я только заметила, что рядом с тиглем стоит другой, точно такой же. Раньше его тут не было.
— Ты имеешь в виду второй тигель? — спросила я.
— Это вовсе не второй, это двойник первого. Абсолютная копия, вплоть до последнего атома. Посмотри внимательно. Даже пятна ржавчины одни и те же.
— Ты сделал из одного два?
— Ну да. Только совершенно необычным способом. Видишь ли, чтобы создать заново материю, нужно затратить колоссальное количество энергии. Например, если ты хочешь удвоить один грамм вещества, то даже при самой совершенной технологии тебе придется полностью расщепить не менее ста граммов урана. Так вот, я открыл, что можно создавать материю с ничтожной затратой энергии, надо только уметь ее приложить. А для этого нужно удваивать объект не в настоящем времени, а в будущем, в какой-либо его точке. Весь фокус, моя… э… моя дорогая, состоит в том, что, создав такой дубликат и перенеся его из будущего в настоящее, я тем самым получаю эффект передвижения во времени!
Можете представить себе, насколько велико было его воодушевление, если, обращаясь ко мне, он употребил столь прочувствованный эпитет.
— Да, это замечательно. — Я действительно была потрясена. — Скажи мне, а… мышка тоже вернулась?
На сей раз ответа не последовало. Я заглянула во второй тигель. И тут меня словно толкнули кулаком в грудь. Мышь лежала на своем месте. Но она была мертва.
Ланселот слегка покраснел.
— Тут у меня осечка, — пробормотал он. — Понимаешь, я могу возвращать назад живую материю, но она почему-то оказывается мертвой.
— Какая досада! Почему?
— Пока неизвестно. Я убежден, что объект копируется совершенно точно, с сохранением всей микроструктуры. Это подтверждено при вскрытиях.
— Но ты бы мог спросить у… — Я осеклась. Он метнул в меня недобрый взгляд. Черт меня дернул заикнуться об этом. Я же знала: стоит ему пригласить себе кого-нибудь в помощники, и слава непременно достанется другому.
Он проговорил с горькой усмешкой:
— Да что там, я уже спрашивал. Моих мышек вскрывал опытный биолог. Он ничего не нашел. Разумеется, никто не знает, откуда взялись эти животные. Я постарался своевременно изъять материал… А то еще возникнут какие-нибудь подозрения. Господи! — воскликнул он. — Ведь даже мои ассистенты ни о чем не подозревают!
— Но зачем тебе понадобилось держать все это в такой тайне?
— Зачем? Затем, что я не могу вернуть мышей живыми. Видимо, происходит какой-то ничтожный молекулярный сдвиг. Так вот, если я сейчас опубликую свои результаты, то найдется кто-нибудь другой, кто придумает способ предупредить этот сдвиг. Чуточку усовершенствует мое открытие, но зато ему удастся вернуть живого человека, который доставит информацию о будущем. И слава опять от меня уплывет!
Он был прав. У него наверняка нашлись бы последователи. И тогда моему муженьку уже нечего было бы рассчитывать на признание; не помогли бы никакие заслуги. Это уж точно.
— М-да, — пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне, — и тем не менее я не могу больше ждать. Это дело надо обнародовать — но так, чтобы изобретение навсегда было связано с моим именем. Понимаешь, тут нужна сенсация. Любое упоминание о путешествиях во времени должно вызывать в памяти у людей мое имя, кто бы потом ни работал над этим открытием. Так вот, я… подготовил такую сенсацию. Ты тоже должна в ней участвовать.
— Я? Но в качестве кого?
— В качестве моей вдовы.
— Ланселот! — Я схватила его за руку. — О Боже… Что ты задумал?
Он холодно отстранился.
— Успокойся. Я не собираюсь убивать себя. Побуду три дня в будущем и вернусь.
— Но ты же умрешь!
— Умру не я, умрет мой двойник. Мое подлинное «я» будет жить, как и прежде. Как вот та мышь.
Он взглянул на часы:
— Ага. Вот. Осталось три секунды. Следи за вторым тиглем.
Тут снова раздался шипящий звук, и на моих глазах контейнер с мертвой мышью исчез, как будто его не было.
— Куда он делся?
— Никуда, — сказал Ланселот. — Это же копия. Мы создали ее в определенной точке будущего, теперь этот момент настал, и она преспокойно закончила свое существование. А первая мышь, которая служила оригиналом, жива и здорова. То же самое произойдет и со мной. Моя копия вернется мертвой. Оригинал, то есть я сам, будет продолжать жить. Потом пройдет три дня, наступит нулевой момент, и моя мертвая копия исчезнет, а оригинал как жил, так и будет жить. Неужели не понятно?
— Понятно. Но все-таки рискованно.
— Да с чего ты взяла? Ты только представь себе: находят мой труп, врач подтверждает, что я умер. О моей смерти объявляют в газетах, готовится панихида и все такое. Вдруг я появляюсь, живой и невредимый, и рассказываю обо всем! После такого дела я уже буду не просто физиком, который открыл способ передвигаться во времени. Я буду человеком, который воскрес из мертвых! Обо мне заговорит весь мир. Ланселот Стеббинз и путешествия во времени — эти понятия станут неотделимы друг от друга. Никто не посмеет их разъединить.
— Ланселот, — сказала я тихо. — Но почему, почему мы не можем просто объявить о твоем открытии? Зачем эти сложности? Ты и так станешь знаменит, и тогда… мы смогли бы переехать в город…
— Замолчи! И делай что тебе говорят.
Не знаю, когда он успел придумать весь этот план и какую роль сыграл для него тот газетный некролог, но я определенно недооценила умственные способности моего мужа. Хотя он и был феноменальным неудачником, в изобретательности ему нельзя было отказать.
Своим сотрудникам он предусмотрительно сообщил, что намерен в их отсутствие провести кое-какие химические эксперименты. Сотрудники должны были подтвердить, что он действительно работал с цианистыми солями и, по всей видимости, отравился.
— Ты подскажешь полиции, чтобы она немедленно связалась с моими ассистентами. Где их найти, ты знаешь. Мне не нужно ни убийства, ни самоубийства — никаких подозрений на что-либо такое. Несчастный случай, вот и все. Самый обыкновенный, законный несчастный случай. Как можно скорее получить врачебное свидетельство о смерти и распубликовать в газетах.
— Слушай, — сказала я, — а что, если они отыщут тебя живого?
— Чепуха! Если найден труп, кому, черт возьми, придет в голову искать живого человека? Я спокойненько буду сидеть в той комнате. Возьму с собой запас бутербродов… и уборная там рядом.
Он вздохнул:
— Вот только как быть с моим кофе? Чего доброго, еще потянет запахом из комнаты. Ну да ладно: три дня как-нибудь перебьюсь. Посижу на хлебе и воде.
Я слушала его, тщетно пытаясь унять нервную дрожь, которая била меня.
— Ну а если все-таки тебя найдут? Знаешь, это ведь тоже неплохо: сразу два человека — живой и мертвый.
Я старалась подготовить и себя. К его неизбежной, как мне казалось, неудаче.
Он заорал:
— Нет, плохо! Получится дешевый фарс. А я не собираюсь прославиться в качестве героя анекдотов.
— Мало ли что может случиться, — осторожно заметила я.
— Только не со мной!
— Ты всегда так говоришь. А потом…
Ланселот побелел от ярости. Зрачки его вонзились в меня. Он схватил меня за локоть и сжал с такой силой, что я чуть не закричала.
— Это ты, ты все можешь напортить! — прохрипел он. — Только посмей! Если ты не будешь вести себя как надо, то я… я… — он искал и не мог найти для меня подходящую казнь, — я уничтожу тебя!
Охваченная ужасом, я старалась высвободиться, но безуспешно. Гнев придал этому тщедушному человеку чудовищную силу.
— Слушай, ты! — проговорил он наконец. — Ты всегда приносила мне несчастье. Но я сам виноват: не надо было на тебе жениться. Это раз. А во-вторых, надо было с тобой развестись. Времени все не было… Но теперь — теперь я стою на пороге небывалого успеха. Вопреки тебе! И клянусь тебе, если и на этот раз испортишь мне всю музыку, я тебя убью. Ты поняла? Убью. В буквальном смысле слова.
Я не сомневалась, что он так и сделает. Я пролепетала:
— Хорошо.
Тогда он отпустил меня.
Весь следующий день он копался в своих аппаратах.
— Никогда не приходилось транспортировать больше ста граммов живности, — рассеянно пояснил он.
Я подумала: «Сорвется. Непременно что-нибудь выйдет не так».
На следующее утро все было готово. Он отрегулировал приборы так, что мне оставалось только нажать на рычажок. После этого он заставил меня бессчетное число раз включать и выключать рычажок вхолостую, без тока.
— Ну что, — повторял он, — ясно тебе, что надо сделать?
— Да, да.
— Включай, как только загорится лампочка. Не раньше!
«Господи, что-нибудь сломается», — думала я.
— Да, — сказала я вслух.
Ланселот, в резиновом фартуке поверх рабочей блузы, занял свое место. Он стоял как каменный. Наступило молчание.
Вспыхнула лампочка, и., помня его уроки, я нажала на рычажок, не успев даже подумать о том, что я делаю. Секундой позже передо мной стояли плечом к плечу два Ланселота, похожие друг на друга как две капли воды, только второй был чуточку взъерошен. Вдруг этот второй обмяк и повалился.
— Браво! — воскликнул живой Ланселот, выходя из квадрата, который был нарисован на полу. — Теперь помоги мне. Бери его за ноги.
Я подивилась его выдержке. Увидеть свой собственный труп, свое безжизненное тело, приехавшее из послепослезавтрашнего дня! А он и глазом не моргнул. Подхватил его под мышки, как будто взялся за мешок с картофелем.
Я ухватилась за обе щиколотки. Меня мутило. Труп был еще теплый. Мы проволокли его по коридору, втащили на лестницу, наконец добрались до комнаты. Там уже было все приготовлено. В причудливо изогнутой реторте булькал раствор, вокруг громоздилось химическое оборудование.
Словом, это был образцовый рабочий беспорядок, без сомнения, тщательно продуманный. На столе среди прочих реактивов бросалась в глаза склянка с крупной надписью «Цианистый калий». Вокруг были разбросаны кристаллы яда.
Ланселот расположил труп так, чтобы сразу стало ясно, что человек упал со стула. Насыпал ему цианистого калия на фартук, на левую ладонь, несколько кристалликов пристроил на подбородке.
«Сразу поймут», — пробормотал он.
Напоследок он окинул комнату критическим взглядом.
— Ну, кажется, все. Иди домой и звони врачу. Будешь давать объяснения, говори, что я засиделся в лаборатории и ты понесла мне бутерброды. Пришла и…
Он указал на бутерброды, валявшиеся на полу, и разбитую тарелку, которую я будто бы уронила.
— Теперь выдай слезу. Только не переборщи.
В нужный момент я расплакалась — это было нетрудно, ведь все эти дни я была на грани истерики. Теперь все это выплеснулось наружу.
Врач повел себя точно так, как предсказал Ланселот. Моментально засек банку с цианистым калием. Нахмурившись, процедил:
— Ай-яй-яй! Какая неосторожность!
— И зачем только я позволила ему работать одному, — говорила я, глотая слезы. — Взял и отпустил всех помощников в отпуск.)
— Когда с цианидами обращаются как с поваренной солью, это всегда кончается плохо. — Доктор сокрушенно покачал головой с менторским видом. — Не обижайтесь, миссис Стеббинз, но я вынужден вызвать полицию. Без сомнения, это несчастный случай, но любая насильственная смерть требует полицейского дознания…
— Да-да, конечно, вызовите их, — подхватила я. И тут же прикусила язык: такая поспешность могла показаться подозрительной.
Явилась полиция. Судебный эксперт, увидев на руке и на подбородке у трупа кристаллы яда, что-то брезгливо промычал. На всю эту компанию случившееся не произвело ни малейшего впечатления. Они записали фамилию, имя, возраст. Осведомились, намерена ли я похоронить покойного за свой счет. Я ответила «да», и они укатили.
После этого я стала звонить в редакции газет, связалась с двумя агентствами печати и попросила их, если они будут ссылаться в своих публикациях на полицейский протокол, не особенно нажимать на то, что муж оказался неумелым химиком. Я сказала это тоном убитой горем супруги, которая не хочет, чтобы на репутацию покойного легла какая бы то ни было тень. К тому же он и не химик, добавила я. Его специальность— ядерная физика. И тут я очень удачно ввернула, что у меня давно было предчувствие, будто ему грозит беда.
Говоря так, я в точности следовала инструкциям Ланселота. Сработало великолепно: они сейчас же на это клюнули. Несчастный случай с физиком-атомщиком. Что это — шпионы? Рука Москвы?
Началось нашествие репортеров. Я вынесла им портрет Ланселота в молодости, водила их по лаборатории. Фотоаппараты щелкали не смолкая. Но никто почему-то не спросил, что находится в комнатке, запертой на замок. Должно быть, ее просто не заметили.
Я снабдила их богатым материалом о жизненном пути и научном творчестве покойного. Вспомнила несколько забавных случаев, которые должны были показать, что великий ученый в жизни был простым и скромным человеком. Все это Ланселот заготовил заранее. Я старалась как могла, но тайная тревога не покидала меня. Вот сейчас, думала я, что-нибудь сорвется. Какая-нибудь мелочь нас выдаст. И виноватой окажусь я. Что тогда со мной будет? Ведь он обещал меня убить.
Утром я принесла ему газеты. Ланселот набросился на них с алчным блеском в глазах. «Нью-Йорк тайме» отвела ему целую колонку в углу на первой полосе. «Таймс» не слишком старалась заинтриговать читателей его кончиной; в таком же духе откликнулась «Афтернун пост». Зато какая-то бульварная газетка тиснула огромную шапку через всю страницу: «ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ УЧЕНОГО-АТОМЩИКА».
Он залился счастливым смехом. Пробежал все от начала до конца, потом стал перечитывать. Потом сказал:
— Не уходи. Послушай, что они пишут.
— Да я уже читала.
Он принялся читать вслух, не спеша, смакуя похвалы по своему адресу.
— Ну что? — сказал он, когда все газеты были прочитаны. — Скажешь, опять что-нибудь не выйдет?
Я проговорила неуверенно:
— А что, если полиция вернется и начнет выпытывать, что значат эти слова: «грозит беда»?
— Отделайся намеками. Скажи, что тебе приснился дурной сон. А там пускай себе занимаются расследованием — время-то пройдет.
Действительно, пока все шло как по маслу. И, однако, я все еще чего-то боялась. Боялась надеяться. Человек — странное существо: вот тогда, когда никакой надежды не может быть, тогда он надеется.
Я пробормотала:
— Скажи мне, Ланселот, если все кончится хорошо… и ты станешь знаменитым… мы ведь сможем тогда отдохнуть? Вернемся в город и заживем спокойно, а?
— Идиотка! Неужели ты не понимаешь, что, когда меня признают, я просто обязан буду продолжать свое дело! Ко мне повалит молодежь. Моя лаборатория превратится в грандиозный научно-исследовательский Институт Времени. Я стану легендарной личностью. Величайшие умы покажутся пигмеями рядом со мной…
Выпятив грудь, Ланселот уставился в пустоту сверкающим взором. Он даже привстал на цыпочки. Казалось, он уже видит перед собой мраморный пьедестал, на который его вознесут восхищенные современники.
Я вздохнула. Рушились мои последние надежды на крошечный клочок простого человеческого счастья.
Я потребовала от агента похоронного бюро оставить гроб с телом Ланселота в лаборатории, с тем чтобы потом перевезти его прямо на Лонг-Айленд, в фамильный склеп семьи Стеббинзов. Отказалась от бальзамирования, мотивировав это тем, что буду держать его в большой холодильной камере, где температура около нуля.
Я заявила, что хочу провести эти последние часы возле мужа, что должны еще приехать его сотрудники, но все это прозвучало, по-моему, неубедительно. На лице агента изобразилось холодное неодобрение. Но таковы были инструкции, данные мне Ланселотом.
Когда тело Ланселота, парадно убранное, в открытом гробу было выставлено на видном месте, я пошла навестить живого Ланселота.
— Знаешь, — сказала я, — похоронный агент недоволен. Он явно что-то подозревает.
— Ну и черт с ним, — благодушно отозвался Ланселот.
— Да, но…
— Пусть себе подозревает на здоровье. Что ты волнуешься? Осталось ждать всего один день. За это время ничего не изменится. А завтра утром тело исчезнет… то есть должно исчезнуть.
— Ты думаешь, оно может и не исчезнуть?
Так я и знала. Так и знала!
— Ну, мало ли что. Может произойти небольшая задержка… или наоборот, чуть раньше. Мне ведь еще не приходилось перемещать такие массивные объекты, и я не совсем уверен, насколько точны в этом отношении мои формулы. Поэтому я и решил оставить тело здесь.
— Напрасно. В морге оно по крайней мере исчезло бы при свидетелях.
— А здесь, ты думаешь, могут заподозрить обман?
— Конечно.
Эта мысль его развеселила.
— Ну еще бы! Начнут говорить: зачем он отослал ассистентов? Куда потом девался труп? И вообще, как это он умудрился отравиться, ставя какие-то детские опыты? Вся эта история с путешествием во времени — сплошная липа. Он, скажут, принял какую-то гадость, впал в бесчувственное состояние, а врачи решили, что он умер.
— Ну да, — сказала я убитым голосом. Как мгновенно он все сообразил!
— А потом, — продолжал он, — когда я буду настаивать, что я все-таки на самом деле совершил это путешествие и одновременно был и живым и мертвым, корифеи науки предадут меня анафеме. Я буду всенародно разоблачен как низкий обманщик и за одну неделю стану притчей во язы-цех. Поднимется шум во всем мире. И вот тогда… тогда я предложу публичную демонстрацию опыта в присутствии любой компетентной комиссии. Я потребую, чтобы путешествие во времени транслировалось по международному телевидению! Ну конечно, общественность настоит на том, чтобы опыт состоялся. Телевизионные кампании тоже пойдут навстречу. Им-то наплевать, что увидят зрители — чудо, которое я совершу, или мой позорный крах. Главное, чтоб было интересно. В зрителях недостатка не будет. И вот тут-то я ударю всем по мозгам.
На какой-то миг вся эта феерия меня ослепила. Но сейчас же внутренний голос осадил меня: слишком длинный путь, слишком сложно. Не может быть, чтобы не сорвалось.
Вечером приехали два сотрудника моего мужа. Оба старались придать своим лицам выражение подобающей скорби. Ну что ж, вот и еще два свидетеля, которые подтвердят, что видели Ланселота мертвым. Еще два соучастника всей этой путаницы, которая приведет события к неслыханной кульминации.
С четырех часов ночи мы оба, в шубах, сидели в холодильной камере, ожидая, когда наступит нулевое время. Ланселот дрожащими руками что-то подкручивал в своих приборах. Портативная вычислительная машина не выключалась ни на минуту. Уму непостижимо, как ему удавалось набирать цифры окоченевшими пальцами.
Я чувствовала себя совершенно ‘разбитой. Холодно. Рядом в гробу — мертвое тело, и полнейшая неизвестность впереди.
Прошла целая вечность, а мы все еще сидели и ждали. Наконец Ланселот произнес:
— Ну вот, все в порядке. Исчезнет, как я и рассчитывал. В крайнем случае опоздает минут на пять — для массы в семьдесят килограммов это совсем неплохая степень точности. Все-таки мой анализ хронодинамических преобразований великолепен! — Он подмигнул мне, а потом так же бодро подмигнул своему трупу.
Я заметила, что его блуза сильно помялась. Он не снимал ее все три дня — видимо, и спал в ней — и она стала такой же изжеванной, как на втором Ланселоте в момент его появления.
Ланселот словно угадал мои мысли. Поймав мой взгляд, он перевел глаза на свою блузу.
— Гм, надо бы надеть фартук. Этот второй тоже был в нем.
— Может, не стоит его надевать? — голос мой прозвучал без всякого выражения.
— Нет, надо. Нужна какая-нибудь характерная деталь. Иначе не будет уверенности в том, что это один и тот же человек. — Он пристально поглядел на меня: — А ты по-прежнему считаешь, что произойдет осечка?
Я с трудом выдавила из себя:
— Не знаю.
— Ты, может быть, думаешь, что исчезнет не труп, а я?
Я молчала, и голос его сорвался на крик:
— Ты что же, не видишь, что счастье мне улыбается? Не видишь, что все получается как по нотам! Еще немного — и я стану самым великим из всех людей на земле!.. Лучше вскипяти мне воду для кофе, — сказал он, неожиданно успокоившись. — Скоро мой покойничек испарится, а я воскресну. Надо отпраздновать это событие.
Он подтолкнул ко мне банку с растворимым кофе — после трехдневного ожидания годился и этот.
Я стала возиться с плиткой; залубеневшие пальцы не слушались меня. Он оттолкнул меня и сам поставил на плитку колбу с водой.
— Подождем еще немного, — проговорил он, переключив тумблер на отметку «макс». Кинул взгляд на часы, затем уставился на приборы. — Пожалуй, не успеет закипеть. Сейчас он исчезнет. Иди сюда.
Он встал рядом с гробом.
Я медлила.
— Иди! — приказал он.
Я подошла.
С неописуемым наслаждением он смотрел туда, на самого себя. Мы оба не отрывали глаз от трупа.
Послышался знакомый звук, и Ланселот крикнул:
— Минута в минуту!
В одно мгновение мертвое тело пропало. В гробу лежал пустой костюм. Одежда на двойнике была, естественно, не та, в которой он появился. Поэтому она осталась. Брюки, пиджак, под пиджаком рубашка, новый галстук. Туфли опрокинулись, из них торчали носки. А самого человека не было.
Я услышала бульканье. Это кипела вода.
— Кофе, — сказал Ланселот. — Скорее кофе! Потом вызовем полицию и газетчиков.
Я приготовила кофе ему и себе. Зачерпнула для него из сахарницы обязательную чайную ложку — полную, но без верха — ни больше и ни меньше. То было железное правило — даже теперь, когда в этом не было никакого смысла, привычка была сильнее всего.
Лично я пью кофе без сахара. Таков мой обычай. Я сделала глоток. Отрадная теплота разлилась по всему моему телу.
Ланселот взял в руки чашку.
— Ну вот, — тихо произнес он. — Я наконец дождался. — И он поднес к губам эту чашку с какой-то скорбной торжественностью.
Это были его последние слова.
Когда все кончилось, меня охватило какое-то безумие. Я стащила с него одежду и вместо нее напялила то, что лежало в гробу. Как мне удалось поднять его с пола и уложить в гроб, до сих пор не могу понять. Его руки я сложила на груди, как было у того, исчезнувшего.
Потом я долго и старательно смывала все следы кофе в раковине и тщательно полоскала сахарницу. Я мыла ее и чашку до тех пор, пока в них не могло остаться и намека на цианистый калий, который я всыпала вместо сахара.
Его рабочую блузу и все остальное я отнесла в мусорный ящик. Раньше я выбросила туда точно такую же одежду двойника, но теперь, естественно, ее там уже не было.
Под вечер, когда труп моего мужа вполне остыл, я вызвала агентов похоронного бюро. Они, разумеется, не удивились. Да и чему было удивляться? Мертвец как был, так и остался. Абсолютно тот же самый, даже с цианистым калием в желудке, как и предполагалось.
Они заколотили гроб и увезли его. А потом Ланселота зарыли.
Но ведь, строго говоря, в момент, когда я его отравила, Ланселот официально уже был мертв. Так что я не уверена, можно ли это считать убийством. Естественно, я не собираюсь консультироваться по этому поводу с юристом.
Теперь я обрела желанный покой. Я довольна своей жизнью. Денег у меня достаточно. Хожу в театр. Принимаю друзей.
Совесть меня не мучает.
Я убеждена, что Ланселоту никогда не удалось бы добиться признания. Когда-нибудь передвижение во времени будет открыто заново, но память о Ланселоте Стеббинзе навсегда исчезнет во мраке забвения. Ведь я же говорила ему, что все его проекты обречены на провал: он не дождется славы. Если бы я не покончила с ним, что-нибудь обязательно вышло бы не так, и тогда он убил бы меня.
Нет, я ничуть не раскаиваюсь.
По правде говоря, я все ему простила. Все — кроме того, что он плюнул в меня. Но какая ирония судьбы! Прежде чем умереть, он получил от нее дар, какой редко достается людям, и был счастлив.
Вопреки тому, что он кричал мне тогда, прежде чем плюнуть, — Ланселот смог прочесть свой собственный некролог.
Ветры перемен
Джонас Динсмор вошел в кабинет президента факультетского клуба в очень характерной для себя манере, словно прекрасно понимал, что, хотя и имеет полное право здесь находиться, он не может рассчитывать на дружеский прием. Принадлежность к клубу угадывалась в уверенной походке, а быстрый взгляд, который бросил Джонас, оказавшись в комнате, говорил, что он готов к самой враждебной встрече. Джонас Динсмор был адъюнкт-профессором физики.
В комнате находилось два человека, которых он вполне мог считать своими врагами и при этом не бояться, что его посчитают параноиком.
Один из них — Гораций Адамс, стареющий декан факультета; не совершив ничего значительного, он умудрился обзавестись всеобщим уважением за многочисленные мелкие добрые дела. Другим был Карл Мюллер, чья работа по теории Единого Поля поставила его в ряд претендентов на получение Нобелевской премии (так он, во всяком случае, сам думал) и сделала первым кандидатом на пост ректора университета. Трудно сказать, какой из этих двух вариантов вызывал у Динсмора более сильный протест. В любом случае можно смело утверждать, что он презирал Мюллера.
Динсмор устроился в углу очень неудобного потертого дивана — два мягких кресла были уже заняты — и улыбнулся.
Он часто улыбался, хотя его лицо при этом никогда не становилось доброжелательным. Его улыбка была ничем не примечательной — уголки рта просто растягивались в стороны, но всякий, кто видел эту гримасу, неизменно испытывал неприятные ощущения. Круглое лицо, редкие, тщательно причесанные волосы, полные губы… Все это должно было прекрасно сочетаться с приветливой улыбкой — но почему-то не сочеталось.
Адамс пошевелился; казалось, он борется с раздражением, быстрой тенью промелькнувшим по его удлиненному лицу уроженца Новой Англии. Черноволосый Мюллер совершенно равнодушно и холодно посмотрел на Динсмора голубыми глазами.
— Я знаю, джентльмены, что нарушаю ваше уединение, — заявил Динсмор. — Однако у меня нет выбора. Меня пригласил Совет попечителей. Возможно, они поступают жестоко. Я уверен, Мюллер, вы ожидаете сообщения, в котором будет сказано, что попечители выбрали вас ректором. Вполне естественно, при этом должен присутствовать профессор Адамс, ваш учитель и соратник. Но зачем, Мюллер, они позвали меня, вашего скромного и постоянно проигрывающего соперника?
По правде говоря, я подозреваю, что, став ректором, вы немедленно порекомендуете мне заняться поисками нового места работы, поскольку на следующий учебный год мой контракт продлен не будет. Получается, что я здесь очень кстати — вы сможете без всякой задержки объявить мне эту новость. Жестоко, зато эффективно.
Вы оба кажетесь мне обеспокоенными. Возможно, я несправедлив. Мое немедленное увольнение вас не слишком занимает; вы вполне готовы подождать и до завтра. Может быть, это попечители хотят поскорее от меня избавиться? Не имеет значения. В любом случае создается впечатление, что вы останетесь в университете, а со мной будет покончено. Вполне возможно, что это покажется вам справедливым. Уважаемый глава огромного факультета, заканчивающий карьеру рядом со своим блестящим учеником, чье глубокое понимание фундаментальных концепций и виртуозное владение математическим аппаратом делают его достойным самых высоких наград; в то время как я, лишенный чести и уважения.
А раз уж дело обстоит именно так, должен заметить, что вы демонстрируете несказанное великодушие — вы ведь не прерываете меня, даете мне возможность выговориться. Возникает ощущение, что известие, которое мы ждем, появится с небольшой задержкой, может быть, даже через час. Предчувствие. Попечители тоже не прочь нас немножко помучить, подержать в напряжении. Ведь это замечательный момент — всеобщее внимание привлечено к ним. И раз уж нам все равно придется ждать, я вам кое-что расскажу.
Иным приговоренным перед казнью разрешается в последний раз поесть, другим — выкурить сигарету; мне, надеюсь, будет позволено произнести последнее слово. Конечно, вовсе не обязательно меня слушать или делать вид, что вам интересно.
Благодарю вас. И принимаю за согласие смиренное выражение вашего лица, профессор Адамс. Легкая презрительная улыбка профессора Мюллера меня тоже вполне устраивает.
Знаю, вы не станете винить меня за то, что я с удовольствием изменил бы сложившуюся ситуацию. Но каким образом? Хороший вопрос. Я не хотел бы получить другой характер и другие качества личности. Возможно, они не так уж и хороши, но они мои. Не стал бы я трогать и политические достоинства Адамса или таланты Мюллера, потому что тогда это уже будут не Адамс и не Мюллер. Я бы желал, чтобы вы остались такими, какие вы есть, а вот ситуация, в которой мы трое оказались, сложилась бы иначе. Если бы кому-то удалось отправиться назад в прошлое, какие небольшие модификации событий, происходивших тогда, принесли бы желаемый результат в настоящем?
Вот что мне нужно. Путешествие во времени!
Ага, это произвело на вас впечатление, профессор Мюллер! Вы почти фыркнули. Путешествие во времени! Смешно! Невозможно!
Не только невозможно из-за нынешнего состояния науки, но и невозможно вообще. Путешествие во времени — в том смысле, что кто-то возвращается назад, чтобы изменить реальность — невозможно не только практически, но и теоретически.
Забавно, что вы так думаете, Мюллер, поскольку ваши теории, которые описывают взаимодействие четырех сил, в том числе и гравитацию как единого целого, делают путешествия во времени теоретически осуществимыми.
Нет, не надо возражать. Успокойтесь, Мюллер, посидите спокойно. Я уверен, что вы такую возможность исключаете. Большинство людей с вами совершенно согласно. Может быть, почти все. Однако существуют исключения — и я одно из них. Почему я? Кто знает? Я не утверждаю, что умнее вас, но разве это имеет отношение к нашей проблеме?
Давайте рассмотрим аналогию. Представьте себе: десять тысяч лет назад человеческие существа, постепенно, шаг за шагом, благодаря стечению обстоятельств или талантливым
одиночкам, научились общаться между собой. Была изобретена речь, и легкие модуляции звуков получили абстрактный смысл.
В течение тысяч лет каждый нормальный человек был способен общаться с другими, но сколько из них могли рассказать интересную историю? Шекспир, Толстой, Диккенс, Гюго — горстка по сравнению с великим множеством живших на свете людей — могли извлекать звуки, заставлявшие всех остальных смеяться и плакать. Но ведь они пользовались теми же словами, что и мы с вами.
Я готов признать, что коэффициент умственного развития у Мюллера, к примеру, выше, чем у Шекспира или Толстого. Вероятно, Мюллер знает язык не хуже, чем любой из ныне живущих писателей; его понимание смысла слова не вызывает сомнений. Однако Мюллер не может достигнуть того эффекта, которого легко добивался Шекспир. Уверен, и сам Мюллер не станет этого отрицать. Так какими же качествами, которых лишены Мюллер, Адамс или я, обладали Шекспир и Толстой? Какой особой мудростью были наделены? Вы не знаете, и я не знаю. Что еще хуже — они и сами этого не знали. Шекспир ни в коей мере не мог быть вашим наставником — и никого не сумел бы научить создавать великие произведения. Шекспир просто обладал этой способностью, и все.
А теперь давайте подумаем о том, что такое время. Насколько нам известно, только человек способен понимать значение времени. Все остальные живые существа живут в настоящем; у них есть лишь смутные воспоминания, неясные и весьма ограниченные предчувствия. Зато люди способны понимать прошлое, настоящее и будущее, в состоянии размышлять о его смысле и важности, задумываться о потоке времени, о том, как он течет и можно ли повернуть его вспять.
Когда это произошло? Как это произошло? Кто был первым человеческим существом, которое вдруг поняло, что река времени вынесла его из туманного прошлого в туманное будущее, и задумался: нельзя ли изменить течение?
Этот поток не является неизменным. Иногда нам кажется, что время бежит слишком быстро, часы исчезают, будто они превратились в минуты; зато в другие моменты тянутся безнадежно долго. Когда человек спит, впадает в состояние транса или подвергается воздействию наркотика, время для него теряет привычные свойства.
Вы, кажется, собираетесь мне возразить, профессор Адамс? Не утруждайте себя. Вы наверняка хотели сказать, что данные изменения носят чисто психологический характер. Я знаю, но разве у нас есть что-нибудь, кроме психологии?
Существует ли физическое время? Если да, то что это такое? Ответ очевиден: это то, что мы сами выбрали в качестве образца. Мы конструируем приборы. Мы интерпретируем результаты измерений. Мы изобретаем теории, а потом сами же их и объясняем. Так из понятия абсолютного мы превратили время в нечто, имеющее скорость света, и одновременно пришли к выводу, что его невозможно определить.
Из ваших трудов, Мюллер, мы знаем, что время — явление субъективное. В теории, тот, кто в состоянии понять природу потока времени, если у него хватит таланта, сможет двигаться вместе с потоком или против него; или даже остановиться. Как аналогию можно привести пример с «Королем Лиром» — всякий, знакомый с языком, если у него хватит таланта, может написать такую пьесу.
А что, если у меня есть талант? Что, если я могу быть Шекспиром временного потока? Давайте развлечемся немного. Сообщение от Совета попечителей вот-вот придет, и тогда мне придется замолчать. Однако до тех пор разрешите продолжить мою болтовню. Уверен, вы и не заметили, что с того момента, как я начал говорить, прошло пятнадцать минут.
Подумайте теперь — если я и в самом деле сумею применить теорию Мюллера ради достижения собственных целей, совсем как Гомер пользовался своим исключительным даром складывать слова, что я стану делать, обнаружив у себя столь необыкновенные способности? Может быть, вернусь назад во времени, к тому моменту, когда можно будет кое-что изменить.
О да, я буду находиться вне временного потока. Ваша теория, Мюллер, если ее правильно интерпретировать, вовсе не утверждает, что, двигаясь назад во времени, я буду вынужден брести против течения, наталкиваясь на давно случившиеся события. Это и в самом деле теоретически исключено. А вот если оставаться снаружи — тогда-то и возникают дополнительные возможности; здесь как раз и необходим талант: нужно уметь вовремя войти и выйти из потока.
Предположим, я поступил следующим образом: в какой-то момент вошел в поток и внес необходимое изменение. Оно породит следующее, за ним возникнет другое — и так далее. Время потечет по новому руслу, имеющему собственную жизнь, поток будет пениться и бурлить, и через короткое время.
Нет, неудачное выражение. «Время. через короткое время.» Получается, что мы берем за основу какое-то абстрактное и абсолютное понятие, относительно которого можно измерить время, как если бы наше прошлое опиралось на еще более глубокое прошлое. Признаюсь, мне осознать этого не дано, но вам позволено сделать вид, что вы все понимаете.
Любая модификация прошлого через. некоторое время приведет к тому, что все неузнаваемо переменится.
Но этого я как раз не хочу. Я с самого начала говорил, что не желал бы потерять собственную личность. Если на моем месте окажется кто-то более умный и удачливый, то это уже буду не я.
Да и вас, Мюллер и Адамс, я тоже не стану менять. Я не хочу триумфа над Мюллером, который будет не таким талантливым и изобретательным, или над Адамсом, потерявшим свою восхитительную способность всех ублажать. Я хочу победить вас такими, какие вы есть.
Да, я жажду триумфа.
Ну ладно. Вы зашевелились, словно я сказал что-то непристойное. Неужели это понятие так вам чуждо? Неужели вам чуждо все человеческое и вы не ищете почестей, победы, славы и призов? Неужели я должен поверить в то, что наш уважаемый профессор Адамс готов отказаться от длинного списка публикаций, почетных степеней, множества медалей и орденов, поста главы факультета физики в одном из самых уважаемых университетов мира, наконец?
И разве вас удовлетворило бы, профессор Адамс, если бы никто не узнал о ваших достижениях; если бы сведения о них вычеркнули из всех каталогов; если бы это осталось тайной — вашей и Всемогущего? Глупый вопрос. Я не стану требовать ответа на него, поскольку он всем очевиден.
И нет никакого смысла повторять то же самое о Мюллере — ожидаемом получении Нобелевской премии или предполагаемом ректорстве.
Чего же вы хотите, если в конечном счете вас привлекает не только сам факт обладания всем этим, но и всеобщее признание ваших заслуг? Конечно же, вы жаждете триумфа! Вы мечтаете о победе над соперниками, над другими человеческими существами. Вы стремитесь сделать то, что другим не под силу, чтобы на вас смотрели с завистью и вынужденным уважением.
Должен ли я быть благороднее вас? Зачем? Пусть уж я буду иметь такие же желания и, как вы, мечтать о славе. Почему бы мне не желать всеобщего уважения, почетных премий или высокого поста, которые предназначены вам? Почему бы мне не лишить вас в самый последний момент права на триумф? Чувства, которые я при этом буду испытывать, не кажутся мне более низкими, чем ваши.
Ах да, вы заслужили все это, а я — нет!.. А что, если я так изменю поток времени, что все будет наоборот?
Вы только представьте себе! Я останусь самим собой; и вы тоже. Каждый из нас сохранит свои положительные и отрицательные качества — ведь я сам поставил такое условие, однако я буду достоин предназначенных вам почестей, а вы — нет. Иными словами, я стремлюсь победить именно вас, а не ваши бледные тени.
В некотором смысле я отдаю вам должное, не так ли? Судя по вашим лицам, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Полагаю, вас переполняют презрение и гордость одновременно. Так определяется мера наших побед. Вы наслаждаетесь наградами, о которых мечтаю я, а поскольку мне не удается их получить, ваше наслаждение становится еще острее.
Я не виню вас за это. На вашем месте я испытывал бы то же самое.
Но должны ли мои мечты остаться неудовлетворенными? Подумайте как следует.
Предположим, я вернулся назад во времени лет на двадцать пять. Круглое число; ровно четверть века. Вам, Адамс, сорок. Вы только что прибыли сюда из своего заштатного университета, получив должность профессора. Вы начинаете заниматься диамагнетиками, однако все ваши попытки добиться серьезных результатов просто смешны.
Господи, Адамс, чему вы так удивились? Неужели вы думаете, что я не знаком с вашей профессиональной деятельностью.
А вам, Мюллер, двадцать шесть, вы заканчиваете докторскую диссертацию по общей относительности, которая в то время произвела большое впечатление, чего о ней никак нельзя сказать сейчас. Если бы вам удалось правильно интерпретировать свой собственный труд, вы бы предвосхитили большинство выводов Хокинга. Однако не удалось, хотя вы и сумели скрыть этот прискорбный для вас факт.
Боюсь, Мюллер, что как интерпретатор вы не слишком сильны. Вы не смогли сделать необходимых выводов из своей докторской диссертации, да и с всеобщей теорией поля оплошали. Возможно, Мюллер, в этом нет ничего позорного. Подобные случаи довольно распространены. Нужен особый талант, чтобы оценить новую теорию и ее значение. Я не способен создать оригинальную, блестящую теорию, но обладаю даром правильно интерпретировать чужие идеи. Мы с вами могли бы отлично дополнять друг друга.
Если бы вы генерировали идеи, оставляя мне возможность их интерпретировать, мы бы достигли заоблачных вершин. Какая бы из нас получилась команда, Мюллер!. Но вы бы ни за что на это не пошли. Я не стану особенно возмущаться — поскольку и сам бы не согласился работать вместе с вами.
В любом случае все это пустяки. Я никак не могу навредить вам, Адамс, даже если стану рассказывать о ваших прошлых неудачах на каждом углу. Ведь вы в конце концов, хотя и с большим трудом, нашли в своей статье ошибку еще до того, как она появилась на страницах серьезного научного журнала. И я никак не сумею заслонить солнце, щедро льющее на вас свои лучи, Мюллер, если заявлю о выводах, которые можно было бы сделать из ваших теорий. Это, пожалуй, только подчеркнет вашу одаренность: в ваших работах столько новых идей, что даже вы сами не в состоянии оценить их значение.
Что же мне в таком случае делать? Как должным образом изменить ситуацию?
К счастью, у меня была возможность все обдумать в течение весьма длительного промежутка времени. Мое сознание полагает, что на это ушли годы, однако в реальном мире не прошло ни секунды, поэтому я совсем не постарел. Я мыслил, но физические процессы в моем организме остановились.
Вы опять улыбаетесь. Нет, я не смогу вам объяснить, как такое возможно. Конечно, мыслительные процессы являются частью метаболических. Могу лишь предположить, что вне временного потока мыслительный процесс перестает быть физическим, а превращается в некий эквивалент.
Так как же мне найти тот момент времени, когда мое вмешательство приведет к желаемому результату? Как внести изменения, вернуться в будущее, посмотреть на последствия и, если они мне не понравятся, снова устремиться в прошлое и предпринять новую попытку? И если я проделаю эту операцию пятьдесят раз, тысячу, смогу ли я рано или поздно добиться желаемого? Число изменений, каждое из которых несет за собой бесчисленное количество коррекций, которые, в свою очередь, приводят к новым ситуациям, невозможно ни сосчитать, ни предвидеть. Как найти искомое?
И задача оказалась мне по плечу! Я понял, как это делается, но, пожалуй, рассказывать не стану, и уж, конечно, вам никогда не узнать, что я потом предпринял. Трудно ли это?
Мы стоим, ходим, бегаем, прыгаем — хотя нам не так-то просто сохранять равновесие. Мы находимся в состоянии полнейшей нестабильности. Мы стоим и не падаем только потому, что мышцы наших ног и торса непрерывно сокращаются — так циркач удерживает на носу трость.
Физически это трудно. Вот почему мы охотно присаживаемся, как только возникает такая возможность. Вот почему, если долго отстоять по стойке «смирно», можно потерять сознание. Однако, если не доходить до крайностей, мы довольно успешно справляемся с этими проблемами и делаем все необходимое практически бессознательно. Мы в состоянии ходить, стоять, бегать, прыгать целый день и ни разу не упасть и даже не потерять равновесия. Ну а теперь попробуйте описать, как вы это делаете, чтобы тот, кто никогда не пробовал, попытался повторить все ваши движения за вами. Не получится!
Еще один пример. Мы умеем разговаривать: сокращаем мышцы языка, губ, щек и нёба так, чтобы производить те звуки, какие хотим. Учение давалось нам с трудом — в детстве, но теперь мы без особых усилий произносим дюжины слов в минуту. Так как же у нас это получается? Какие движения производятся, чтобы сказать: «Как мы это делаем?» Опишите их тому, кто никогда не говорил, чтобы он повторил эти звуки! Это попросту невозможно.
Однако мы решаем эту задачу. Легко.
Если хватит времени. впрочем, я даже не представляю себе, как описать промежуток, который я имею в виду. Это не время; называйте его «промежуток». Взяв достаточный промежуток без прохождения времени, я научился изменять реальность по своему желанию. Это напоминало детский лепет, но постепенно я овладел связной речью. И научился выбирать.
Конечно, я рисковал. В процессе обучения я мог совершить какую-нибудь непоправимую ошибку; или потребовалось бы внести такие тонкие изменения, которые мне оказались бы просто не под силу. Однако все прошло гладко. Может, именно здесь и мне, наконец-то, сопутствовала удача.
Я начал получать удовольствие от самого процесса — все равно что рисовать картину или ваять скульптуру. Даже больше: я создавал новую реальность. Реальность, которая по ключевым позициям совпадала с нашей. Я не изменился; Адамс остался тем же Адамсом; Мюллер тоже не потерял своих основных характеристик. Университет остался университетом, наука — наукой.
Так неужели ничего не изменилось? Похоже, вы начинаете терять интерес. Вы больше мне не верите. И, если я вас правильно понимаю, готовы посмеяться над моим рассказом. Я слишком увлекся и вел себя так, словно путешествие во времени возможно, и я действительно сделал то, о чем лишь только мечтал. Простите меня. Считайте это игрой воображения, фантазиями. Я говорил о том, что мог бы сделать, если бы путешествие во времени было возможно и если бы у меня в самом деле имелся необходимый талант.
В таком случае — в моем воображении — неужели ничего не изменилось? Должны же быть какие-то перемены; чтобы Адамс, оставаясь Адамсом, уже не годился для роли декана факультета; Мюллер был прежним Мюллером, однако его мечты стать ректором университета и получить Нобелевскую премию развеялись как дым.
А я остался бы самим собой, рабочей лошадкой, никем не любимый и неспособный творить — однако располагающий качествами, которые сделали бы меня ректором университета.
К науке это не должно иметь отношения; требуется опорочить, выставив в самом неблагоприятном свете, двух благородных джентльменов.
Ну ладно. Я не заслужил этих самодовольных и одновременно презрительных взглядов. Насколько я понимаю, вы уверены: ни один из вас не способен совершить отвратительного или гнусного поступка. Откуда же такая уверенность? Нет человека, который при определенных условиях не впал бы в грех. Кто среди нас не совершит серьезного проступка, если искушение будет достаточно сильным? Кто из нас без греха?
Думайте, думайте! Вы уверены, что ваши души чисты? На вашей совести нет ничего постыдного? Неужели ни один из вас ни разу не был близок к преступлению — а спасло вас лишь везение и удачное стечение обстоятельств, а вовсе не ваше благородство? Если кто-нибудь внимательно наблюдал бы за вашими действиями и обращал внимание на удачу всякий раз, когда она приходила к вам на помощь, а один раз встал бы на пути фортуны, вы бы не смогли избежать неприятностей.
Конечно, если бы вы вели бесчестную жизнь, полную обмана, так что люди с отвращением и презрением отвернулись бы от вас, вы бы не достигли столь высокого положения. Вы
давно потерпели бы поражение, и мне не довелось бы переступить через ваши поверженные тела — вас бы попросту здесь не было, и вы не послужили бы мне ступеньками на пути к триумфу.
Видите, как все сложно?
Поэтому моя игра становилась все более волнующей. Надеюсь, вы меня понимаете. Если бы я вернулся назад во времени и обнаружил, что найти решение совсем несложно и одним ударом реально достигнуть цели, то удовольствие было бы немалым, но моя интеллектуальная победа была бы не столь полной.
Если бы мы играли в шахматы и я бы выиграл, поставив мат в три хода, то это было бы даже хуже, чем поражение. Получилось бы, что я выбрал недостойного соперника, опозорившись еще до начала партии.
Нет. Настоящая победа одерживается в борьбе с сильным неприятелем, в результате тонких маневров и сложных комбинаций; когда ты напрягаешь все свои извилины, когда победа достается тебе в мучениях и страданиях, когда заключительный, решающий рывок отнимает последние силы, и ты падаешь, сжимая в руках желанный трофей.
Промежуток, проведенный мной в игре с самыми необычными шахматными фигурами, оказался таким долгим и трудным из-за ограничений, которые я сам же и установил. Я упрямо настаивал не только на конечном результате; нет, я неустанно стремился к тому, чтобы все произошло именно так, как мне хотелось — отбрасывая все варианты, когда что-то меня не устраивало. Мелкую ошибку я расценивал как неудачу; не совсем точное попадание я считал промахом. Только выстрел в яблочко мог меня удовлетворить, на меньшее я не соглашался.
И даже мой успех оказался столь неожиданным, что вы не должны были о нем узнать, пока я вам все не объясню. До самого конца вы будете оставаться в неведении по поводу того, что вас ждет полнейший крах. Вот что.
Но подождите, я кое о чем забыл. Я так старался объяснить вам, что вы, я, университет и наука должны остаться прежними, что не рассказал о других возможных изменениях. Неизбежно возникнут перемены в социальной, политической и экономической сферах, в международных отношениях. Кого могут беспокоить подобные вещи? Уж, конечно же, не нас троих.
Вот чем замечательна наука и ученые, не правда ли? Какое значение для нас имеет президент Соединенных Штатов или итоги голосования в ООН, положение на биржевых рынках или бесконечные политические маневры? Пока наука существует и выполняются законы природы, продолжается игра, в которую мы играем, а фон, на котором все это происходит, — не более чем бессмысленная смена света и тьмы.
Возможно, вы со мной не согласны, Мюллер. Мне хорошо известно, что в свое время вы считали себя частью общества и не раз высказывались по разным вопросам. В несколько меньшей степени то же можно сказать и о вас, Адамс. Вы оба имели возвышенные взгляды на человечество, Землю и прочие абстракции. Насколько серьезными были ваши убеждения? Ведь на самом деле — глубоко внутри — вас это мало интересовало, пока вы имели возможность заниматься своей наукой.
В этом и заключается решающая разница между нами. До тех пор пока мне никто не мешает заниматься физикой, меня не интересует, что станется с человечеством. Я этого не скрываю; все считают меня циничным и бездушным. А вам на все наплевать — втайне. К цинизму и бездушию, характерному для меня, вы добавляете лицемерие, которое скрывает ваши грехи, делая их тем самым еще более отвратительными.
О, не надо возмущенно трясти головами. Я знаю о вас столько же, сколько вы сами — даже больше, поскольку беспристрастно смотрю на ваши похождения, а вы даже от себя скрываете правду. Самое забавное: лицемер, глубоко проникнувшийся процессом, сам становится жертвой лицемерия. Очень часто, когда лицемер оказывается разоблаченным, в своих собственных глазах он остается святым.
Но я говорю вам все это вовсе не для того, чтобы поносить вас. Мне просто хочется растолковать, что, уж если я решу изменить весь мир для того, чтобы обойти вас, вы не станете особо перечить. Относительно переустройства мира, естественно.
Вы не будете возражать, если к власти придут республиканцы, а демократы проиграют, или наоборот; если расцветет феминизм, а профессиональный спорт будет поставлен под жесткий контроль; вам наплевать на моду и музыку, живопись и литературу. Какое все это имеет для вас значение? Никакого.
На самом деле даже меньше, чем никакого, потому что, если мир изменится, возникнет новая реальность; и она будет единственно возможной для всех: реальность исторических книг, та реальность, которая и была реальной в последние двадцать пять лет.
Если вы поверили мне, если сочтете, что мои россказни — нечто большее, чем глупые фантазии, вы все равно будете бессильны. Вы можете обратиться к властям и заявить: «Все устроено не так как следует. И во всем виноват один злодей». Что вы этим докажете? Только собственное безумие. Кто поверит в то, что данная реальность совсем не та реальность — ведь люди жили в ней последние двадцать пять лет. Все так хитро завязано, что распутать этот узел невозможно.
Но вы не верите мне. Вы не осмеливаетесь признать, что я не просто рассуждаю о возможном возвращении в прошлое, о том, что я тщательно изучил ваши жизни и сделал все, чтобы изменить мир, оставив нас троих прежними. Я это сделал; я сделал все, о чем рассказал. И только я один помню обе реальности, потому что находился вне потока времени.
Но вы по-прежнему мне не верите. Не осмеливаетесь, ведь для вас это равносильно признанию собственного безумия. Мог ли я изменить привычный для вас мир 1982 года? Абсурд.
А даже если и так, каким он был до того, как я приступил к своим экспериментам? Я скажу вам — это был настоящий хаос! Каждый делал, что хотел! В некотором смысле я рад, что все перекроил. Теперь у нас есть правительство, которое по-настоящему управляет страной. Наши лидеры имеют взгляды, являющиеся обязательными для всех. Великолепно!
Джентльмены, в прежнем мире, в той реальности, которую теперь никто себе и представить не может, вы оба сами определяли собственные законы и боролись за право творить произвол. Это привлекало многих.
В новой реальности вы остались прежними. Вы продолжали бороться за прежние права, а в нынешней реальности это преступление; впрочем, другой реальности вы не знаете. Я позаботился о том, чтобы вы скрыли свои деяния. Никто не ведал о вашем позорном прошлом, поэтому вы и смогли добраться до нынешних высот. Но я знал, как добыть доказательства и открыть миру глаза на вашу деятельность — в нужное время — и сделал это.
Похоже, впервые за все время я больше не вижу на ваших лицах презрения и терпеливого снисхождения. Неужели я уловил страх? Вы вспомнили то, о чем я говорю?
Думайте! Думайте! Кто был членом Лиги конституционных свобод? Кто помогал распространять «Манифест свободной мысли»? Кое-кто посчитает, что это было очень смело и благородно с вашей стороны. Сопротивление вами восхищалось. Ну, не надо, не надо — вы прекрасно знаете, кого я называю Сопротивлением. Вы уже давно не являетесь его членами. Вы слишком на виду, теперь вам есть что терять. Вы занимаете высокие посты и имеете шансы продвинуться еще выше. Зачем рисковать ими ради того, что людям не нужно?
Вы носите знаки отличия, заняли места среди самых достойных граждан нашего общества. Но мои знаки отличия более высокой пробы — ведь я не совершил ничего постыдного. Более того, джентльмены, я достоин награды за то, что разоблачил вас.
Гнусный поступок? Недостойный акт? Вовсе нет. Меня восславят. Я пришел в ужас из-за лицемерия моих коллег, меня охватило отвращение и возмущение, когда я узнал об их прошлом, которое они так тщательно скрывали. Я испугался, что они начнут интриговать, причинят вред самому благородному и достойному обществу на Земле. В результате я привлек к этим фактам внимание благородных людей, которые помогают охранять наше общество от посягательств тех, кто не в состоянии оценить его величия.
Они попытаются изгнать зло из ваших душ, чтобы спасти и сделать вас истинными детьми высокого Духа. Полагаю, в процессе будет нанесен некоторый вред телам, но что из того? Малая цена по сравнению с вечным добром, которое на вас снизойдет. Это стало возможно благодаря мне, и я буду вознагражден.
Похоже, теперь, джентльмены, вы по-настоящему напуганы, потому что сообщение, ради которого мы здесь собрались, прибудет с минуту на минуту. Надеюсь, сейчас вам стало ясно, почему я нахожусь здесь вместе с вами. Я стану ректором, а моя трактовка теории Мюллера в сочетании с его бесчестьем приведет к тому, что во всех учебниках она станет называться теорией Динсмора и, вполне возможно, принесет мне Нобелевскую премию. Что же до вас…
Донесся стук кованых сапог, и они услышали громкую команду:
— Стой!
Дверь распахнулась. В комнату вошел человек, чья серая форма с широким белым воротником, высокая шляпа с пряжкой и большой бронзовый крест не оставляли сомнений — пред ними стоял капитан зловещего Легиона Совести.
— Гораций Адамс, — гнусаво заговорил он, — я арестовываю вас именем Господа и Религиозного Братства по обвинению в использовании черной магии и колдовства. Карл Мюллер, я арестовываю вас именем Господа и Религиозного Братства по обвинению в использовании черной магии и колдовства.
Капитан сделал быстрый жест правой рукой. Двое легионеров выступили вперед и рывком заставили подняться с кресел скорчившихся от ужаса физиков. Надели на несчастных наручники и сорвали с их воротников маленькие бронзовые кресты — священный символ совести.
Капитан повернулся к Динсмору:
— Всего вам святого, сэр. Мне поручено передать вам сообщение Совета попечителей.
— Всего святого, капитан, — мрачно отвечал Динсмор, поглаживая собственный крест. — Я с нетерпением жду решения этих достойных людей.
Он знал, что содержится в сообщении.
Как новый ректор университета, он мог, если посчитает нужным, смягчить наказание, которое ждет этих двоих. Его триумф состоялся. Если бы только это было безопасно.
Однако, когда у власти Высоконравственное Большинство, никто не может быть уверен в собственной безопасности.
Слишком страшное оружие
Карл Франтор находил пейзаж удручающе-мрачным. Низко нависшие облака сеяли нескончаемый моросящий дождь; невысокая, словно резиновая, растительность монотонного красновато-коричневого цвета простиралась во все стороны. Тут и там вспархивали птицы-прыгуны и с заунывными криками проносились над головой.
Повернувшись, Карл посмотрел на крошечный купол Афродополиса, крупнейшего города Венеры.
— Господи, — пробормотал он, — даже под куполом лучше, чем в этом чудовищном мире снаружи.
Он поплотнее запахнулся в прорезиненную ткань накидки.
— До чего же я буду рад вернуться на Землю! Он перевел взгляд на хрупкую фигурку Антила, венерианина:
— Когда мы доберемся до развалин, Антил? Ответа не последовало, и тут Карл заметил, что по зеленым, морщинистым щекам венерианина текут слезы. Странный блеск появился в крупных, похожих на лемурьи, кротких, непередаваемо прекрасных глазах. Голос землянина смягчился:
— Прости, Антил, я не хотел ничего дурного сказать о твоей родине.
Антил повернул к нему зеленое лицо:
— Это не из-за твоих слов, мой друг. Разумеется, ты найдешь немного достойного восхищения в чужом мире. Но я люблю Венеру и плачу потому, что опьянен её красотой.
Слова произносились плавно, но с неизбежными искажениями: голосовые связки венериан не были приспособлены для резких земных языков.
— Я понимаю, тебе это представляется непостижимым, — продолжал Антил, — но мне Венера видится раем, землей обетованной… я не могу подобрать для своих чувств должных слов на вашем языке.
— И находятся же такие, кто заявляет, что лишь земляне способны любить! — В словах Карла ощущалась сильная и искренняя симпатия.
Венерианин печально покачал головой:
— Но многие способны также чувствовать, что ваш народ отвернулся от нас.
Карл поспешил сменить тему разговора:
— Скажи, Антил, разве пейзажи Венеры не представляются тебе однообразными? Ты был на Земле, ты способен меня понять. Как может эта коричнево-серая бесконечность сравниться с живыми, теплыми красками Земли?
— Для меня она несравненно прекраснее. Ты забываешь, что мое цветовое восприятие очень сильно отличается от твоего.
Как я могу объяснить тебе всю прелесть, все богатство красок, которые составляют этот пейзаж?
Он замолчал, углубившись в созерцание красот, о которых говорил, хотя для землянина мертвенная меланхолическая серость окружающего оставалась неизменной.
— Когда-нибудь, — в голосе Антила звучали пророческие интонации, Венера вновь будет принадлежать только венерианам. Нами больше не будут править выходцы с Земли, и слава предков вернется к нам.
Карл рассмеялся:
— Хватит тебе, Антил. Ты заговорил, точно головорез из Зеленых банд, которые причиняют столько хлопот правительству. Я-то думал, ты не признаешь насилия.
— Я и не признаю, Карл. — Глаза Антила стали печальными, пожалуй, даже испуганными. — Но силы экстремистов растут, и я опасаюсь наихудшего. И… и если вспыхнет открытый бунт против землян, я должен буду к нему присоединиться.
— Но ты же не согласен с ними.
— Да, конечно. — Антил передернул плечами — жест, который он перенял от землян. — Насилием мы ничего не добьемся. Вас пять миллиардов, нас едва наберется сотня миллионов. В вашем распоряжении ресурсы и оружие, а у нас ничего нет. Было бы бессмысленным риском выступить против такой силы. И даже если мы победим, то получим в наследство лишь ненависть такой силы, что мир между нашими двумя планетами станет невозможным навсегда.
— Тогда зачем тебе к ним присоединяться?
— Потому что я — венерианин. Карл опять разразился смехом:
— Похоже, патриотизм на Венере столь же иррационален, как и на Земле. Ну ладно, поспешим-ка к развалинам вашего древнего города. Теперь уже недалеко?
— Да, — ответил Антил, — теперь до них чуть больше вашей земной мили. Но помни, ты ничего не должен нарушать там. Руины Аш-таз-зора для нас священны, как единственный уцелевший след тех времен, когда мы тоже были великой расой, не то что теперешние дегенераты.
Дальше они шли в молчании, шлепая по мягкому грунту, уклоняясь от корчащихся ветвей змеедрев, обходя стороной изредка попадающиеся скачущие лозы.
Антил первым возобновил разговор:
— Несчастная Венера. — В его спокойном, грустном голосе таилась печаль. — Пятьдесят лет назад появились земляне, предложили нам мир и благоденствие — и мы поверили. Мы показали им изумрудные копи и табак джуджу — и их глаза заблестели от вожделения. Их прибывало все больше и больше, и все больше становилось их высокомерие. И теперь…
— Все это достаточно скверно, Антил, — согласился Карл, — но ты слишком уж болезненно это воспринимаешь.
— Слишком болезненно! Разве мы получили право голоса? Есть у нас хоть один представитель в Конгрессе провинций Венеры? Разве не существует законов, запрещающих венерианам пользоваться теми же стратокарами, что и землянам, питаться в тех же ресторанах, останавливаться в тех же отелях? Разве не все колледжи закрыты для нас? Разве лучшие и плодороднейшие участки почвы не присвоены землянами? Разве сохранились вообще хоть какие-то права, которые защищали бы нас на нашей собственной планете?
— Все, что ты сказал, — чистейшая правда, как это ни прискорбно. Но в свое время на Земле практиковалось такое же обращение с представителями некоторых так называемых низших рас, а потом это неравенство начало понемногу сглаживаться, пока не установился принцип полного равноправия, существующий в наше время. К тому же не забывай, что весь цвет интеллигенции Земли на вашей стороне. Я, к примеру, хоть раз проявлял малейшее предубеждение против венёриан?
— Нет, Карл, ты сам знаешь, что нет. Но сколько их, интеллигентных людей? На Земле прошли долгие и мучительные тысячелетия, полные войн и страданий, прежде чем установилось равноправие. Что, если Венера откажется ждать так долго?
Карл нахмурился:
— Ты, конечно, прав, но ждать придется. Что вам ещё остается?
— Не знаю… не знаю…
Антил смолк. Неожиданно Карлу захотелось повернуть назад, под спасительный купол Афродополиса. Сводящая с ума монотонность пейзажа и недавние сетования Антила только усилили его депрессию. Он уже совсем было собрался отказаться от этой затеи, как вдруг венерианин поднял перепончатую руку, указывая на холм впереди.
— Там вход, — сказал он. — За бесчисленные тысячелетия Аш-таз-зор скрылся под землей. Только венериане знают его местонахождение. Ты — первый землянин, которому суждено в нем побывать.
— Я сохраню вашу тайну, как и обещал.
— Тогда идем.
Антил раздвинул пышную растительность, открыв узкий проход между двумя валунами, и поманил Карла за собой. Им пришлось почти ползти по узкому сырому коридору. Антил достал из сумки атомитную лампу, её жемчужно-белый свет озарил каменные стены.
— Этот проход был обнаружен нашими предками триста лет назад, объяснил венерианин. — С тех пор город считается святыней. И все-таки потом мы о нем позабыли. Я был первым, кто посетил его после длительного перерыва. Не исключено, что это ещё один показатель нашей деградации.
Ярдов пятьсот они двигались строго по прямой, пока коридор не вывел их под просторный купол. Карл задохнулся при виде открывшегося перед ним зрелища. Остатки зданий, архитектурные чудеса, не имеющие аналогов на Земле, пожалуй, со времен Афин Перикла. Но все было обращено в руины, так что о былом великолепии города оставалось только догадываться.
Антил провел землянина наискось через открытое пространство, и они углубились в новый проход, змеей извивавшийся в скале. То тут, то там в стороны убегали ветви боковых коридоров, несколько раз Карл замечал обломки каких-то конструкций. С какой радостью он взялся бы за исследования, но боялся отстать от Антила.
Они вновь выбрались на открытое место, на сей раз перед огромным, широким зданием, сложенным из гладкого зеленого камня. Его правое крыло было полностью разрушено, но все остальное, похоже, пострадало мало.
Глаза венерианина сияли, его худенькая фигурка горделиво распрямилась.
— Это примерно то же, что земные музеи науки и искусства. Ты сможешь увидеть здесь величайшие достижения древней культуры.
С трудом сдерживая волнение, Карл огляделся — первый землянин, смотревший на достижения этой древнейшей цивилизации. Он обнаружил, что за центральной колоннадой находится ряд глубоких ниш. Потолок представлял собой одно гигантское полотно, тускло мерцавшее в свете атомитной лампы.
Заблудившись в чудесах, землянин бродил по залам. Впечатление невероятной чуждости производили окружавшие его скульптуры и полотна, но неземное происхождение лишь удваивало их красоту.
Карл понимал, что упускает что-то жизненно важное в венерианском искусстве просто из-за отсутствия общей почвы между земной культурой и этой, но он мог оценить техническое совершенство произведений. Особенно он восхищался цветовым богатством живописи, гамма цветов которой лежала далеко за пределами когда-либо встречавшегося на Земле. Картины пошли трещинами, поблекли, местами облупились, но гармоничность и естественность изображений были просто великолепны.
— Сколько бы ещё сделал Микеланджело, — сказал Карл, — обладай он присущим венерианскому глазу невероятным восприятием цвета!
Антил от удовольствия выпятил грудь.
— У каждой расы свои особенности. Я часто хотел, чтобы мои уши могли улавливать слабейшие тона и оттенки звука так же, как, говорят, это свойственно землянам. Тогда, возможно, я сумел бы понять, что же такого прекрасного таится в вашей музыке. А так она представляется мне невыносимо монотонной.
Они двинулись дальше, и с каждой минутой мнение Карла о венерианской культуре все возрастало. Им попадались длинные и узкие ленты тонкого металла, сложенные вместе, покрытые линиями и овалами венерианской письменности — их были тысячи и тысячи. И на них, думал Карл, могли быть запечатлены такие секреты, за которые земные ученые отдали бы половину жизни.
Наконец, когда Антил указал на крошечный, дюймов шесть в высоту, предмет и сообщил, что, согласно надписи, это одна из моделей ядерного конвертора, на несколько порядков превышающего по эффективности серийные земные модели, Карл взорвался:
— Почему бы вам не раскрыть эти секреты Земле? Да стоит там только узнать о ваших достижениях, и венериане займут значительно более высокое положение, чем сейчас.
— Да, они смогут использовать наше древнее знание, — с горечью возразил Антил, — но это не значит, что они откажутся от привычки презирать Венеру и её народ. Надеюсь, ты не позабыл о своем обещании сохранить все в тайне.
— Нет, я буду держать язык за зубами, но, думаю, ты совершаешь ошибку.
— Я так не думаю. — Антил свернул к проходу в зал, но Карл задержал его.
— А разве в эту маленькую, комнатушку мы не заглянем? — спросил он.
Антил повернулся, в его глазах читалось удивление.
— Комнатушку? О какой комнатушке ты говоришь? Тут нет никаких комнат.
Брови Карла поползли вверх, и он молча указал на тоненькую трещину, пересекающую заднюю стену.
Венерианин Пробормотал что-то, с трудом дыша от волнения, опустился на колени и ощупал шов чуткими пальцами.
— Помоги мне, Карл. Думаю, эту дверь уже давно не открывали. К тому же на ней нет никаких надписей. Я нигде не встречал упоминаний о том, что она вообще должна здесь находиться. А я знаю развалины Аш-таз-зора, пожалуй, лучше всех.
Они вместе навалились на секцию стены, которая со скрипом отошла немного назад, а потом отодвинулась так резко, что они свалились в крохотное, почти пустое помещение. Вскочив на ноги, они огляделись.
Карл указал на рваные, неровные ржавые полоски на полу и стене там, где она соприкасалась с дверью.
— Похоже, твои предки запечатали эту комнату просто и эффективно. Лишь многовековая ржавчина разъела запоры. Думаешь, они спрятали здесь что-нибудь серьезное?
— Тут не было никакой двери, когда я приходил сюда в последний раз. Но все-таки… — Антил поднял атомолампу повыше и быстро оглядел помещение. Похоже, здесь ничего и не было.
Он был прав. Сбоку от удлиненного ящика неопределенной формы, стоявшего на шести коротеньких ножках, пространство было заполнено прямо-таки невероятным количеством пыли — и праха, и все помещение походило на давным-давно замурованную усыпальницу.
Карл попытался сдвинуть ящик. Это ему не удалось, но крышка под нажимом пальцев шевельнулась.
— Крышка сдвигается, Антил. Смотри!
Он отставил тонкую пластину в сторону. В ящике лежали квадратная плитка из какого-то стекловидного материала и пять шестидюймовой длины цилиндров, напоминавших поршневые авторучки.
Увидев, содержимое, Антил взвизгнул от восторга — за все время их знакомства Карл видел его таким впервые — и, забормотав что-то по-венериански, поднес к глазам стеклянную пластину. Карл, удивление которого росло, придвинулся поближе. Пластинку покрывали разноцветные крапинки, но вряд ли они послужили причиной для такой невероятной радости.
— Слушай, что это такое?
— Это документ на нашем древнем церемониальном языке. До сих пор нам попадались лишь его разрозненные фрагменты. Это величайшая находка.
— Ты можешь расшифровать текст? — Карл поглядел на пластинку со значительно большим уважением.
— Думаю, смогу. Это мертвый язык, а я знаю чуточку больше дилетанта. Видишь ли, это цветовой язык. Каждое слово составлено из комбинации двух, реже трех цветовых точек. Цвета имеют миллионы оттенков, так что землянину, даже имеющему ключ к языку, пришлось бы воспользоваться спектроскопом, чтобы прочитать текст.
— Ты что, можешь справиться с этим прямо сейчас?
— Мне так кажется, Карл. Атомитная лампа довольно точно воспроизводит дневной свет, так что с этой стороны не должно быть затруднений. Но как бы то ни было, потребуется определенное время, так что, пожалуй, тебе лучше пойти прогуляться. Опасности заблудиться здесь нет, если, конечно, ты не надумаешь покинуть пределы здания.
Карл ушел, прихватив с собой вторую атомолампу, а Антил склонился над древним манускриптом, медленно и мучительно расшифровывая его.
Минуло два часа. Землянин вернулся и увидел на лице своего друга выражение ужаса, чего раньше никогда не случалось. Цветное «сообщение» лежало позабытым у его ног. Громкие шаги землянина не произвели на Антила никакого впечатления. Оцепенев, он застыл в непонятном испуге.
Карл рванулся к нему:
— Антил, Антил, тебе плохо?
Голова венерианина медленно повернулась, словно ей приходилось двигаться в густой жидкости; глаза невидяще уставились на человека. Карл вцепился в худые плечи Антила и немилосердно затряс его.
Антил постепенно приходил в себя. Высвободившись из рук Карла, он поднялся, вынул из тайника пять цилиндрических предметов и опустил их в сумку. Потом с непонятным отвращением отправил туда же плитку, которую расшифровывал.
Покончив с этим, он положил крышку ящика на место и, махнув Карлу, вышел из комнаты.
— Нам пора. Мы и так задержались здесь слишком долго. — В голосе его слышались странные, напряженные нотки, от которых землянину стало не по себе.
Они в молчании проделали весь обратный путь, пока наконец не оказались на дождливой поверхности Венеры. Близились сумерки. Карл почувствовал растущий голод. Им следовало поторопиться, если они хотели достичь Афродополиса до ночи. Карл поднял воротник плаща, поглубже надвинул прорезиненную шляпу и тронулся в путь.
Тянулись миля за милей, и город-купол на фоне серого горизонта становился все крупнее. Землянин жевал отсыревшие сандвичи с ветчиной, истово мечтая поскорее очутиться в сухом уюте Афродополиса. Но хуже всего было то, что обычно дружелюбный венерианин продолжал хранить каменное молчание, удостаивая своего спутника только быстрым взглядом.
Карл воспринимал это философски. Он относился к венерианам с гораздо большим уважением, чем подавляющее большинство землян, но даже он испытывал легкое презрение к чрезмерно эмоциональному характеру соплеменников Антила. Это непроницаемое молчание было выражением чувств, которые Карл проявил бы, разве что тяжело вздохнув или нахмурив брови. Все это Карл понимал и настроение Антила его почти не задевало.
И все же выражение отчаянного страха в глазах Антила вызывало некоторое недоумение. Он перевел написанное на той квадратной пластине и испугался. Что за тайну могли вложить в это сообщение высокообразованные прародители венериан?
В конце концов Карл заставил себя спросить, однако голос его звучал неуверенно.
— Что ты вычитал в той пластине, Антил? Думаю, это может быть интересно и мне, учитывая, какое впечатление она на тебя произвела.
В ответ Антил сделал жест, веля поторопиться, и скользнул в сгущавшуюся тьму почти с удвоенной скоростью. Карл ощутил недоумение и даже обиду. И за все время оставшегося пути уже больше не пытался заговаривать с венерианином.
Однако, когда они добрались до Афродополиса, Антил нарушил молчание. Его морщинистое лицо, осунувшееся и напряженное, обратилось к Карлу с тем выражением, какое бывает после принятия мучительно выстраданного решения.
— Карл, — сказал он, — мы были друзьями, поэтому я хочу дать тебе несколько дружеских советов. На следующей неделе ты отправишься на Землю. Я знаю, твой отец — достаточно влиятельное лицо среди советников президента планеты. Да и ты скорее всего станешь в недалеком будущем крупной фигурой. Если так случится, умоляю тебя, направь все силы на то, чтобы Земля пересмотрела свое отношение к Венере. Я, в свою очередь, будучи наследственным вождем самого большого на Венере племени, приложу все усилия, чтобы предотвратить любые попытки насилия.
Землянин нахмурился:
— Похоже, за всем этим что-то кроется. Но я здесь ни при чем. Ты хочешь ещё что-то сказать?
— Только это. Или же наши отношения улучшатся… или же… вся Венера восстанет. И тогда у меня не останется выбора, кроме как служить ей душой и телом, а в таком случае Венере недолго оставаться беззащитной.
Эти слова только развеселили землянина.
— Ладно, Антил, твой патриотизм замечателен и недовольство оправданно, но мелодрамы и шовинизм на меня не действуют. Прежде всего я реалист
— Верь мне, Карл. То, что я сейчас тебе сказал, — в высшей степени реально. — В голосе венерианина прозвучала непреодолимая убежденность. — В случае восстания на — Венере я не смогу гарантировать безопасность Земли!
— Безопасность Земли?! — Невероятность услышанного ошеломила Карла.
— Да, — продолжал Антил, — поскольку в моих силах уничтожить Землю. Я сказал все
Он повернулся и нырнул в заросли, направляясь к маленькой венерианской деревушке, приютившейся у гигантского купола.
Прошло пять лет — лет бурных и неспокойных, — и Венера очнулась от сна подобно пробудившемуся вулкану. Недальновидные земные власти Афродополиса. Венерии и других городов-куполов благодушно пренебрегали всеми тревожными сигналами. Если они и вспоминали когда-нибудь о маленьких зеленых венерианах, то непременно с презрительной гримасой, словно говоря: «А, эти твари!»
Но терпение «тварей» наконец истощилось; с каждым новым днем националистические Зеленые банды прибавляли в численности, голоса их становились все более громкими. И в один серый день, похожий на все прочие, толпы туземцев забурлили вокруг городов.
Небольшие купола оказались захваченными, так и не успев оправиться от изумления. За ними последовали Нью-Вашингтон, Гора-Вулкан и Сен-Дени, то есть весь Восточный Континент. Прежде чем ошеломленные земляне успели сообразить, что происходит, половина Венеры больше не принадлежала им.
Земля, шокированная и потрясенная этой неожиданной неприятностью, которую, разумеется, ничего не стоило предвидеть, бросила все людские и материальные ресурсы на помощь жителям осажденных городов, снарядив огромный флот.
Земля была раздражена, но не испугана, пребывая в убеждении, что области, утраченные по растерянности, на досуге могут быть легко возвращены назад, а территории, сохраненные по сей день, не могут быть потеряны никогда. По меньшей мере, в это хотели верить.
Так что нетрудно вообразить оцепенение земных лидеров, когда наступление венериан не приостановилось. Венерия была достаточно обеспечена оружием и продовольствием; были поставлены её защитные экраны, а люди находились на постах. Крошечная армия голых, безоружных туземцев надвинулась на город и потребовала безоговорочной капитуляции. Венерия высокомерно отказалась,» сообщения на Землю были полны шуток насчет безоружных дикарей, так быстро потерявших голову от успехов.
Потом неожиданно сообщения перестали поступать, а в Венерию вступили венериане.
Падение Венерии повторялось снова и снова — с другими городами-крепостями. Сам Афродополис с его полумиллионным населением пал перед жалкой полутысячью венериан. И это несмотря на тот факт, что в распоряжении защитников было любое известное на Земле оружие.
Земное правительство скрывало факты; население Земли оставалось в неведении относительно странной войны на Венере. Но высшие правительственные чиновники хмурились, когда слышали непонятные слова Карла Франтора, сына министра образования.
Ян Хеерсен, военный министр, в ярости вскочил, ознакомившись с содержанием доклада.
— И вы серьезно, пытаетесь убедить нас на основании случайного заявления полусвихнувшейся жабы, чтобы мы заключили мир с Венерой на их условиях? Абсолютно невозможно! Что этим проклятым тварям требуется, так это броневой кулак. Наш флот вышибет их из Вселенной, и ждать этого осталось недолго.
— Вышибить их не так просто, — произнес седобородый Франтор-старший, спеша поддержать сына. — Многие из нас не раз заявляли, что правительственная политика относительно Венеры ошибочна. Кто знает, что они способны предпринять в ответ на наше нападение?
— Детские сказочки! — рявкнул Хеерсен. — Вы думаете о жабах как о людях. Они — животные и должны быть благодарны за те блага цивилизации, что мы им несем. Не забывайте, мы относимся к ним гораздо лучше, чем во время ранней истории относились к некоторым из земных рас, к краснокожим например.
Карл Франтор снова не удержался и взволнованно заговорил:
— Нам следует все разузнать, господа! Угроза Антила слишком серьезна, чтобы ею пренебречь, и неважно, что звучит она глупо… Впрочем, в свете побед венериан она звучит не так уж и глупо. Я предлагаю послать меня и адмирала фон Блумдорфа в качестве послов. Позвольте мне добраться до сути этого дела, прежде чем мы перейдем к атаке.
Президент Земли, мрачноватый Жюль Дебю, впервые заговорил:
— В конце концов, в предложении франтора есть смысл. Пусть так и будет. Есть другие предложения?
Предложений больше не последовало, только Хеерсон нахмурился и злобно фыркнул. Таким образом, неделю спустя Карл Франтор сопровождал космическую армаду, отправившуюся с Земли в направлении Венеры.
Странная Венера встретила Карла после пятилетнего отсутствия. Тот же нескончаемый дождь, то же монотонное, угнетающее чередование коричневого и серого, те же разбросанные города-купола, но как же все здесь переменилось!
Там, где раньше высокомерные земляне презрительно шествовали среди толп ежившихся от страха туземцев, ныне распоряжались венериане. Афродополис стал столицей планеты, а бывший кабинет губернатора занимал теперь… Антил.
Карл с сомнением глядел на него, плохо понимая, что следует сказать.
— А я был склонен думать, что ты… марионетка, — решился он наконец. — Ты… пацифист.
— От меня ничего не зависело. Все решил случай, — возразил Антил. — Но ты… Никак не мог предположить, что именно ты будешь представлять свою планету на переговорах.
— Это потому, что ты напугал меня глупыми угрозами несколько лет назад, и потому еще, что я оптимистичнее всех отнесся к вашему восстанию. Вот я и прилетел, как видишь, но не без сопровождения. — Он небрежно указал рукой в. небо, где неподвижно и угрожающе зависли звездолеты.
— Собираешься меня запугать?
— Нет! Мне хотелось бы узнать твои цели и требования.
— Они легко выполнимы. Венера требует признания её независимости: мы предлагаем мир, а также свободную и неограниченную торговлю.
— И ты предлагаешь нам согласиться на это без борьбы…
— Надеюсь… для блага Земли же. Карл нахмурился и раздраженно откинулся на спинку кресла.
— Ради Бога, Антил, время таинственных намеков и недосказанных угроз прошло. Поговорим в открытую. Как вам удалось так легко захватить Афродополис и остальные города?
— Нас вынудили к этому, Карл. Мы этого не хотели. — Голос Антила стал резким от волнения. — Они не приняли наших требований и начали стрелять из тонитов. Нам… нам пришлось применить… оружие. После чего нам пришлось большую часть их убить… из милосердия.
— Ничего не понимаю. О каком оружии ты говоришь?
— От меня ничего не зависело. Помнишь наше посещение Аш-таз-зора, Карл? Запечатанная комната, древний манускрипт, пять небольших цилиндриков?
Карл угрюмо кивнул:
— Я так и подумал, но не был уверен.
— Это чудовищное оружие, Карл. — Антил содрогнулся, точно сама мысль о нем была невыносима. — Древние изобрели его… но ни разу не использовали. Они сразу же упрятали его подальше, и представить не могу, почему вообще не уничтожили. Я надеялся, что они хотя бы испортили его. я в самом деле на это надеялся. Но оно оказалось в превосходном состоянии, и именно я его обнаружил и… был вынужден применить… на благо Венеры. — Его голос упал до шепота, и венерианин с явным усилием заставил себя собраться и продолжить рассказ. — Небольшие безобидные на вид стерженьки — да ты и сам их видел — способны генерировать силовые поля неизвестной природы — прадеды мудро позаботились не разъяснять научные основы оружия, — разрушающие связи между разумом и мозгом.
— Что? — Карл застыл, от изумления раскрыв рот. — О чем ты говоришь?
— Ты же должен знать, что мозг — скорее вместилище разума, нежели сам разум. Природа разума — это тайна, она была неведома даже нашим прародителям, но какой бы она ни была, разум использует мозг в качестве посредника между собой и материальным миром.
— Понял. — И ваше оружие отделяет разум от мозга… разум оказывается беспомощным… словно космопилот, потерявший контроль.
Антил с серьезным видом кивнул.
— Видел ты когда-нибудь животное без мозга? — неожиданно спросил он.
— Хм-м… да, собаку… в колледже, на занятиях по биологии.
— Тогда пошли, я тебе покажу человека без разума.
Карл и венерианин вошли в лифт. Когда они спустились на нижний тюремный — этаж, в мыслях Карла царила сумятица. Он разрывался между ужасом и яростью, его одновременно охватывали и безрассудное желание убежать, и непреодолимая тяга убить Антила здесь же, на месте. Все
— Ха! Да это самая простая часть всей чертовой затеи. Сунули вам лунатика, заявив: «Вот оно, новое оружие!», и вы это скушали без каких-либо вопросов! Продемонстрировали они вам свое «ужасное оружие»? Хотя бы показали его вам?
— Разумеется, нет Оружие смертельно. Не будут же они убивать венерианина, чтобы доставить мне удовольствие! А насчет демонстрации… Вы бы стали показывать противнику свою козырную карту? Ну а теперь ответьте на несколько моих вопросов. Почему Антил так непоколебимо в себе уверен? Каким образом он так легко и быстро захватил Венеру?
— Пожалуй, объяснить этого я сейчас не смогу. Но разве это что-нибудь доказывает? Как бы то ни было, мне уже дурно от этой болтовни. Мы атакуем их, а все ваши теории — к дьяволу! Я их поставлю перед тонитами, тогда сами увидите, как изменятся их лживые рожи.
— Но, адмирал, вы обязаны сообщить о моем докладе президенту.
— А я и сообщу… когда верну Афродополис землянам, Он повернулся к блоку централизованной связи:
— Внимание всем кораблям! Боевое построение! Цель — Афродополис! Залп всеми тонитами через пятнадцать минут!
Он бросил взгляд на адъютанта:
— Передайте капитану Ларсену, пусть сообщит венерианам, что им дается на размышление пятнадцать минут, чтобы выбросить белый флаг.
Минуты до атаки прошли для Карла Франтора в невыносимом напряжении. Он сидел сжавшись, молча закрыв лицо руками; тихий щелчок хронометра в конце каждой минуты отдавался в его ушах громом. Он отмечал их едва слышным шепотом:
— восемь… девять… десять… Боже мой!
Всего пять минут до неминуемой смерти! Но так ли уж она неминуема? Что, если фон Блумдорф прав? Что, если венериане просто блефуют?
В рубку ворвался адъютант и отдал честь.
— От жаб пришел ответ, сэр.
— Ну? — Фон Блумдорф нетерпеливо подался вперед.
— Они сообщают «Немедленно прекратите атаку В противном случае мы снимаем с себя ответственность за последствия.
— И это все? — Последовала грубейшая ругань.
— Да, сэр.
Очередной поток ругани.
— Дьявольские наглецы. Изворачиваются до последнего. Едва он успел договорить, как пятнадцать минут истекли и могучая армада пришла в движение. Четкими, стройными рядами она метнулась вниз, к облачному покрывалу планеты. Адмирал, злобно оскалясь, с удовольствием следил за этим наводящим ужас зрелищем по телеэкрану… когда геометрически стройные боевые порядки неожиданно сломались.
Адмирал захлопал глазами, потом потер их. Всю передовую часть флота внезапно охватило безумие. Сначала они притормозили, потом помчались в разные стороны под самыми сумасшедшими углами.
Потом последовали рапорты от уцелевшей части флота, извещающие, что левое крыло перестало отвечать на радиовызовы.
Нападение на Афродополис провалилось. Адмирал фон Блумдорф топал ногами и рвал на себе волосы.
— Вот оно, их оружие в действии, — вяло пробормотал Карл Франтор и вновь погрузился в безразличное молчание.
Из Афродополиса не поступило ни слова.
Добрых два часа остатки земного флота потратили на борьбу с собственными кораблями, гоняясь за вышедшими из повиновения космолетами. Каждый пятый им настичь так и не удалось: одни направились прямым курсом на Солнце, другие умчались в неведомом направлении, кое-кто врезался в Венеру.
Когда уцелевшие корабли левого крыла были собраны, ступившие на их борт ничего не подозревавшие спасательные отряды ужаснулись. Семьдесят пять процентов личного состава каждого корабля потеряли человеческий облик, превратившись в безумных кретинов. На многих кораблях не осталось ни одного нормального человека.
Одни, застав такую картину, кричали от ужаса и ударялись в панику, других рвало, и они спешили отвести глаза. Один из офицеров, с первого взгляда сориентировавшись в ситуации, выхватил атомный пистолет и пристрелил всех безумцев.
Адмирал фон Блумдорфф был конченым человеком: узнав о самом худшем, он разом превратился в жалкую, с трудом передвигающуюся развалину, способную лишь на бесполезную ярость. К нему привели одного из безумных, и адмирал отшатнулся.
Карл Франтор поднял на него покрасневшие глаза.
— Ну, адмирал, вы удовлетворены?
Но адмирал не стал отвечать. Он выхватил пистолет и, прежде чем кто-либо успел остановить его, выстрелил себе в висок.
И вновь Карл Франтор стоял перед президентом. Его доклад был четок, и не вызывало сомнений, какой курс предстоит теперь избрать землянам.
Президент Дебю покосился на одного из безмозглых, доставленного сюда в качестве образца.
— Мы проиграли, — произнес он. — Нам приходится согласиться на безоговорочную капитуляцию… Но придет день… — Его глаза вспыхнули при мысли о возмездии.
— Нет, господин президент, — зазвенел голос Карла. — Такой день не наступит. Мы должны предоставить венерианам то, что им причитается, свободу и независимость. Пусть прошлое останется прошлым. Да, многие погибли, но это расплата за полувековое рабство венериан. Пусть этот день станет началом новых отношений в Солнечной системе.
Вокруг Солнца
Весело, хоть и не очень мелодично, напевая себе под нос, Джимми Тэрнер вошел в приемную.
— Здесь Старая Кислятина? — спросил он, подмигивая хорошенькой секретарше и вгоняя ее этим в краску.
— Здесь, и ждет вас, — кивнула она в сторону двери, на которой жирными черными буквами значилось: «Фрэнк Мак-Катчен, генеральный директор Межпланетного почтового ведомства».
Джимми вошел.
— Хэлло, командир! Что на этот раз?
— О, это вы! — Мак-Катчен оторвался от лежавших на столе бумаг и пожевал окурок своей сигары. — Садитесь.
Из-под кустистых бровей он уставился на вошедшего. «Старую Кислятину», как называли Мак-Катчена все сотрудники Межпланетного почтового ведомства, никто не мог припомнить смеющимся, хотя, если верить слухам, в детстве, наблюдая падение своего отца с яблони, он улыбнулся. Всякий, кто поглядел бы на его лицо сейчас, объявил бы этот слух преувеличенным.
— Слушайте, Тэрнер! — рявкнул Мак-Катчен. — Межпланетное почтовое ведомство открывает новую линию, и решено, что проложите ее вы. — Не обращая внимания на гримасу Джимми, он продолжал: — Отныне почту на Венеру будут доставлять круглый год.
— Что? Я всегда считал: когда Венера находится по другую сторону Солнца, возить туда почту — сплошное разорение.
— Точно, — согласился Мак-Катчен, — если лететь обычным путем. Но если бы можно было достаточно близко подойти к Солнцу, мы стали бы летать по прямой. В том-то вся суть! Создан новый корабль, способный приблизиться к Солнцу на двадцать миллионов миль и неопределенно долгое время оставаться на этой дистанции.
— Постойте! — нервно перебил Джимми. — Я не совсем понимаю, Кисл… мистер Мак-Катчен. Что это за корабль?
— Почем я знаю? Я сам не специалист, но, насколько мне известно, он создает вокруг себя некое поле, не пропускающее солнечных лучей. Вы поняли? Они отклоняются. Жара до вас не доходит. Вы можете пробыть там хоть целый век, и вам будет прохладнее, чем в Нью-Йорке.
— Вот как? — Джимми был настроен скептически. — Испытания проведены, или именно эту маленькую деталь оставили для меня?
— Испытания, конечно, были, но не в естественных условиях.
— Раз так, я отказываюсь. Я достаточно потрудился для ведомства, но всему есть предел. Я еще не сошел с ума.
Мак-Катчен чопорно выпрямился.
— Напомнить вам присягу, которую вы дали, поступая на службу, Тэрнер? «Помешать нашим космическим полетам…»
— «…способна только смерть», — закончил Джимми. — Все это я знаю не хуже вас, и еще я заметил, что очень легко цитировать присягу, сидя в удобном кресле. Если вы такой идеалист, летите сами. Что до меня, то это исключено. И можете, если угодно, меня уволить. Уж такую работу я всегда найду. — Он пренебрежительно щелкнул пальцами.
Мак-Катчен понизил голос до вкрадчивого шепота:
— Ну, ну, Тэрнер! Не надо так горячиться. Вы меня не дослушали. Помощником у вас будет Рой Снид.
— Ха! Снид! Этого плута вам и за миллион лет не уговорить. Так что не рассказывайте мне сказок.
— Собственно говоря, он уже дал согласие. Я думал, вы составите ему компанию, но вижу, он был прав. Он с самого начала был уверен, что вы спасуете. А я с ним спорил. — Он жестом отпустил Джимми и тут же занялся докладной, которую читал перед его приходом.
Джимми пошел к двери, нерешительно постоял возле нее и вернулся назад.
— Минутку, мистер Мак-Катчен! Что, Рой действительно летит?
Мак-Катчен рассеянно кивнул, целиком поглощенный чтением документа. Джимми взорвался:
— Вот негодяй! Значит, этот длинноногий воображала считает, что я струшу?! Ну, я ему покажу! Я принимаю ваше предложение и ставлю десять долларов против венерианского пятака, что Рой в последнюю минуту сдрейфит!
— Хорошо! — Мак-Катчен встал и пожал ему руку. — Я знал, что вы согласитесь. С деталями вас ознакомит майор Вэйд. Я думаю, вы отправитесь недель через шесть, а так как я завтра лечу на Венеру, мы, вероятно, там встретимся.
Джимми, все еще кипя, вышел, а Мак-Катчен нажал кнопку звонка:
— Вызовите по видеофону Роя Снида, мисс Вильсон.
После короткой паузы вспыхнул красный сигнал, раздался щелчок, и на экране возник темноволосый, франтоватый Снид.
— Хэлло, Снид! — прорычал Мак-Катчен. — Вы проиграли пари. Тэрнер согласен. Я думал, он лопнет со смеху, когда сказал ему, что вы говорили — он не полетит. С вас двадцать долларов.
— Подождите, мистер Мак-Катчен! — Лицо Снида потемнело от гнева. — Вы что, сказали этому безмозглому кретину, будто я отказался? Конечно, сказали, знаю я вас! Я-то полечу, но ставлю еще двадцатку, что он передумает. А я полечу, не сомневайтесь!
Мак-Катчен, не дожидаясь, пока он кончит возмущаться, выключил видеофон. Затем откинулся на спинку кресла, выплюнул изжеванный окурок и закурил новую сигару. Лицо его по-прежнему осталось кислым, но в голосе явственно слышалось удовлетворение, когда он произнес:
— Ха! Я знал, что на это они клюнут.
С усталыми, вспотевшими двумя космонавтами на борту «Гелиос» летел по орбите Меркурия. Многонедельное космическое путешествие вдвоем вынуждало Джимми Тэрнера и Роя Снида соблюдать видимость приятельских отношений, и все же они почти не разговаривали. Прибавьте к этой скрытой враждебности изнуряющую жару и мучительную неуверенность в благополучном исходе предприятия, и вы поймете, что положение обоих было незавидным.
Джимми уныло посмотрел на пульт с множеством разных индикаторов и, откинув упавший на глаза мокрый клок волос, буркнул:
— Что там вытворяет термометр, Рой?
— Сто двадцать пять по Фаренгейту, и ртуть все ползет вверх, — тем же тоном ответил Рой.
Джимми цветисто выругался, после чего сказал:
— Система охлаждения на пределе, корпус корабля отражает 95 процентов солнечной радиации, и при всем том такая жарища. — Он помолчал. — Гравиметр показывает, что мы находимся в тридцати пяти миллионах миль от Солнца.
Значит, нам осталось еще целых пятнадцать миллионов миль до зоны, где включится дефлекторное поле. Температура поднимется, возможно, до ста пятидесяти. Нечего сказать, приятная перспектива! Проверь-ка испарители. Если воздух не будет абсолютно сухим, нам долго не выдержать.
— Орбита Меркурия, только подумать! — голос Снида стал хриплым. — Никто никогда не был так близко к Солнцу. А мы продолжаем приближаться к нему.
— Многие были и так близко, и еще ближе, — напомнил Джимми, — но они потеряли управление и сели на Солнце.
Фридлендер, Дебюк, Антон… — Он умолк, наступило тягостное молчание.
Рой нервно поерзал.
— Насколько оно вообще эффективно, это поле? Знаешь, Джимми, такие воспоминания не слишком ободряют.
— Ну, испытания проведены в самых жестких условиях, максимально приближённых к реальным. Я наблюдал их. На корабль обрушили радиацию, примерно равную солнечной в радиусе двадцати миллионов миль. Эффект был потрясающий. Залитый ослепительно ярким светом корабль сделался невидимым. И с корабля испытатели не видели происходящего снаружи, совершенно не ощущая при этом жары. Одно любопытно: поле включается только при определенной интенсивности радиации.
— Хотелось бы, чтобы все это скорей кончилось, а как — мне уже все равно, — рассердился Рой. — Если Старая Кислятина думает постоянно гонять меня по этому маршруту, что ж — он лишится своего аса.
— Он лишится двух асов, — поправил Джимми.
Разговор оборвался; «Гелиос» продолжал свой полет.
Жара усиливалась: 130, 135, 140. А через три дня, когда ртуть подобралась к отметке «148», Рой объявил, что они приближаются к критической зоне — туда, где солнечная радиация достаточно интенсивна, чтобы вызвать действие поля.
Напряжение достигло предела; сердца обоих бешено колотились.
— Это произойдет сразу?
— Не знаю. Придется ждать.
Сквозь иллюминаторы видны были только звезды. Слепящие лучи Солнца не проникали внутрь корабля, специально сконструированного таким образом, что под действием мощной радиации иллюминаторы автоматически закрывались.
А потом звезды начали понемногу исчезать, сперва — тусклые, затем — яркие: Полярная, Регул, Арктур, Сириус. Космос стал одной сплошной чернотой.
— Действует! — выдохнул Джимми. И почти в тот же момент обращенные к Солнцу иллюминаторы открылись. Солнца не было!
— Ха! Я уже ощущаю прохладу, — Джимми Тэрнер ликовал. — Здорово!.. Знаешь, если бы создать дефлекторное поле против излучения любой силы, мы получили бы самое мощное оружие — возможность делаться невидимками. — Он закурил и сибаритом раскинулся в кресле.
— Но пока что мы летим вслепую, — напомнил Рой.
Джимми покровительственно усмехнулся.
— Можешь не беспокоиться, Красавчик. Это уж моя забота. Мы вышли на солнечную орбиту. Через две недели мы обогнем Солнце, я выпущу ракеты, и мы устремимся прямиком к Венере. — Он был чрезвычайно доволен собой. — Джимми Тэрнер — «голова»! Можешь на него положиться. Вместо обычных шести месяцев мы потратим всего два. За штурвалом ас Межпланетной почты.
Рой неприятно хохотнул.
— Послушать тебя, так подумаешь — это твоя заслуга. А вся твоя работа — вести корабль по курсу, который рассчитан мною. Голова здесь Я, ты — только руки.
— Ну? Каждый молокосос в летном училище умеет рассчитывать курс. А чтобы водить корабли, надо быть мастером.
— Ну, это ты так считаешь. А кому больше платят? Тому, кто ведет корабль, или тому, кто составляет расчеты?
На это Джимми возразить ничего не смог, и Рой с победным видом вышел из рубки. А «Гелиос» все летел.
Два дня прошли спокойно, а на третий Джимми, глянув на термометр, встревоженно почесал затылок. Вошедший в эту минуту Рой вопросительно поднял брови.
— Что-нибудь случилось? — Он наклонился к шкале. — Ровно 100 градусов. Не вижу причин расстраиваться. По твоему виду я решил, что стало барахлить поле и температура снова поднимается. — Он нарочито зевнул.
— Безмозглый кривляка! — Джимми поднял ногу, как бы собираясь лягнуть его. — Я предпочел бы, чтобы температура поднималась. Слишком уж оно активно, это поле, на мой взгляд…
— Гм! Что ты имеешь в виду?
— Постараюсь объяснить, а ты слушай внимательно — может, поймешь. Этот корабль напоминает термос. Он с большим трудом нагревается и с таким же трудом остывает. — Джимми сделал паузу, давая собеседнику время осмыслить сказанное. — В обычном диапазоне температур он не должен терять больше двух градусов в сутки при отсутствии дополнительных внешних источников тепла. Допускаю, что в нынешних условиях потери могут составлять пять градусов в сутки. Усваиваешь?
Рой слушал его, разинув рот. Джимми продолжал:
— Меньше чем за три дня этот чертов корабль отдал пятьдесят градусов тепла.
— Быть не может!
— Факт, — Джимми невесело усмехнулся. — И я знаю, в чем дело. Все это проклятое поле. В борьбе с внешней радиацией оно спешит растратить все тепло нашего корабля.
Рой быстро произвел в уме расчет.
— Если это действительно так, через пять дней будет достигнута точка замерзания и последнюю неделю мы проведем в зимних условиях.
— Именно. Даже если с понижением температуры потери уменьшатся, градусов тридцать-сорок мороза нас ожидают.
Настроение у Роя упало.
— Мороз в двадцати миллионах миль от Солнца!
— Это еще не самое страшное, — добавил Джимми. — «Гелиос», как все корабли Марса и Венеры, не имеет отопительной системы. Они ведь рассчитаны на полет под палящим солнцем и в условиях минимальной теплоотдачи, а потому совершенствуются в охлаждении. У нас, к примеру, весьма эффективная рефрижераторная установка.
— Да, дело дрянь. И скафандры у нас соответствующие.
Хотя пока они страдали еще не от холода, а от жары, обоих прошиб озноб.
— Я не намерен этого терпеть, — взорвался Рой. — И никто нас не заставит. Я за то, чтобы сейчас же повернуть назад к Земле.
— Валяй! И ты берешься на таком расстоянии от Солнца рассчитать курс с гарантией, что оно нас не притянет?
— Черт! Я об этом не подумал.
Итак, делать было нечего. Радиосвязь прекратилась с момента, когда они покинули орбиту Меркурия. Никакие радиоволны не могли пробиться сквозь помехи, возникающие в такой близости от Солнца, да еще при его максимальной активности.
Оставалось ждать развития событий. Ближайшие несколько дней были целиком посвящены наблюдению за термометром, прерываемому только для того, чтобы обрушить на голову мистера Мак-Катчена очередную порцию бессильных проклятий. Это сделалось таким же ритуалом, как еда и сон, и так же не доставляло удовольствия.
А «Гелиос», безучастный к горестям своего экипажа, все летел.
Как Рой и предсказывал, к исходу седьмого дня их пребывания в дефлекторной зоне ртуть в термометре упала до отметки «холод». Ничего неожиданного в этом не было, и все же они почувствовали себя несчастными.
Джимми накачал из цистерны около ста галлонов воды и заполнил ею почти все сосуды на борту.
— Чтобы трубы не лопнули, — объяснил он. — А если они все же лопнут, у нас, по крайней мере, будет достаточно воды. Впереди ведь еще целая неделя.
А на следующий, восьмой, день вода действительно замерзла. Уныло глядели они на голубую корку льда. Джимми пощупал ее и мрачно констатировал:
— Крепкая.
Он натянул на себя еще одну простыню.
Отвлечься от мыслей о все усиливающемся холоде было трудно. Рой и Джимми реквизировали все имевшиеся на корабле простыни и одеяла, предварительно надев по три-четыре рубашки и столько же пар брюк.
Они старались по возможности не вылезать из постелей, а если уж приходилось, жались к топливной форсунке. Но и от этого сомнительного удовольствия вскоре пришлось отказаться: Джимми заметил, что горючее необходимо экономить, так как иначе не на чем будет растопить воду и отогреть замерзшую еду.
Оба были несдержанны и готовы из-за пустяков ссориться, но сейчас, попав в беду, они перестали бросаться друг на друга. А на десятый день, объединенные ненавистью к общему врагу, они неожиданно стали друзьями.
Температура дошла до нуля по Фаренгейту и обнаруживала явную тенденцию к дальнейшему понижению. Джимми жался в углу, с удивлением вспоминая, как ворчал некогда по поводу августовской жары в Нью-Йорке. Рой окоченевшими пальцами подсчитывал на бумаге, сколько еще осталось терпеть эту муку. С отвращением поглядев на итог — 6354 минуты, он сообщил эту цифру Джимми. Последний огрызнулся:
— Мне кажется, я и 54 минуты не выдержу, а об остальных 6300 говорить нечего. — И раздраженно прибавил: — Хоть бы ты что-нибудь придумал.
— Не будь мы в такой близости от Солнца, можно было бы с помощью хвостовых ракет ускорить ход.
— Да, а если бы мы сели на Солнце, нам было бы совсем тепло. Много от твоих предложений толку!
— Ну, ты ведь называешь себя «Тэрнер-голова». Вот ты и придумай. А то, послушать тебя, так это я во всем виноват…
— Ты и виноват, осел в человеческом облике! Здравый смысл с самого начала удерживал меня от этого дурацкого путешествия. Я сразу отказался от предложения Мак-Катчена. И был прав. И что же? — с горечью сказал он. — Нашелся такой дурак, как ты, который согласился на то, на что ни один нормальный человек не согласился бы. И мне пришлось разделить эту глупость с тобой. — Голос его достиг самых высоких нот. — Надо было предоставить тебе одному лететь и мерзнуть, а я сидел бы себе у камелька и злорадствовал. Знай я, чем это кончится, я так бы и поступил.
Лицо Роя выразило обиду и изумление.
— Да? Вот, значит, как было дело! Одно тебе скажу: в искусстве искажать факты ты способен побить любого. Ведь это именно ты был настолько глуп, что согласился лететь, а я — всего лишь жертва обстоятельства.
Джимми посмотрел на него с величайшим презрением.
— Холод отшиб у тебя последние остатки мозгов.
— Слушай, — накаляясь, ответил Рой. — 10 октября Мак-Катчен по видеофону сообщил мне, что ты дал согласие и посмеялся надо мной как над трусом. Будешь отрицать?
— Естественно, буду. 10 октября мне от Кислятины стало известно, что ты летишь и заключил пари… — Джимми вдруг растерянно умолк. — Слушай… Мак-Катчен действительно сказал тебе, что я согласился?
Потрясенный внезапной догадкой, Рой на миг перестал даже ощущать холод.
— Клянусь! Потому-то и я полетел.
— Но он сказал мне, что ты летишь, и это вынудило меня согласиться. — Джимми вдруг почувствовал себя последним дураком.
Оба надолго погрузились в молчание. Когда Рой снова заговорил, голос его дрожал от избытка переполнявших его чувств:
— Джимми, мы стали жертвами подлого, низкого обмана. — Он задыхался от ярости. — Это прямо-таки разбой среди бела дня…
Джимми, внешне более хладнокровный, был, однако, зол не меньше.
— Ты прав, Рой. Мак-Катчен подло обманул нас. Он дошел до предела человеческой низости. Но ему это так не сойдет. Когда мы переживем эти 6300 с чем-то минут, мы сведем с мистером Мак-Катченом счеты.
— Что мы с ним сделаем? — глаза Роя хищно блеснули.
— В данный момент я охотно разорвал бы его в клочья.
— Недостаточно мучительно. Может, лучше сварить его в кипящем масле?
— Неплохо, но отнимет слишком много времени. Давай лучше отдубасим его по доброму старому методу.
Рой потер руки.
— У нас еще будет время поразмыслить над этим. Вот мерзкий, подлый, грязный… — дальше пошло непечатное.
В следующие четыре дня температура продолжала падать. На четырнадцатый, последний, день ртуть в термометре замерзла.
В этот последний, ужасный день они разожгли форсунку, истратив весь свой скудный запас горючего. Полузамерзшие, они жадно стремились впитать в себя каждую каплю тепла.
За несколько дней до того Джимми разыскал где-то пару теплых наушников, и теперь они ежечасно переходили из рук в руки. Погребенные под горкой одеял Рой и Джимми беспрестанно растирали свои руки и ноги. Разговор, почти исключительно сосредоточенный на особе Мак-Катчена, становился с каждой минутой все злее.
— Вечно цитирует этот трижды проклятый девиз Межпланетной почты: «Помешать нашим космическим полетам…» — Джимми задохнулся от бессильной ярости.
— Да, — подхватил Рой. — А сам вместо того, чтобы делать мужскую работу, протирает стулья в конторе, будь он неладен!
— Ладно, через два часа мы выйдем из дефлекторной зоны. Затем еще три недели — и мы на Венере. — Джимми чихнул.
— Скорей бы! — простуженным голосом откликнулся Рой. — Ни за что больше не суну нос в космос, только последний раз — чтобы добраться домой, на Землю. А затем поселюсь где-нибудь в Центральной Америке и займусь разведением бананов. Там хоть тепло.
— Нас могут не выпустить с Венеры после расправы, которую мы учиним над Мак-Катченом.
— Ты прав. Но это не беда. На Венере еще теплее, чем в Центральной Америке, а мне ничего больше не нужно.
— Нам вообще ничто не грозит. — Джимми снова чихнул. — По венерианским законам самое большое наказание за убийство — пожизненное заключение. Нормальная, теплая, сухая камера на весь остаток жизни. Что еще нужно человеку?
Секундная стрелка хронометра делала круг за кругом: время шло. Рой держал наготове руки, выжидая мгновения, когда можно будет наконец сбросить хвостовые ракеты и позволить «Гелиосу» вырваться из этой кошмарной дефлекторной зоны.
И вот она, команда, взволнованно выкрикнутая Тэрнером:
— Пошел! Пуск!
Грохотнули ракеты. «Гелиос» пронизала дрожь. Отброшенные назад, втиснутые в свои кресла Джимми и Рой почувствовали себя счастливыми. Теперь до встречи с Солнцем, с его живительным сиянием, с благословенной жарой оставались минуты.
Это произошло даже быстрее, чем они ожидали: яркая вспышка света, а затем короткий треск, щелчок — и обращенные к Солнцу иллюминаторы закрылись.
— Гляди! — воскликнул Рой. — Звезды! Конец всем мучениям! Ну, старина, будем подниматься опять, — восторженно сообщил он термометру и поплотнее завернулся в одеяла, так как на корабле еще царил холод.
Фрэнк Мак-Катчен сидел у себя в венерианском отделении Межпланетного почтового ведомства вместе с седовласым Зебулоном Смитом, изобретателем дефлекторного поля. Говорил один Смит:
— Но право же, мистер Мак-Катчен, мне очень важно знать, как вело себя мое поле. Они ведь уже, конечно, информировали вас обо всем по радио.
Мак-Катчен в глубокой задумчивости раскурил одну из своих знаменитых сигар.
— То-то и оно, что нет, дорогой мой мистер Смит, — сказал он. — Как только они достаточно удалились от Солнца, чтобы радиосвязь с ними стала возможна, я начал запрашивать их о действии поля. Они попросту не отвечают. Единственное, что они сообщили, — выбрались из него живьем. А больше ничего!
Зебулон Смит разочарованно вздохнул.
— Не странно ли? Нет ли здесь некоторого, я бы сказал, нарушения субординации? Я полагал, им приказано подробно отразить в отчетах все, касающееся нового маршрута.
— Так и есть. Но эти двое — мои лучшие пилоты, асы из асов. И оба они с характерами. Ничего не поделаешь. К тому же я обманом вовлек их в эту затею, весьма, как вы знаете, рискованную. И теперь я склонен проявить снисходительность.
— Ну что ж, придется мне, видно, подождать.
— О, недолго, — заверил Мак-Катчен. — Они прилетают сегодня, и я обещаю передать вам всю информацию, как только они мне ее доставят. В сущности, то, что они благополучно провели две недели в двадцати миллионах миль от Солнца, само по себе доказывает успех вашего изобретения. Вы должны быть довольны.
Едва Смит ушел, как секретарша Мак-Катчена встревоженно доложила:
— С пилотами «Гелиоса» что-то неладно, мистер Мак-Катчен. Майор Вэйд только что передал из Паллас-сити, где они сели, что они отказались присутствовать на организованном в их честь торжестве и потребовали немедленно дать им ракету для полета сюда, ничего при этом майору не объяснив. А когда он попытался задержать их, они сделались весьма агрессивны.
Мак-Катчен лишь мельком взглянул на составленную секретаршей докладную.
— Гм! Они чертовски несдержанны. Ладно, как только явятся — пошлите их ко мне. Я вышибу из них дурь!
Часа через три двое непокорных пилотов сами напомнили ему о себе. Он услышал доносившиеся из приемной низкие сердитые голоса, затем возмущенные протесты секретарши — и тут же дверь распахнулась: в кабинет ворвались Джимм Тэрнер и Рой Снид. Последний решительно закрыл дверь и прислонился к ней спиной.
— Не пускай никого, пока я не кончу, — сказал ему Джимми.
— Будь спокоен, сюда никто не войдет, — мрачно пообещал Рой. — Но не забудь оставить что-нибудь и для меня.
Мак-Катчен не подавал голоса, пока не увидел, как Тэрнер засучивает рукава. Тут он решил, что пора кончать комедию.
— Привет, ребята, — произнес он с совершенно не свойственной ему сердечностью. — Рад снова видеть вас. Садитесь.
Джимми проигнорировал предложение.
— Не хотите ли сказать еще что-нибудь, прежде чем я приступлю к делу? — Он резко скрипнул зубами.
— Ну, раз на то пошло, я хотел бы спросить, что это все значит. Может быть, дефлектор оказался слаб и вам пришлось в дороге попотеть?
Рой громко засопел, а Джимми окинул Мак-Катчена холодным взглядом и спросил:
— Прежде всего, что это вам вздумалось так подло морочить нас?
Брови Мак-Катчена удивленно поползли кверху.
— Вы имеете в виду мою маленькую ложь? Господи, какие пустяки! Обычный деловой прием. Я ежедневно делаю куда худшие вещи, и люди считают это нормой. Да и что вы на этом потеряли?
— Расскажи ему о нашем «увеселительном рейсе», Джимми, — потребовал Рой.
— Именно это я и собираюсь сделать. — И Джимми, придав своему лицу страдальческое выражение, повернулся к Мак-Катчену. — Сначала мы мучились из-за адской жары — она дошла до 150 градусов, но тут мы не в претензии: мы знали, чего ждать на полпути между Меркурием и Солнцем. Непредвиденное ожидало нас в зоне действия этого вашего поля. Теплоотдача происходила не по градусу в сутки, как нам говорили в летном училище. — Он дал себе передышку, чтобы вставить несколько только что пришедших ему в голову бранных слов, после чего продолжал: — За три дня температура снизилась на 50 градусов, за неделю дошла до точки замерзания, а следующую неделю — долгих семь дней — мы погибали от холода. В последний день ртуть в термометре замерзла!
У него от гнева сорвался голос. Рой в приступе жалости к самому себе чуть не всхлипнул. Мак-Катчен оставался невозмутим.
— Мороз все крепчал, — снова заговорил Джимми, — а у нас не было ни отопления, ни даже теплой одежды. Нам приходилось растапливать воду и пищу. Мы совершенно закоченели, мы не в силах были пошевельнуться. Это был, говорю я вам, сущий ад, только в перевернутом виде. — Он замолчал: ему не хватало слов.
Теперь начал высказываться Рой:
— В двадцати миллионах миль от Солнца я отморозил уши. Повторяю: отморозил! — Он угрожающе потряс кулаком под носом у Мак-Катчена. — А все из-за вас. Вы нас в это втравили! Замерзая, мы поклялись, что вы свое получите, и мы сдержим клятву! Давай, Джимми, начинай! Мы и так потеряли достаточно времени.
— Погодите, ребята, — заговорил наконец Мак-Катчен. — Я хочу понять. Значит, поле так здорово действует? Оно не только не пропускает радиации извне, но и поглощает имеющееся тепло?
Джимми только утвердительно что-то промычал.
— И из-за этого вы целую неделю мерзли?
Мычание повторилось.
И тут произошло нечто в высшей степени странное, прямо-таки невероятное: Мак-Катчен, «Старая Кислятина», человек, «лишенный мускулов смеха», улыбнулся. Да, он показал в улыбке зубы! Больше того, он улыбался все шире и шире, а затем у него вырвался скрипучий смешок. Хотя вначале дело с непривычки шло туго, но понемногу смешки стали звучать все громче, пока не перешли наконец в полноценный смех, а тот — уже в рев. Мак-Катчен один раз в жизни вознаграждал себя за свою вечную кислую угрюмость.
Тряслись стены, дребезжали оконные стекла, а гомерический хохот все не утихал. Рой и Джимми стояли, разинув рты. Изумленный бухгалтер в отчаянном приступе храбрости сунулся в кабинет — да так и застыл. Другие сотрудники столпились за дверью и благоговейным шепотом обсуждали небывалое событие. Мак-Катчен смеялся!
Генеральный директор долго не мог успокоиться. Но наконец хохот его, завершившись финальным пароксизмом мелких смешков, умолк, и багровое от непривычного напряжения лицо обратилось к асам Межпланетной почты, чей гнев давно уже сменился изумлением.
— Ребята, — Мак-Катчен все еще ухмылялся, словно заводная игрушка, — это лучшая в моей жизни шутка. Вы получите по два оклада каждый. — После смеха у него началась икота.
Асов его щедрость не тронула. Джимми сердито спросил:
— Что вас так рассмешило? Лично я не вижу причин для смеха.
— Послушайте, ребята, перед моим вылетом на Венеру я дал каждому из вас несколько листков с отпечатанными инструкциями. Что вы с ними сделали?
Возникло короткое замешательство.
— Не знаю, — буркнул Рой. — Я свои куда-то сунул.
— А я в свои не заглянул, просто забыл о них. — Джимми почувствовал себя неловко.
— Видите! — торжествовал Мак-Катчен. — Вы пострадали из-за собственной глупости.
— Как это? — удивился Джимми. — Майор Вэйд сообщил нам все необходимое о корабле. К тому же от вас мы едва ли можем узнать что-нибудь новое в этой области.
— Вы уверены? Вэйд, совершенно очевидно, забыл одну мелочь, содержавшуюся в моих инструкциях. Интенсивность дефлекторного поля регулируется. Перед вашим стартом установили максимальную интенсивность, вот и все. — Его снова стал разбирать смех. — Возьми вы на себя труд прочитать эти листки, вы знали бы, что простой поворот рычажка, — он жестом изобразил это, — может ослабить действие поля до желаемого уровня и пропустить столько радиации, сколько вам нужно. — Смешки стали громче. — Целую неделю вы мерзли, потому что у вас не хватило ума повернуть рычаг. И после этого вы, пилоты-асы, являетесь ко мне с претензиями. Ну и смех! — Когда он справился с новым приступом хохота, асов в кабинете уже не было.
Внизу, на аллее, мальчик лет десяти с величайшим интересом и удивлением наблюдал, как двое взрослых людей, забыв, что они взрослые, наскакивают друг на друга, не соблюдая никаких правил, а просто колошматя и лягаясь.
Открытие Уолтера Силса
Уолтер Силс не впервые размышлял о том, что жизнь сурова и безрадостна. Он окинул взглядом свою жалкую лабораторию и зло усмехнулся: торчать в этой грязной дыре, перебиваться случайными анализами руды, едва окупающими самое необходимое химическое оборудование, когда другие, может быть, и вполовину его не стоящие, работают в крупных индустриальных концернах и горя не знают.
Он посмотрел в окно на багровеющий в пламени заката Гудзон и мрачно подумал, что неизвестно еще, принесут ли ему эти последние опыты наконец славу и состояние, к которым он так стремился, или все снова лопнет, как мыльный пузырь.
Незапертая дверь скрипнула, открывая взору веселое лицо Юджина Р. Тэйлора. Силс приглашающе махнул рукой, и в лаборатории вслед за головой возник весь Тэйлор.
— Привет, старый пьянчуга! — Это прозвучало громко и беззаботно. — Как дела?
Силс неодобрительно покачал головой.
— Завидую твоему легкому взгляду на жизнь, Джин. Дела, да будет тебе известно, плохи. Мне нужны деньги, а денег нет.
— Ну, а у меня разве есть деньги? — рассмеялся Тэйлор.
— Но стоит ли из-за этого огорчаться? Тебе пятьдесят, и ничего, кроме плеши, огорчения тебе не принесли. Мне тридцать, и я хочу сохранить свои прекрасные каштановые волосы.
Силс растянул в улыбке рот.
— И все-таки деньги у меня будут, Джин. Потерпи, увидишь.
— Твои новые идеи оправдываются?
— Оправдываются? А ты ведь не все еще знаешь? Ладно, иди сюда, я покажу тебе, какого достиг прогресса.
Тэйлор подошел следом за Силсом к столику, на котором стояла подставка с пробирками и в одной из пробирок просвечивало металлическим блеском с полдюйма какого-то вещества.
— Сплав натрия с ртутью, или, как ее называют, амальгама натрия, пояснил Силс. Он взял пузырек с надписью «Раствор хлористого аммония» и налил немного в пробирку. Амальгама натрия моментально стала рассыпаться в рыхлую, губчатую массу. — Это, — продолжал Силс, — амальгама аммония. Радикал аммония (NH4) реагирует здесь, как металл, образуя соединение с ртутью. — Он подождал конца реакции и вылил скопившуюся в пробирке жидкость, сообщив Тэйлору: — Амальгама аммония — очень нестойкое соединение, поэтому действовать надо быстро. — Он схватил колбу со светло-желтым, приятно пахнувшим раствором и наполнил пробирку.
Под действием встряхивания амальгама аммония исчезла; по дну пробирки каталась теперь лишь капля жидкого металла.
Тэйлор уставился на нее, раскрыв рот.
— Что здесь произошло?
— Эта желтая жидкость — сложное производное гидразина, мною открытое и названное аммоналином. Формулу я еще не вывел, но это неважно. Суть в том, что аммоналин обладает свойством выделять аммоний из амальгамы. Теперь на дне пробирки осталась чистая ртуть; аммоний перешел в раствор.
Безучастность Тэйлора привела Силса в возбуждение.
— Неужели тебе непонятно? Я на полпути к получению аммония в чистом виде, что до сих пор считалось невозможным! Решение такой задачи означает славу, признание, Нобелевскую премию и, может быть, многое другое.
— Вот это да! — Взгляд Тэйлора стал почтительнее. — Не думал, что эта желтая штука так важна. — Он потянулся к пробирке, но Силс остановил его.
— Я еще отнюдь не кончил, Джин. Я должен получить его в виде свободного металла, а это пока не выходит. Каждый раз, когда я пытаюсь выпарить аммоналин, аммоний неизменно разлагается на аммиак и водород… Но я его получу, я его получу!
Две недели спустя Тэйлор был срочно вызван в лабораторию и примчался, предвкушая важные новости.
— Ты его получил?
— Получил, и это еще значительнее, чем в думал! Дело сулит миллионы! Глаза Силса лучились экстазом. — До сих пор я решал задачу не с того конца. Я подогревал раствор, и аммоний разлагался. Теперь я применил охлаждение. Получилось, как с обыкновенным рассолом, который при медленном замораживании дает пресный лед, а соль выкристаллизовывается. К счастью, температура замерзания аммоналина 18 градусов по Цельсию, так что сильного охлаждения не требуется.
Театральным жестом он указал на стоявшую в стеклянном контейнере мензурку с блеклыми иглообразными кристаллами, покрытыми тонкой тускло-желтой пленкой.
— А контейнер зачем? — спросил Тэйлор.
— Пришлось наполнить его аргоном, чтобы аммоний — вот это желтое вещество поверх кристаллов аммоналина — сохранился в свободном виде. Он так активен, что реагирует с чем угодно, кроме инертных газов.
Тэйлор восторженно похлопал своего самодовольно улыбавшегося друга по спине.
— Погоди, Джин, ты еще не видел главного.
Силс повлек друга в дальний конец комнаты и дрожащим пальцем указал на другой контейнер, в котором лежал брусок желтого металла, блестящий, сверкающий, искрящийся.
— Это, друг мой, окись аммония (NH4O2), полученная из свободного металлического аммония с помощью абсолютно сухого воздуха. Она совершенно инертна. Этот запаянный контейнер, в частности, содержит некоторое количество хлора, а реакции не происходит. Стоить окись будет не больше, чем алюминий, пожалуй, даже меньше, а по виду она богаче настоящего золота. Представляешь, какие здесь таятся возможности?
— Еще бы! — воскликнул Тэйлор. — Ты завоюешь всю страну. Ты сможешь создать аммониевые украшения, и аммониевую посуду, и миллион других вещей. А кто знает, сколько применений это найдет в промышленности? Ты разбогател, Уолт, ты разбогател!
— Мы разбогатели, — мягко поправил Силс, идя к телефону. — Надо сообщить в газеты. Я хочу сразу начать делать деньги.
Тэйлор нахмурился.
— Может, лучше держать это пока в тайне, Уолт.
— О, я не стану делиться с ними секретами производства. Я скажу лишь в общих чертах о самой идее. К тому же мы в безопасности: заявка на патент уже находится в Вашингтоне.
Силс ошибался! Ближайшие два дня оказались для обоих друзей весьма опасными.
Дж. Тсрогмортон Бэнкхед[11] был из числа так называемых «королей индустрии». Как глава «Экми хромиум» и «Силвер плэйтинг корпорэйшн», он, без сомнения, заслужил этот титул, но для своей покорной, многострадальной жены он всегда был просто желчным, всем недовольным супругом, особенно за завтраком, а сейчас он завтракал.
Сердито шурша газетой, он надкусил бутерброд и прошипел:
— Этот человек управляет страной! — Он с отвращением ткнул пальцем в жирный, крупный заголовок. — Я говорил раньше и скажу снова, что он спятил. Он не угомонится…
— Джозеф, прошу тебя, — взмолилась жена, — ты побагровел. Вспомни о своем давлении. Ты знаешь, доктор не велел тебе читать известия из Вашингтона, если они так тебя нервируют. Послушай, дорогой, что я скажу тебе о нашей кухарке. Она…
— Доктор дурак, и ты не лучше! — прорычал Дж. Тсрогмортон Бэнкхед. — Я буду читать все, что мне угодно, и багроветь, когда мне угодно. — Он поднес к губам чашку и, заранее морщась, отхлебнул кофе. Тут в глаза ему бросилась заметка внизу страницы: «Ученый открывает суррогат золота». Чашка повисла в воздухе, взгляд быстро забегал по строчкам: «…Новый металл, заявляет ученый, намного превзойдет хром, никель и серебро как материал для дешевых и прекрасных ювелирных изделий. «Клерк, получающий 20 долларов в неделю, — сказал профессор Силс, — будет есть с аммониевой тарелки, выглядящей дороже золотого блюда индийского набоба». Не существует…»
Но Дж. Тсрогмортон Бэнкхед не читал дальше. Перед его глазами заплясали руины «Экми хромиум» и «Силвер плэйтинг корпорэйшн», и от этого кошмарного видения чашка запрыгала в его руке, на брюки выплеснулся горячий кофе.
Жена в тревоге вскочила.
— Что случилось? Что случилось, Джозеф?
— Ничего! — гаркнул Бэнкхед. — Ничего. Ради бога, отвяжись!
Разъяренный, он выбежал из комнаты, предоставив жене самой отыскивать в газете, что могло так его взволновать.
В баре «У Боба» на Пятнадцатой улице обычно в любой час полно народу, но в утро, о котором идет речь, здесь было всего четверо-пятеро плохо одетых мужчин, теснившихся вокруг дородного и важного Питера Кв. Хорнсвогла, бывшего конгрессмена.
Питер Кв. Хорнсвогл, по обыкновению, ораторствовал. И тема, опять-таки по обыкновению, была связана с его деятельностью в конгрессе.
— Помню, аналогичный случай имел место в конгрессе, когда я выступил против этого аргумента со следующим возражением: «Достопочтенный джентльмен из Невады в своем заявлении упускает из виду один весьма важный аспект проблемы. Он не учитывает, что в интересах всех американцев срочно заняться машинками для снимания кожицы с яблок, так как, джентльмены, эти машинки определяют будущее плодоводства в целом, а плодоводство, в свою очередь, является основой всей экономики великого и славного народа Соединенных Штатов Америки». — Сделав паузу, он одним глотком отхлебнул полпинты пива и торжествующе улыбнулся. — Не побоюсь сказать, джентльмены, что палата представителей бурей оваций ответила на мою речь.
Один из слушателей восхищенно покачал головой.
— Надо же так здорово трепать языком! Вы настоящий сенатор!
— Да, — поддержал бармен. — Просто стыд, что на последних выборах вас провалили.
Экс-конгрессмен передернулся и с большой важностью начал:
— Мне известно из достоверных источников, что в этой избирательной кампании подкуп достиг беспрецедентн… — Он внезапно умолк, задержав взгляд на газетной заметке в руках одного из своих слушателей. Он вырвал у того газету и в полной тишине прочитал сообщение. Когда он снова обратился к аудитории, глаза его горели. — Я должен покинуть вас, друзья мои. Срочное дело призывает меня в муниципалитет. — Он перегнулся через стойку к бармену и понизил голос до шепота: — У вас не найдется 25 центов? Я обнаружил, что по забывчивости оставил свой бумажник у мэра. Деньги я вам, конечно, верну завтра же.
Сжимая отданный ему неохотно четвертак, Питер Кв. Хорнсвогл покинул бар.
В маленькой, темной комнатушке где-то в нижнем конце Первой авеню Майкл Мэгер, больше известный полиции под выразительной кличкой Майк-Стрелок, чистил свой надежный револьвер и бубнил лишенную мелодии песню. Дверь скрипнула, и Майк обернулся.
— Это ты, Слэппи?
— Да. — В комнату боком протиснулся сморщенный человечек.
— Я принес тебе вечернюю газету. Копы все еще думают, что та кража — дело Брэгони.
— Да? Ну и хорошо. — Он снова склонился над своим револьвером. — Что еще новенького?
— Какая-то тетка, рехнувшись, покончила с собой. А больше ничего. — Он бросил Майку газету и вышел из комнаты.
Майк откинулся назад и лениво полистал газету. Один заголовок показался ему любопытным, и он прочел короткую заметку. Кончив читать, он отшвырнул газету, закурил и погрузился в раздумье. Потом встал, отворил дверь.
— Эй, Слэппи, поди сюда! Дело есть.
Уолтер Силс был пьян от счастья. Гордый, как индюк, он важно расхаживал по лаборатории, упиваясь только что обретенной славой. Юджин Тэйлор, и сам не менее счастливый, сидя наблюдал за ним.
— Как ты себя чувствуешь, став знаменитым?
— Как миллион долларов; именно за такую цену я продам секрет металлического аммония. Отныне я буду пожинать плоды.
— Предоставь практическую сторону мне, Уолт. Я сегодня же свяжусь со Стэйплзом из «Игл-стил». Он хорошо тебе заплатит.
В дверь позвонили, и Силс кинулся открывать.
— Уолтер Силс здесь живет? — Посетитель был крупным мужчиной с надменным лицом и злыми глазами.
— Я Силс. Вы ко мне?
— Да, меня зовут Дж. Тсрогмортон Бэнкхед. Я представляю «Экми хромиум» и «Силвер плэйтинг корпорэйшн». У меня к вам небольшое дельце.
— Прошу, прошу! Это Юджин Тэйлор, мой компаньон. Вы можете говорить при нем.
— Отлично. — Бэнкхед тяжело опустился на стул. — Думаю, вы догадываетесь о причине моего визита.
— Наверно, вы прочли в газете о металлическом аммонии.
— Вот именно. Я пришел поглядеть, существует ли это открытие в действительности, и, если да, купить его.
— Можете убедиться сами, сэр. — Силс подвел магната к контейнеру, наполненному аргоном и содержавшему несколько граммов аммония. — Это металл. А вот здесь, справа, у меня окись, которая, как ни странно, оказалась более металлической, чем сам металл. Ее-то газеты и назвали «суррогатом золота».
Тревога, охватившая Бэнкхеда при виде этой окиси, никак не отразилась на его лице.
— Дайте-ка ее сюда, — сказал он.
— Не могу, мистер Бэнкхед, — покачал головой Силс. — Это первые в мире образцы аммония и его окиси. Они пойдут в музей. Если угодно, я без труда сделаю для вас такие же.
— Вам придется это сделать, если вы рассчитываете на мои деньги. Вы даете мне доказательства, и я покупаю ваш патент за… ну, ладно, за тысячу долларов.
— За тысячу! — в один голос вскричали Силс и Тэйлор.
— Очень приличная цена, джентльмены.
— Миллион — вот приличная цена! — возмутился Тэйлор. — Это открытие золотая жила.
— Ну уж и миллион! Вы грезите, джентльмены. Дело в том, что моя компания уже несколько лет разрабатывает получение аммония, и сейчас мы на самом пороге открытия. К сожалению, вы на какую-нибудь неделю опередили нас, и я, чтобы избавить мою компанию от лишних хлопот, готов купить у вас патент. Но вы, конечно, понимаете, что в случае отказа мы продолжим работу и собственным способом получим металл.
— Если вы это сделаете, мы подадим в суд, — сказал Тэйлор.
— Деньги на долгую и дорогую судебную тяжбу у вас есть? — Бэнкхед подленько усмехнулся. — У меня, знаете ли, они есть. Но, чтобы доказать, что я не мелочен, я дам вам две тысячи.
— Вы слышали нашу цену, — холодно ответил Тэйлор.
— Моя цена окончательная, джентльмены. — Бэнкхед собрался уходить. Уверен, что, поразмыслив, вы примете мое предложение.
Открыв дверь, Бэнкхед обнаружил внушительную фигуру, жадно приникшую к замочной скважине, и соответственно проехался по ее адресу. Растерявшийся конгрессмен вскочил на ноги и, не придумав ничего лучшего, стал торопливо кланяться. Финансист с презрительным смешком удалился, а Питер Кв. Хорнсвогл вошел, захлопнул за собой дверь и предстал перед ошеломленными Силсом и Тэйлором.
— Этот человек, дорогие сэры, богатый злодей, экономический роялист. Такие предатели губят нашу страну. Вы совершенно правильно отклонили его предложение. — Он приложил руку к своей необъятной груди и благосклонно улыбнулся.
— Кто вы такой, черт возьми? — очнувшись от своего столбняка, раздраженно спросил Тэйлор.
— Я? — удивился Хорнсвогл. — Э-э… но я ведь Питер Квинтус Хорнсвогл. Вы должны меня знать. Я был в прошлом году членом палаты представителей.
— Понятия о вас не имею. Что вам нужно?
— Господи! Я прочел о вашем замечательном открытии и пришел предложить вам свои услуги.
— Какие услуги?
— Ну, вы наверняка люди неопытные. С вашим новым открытием у вас отбоя не будет от всяких проходимцев, как этот Бэнкхед, например. Вам совершенно необходим практический, знающий жизнь человек вроде меня. Я мог бы взять на себя все деловые вопросы, разные там детали, позаботиться о…
— Даром, конечно, а? — язвительно осведомился Тэйлор. Хорнсвогл судорожно глотнул.
— Ну, естественно, я думал, мне должна причитаться некоторая доля прибыли от вашего открытия.
Силс, до сих пор не проронивший ни слова, резко вскочил.
— Вон отсюда! Вы слышали? Вон, пока я не вызвал полицию!
— Ну-ну, профессор Силс, умоляю, не волнуйтесь. — Хорнсвогл попятился к двери, которую широко распахнул Тэйлор, и вышел, ругнувшись про себя, когда дверь захлопнулась перед его носом.
Силс в изнеможении опустился на стул.
— Что нам делать, Джин? Он дает всего две тысячи. Неделю назад я и мечтать не смел о такой сумме, но теперь…
— Чепуха! Он брал нас на пушку. Слушай, я немедленно свяжусь со Стэйплзом. Мы сторгуемся с ним, выручим, сколько удастся, а если потом возникнут осложнения с Бэнкхедом… ну, это уже забота Стэйплза. — Он потрепал друга по плечу. — Наши волнения практически кончились.
К сожалению, он ошибся. Их волнения только начинались.
Невзрачного вида субъект, вперив в этот дом глаза-бусинки и подняв воротник, стоял на другой стороне улицы. Внимательный полисмен опознал бы в субъекте Слэппи Игэна, но внимательного полисмена поблизости не оказалось.
— Чудо! — пробормотал Слэппи. — Дело верняк. Нижний этаж, окно легко отжать фомкой. Сигнализации нет, никаких таких глупостей. — Хмыкнув, он отправился восвояси.
Идеи имелись не у одного Слэппи. Питер Кв. Хорнсвогл тоже вынашивал в своей массивной черепной коробке странные планы — планы, требовавшие нелегальных средств.
Не бездействовал и Дж. Тсрогмортон Бэнкхед. Человек энергичный, как говорится, «предприимчивый» и вовсе не отягощенный совестью, которая мешала бы «предпринимать», он менее всего, конечно, был склонен платить миллион долларов за секрет аммония, а потому решил навестить определенного рода знакомого.
Это знакомство было весьма полезным, но при всем том довольно сомнительным, и Бэнкхед почел за лучшее обставить свой визит с максимальной осторожностью. Впрочем, беседа закончилась к полному удовольствию обеих сторон.
Рывком пробудившись от беспокойного сна, Уолтер Силс некоторое время напряженно прислушивался, а затем поднялся и толкнул Тэйлора. Ответом ему было невнятное мычание.
— Джин, проснись! Ну же, вставай!
— Э? Что там такое? Зачем ты меня…
— Молчи! Слушай… слышишь?
— Ничего я не слышу! Ну что ты пристал?
Силс жестом призвал его к молчанию. Снизу, из лаборатории отчетливо доносились какие-то шорохи.
Глаза Тэйлора расширились, сон окончательно слетел с него.
— Воры! — прошептал он.
Друзья потихоньку вылезли из постелей, надели халаты и в шлепанцах тихонько потопали к двери, Тэйлор с револьвером в руке возглавлял шествие. Они спустились примерно до середины лестницы, когда внизу раздался испуганный возглас, а затем началась непонятная возня. Послышался треск бьющегося стекла.
— Мой аммоний! — отчаянно заорал Силс и, оттолкнув Тэйлора, ринулся вниз.
На шаг опередив своего чертыхавшегося друга, химик ворвался в лабораторию и щелкнул выключателем. Две фигуры на полу прекратили схватку и заморгали, ослепленные ярким светом. Тэйлор взял их на мушку.
— Скверная история, — сказал он.
Один из драчунов кое-как поднялся и, бережно пестуя порезанную руку, умудрился все же с достоинством изогнуть в поклоне свое грузное тело. Это был Питер Кв. Хорнсвогл.
— Без сомнения, обстоятельства кажутся подозрительными, — сказал он, нервно поглядывая на неподвижное дуло револьвера. — Но я очень легко все объясню. Видите ли, несмотря на оказанный мне здесь грубый прием, я сохранил дружеские чувства к вам обоим. Поэтому, будучи человеком опытным и зная всю низость людской натуры, я решил присмотреть сегодня за вашим домом, так как заметил, что вы не позаботились о мерах предосторожности. Представьте мое удивление, когда я увидел, как к вам в окно забирается этот мерзавец. — Он указал на все еще сидевшего на полу уголовника с приплюснутым носом. — Не раздумывая, я рискнул жизнью ради спасения вашего великого открытия. Право, я заслуживаю награды. Не сомневаюсь, вы поймете теперь, что я для вас неоценим, и пересмотрите свое решение.
Тэйлор с откровенной насмешкой выслушал его.
— Ох, и здоровы же вы врать! — Он, конечно, на этом не остановился бы, но тут подал голос второй грабитель:
— Брехня, хозяин! Этот жирный слюнтяй на меня наговаривает, Я только выполнял приказ, хозяин. Один субчик нанял меня взломать сейф. Я хотел только честно подработать немного. Только взломать сейф, хозяин. Я никому не хотел причинить вреда. Но когда я собрался приступить к работе — ну, можно сказать, разминку делал, — я увидел вдруг, что сюда лезет со своей стамеской это чучело. Влез — и сразу к сейфу. Ну, конкурентов я, понятно, не люблю. Бросаюсь я, значит, на него, в тут…
Но Хорнсвогл с ледяным высокомерием перебил его:
— Интересно, поверят ли слову гангстера больше, нежели слову человека, который, смело могу сказать, являлся в свое время одним из известнейших членов велик…
— Уймитесь вы оба! — прикрикнул на них Тэйлор, угрожающе размахивая револьвером. — Я сейчас вызову полицию, и вы сможете морочить ее своими баснями. Как, Уолтер, все в порядке?
— Как будто. — Силс закончил осмотр лаборатории. — Они побили только пустую посуду. Все остальное на месте.
— И то ладно… — начал Тэйлор и осекся.
На пороге возник некто в надвинутой на глаза шляпе. Его умело нацеленный револьвер вмиг изменил ситуацию.
— Бросай оружие! — приказал он Тэйлору.
Тот нехотя разжал пальцы. Вошедший сардоническим взглядом окинул всех четверых.
— Итак, налицо двое соперников. Популярное здесь местечко!
Тэйлор и Силс тупо уставились на него. Хорнсвогл громко застучал зубами. Первый налетчик пробормотал:
— Господи помилуй, да это же Майк-Стрелок!
— Да! — отрывисто бросил Майк. — Майк-Стрелок. Многие знают меня и знают, что я не боюсь спустить курок, когда мне захочется. Эй плешивый, выкладывай, что там у тебя есть. Ты знаешь — бумаги о фальшивом золоте. Ну! Считаю до пяти.
Силс медленно направился в угол, к старому сейфу. Майк сделал шаг назад, чтобы пропустить его, и неосторожно задел руками полку. Скляночка с раствором сульфата натрия зашаталась. Осененный внезапной идеей, Силс крикнул.
— Господи! Осторожней… нитроглицерин!
Склянка, грохнувшись об пол, со звоном разлетелась. Майк невольно заорал и подскочил. Тэйлор тут же сделал ему подножку, а Силс быстро поднял оружие Тэйлора, чтобы взять под прицел двух других. Но в этом уже не было надобности: оба, воспользовавшись суматохой, успели скрыться.
Тэйлор и Майк, схватившись, катались по полу. Силс отчаянно прыгал вокруг, выжидая удобного момента привести револьвер в соприкосновение с гангстерским черепом.
Такого случая не представилось. Майк изловчился, нанес Тэйлору удар в подбородок и кинулся бежать. Силс выстрелил, но не попал. Преследовать Майка он не пытался.
Струей холодной воды приведя Тэйлора в чувство, он простонал:
— Что нам делать, Джин? Теперь уже и наша жизнь в опасности. Никогда не думал о возможности воровства. И зачем я только связался с газетами!
— Что теперь об этом говорить! Сейчас нам прежде всего надо выспаться. Этой ночью они больше не вернутся. А утром ты отправишься в банк и сдашь бумаги на хранение, что давно следовало сделать. В три часа здесь будет Стэйплз, после чего мы сможем наконец жить спокойно.
Химик меланхолично покачал головой.
— От этого аммония одно беспокойства. Я почти жалею, что открыл его. Лучше бы я и дальше занимался анализами руды…
Он не изменил своего мнения и утром, когда катил в своем стареньком драндулете к банку. Даже привычное, убаюкивающее тарахтенье мотора не согревало душу Силса. Мирное, монотонное существование сменилось бедламом.
— Богатство, как и бедность, имеет свои проблемы, — сентенциозно сказал себе Силс, затормозив у двухэтажного, отделанного мрамором банка. Он осторожно выбрался из машины, размял затекшие ноги и устремился к вертящейся двери.
Но он не дошел до нее. Два не лучших образчика человеческой породы, как из-под земли, выросли у него по бокам, и в ребро ему больно уткнулось что-то твердое. Он открыл было рот, но ледяной голос строго предупредил:
— Тихо, плешивый, не то схватишь, что заслужил за свою вчерашнюю дьявольскую шутку со мной!
Силс вздрогнул и стих — он узнал голос Майка-Стрелка.
— Где расчеты? — спросил Майк. — А ну, живо!
— Во внутреннем кармане, — хрипло выдавил Силс.
Компаньон Майка проворно извлек из указанного кармана три-четыре листка.
— Они, Майк?
Беглый взгляд, кивок.
— Они! Порядок! Ступай, плешивый! — Резкий толчок — и гангстеры, вскочив в свою машину, скрылись, а химик беспомощно растянулся на тротуаре.
Чьи-то добрые руки помогли ему встать.
— Ничего… — произнес он с усилием. — Я просто споткнулся, вот и все. Я не ушибся.
Он доковылял до банка и почти упал на ближайшую скамью. Определенно, он не был создан для такой жизни!
Впрочем, он был готов к случившемуся. Тэйлор предвидел нечто подобное. Да и он, Силс, заметил ведь, что за ним неотрывно следует какая-то машина. И все же в последний момент он так растерялся, что едва не погубил все дело.
Он передернул узкими плечами, снял шляпу и вытащил спрятанные за лентой бумаги. Скрыть их за стальной дверью хранилища было делом пяти минут. Силс с облегчением перевел дух.
— Интересно, — пробормотал он, — что у них выйдет, когда они попытаются воспользоваться похищенными инструкциями. — Он скривил губы. — Вот будет взрыв!
По возвращении к себе Силс обнаружил, что перед домом фланируют трое полисменов. Тэйлор лаконично объяснил:
— Охрана. Во избежание повторения вчерашнего.
Химик рассказал о своем приключении. Тэйлор хмуро кивнул.
— Ну, теперь все! Через два часа явится Стэйплз, а пока нас постережет полиция.
— Слушай. Джин, — сказал вдруг химик. — Меня тревожит аммоний. Я не проверил его способности к гальванопластике, а это ведь главное. Что, как мы при Стэйплзе оскандалимся?
— Гм-м… — Тэйлор поскреб подбородок. — Тут ты прав. Но вот что мы сделаем. Давай до его прихода проведем для собственного спокойствия опыт… ну, хотя бы на ложке.
— Безобразие! — пожаловался Силс. — Эти назойливые хулиганы вынуждают действовать наспех, пользоваться некорректными, ненаучными приемами.
— Ладно, сначала мы пообедаем.
Поев, они взялись за дело. С лихорадочной быстротой была собрана установка. Куб с ребром в один фут заполнили насыщенным раствором аммоналина. Катодом служила старая стертая ложка, анодом — масса амальгамы аммония, отделенная от остального раствора перфорированной стеклянной перегородкой. В качестве источника тока использовали комплект батарей.
Силс оживленно объяснял:
— Принцип тот же, что при покрытии медью. Ион аммония, получив заряд электричества, устремится к катоду, то есть к ложке. В обычных условиях аммоний разложился бы, но здесь он растворен в аммоналине. Аммоналин, и сам слегка ионизированный, отдаст кислород аноду… Это теоретически. Теперь проверим на практике.
Он замкнул цепь. Тэйлор затаил дыхание. В первый момент эффекта как будто не было, и лицо Тэйлора выразило разочарование. Но затем Силс схватил друга за рукав.
— Гляди! — произнес он свистящим шепотом. — Гляди на анод!
И верно, на рыхлой поверхности амальгамы аммония медленно проступали пузырьки газа. Друзья переключили внимание на ложку. Постепенно ее металлическое покрытие стало тускнеть, серебристо-белый оттенок начал сменяться матово-желтым. Через пятнадцать минут Силс, удовлетворенно вздохнув, выключил ток.
— Нормально!
— Замечательно! Вынь ее! Я хочу поглядеть!
— Как это «вынь»? — ужаснулся Силс. — Это ведь чистый аммоний. На воздухе водяные пары мгновенно образуют из него NH4OH. Нет, мы сделаем иначе. — Он подтащил к столу какой-то громоздкий аппарат. — Это компрессор. Я пропускаю воздух через хлористый кальций, а затем ввожу прямо в раствор совершенно сухой кислород (в четырехкратном объеме азота, естественно).
Он вставил носик аппарата в сосуд, прямо под ложку, и медленно пропустил струю воздуха. Действие было поистине магическим. В один миг желтое покрытие засверкало, заблестело, заискрилось, поражая необычайной красотой.
Как зачарованные, смотрели друзья на это чудо. Силс завернул кран, и некоторое время оба молчали. Потом Тэйлор хриплым шепотом попросил:
— Вынь ее! Разреши мне потрогать! Боже, какая прелесть!
Почти благоговейно Силс щипцами вытащил ложку.
Того, что за этим последовало, никто не мог уже хорошо объяснить. Позднее всполошившиеся репортеры немилосердно мучили обоих друзей, но ни Тэйлор, ни Силс не в состоянии были воспроизвести событий первых минут.
А произошло вот что. Как только ложка оказалась на открытом воздухе, в нос друзьям ударил самый ужасный из когда-либо существовавших запахов запах, не поддающийся описанию, немыслимый, невероятный, кошмарный, от которого вся комната превратилась в ад.
Силс выронил ложку. И он и Тэйлор кашляли, стонали, задыхались; их тошнило, у них раздирало глотку, из глаз неудержимо текли слезы.
Тэйлор кинулся к ложке и затравленно огляделся. Запах усилился, а девать ложку было некуда: своими хаотическими метаниями они уже опрокинули сосуд с аммоналином. Путь к спасению оставался только один, и Тэйлор воспользовался им. Вылетев в окно, ложка упала на Двенадцатую авеню прямо к ногам одного из полисменов. Но Тэйлору было уже все равно.
— Раздевайся, — просипел химик. — Одежду надо сжечь. Потом опрыскать лабораторию… Надо что-нибудь сильно пахнущее… Жженая сера. Раствор брома.
Судорожно срывая с себя одежду, они не слышали звонка и почти не обратили внимания на человека, вошедшего через незапертую дверь. Это был Стэйплз, лев в человеческом образе, «стальной король» шести футов ростом.
Уже в следующую секунду, он, утратив всю свою величавость, бросился прочь, и Двенадцатой улице представился неповторимый случай лицезреть пожилого, хорошо одетого джентльмена, который несся во всю прыть, задыхаясь от рыданий и на бегу сбрасывая с себя все, что только можно было сбросить.
Между тем ложка продолжала свою губительную работу. Полисмены давно покинули свой пост, и теперь к физическим страданиям двух невольных виновников происшествия прибавились душевные муки, вызванные доносившимся с улицы страшным шумом.
Из соседних домов в панике бежали мужчины и женщины. Не задерживаясь, проносились мимо пожарные машины. Поворачивали назад прибывшие по тревоге наряды полиции.
В конце концов Силс и Тэйлор тоже прекратили сопротивление и, выскочив из дому в одних штанах, сломя голову понеслись к Гудзону. Остановились они, только очутившись по шею в воде и вдохнув благословенный, неотравленный воздух.
Тэйлор озадаченно посмотрел на друга.
— Но откуда этот чудовищный запах? Ты говорил, соединение должно быть стойким, но стойкие соединения не пахнут. Ведь запах — результат испарения, не так ли?
— Ты нюхал когда-нибудь мускус? — жалобно простонал Силс. — Он пахнет неопределенно долгое время, практически не теряя при этом в весе. Мы столкнулись с аналогичным феноменом.
Они помолчали, занятый каждый своими мыслями, и только с ужасом вздрагивали при легком дуновении ветерка, доносившего слабую струю аммониевых испарений. Затем Тэйлор тихо сказал:
— Когда они поймут, что все дело в ложке, и доберутся до корней этой истории, нас, я боюсь, привлекут к ответственности… может быть, даже посадят…
У Силса вытянулось лицо.
— Век бы мне не знать этой дряни! Она принесла нам одни только беды. Окончательно упав духом, он громко зарыдал.
Тэйлор печально похлопал его по спине.
— Ну, если разобраться, все не так уж плохо. Это открытие тебя прославит, и ты сможешь диктовать свои условия, сможешь выбирать между крупнейшими промышленными лабораториями страны. А в свое время придет к тебе и Нобелевская премия.
— Верно… — Силс уже снова улыбался. — И, может, я найду еще способ нейтрализовать этот запах. Надеюсь, что найду.
— И я надеюсь, — с чувством поддержал Тэйлор. — Пойдем-ка назад. Они, наверно, уже нашли способ отделаться от этой ложки.
Хомо Сол
Семь тысяч пятьсот сороковая сессия Галактического Конгресса восседала торжественным конклавом в просторном полукруглом зале на Эроне, второй планете Арктура.
Председатель медленно поднялся и обвел взглядом собравшихся делегатов. Как и все арктурианцы, он отличался широким лицом, сейчас несколько покрасневшим от волнения. Перед тем как обратиться к делегатам с официальным заявлением, председатель выдержал паузу, чтобы придать происходящему особую торжественность.
Ведь в великую галактическую семью новые планетные системы принимались не так уж часто. Иной раз в ожидании подобного события можно было прожить целую человеческую жизнь.
Длинной паузе председателя делегаты ответили не менее долгим молчанием.
Двести восемьдесят восемь планет с кислородной атмосферой и гидрохимизмом входили в Систему. Двести восемьдесят восемь делегатов присутствовало на сессии. Здесь были представлены существа всех человекообразных форм и обликов: высокие и худые, широкие и дородные, низенькие и коренастые. Некоторых отличали гибкие волосы, кое у кого редкий серый пух покрывал всю голову и лицо. Встречались пышные кудри, уложенные в высокую прическу. Но в большинстве своем делегаты были лысыми. Одни выделялись крупными ушными раковинами, поросшими волосами, у других выпячивались на макушку слуховые мембраны. Глаза некоторых, словно у газелей, отливали глубоким пурпуром, крохотные зрачки других напоминали черные бусинки. Попадались делегаты с зеленой кожей, а отдельные гуманоиды могли похвастать наличием небольшого хвоста и даже восьмидюймового хоботка вместо носа.
Но все они походили друг на друга тем, что являлись гуманоидами и обладали разумом.
Наконец пауза кончилась. Снова загудел голос председателя собрания:
— Делегаты! Система Солнца раскрыла тайну межзвездных перелетов. На основании этого факта она может быть принята в состав Галактической Федерации.
Сообщение вызвало бурю аплодисментов, и арктурианец поднял руку, призывая к тишине.
— Передо мной, — продолжал он, — официальный рапорт с Альфы Центавра, на пятой планете которой высадились гуманоиды с Солнечной системы. Рапорт полностью положителен, потому запрет на полеты в Солнечную систему и коммуникации с ней может быть снят. Солнце теперь открыто для кораблей Федерации. В настоящее время готовится экспедиция под руководством Джоселина Арна с Альфы Центавра с тем, чтобы передать этой системе формальное предложение на вступление в Федерацию.
Он сделал паузу. Двести восемьдесят восемь делегатов принялись скандировать:
— Слава тебе, хомо сол! Слава тебе, хомо сол! Слава!
Таким было традиционное приветствие Федерации всех ее новых членов.
Тан Порус выпрямился во все свои пять футов два дюйма — хотя на родном Ригеле он был роста выше среднего — и, плохо скрывая раздражение, окинул собеседника быстрым, но проницательным взглядом зеленых глаз.
— Такие вот дела, Ло Фан. Вот уже шесть месяцев этот уродец, этот проклятый сквид с Беты Дракона ставит меня в тупик.
Ло Фан осторожно дотронулся до своего лба длинными пальцами, при этом одно из его волосатых ушей несколько раз дернулось в судороге. Он проделал пятьдесят восемь световых лет, чтобы побывать на Арктуре II у крупнейшего психолога Федерации и — самое главное — посмотреть на этого странного моллюска, реакции которого завели в тупик великого ригелианина.
На первый взгляд сквид ничем не отличался от других сквидов: жирная, тускло-пурпурная масса мягкой плоти, равнодушно распустившая щупальцеобразные отростки по всей поверхности огромного бака с водой.
— Да, выглядит достаточно ординарно, — заметил Ло Фан.
— Ха, — фыркнул Тан Порус. — Сейчас увидите!
Он щелкнул выключателем, свет погас, тусклый голубой луч рассек темноту и осветил бак с водой, в котором, не обращая ни на кого внимания, безразлично плавал сквид с Беты Дракона.
— Даем стимул, — сообщил Порус.
Экран над головой наполнился мягким зеленым светом, точно сфокусировавшимся на баке. Через мгновение зелень сменилась тускло-красным и почти сразу ярко-желтым светом. С полминуты освещение менялось, сдвигаясь по спектру, когда же сделалось ослепительно белым, раздался чистый, напоминающий колокольчик звук.
Но вот стихло эхо, вторившее колокольчику, и по телу сквида прокатилась дрожь. Затем сквид медленно сместился к краю бака. Порус потянулся к занавеске.
— Этот звук вообще-то усыпляет, — проворчал он. — Еще одна неудача. Любой сквид, с которым нам приходилось иметь дело, камнем шел ко дну, стоило ему услышать эту ноту.
— Усыпляет, говорите? Странно. Вы строили графики импульсов?
— Непременно. Там все в порядке. Отмечена точная длина используемых световых волн, продолжительность каждого светового диапазона, указано точное значение тона звукового сигнала в конце.
Ло Фан, не скрывая сомнения, изучал график, при этом лоб его покрылся морщинами, уши удивленно топорщились. Он достал логарифмическую линейку из внутреннего кармана:
— Какого типа нервная система у этого животного?
— 2-Б. Простенькая и ординарная 2-Б. Я заставил анатомов, физиологов и экологов уточнить это, что они и делали до посинения. И все же они утверждают: 2-Б! Проклятые дураки!
Ло Фан ничего не ответил, только аккуратно стал перемещать туда-сюда движок линейки. Остановился, пригляделся как следует, пожал плечами и потянулся к одному из толстенных томов, стоявших на полке у него за спиной. Зашелестел страницами, подбирая близкие значения среди приведенных в таблицах, завершил свои манипуляции и беспомощно произнес:
— Бессмыслица!
— Сам знаю. Я шестью разными способами пробовал рассчитать эту реакцию и каждый раз терпел неудачу. Даже когда я выстраивал систему, объясняющую, почему эта тварь не засыпает, я не мог понять специфического воздействия раздражителя.
— А оно очень специфическое? — спросил Ло Фан и голос его зазвучал в самом верхнем регистре.
— И это самое скверное, — отрезал Тан Порус. — Ведь он должен засыпать, если сместить длину световой волны на пятьдесят анготрем в любую сторону, в любую! А тут меняешь время светового облучения на две плюс-минус секунды, но он не засыпает. Тогда пробуешь сменить высоту конечного звукового сигнала на восемь октав в любом направлении — он все равно не засыпает. Но стоит угадать какую-то определенную комбинацию — и результат налицо: спит мертвым сном!
Уши Ло Фана превратились в два напряженных волосатых полотнища.
— Галактика! — прошептал он. — Так вы споткнулись на комбинации?!
— Не я. Это случилось на Бете Дракона. Мои провинциальные классные коллеги проводили лабораторное занятие для первокурсников, демонстрируя реакцию моллюсков на свет и звук, — было это несколько лет назад. И вот у одних студентов сложилась случайная светозвуковая комбинация, при которой это пакостное существо погрузилось в сон. Разумеется, они решили, что тронулись рассудком, и бросились к наставнику. Наставник проверил реакцию другого сквида, уснувшего так же быстро. Тогда изменили комбинацию — сна как не бывало. Они вернулись к начальной — снова сон. Когда наконец они достаточно долго с ним провозились, то поняли, что даже не могут разобраться, где у сквида голова, а где хвост. Они отослали сквид на Арктур, пожелав побыстрее докопаться до истины. И вот уже целых шесть месяцев мне не удается даже вздремнуть как следует.
Раздался музыкальный звонок, Порус нетерпеливо обернулся:
— В чем дело?
— Посланник от председателя сессии Галактического Конгресса, сэр, послышался металлический голос из коммуникатора на столе.
— Пусть войдет.
Посланник приблизился, церемонно вручил Порусу запечатанный конверт и энергично произнес:
— Великие новости, сэр. Система Солнца квалифицирована как достойная принятия.
— Что дальше? — фыркнул Порус. — Мы давно все знали, что так и будет.
Он достал из прозрачного целлофана пачку бумаг и углубился в их изучение.
— О Ригель!
— В чем дело? — поинтересовался Ло Фан.
— Эти политиканы осмеливаются меня беспокоить по самому ничтожному поводу. Можно подумать, на Эроне нет другого психолога. Взгляните только. Мы предполагали, что соляриане откроют гиператомный принцип в ближайшее столетие. Они наконец-то до этого додумались, и их экспедиция совершила посадку на Альфу Центавра. Разумеется, для политиканов такой праздник! Теперь нам следует отправить собственную экспедицию, чтобы пригласить их вступить в Федерацию. И, ясное дело, для этого требуется психолог, способный вручить приглашение самым милым образом, заранее предугадав их реакцию. Ведь в армии вряд ли найдется хоть один солдат, который бы обладал навыками психологии даже в очень малой степени.
Ло Фан совершенно серьезно кивнул:
— Знакомо, знакомо. У нас случались такие же трудности. Психологи им ни к чему, пока они не вляпаются в неприятности. Тогда же мчатся к нам со всех ног.
— Ладно, то, что я не отправлюсь к Солнцу, совершенно очевидно. Этот дрыхнущий сквид слишком важен, чтобы обойти его своим вниманием. Работа там рутинная, как всегда с присоединением новых миров: реакция А-типа, с которой любой первокурсник справится.
— И кого вы пошлете?
— Еще не решил. Под моим началом трудилось несколько неплохих юнцов. Они выполнят это задание с закрытыми глазами. Поручу кому-нибудь из них. Кстати, надеюсь видеть вас завтра вечером на встрече факультета.
— Увидите… И даже услышите. Мне предстоит произнести речь о возбудителях указательного пальца.
— Прекрасно! Я над этим тоже работал, так что интересно будет послушать, до чего вы там додумались. Значит, до завтра!
Оставшись один, Порус еще раз взялся за официальный рапорт с Солнечной системы, который вручил ему порученец. Ученый неторопливо, но без особого интереса полистал его, потом отложил со вздохом.
— Лор Харидин с этим справится, — пробормотал он сам себе. — Славный парнишка, стоит дать ему шанс.
Тан Порус вырвал из объятий кресла свои тощие бедра сунул рапорт под мышку, вышел из кабинета и быстро двинулся по длинному наружному коридору. Когда он остановился перед дверью в дальнем конце, охранная вспышка осветила его и голос изнутри предложил войти. Ригелианин открыл дверь, сунул внутрь голову:
— Занят, Харидин?
Лор Харидин поднял глаза и тут же вскочил.
— Великий космос, босс, нет! Мне просто нечем заниматься, с тех пор, как я завершил работу над реакцией злости. Может быть, вы подыскали для меня что-нибудь — спросил он с надеждой.
— Подыскал… если, конечно, ты уверен, что справишься. Слыхал о Солнечной системе?
— Ясное дело! Все визоры ею забиты. Они научились осуществлять межзвездные перелеты, я не ошибся?
— Не ошибся. Через месяц с Альфы Центавра к Солнцу отправится экспедиция. Им требуется психолог для тонкой работы. Я подумал: не послать ли тебя?
Молодой человек от удовольствия залился краской вплоть до макушки лысого черепа:
— Вы не передумаете, босс?
— С чего бы? Можешь заняться, если наверняка знаешь, что справишься.
— Разумеется, справлюсь. — Лицо Харидина вытянулось от обиды. — Реакция А-типа, тут не ошибешься.
— Видишь ли, тебе придется освоить язык соляриан и управлять их реакциями так, чтобы им все было понятно. А это не всегда просто.
Харидин пожал плечами:
— Я не должен ошибиться. В подобных делах переводу требуется лишь 75 процентов эффективности, чтобы добиться необходимой реакции с точностью девяносто девять и шесть десятых процента. Так что здесь, шеф, вы меня не собьете.
Порус рассмеялся:
— Ладно, ладно, Харидин, знаю, тебя на мякине не проведешь. Но все-таки постарайся не подвести меня. Закругляйся здесь, в университете, подавай заявление о бессрочном отпуске и, если получится, напиши какую-нибудь статейку об этих солярианах. Если все пройдет удачно, ты сможешь приобрести неплохое положение.
Молодой ученый нахмурился:
— Но, шеф, все это уже устарело. Реакции гуманоидов известны слишком хорошо, тут просто не о чем больше писать.
— Всегда что-нибудь отыщется, если присмотреться повнимательнее, Харидин. В природе нет ничего, исследованного до конца и полностью, не забывай об этом. Если сейчас ты посмотришь таблицу 25 в докладе, то обнаружишь там некоторые сведения, вызывающие беспокойство: соляриане оснащают свои корабли оружием с особой тщательностью.
Харидин отыскал указанное место.
— Вполне разумно, — заметил он. — Совершенно нормальная реакция.
— Согласен. Но они не собираются отказываться от оружия, даже не смотря на особую теплоту встречи с братьями по разуму. Займись этим, вдруг обнаружишь что-нибудь очень важное.
— Ну… раз вы так говорите… Благодарю, что вы предоставили мне такой шанс. Да… сдвинулись с места в экспериментах со сквидом?
Порус наморщил лоб:
— Уже шестой по счету скорчился и вчера вообще подох. Какая безвкусица.
С этими словами ученый развернулся, и Харидин не успел опомниться, как остался один.
Тан Порус проглядел полученные бумаги, сложил их вдвое, разорвал пополам. Он чувствовал, что начинает дрожать от ярости, и, резко пододвинув к себе телекоммуникатор, рявкнул в микрофон:
— Сантина мне из математического управления, немедленно!
Зеленые глаза Поруса метали молнии, а по ту сторону экрана улыбалось безмятежное лицо, которому психолог показал огромный кулак:
— Найдется на Эроне хоть один человек, способный разобраться в этом анализе, что вы только что мне прислали, слизняк с Бетельгейзе!
Изображение с кротким недоумением подняло брови:
— Не сваливайте все на меня, Порус. Это же ваши уравнения, не мои. Откуда вы их выкопали?
— Вас не касается, где я их взял. Это забота департамента психологии.
— Отлично! Но решать их — забота департамента математики. Ваша семерка образует такую дьявольскую головоломку, какие мне еще не встречались. К тому же вы допустили семнадцать приближений, которыми не имели права пользоваться. У нас ушло две недели, пока удалось распутать и кое-что сократить.
Порус подпрыгнул, словно от удара:
— Знаю я, что вы там насокращали! Я просмотрел выкладки. Вы берете семнадцать независимых переменных в тринадцати уравнениях, тратите два месяца на работу, наконец-то добираетесь до сути и излагаете на последней странице истину, которую в силах понять только оракул: «а» равно «а». Работа сделана. Молодцы!
— Я тут ни при чем, Порус. Ваши уравнения замкнулись сами на себе, математически получается, что они равнозначны, тут ничего не поделаешь. Сантин снисходительно улыбался с экрана. — Кстати, чего вы кипятитесь. Ведь «а» и должно быть равно «а», не так ли?
— Сгинь!
Экран погас, и психолог плотно стиснул зубы ощущая, как душа разрывается на части.
Световой сигнал на телекоммуникаторе вновь подал признаки жизни.
— Что там еще?
В ответ раздался вежливый безразличный голос секретаря:
— Посланник от правительства, сэр.
— К чертям правительство! Скажите им, что я умер!
— Это важно, сэр. Лор Харидин вернулся с Солнца и хочет вас видеть.
Порус нахмурился:
— С Солнца? Какого еще Солнца? Ах да, вспомнил! Пускай входит, но попроси его поторопиться.
— Заходи, заходи, Харидин, — говорил он немного погодя. Чувствовалось, что он рад видеть своего молодого коллегу, еще более помолодевшего и слежка похудевшего с тех пор, как шесть месяцев назад он покинул Арктур. — Ну-с, молодой человек, статью написали?
Арктурианец внимательно разглядывал свои ногти.
— Нет, сэр.
— Но почему? — ригелианский психолог подозрительно прищурился. — Только не говорите мне, что возникли сложности…
— Честно говоря, да, шеф, — с трудом выдавил Харидин. — Психологический отдел обратится непосредственно к вам после того, как вы заслушаете мой отчет. Суть дела в том, что Солнечная система отказалась вступить в Федерацию.
Тан Порус пулей выскочил из своего кресла, так что чуть было не оступился:
— Что!?
Харидин с несчастным видом кивнул и откашлялся.
— Ну и ну, клянусь Великой Темной Туманностью, — проревел ригелианин как безумный. — Ничего не скажешь, праздничный сегодня денек. Сначала мне сообщают: «а» равняется «а», потом ты заявляешь, что напортачил с реакцией А-типа, причем окончательно!
Молодой психолог вспыхнул:
— Я ничего не напортачил. Что-то не в порядке с самими солярианами. Они ненормальные. Когда я прилетел, они устроили фантастические празднества и вели себя настолько необузданно, что я решил: уж не свихнулись ли они. Я выступил с приглашением перед парламентом на их же языке. Есть у них такой простенький, называется эсперанто. Могу поклясться, мой перевод был на девяносто процентов адекватным.
— Допустим. Что дальше?
— Остального я не в силах понять, шеф. Поначалу последовала нейтральная реакция, удивившая меня, а затем… — он вздрогнул от воспоминаний, — через семь дней, всего через семь дней вся планета полностью переменила к нам отношение. Я не смог понять их психологию, я ощущал себя так, будто нахожусь в сотне миль от них. Вот копии газет того периода, в которых они протестуют против союза с «чужеродными монстрами» и отказываются подчиняться нелюдям, живущим во многих парсеках от них. И я подумал: есть ли смысл во всем этом? Но это только начало. Мне кажется, в жизни моей не было световых лет хуже. Милосердие Галактики, я все силы бросил на реакцию А-типа, пытался вычислить ее и не смог. В конце концов нам пришлось отступить. Мы испытали чисто физическую угрозу со стороны этих… землян, как они себя называют.
Тан Порус прикусил губу:
— Интересно. Отчет с тобой?
— Нет. Он у психологической группы. Все эти дни они его чуть ли не с микроскопом изучают.
— И что же они выискали?
Молодой арктурианец скривился:
— Прямо не говорят, но, мне кажется, у них создалось такое впечатление, будто ответы в отчете ошибочны.
— Ладно, поговорим об этом, когда я его прочту. А пока отправимся в зал парламента и по дороге ты мне ответишь на кое-какие вопросы.
Джоселиан Арн, военный с Альфы Центавра, потер щетинистый подбородок шестипалой рукой и взглянул из-под нависших бровей на ученых, которые сидели полукругом и с большим вниманием глядели на него. В состав психологической группы входили психологи с двух десятков планет, и выдержать их одновременные внимательные и серьезные взгляды было не таким уж легким делом.
— Нас информировали, — начал Фриан Обель, руководитель группы с Беги, родины зеленокожих людей, — что разделы отчета, касающиеся военного уровня соляриан, написаны вами.
Джоселиан Арн наклонил голову в знак молчаливого согласия.
— И вы готовы отстаивать то, что написали, несмотря на полное их неправдоподобие? Вы ведь не психолог?
— Нет! Но я солдат! — челюсти центаврианина упрямо выпятились, когда его голос прогромыхал над залом. — Я не разбираюсь в уравнениях, не понимаю графиков, но смыслю в звездолетах. Я видел их корабли, хорошо знаю наши и считаю, что их звездолеты лучше. Я видел их самый первый корабль. Дайте им сотню лет, и их гиператомный привод во всем превзойдет наш. А их оружие?! Они располагают почти всем тем, что есть у нас, хотя при этом отстают на тысячелетия исторического развития. То, чего у них нет, они изобретут. Это наверняка. А то, что у них есть, они непрерывно совершенствуют. Например, военные заводы. Наши более современны, зато их — более эффективны. А что касается солдат, то я скорее предпочел бы сражаться вместе с ними, чем против них. Обо всем этом говорится в моем отчете, и я не устану повторять это снова и снова.
На этом его резкое, отрывистое выступление закончилось. Фриан Обель подождал, пока стихнет возбужденное перешептывание среди присутствующих:
— А чего достигли соляриане в остальных областях науки: медицине, химии, физике? Что вы можете сказать об этом?
— Здесь я не могу быть судьей. У вас же есть отчет тех, кто в этом лучше разбирается. И исходя из того, что я знаю, конечно, их поддерживаю.
— А эти соляриане, они настоящие гуманоиды?
— Если судить по критериям Центавра — да.
Старый ученый с раздраженным видом опустился в свое кресло и бросил хмурый взгляд вдоль стола.
— Коллеги, — произнес он, — мы добились малого успеха в том, чтобы по-новому оценить всю эту путаницу. Перед нами раса гуманоидов на высочайшем технологическом подъеме, которой в то же время присуща антинаучная вера в сверхъестественное, невероятное, детское пристрастие к индивидуализму, одиночному и групповому, и, хуже всего, отсутствие достаточно широкого кругозора, чтобы воспринять внегалактическую культуру.
Фриан Обель взглянул на сидевшего напротив угрюмого центаврианина и продолжил:
— Именно с такой расой мы имеем дело, если верить отчету. Значит, придется пересмотреть все фундаментальные аксиомы психологии. Но я лично отказываюсь верить подобному, выражаясь вульгарно, кометному газу. Если откровенно, то все упирается в неумение подобрать нужных специалистов для этого исследования. Надеюсь, вы все согласитесь со мной, когда я скажу, что этот отчет можно смело выбросить. Только следующая экспедиция, составленная из специалистов в своей области, а не учеников-психологов и солдат…
Монотонный голос ученого внезапно прервал удар железного кулака по столу. Джоселиан Арн, чье огромное тело содрогнулось от ярости, утратил выдержку, давая выход скопившемуся гневу:
— Нет уж, клянусь трясущимся отродьем Темплиса, червяками ползучими и комарами летучими, выгребными ямами и чумными язвами, клянусь одеянием самой смерти, такого я не потерплю! Вы, значит, расселись тут со своими теориями, со своей всеобъемлющей мудростью и отрицаете то, что я видел собственными глазами. Или же мне не верить глазам своим, — он говорил, и глаза его сверкали огнем, — только лишь потому, что вы своими параличными ручонками испачкали бумагу парочкой уклончивых замечаний! На Центавре не продохнешь от этих мудрецов, что задним умом крепки, скажу я вам. И в первую очередь психологи, чтоб их разорвало. Уткнулись в свои талмуды, позапирались в лабораториях и в упор не видят того, что происходит в живом мире вокруг них. Психология, как же! Гнилые, вонючие…
Пряжка на его поясе грозила отлететь, глаза сверкали, лицо пылало, кулаки сжались. Но вот его взгляд остановился на крохотном человечке, в свою очередь смотревшем на Арна, и вояка вдруг почувствовал, что не может оторвать своих глаз от этих зеленых, загадочных и внимательных, пронизывающих насквозь. Это подействовало на великана как ушат холодной воды.
— Я тебя знаю, Джоселиан Арн, — Тан Порус говорил медленно, старательно выговаривая слова. — Ты мужественный человек и хороший солдат, но я вижу, не любишь психологов. Это скверно для тебя, поскольку именно на психологии основаны политические успехи Федерации. Стоит от нее отказаться, и наш союз развалится, наша великая Федерация распадется. Галактическое объединение рухнет. — Его мягкий голос обволакивал, действовал как музыка. — Ты давал великую клятву защищать Систему от всех ее врагов, Джоселиан Арн, а теперь сам стал величайшей ее опасностью. Ты разрушаешь фундамент, потому что подкапываешь под основу, отравляя ее истоки. Ты беспринципен, бесчестен. Ты изменник!
Центаврианский воин беспомощно потупил взгляд, опустил голову. Порус говорил, а его охватывало болезненное и глубокое раскаяние. Воспоминание о собственных словах мгновением позже тяжким грузом легло на его плечи, на его совесть. Когда психолог кончил, Джоселиан опустил голову и зарыдал. Слезы потекли по изрезанному боевыми шрамами лицу, по которому они не текли уже лет сорок.
Порус снова заговорил, но теперь его голос был подобен ударам грома:
— Хватит ныть, трус! Опасность надвигается! К оружию!
Джоселиан Арн мгновенно насторожился; печаль, охватившая его, молниеносно исчезла, точно ее вовсе не существовало. Зал содрогнулся от хохота: воин разобрался в ситуации. Таким способом Порус решил наказать его. С его превосходным знанием окольных воздействий на мозг гуманоида ему достаточно было надавить на соответствующую кнопочку и…
Центаврианин смущенно прикусил губу, но ничего не сказал. Правда, Тан Порус тоже не смеялся. Довести вояку до слез — одно дело, но унизить его совсем другое. Он быстро выбрался из кресла и похлопал маленькой ручкой по могучему плечу Арна:
— Не обижайтесь, друг мой, это всего лишь небольшой урок, не более. Боритесь с субгуманоидами и враждебным окружением в полусотне миров! Рвитесь в космос на протекающем, дряхлом вертолете! Бросайте вызов любой опасности, какой заблагорассудится! Но никогда, никогда не задевайте психологов! В следующий раз мы можем рассердиться всерьез.
Арн откинул назад голову и захохотал. Его могучий раскатистый рев больше смахивал на землетрясение, и зал содрогнулся.
— Я получил хороший урок, психолог. Разнеси меня на атомы, если ты не прав.
Большими шагами он вышел из зала, а его плечи все еще вздрагивали от сдерживаемого смеха.
Порус нырнул в свое кресло и повернулся лицом к присутствующим:
— Коллеги, мы с вами споткнулись на интересной расе гуманоидов.
— Ну-ну, — едко произнес Обель, — великий Порус почувствовал необходимость взять своего ученика под защиту. — Похоже, ваша способность усваивать материал улучшилась, поскольку вам все-таки хотелось принять на веру доклад Харидина.
Харидин, стоя в стороне, почувствовал, что краснеет, наклонил голову и не произнес ни слова. Порус нахмурился, но голос его ничуть не изменился:
— Вот именно. И доклад, если его должным образом проанализировать, может привести нас к революции в науке. Это же для психологии золотые россыпи, а хомо сол — находка, случающаяся раз в тысячелетие!
— Говорите конкретнее, Тан Порус, — протянул кто-то. — Ваши трюки хорошо срабатывают на тупоголовых центаврианах, но на нас-то они не действуют.
Вспыльчивый маленький ригелианин буквально зашипел от возмущения, погрозив говорившему маленьким кулачком:
— Можно и поконкретнее, Инар Тубал, клоп ты волосатый, космический. Благоразумие, казалось, сейчас отступит перед охватившей Поруса яростью. — Да здесь найдется материала для работы больше, чем вы себе можете представить. И уж, конечно, гораздо больше, чем вы, умственные калеки, способны понять. Нет, просто необходимо ткнуть вас в ваше же невежество, вы, сборище иссохших ископаемых. Могу гарантировать, что продемонстрирую вам немного психотехнологии, так что у вас все кишки перевернутся. Я вам обещаю панику, дебилы, панику! Всемирную панику!
Наступила мертвая тишина.
— Вы сказали, панику? — заикаясь от услышанного, проговорил Обель, причем его зеленые глаза почему-то стали серыми. — Всемирную панику?
— Именно, попугай несчастный. Дайте мне шесть месяцев и шестьдесят ассистентов, и я продемонстрирую вам мир, охваченный паникой.
Обель тщетно пытался ответить. Он скривил рот в героическом усилии сохранить серьезность и не смог этого сделать. Тогда, словно по сигналу, все общество психологов разразилось в едином пароксизме хохота.
— Помню, — с трудом выдавил Инар Тубал, сирианин, смеявшийся так сильно, что из его глаз брызнули слезы, — был у меня один студент. Так вот однажды он заявил, что открыл способ, которым можно вызвать всемирную панику. Я проверил его вычисления и обнаружил: он возвел в степень число, не так отделив целое от дроби. Так что он сбился всего на десять порядков. На сколько порядков сбились вы, коллега Порус?
— Порус, разве вы не знаете закона Краута, согласно которому невозможно вызвать панику более чем у пяти гуманоидов одновременно? Может, нам и атомную теорию отменить, если мы ее не понимаем? — весело прохихикал Семпер Гор с Капеллы.
Порус выскочил из кресла и схватил председательский молоток Обеля:
— Любой, кто вздумает снова засмеяться, получит вот этим молотком по своей пустой башке.
Тотчас стало тихо.
— Я беру с собой пятьдесят ассистентов, а Джоселиан Арн доставит меня к Солнцу, — отрезал зеленоглазый ригелианин. — Но я требую, чтобы со мной отправились пятеро из вас: Инар Тубал, Семпер Гор и еще трое на ваш выбор, чтобы я мог полюбоваться их дурацкими выражениями физиономий, когда продемонстрирую то, что обещал. — Он угрожающе посмотрел на молоток. — Ну?
Фриан Обель, стараясь казаться серьезным, решил не смотреть на Поруса и потому уставился в потолок:
— Договорились, Порус. С вами отправятся Тубал, Гор, Хелвин, Прат и Винсен. В конце отведенного срока или мы оказываемся свидетелями всемирной паники, что будет очень приятно, или же услышим, как вы станете отказываться от собственных слов, что доставит нам еще большее удовольствие.
Вынося это постановление, он хихикнул про себя.
Тан Порус задумчиво глядел в окно. Перед ним до самого горизонта раскинулся Терраполис, столица Земли. Приглушенный шум города слышался даже здесь, на полукилометровой высоте, где он находился.
Было что-то в этом городе невидимое и неосязаемое, но не становившееся от этого менее реальным. И наличие оного являлось для маленького психолога более чем очевидным. Удушающая пелена липкого страха опустилась на весь мегаполис. Он сам ее вызвал: ужасающую пелену темной неуверенности, смыкающуюся холодными пальцами на горле человечества ненадолго, всего лишь на чуть-чуть, чтобы прекратить подлинную панику.
Именно об этом говорили голоса, сливавшиеся в шум города, и каждый голос состоял из крохотных крупиц страха. Ригелианин с неудовольствием отвернулся.
— Эй, Харидин! — рявкнул он.
Молодой арктурианец оторвался от телевизора:
— Вы меня звали, шеф?
— А что, по-твоему, я еще делал? Сам с собой беседовал? Что было в последней сводке из Азии?
— Ничего нового. Стимулы еще недостаточно сильны. Похоже, у желтокожих более флегматичная натура, чем у белого большинства Америки и Европы. Но я распорядился все же не усиливать воздействия.
— Да-да, — согласился Порус. — Усиливать не надо. Мы не можем рисковать. Активная паника чревата последствиями. — Он задумался. — Слушай-ка, мы почти у цели. Скажи, чтобы ударили по нескольким крупным городам, — они более восприимчивы — и на том остановимся.
Он опять повернулся к окну:
— Великий Космос, ну и мир!.. Открывается совершенно новая ветвь психологии… мы о такой и мечтать не могли. Психология толпы, Харидин, психология толпы.
Порус выразительно покачал головой.
— Зато у нас множество неприятностей, — пробормотал юноша. — Эта пассивная паника полностью парализовала торговлю и коммерцию. Деловая жизнь на всей планете остановилась. Несколько правительств бессильны. Они никак не могут понять, что приключилось.
— Они поймут, когда я сочту необходимым им это растолковать. Что до неприятностей, мне от них тоже мало удовольствия. Но главное, что все это означает конец, дьявольский и важный конец.
Последовало продолжительное молчание, потом губы Поруса сложились в некое подобие улыбки.
— Эти пять придурков сегодня возвращаются из Европы, не так ли?
Харидин кивнул и улыбнулся:
— Да. И чувствуют себя прескверно. Ваши предсказания сбылись наполовину. Они согласятся на ничью.
— Прекрасно! Жаль, что я не смогу видеть физиономию Обеля сразу после того, как он получит мое сообщение. Кстати, — Порус заговорил тише, — какие новости от них?
Харидин показал два пальца:
— Две недели, и они будут здесь.
— Две недели… две недели… — Порус торжествовал.
Он вскочил и направился к двери. — Думаю, что мне следует навестить наших дорогих уважаемых коллег и провести с ними остаток дня.
Когда появился Порус, пятеро ученых, входивших в группу, оторвались от своих записей и воцарилось смущенное молчание.
Психолог злорадно усмехнулся:
— Записи вас устраивают, джентльмены? Основные мои предсказания процентов на 50–60 ошибочны, не так ли?
Хиброн Прат с Альфы Цефея встопорщил на голове свой серый мех, который он именовал волосами:
— Я не доверяю вашим дьявольским трюкам и ненормальным математическим выкладкам.
Ригелианин коротко хохотнул:
— Тогда выдумайте что-нибудь получше. Как бы там ни было, но разве скверный метод управления реакциями не сработал?
Немузыкальный фон покашливаний заменил конкретный ответ.
— Что, не так? — громыхнул Порус.
— Ладно, пусть даже так, — сказал Винсен, все еще пытаясь сопротивляться. — Но где ваша паника? Все обстоит тихо-мирно. А вы нам обещали шумное представление с этими космическими уродцами, местными гуманоидами!? Пока вы не смогли нарушить закон Краута, все ваши конструкции не стоят даже следа обгорелого метеорита.
— Вы и без того проиграли, джентльмены! Да, проиграли! — ликовал миниатюрный корифей психологии. — Я доказал саму идею, ведь с точки зрения классической психологии эта пассивная паника столь же невозможна, как и активная ее форма. Конечно, вам не хочется ударить лицом в грязь. Вот вы и пытаетесь отрицать факты и тянете волынку с техническими деталями. Собирайтесь домой, джентльмены, ведь вам место в теплых постельках. Психологи, несмотря на всю свою ученость, все равно были людьми со всеми их человеческими слабостями. Они могли анализировать свои побудительные мотивы, но при этом оставались рабами мотивов в той же степени, как и любой простой смертный. И поэтому сейчас эти прославленные на всю Галактику психологи корчились от мук оскорбленного самолюбия и невероятного тщеславия, что механически выливалось в тупое упрямство. Они все это прекрасно понимали и знали, что Порус тоже это понимает, но ничего не могли с собой сделать.
Инар Тубал злобно сверкнул глазами с красными ободками:
— Активная паника или ничего, Тан Порус. Вы нам это обещали, и мы требуем. Да, мы настаиваем на буквальном выполнении, а на все технические нюансы, клянусь пространством и временем, нам начхать. Или активная паника, или мы засчитываем вам поражение.
Порус еле сдерживал свое раздражение и только благодаря чудовищному усилию воли заставил себя говорить спокойно:
— Будьте же разумны, джентльмены. У нас нет оборудования для прекращения активной паники. Нам нечего противопоставить этой сверхразновидности, с которой мы столкнулись здесь, на Земле. Что если она выйдет из-под контроля?
И в знак протеста Порус яростно замотал головой.
— Изолируем их, и все! — прорычал Семпер Гор. — Начинайте, нечего тянуть. Можете пользоваться любыми средствами, на ваше усмотрение, лишь бы сработало.
— Если сумеете, — добавил Прат.
Больше сдерживать свои чувства Тан Порус не хотел и решил, что может позволить себе слегка расслабиться. Тотчас его меткий и злой язычок как вихрь вырвался наружу и погреб маленького психолога в волнах концентрированных ругательств.
— Будь по-вашему, вакуумноголовые! Будь по-вашему, чтобы на вас небеса обрушились! — У него перехватило дыхание от гнева. — Мы начнем прямо здесь, в Терраполисе, как только все население разойдется по домам. Но вы очень хорошо подумайте, чем этот пожар будете тушить!
Он раздраженно фыркнул и исчез за дверью.
Легким движением руки Тан Порус приоткрыл занавеску, и пятеро психологов повернулись к нему, отводя в сторону глаза. Гражданское население покинуло улицы земной столицы. Уверенный топот солдат, патрулирующих городские магистрали, звучал панихидой. Неприветливое небо низко нависло над грудами павших тел. На смену дикой разрушительной оргии пришло гробовое молчание.
— Опыт произведен. На это потребовалось всего несколько часов, коллеги, в голосе Поруса чувствовалось усталость. — Если паника распространится за пределы города, мы окажемся бессильны остановить ее.
— Кошмар, кошмар! — пробормотал Прат. — Ради такой сцены психологу не жалко без руки остаться, даже можно и жизнью рискнуть.
— И это — гуманоиды! — простонал Винсен.
— Вы хоть понимаете, что все это значит, Порус? Ведь земляне — это неконтролируемая цепная реакция, ими невозможно управлять. Будь они дважды теми технологическими гениями, какими являются, они бесполезны. С их психологией толпы, массовой паникой, суперэмоциональностью им просто нет места среди нормальных гуманоидов.
Порус удивленно поднял брови и отпарировал:
— Кометный газ! Как индивидуумы мы эмоциональны не менее их. Просто они превращают это в массовое действие. Мы — нет. Вот и вся разница.
— Но и этого достаточно! — завопил Тубал. — Наше решение, Порус, созрело прошлой ночью, когда мы наблюдали за… этим. Солнечная система должна остаться сама по себе. Она источник заразы, и мы не желаем иметь с ней ничего общего. Для хомо сол нужно установить строгий карантин. Это решение окончательное.
Ригелианин снисходительно улыбнулся:
— Для Галактики оно может быть окончательным. А для хомо сол?
Тубал пожал плечами:
— К нам они не присоединятся.
Порус улыбнулся еще раз:
— Слушайте, Тубал. Только между нами. Вы не пытались провести временную интеграцию сто двадцать восьмого уровня в соответствии с ростом тензоров Карлеона?
— Н-нет. Я бы не сказал, что занимался этим.
— Отлично! Тогда, я думаю, вас обрадуют мои вычисления.
Психологи столпились вокруг листка бумаги, которую протянул им Порус. Их лица менялись в соответствии с их чувствами: от интереса к недоумению, затем к чему-то, очень близко напоминающему панику. Хелвин судорожным движением швырнул листки на стол.
— Это ложь! — крикнул он.
— Сейчас мы опережаем их на тысячу лет и еще пару сотен продержимся впереди, — отрезал Тубал. — Они не смогут ничего поделать со всей Галактикой.
Тан Порус захохотал:
— Вы все же не верите математике? Разумеется, это вполне совпадает с вашими поведенческими характеристиками. Что ж, поглядим, смогут ли вас убедить специалисты, раз уж контакт с этими ненормальными гуманоидами вас наизнанку выворачивает. Джоселиан… Арн… зайди-ка!
Появился командир-центаврианин, автоматически отдал честь и застыл в ожидании.
— Сможет ли в случае необходимости военный звездолет Федерации выстоять в поединке с земным кораблем?
Арн скривился в кислой улыбке:
— Ни малейшего шанса, сэр. Эти гуманоиды нарушают закон Краута не только при панике, но и в сражении. Личный состав наших кораблей комплектуется из корпуса специалистов — их экипажи состоят из одиночек, умеющих функционировать как целое, лишенное индивидуальности. Они нашли свой способ борьбы: мне представляется, паника здесь будет самым подходящим названием. Каждая личность на борту становится отдельным органом корабля. Для нас, как вы знаете, такое невозможно. Кроме того, мир этот — масса сумасшедших гениев. Они воспользовались, только по моим наблюдения, по меньшей мере, двадцатью оригинальными, но бесполезными изобретениями, с которыми познакомились в Ласунском музее, когда посещали нас. Вывернув эти изобретения наизнанку, земляне на их базе изготовили целый ряд очень неприятных военных устройств. Все вы знаете фиксатор гравилиний Юлвина-Тилла, использовавшийся, и довольно эффективно, для обнаружения рудных месторождений, до того как появились новые методы на электронных потенциалах. Они его — уж не знаю как! — переделали в один из самых смертоносных корректировщиков огня, каких я еще не имел удовольствия видеть. Он сам по себе наводит орудие или излучатель на совершенно не видимое в космосе устройство, но обладающее массой.
— Но мы, — ввернул Тан Порус, — располагаем значительно более многочисленным и мощным флотом на данном этапе. Мы в состоянии их сокрушить, разве не так?
Джоселиан Арн помотал головой:
— Победить их сейчас можно. Но я уверен, что эта победа будет не из легких. Во всяком случае, меня такой исход сражения не привлекает. Вся беда в том, что эта компания маньяков-изобретателей выдумывает новые военные устройства до отвращения быстро. Технологически они столь же нестабильны, как и волна на воде. Наша же цивилизация больше напоминает песчаную дюну. Я видел их фабрики наземных машин, предусматривающие изготовление любых деталей для новых марок: через шесть месяцев от них отказываются, считая, что они полностью устарели. Теперь мы вошли ненадолго в контакт с их цивилизацией, и, оказывается, наши чудеса двухсотвосьмидесятилетней давности почти не дают никакого преимущества. Это они скорее присоединят к себе любую недавно открытую цивилизацию, даю вам стопроцентную гарантию.
— А как будет выглядеть наше военное положение, — поинтересовался Порус, если мы полностью игнорируем их, скажем, лет этак с двести?
Джоселиан Арн отрывисто хохотнул:
— Если мы сможем, но лучше сказать, если они нам позволят, то я отвечу: сложите руки и на том успокойтесь. Боюсь, что они теперь энергично возьмутся за дело. Двести лет работ над новыми изобретениями, на которые их натолкнуло недолгое знакомство с нами, и мне страшно подумать, что они там навыдумывают. Подождем еще немного, и никакого сражения не потребуется: это будет аннексия с их стороны.
Тан Порус церемонно поклонился:
— Благодарю вас, Джоселиан Арн. Те же результаты следуют и из моих математических выкладок.
Джоселиан Арн отдал честь и вышел из помещения. Повернувшись к пяти парализованным размышлениями ученым. Тан Порус продолжил:
— Надеюсь, наши слишком образованные джентльмены прореагируют на это глубоко гуманоидным образом. Вы убедились, что для нас не выход — прекратить любое общение с этой расой? Мы на это можем пойти, они же — никогда! Глупцы! Неужели вы думаете, что я стану тратить время на споры с вами? Это я устанавливаю закон, понятно вам? Хомо сол станут частью Федерации. И за две сотни лет достигнут зрелости. Об этом я вам заявляю официально.
Ригелианин свирепо обвел глазами помещение и бесцеремонно распорядился:
— Марш за мной.
Они последовали за маленьким психологом, смирившиеся и покорные, и оказались в его жилых помещениях.
Тан Порус отодвинул в сторону занавеску, и все увидели полотно, изображавшее взрослого землянина в полный рост.
— Вам это о чем-нибудь говорит?
Изображенный человек совсем не походил на тех жителей Земли, с которыми психологам пришлось иметь дело. Невольное почтение внушали его горделивая осанка, величавая поступь и суровый, строгий взгляд. Одной рукой он поглаживал седовласую бороду, другой — поддерживал ниспадавшие одежды, облекавшие его могучее, прекрасное тело. И весь он олицетворял собой величие и силу.
— Зевс, — сказал Порус. — Первобытные земляне создали его как персонификацию бурь и дождей, штормов и гроз. — Он повернулся к растерянной пятерке. — Не напоминает ли он вам кого-нибудь?
— Хомо канопус, — неуверенно предположил Хелвин.
Порус был очень доволен собой, но лишь на мгновение позволил этому чувству вырваться наружу, чтобы затем вновь надеть на лицо каменную маску.
— Верно, — отрезал он. — Кто в этом будет сомневаться? Живой канопусец, полностью поглощенный осязанием своей бородищи.
— Теперь, — продолжал Порус, отодвигая следующую занавеску, — еще кое-что.
На втором полотне была изображена женщина, полногрудая, широкобедрая, с несказанной улыбкой на лице, в венке из колосьев и с корзиной плодов в руках.
— Деметра, — улыбаясь пояснил Порус. — Еще одна персонификация, уже культурного изобилия. Идеализированная мать. Кого она вам напоминает?
На этот раз сомнений не последовало. Пятеро в один голос воскликнули:
— Хомо бетельгейзе!
Слабая улыбка тронула губы Поруса:
— Вот мы их и заполучили? Верно?
— Что верно? — переспросил Тубал.
— Неужели не видите? — улыбка исчезла с лица Поруса. — Что вам не понятно? Ничтожества! Если сто Зевсов и столько же Деметр прибудут на Землю как члены торговой миссии и окажутся опытными психологами… Мне продолжать или теперь вам ясно?
Семпер Гор неожиданно рассмеялся:
— Пространство, время и микрометеорит! Конечно же! Земляне станут глиной в руках своих собственных персонификаций непогоды и материнства, воплощенных в жизнь. И через двести лет… да, через двести лет мы от них сможем добиться чего угодно.
— Но что касается этой вашей так называемой «торговой миссии», Порус, вмешался Прат, — для начала необходимо уговорить землян согласиться на нее.
Порус склонил голову набок.
— Дорогой коллега Прат, — проворчал он, — не думаете ли вы, что я устроил пассивную панику только для собственного удовольствия или желания проучить пять тупоголовых кретинов? Пассивная паника парализовала промышленность, и земное правительство оказалось перед лицом революции — еще одной формой реакции толпы, которая ждет своего исследования. Предложите им галактическую торговлю и бесконечное процветание, и вы думаете, они начнут на нас бросаться? А что на это скажут массы?
Психологи взволнованно зашушукались, но ригелианин нетерпеливым жестом прервал их.
— Если у вас больше нет вопросов, джентльмены, начнем подготовку к возвращению. Честно говоря, я устал от Земли и горю желанием вновь взяться за сквида, — заключил Порус и отвернулся, обращаясь к Харидину:
— Скажи Арну, чтобы готовил корабль. Мы отбываем через шесть часов!
— Но… но…
Общее недовольство выразил неожиданный поступок Семпера Гора, вдруг рванувшегося к Порусу и рывком оттащившего его назад, словно тот намеревался отбыть немедленно. Маленький ригелианин тщетно пытался вырваться — противник обладал недюжинной силой.
— Убери руки!
— Мы достаточно терпеливы, Порус, — выдохнул Гор, — Так что, будь добр, успокойся и веди себя как гуманоид. Что бы вы ни говорили, мы не улетим, пока все не сделаем. Надо договориться с этим правительством насчет нашей торговой миссии. Мы должны спокойно обсудить ее состав. Подобрать подходящих психологов… Мы…
Тут Порус ловким движением освободился из объятий своего коллеги:
— И вы хоть на мгновение могли предположить, что я стану ждать, пока ваша изумительная миссия выяснит каждую детальку вопроса, убив на это еще два-три столетия!? Прошел целый месяц с тех пор, как Земля безоговорочно приняла мои условия. А пять месяцев назад был выслан отряд с Канопуса и Бетельгейзе. Позавчера он прибыл. Только с их помощью мы смогли остановить сегодняшнюю панику — а вы об этом даже не подозревали. Вы, должно быть, решили, что сами справитесь?! Но, джентльмены, сейчас они держат ситуацию под полным контролем и в наших услугах больше не нуждаются. Так что отправляемся домой.
И Порус позволил себе слабо усмехнуться.
Мнимые величины
Телекоммуникатор разбрасывал судорожные вспышки, пока психолог с Ригеля Тан Порус неторопливо устраивался перед экраном. В глазах Тана появился блеск, возбуждение передалось всем членам его худенького тела. И даже необычная его поза — Порус уселся, водрузив ноги на стол, — подчеркивала неординарность происходящего. Наконец коммуникатор ожил, засветился, и на экране появилось широкое лицо жителя Арктура, глядевшего раздраженно и хмуро.
— Сейчас середина ночи! Ты вызвал меня сюда прямо из постели, Порус!
— А у нас самый что ни на есть день, Финал. Но мое сообщение у тебя начисто прогонит мысли о сне.
Легкое беспокойство охватило Гара Финала, редактора журнала «Галактическая психология». Финал знал, что Порус, как и всякий гуманоид, имеет множество недостатков, но обладает при этом одним несомненным достоинством: никогда и никого не поднимет из постели по ложной тревоге. Если Порус говорил, что назревает событие огромной важности, то степень важности оказывалась не просто огромной, а, как минимум, колоссальной. К тому же сейчас Порус был несомненно доволен собой, что случалось с ним не так уж часто.
— Финал, — произнес он, — следующая статья, которую я намерен продать вашему журналишке, станет величайшей работой, когда-либо мною напечатанной.
На Финала это произвело впечатление.
— Вы отдаете отчет своим словам? — спросил он.
— Не задавайте идиотских вопросов. Разумеется, отдаю. Послушайте…
Тут последовало неожиданное молчание, в течение которого нетерпение Финала возрастало с величайшей скоростью, но наконец Порус, будто актер, разыгрывающий на сцене драму, выдавил из себя напряженным шепотом:
— Я разрешил проблему сквида!
Реакция оказалась как раз такой, какую психолог предвидел. Своим сообщением он вызвал немалой силы эмоциональный взрыв, продолжавшийся примерно минуту, в течение которой ригелианин не без удовольствия отметил, что словарный запас благочинного и респектабельного арктурианца богат также и непристойными выражениями.
Сквид Поруса давно стал притчей во языцех для всей Галактики. Вот уже два года ученый бился с непонятным организмом с Беты Дракона, который настойчиво погружался в сон, когда ему вовсе не полагалось этого делать. Порус выводил все новые уравнения и уничтожал их с такой периодичностью, что это уже превратилось в стандартную шутку среди психологов Федерации, но необычную реакцию сквида объяснить не мог никто. И теперь Финала вытащили из постели, чтобы сообщить, будто решение найдено, — всего-то навсего!
Финал разразился заключительной фразой, передать которую телекоммуникатор мог лишь частично.
Порус выждал, пока ураган стих, после чего мирно поинтересовался:
— Знаешь, каким образом я ее решил?
В ответ послышалось невнятное бормотание.
Наконец ригелианин заговорил. От былого его веселья не осталось и следа, а после первых слов пропали и следы ярости на лице Финала, уступив место выражению, означавшему, что арктурианец испытывает нескрываемый интерес.
— Не может быть! — с трудом выдавил журналист.
Порус договорил, и Финал тут же принялся яростно дозваниваться до издательства, чтобы приостановить печатание журнала «Галактическая психология» на две недели.
Фуро Сантис, декан математического факультета университета Арктура, долго и внимательно рассматривал своего коллегу с Сириуса.
— Нет, нет, вы ошибаетесь. Его уравнения совершенно правильны. Я сам работал с ними.
— Математически — да, — отозвался круглолицый сирианец. — Но с точки зрения психологии они лишены смысла.
Сантис хлопнул себя по широкому лбу:
— Смысл! Послушайте только — и это говорит математик! Всемогущий Космос, коллега, что общего у математики со смыслом? Математика просто инструмент, и до тех пор пока с его помощью даются правильные ответы и делаются верные предсказания, актуальный их смысл роли не играет. Именно так я и заявил Тану Порусу. Большинство психологов знают математику настолько, чтобы не всегда путаться со сложением и умножением, но он в этом деле разбирается.
Собеседник Сантиса с сомнением покачал головой:
— Да знаю я, знаю. Но использование мнимых величин в уравнениях по психологии несколько превосходит мою веру в науку. Квадратный корень из минус единицы?
Он передернул плечами.
Комната отдыха старших в здании Психологического центра была переполнена и гудела взволнованными голосами. Слух о том, что Порус разрешил ставшую ухе классической проблему сквида, распространился мгновенно, и разговоры велись только об этом.
Постепенно всеобщим вниманием завладел Лор Харидин, который, несмотря на свою молодость, недавно был удостоен титула старшего. И теперь, являясь ассистентом Поруса, он явно считал себя хозяином положения.
— Значит, слушайте, коллеги… только учтите, всех подробностей я не знаю. Они секрет старика. Все, что я могу сообщить, это, так сказать, генеральную идею, то есть каким образом Порус решил эту проблему.
Психологи пододвинулись ближе.
— Говорят, он воспользовался мерой новых математических символов, заметил один из присутствующих, — и как раз в тот момент, когда у нас возникли затруднения с гуманоидами с Земли.
Лор Харидин покачал головой:
— Еще хуже! Представить не могу, что заставило старика работать в том направлении. Может, мозговая атака, может, кошмары. Но, как бы там ни было, он обратился к мнимым величинам — квадратному корню из минус единицы.
Наступило благоговейное молчание, снова прерванное тем же голосом:
— Просто не могу поверить!
— Это факт! — благодушно ответил Харидин.
— Но ведь в этом нет никакого смысла. Что может собой представлять квадратный корень из минус единицы, если брать его в психологическом понимании? Значит… — говорящий производил в уме быстрые вычисления, как и большинство присутствующих… — получается, что нервные синапсы смыкаются не более и не менее как в четырех измерениях.
— Именно так, — раздался еще один голос. — Если воздействовать на сквид сегодня, то его реакция последует вчера. Вот что должны означать эти мнимые величины. Кометный газ! И ничего больше.
— Дело в том, что Тан Порус — особенный человек, — снова вмешался Харидин. — Вы полагаете, что его интересовало, как много мнимых величин возникло на промежуточных стадиях, если все они в конечном счете свелись к квадратному корню из минус единицы? На самом деле, ему требовался конечный результат, сводившийся к простенькому выражению, которое может объяснить эти непонятные приступы сонливости. Что же касается их физической природы — какое это имеет значение? Математика всего лишь инструмент, не более.
Последовало длительное молчание: удивленные присутствующие обдумывали услышанное.
Тан Порус занимал отдельную каюту на борту новейшего и самого шикарного межзвездного лайнера. Перед психологом стоял смущенный молодой человек, которого Порус не без удовольствия осматривал. Он был в поразительно хорошем настроении и, пожалуй, впервые за всю свою жизнь не выходил из себя, давая интервью деловитому представителю прессы.
Репортер в свою очередь молча изумлялся приветливости ученого. На собственном горьком опыте он убедился, что ученые в большинстве своем недолюбливают репортеров, а психологи — в особенности, и часто используют их в качестве объектов для отработки своих методов, вызывая убийственно смешные для окружающих реакции.
Журналист вспомнил, как однажды старикан с Канопуса убедил его, что величайшее наслаждение — жить на деревьях. Тогда потребовалось двенадцать человек, чтобы стащить его с вершины, а специальный психолог приводил в порядок его рассудок.
Сейчас же он имел дело с самым великим из психологов — Таном Порусом, который деловито отвечал на вопросы, как и полагается нормальному живому существу.
— И еще, профессор, — продолжал расспрашивать репортер, — я хотел бы узнать, как следует понимать эти мнимые величины. Не в математическом смысле, — торопливо добавил он, — тут мы верим вам на слово, а, так сказать, генеральную идею, понятную среднему гуманоиду. Я слышал, что у сквида четырехмерный мозг?
Порус взревел.
— О Ригель! Четырехмерная чепуха. Если говорить чистую правду, то мнимые величины, вызывающие столь удивительные фантазии у общественности, на самом деле свидетельствуют лишь об определенных аномалиях в нервной системе сквида. Но каких именно, я не знаю. С точки зрения основополагающих законов экологии и микропсихологии, ничего необычного в обнаруженном не было, Очевидно, ответ нужно искать в атомной структуре мозга этого объекта, но тут я бессилен. — В голосе Поруса появились презрительные нотки. — Ядерные физики настолько отстали от психологов, что нет смысла просить их разобраться в этом нюансе.
Репортер яростно записывал. Завтрашний заголовок уже сформулировался у него в голове: «Прославленный психолог обвиняет физиков-ядерщиков!»
И тут же возник заголовок для послезавтрашнего номера: «Оскорбленные физики разоблачают прославленного психолога!».
Научные распри пользовались большой популярностью в прессе, в особенности те, что случались между физиками и психологами, переносившими друг друга с трудом.
Репортер поднял сияющие глаза на Поруса:
— Профессор, вы, конечно, знаете, что гуманоиды Галактики очень интересуются личной жизнью ученых. Надеюсь, вы не обидитесь, если я задам вам несколько вопросов относительно вашей поездки домой, на Ригель-IV?
— Валяйте, — добродушно согласился Порус. — Скажите им, что я впервые за последние два года выбрался домой и сейчас нахожусь в предвкушении отличного отдыха. Арктур несколько желтоват для моих глаз, и обстановка здесь слишком шумная.
— Это правда, что дома вас ждет жена?
Порус закашлялся:
— Мгм, да. Самая очаровательная малышка во всей Вселенной. Можете записать: мне очень приятно, что я ее скоро увижу.
— Тогда почему вы не взяли ее с собой на Арктур?
Выражение добродушия частично испарилось с лица ученого:
— Работать я предпочитаю один. Женщины хороши, когда они на своем месте. К тому же мое представление об отдыхе — это отсутствие посторонних, я люблю иногда побыть в одиночестве. Этого, пожалуй, не записывайте.
Репортер отложил блокнот и посмотрел на своего миниатюрного собеседника с нескрываемым восхищением.
— Скажите, профессор, но каким образом вам удалось оставить ее дома? Надеюсь, это не секрет? — Он проникновенно вздохнул и добавил: — Очень скоро это могло бы мне пригодиться.
Порус хохотнул:
— Так и быть, сынок, скажу. Если ты первоклассный психолог, то должен быть хозяином в собственном доме.
Интервью подошло к концу, репортер собрался уходить, но внезапно Порус схватил его за руку. Зеленые глаза профессора сделались маленькими и злыми:
— Послушай, сынок, не забудь опустить в статье последнее замечание.
Репортер побледнел и отшатнулся:
— Конечно, сэр, ни в коем случае. Журналисты хорошо знают, что лучше не обезьянничать с психологом, иначе он сделает обезьяну из тебя!
— Неплохо сказано! Выражаясь литературно, знаешь ли ты, что мне это под силу, если понадобится?
Молодой репортер поспешил покончить с расспросами, втянул голову в плечи и вытер холодный пот со лба. Направляясь к выходу, он почувствовал себя так, будто стоит на краю пропасти. И мысленно решил: больше никаких интервью с психологами. Во всяком случае, пока ему не повысят зарплату.
На приближение к родной планете первым отреагировало сердце Поруса, застучав сильнее обычного, а затем его глаз достиг свет девственно-белого шара Ригеля, при этом мозг ученого бесстрастно констатировал: реакция В-типа, то есть ностальгия или условный рефлекс, связанный с тем, что Ригель всегда напоминал Порусу о счастливых переживаниях молодости…
Термины, фразы, уравнения закружились в его изощренном мозгу, но назло им он был счастлив. На недолгий период человек восторжествовал над психологом Порус отказался от анализа ради изумительной радости побыть некритично счастливым.
За две ночи до прибытия он пожертвовал сном, чтобы не пропустить появления Ханлона, четвертой планеты Ригеля. Это и был его родной мир, который населяли маленькие люди. Где-то там, на берегу спокойного моря, стоит маленький двухэтажный домик. Совсем крохотный, в отличие от высоких и громоздких зданий, что строят себе арктурианцы и прочие дылды гуманоиды.
Как раз наступил летний сезон, когда дома кажутся купающимися в жемчужном свете Ригеля, — какое это должно быть удовольствие после желтого солнца Арктура!
И, конечно, самое главное наслаждение, которого Порус был лишен вот уже два года, он получит, объедаясь жареным триптексом. Причем его жена — лучшая мастерица в приготовлении этого изумительного блюда.
При мысли о жене Тан Порус слегка поморщился. Конечно, было подлостью бросить ее вот так на два года, но это диктовалось необходимостью. Он еще раз взглянул на разложенные перед ним бумаги и принялся их перебирать. Пальцы его слегка подрагивали. Весь остаток дня психолог потратил на вычисление реакции жены, когда она впервые увидит его после двухлетней разлуки, и результат получался не очень утешительным.
Тина Порус обладала неукротимыми эмоциями — ему предстояло действовать быстро и эффективно.
Ученый быстро отыскал жену в толпе и улыбнулся. Было приятно снова ее видеть, даже если вычисления предвещали затяжной и мощный шторм. Он еще раз мысленно пробежал свою заготовленную речь и внес последние коррективы.
В этот момент Тина заметила его, неистово замахала руками, пробиваясь в передние ряды встречающих, и повисла на его шее раньше, чем он успел к этому приготовиться. Оказавшись в ее любящих объятиях, Тан Порус с удивлением констатировал, что млеет от счастья.
Правда, это была вовсе не та реакция, которой он ожидал. Что-то шло вразрез с его предположениями.
Жена ловко провела ученого сквозь толпу поджидавших репортеров к тратоплану, не переставая тараторить всю дорогу:
— Тан Порус, Тан Порус, я уже думала, что не доживу до того момента, когда вновь тебя увижу. До чего же здорово, что мы опять вместе. И ты был совершенно не прав. Здесь, дома, конечно, очень хорошо, но, когда тебя нет, что-то тут не так.
Порус не верил своим глазам. Подобная встреча была совершенно не характерна для Тины. А чуткий слух психолога все это воспринимал как бред безумной. У него не хватало соображения отвечать хотя бы мычанием на отдельные высказывания. Медленно коченея в своем кресле, он с ужасом наблюдал, как уносится земля под ними, слышал, как воет вокруг ветер, когда они неслись к своему домику на берегу моря.
А Тина Порус продолжала болтать, легко и ненавязчиво связывая воедино слова, составляющие непрерывную цепь ее монолога:
— И конечно же, дорогой, я приготовила тебе целого триптекса, зажаренного на вертеле, с гарниром из сарниесов. Ах да, что это за история с новой планетой?.. Землей, ведь ты ее так назвал? Я тобой так гордилась, как только услышала. Я сразу сказала…
И так далее и тому подобное, пока ее слова не превратились для Поруса в бессмысленный конгломерат звуков.
Но где же ее упреки? Где слезы, вызванные жалостью к себе?
За обедом Тан Порус попытался взять себя в руки и мысленно призвал на помощь всю свою волю. Перед ним стояла испускавшая пары тарелка с триптексом, почему-то совсем не вызывающим аппетит, но психолог заговорил как ни в чем не бывало:
— Это мне напоминает тот день на Арктуре, когда я обедал с председателем правления…
Он погрузился в подробности, хотя совсем отклонился от сути дела; живописал шуточки, при этом лирически гневался на собственное от них удовольствие; сделал упор почти не замаскированный, на тот факт, что он чуть было не забыл свою жену; наконец, в последней дикой вспышке отчаяния, как бы ненароком вспомнил, что поразительное количество ригелианских женщин встретил в системе Арктура.
На все эти его слова жена проговорила с улыбкой:
— Я так рада, мой дорогой. Это просто замечательно, что ты там был не один. Ешь же свой триптекс.
Но Пору с не мог есть даже триптекс. При одной мысли о еде его начинало мутить. Растерянно, пожалуй, даже испуганно он посмотрел на жену, медленно поднялся; пытаясь сохранить остатки достоинства, решил спастись бегством и уединился в своей комнате.
Там он лихорадочно полистал расчеты, потом рывком опустился в кресло. Кипя от ярости, Порус понимал: с Тиной явно происходило что-то недоброе. Невероятно недоброе! Даже интерес, появившийся к другому мужчине, — на мгновение он предположил и такое — не мог настолько революционно изменить ее характер.
Психолог рванул на себе волосы. Существовал какой-то тайный фактор, еще более невероятный, чем этот, — а он понятия не имел какой! В это мгновение Тан Порус отдал бы все свои всемирные заслуги только за то, чтобы его жена сделала хоть одну попытку снять с него скальп, как в добрые старые времена.
А рядом, в столовой, Тина Порус позволила веселым искоркам заиграть в ее глазах.
Лор Харидин отложил ручку и сказал:
— Войдите!
Дверь открылась, появился его приятель Эбло Раник, одним движением расчистил угол стола и уселся на его край:
— Харидин, у меня идея!
Голос его прозвучал необычно, словно виноватый выдох. Харидин с подозрением покосился на него:
— Вроде той, когда ты подстроил ловушку старине Обелю?
Раник пожал плечами. Действительно, целых два дня ему пришлось скрываться в вентиляционной шахте, когда его шутка великолепнейшим образом сработала.
— Нет, на этот раз все законно. Слушай, Порус ведь тебе поручил заботиться о сквиде, не так ли?
— Ага, вижу, на что ты нацелился. Ничего не выйдет. Я имею право лишь накормить сквида и ничего больше. Даже если я хлопну в ладоши, чтобы вызвать у него реакцию перемены цвета, шеф меня потом прикончит.
— Космос с ним. Он где-то там, за много парсеков отсюда. — Раник извлек экземпляр журнала «Галактическая психология» и развернул на нужной странице.
— Ты следил за экспериментами Ливелла на Проционе-V? Интересно, там использовались магнитные поля или ультрафиолетовое облучение?
— Не моя область, — ответил Харидин, — но, конечно, я о них слышал. А в чем дело?
— Так вот, появляется реакция Е-типа, которая порождает, хочешь верь, хочешь не верь, стройный эффект Фимбала практически в каждом случае, в особенности у высших беспозвоночных.
— Хм-м-м!
— Значит, если мы попробуем применить это к сквиду то получим…
— Нет и нет! — Харидин неистово замотал головой. — Порус меня в порошок сотрет. Великие звезды, что он тогда со мной сделает!
— Да послушай ты, дурачок. Последнее слово не за Порусом, а за Фрианом Обелем. Ведь Обель — глава департамента психологии. От тебя требуется лишь обратиться к нему за разрешением, и ты его получишь. Говоря между нами, после той прошлогодней заварухи с хомо сол он старается Порусу на глаза не попадаться.
Харидин все еще пытался сопротивляться:
— Вот ты и обратись за разрешением.
Раник поперхнулся:
— Нет. Если по правде, то мне не стоит показываться ему на глаза. Кажется, он до сих пор подозревает, что ту штуку с ним выкинул именно я. Так что мне лучше не соваться.
— Хм-м-м. Ладно, попробую.
Выглядел Лор Харидин так, словно неделю не спал как следует. Раник посмотрел на него кротко и терпеливо и вздохнул:
— Взгляните на него. Может, ты соизволишь сесть? Сантин сказал, что есть возможность получить окончательный результат уже сегодня, не так ли?
— Да, я знаю. Но какой позор! Я семь лет убил на высшую математику. А теперь допускаю дурацкую ошибку и даже не могу ее найти.
— Но если ее и искать не надо?
— Не будь идиотом. Ответ тут просто невозможен. Он и должен быть невозможен. Должен! — высокий лоб Харидина пошел морщинами. — О-о, я просто не знаю, что и думать.
Его все еще продолжали одолевать дремота и навязчивое желание растянуться на ковре, лежавшем на полу, но Харидин не прекращал отчаянных размышлений. Неожиданно он опустился в кресло.
— Это все временные интегралы. С ними просто невозможно работать, я же тебе говорил. Нахожу их в таблице, трачу полчаса, чтобы подобрать наиболее подходящее значение, и они дают — ни много ни мало — семнадцать возможных вариантов ответа. Пытаюсь отыскать хотя бы один, имеющий смысл, и — помоги мне Арктур! — выходит, что или они все имеют смысл, или ни один! Составляю таблицу для восьми из них, как в нашей задаче, но комбинаций получается столько, что разбираться с ними нужно всю оставшуюся жизнь! Ложный ответ! Я удивлюсь, если после этого живым останусь.
Взглядом, который он бросил на толстый том «Таблиц временных интегралов», очень даже можно было испепелить переплет, чего к величайшему удивлению Раника все-таки не произошло.
Замигала сигнальная лампочка. Харидин рванулся к двери. Выхватил из рук курьера пакет, с яростью распечатал его, не взирая на печати, и, пролистав не глядя, остановился на последнем абзаце последней страницы. Сангин писал:
«Ваши вычисления правильны. Желаю успеха. Но не стоит Порусу наносить удар из-за спины! Лучше сразу войти с ним в контакт».
Раник прочел резюме, выглядывая из-за плеч Харидина, и они долго и недоуменно смотрели друг на друга выпученными глазами.
— Я был прав, — прошептал Харидин. — Мы обнаружили такое сочетание, при котором мнимые числа в квадрат не возводятся. Эта предсказуемая реакция включает в себя мнимые величины.
Раник сглотнул, чувствуя, что его охватывает оцепенение:
— И как ты это интерпретируешь?
— Великий Космос! Клянусь Галактикой, не знаю! Нужно передать дело Порусу, вот и все.
Раник хрустнул пальцами и схватил своего коллегу за плечо.
— Нет, нет, только не это. Мы упустим величайший шанс. А если доведем дело до конца, будущее нам обеспечено, — он не мог говорить от возбуждения. Великий Арктур! Да любой психолог дважды заложил бы собственную жизнь ради малейшей возможности оказаться на нашем месте!
Сквид с Беты Дракона благодушно плавал себе, не испытывая трепета перед гигантским соленоидом, окружавшим его бассейн. Множество перепутанных проводов, освинцованных кабелей, подвешенных кверху ртутных ламп ничего для него не значили. Он пощипывал листки морских папоротников, растущих вокруг, и, казалось, был доволен тем, что существует в мире со всем миром.
Другие чувства испытывали два молодых психолога. Эбло Раник суетился над сложной паутиной переплетений, в попытке еще раз заново все проверить. Лор Харидин помогал ему тем, что кусал себе ногти, безжалостно отгрызая их один за другим.
— Готово, — заявил наконец Раник и вытер платком пот со лба. — Бей его, не жалей!
Засветились ртутные лампы. Харидин задернул занавеси на окнах. В холодном тускло-красном свете Раник и Харидин с позеленевшими лицами внимательно наблюдали за сквидом.
Животное безостановочно двигалось. В жестком ртутном свете сквид казался тускло-черным.
— Врубай ток! — хрипло бросил Харидин.
— Никакой реакции? — проронил Раник, словно бы ни к кому не обращаясь. И тут же затаил дыхание, так как Харидин еще ниже склонился над сквидом.
— С ним что-то происходит. Мне кажется, он начал слегка светиться… или меня глаза подводят.
Свечение сделалось более отчетливым, казалось, оно отделилось от тела животного, образовав вокруг светящуюся оболочку. Томительно текли минуты.
— Он излучает какой-то вид радиации, можешь называть ее как угодно, и с течением времени этот процесс усиливается.
Ответа не последовало. Оба продолжали терпеливо наблюдать. Вдруг Раник испустил приглушенный вопль и с чудовищной силой вцепился в локоть Харидина:
— Взрывающиеся кометы, это еще что такое?
Светящаяся сфера неведомо как выбросила наружу псевдоподию. Маленький язычок коснулся покачивающегося папоротника, листья которого мгновенно побурели и завяли.
— Отключай ток!
Щелкнул выключатель, погасли ртутные лампы, сгустились тени, и экспериментаторы нервно переглянулись.
— Что это было?
Харадин покачал головой:
— Не знаю. Что-то определенно ненормальное. Я никогда раньше ничего похожего не видел.
— Но ты никогда раньше не видел и мнимых величин в уравнениях реакций, верно? К тому же я не думаю, чтобы это расширяющееся поле было какой-то неизвестной нам формой энергии…
Раник выдохнул со свистом и медленно отступил от бассейна со сквидом. Моллюск лежал неподвижно, но ухе половина папоротников в бассейне побурела и увяла.
Харидин с трудом дышал. Он сдвинул защитные очки.
Во тьме светящийся туманный шар распространился более чем на половину бассейна. Тоненькие подвижные щупальца тянулись к уцелевшим растениям, а одна змейка пульсирующей тенью перекинулась через стеклянный край бассейна и теперь ползла по столу.
От испуга Раник перешел на невразумительный хрип:
— Запаздывающая реакция! Ты не проверял ее на теорему Вилбона?
— Чего ради! — Харидина охватил приступ отчаяния, голова его тряслась. Теорема Вилбона не имеет смысла, если туда подставить мнимые величины. Надо было бы… Раник развил бешеную энергию. Выскочив из помещения, он тотчас вернулся с крохотной, пронзительно верещащей, похожей на белку зверушкой из собственной лаборатории. Бросил ее на стол, по которому ползла пульсирующая змейка, и линейкой пододвинул примерно на ярд.
Светящееся щупальце задрожало, очевидно, ощутило близость жизни каким-то жутковатым незрячим образом и сделало быстрый бросок. Маленький грызун издал последний вопль, означавший непередаваемую муку, затем замолк. Через две секунды от него осталась лишь съежившаяся шкурка.
Раник выругался и с отчаянным криком выронил линейку, так как святящееся щупальце, ухе более толстое, двинулось по столу в его сторону.
— Иди сюда! — распорядился Харидин. — С этим пора кончать. Он рывком расстегнул кобуру и выхватил поблескивающий хромом лазер. Острая тонкая игла пурпурного света ринулась вперед к сквиду и взорвалась с ослепительной беззвучной яростью на границе силовой сферы. Психолог выстрелил еще раз, передвинул рычажок, и образовался непрерывный пурпурный луч разрушения, который прекратился только тогда, когда иссякла энергия разрушения.
Но светящаяся сфера осталась неподвижной. Теперь она занимала уже весь бассейн. Папоротники превратились в мертвую бурую аморфную массу.
— Надо связаться с советом, — выкрикнул Раник. — Эта тварь совсем вышла из повиновения.
Растерянности не возникло — гуманоиды в своей массе просто не способны на панику, если не принимать во внимание полугениальных, полугуманоидных обитателей Солнечной системы, — и эвакуация с территории университета протекала спокойно.
— Один глупец, — заметил старый Мир Деан, ведущий физик Арктурианского университета, — способен задать столько вопросов, что на них не сможет ответить и тысяча мудрецов.
Он провел пальцем по своей жидкой бороденке и звучно фыркнул в знак презрения:
— Если проводить аналогию, то один космически глупый психолог способен заварить такую кашу, что ее не расхлебать и тысяче физиков.
Обелю ужасно захотелось оттаскать зарвавшегося физика за бороду. У него, конечно, было свое мнение насчет Харидина и Раника, но не увечному же физику позволять себе…
Появившаяся полная фигура Куала Унина, ректора университета, разрядила возникшее напряжение. Уинн задыхался, слова его перемежались с пыхтением.
— Я связался с Галактическим Конгрессом. Они пообещали эвакуацию всего Эрона в случае необходимости, — в голосе его появились умоляющие нотки. Неужели нельзя ничего больше сделать?
Мир Деан вздохнул:
— Ничего… пока. Этот сквид излучает особого вида псевдоживое поле радиации. Оно не носит электромагнитного характера — это все, что мы сейчас знаем. Его распространение не удалось остановить ничем из того, что мы перепробовали. Все виды нашего оружия неэффективны, потому что в пределах поля радиации обычные качества пространства-времени, как мне кажется, нарушаются. Ректор озабоченно покачал головой:
— Скверно! Скверно! Надеюсь, вы уже послали сообщение Порусу?
Он произнес это так, словно Порус был последней надеждой, той самой соломинкой, за которую хватается утопающий.
— Да, — хмуро ответил Фриан Обель, — Порус единственный человек, который должен знать, что же на самом деле представляет собой сквид. Если и он не сможет нам помочь, значит, больше никто не сможет.
Обель перевел взгляд на сверкающую белизну университетских зданий. Трава более чем наполовину превратилась в бурую массу, деревья высохли.
— Вы полагаете, — ректор повернулся к Деану, — это поле сможет распространяться и в межпланетном пространстве?
— Пламя сверхновой энергии?! Да я совсем не знаю, что тут делать! взорвался Деан и раздраженно отвернулся.
Полнейшая безысходность охватила присутствующих, и воцарилось гнетущее молчание.
Тана Поруса уговорили сходить на концерт, результатом чего явилась глубочайшая апатия. Психолог ничего не видел и не слышал: ни бриллиантового сверкания вокруг, ни мелодичной музыки, которая заполняла зал. Концерты для Поруса всегда были проклятием, и двадцать лет супружеской жизни он умело от них откручивался — одно это было под силу только величайшему из психологов. А теперь… Из оцепенения его вывел неожиданный дисгармонический звук, раздавшийся у него за спиной. Порядок нарушили билетеры, вдруг столпившиеся у выхода, лишь виднелись протестующие движения рук людей в униформе, наконец раздался скрипучий голос:
— Я направлен Галактическим Конгрессом и прибыл по неотложному делу. Присутствует ли в зале Тан Порус?
Психолог прыжком вскочил на ноги. Любую возможность покинуть концерт он воспринимал не иначе, как дар небес.
Порус распечатают сообщение, врученное ему посыльным, и жадно впился в его содержание. На втором абзаце приподнятое настроение покинуло ученого. Наконец он дочитал сообщение до конца и поднял кверху глаза — они метали молнии.
— Когда мы можем вылететь?
— Корабль ждет.
— Тогда не следует терять времени.
Он сделал шаг вперед и остановился. Чья-то рука ухватила его за локоть.
— Куда это ты собрался? — спросила Тина Порус, в голосе ее послышались стальные нотки.
На мгновение Тан Порус почувствовал, что задыхается. Он предвидел, что сейчас может произойти:
— Дорогая, я вынужден немедленно отправиться на Эрон. На карту поставлена судьба целого мира, возможно, всей Галактики. Ты представить себе не можешь, насколько это важно. Я тебе все расскажу…
— Хорошо, я еду с тобой.
Психолог опустил голову.
— Конечно, дорогая, — выдавил он и вздохнул.
Психологи из комиссии дружно, как один, хмыкнули и забормотали, после чего с подозрением уставились на висящий перед ними крупномасштабный график.
— Смелее, коллеги, — проговорил Тан Порус. — Я сам чувствую себя в данном случае не совсем уверенно, но… вы все ознакомились с моими результатами, сами проверили вычисления. Это единственное воздействие, способное прекратить реакцию.
Фриан Обель нервно теребил подбородок:
— Да, с математикой все четко. Рост водородно-ионной активности может повысить интеграл Демана, и тогда…
Но послушайте, Порус, это не увязывается с пространством-временем. Математика здесь может оказаться бессильной, хотя, возможно, и все остальное не поможет.
— Это наш единственный шанс. Если бы мы имели дело с обычным пространством-временем, достаточно было бы залить этого проклятого красавчика сквида изрядной долей кислоты или зажарить из лазера. А поскольку дело обстоит иначе, у нас нет выбора и мы вынуждены пользоваться этой единственной возможностью…
Поруса перебил чей-то звучный голос:
— Дайте же мне пройти, говорю вам! Меня это не заботит, пусть идет хоть десять конференций сразу.
Дверь распахнулась, в проеме возникла массивная фигура Куала Уинна. Он поискал глазами Поруса и устремился к нему:
— Порус, должен вам сообщить, что я схожу с ума. Парламент намерен возложить всю ответственность на меня, как на ректора университета. А теперь еще Деан говорит, что…
И он беззвучно зашевелил губами, а Мир Деан, стоявший позади, продолжил рассказ:
— Поле теперь покрывает примерно одну тысячу квадратных миль, причем его способность к росту равномерно увеличивается. Теперь больше не остается сомнений, что оно способно распространяться и в межпланетном пространстве, а если понадобится, то и в большом межзвездном. Это уже вопрос времени.
— Вы слышали? Слышали? — Уинн прямо заблеял от тревоги. — Можете вы хоть что-то предпринять? Ведь вся Галактика погибнет! Погибнет, говорю я вам!
— Да оставьте вы в покое свою тунику, — громыхнул Порус. — И позвольте нам все уладить. — Он повернулся к Деану: — Сообразят ваши шутейные физики выполнить такие хотя бы грубые замеры, как, скажем, скорость проникновения поля сквозь различные преграды?
Деан сухо кивнул:
— Проницаемость варьируется в зависимости от плотности. Осьмий, иридий и платина — хорошо; золото, свинец — прекрасно.
— Чудненько! Все срабатывает. Мне потребуется скафандр с осьмиевым покрытием и шлемом из освинцованного железа. И чтобы покрытие было с обеих сторон, а шлем надежным и толстым.
Куал Уинн с яростью сорвался с места:
— Осьмиевое покрытие! Осьмиевое! Клянусь Великими Галактиками, о цене вы подумали?
— Подумал, — холодно проронил Порус.
— Но ведь они взвалят все это на университет, они… — Он с трудом опомнился, ощутив на себе угрюмый взгляд психолога.
— Когда он вам понадобится? — обреченно промычал Уинн.
— Вы на самом деле решили идти сами?
— А почему бы нет? — спросил Порус, забираясь в скафандр.
Мир Деан сказал:
— Шлем из освинцованного стекла сможет противостоять полю не больше часа, а возможно, вы испытаете его частичное проникновение и через более короткий промежуток времени. Понятия не имею, что вы тогда станете делать.
— Это уж мои заботы. — Порус замолчал, потом неуверенно добавил: — Я буду готов через несколько минут. Мне нужно поговорить с моей женой, наедине.
Беседа отличалась краткостью, причем это был один из тех крайне редких случаев, когда Тан Порус позабыл, что он психолог, и говорил то, что подсказывало сердце, без пауз, чтобы видеть непосредственную реакцию собеседника. Единственное, в чем он оставался уверен — срабатывала интуиция это в том, что жена его не повредилась рассудком и не сделала его сентиментальным, и он знал, что не ошибается. Ведь только в последнюю секунду она отвела глаза, а голос ее задрожал. Тина выхватила платок из широкого рукава и торопливо выбежала из комнаты.
Психолог поглядел ей вслед, затем нагнулся и поднял тоненькую книжицу, которая выпала, когда жена доставала платок. Не глядя, он сунул брошюрку в карман туники, криво усмехнулся и сказал:
— Талисман!
Одноместный крейсер Тана Поруса мчался сквозь поле смерти. И почти сразу его охватило липкое ощущение заброшенности. Он передернул плечами:
— Воображение! Сейчас нельзя нервам позволить распуститься.
Настоящее сияние — искры, гаснущие раньше, чем он успевал их рассмотреть, — разлилось в воздухе вокруг него. Потом сияние охватило весь корабль. Порус глянул вверх и увидел, что пять эрианских розовых рисовых птичек, которых он прихватил с собой, лежат мертвыми на полу клетки, представляя собой беспорядочную груду встопорщенных перьев.
— Значит, «поле смерти» уже здесь, — пробормотал он.
Поле действительно проникало сквозь стальную оболочку крейсера.
Посадка прошла довольно неуклюже: крейсер сильно ударился об университетское поле. Тан Порус в нелепом и громоздком осьмиевом скафандре выбрался наружу, и его взору предстал безжизненный пейзаж. Все: начиная от бурой щетины под ногами и заканчивая светящимся небом, ничего общего не имевшим с голубизной, — говорило о смерти. Порус направился к факультету психологии.
В лаборатории было темно. Шторы так и остались опущенными. Психолог поднял их и принялся изучать бассейн со сквидом. Водяной клапан продолжал работать, и бассейн был полон. Впрочем, это единственное, что казалось здесь нормальным. Лишь несколько темно-коричневых искрошившихся обломков напоминали о морских папоротниках. Сам сквид инертно лежал на дне бассейна. Тан Порус вздохнул. Он вдруг почувствовал, как усталость и оцепенение наваливаются на него. Мозг не мог работать нормально, пребывая как будто в тумане. Какое-то время ученый глядел прямо и ничего не видел. Наконец собрался с силами, поднял бутылку, которую принес с собой, и поглядел на этикетку. Двенадцатимолевая гидрохлоридная кислота. Он рассеянно промычал про себя:
— Две сотни кубиков. Теперь все содержимое выливаем и насильно заставляем радиацию понизиться. Если только ионная активность водорода имеет здесь какое-либо значение.
Порус нащупал стеклянную пробку и неожиданно для себя рассмеялся. Он вдруг вспомнил, что похожие ощущения испытал, когда единственный раз в жизни напился. Порус помотал головой, чтобы стряхнуть оцепенение, охватившее мозг как паутина.
— Теперь выждем несколько минут, пока сработает… и что потом? Понятия не имею… что-нибудь, как-нибудь. А эта тварюга станет хламом! Станет хламом! Хламомхламом-хламом! — и он принялся напевать простенькую песенку, пока кислота делала свое дело в открытом бассейне.
Тан Порус был доволен собой и опять рассмеялся. Затем взболтал воду своей бронированной рукой и расхохотался еще сильнее. А потом снова вернулся к песенке.
Наконец он заметил неуловимые перемены в обстановке. Начал присматриваться, на время даже перестал петь. И тут случившееся обрушилось на него потоком холодной воды. Сияние в атмосфере исчезло!
С внезапной решимостью Порус расстегнул шлем, отбросил его прочь и полной грудью вобрал в себя воздух, несколько затхлый, но не смертельный.
Наполнив кислотой бассейн, он уничтожил поле в зародыше. Можно отметить новую победу чистой математической психологии. Порус выбрался из своего осьмиевого скафандра, потянулся и вдруг почувствовал, как грудь ему сдавила та книжица, которую выронила его жена. Доставая брошюру, он подумал:
— Талисман свое дело выполнил! — и виновато улыбнулся собственному капризу. Улыбка застыла, когда Порус прочитал название: «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ. ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ».
Это было равносильно тому, как если бы что-то большое и тяжелое внезапно обрушилось на голову. Порус наконец-то прозрел:
— Тина, оказывается, целых два года изучала прикладную психологию!!! Так вот каким был недостающий фактор! Ему следовало предусмотреть это. Тогда он смог бы воспользоваться тройным переменным интегралом, но…
Психолог надавил клавишу телекоммуникатора и вышел на связь:
— Эй, говорит Порус. Слушайте все-все! Поле смерти исчезло. Я перехитрил сквида!
Он отключился и с торжеством добавил:
— … и свою жену тоже!
Довольно странно, — а может, ничего странного! — но эта вторая победа доставила ему гораздо большее удовольствие.
История
Худая рука Уллена легко и бережно водила стило по бумаге; близко посаженные глаза помаргивали за толстыми линзами. Дважды загорался световой сигнал, прежде чем Уллен ответил:
— Это ты, Тшонни? Вхоти, пошалуйста. Он добродушно улыбнулся, его сухощавое марсианское лицо оживилось.
— Сатись, Тшонни… но сперва приспусти санавески. Сверкание вашево огромново семново солнца растрашает. Ах, совсем-совсем хорошо, а теперь сатись и посити тихо-тихо немношко, Потому что я санят.
Джон Брюстер сдвинул в сторону кипу бумаг и уселся. Сдув пыль с корешка открытой книги на соседнем стуле, он укоризненно поглядел на марсианского историка.
— А ты все роешься в своих дряхлых заплесневелых фолиантах? И тебе не надоело?
— Пошалуйста, Тшонни, — Уллен не поднимал глаз, — не сакрой мне нушную страницу. Это кника «Эра Китлера», Уильяма Стюарта, и её очень трутно читать. Он испольсует слишком мноко слов, которых не расъясняет. — Когда он перевел взгляд на Джонни, на лице его читалось недоуменное раздражение. Никокта не опъясняет термины, которыми польсуется. Это ше совершенно ненаучно. Мы на Марсе, преште чем приступить к рапоте, саявляем: «Вот список всех терминов, которые испольсуются в тальнейшем. Иначе как пы люти смокли расумно исъясняться? Ну и ну! Эти сумасшетшие семляне!
— Это все пустяки, Уллен… забудь. Почему бы тебе не взглянуть на меня? Или ты ничего не заметил?
Марсианин вздохнул, снял очки, задумчиво протер стекла и осторожно водрузил очки на нос. Потом окинул Джонни изучающим взглядом.
— Я тумаю, ты нател новый костюм. Или не так?
— Новый костюм? И это все, что ты можешь сказать, Уллен? Это же мундир. Я — член Внутренней Обороны. Он вскочил на ноги — воплощение юношеского задора.
— Што такое «Внутренняя Опорона?» — без энтузиазма поинтересовался Уллен.
Джонни захлопал глазами и растерянно опустился на место.
— Знаешь, я и в самом деле могу подумать, что ты даже не слышал о войне, которая на прошлой неделе началась между Землей и Венерой. Готов поспорить!
— Я пыл санят. — Марсианин нахмурился и поджал тонкие, бескровные губы. — На Марсе не пывает войн… теперь не пывает. Кокта-то мы применяли силу, но это ныло тавным-тавно. А теперь нас осталось мало, и силой мы не польсуемся. Этот путь совершенно песперспективен. — Казалось, он заставил себя встряхнуться и заговорить оживленнее. — Скаши мне, Тшонни, не знаешь ли ты, кде я моку найти опретеление тово, что насывается «национальная кортость»? Оно меня останавливает. Я не моку твикаться тальше, пока не пойму его сначение.
Джонни выпрямился во весь рост, блистая чистой зеленью мундира Земных Сил, и улыбнулся, ласково и снисходительно:
— Ты неисправим, Уллен, старый ты простофиля. Не хочешь ли пожелать мне удачи? Завтра я отправляюсь в космос.
— Ах, а это опасно?
Джонни даже взвизгнул от смеха:
— Опасно? А ты как думаешь?
— Токта… токта это клупо — искать опасности. Зачем это тепе нато? ~
— Тебе этого не понять, Уллен. Ты только пожелай мне удачи, скажи, чтобы я быстрее возвращался с победой.
— Все-не-пре-мен-но! Я никому не шелаю смерти. — Узкая ладонь марсианина скользнула в протянутую лапищу. — Путь осторошен, Тшонни… И покоти, пока ты не ушел, потаи мне рапоту Стюарта. Тут, на вашей Семле все телается таким тяшелым. Тяшелым-тяшелым… И таше к терминам не привотится опретелений.
Он вздохнул и вновь погрузился в манускрипты, ещё до того как Джонни неслышно выскользнул из комнаты.
— Какой варварский нарот, — сонно пробормотал себе под нос марсианин. — Воевать! Они тумают, что упивая… — Слова сменились внятным ворчанием, в то время как глаза продолжали следить за пальцем, ползущим по странице.
«…Союз англосаксонских государств в любую минуту мог распасться, хотя уже к весне 1941 года стало очевидно, что гибель…»
— Эти сумасшетшие семляне!
Опираясь на костыли, Уллен остановился на лестнице университетской библиотеки, сухонькой ладошкой защитив слезящиеся глаза от неистового земного солнца.
Небо было голубым, безоблачным… безмятежным. Но где-то там, вверху, за пределами воздушного океана, сражаясь, маневрировали стальные корабли, полыхая яростным огнем. А вниз, на города, падали крохотные капли смерти высокорадиоактивные бомбы, бесшумно и неумолимо выгрызающие в месте падения пятнадцатифутовый кратер.
Население городов теснилось в убежищах, скрывалось в расположенных глубоко под землей освинцованных помещениях. А здесь, наверху, молчаливые, озабоченные люди текли мимо Уллена. Патрульные в форме вносили некоторое подобие порядка в это гигантское бегство, направляя отставших и подгоняя медлительных.
Воздух был полон отрывистых приказов.
— Спустись-ка в убежище, папаша. И поторопись. Видишь ли, здесь запрещено торчать без дела.
Уллен повернулся к патрульному, неторопливо собрал разбежавшиеся мысли, оценивая ситуацию.
— Прошу прощения, семлянин… но я не спосопен очень пыстро перемещаться по вашему миру. — Он постучал костылем по мраморным плитам. В нем все претметы слишком тяшелы. Если я окашусь в толпе, то меня затопчут.
Он доброжелательно улыбнулся с высоты своего немалого роста. Патрульный потер щетинистый подбородок:
— Порядок, папаша, я тебя понял. Вам, марсианам, у нас нелегко… Убери-ка с дороги свои палочки.
Напрягшись, он подхватил марсианина на руки.
— Обхвати-ка меня покрепче ногами, нам надо поторопиться.
Мощная фигура патрульного протискивалась сквозь толпу. Уллен зажмурился, — быстрое движение при этом противоестественном тяготении отзывалось спазмами в желудке. Он снова открыл глаза только в слабо освещенном закоулке подвала с низкими потолками.
Патрульный осторожно опустил его на пол, подсунув под мышки костыли.
— Порядок, папаша. Побереги себя.
Уллен пригляделся к окружающим и заковылял к одной из невысоких скамеек в ближайшем углу убежища. Позади него послышался зловещий лязг тяжелой, освинцованной двери.
Марсианский ученый достал из кармана потрепанный блокнот и начал неторопливо заполнять его каракулями. Он не обращал ни малейшего внимания на взволнованные перешептывания, встретившие его появление, на обрывки возбужденных разговоров, повисшие в воздухе.
Но, потирая пушистый лоб обратным концом карандаша, он наткнулся на внимательный взгляд человека, сидящего рядом. Уллен рассеянно улыбнулся и вернулся к записям.
— Вы ведь марсианин, верно? — заговорил сосед торопливым, свистящим голосом. — Не скажу, что особо люблю чужаков, но против марсиан ничего такого не имею. Что же касается венериан, так теперь я бы им…
— Тумаю, ненависть никокта не товетет то топра, — мягко перебил его Уллен. — Эта война — серьесная неприятность… очень серьесная. Она мешает моей рапоте, и вам, семлянам, слетует её прекратить. Или я не прав?
— Можем поклясться своей шкурой, что мы её прекратим, — последовал выразительный ответ. — Вот треснем по их планете, чтобы её наружу вывернуло… и всех поганых венерят вместе с ней.
— Вы сопираетесь атаковать их корота, как и они ваши? — Марсианин совсем по-совиному задумчиво похлопал глазами. — Вы тумаете, что так путет лучше?
— Да, черт побери, именно так…
— Но послушайте. — Уллен постучал костистыми пальцами по ладони. — Не проще ли пыло пы снаптить все корапли тесориентирующим орушием?.. Или вам так не кашется? Наверное, потому, что у них, у венериан, есть экраны?
— О каком это оружии вы говорите? Уллен детально обдумал вопрос.
— Полакаю, что тля нево у вас существует свое насвание… но я никокта ничево не понимал в орушии. На Марсе мы насываем ево «скелийнкпек», что в перевоте на английский осначает «тесориентирующее орушие». Теперь вы меня понимаете?
Он не получил ответа, если не считать недовольного угрюмого бормотания. Землянин отодвинулся от своего соседа и нервно уставился на противоположную стену. Уллен понял свою неудачу и устало повел плечом:
— Это не ис-са тово, что я утеляю всему происхотящему слишком мало внимания. Просто ис-са войны всекта слишком мноко хлопот. Стоило пы её прекратить. — Он вздохнул. — Но я отвлекся!
Его карандаш вновь пустился было в путь по лежащему на коленях блокноту, но Уллен снова поднял глаза:
— Простите, вы не напомните мне насвание страны, в которой скончался Китлер? Эти ваши семные насвания порой так слошны. Кашется, оно начинается на «М».
Его сосед, не скрывая изумления, вскочил и отошел подальше. Уллен неодобрительно и недоуменно проследил за ним взглядом.
И тут прозвучал сигнал отбоя.
— Ах та! — пробормотал Уллен. — Матакаскар! Веть очень простое насвание.
Теперь мундир на Джонни Брюстере уже не выглядел с иголочки. Как и должно быть у бывалого солдата, по плечам и вдоль воротника намертво залегли складки, а локти и колени лоснились.
Уллен пробежался пальцами вдоль жутковатого шрама, шедшего вдоль всего правого предплечья Джонни.
— Тшонни, теперь не польно?
— Пустяки! Царапина! Я добрался до того венеряка, который это сделал. От него осталась лишь царапина на лунной поверхности.
— Ты сколько пыл в коспитале, Тшонни?
— Неделю!
Он закурил и присел на край стола, смахнув часть бумаг марсианина.
— Остаток отпуска мне следовало бы провести с семьей, но, как видишь, я выкроил время навестить тебя.
Он подался вперед и нежно провел рукой по жесткой щеке марсианина.
— Ты так и не скажешь, что рад меня видеть? Уллен протер очки и внимательно поглядел на землянина.
— Но, Тшонни, неушели ты настолько сомневаешься, что я рат тепя витеть, что не поверишь то тех пор, пока я не выскашу это словами? — Он помолчал. — Нато путет стелать об этом пометку. Вам, простотушным семлянам, всекта неопхотимо вслух ислакать трук перет труком такие очевитные вещи, а иначе вы ни во что не верите. У нас на Марсе…
Говоря это, он методично протирал стекла. Наконец он вновь водрузил очки на нос.
— Тшонни, расве у семлян нет «тесориентирующего орушия»? Я поснакомился во время налета с отним человеком в упешище, и он не мок понять, о чем я коворю.
Джонни нахмурился:
— Я тоже не понимаю, о чем ты. Почему ты спрашиваешь об этом?
— Потому что мне кашется странным, что вы с таким трутом поретесь с этим венерианским наротом, токта как у них, похоше, вовсе нет экранов, чтопы вам противотействовать. Тшонни, я хочу, чтопы война поскорее кончилась. Она мне постоянно мешает, все время прихотится прерывать рапоту и итги в упешище.
— Погоди-ка, Уллен. Не торопись. Что это за оружие? Дезинтегратор? Что ты об этом знаешь?
— Я о таких телах я воопще ничево не снаю. Я полакал, что ты снаешь, потому и спросил, У нас на Марсе в наших исторических хрониках коворится, что такое орушие применялось в наших тревних войнах. Мы теперь в орущий совсем не распираемся. Моку только скасать, что оно пыло простым, потому что противная сторона всекта что-нипуть применяла тля сащиты, и токта все опять становилось так ше, как пыло… Тшонни, тепе не покашется сатрутнительным спуститься со стола и отыскать «Начало космических путешествий» Хиккинпоттема?
Джонни сжал кулаки и бессильно потряс ими:
— Уллен, чертов марсианский педант… неужели ты не понимаешь, насколько это важно? Ведь Земля воюет! Воюет! Воюет! Воюет!
— Все верно, вот и прекратите воевать. — В голосе Уллена звучало раздражение. — На Семле нет ни мира, ни покоя. Я натеялся как слетует порапотать в пиплиотеке… Тшонни, поосторошнее. Ну, пошалуйста, ну что ты телаешь? Ты меня просто опишаешь.
— Извини, Уллен. А как ты со мной обошелся? Но мы ещё посмотрим.
Отмахнувшись от слабых протестбв Уллена, Джонни подхватил его на руки вместе с креслом-каталкой, и марсианин оказался за дверью раньше, чем успел закончить фразу.
Ракетотакси бжидало возле ступеней библиотеки. С помощью водителя Джонни запихнул кресло с марсианином в салон. Машина взлетела, оставляя за собой хвост смога.
Уллен мягко пожаловался на перегрузку, но Джонни не обратил на это внимания.
— Чтобы через двадцать минут мы были в Вашингтоне, приятель, — бросил он водителю. — Наплюй на все запреты.
Чопорный секретарь произнес холодно и монотонно:
— Адмирал Корсаков сейчас примет вас.
Джонни повернулся и погасил сигарету. Затем бросил взгляд на часы и хмыкнул.
Уллен очнулся от беспокойного сна и тут же нацепил очки.
— Они наконец-то опратили на нас внимание, Тшонни?
— Тс-с-с!
Уллен безразлично оглядел роскошную обстановку кабинета, огромные карты Земли и Венеры на стене, внушительный стол в центре. Скользнул глазами по низенькому, полненькому, бородатому человеку по ту сторону стола и с облегчением остановил взгляд на долговязом рыжеватом мужчине, стоявшем неподалеку.
От избытка чувств марсианин попытался даже приподняться в своем кресле.
— Токтор Торнинк, вы ли это? Мы встречались с вами кот насат в Принстоне. Натеюсь, вы меня не сапыли? Мне там присвоили почетную степень.
Доктор Торнинг шагнул вперед и с силой пожал руку Уллена:
— Разумеется. Вы делали тогда доклад о методологии исторической науки Марса, верно?
— О, вы запомнили, я так рат! Мне очень повесло, что я с вами повстречался. Скашите мне как ученый, что вы тумаете относительно моей теории о том, что социальная наступательность эры Китлера послушила основной причиной тля Поль — Доктор Торнинг улыбнулся:
— Мы обсудим это позже, доктор Уллен. А сейчас адмирал Корсаков надеется получить от вас информацию, при помощи которой мы сможем покончить с войной.
— Вот именно, — скрипуче произнес Корсаков, поймав кроткий взгляд марсианского ученого. — Хотя вы и марсианин, я предлагаю вам способствовать победе принципов свободы и законности над безнравственными поползновениями венерианской тирании.
Уллен с сомнением посмотрел на него:
— Это свучит невешливо… но не скасал пы, что я много расмышлял на эту тему. Вероятно, вы хотите скасать, что война скоро кончится?
— Да, нашей победой.
— Та-та, «попета», но веть это только слово. История покасывает, что войны, выикранные са счёт чисто военноко преимущества, слушат основой тля роста милитарисма и реваншисма в путущем. По этому вопросу я моку порекоментовать вам очень хорошее эссе, написанное Тшеймсом Коллинсом. В полном виге оно пыло опупликовано в тве тысячи пятитесятом коту.
— Мой дорогой сэр!
Уллен повысил голос, оставляя без внимания тревожный шепоток Джонни.
— Что ше касается попеты — потлинной попеты, то почему пы вам не опратиться к простому нароту Венеры и не саявить: «Какой нам смысл враштовать? Тавайте лучше «по-коворим…»
Последовал удар кулаком по столу и невнятная ругань.
— Ради всего святого, Торнинг. Разбирайтесь с ним сами. Даю вам пять минут.
Торнинг подавил смешок.
— Доктор Уллен, мы попросили бы вас рассказать то, что вы знаете о дезинтеграторе.
— Десинтекраторе? — Уллен недоуменно коснулся пальцем щеки.
— Вы о нем рассказали лейтенанту Брюстеру.
— Хм-м-м… А-а! Вы про «тесориентирующее орушие». Я о нем ничего не снаю. Марсианские историки несколько рас упоминали о нем, но они тоше ничего не снали… я потрасумеваю, с технической точки срения.
Рыжеволосый физик терпеливо кивнул:
— Понимаю вас, понимаю. Но что именно они сообщили? К какому виду оружия оно относилось?
— Ну-у, они коворили, что это орушие саставляет металл распататься на части. Как вы насываете силы, саставляющие частицы металла тершаться вместе?
— Внутримолекулярные силы?
Уллен задумался и медленно произнес:
— Наверное. Я запыл, как это насывается по-марсиански… помню, что слово тлинное. Но в люпом случае… это орушие… расрушает эти силы, и металлы рассыпаются в порошок. Но тействию потвершены лишь три металла: шелесо, копальт и… у нево такое странное насвание!
— Никель, — мягко подсказал Джонни.
— Та, та, никель!
Глаза Торнинга заблестели.
— Ага, ферромагнитные элементы. Могу поклясться, тут замешано осциллирующее магнитное поле, чтоб я стал венерианцем. Что скажете, Уллен?
Марсианин вздохнул:
— Ах, эти невосмошные семные термины… Потоштите, полыцую часть моих снаний оп орушии я почерпнул в рапоте Хокела Пека «О культурной и социальной истории Третьей империи». Это товольно полыпой трут в тритцати четырех томах, но я всекта считал ево товольно посретственным. Его манера ислошения…
— Пожалуйста, — перебил его Торнинг, — оружие…
— Ах та, та! — Уллен поудобнее устроился в кресле, скривившись от усилия. — Он коворит оп электричестве, которое колеплется тута и сюта очень метленно… очень метленно, и его тавление… — Он беспомощно замолчал, с наивной надеждой взглянув на хмурое лицо адмирала. — Я тумаю, это понятие осначает «тавление», но я не снаю, это слово очень трутно перевести. По-марсиански это свучит как «крансарт». Это мошет помочь?
— Мне кажется, вы имеете в виду потенциал, доктор Уллен! — Торнинг громко вздохнул.
— Пусть путет так. Сначит, этот «потенциал» тоше меняется очень метленно, но его перемены как-то синхронисированы макнитисмом, который… хм-м…тоше исменяется. Вот и все, что я снаю. — Уллен нерешительно улыбнулся. — А теперь я пы хотел вернуться к сепе. Натеюсь, теперь все путет в порятке?
Адмирал не удостоил его ответом.
— Вы что-нибудь поняли из этой болтовни, доктор?
— Чертовски мало, — признался физик, но это дает нам одну-две зацепки. Можно, конечно, извлечь что-нибудь из книги Бека, но на это мало надежды. Скорее всего мы обнаружим лишь повторение того, что слышали сейчас от доктора Уллена. Скажите, на Марсе сохранились какие-нибудь научные труды?
Марсианин опечалился
— Нет, токтор Торнинк. Они все пыли уничтошены кальнианскими реакционерами. Мы на Марсе совсем расочаровались в науке. История покасывает, что научный прокресс не ветет к счастью. — Он повернулся к молодому землянину. — Тшонни, пошалуйста, пойтем.
Мановением руки адмирал Корсаков отпустил их обоих.
Уллен сосредоточенно водил взглядом по плотно исписанной странице, останавливался, вписывал слова. Потом поднял глаза и тепло улыбнулся Джонни Брюстеру, который недовольно покачал головой и опустил руку на плечо марсианина. Брови молодого землянина сдвинулись ещё больше.
— Уллен, — с трудом произнес он, — у тебя назревают большие неприятности.
— Та? У меня? Неприятности? Но, Тшонни, это неверно. Моя кника прекрасно протвикается вперет. Первый том уше окончен и после некоторой шлифовки путет котов к печати.
— Уллен, если ты не сообщишь правительству исчерпывающие данные о дезинтеграторе, я не отвечаю за последствия.
— Но я расскасал все, что снаю.
— Не все. Этих данных недостаточно. Ты должен постараться вспомнить ещё что-нибудь, Уллен, ты должен.
— Но веть снать то, чеко не существует, невосмошно — это аксиома. Опершись о подлокотники, Уллен попрямее уселся в кресле.
— Да знаю я. — Губы Джонни страдальчески скривились. — Но и ты должен понять! Венериане контролируют пространство; наши гарнизоны в поясе астероидов уничтожены, на прошлой неделе пали Фобос и Деймос. Сообщение между Землей и Луной прервано, и один Господь знает, как долго сможет продержаться Лунная эскадра. Сама Земля едва-едва способна защититься, а бомбить её теперь примутся всерьез… Ну же, Уллен, неужели ты не понимаешь?
Растерянность во взгляде марсианина усилилась.
— Семля проикрывает?
— Ну конечно!
— Токта смиритесь. Это путет локическим савершением. И сачем вы, сумасшетшие семляне, все это сатёяли? Джонни заскрежетал зубами:
— Но если у нас будет дезинтегратор, мы победим. Уллен пожал плечами:
— Но, Тшонни, это ше так утомительно, выслушивать отни и те ше старые попасенки. У вас, семлян, колова рапотает только в отном направлении. Послушай, мошет пыть, ты почувствуешь сепя лучше, если я почитаю тепе немного ис своей рапоты? Это пойтет на польсу твоему интеллекту.
— Ладно, Уллен, ты сам на это напросился. Тебе некого винить. Если ты не сообщишь Торнингу то, что он хочет знать, тебя арестуют и будут судить за измену.
Последовало недолгое молчание, потом Уллен произнес, слегка заикаясь:
— Меня… са исмену? И ты топускаешь, что я моку претать… — Историк сдернул очки и принялся трясущимися руками протирать стекла. — Это неправта. Ты пытаешься запукать меня.
— О нет, я-то нет. Это Корсаков считает, что ты знаешь больше, чем говоришь. Он уверен, что ты или набиваешь себе цену, или — и это его больше устраивает — ты подкуплен венерианами.
— Но Торнинк…
— Торнинг не всемогущ. Ему впору подумать о собственной шкуре. Земное правительство в моменты потрясений не может похвастаться рассудительностью. — На глаза Джонни неожиданно навернулись слезы. — Уллен, должно же быть что-то, что ты забыл. Это не только тебе надо — всей Земле.
Уллен задышал тяжело, со свистом.
— Они считают, что я спосопен торковать своими научными поснаниями. Вот какими оскорплениями платят они мне са поряточность, са мою научную принципиальность?! — От ярости голос его охрип, и впервые за все время их знакомства Джонни смог постичь разнообразие древнемарсианских выражений. Рас так, я не происнесу ни слова! — заявил ученый. — Пусть они сашают меня са решетку, пусть расстреляют, но этово оскорпления я не сапуту никокта.
В его глазах читалась такая непоколебимость, что у Джонни поникли плечи. Замигала сигнальная лампочка, но землянин даже не шевельнулся.
— Ответь на сигнал, Тшонни, — мягко попросил Уллен. — Они явились са мной.
Мгновение спустя в комнате стало тесно от зеленых мундиров. Лишь доктор Торнинг и двое его спутников выделялись штатскими костюмами.
Уллен силился подняться на ноги.
— Коспота, я ничего не скашу. Я уше слышал, что вы пришли к вывоту, что я протаю свои снания — протаю са теньки! — Он плевался словами. Таково мне ещё не коворили. Если вам укотно, вы мошете арестовать меня неметленно, я не скашу больше ни слова… и я откасываюсь иметь тело с семным правительством в тальнейшем…
Офицер в зеленом мундире шагнул было вперед, но Торнинг движением руки отстранил его.
— Ну и ну, доктор Уллен, — весело произнес он, — стоит ли так кипятиться? Я просто пришел поинтересоваться, не вспомнили ли вы какой-нибудь дополнительный факт. Любой, хоть самый незначительный…
С трудом опираясь на подлокотники, Уллен тем не менее держался твердо и прямо. Его ответом было лишь ледяное молчание.
Доктор Торнинг невозмутимо присел на стол историка, взвесил в руке толстую стопку страниц.
— А-а, так об этой работе мне говорил молодой Брюстер? — Он с любопытством поглядел на рукопись. — Что ж, вы, конечно, понимаете, что ваша позиция может заставить правительство все это конфисковать.
— Та?
Волна ужаса смыла выражение непримиримости с лица Уллена. Он подался вперед, потянувшись к манускрипту, Физик отбросил прочь слабую руку марсианина:
— Руки прочь, доктор Уллен. О вашей работе я сам теперь позабочусь. Он зашуршал страницами. — Видите ли, если вас арестуют за измену, то ваша писанина станет криминалом.
— Криминалом! — Уллен уже не говорил, а хрипел. — Ток-тор Торнинк, вы сами не понимаете, что коворите. Это… это мой величайший трут. — Его голос окреп. — Пошалуйста, ток-тор Торнинк, верните мне мою рукопись.
Физик держал её возле самых дрожащих пальцев марсианина.
— Только если… — начал он.
— Но я ничево не снаю! — На побледневшем лице историка выступил пот. Голос срывался: — Покотите! Тайте мне время! Тайте мне восмошность потумать… и пошалуйста, оставьте мою рапоту в покое.
Палец физика больно уперся в плечо марсианского историка.
— Вам лучше помочь нам. Вашу писанину мы можем уничтожить за несколько секунд, если вы…
— Покотите, прошу вас. Кте-то — не помню кте — упоминалось, что в этом орущий тля некоторых электросхем применялся специальный металл, который портится от воты и востуха. Он…
— Святой Юпитер танцующий! — вырвалось у одного из спутников Торнинга. — Шеф, помните работу Аспартье пятилетней давности о натриевых схемах в аргонной атмосфере?..
Доктор Торнинг погрузился в размышления.
— Минуточку… минуточку… минуточку… Черт побери! Это же прямо в глаза лезло…
— Вспомнил, — неожиданно прохрипел Уллен. — Это пыло описано у Каристо. Он распирал патение Каллонии, и это пыло отним ис некативных факторов — нехватка этово металла, там он и ссылается на…
Но он обращался к пустой комнате. На некоторое время Уллен от изумления замолчал. Потом воскликнул:
— Моя рукопись!
Болезненно прихрамывая, он подобрал страницы, разбросанные по всему полу, и сложил вместе, бережно разглаживая каждый лист.
— Такие варвары… так опращаться с величайшим научным трутом!
Уллен выдвинул ещё один ящик, порылся в его содержимом и раздраженно задвинул на место.
— Тшонни, кута я сунул ту пиплиографию? Ты не вител ее? — Он покосился в сторону окна. — Тшонни!
— Уллен, погоди минуточку. Они уже близко, — отозвался Джонни Брюстер.
Улицы за окном ошеломляли буйством красок. Длинной, уверенно вышагивающей колонной двигался по проспекту цвет флота. В воздухе рябило от снегопада конфетти, от лент серпантина. Слышался монотонный и приглушенный рев толпы.
— Ах, это клупые люта, — задумчиво произнес Уллен. — Они так ше ратовались, кокта началась война, и токта тоше пыл парат. А теперь ещё отин. Смешно!
Он доковылял до своего кресла. Джонни последовал за ним.
— Ты знаешь, что правительство назвало звездный музей твоим именем?
— Та, — последовал сухой ответ. Уллен растерянно заглянул под стол. Мусей поевой славы имени Уллена, и там путет выставлено все трофейное орушие. Такова ваша странная семная привычка испольсовать претметы. Но кте, путь я проклят, эта пиплиография?
— Вот здесь, — ответил Джонни, извлекая документ из жилетного кармана Уллена. — Наша победа завоевана твоим оружием, это для тебя оно древнее, а для нас в самый раз.
— Попета! Ну конечно! Пока Венера не перевоорушится и не начнет новую порьпу за реванш. Вся история покасывает… латно, хватит на эту тему. — Он поудобнее устроился в кресле. — А теперь посволь продемонстрировать тепе потлинную попету. Посволь, я прочту тепе кое-что ис первово тома моей рапоты. Снаешь, она уше в напоре. Джонни рассмеялся:
— Смелей, Уллен. Теперь я готов прослушать все твои двенадцать томов слово за словом. Уллен ласково улыбнулся в ответ.
— Тумаю, это пойтет на польсу твоему интеллекту, — заметил он.
Таинственное чувство
Чарующие звуки штраусовского вальса наполняли комнату. Повинуясь чутким пальцам Линкольна Филдза, мелодия то взмывала, то затихала. Он играл, прикрыв глаза, глядя сквозь ресницы полуопущенных век, и почти как наяву видел вальсирующие пары на вощеном паркете роскошного бального зала…
Музыка всегда околдовывала его подобным образом, наполняя разум видениями чистой красоты и превращая комнату в райское царство звука. Его пальцы в последний раз протанцевали по клавишам, вызвав к жизни изысканный пассаж, и неохотно замерли.
Он перевел дыхание и некоторое время сидел совершенно неподвижно, словно пытаясь уловить квинтэссенцию прекрасного в затихающих отзвуках, потом робко улыбнулся своему единственному гостю.
Гость, Гарт Йан, улыбнулся в ответ, но ничего не сказал. Между ними хватало приязни, но недоставало взаимопонимания. Они принадлежали к разным мирам, причем буквально: родиной Йана были гигантские подземные города Марса, а Филдз являлся продуктом все шире расползающегося по лику Земли Нью-Йорка.
— Ну, как тебе, Гарт? — нерешительно спросил Филдз.
Марсианин покачал головой и ответил со своей всегдашней скрупулезностью:
— Я слушал крайне внимательно и могу с уверенностью заявить, что это не вызвало у меня неприятия. Там заметен определенный ритм, который оказывает до некоторой степени Успокаивающее воздействие. Но красота? Нет, я ее не уловил!
На лице Филдза промелькнула жалость, более того — искренняя боль. Гарт поймал его взгляд и все понял, но и тени зависти не появилось в ответ в его глазах. Не без труда умостившийся в человеческом кресле тощий, высокий марсианин продолжал как ни в чем не бывало покачивать ногой, небрежно перекинутой через другую.
Филдз вдруг вскочил, порывисто схватил его за руку и потащил к роялю.
— Вот, садись сюда, на банкетку.
Гарт подчинился, добродушно заметив:
— Вижу, ты хочешь устроить небольшой эксперимент?
— Ты угадал. Мне приходилось читать об исследованиях различий в работе органов чувств землян и марсиан, но суть как-то всегда ускользала от меня.
Он нажал сперва до, потом фа той же октавы и вопросительно посмотрел на Гарта.
— Разница между этими звуками если и есть, — сказал марсианин, — то совершенно незначительная. Я уловил ее лишь потому, что тщательно вслушивался. Иначе я бы сказал, что ты извлек два одинаковых звука.
Землянин удивленно покачал головой.
— А вот так? — Он нажал до и соль.
— На этот раз я определенно слышу разницу.
— Что ж, похоже, все, что говорят о вас, марсианах, правда. Несчастные — природа наделила вас таким грубым слухом! Вы и не подозреваете, чего лишены.
Гарт Йан с философским видом пожал плечами.
— Нельзя страдать о том, чего никогда не имел.
Повисшее после этого недолгое молчание нарушил марсианин.
— Понимаешь ли ты в полной мере, что мы живем в уникальную эпоху? Впервые в истории установлен контакт между двумя разумными расами. Да, мы имеем возможность сравнить работу земных и марсианских органов чувств. Ты не находишь, что это само по себе позволяет узнать много нового и заставляет шире взглянуть на вещи?
— Это верно. Однако, похоже, по части тонкости ощущений природа оделила нас гораздо более щедро. Знаешь, в прошлом месяце один из наших биологов заявил, что вообще не понимает, как существа с таким грубым восприятием мира, как вы, сумели создать столь высокоразвитую цивилизацию.
— Все относительно, Линкольн. Нам вполне хватает того, что имеем.
Но душу Филд за переполняла обида на то, как несправедливо судьба обошлась с марсианами.
— Если бы ты знал, Гарт, как много вы потеряли. Вам никогда не познать красоты солнечного заката или цветущего луга. Не насладиться синевой небес, зеленью полей или золотом спелых колосьев. Для вас мир — всего лишь мозаика света и тени. — Он содрогнулся при этой мысли. — Вам не ощутить дивного аромата цветов. Даже столь немудрящей радости, как наслаждение вкусом простой здоровой пищи, вы и то лишены. Вы не чувствуете вкуса, запаха, не различаете цветов. Когда я думаю о том, в каком тусклом мире вы живете, мое сердце сжимается от жалости.
— Все перечисленные тобой радости для меня всего лишь пустой звук. Не трать на меня жалость — я не более несчастен, чем ты. — Он встал и взял трость, без которой не мог обходиться на Земле с ее большой силой тяжести. Однако слова Филдза, должно быть, все же задели Гарта, потому что он добавил: — Видишь ли, вы напрасно смотрите на нас свысока. Мы же не хвастаемся преимуществами своей расы, а ведь вы о них даже не подозреваете. — Он поморщился, будто сожалея о своих словах, и направился к двери.
Филдз некоторое время сидел, озадаченно переваривая последние слова Гарта, потом бросился за ним. Без труда догнав медленно ковыляющего марсианина, он уговорил его вернуться в комнату.
— Что ты имел в виду, когда говорил о преимуществах своей расы, о которых мы не подозреваем?
Марсианин отвел глаза.
— Забудь об этом, Линкольн. Твое искреннее сочувствие ранило мою гордость, и я сгоряча наговорил лишнего.
— Но не солгал, верно? — спросил Филдз, испытующе глядя на него. — Вполне логично, что ваше восприятие мира имеет свои преимущества, однако я не могу взять в толк, зачем вам это скрывать. Бессмыслица какая-то!
— Может быть, да, может быть, нет. Я проявил непростительную глупость, заговорив об этом, и ты поймал меня на слове.
Надеюсь, ты можешь пообещать мне, что дальше тебя это не пойдет?
— Разумеется, обещаю! Буду нем, как могила, хотя будь я проклят, если понимаю, на что ты намекаешь. Скажи, какого рода это таинственное чувство?
Гарт Йан равнодушно пожал плечами.
— Как, по-твоему, можно передать словами его природу? Вот ты, например, смог бы объяснить мне, что такое цвет?
— Я не прошу тебя давать определения. Просто скажи, какие возможности дает это чувство, что позволяет ощутить? Прошу тебя. — Филдз порывисто сжал плечо собеседника. — Ты можешь говорить совершенно спокойно. Я клянусь хранить тайну.
Марсианин тяжело вздохнул.
— Вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Много ли ты вынесешь из моего заявления, что, если мне показать два сосуда, наполненных жидкостью, я почувствую, какой из них содержит яд? Или что если показать мне медную проволоку, то я смогу определить, идет ли по ней ток, пусть даже совсем слабый, в одну тысячную ампера? Или что я могу назвать тебе температуру любого предмета в радиусе пяти ярдов и при этом ошибусь не больше чем на три градуса? Или… впрочем, сказанного и так достаточно.
— И это все? — Филдз был явно разочарован.
— А что бы ты хотел услышать?
— Все, что ты перечислил, безусловно, очень помогает в жизни, однако при чем здесь красота? Да, это ваше загадочное чувство приносит пользу, но дает ли оно пищу для ума и наслаждение для души?
Гарт Йан досадливо взмахнул рукой.
— Честное слово, Линкольн, ты ведешь себя глупо. Это всего лишь ответ на твой вопрос: что позволяет ощутить это чувство. Не стоит и пытаться описать его подлинную природу. Возьмем твою способность различать цвета. Насколько я могу судить, единственный прок с нее в том, что она позволяет тебе ощущать некие тонкие нюансы, для меня недоступные. Руководствуясь вашим так называемым цветом, ты, например, можешь мгновенно определить наличие некоторых веществ, тогда как мне для этого придется проводить химический анализ. При чем здесь красота?
Землянин открыл рот, чтобы возразить, но Гарт раздраженно отмахнулся от него:
— Знаю, знаю. Ты опять примешься лепетать про закаты солнца и прочее. Но что ты знаешь о прекрасном? Разве тебе знакома красота оголенного медного провода, по которому идет переменный ток? Разве ты ощущал изысканную прелесть индукционной катушки, когда к ней подносят магнит? Разве ты когда-либо наслаждался совершенством марсианской портвемы?
Филдз потрясенно смотрел на Гарта, глаза которого при последних словах подернулись мечтательной дымкой. Жалость к бедным, ущербным марсианам в мгновение ока покинула Линкольна.
— У каждой расы свои преимущества, — признал он, старательно задавив крошечного червячка зависти. — Но я не понимаю одного: за каким чертом вам понадобилось держать эту свою способность в тайне? У нас, землян, нет от вас никаких секретов.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что мы поступаем неблагодарно? — с жаром вскричал Гарт. У марсиан неблагодарность считалась самым тяжким из грехов, и даже намек на нее заставил Йана позабыть об осторожности. — Мы, марсиане, никогда и ничего не делаем без веской причины. И уж конечно, не из эгоистических соображений мы сочли нужным утаить от вас свой великий дар.
Землянин иронично ухмыльнулся. Линкольн чувствовал: он нащупал нечто очень интересное, и единственный способ заставить Гарта выложить все — это задеть его гордость.
— Ах, ну конечно, вы развели секреты исключительно из высоких побуждений. С вами всегда так — куда ни ткни, всюду обнаруживается стремление помочь ближнему.
Гарт Йан сердито прикусил губу.
— Ты не имеешь права так говорить.
Он хотел пощадить Филдза и промолчать, дабы тот сохранна душевный покой, но насмешка над альтруизмом марсиан стала последней каплей. Злость и обида овладели Гартом, и он решился.
Голос его прозвучал холодно и недружелюбна
— Я объясню по аналогии. — Прикрыв веки, марсианин смотрел прямо перед собой. — Ты сказал мне, что я живу в стоящем из осколков света и тени. Ты описал мне свой мир, бесконечно прекрасный в своем разнообразии. Я выслушал тебя, однако твои слова ничуть меня не тронули. Я никогда не знал цвета и никогда его не узнаю. Нельзя испытывать нужду в том, чего никогда не имел.
Но что, если бы ты мог на пять минут поделиться со мной своей способностью воспринимать цвета? Что, если бы на пять минут я прикоснулся бы к чуду, какое мне и не снилось? Что, если по истечении этих пяти минут я навсегда лишился бы возможности ощущать это? Стоят ли эти пять минут наслаждения долгих лет сожалений? Стоят ли они того, чтобы до конца жизни страдать, чувствуя себя неполноценным калекой? Разве не гуманнее было бы никогда не говорить мне о самом существовании цвета, не подвергать искушению?
Марсианин не договорил, а Филдз уже возбужденно вскочил на ноги — невероятная догадка осенила его.
— Так ты хочешь сказать, что землянин может испытать это ваше марсианское чувство?
— Всего на пять минут в жизни, — сказал Гарт. Взгляд его сделался еще более мечтательным, чем прежде. — Но эти пять минут… — Он смущенно оборвал себя и сердито посмотрел на собеседника. — Ты узнал гораздо больше, чем требуется для твоего спокойствия. Посмотрим, умеешь ли ты держать слово.
Марсианин поспешно поднялся и, тяжело опираясь на трость, похромал прочь со всей быстротой, которую позволяло ему земное тяготение. Линкольн Филдз не пытался остановить его. Он задумался.
Пещера была столь огромной, что ее свод терялся в туманной дымке, сквозь которую пробивались лучи расположенных на равном расстоянии друг от друга светящихся шаров. Лицо овевали слабые токи нагретого вулканическим теплом воздуха. Перед Линкольном Филдзом раскинулся широкий проспект главного подземного города Марса.
Неловко переставляя ноги, Филдз подковылял к дому Гарта Йана. К каждой подошве крепилось свинцовое грузило в шесть дюймов толщиной. Мера крайне неприятная, но необходимая, поскольку в слабом тяготении Марса непривычные мышцы землянина могли довести до беды.
Марсианин удивился визиту приятеля, с которым не виделся добрых полгода, и ничуть не обрадовался. Филдз заметил это с первого взгляда, однако лишь мысленно усмехнулся. Отдавая дань вежливости, они поприветствовали друг друга и обменялись несколькими незначительными фразами.
Филдз затушил сигарету в пепельнице, сел прямо и заговорил, резко сменив беззаботный светский тон на серьезный и деловой:
— Я пришел, чтобы попросить тебя дать мне те пять минут, о которых ты говорил в нашу прошлую встречу. Эго возможно?
— Вопрос риторический? В ответе он явно не нуждается. — Гарт говорил с нескрываемым презрением.
Землянин пытливо разглядывал своего визави.
— Не возражаешь, если я в нескольких словах объясню свое желание?
Гарт холодно улыбнулся.
— Это ничего не изменит.
— И все же я попробую. Дело в том, что я родился и рос в роскоши и в результате стал крайне избалован. Со мной ни разу не случалось такого, чтобы я чего-то захотел и не получил желаемого — в рамках разумного, конечно. Мне просто неизвестно, что это такое — неосуществленное желание. Понимаешь ли ты, о чем я?
Ответа не последовало, и он продолжал:
— Я обрел счастье в прекрасных зрелищах, прекрасных словах, прекрасных звуках. Красота стала моим кумиром. Одним словом, я эстет.
— Очень интересно. — Каменное лицо марсианина не смягчилось ни на йоту, — Но какое отношение все это имеет к нашему делу?
— А такое: ты рассказал мне о неизведанной красоте. О красоте, которой я не знаю и которую не могу даже представить. И ты сказал, что можешь приоткрыть ее для меня, если пожелаешь. Идея мне понравилась. Более того, она захватила меня. Мне захотелось попробовать. А как уже говорилось, если мною овладевает некое желание, я всегда поддаюсь искушению.
— В нынешних обстоятельствах это от тебя не зависит, — возразил Гарт Йан. — Это грубо с моей стороны, однако вынужден напомнить тебе, что ты не можешь принудить меня. А то, что ты сейчас сказал, звучит отчасти оскорбительно.
— Рад, что ты первым повел себя грубо, поскольку это позволяет мне без зазрения совести ответить тем же.
На это Гарт Йан ничего не сказал, только окинул землянина презрительным взглядом.
— Я требую, чтобы ты дал мне эти пять минут, — заявил Филдз, — в качестве благодарности.
— Благодарности? — Гарт так и подпрыгнул.
Филдз широко ухмыльнулся.
— Всем известно, что ни один уважающий себя марсианин не нарушит принятые у вас законы чести. Ты в долгу передо мной, ибо кто, как не я, помог тебе получить приглашения в дома самых великих и уважаемых людей Земли.
— Я знаю! — Гарт вспыхнул от злости. — Очень невежливо с твоей стороны напоминать мне об этом.
— Ты не оставил мне выбора. Еще на Земле ты сам признал, что считаешь себя в долгу передо мной. Теперь я требую, чтобы ты вернул этот долг, дав мне шанс разделить на пять минут ощущения марсианина. Ты по-прежнему отказываешься?
— Ты же знаешь, что я не могу отказать, — хмуро ответил Гарт. — Я не хотел соглашаться лишь потому, что ничего хорошего тебе это не принесет. — Он встал и торжественно протянул землянину руку. — Ты загнал меня в угол, Линкольн. Будь по-твоему. Но когда я исполню твою просьбу, мы будем в расчете. Этим я верну весь свой долг. Договорились?
— Договорились!
Они пожали друг другу руки, и Линкольн Филдз обратился к марсианину уже совсем другим тоном:
— Но мы же по-прежнему друзья, верно? Небольшая стычка нас не поссорит?
— Надеюсь, что нет. Идем. Я приглашаю тебя разделить со мной вечернюю трапезу. За едой мы обсудим время и место, когда ты получишь свое… свои пять минут.
Линкольн Филдз сидел в частной «музыкальной гостиной» Гарта Йана и изо всех сил старался избавиться от беспричинной тревоги. Он поймал себя на мысли, что чувствует себя почти как в приемной у зубного врача, и с трудом подавил нервный смешок.
Он прикурил десятую подряд сигарету, затянулся пару раз и с раздражением выбросил ее.
— Ты очень серьезно подошел к делу, Гарт, — заметил он — Такие тщательные приготовления…
Марсианин пожал плечами.
— У тебя будет всего пять минут, так что я решил со своей стороны сделать все возможное, дабы ты извлек из них максимум пользы. Скоро тебе предстоит «услышать» отрывок из портвемы, которая столь же прекрасна, как, наверное, величайшая из симфоний — так, кажется, вы это называете? — прекрасна для человеческого слуха.
— Сколько еще ждать? Прости за банальность, но неизвестность мучительна.
— Мы ждем, когда прибудут Нови Лон, который исполнит портвему, и Доун Вол, мой личный врач. Оба должны подойти с минуты на минуту.
От нечего делать Филдз подошел к возвышению в центре комнаты и стал разглядывать причудливый механизм, установленный на нем. Передний «фасад» устройства представлял собой сплошную алюминиевую панель, из которой выступали только семь рядов лакированных черных кнопок наверху и пять больших белых педалей внизу. Однако корпус был открытым, так что желающий мог увидеть сложное переплетение тончайших медных проводков.
— Какая интересная штуковина, — заметил Филдз.
Гарт поднялся на возвышение вслед за ним.
— Это очень дорогой инструмент. Он обошелся мне в десять тысяч в марсианской валюте.
— Как он работает?
— Принцип почти такой же, как в вашем земном фортепиано. Каждая из кнопок включает или выключает ток в своей электрической цепи. С их помощью умелый мастер игры на этом инструменте способен создать из электрических импульсов любой мыслимый узор. Педали регулируют силу тока.
Филдз рассеянно кивнул и наобум нажал несколько кнопок. Стрелка гальванометра, расположенного над клавиатурой, слегка качнулась, но больше ничего не произошло.
— И что, с помощью этого инструмента можно исполнять произведения искусства?
Марсианин улыбнулся.
— Да, равно как и вызывать к жизни невероятно неприятные сочетания.
Он уселся за инструмент, пробормотав: «Вот как надо», — и его пальцы с поразительным проворством и точностью затанцевали по кнопкам.
В гостиной раздался гнусавый голос другого марсианина, выкрикнувший что-то возмущенное, и Гарт Йан, внезапно застеснявшись, снял руки с клавиатуры.
— Это Нови Лон, — поспешно пояснил он Филдзу. — Ему никогда не нравится, как я играю.
Линкольн поднялся поприветствовать новоприбывшего. Тог оказался сутул и, очевидно, был значительно старше Гарта. Его лицо покрывала тонкая сеть морщин, более густая у рта и уголков глаз.
— Так вы тот самый молодой землянин! — воскликнул он по-английски, но с сильным марсианским акцентом. — Я не одобряю вашего опрометчивого решения, однако хорошо понимаю желание разделить с нами наслаждение портвемой. Какая жалость, что вам дано всего лишь пять минут, чтобы познать это чувство! Тот, кто лишен его, в действительности не знает всей полноты жизни!
Гарт Йан рассмеялся.
— Он преувеличивает, Линкольн. Нови Лон — один из лучших виртуозов Марса и искренне полагает, что все, кто не ценит красоту портвемы больше жизни, прокляты на веки вечные.
Он тепло обнял старика.
— Нови Лон когда-то был моим учителем и потратил немало долгих часов, пытаясь вбить в мою голову основы правильного извлечения токосочетаний.
— И все впустую, бездарь ты этакий! — проскрежетал старый марсианин. — То, как ты играл, когда я вошел, — просто ужас. Ты до сих пор не научился правильно сочетать фортгассы. Своей игрой ты оскорбляешь дух великого Бара Дамна! Мой ученик! Позор на мою голову!
Нови Лон мог бы и дальше продолжать в том же духе, но появление третьего приглашенного, Доуна Вола, заставило его прервать тираду. Гарт, явно обрадованный этим, поспешно кинулся навстречу медику.
— Все готово? — спросил он.
— Да, — проворчал Вол. — И это совершенно неинтересный эксперимент, вот что я вам скажу. Результат известен заранее. — Тут он наконец заметил землянина и окинул его презрительным взглядом. — Это вы подопытный?
Линкольн Филдз скованно кивнул. В горле у него внезапно пересохло. Он с опаской наблюдал за действиями врача и разволновался еще больше, когда тот извлек из чемоданчика маленький пузырек с прозрачной жидкостью и шприц для подкожных инъекций.
— Что вы собираетесь делать? — воскликнул землянин.
— Всего лишь укол, — успокоил его Гарт. — Минутное дело. Видишь ли, органом чувств, который позволяет воспринимать этот вид искусства, выступают определенные клетки коры головного мозга. Они «просыпаются» под действием гормона, который я тебе введу. Мы научились синтезировать его искусственно и используем для лечения марсиан, которые рождаются бом… э-э… так сказать, слепыми.
— О! Так значит, у землян тоже есть эти клетки?
— Да, но у вас они недоразвиты. Концентрированная гормональная сыворотка пробудит их, однако только на пять минут. После такой непосильной нагрузки они полностью истощат свои жизненные ресурсы, и заставить их работать уже не удастся ни при каких обстоятельствах.
Доун Вол закончил свои приготовления и подошел к Филдзу. Ни слова не говоря, Линкольн закатал рукав и протянул руку. Игла вошла под кожу. Когда процедура завершилась, он подождал секунду-другую и нерешительно хихикнул.
— Я ничего не чувствую!
— И не почувствуешь еще минут десять, — сказал Гарт. — На все нужно время. Сядь и расслабься. Нови Лон пока начнет мою любимую портвему Бара Дамна — «Каналы в пустыне». Когда гормон начнет действовать, ты застанешь как раз апофеоз композиции.
Как ни странно, теперь, когда жребий был брошен и изменил» ничего уже было нельзя, Филдз совершенно успокоился. Нови Лон играл как безумный, и Гарт Йан, сидевший рядом с землянином, совершенно отрешился от внешнего мира. Даже желчный Доун Вол и тот смягчился.
Филдз беззвучно хихикнул. Марсиане напряженно вслушивались во что-то, но в комнате не раздавалось ни единого звука, смотреть тоже было почти не на что — словом, гостиная не давала пищи ни для каких органов чувств. А что, если… Нет, вздор, это невозможно!.. Но все-таки: что, если его просто-напросто изощренно разыграли? Филдз нервно заерзал и постарался выбросить это предположение из головы.
Проходили минуты. Пальцы Нови Лона летали над клавиатурой. Лицо Гарта Йана светилось благоговейным восторгом.
Вдруг Линкольну почудилось, будто «музыкант» и его инструмент окутались цветной дымкой. Он часто заморгал — определить цвет никак не удавалось, однако и исчезать он не исчезал. Больше того: он постепенно расползался вверх и в стороны, пока не заполнил всю комнату. Потом появились другие оттенки, и еще, и еще… Они покачивались и колыхались, разбегались и сплетались, менялись со скоростью света и все же оставались прежними. На глазах у Филдза сверкающие краски складывались в сложнейшие узоры и бледнели, беззвучно пульсировали, взрываясь каскадами цвета…
И одновременно гостиная будто бы наполнилась звуком. Тихий шелест постепенно сменился торжествующими, звенящими тремоло, которые то взлетали, то затихали. Линкольну казалось, что мелодию ведет сразу весь оркестр, от флейты-пикколо до контрабаса, и в то же время он слышал голос каждого инструмента с такой невероятной четкостью, словно все прочие молчали.
И еще появились запахи. Сначала легкие, почти неуловимые, они быстро набрали силу, и вот уже в гостиной благоухают мириады цветов. Тонкие пряные ароматы сменяли друг друга в тщательно подобранной последовательности, словно мягкие дуновения воплощенного восторга.
Но краски, звуки, запахи были лишь тенью истинной красоты портвемы. Филдз чувствовал это наверняка. Почему-то он ни на миг не сомневался: все, что он видит, слышит, обоняет, — не более чем изощренные иллюзии, в спешке создаваемые мозгом, дабы старыми, привычными образами объяснить новое понятие. Цвета, звуки и запахи постепенно сошли на нет. Мозг постепенно смирился с тем, что имеет дело с совершенно новыми ощущениями, никак не связанными с прошлым опытом. Действие гормона усиливалось, и в один прекрасный миг Филдз вдруг понял, что он чувствует.
Он воспринимал это не зрением, не слухом, не обонянием, не осязанием. Ему никак не удавалось подобрать слова для этого удивительного переживания, пока он наконец не понял, что в человеческом языке и нет подходящего слова. А потом осознал, что и понятие, описывающее то, что с ним происходит, у людей отсутствует.
И все же он познал суть марсианского искусства.
Оно обрушивало на его мозг нечто такое, что вознесло его до неизведанных прежде высот наслаждения прекрасным, ввергло в непознанную доселе вселенную красоты. Он падал сквозь вечное и безбрежное… нечто. Не звук, не вид — нечто такое, что застилало все вокруг, заставляя позабыть о том, где он и что с ним. Нечто бесконечное и безграничное в своем многообразии. И с каждой новой волной ощущений волшебное чувство окутывало его все плотнее, и ласковее, и чудеснее…
А потом он уловил дисгармонию. Сперва едва заметная, словно крошечная царапинка на безупречной глади красоты, она вытягивалась и ветвилась и разверзалась все шире, пока наконец чудо не разлетелось вдребезги — хотя и беззвучно.
Линкольн Филдз, растерянный и обомлевший, снова очнулся все в той же гостиной.
Он вскочил на ноги, кинулся к Гарту Йану и стал отчаянно трясти его:
— Гарт! Почему он перестал играть! Скажи ему, чтоб продолжал! Скажи!
Гарт Йан посмотрел на землянина изумленно, словно не мог взять в толк, о чем тот говорит, потом удивление на его лице сменилось жалостью.
— Он не переставал играть, Линкольн.
Филдз смотрел на него невидящими глазами, в которых не мерцало ни тени понимания. Пальцы Нови Лона все так же стремительно порхали по клавиатуре, лицо выражало все тот же исполнительский экстаз. Истина хоть и с трудом, но проникла в сознание землянина, и его пустые глаза наполнились ужасом. Испустив хриплый крик отчаяния, он сел и спрятал лицо в ладонях.
Пять минут истекли! То удивительное чувство не вернуть!
Гарт Йан улыбался, и улыбка его была злой.
— Еще мгновение назад мне было жаль тебя, Линкольн! Но теперь я рад, что все так обернулось. Да, рад! Ты заставил меня сделать это, ты вынудил меня! Надеюсь, ты удовлетворен не меньше, чем я. До конца дней своих, — его голос опустился до свистящего шепота, — до конца дней своих ты будешь помнить эти пять минут. Ты будешь понимать, чего тебе так мучительно не хватает, и знать, что ты никогда этого не получишь. Ты слепец, Линкольн! Слепец!
Землянин отнял руки от лица и усмехнулся, но его вымученный оскал никого не мог обмануть. Ему понадобилась вся сила воли до последней капли, чтобы сохранить хотя бы видимость хладнокровия.
Он не решился заговорить, опасаясь, что голос сорвется. Нетвердой походкой он двинулся к выходу. И до самого порога шел с гордо поднятой головой.
Но в ушах его звучал тонкий язвительный голосок, повторявший снова и снова: «Ты пришел сюда нормальным человеком, Линкольн. А уходишь слепцом! Слепцом! СЛЕПЦОМ!!!»
Приход ночи
Если бы все звезды вспыхивали в ночном небе лишь раз в тысячу лет, какой горячей верой прониклись бы люди, в течение многих поколений сохраняя память о граде божьем!
ЭмерсонАтон 77, ректор Сароского университета, воинственно оттопырил нижнюю губу и в бешенстве уставился на молодого журналиста.
Теремон 762 и не ждал ничего другого. Когда он еще только начинал и статьи, которые теперь перепечатывали десятки газет, были только безумной мечтой желторотого юнца, он уже специализировался на «невозможных» интервью. Это стоило ему кровоподтеков, синяков и переломов, но зато он научился сохранять хладнокровие и уверенность в себе при любых обстоятельствах.
Поэтому он опустил протянутую руку, которую так демонстративно отказались пожать, и спокойно ждал, пока гнев престарелого ректора остынет. Все астрономы — чудаки, а Атон, если судить по тому, что он вытворял последние два месяца, чудак из чудаков. Атон 77 снова обрел дар речи, и, хотя голос прославленного астронома дрожал от сдерживаемой ярости, говорил он по своему обыкновению размеренно, тщательно подбирая слова.
— Явившись ко мне с таким наглым предложением, сэр, вы проявили дьявольское нахальство…
— Но, сэр, в конце концов… — облизнув пересохшие губы, робко перебил его Бини 25, широкоплечий телефотограф обсерватории. Ректор обернулся, одна седая бровь поползла кверху.
— Не вмешивайтесь, Бини. Я готов поверить, что вы привели сюда этого человека, руководствуясь самыми добрыми намерениями, но сейчас я не потерплю никаких пререканий.
Теремон решил, что ему пора принять участие в этом разговоре.
— Ректор Атон, если вы дадите мне возможность договорить…
— Нет, молодой человек, — возразил Атон, — все, что вы могли сказать, вы уже сказали за эти последние два месяца в своих ежедневных статьях. Вы возглавили широкую газетную кампанию, направленную на то, чтобы помешать мне и моим коллегам подготовить мир к угрозе, которую теперь уже нельзя предотвратить. Вы не остановились перед сугубо личными оскорбительными нападками на персонал обсерватории и старались сделать его посмешищем.
Ректор взял со стола экземпляр сароской «Хроники» и свирепо взмахнул им.
— Даже такому известному наглецу, как вы, следовало бы подумать, прежде чем являться ко мне с просьбой, чтобы я разрешил именно вам собирать здесь материал для статьи о том, что произойдет сегодня. Именно вам из всех журналистов!
Атон швырнул газету на пол, шагнул к окну и сцепил руки за спиной.
— Можете идти, — бросил он через плечо. Он угрюмо смотрел на горизонт, где садилась Гамма, самое яркое из шести солнц планеты. Светило уже потускнело и пожелтело в дымке, затянувшей даль, и Атон знал, что если увидит его вновь, то лишь безумцем.
Он резко обернулся.
— Нет, погодите! Идите сюда! — сделав властный жест, сказал Атон. — Я вам дам материал.
Журналист, который и не собирался уходить, медленно подошел к старику. Атон показал рукой на небо.
— Из шести солнц в небе осталась только Бета. Вы видите ее?
Вопрос был излишним. Бета стояла почти в зените; по мере того как сверкающие лучи Гаммы гасли, красноватая Бета окрашивала все кругом в непривычный оранжевый цвет. Бета находилась в афелии. Такой маленькой Теремон ее еще никогда не видел. И только она одна светила сейчас в небе Лагаша.
Собственное солнце Лагаша, Альфа, вокруг которого обращалась планета, находилось по другую ее сторону, так же как и две другие пары дальних солнц. Красный карлик Бета (ближайшая соседка Альфы) осталась в одиночестве.
В лучах солнца лицо Атона казалось багровым.
— Не пройдет и четырех часов, — сказал он, — как наша цивилизация кончит свое существование. И это произойдет потому, что Бета, как вы видите, осталась на небе одна. — Он угрюмо улыбнулся. — Напечатайте это! Только некому будет читать.
— Но если пройдет четыре часа… и еще четыре… и ничего не случится? — вкрадчиво спросил Теремон.
— Пусть вас это не беспокоит. Многое случится.
— Не спорю! И все же… если ничего не случится?
Бини 25 рискнул снова заговорить:
— Сэр, мне кажется, вы должны выслушать его.
— Не следует ли поставить этот вопрос на голосование, ректор Атон? — сказал Теремон.
Пятеро ученых (остальные сотрудники обсерватории), до этих пор сохранявшие благоразумный нейтралитет, насторожились.
— В этом нет необходимости, — отрезал Атон. Он достал из кармана часы. — Раз уж ваш друг Бини так настаивает, я даю вам пять минут. Говорите.
— Хорошо! Ну что изменится, если вы дадите мне возможность описать дальнейшее, как очевидцу? Если ваше предсказание сбудется, мое присутствие ничему не помешает: ведь в таком случае моя статья так и не будет написана. С другой стороны, если ничего не произойдет, вы должны ожидать, что над вами в лучшем случае будут смеяться. Так не лучше ли, чтобы этим смехом дирижировала дружеская рука?
— Это свою руку вы называете дружеской? — огрызнулся Атон.
— Конечно! — Теремон сел и закинул ногу за ногу. — Мои статьи порой бывали резковаты, но каждый раз я оставлял вопрос открытым. В конце концов, сейчас не тот век, когда можно проповедовать Лагашу «приближение конца света». Вы должны понимать, что люди больше не верят в Книгу откровений и их раздражает, когда ученые поворачивают на сто восемьдесят градусов и говорят, что хранители Культа были все-таки правы…
— Никто этого не говорит, молодой человек, — перебил его Атон. — Хотя многие сведения были сообщены нам хранителями Культа, результаты наших исследований свободны от культового мистицизма. Факты суть факты, а так называемая «мифология» Культа, бесспорно, опирается на определенные факты. Мы их объяснили, лишив былой таинственности. Заверяю вас, хранители Культа теперь ненавидят нас больше, чем вы.
— Я не питаю к вам никакой ненависти. Я просто пытаюсь вам доказать, что широкая публика настроена скверно. Она раздражена.
Атон насмешливо скривил губы.
— Ну и пусть себе раздражается.
— Да, но что будет завтра?
— Никакого завтра не будет.
— Но если будет? Предположим, что будет… Только подумайте, что произойдет. Раздражение может перерасти во что-нибудь серьезное. Ведь, как вам известно, деловая активность за эти два месяца пошла на убыль. Вкладчики не очень-то верят, что наступает конец мира, но все-таки предпочитают пока держать свои денежки при себе. Обыватели тоже не верят вам, но все же откладывают весенние покупки… так, на всякий случай. Вот в чем дело. Как только все это кончится, биржевые воротилы возьмутся за вас. Они скажут, что раз сумасшедшие… прошу прощения… способны в любое время поставить под угрозу процветание страны, изрекая нелепые предсказания, то планете следует подумать, как их унять. И тогда будет жарко, сэр.
Ректор смерил журналиста суровым взглядом.
— И какой же выход из положения предлагаете вы?
Теремон улыбнулся.
— Я предлагаю взять на себя освещение вопроса в прессе. Я смогу повернуть дело так, что оно будет казаться только смешным. Конечно, выдержать это будет трудно, так как я сделаю вас скопищем идиотов, но, если я заставлю людей смеяться над вами, их гнев остынет. А взамен мой издатель просит одного — не давать сведений никому, кроме меня.
— Сэр, — кивнув, выпалил Бини, — все мы думаем, что он прав. За последние два месяца мы предусмотрели все, кроме той миллионной доли вероятности, что в нашей теории или в наших расчетах может крыться какая-то ошибка. Это мы тоже должны предусмотреть.
Остальные одобрительно зашумели, и Атон поморщился так, будто во рту у него бала страшная горечь.
— В таком случае можете оставаться, если хотите. Однако, пожалуйста, постарайтесь не мешать нам. Помните также, что здесь руководитель я, и, какой бы точки зрения вы ни придерживались в своих статьях, я требую содействия и уважения к…
Он говорил, заложив руки за спину, и его морщинистое лицо выражало твердую решимость. Он мог бы говорить бесконечно долго, если бы его не перебил новый голос.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка! — раздался высокий тенор, и пухлые щеки вошедшего растянулись в довольной улыбке. — Почему у вас такой похоронный вид? Надеюсь, все сохраняют спокойствие и твердость духа?
Атон недоуменно нахмурился и спросил раздраженно:
— Какого черта вам тут понадобилось, Ширин? Я думал, вы собираетесь остаться в Убежище.
Ширин рассмеялся и плюхнулся на стул.
— Да провались оно, это Убежище! Оно мне надоело. Я хочу быть здесь, в центре событий. Неужто, по-вашему, я совершенно нелюбопытен? Я хочу увидеть Звезды, о которых без конца твердят хранители Культа. — Он потер руки и добавил уже более серьезным тоном: — На улице холодновато. Ветер такой, что на носу повисают сосульки. Бета так далеко, что совсем не греет.
Седовласый ректор вдруг вспылил:
— Почему вы изо всех сил стараетесь делать всякие нелепости, Ширин? Какая польза от вас тут?
— А какая польза от меня там? — В притворном смирении Ширин развел руками. — В Убежище психологу делать нечего. Там нужны люди действия и сильные, здоровые женщины, способные рожать детей. А я? Для человека действия во мне лишних фунтов сто, а рожать детей я вряд ли сумею. Так зачем там нужен лишний рот? Здесь я чувствую себя на месте.
— А что такое Убежище? — деловито спросил Теремон.
Ширин как будто только теперь увидел журналиста. Он нахмурился и надул полные щеки.
— А вы, рыжий, кто вы такой?
Атон сердито сжал губы, но потом неохотно пробормотал:
— Это Теремон 762, газетчик. Полагаю, вы о нем слышали.
Журналист протянул руку.
— А вы, конечно, Ширин 501 из Сароского университета. Я слышал о вас. — И он повторил свой вопрос: — Что такое Убежище?
— Видите ли, — сказал Ширин, — нам все-таки удалось убедить горстку людей в правильности нашего предсказания… э… как бы это поэффектнее выразиться… рокового конца, и эта горстка приняла соответствующие меры. В основном это семьи персонала обсерватории, некоторые преподаватели университета и кое-кто из посторонних. Всех вместе их сотни три, но три четверти этого числа составляют женщины и дети.
— Понимаю! Они спрятались там, где Тьма и эти… э… Звезды не доберутся до них, и останутся поэтому целы, когда весь остальной мир сойдет с ума. Если им удастся, конечно. Ведь это будет нелегко. Человечество потеряет рассудок, большие города запылают — в такой обстановке выжить будет трудновато. Но у них есть припасы, вода, надежный приют, оружие…
— У них есть не только это, — сказал Атон. — У них есть все наши материалы, кроме тех, которые мы соберем сегодня. Эти материалы жизненно необходимы для следующего цикла, и именно они должны уцелеть. Остальное неважно.
Теремон протяжно присвистнул и задумался. Люди, стоявшие у стола, достали доску для коллективных шахмат и начали играть вшестером. Ходы делались быстро и молча. Все глаза были устремлены на доску.
Теремон несколько минут внимательно следил за игроками, а потом встал и подошел к Атону, который сидел в стороне и шепотом разговаривал с Ширином.
— Послушайте, — сказал он. — Давайте пойдем куда-нибудь, чтобы не мешать остальным. Я хочу спросить вас кое о чем.
Престарелый астроном нахмурился и угрюмо посмотрел на него, но Ширин ответил весело:
— С удовольствием. Мне будет полезно немного поболтать. Атон как раз рассказывал мне, какой реакции, по вашему мнению, можно ожидать, если предсказание не сбудется… и я согласен с вами. Кстати, я читаю ваши статьи довольно регулярно, и взгляды ваши мне в общем нравятся.
— Прошу вас, Ширин… — проворчал Атон.
— Что? Хорошо-хорошо. Мы пойдем в соседнюю комнату. Во всяком случае, там кресла помягче.
Кресла в соседней комнате действительно были мягкими. На окнах там висели тяжелые красные шторы, а на полу лежал палевый ковер. В красновато-кирпичных лучах Беты и шторы и ковер приобрели цвет запекшейся крови.
Теремон вздрогнул.
— Я бы отдал десять бумажек за одну секунду настоящего, белого света. Жаль, что Гаммы или Дельты нет на небе.
— О чем вы хотели нас спросить? — перебил его Атон. — Пожалуйста, помните, что у нас мало времени. Через час с четвертью мы поднимемся наверх, и после этого разговаривать будет некогда.
— Ну, так вот, — сказал Теремон, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки. — Вы все здесь так серьезны, что я начинаю верить вам. И я бы хотел, чтобы вы объяснили мне, в чем, собственно, все дело?
Атон вспылил:
— Уж не хотите ли вы сказать, что вы осыпали нас насмешками, даже не узнав как следует, что мы утверждаем?
Журналист смущенно улыбнулся.
— Ну, не совсем так, сэр. Общее представление я имею. Вы утверждаете, что через несколько часов во всем мире наступит Тьма и все человечество впадет в буйное помешательство. Я только спрашиваю, как вы это объясните с научной точки зрения.
— Нет, так вопрос не ставьте, — вмешался Ширин. — В этом случае, если Атон будет расположен ответить, вы утонете в море цифр и диаграмм. И так ничего и не поймете. А вот если спросите меня, то услышите объяснение, доступное для простых смертных.
— Ну, хорошо, считайте, что я спросил об этом вас.
— Тогда сначала я хотел бы выпить.
Он потер руки и взглянул на Атона.
— Воды? — ворчливо спросил Атон.
— Не говорите глупостей!
— Это вы не говорите глупостей! Сегодня никакого спиртного! Мои сотрудники могут не устоять перед искушением и напиться. Я не имею права рисковать.
Психолог что-то проворчал. Обернувшись к Теремону, он устремил на него пронзительный взгляд и начал:
— Вы, конечно, знаете, что история цивилизации Лагаша носит цикличный характер… Повторяю, цикличный!
— Я знаю, — осторожно заметил Теремон, — что это распространенная археологическая гипотеза. Значит, теперь ее считают абсолютно верной?
— Пожалуй. В этом нашем последнем столетии она получила общее признание. Этот цикличный характер является… вернее, являлся одной из величайших загадок. Мы обнаружили ряд цивилизаций — целых девять, но могли существовать и другие. Все эти цивилизации в своем развитии доходили до уровня, сравнимого с нашим, и все они, без исключения, погибали от огня на самой высшей ступени развития их культуры. Никто не может сказать, почему это происходило. Все центры культуры выгорали дотла, и не оставалось ничего, что подсказало бы причину катастроф.
Теремон внимательно слушал.
— А разве у нас не было еще и каменного века?
— Очевидно, был, но практически о нем известно лишь то, что люди тогда немногим отличались от очень умных обезьян. Таким образом, его можно не брать в расчет.
— Понимаю. Продолжайте.
— Прежние объяснения этих повторяющихся катастроф носили более или менее фантастический характер. Одни говорили, что на Лагаш периодически проливались огненные дожди, другие утверждали, что Лагаш время от времени проходит сквозь солнце, третьи — еще более нелепые вещи. Но существовала теория, совершенно отличающаяся от остальных, она дошла до нас из глубины веков.
— Я знаю, о чем вы говорите. Это миф о Звездах, который записан в Книге откровений хранителей Культа.
— Совершенно верно, — с удовлетворением отметил Ширин. — Хранители Культа утверждают, будто каждые две с половиной тысячи лет Лагаш попадал в колоссальную пещеру, так что все солнца исчезали и на весь мир опускался полный мрак. А потом, говорят они, появлялись так называемые Звезды, которые отнимали у людей души и превращали их в неразумных скотов, так что они губили цивилизацию, созданную ими же самими. Конечно, хранители Культа разбавляют все это невероятным количеством религиозной мистики, но основная идея такова.
Ширин помолчал, переводя дух.
— А теперь мы подходим к Теории Всеобщего Тяготения.
Он произнес эту фразу так, словно каждое слово начиналось с большой буквы, — и тут Атон отвернулся от окна, презрительно фыркнул и сердито вышел из комнаты.
Ширин и Теремон посмотрели ему вслед.
— Что случилось? — спросил Теремон.
— Ничего особенного, — ответил Ширин. — Еще двое его сотрудников должны были явиться сюда несколько часов назад, но их все еще нет. А у него каждый человек на счету: все, кроме самых нужных специалистов, ушли в Убежище.
— Вы думаете, они дезертировали?
— Кто? Фаро и Йимот? Конечно, нет. И все же, если они не вернутся в течение часа, это усложнит ситуацию. — Он неожиданно вскочил на ноги, и его глаза весело блеснули. — Однако раз уж Атон ушел…
Подойдя на цыпочках к ближайшему окну, он присел на корточки, вытащил бутылку из шкафчика, встроенного под подоконником, и стряхнул ее — красная жидкость в бутылке соблазнительно булькнула.
— Я так и знал, что Атону про это не известно, — заметил он, поспешно возвращаясь к своему креслу. — Вот! У нас только один стакан — его, поскольку вы гость, возьмете вы. Я буду пить из бутылки. — И он осторожно наполнил стаканчик.
Теремон встал, собираясь отказаться, но Ширин смерил его строгим взглядом.
— Молодой человек, старших надо уважать.
Журналист сел с мученическим видом.
— Тогда продолжайте рассказывать, старый плут.
Психолог поднес ко рту горлышко бутылки, и кадык его задергался. Затем он довольно крякнул, чмокнул губами и продолжал:
— А что вы знаете о тяготении?
— Только то, что оно было открыто совсем недавно, и теория эта почти не разработана, а формулы настолько сложны, что на Лагаше постигнуть ее способны всего двенадцать человек.
— Чепуха! Ерунда! Я изложу сущность этой теории в двух словах. Закон всеобщего тяготения утверждает, что между всеми телами Вселенной существует связующая сила и что величина силы, связующей два любых данных тела, пропорциональна произведению их масс, деленному на квадрат расстояния между ними.
— И все?
— Этого вполне достаточно! Понадобились четыре века, чтобы открыть этот закон.
— Почему же так много? В вашем изложении он кажется очень простым.
— Потому что великие законы не угадываются в минуты вдохновения, как это думают. Для их открытия нужна совместная работа ученых всего мира в течение столетий. После того как Генови 41 открыл, что Лагаш вращается вокруг солнца Альфа, а не наоборот (а это произошло четыреста лет назад), астрономы поработали очень много. Они наблюдали, анализировали и точно определили сложное движение шести солнц. Выдвигалось множество теорий, их проверяли, изменяли, отвергали и превращали во что-то еще. Это была чудовищная работа.
Теремон задумчиво кивнул и протянул стаканчик. Ширин нехотя наклонил бутылку, и на донышко упало несколько рубиновых капель.
— Двадцать лет назад, — продолжал он, промочив горло, — было наконец доказано, что закон всеобщего тяготения точно объясняет орбитальное движение шести солнц. Это была великая победа.
Ширин встал и направился к окну, не выпуская из рук бутылки.
— А теперь мы подходим к главному. За последнее десятилетие орбита, по которой Лагаш обращается вокруг солнца Альфа, была вновь рассчитана на основе этого закона, и оказалось, что полученные результаты не соответствуют реальной орбите, хотя были учтены все возмущения, вызываемые другими солнцами. Либо закон не был верен, либо существовал еще один, неизвестный фактор.
Теремон подошел к Ширину, который стоял у окна и смотрел на шпили Саро, кроваво пылавшие на горизонте за лесистыми склонами холмов. Бросив взгляд на Бету, журналист почувствовал возрастающую неуверенность и тревогу. Ее крохотное красное пятнышко зловеще рдело в зените.
— Продолжайте, сэр, — тихо сказал он.
— Астрономы целые годы топтались на месте, и каждый предлагал теорию еще более несостоятельную, чем прежние, пока… пока Атон по какому-то наитию не обратился к Культу. Глава Культа, Сор 5, располагал сведениями, которые значительно упростили решение проблемы. Атон пошел по новому пути. А что, если существует еще одно, не светящееся планетное тело, подобное Лагашу? В таком случае оно, разумеется, будет сиять только отраженным светом, и если поверхность этого тела сложена из таких же голубоватых пород, как и большая часть поверхности Лагаша, то в красном небе вечное сияние солнц сделало бы его невидимым… как бы поглотило его.
Теремон присвистнул.
— Что за нелепая мысль!
— По-вашему, нелепая? Ну, так слушайте. Предположим, что это тело вращается вокруг Лагаша на таком расстоянии, по такой орбите и обладает такой массой, что его притяжение в точности объясняет отклонения орбиты Лагаша от теоретической… Вы знаете, что бы тогда случилось?
Журналист покачал головой.
— Время от времени это тело заслоняло бы собой какое-нибудь солнце, — сказал Ширин и залпом осушил бутылку.
— И наверно, так и происходит, — решительно сказал Теремон.
— Да! Но в плоскости его обращения лежит только одно солнце, — Ширин показал на маленькое солнце, — Бета! И было установлено, что затмение происходит, только когда из солнц над нашим полушарием остается лишь Бета, находящаяся при этом на максимальном расстоянии от Лагаша. А луна в этот момент находится от него на минимальном расстоянии. Видимый диаметр луны в семь раз превышает диаметр Беты, так что тень ее закрывает всю планету и затмение длится половину суток, причем на Лагаше не остается ни одного освещенного местечка. И такое затмение случается каждые две тысячи сорок девять лет!
На лице Теремона не дрогнул ни один мускул.
— Это и есть материал для моей статьи?
Психолог кивнул.
— Да, тут все. Сначала затмение (оно начнется через три четверти часа)… потом всеобщая Тьма и, быть может, пресловутые звезды… потом безумие и конец цикла.
Ширин задумался и добавил угрюмо:
— У нас в распоряжении было только два месяца (я говорю о сотрудниках обсерватории) — слишком малый срок, чтобы доказать Лагашу, какая ему грозит опасность. Возможно, на это не хватило бы и двух столетий. Но в Убежище хранятся наши записи, и сегодня мы сфотографируем затмение. Следующий цикл с самого начала будет знать истину, и, когда наступит следующее затмение, человечество наконец будет готово к нему. Кстати, это тоже материал для вашей статьи.
Теремон открыл окно, и сквозняк всколыхнул шторы. Холодный ветер трепал волосы журналиста, а он смотрел на свою руку, освещенную багровым солнечным светом. Внезапно он обернулся и сказал возмущенно:
— Почему вдруг я должен обезуметь из-за этой тьмы?
Ширин, улыбаясь какой-то своей мысли, машинально вертел в руке пустую бутылку.
— Молодой человек, а вы когда-нибудь бывали во Тьме?
Журналист прислонился к стене и задумался.
— Нет. Пожалуй, нет. Но я не знаю, что это такое. Это… — он неопределенно пошевелил пальцами, но потом нашелся: — Это просто когда нет света. Как в пещерах.
— А вы бывали в пещере?
— В пещере? Конечно, нет!
— Я так и думал. На прошлой неделе я попытался — чтобы проверить себя… Но попросту сбежал. Я шел, пока вход в пещеру не превратился в пятнышко света, а кругом все было черно. Мне и в голову не приходило, что человек моего веса способен бежать так быстро.
— Ну, если говорить честно, — презрительно кривя губы, сказал Теремон, — на вашем месте я вряд ли побежал бы.
Психолог, досадливо хмурясь, пристально посмотрел на журналиста.
— А вы хвастунишка, как я погляжу. Ну-ка, попробуйте задернуть шторы.
Теремон с недоумением посмотрел на него.
— Для чего? Будь в небе четыре или пять солнц, может быть, и стоило бы умерить свет, но сейчас и без того его мало.
— Вот именно. Задерните шторы, а потом идите сюда и сядьте.
— Ладно.
Теремон взялся за шнурок с кисточкой и дернул. Медные кольца просвистели по палке, красные шторы закрыли окно, и комнату сдавил красноватый полумрак.
В тишине глухо прозвучали шаги Теремона. Но на полпути к столу он остановился.
— Я вас не вижу, сэр, — прошептал он.
— Идите ощупью, — напряженным голосом посоветовал Ширин.
— Но я не вижу вас, сэр, — тяжело дыша, сказал журналист. — Я ничего не вижу.
— А чего же вы ожидали? — угрюмо спросил Ширин. — Идите сюда и садитесь!
Снова раздались медленные, неуверенные шаги. Слышно было, как Теремон ощупью ищет стул. Журналист сказал хрипло:
— Добрался. Я… все нормально.
— Вам это нравится?
— Н-нет. Это отвратительно. Словно стены… — Он замолк. — Словно стены сдвигаются. Мне все время хочется раздвинуть их. Но я не схожу с ума! Да и вообще это ощущение уже слабеет.
— Хорошо. Теперь отдерните шторы.
В темноте послышались осторожные шаги и шорох задетой материи. Теремон нащупал шнур, и раздалось победное з-з-з отдергиваемой шторы. В комнату хлынул красный свет, и Теремон радостно вскрикнул, увидев солнце.
Ширин тыльной стороной руки отер пот со лба и дрожащим голосом сказал:
— А это была всего-навсего темнота в комнате.
— Вполне терпимо, — беспечно произнес Теремон.
— Да, в комнате. Но вы были два года назад на Выставке столетия в Джонглоре?
— Нет, как-то не собрался. Ехать за шесть тысяч миль, даже ради того, чтобы посмотреть выставку, не стоит.
— Ну, а я там был. Вы, наверное, слышали про «Таинственный туннель», который затмил все аттракционы… во всяком случае, в первый месяц?
— Да. Если не ошибаюсь, с ним связан какой-то скандал.
— Не ошибаетесь, но дело замяли. Видите ли, этот «Таинственный туннель» был обыкновенным туннелем длиной в милю… но без освещения. Человек садился в открытый вагончик и пятнадцать минут ехал через Тьму. Пока это развлечение не запретили, оно было очень популярно.
— Популярно?
— Конечно. Людям нравится ощущение страха, если только это игра. Ребенок с самого рождения инстинктивно боится трех вещей: громкого шума, падения и отсутствия света. Вот почему считается, что напугать человека внезапным криком — это очень остроумная шутка. Вот почему так любят кататься на досках в океанском прибое. И вот почему «Таинственный туннель» приносил большие деньги. Люди выходили из Тьмы, трясясь, задыхаясь, полумертвые от страха, но продолжали платить деньги, чтобы попасть в туннель.
— Погодите-ка, я, кажется, припоминаю. Несколько человек умерли, находясь в туннеле, верно? Об этом ходили слухи после того, как туннель был закрыт.
— Умерли двое-трое, — сказал психолог пренебрежительно. — Это пустяки! Владельцы туннеля выплатили компенсацию семьям умерших и убедили муниципалитет Джонглора не принимать случившееся во внимание: в конце концов, если людям со слабым сердцем вздумалось прокатиться по туннелю, то они сделали это на свой страх и риск, ну, а в будущем этого не повторится! В помещении касс с тех пор находился врач, осматривавший каждого пассажира, перед тем как тот садился в вагончик. После этого билеты и вовсе расхватывались!
— Так какой же вывод?
— Видите ли, этим дело не исчерпывалось. Некоторые из побывавших в туннеле чувствовали себя прекрасно и только отказывались потом заходить в помещения — в любые помещения: во дворцы, особняки, жилые дома, сараи, хижины, шалаши и палатки.
Теремон вскрикнул с некоторой брезгливостью:
— Вы хотите сказать, что они отказывались уходить с улицы? Где же они спали?
— На улице.
— Но их надо было заставить войти в дом.
— О, их заставляли! И у этих людей начиналась сильнейшая истерика, и они изо всех сил старались расколотить себе голову о ближайшую стену. В помещении их можно было удержать только с помощью смирительной рубашки и инъекции морфия.
— Просто какие-то сумасшедшие!
— Вот именно. Каждый десятый из тех, кто побывал в туннеле, выходил оттуда таким. Власти обратились к психологам, и мы сделали единственную возможную вещь. Мы закрыли аттракцион.
Ширин развел руками.
— А что же происходило с этими людьми? — спросил Теремон.
— Примерно то же, что с вами, когда вам казалось, будто в темноте на вас надвигаются стены. В психологии есть специальный термин, которым обозначают инстинктивный страх человека перед отсутствием света. Мы называем этот страх клаустрофобией, потому что отсутствие света всегда связано с закрытыми помещениями и бояться одного — значит бояться другого. Понимаете?
— И люди, побывавшие в туннеле?..
— И люди, побывавшие в туннеле, принадлежали к тем несчастным, чья психика не может противостоять клаустрофобии, которая овладевает ими во Тьме. Пятнадцать минут без света — это много; вы посидели без света всего две-три минуты и, если не ошибаюсь, успели утратить душевное равновесие. Эти люди заболевали так называемой «устойчивой клаустрофобией». Их скрытый страх перед Тьмой и помещениями вырывался наружу, становился активным и, насколько мы можем судить, постоянным. Вот к чему могут привести пятнадцать минут в темноте.
Наступило долгое молчание. Теремон нахмурился.
— Я не верю, что дело обстоит так скверно.
— Вы хотите сказать, что не желаете верить, — отрезал Ширин. — Вы боитесь поверить. Поглядите в окно.
Теремон поглядел в окно, а психолог продолжал:
— Вообразите Тьму повсюду. И нигде не видно света. Дома, деревья, поля, земля, небо одна сплошная чернота и вдобавок еще, может быть Звезды… какими бы они там не были. Можете вы представить себе это?
— Да, могу, — сердито заявил Теремон.
Ширин с неожиданной горячностью стукнул кулаком по столу.
— Вы лжете! Представить себе этого вы не можете. Ваш мозг устроен так, что в нем не укладывается это понятие, как не укладывается понятие бесконечности или вечности. Вы можете только говорить об этом. Крохотная доля этого уже угнетает вас, и, когда оно придет по-настоящему, ваш мозг столкнется с таким явлением, которое не сможет осмыслить. И вы сойдете с ума, полностью и навсегда! Это несомненно!
И он грустно добавил:
— И еще два тысячелетия отчаянной борьбы окажутся напрасными. Завтра на всем Лагаше не останется ни одного неразрушенного города.
Теремон немного успокоился.
— Почему вы так считаете? Я все еще не понимаю, отчего я должен сойти с ума только потому, что на небе нет солнца. Но даже если бы это случилось со мной и со всеми, то каким образом от этого пострадали бы города? Мы будем их взрывать, что ли?
Но Ширин рассердился и вовсе не был склонен шутить.
— Находясь во Тьме, чего бы вы жаждали больше всего? Чего бы требовали ваши инстинкты? Света, черт вас побери, света!
— Ну?
— А как бы вы добыли свет?
— Не знаю, — признался Теремон.
— Каков единственный способ получить свет, если не считать солнца?
— Откуда мне знать?
Они стояли лицом к лицу.
— Вы бы что-нибудь сожгли, уважаемый! — сказал Ширин. — Вы когда-нибудь видели, как горит лес? Вы когда-нибудь отправлялись в далекие прогулки и варили обед на костре? А ведь горящее дерево дает не только жар. Оно дает свет, и люди знают это. А когда темно, им нужен свет, и они ищут его.
— И для этого жгут дерево?
— И для этого жгут все, что попадет под руку. Им нужен свет. Им надо что-то сжечь, и, если нет дерева, они жгут что попало. Свет во что бы то ни стало… и все населенные пункты погибают в пламени!
Они смотрели друг на друга так, словно все дело было в том, чтобы доказать, чья воля сильнее, а затем Теремон молча опустил глаза. Он дышал хрипло, прерывисто и вряд ли заметил, что за закрытой дверью, ведущей в соседнюю комнату, раздался шум голосов.
— По-моему, это голос Йимота, — сказал Ширин, стараясь говорить спокойно. — Наверно, они с Фаро вернулись. Пойдемте узнаем, что их задержало.
— Хорошо, — пробормотал Теремон. Он глубоко вздохнул и как будто очнулся.
Напряжение рассеялось.
В соседней комнате было очень шумно. Ученые сгрудились возле двух молодых людей, которые снимали верхнюю одежду и одновременно пытались отвечать на град вопросов, сыпавшийся на них.
Атон протолкался к ним и сердито спросил:
— Вы понимаете, что осталось меньше получаса? Где вы были?
Фаро 24 сел и потер руки. Его щеки покраснели от холода.
— Йимот и я только что закончили небольшой сумасшедший эксперимент, который мы предприняли на свой страх и риск. Мы пытались создать устройство, имитирующее появление Тьмы и Звезд, чтобы заранее иметь представление, как все это выглядит.
Эти слова вызвали оживление вокруг, а во взгляде Атона вдруг появился интерес.
— Вы об этом раньше ничего не говорили. Ну и что вы сделали?
— Мы с Йимотом обдумывали это уже давно, — сказал Фаро, — и готовили эксперимент в свободное время. Йимот присмотрел в городе одноэтажное низкое здание с куполообразной крышей… по-моему, там когда-то был музей. И вот мы купили этот дом…
— А где вы взяли деньги? — бесцеремонно перебил его Атон.
— Мы забрали из банка все свои сбережения, — буркнул Йимот. — У нас было около двух тысяч. — И добавил, оправдываясь: — Ну и что? Завтра наши две тысячи превратились бы в пачку бесполезных бумажек.
— Конечно, — подтвердил Фаро. — Мы купили дом и затянули все внутри черным бархатом, чтобы создать наиболее возможную Тьму. Потом мы проделали крохотные отверстия в потолке и крыше и прикрыли их металлическими заслонками, которые можно было сдвинуть одновременно, нажав кнопку. Вернее сказать, мы делали это не сами, а наняли плотника, электрика и других рабочих — денег мы не жалели. Важно было добиться того, чтобы свет, проникая через отверстия в крыше, создавал звездоподобный эффект.
Все слушали, затаив дыхание. Атон сказал сухо:
— Вы не имели права делать самостоятельные…
— Я знаю, сэр, — смущенно сказал Фаро, — но, откровенно говоря, мы с Йимотом думали, что эксперимент может оказаться опасным. Если бы эффект действительно сработал, то по теории Ширина, мы должны были лишиться рассудка. Мы думали, что это весьма вероятно. И мы хотели взять на себя весь риск. Возможно, нам удалось бы, — конечно, в том случае, если бы мы сохранили рассудок, — выработать у себя иммунитет против того, что должно произойти — и тогда мы обезопасили этим способом всех нас. Но эксперимент вообще не получился…
— Но что же произошло?
На этот раз ответил Йимот.
— Мы заперлись там и дали своим глазам возможность привыкнуть к темноте. Это совершенно ужасное ощущение — в полной Тьме кажется, будто на тебя валятся стены и потолок. Но мы преодолели это чувство и привели в действие механизм. Заслонки отодвинулись, и по всему потолку засверкали пятнышки света…
— Ну?
— Ну… и ничего. Вот что самое обидное. Ничего не произошло. Это была просто крыша с дырками, и только так мы ее и воспринимали. Мы проделывали опыт снова и снова… потому мы и задержались… но никакого эффекта не получилось.
Потрясенные услышанным, все молча повернулись к Ширину, который слушал с открытым ртом, словно окаменев.
Первым заговорил Теремон.
— Ширин, вы понимаете, какой удар это наносит вашей теории? — облегченно улыбаясь, сказал он.
Но Ширин нетерпеливо поднял руку.
— Нет, погодите. Дайте подумать. — Он щелкнул пальцами, поднял голову, и в его глазах уже не было выражения неуверенности или удивления. — Конечно…
Но он не договорил. Откуда-то сверху донесся звон разбитого стекла, и Бини, пробормотав: «Что за черт?», бросился вверх по лестнице.
Остальные последовали за ним.
Дальнейшее произошло очень быстро. Оказавшись в куполе, Бини с ужасом увидел разбитые фотографические пластинки и склонившегося над ним человека. В бешенстве бросившись на незваного гостя, он мертвой хваткой вцепился ему в горло. Они покатились по полу, но тут в купол вбежали остальные сотрудники обсерватории и незнакомец оказался буквально погребенным под десятком навалившихся на него разъяренных людей.
Последним в купол поднялся запыхавшийся Атон.
— Отпустите его! — сказал он.
Все неохотно подались назад, и незнакомца поставили на ноги. Он хрипло дышал, лоб у него был в синяках, а одежда порвана. Его рыжеватая бородка была тщательно завита по обычаю хранителей Культа.
Бини схватил его за шиворот и с ожесточением потряс.
— Что ты задумал, мерзавец? Эти пластинки…
— Я пришел сюда не ради них, — холодно сказал хранитель Культа. — Это была случайность.
Бини увидел, куда направлен его злобный взгляд, и зарычал:
— Понятно. Тебя интересовали сами фотоаппараты. Твое счастье, что ты уронил пластинки. Если бы ты коснулся «Моментальной Берты» или какой-нибудь другой камеры, ты бы у меня умер медленной смертью. Ну а теперь…
Он занес кулак, но Атон схватил его за рукав.
— Прекратите! Отпустите его! — приказал он.
Молодой инженер заколебался и нехотя опустил руку. Атон оттолкнул его и стал перед незваным гостем.
— Вас ведь зовут Латимер?
Хранитель Культа слегка поклонился и показал символ на своем бедре.
— Я Латимер 25, помощник третьего класса его святости Сора 5.
Седые брови Атона поползли вверх.
— И вы были здесь с его святостью, когда он посетил меня неделю назад?
Латимер снова поклонился.
— Так чего же вы хотите?
— Того, что вы мне не дадите добровольно.
— Наверно, вас послал Сор 5… Или это ваша собственная инициатива?
— На этот вопрос я отвечать не буду.
— Мы должны ждать еще посетителей?
— И на этот вопрос я не отвечу.
Атон посмотрел на свои часы и нахмурился.
— Что вашему господину понадобилось от меня? Свои обязательства я выполнил.
Латимер едва заметно улыбнулся, но ничего не ответил.
— Я просил его, — сердито продолжал Атон, — сообщить мне сведения, которыми располагает только Культ, и эти сведения я получил. За это спасибо. В свою очередь я обещал доказать, что догма Культа в существе своем истинна.
— Доказывать это нет нужды, — гордо возразил Латимер. — Книга откровений содержит все необходимые доказательства.
— Да. Для горстки верующих. Не делайте вид, что вы меня не понимаете. Я предложил обосновать ваши верования научно. И я это сделал!
Глаза хранителя Культа сузились.
— Да, вы сделали это… но с лисьим лукавством, ибо ваши объяснения, якобы подтверждая наши верования, в то же время устранили всякую необходимость в них. Вы превратили Тьму и Звезды в явления природы, и они лишились своего подлинного значения. Это кощунство!
— В таком случае это не моя вина. Существуют объективные факты. И мне остается только констатировать их.
— Ваши «факты» — заблуждение и обман.
Атон сердито топнул ногой.
— Откуда вы это знаете?
— Знаю! — последовал ответ, исполненный слепой веры.
Ректор побагровел, и Бини что-то настойчиво зашептал ему на ухо. Но Атон жестом потребовал, чтобы он замолчал.
— И чего же хочет от нас Сор 5? Наверно, он все еще думает, что пытаясь уговорить мир принять меры против угрозы безумия, мы мешаем спасению бесчисленных душ. Если это так важно для него, то пусть знает, что нам это не удалось.
— Сама попытка уже принесла достаточный вред, и вашему нечестивому стремлению получить сведения с помощью этих дьявольских приборов необходимо воспрепятствовать. Мы выполняем волю Звезд, и я жалею только о том, что из-за собственной неуклюжести не успел разбить ваши проклятые приборы.
— Это вам дало бы очень мало, — возразил Атон. — Все собранные нами данные, кроме тех, которые мы получим сегодня путем непосредственного наблюдения, уже надежно спрятаны, и уничтожить их невозможно. — Он угрюмо улыбнулся. — Но это не меняет того факта, что вы проникли сюда как взломщик, как преступник! — Он обернулся к людям, стоявшим позади. — Вызовите кто-нибудь полицию из Саро.
— Черт возьми, Атон! — поморщившись, воскликнул Ширин. — Что с вами? У нас нет на это времени. — Он торопливо протолкался вперед. — Его я беру на себя.
Атон высокомерно посмотрел на психолога.
— Сейчас не время для ваших выходок, Ширин. Будьте так добры, не вмешивайтесь в мои распоряжения. Вы здесь совершенно посторонний человек, не забывайте.
Ширин выразительно скривил губы.
— С какой стати пытаться вызывать полицию сейчас, когда до затмения Беты остались считанные минуты, а этот молодой человек готов дать честное слово, что он не уйдет отсюда и будет вести себя тихо.
— Я не дам никакого слова, — немедленно заявил Латимер. — Делайте что хотите, но я откровенно предупреждаю вас, что как только у меня появится возможность, я сделаю то, ради чего я здесь. Если вы рассчитываете на мое честное слово, то лучше зовите полицию.
— Вы решительный малый, — дружелюбно улыбаясь, сказал Ширин. — Ладно, я вам коечто разъясню. Видите молодого человека у окна? Он очень силен и умеет работать кулаками, кроме того, он тут посторонний. Когда начнется затмение, ему нечего будет делать, кроме как присматривать за вами. К тому же я и сам… хоть я и толстоват для драки, но помочь ему сумею.
— Ну и что? — холодно спросил Латимер.
— Выслушайте меня и все узнаете, — ответил Ширин. — Как только начнется затмение, мы с Теремоном посадим вас в чуланчик без окон и с дверью, снабженной хорошим замком. И вы будите сидеть там, пока все не кончится.
— А потом, — тяжело дыша, сказал Латимер, — меня некому будет выпустить. Я не хуже вас знаю, что значит появление Звезд… я знаю это куда лучше вас! Все вы потеряете рассудок, и меня никто не освободит. Вы предлагаете мне смерть от удушья или голодную смерть. Чего еще можно ждать от ученых? Но слова своего я не дам. Это дело принципа, и говорить об этом я больше не намерен.
Атон, по-видимому, смутился. В его блеклых глазах была тревога.
— И в самом деле, Ширин, запирать его…
Ширин замахал на него руками.
— Погодите! Я вовсе не думаю, что дело может зайти так далеко. Латимер попробовал довольно ловко — обмануть нас, но я психолог не только потому, что мне нравится звучание этого слова. — Он улыбнулся хранителю Культа. — Неужели вы думаете, что я способен прибегнуть к столь примитивной угрозе, как голодная смерть? Дорогой Латимер, если я запру вас в чулане, то вы не увидите Тьмы, не увидите Звезд. Самого поверхностного знакомства с догмами Культа достаточно, чтобы понять, что, спрятав вас, когда появятся Звезды, мы лишим вашу душу бессмертия. Так вот, я считаю вас порядочным человеком. Я поверю вам, если вы дадите честное слово не предпринимать никаких попыток мешать нам.
На виске Латимера задергалась жилка, и он, как-то весь сжавшись, хрипло сказал:
— Даю! — И затем яростно добавил: — Но меня утешает то, что все вы будете прокляты за ваши сегодняшние дела.
Он резко повернулся и зашагал к высокому табурету у двери.
Ширин кивнул журналисту и сказал:
— Сядьте рядом с ним, Теремон… так, формальности ради. Эй, Теремон!
Но журналист не двигался с места. Он побелел как полотно.
— Смотрите.
Палец его, показывавший на небо, дрожал, а голос звучал сипло и надтреснуто.
Они поглядели в направлении вытянутого пальца и ахнули. Несколько секунд все не дыша смотрели на небо.
Край Беты исчез!
Клочок наползавшей на солнце черноты был шириной всего, пожалуй, с ноготь, но смотревшим на него людям он казался тенью Рока. Все стояли неподвижно лишь какое-то мгновение, потом началась суматоха. Она прекратилась еще быстрее и сменилась четкой лихорадочной работой: каждый занялся своим делом. В этот критический момент было не до личных чувств. Теперь это были ученые, поглощенные своей работой. Даже Атон уже не замечал, что происходит вокруг.
— Затмение началось, по-видимому, минут пятнадцать назад, — деловито сказал Ширин. — Немного рановато, но достаточно точно, если принять во внимание приблизительность расчетов.
Он поглядел вокруг, подошел на цыпочках к Теремону, который по-прежнему смотрел в окно, и легонько потянул его за рукав.
— Атон разъярен, — прошептал он. — Держитесь от него подальше. Он проглядел начало из-за возни с Латимером. И, если вы подвернетесь ему под руку, он велит выбросить вас в окно.
Теремон кивнул и сел. Ширин посмотрел на него с удивлением.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Вы дрожите.
— А? — Теремон облизал пересохшие губы и попытался улыбнуться. — Я действительно чувствую себя не очень хорошо.
Психолог прищурил глаза.
— Немножко струсили?
— Нет! — с негодованием крикнул Теремон. — Дайте мне прийти в себя. В глубине души я так и не верил в этот вздор… до последней минуты. Дайте мне время свыкнуться с этой мыслью. Вы же подготавливались больше двух месяцев.
— Вы правы, — задумчиво сказал Ширин. — Послушайте! У вас есть семья — родители, жена, дети?
Теремон покачал головой.
— Вы, наверно, имеете в виду Убежище? Нет, не беспокойтесь. У меня есть сестра, но она живет в двух тысячах миль отсюда и я даже не знаю ее точного адреса.
— Ну а вы сами? У вас еще есть время добраться туда. У них все равно освободилось одно место, поскольку я ушел. В конце концов, здесь вы не нужны, зато там можете очень пригодиться…
— Вы думаете у меня дрожат коленки? Так слушайте же, вы! Я газетчик, и мне поручено написать статью. И я напишу ее.
Психолог едва заметно улыбнулся.
— Я вас понимаю. Профессиональная честь, не так ли?
— Можете называть это и так. Но я отдал бы сейчас правую руку за бутылку спиртного, пусть даже она будет наполовину меньше той, что вы вылакали. Никогда еще так не хотелось выпить…
Он внезапно умолк, так как Ширин подтолкнул его локтем.
— Вы слышите? Послушайте!
Теремон посмотрел туда, куда ему показывал Ширин, и увидел хранителя Культа, который, забыв обо всем на свете, стоял лицом к окну и в экстазе что-то бормотал.
— Что он говорит? — прошептал журналист.
— Он цитирует Книгу откровений, пятую главу, — ответил Ширин и добавил сердито: — Молчите и слушайте!
«И случилось так, что солнце Бета в те дни все дольше и дольше оставалось в небе совсем одно, а потом пришло время, когда только оно, маленькое и холодное, светило над Лагашем. И собирались люди на площадях и дорогах, и дивились люди тому, что видели, ибо дух их был омрачен. Сердца их были смущены, а речи бессвязны, ибо души людей ожидали пришествия Звезд. И в городе Тригоне, в самый полдень, вышел Вендрет 2, и сказал он людям Тригона: «Внемлите, грешники! Вы презираете пути праведные, но пришла пора расплаты. Уже грядет пещера, дабы поглотить Лагаш и все, что на нем!»
Он еще не сказал слов своих, а Тьма Пещеры уже заслонила край Беты и скрыла его от Лагаша. Громко кричали люди, когда исчезал свет, и велик был страх, овладевший их душами.
И случилось так, что Тьма Пещеры пала на Лагаш, и не было света на всем Лагаше. И люди стали как слепые, и никто не видел соседа, хотя и чувствовал его дыхание на лице своем.
И в этот миг души отделились от людей, а их покинутые тела стали как звери, да, как звери лесные; и с криками рыскали они по темным улицам городов Лагаша.
А со Звезд пал Небесный Огонь, и где он коснулся Лагаша, там обращались в пепел города его, и ни от человека, ни от дел его не осталось ничего.
И в час тот…»
Что-то изменилось в голосе Латимера. Он продолжал неотрывно смотреть в окно и все же почувствовал, с каким вниманием его слушают Ширин и Теремон. Легко, не переводя дыхания, он чуть изменил тембр голоса, и его речь стала более напевной.
Теремон даже вздрогнул от удивления. Слова казались почти знакомыми. Однако акцент неуловимо изменился, сместились ударения — ничего больше, но понять Латимера было уже нельзя.
— Он перешел на язык какого-то древнего цикла, — хитро улыбнувшись, сказал Ширин, — может быть, на язык их легендарного второго цикла. Именно на этом языке, как вы знаете, была первоначально написана Книга откровений.
— Это все равно, с меня достаточно. — Теремон отодвинул свой стул и пригладил волосы пальцами, которые уже не дрожали. — Теперь я чувствую себя гораздо лучше.
— Неужели? — немного удивленно спросил Ширин.
— Несомненно. Хотя несколько минут назад и перепугался. Все эти ваши рассказы о тяготении, а потом начало затмения чуть было совсем не выбили меня из колеи. Но это… — он презрительно ткнул пальцем в сторону рыжебородого хранителя Культа, — это я слышал еще от няньки. Я всю жизнь посмеивался над этими сказками. Пугаться их я не собираюсь и теперь.
Он глубоко вздохнул и добавил с нервной усмешкой:
— Но чтобы опять не потерять присутствия духа, я лучше отвернусь от окна.
— Прекрасно, — сказал Ширин. — Только лучше говорите потише. Атон только что оторвался от своего прибора и бросил на вас убийственный взгляд.
— Я забыл про старика, — с гримасой сказал Теремон.
Он осторожно переставил стул, сел спиной к окну и, с отвращением посмотрев через плечо, добавил:
— Мне пришло в голову, что очень многие должны быть невосприимчивы к этому звездному безумию.
Психолог ответил не сразу. Бета уже прошла зенит, и кроваво-красное квадратное пятно, повторявшее на полу очертания окна, переползло теперь на колени Ширина. Он задумчиво поглядел на этот тусклый багрянец, потом нагнулся и взглянул на само солнце. Чернота поглотила треть Беты. Ширин содрогнулся, и, когда он снова выпрямился, его румяные щеки заметно побледнели.
Со смущенной улыбкой он тоже сел спиной к окну.
— Сейчас в Саро, наверно, не менее двух миллионов людей возвращаются в лоно Культа, который переживает свое великое возрождение, — заметил Ширин. — Культу предстоит целый час небывалого расцвета, — добавил он иронически. — Думаю, что его хранители извлекают из этого срока все возможное. Простите, вы сейчас что-то сказали?
— Вот что: каким образом хранители Культа умудрялись передавать Книгу откровений из цикла в цикл и каким образом она вообще была написана? Значит, существует какой-то иммунитет — если все сходили с ума, то кто же все-таки написал эту книгу.
Ширин грустно посмотрел на Теремона.
— Ну, молодой человек, очевидцев, которые могли бы ответить на этот вопрос, не существует, но мы довольно точно представляем себе, что происходило. Видите ли, имеются три группы людей — они пострадают по сравнению с другими не так сильно. Во-первых, это те немногие, которые вообще не увидят Звезд; к ним относятся слепые и те, кто напьется до потери сознания в начале затмения и протрезвится, когда все уже кончится. Этих мы считать не будем, так как, в сущности, они не очевидцы. Затем дети до шести лет, для которых весь мир еще слишком нов и неведом, чтобы они испугались Звезд и Тьмы. Они просто познакомятся с еще одним явлением и без того удивительного мира. Согласны?
Теремон неуверенно кивнул.
— Пожалуй.
— И, наконец, тугодумы, слишком тупые, чтобы лишиться своего неразвитого рассудка… например, старые, замученные работой крестьяне. Ну, у детей остаются только отрывочные воспоминания, и вкупе с путаной, бессвязной болтовней полусумасшедших тупиц они-то и легли в основу Книги откровений. Естественно, первый вариант книги был основан на свидетельствах людей, меньше всего годившихся в историки, то есть детей и полуидиотов; но потом ее, наверно, тщательно редактировали и исправляли в течение многих циклов.
— Вы думаете, — сказал Теремон, — они пронесли книгу через циклы тем же способом, которым мы собираемся передать следующему циклу секрет тяготения?
Ширин пожал плечами.
— Возможно. Не все ли равно, как они это делают. Как-то умудряются. Я хочу только сказать, что эта книга полна всяческих искажений, хотя в основу ее и легли действительные факты. Например, вы помните эксперимент Фаро и Йимота с дырками на крыше, который не удался?..
— Да.
— А вы знаете, почему он не…
Он замолчал и в тревоге поднялся со стула: к ним подошел Атон. На его лице застыл ужас.
— Что случилось? — почти крикнул Ширин.
Атон взял Ширина под локоть и отвел в сторону. Психолог чувствовал как дрожат пальцы Атона.
— Говорите тише! — хрипло прошептал Атон. — Я только что получил известие из Убежища.
— У них что-нибудь неладно? — испуганно спросил Ширин.
— Не у них, — сказал Атон, сделав ударение на местоимении. — Они только что заперлись и выйдут наружу только послезавтра. Им ничто не грозит. Но город, Ширин… в городе кровавый хаос. Вы не представляете себе…
Он говорил с трудом.
— Ну? — нетерпеливо перебил его Ширин. — Ну и что? Будет еще хуже. Почему вы так дрожите? — И, подозрительно посмотрев на Атона, он добавил: — А как вы себя чувствуете? При этом намеке в глазах Атона мелькнул гнев, но тут же вновь сменился мучительной тревогой.
— Вы не понимаете. Хранители Культа не дремлют. Они призывают людей напасть на обсерваторию, обещая им немедленное отпущение грехов, обещая спасание души, обещая все что угодно. Что нам делать, Ширин?
Ширин опустил голову и отсутствующим взглядом долго смотрел на носки своих башмаков. Задумчиво постучав пальцем по подбородку, он наконец поднял глаза и сказал решительно:
— Что делать? А что вообще можно сделать? Ничего! Наши знают об этом?
— Конечно, нет!
— Хорошо! И не говорите им. Сколько времени осталось до полного затмения?
— Меньше часа.
— Нам осталось только рискнуть. Чтобы организовать действительно опасную толпу, понадобится время, и сюда они не скоро дойдут. До города добрых миль пять…
Он посмотрел в окно на поля, спускавшиеся по склонам холмов к белым домам пригорода, на столицу, которая в тусклых лучах Беты казалась туманным пятном на горизонте.
— Понадобится время, — повторил он, не оборачиваясь. — Продолжайте работать и молитесь, чтобы полное затмение опередило толпу.
Теперь Бета была разрезана пополам и выгнутая граница черноты вторгалась на вторую, еще светлую половину. Словно гигантское веко наискосок смыкалось над источником вселенского света. Психолог уже не слышал приглушенных звуков кипевшей вокруг работы и ощущал только мертвую тишину, опустившуюся на поля за окном. Даже насекомые испуганно замолчали, и все вокруг потускнело.
Над ухом Ширина раздался чей-то голос. Он вздрогнул.
— Что-нибудь случилось? — спросил Теремон.
— Что? Нет. Садитесь. Мы мешаем работать.
Они вернулись в свой угол, но психолог некоторое время молчал. Он пальцем оттянул воротник и повертел головой, но легче от этого не стало. Вдруг он взглянул на Теремона.
— А вам не трудно дышать?
Журналист широко открыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов.
— Нет. А что?
— Наверно, я слишком долго смотрел в окно. И на меня подействовал полумрак. Затруднение дыхания — один из первых симптомов приступа клаустрофобии.
Теремон сделал еще один глубокий вдох.
— Ну, на меня он еще не подействовал. Смотрите, кто-то идет.
Между ними и окном, заслоняя тусклый свет, встал Бини, и Ширин испуганно взглянул на него.
— А, Бини!
Астроном переступил с ноги на ногу и слабо улыбнулся.
— Вы не будете возражать, если я немного посижу тут с вами? Мои камеры подготовлены, и до полного затмения мне делать нечего.
Он замолчал и посмотрел на Латимера, который минут за пятнадцать перед тем достал из рукава маленькую книгу в кожаном переплете и углубился в чтение.
— Этот мерзавец вел себя тихо?
Ширин кивнул. Расправив плечи и напряженно хмурясь, он заставлял себя ровно дышать.
— Бини, а вам не трудно дышать? — спросил он.
Бини в свою очередь глубоко вздохнул.
— Мне не кажется, что здесь душно.
— У меня начинается клаустрофобия, — виновато объяснил Ширин.
— А-а-а! Со мной дело обстоит по-другому. У меня такое ощущение, будто что-то случилось с глазами. Все кажется таким неясным и расплывчатым… И холодно.
— Да, сейчас действительно холодно. Уж это-то не иллюзия, — поморщившись, сказал Теремон. — У меня так замерзли ноги, будто их только что доставили сюда в вагонехолодильнике.
— Нам необходимо, — вмешался Ширин, — говорить о чем-нибудь нейтральном. Я же объяснил вам, Теремон, почему эксперимент Фаро с дырками в крыше окончился неудачей…
— Вы только начали, — откликнулся Теремон. Обняв руками колено, он уперся в него подбородком.
— Ну, так вот: они слишком уж буквально толковали Книгу откровений. Вероятно, вовсе не следует считать Звезды физическим феноменом. Дело в том, что полная Тьма, возможно, заставляет мозг, так сказать, творить свет. Наверно, Звезды и есть эта иллюзия света.
— Другими словами, — добавил Теремон, — Звезды, по вашему мнению, результат безумия, а не его причина? Зачем же тогда Бини фотографировать небо?
— Хотя бы для того, чтобы доказать, что Звезды — это иллюзия. Или чтобы доказать обратное — я ведь ничего не утверждаю наверное. Или, наконец…
Но его перебил Бини, подвинувший свой стул поближе:
— Я рад, что вы заговорили об этом, — оживленно сказал он, сощурив глаза и подняв вверх палец. — Я думал об этих Звездах и пришел к довольно любопытным выводам. Конечно, все это построено на песке, но кое-что интересное, как мне кажется, в этом есть… Хотите послушать?
Бини, видимо, тут же пожалел о сказанном, но Ширин, откинувшись на спинку стула, попросил:
— Говорите. Я слушаю.
— Так вот: предположим, что во Вселенной есть другие солнца, — смущенно произнес Бини. — То есть такие солнца, которые находятся слишком далеко от нас и потому почти не видны. Наверно, вам кажется, что я начитался научной фантастики…
— Почему же? Но разве подобная возможность не опровергается тем фактом, что по закону тяготения об их существовании должно было свидетельствовать их притяжение?
— Оно не скажется, если эти солнца достаточно далеко, — ответил Бини, — хотя бы на расстоянии четырех световых лет от нас или еще дальше. Мы не можем заметить такие возмущения, потому что они слишком малы. Предположим, что на таком расстоянии от нас имеется много солнц… десяток или даже два…
Теремон переливчато свистнул.
— Какую статью можно было бы соорудить из этого для воскресного приложения! Два десятка солнц во Вселенной на расстоянии восьми световых лет друг от друга. Конфетка! Таким образом, наша Вселенная превращается в пылинку! Читатели будут в восторге.
— Это ведь только предположение, — улыбнулся Бини, — а вывод из него такой: во время затмения эти два десятка солнц стали бы видимы, исчез бы солнечный свет, в блеске которого они тонут. Поскольку они очень далеко, то будут казаться маленькими, как камешки. Конечно, хранители Культа говорят о миллионах Звезд, но это явное преувеличение. Миллион Звезд просто не уместятся во Вселенной — они касались бы друг друга!
Ширин слушал Бини со все возрастающим интересом.
— В этом что-то есть, Бини. Преувеличение… именно это и случается. Наш мозг, как вы очевидно, знаете, не способен сразу осознать точное число предметов, если их больше пяти; для большего числа у нас существует понятие «много». А десяток таким же образом превращается в миллион. Чертовски интересная мысль!
— Мне пришло в голову еще одно любопытное соображение, — продолжал Бини. — Вы когда-нибудь задумывались над тем, как упростилась бы проблема тяготения, если бы мы имели дело с относительно несложной системой? Представьте себе Вселенную, в которой у планеты только одно солнце. Планета обращалась бы по правильной эллиптической орбите, и точная природа силы тяготения была бы очевидной и без доказательств. Астрономы такого мира открыли бы тяготение, пожалуй, даже прежде, чем изобрели бы телескоп. Оказалось бы достаточным простое наблюдение невооруженным глазом.
— Но была бы такая система динамически стабильна? — усомнился Ширин.
— Конечно! Это так называемый «случай двух тел». Математически это было исследовано, но меня интересует философская сторона вопроса.
— Как приятно оперировать такими изящными абстракциями, — признал Ширин, — вроде идеального газа или абсолютного нуля.
— Разумеется, — продолжал Бини, — беда в том, что жизнь на такой планете была бы невозможна. Она не получала бы достаточно тепла и света, и, если бы она вращалась, на ней бала бы полная тьма половину каждых суток, так что жизнь, первым условием существования которой является свет, не могла бы там развиваться.
— Атон принес светильники, — перебил его Ширин, вскочив так резко, что стул упал.
Бини осекся. Обернувшись, он улыбнулся с таким облегчением, что рот его растянулся до ушей.
В руках Атона был десяток стержней длиной с фут и толщиной с дюйм. Он свирепо взглянул поверх стержней на собравшихся вокруг сотрудников обсерватории.
— Немедленно возвращайтесь на свои места! Ширин, идите сюда, помогите мне!
Ширин подбежал к старику, и в полной тишине они принялись вставлять стержни в самодельные металлические держатели, висевшие на стенах.
С таким видом, словно он приступал к свершению главного таинства какого-нибудь священного ритуала, Ширин чиркнул большой неуклюжей спичкой и, когда она, брызгая искрами, загорелась, передал ее Атону, который поднес пламя к верхнему концу одного из стержней.
Пламя сначала тщетно лизало конец стержня, но затем неожиданная желтая вспышка ярко осветила сосредоточенное лицо Атона. Он отвел спичку в сторону, и в комнате раздался такой восторженный вопль, что зазвенели стекла.
Над стержнем поднимался шестидюймовый колеблющийся язычок пламени! Один за другим были зажжены остальные стержни, и шесть огней залили желтым светом даже дальние углы комнаты.
Свет был тусклый, уступавший даже лучам потемневшего солнца. Пламя металось, рождая пьяные, раскачивающиеся тени. Факелы отчаянно чадили, и в комнате пахло, словно на кухне в неудачный для хозяйки день. Но они давали желтый свет.
Желтый свет показался особенно приятным после того, как в небе уже четыре часа тускнела угрюмая Бета. Даже Латимер оторвался от книги и с удивлением смотрел на светильник.
Ширин грел руки у ближайшего огонька, не обращая внимания на то, что кожу уже покрывал сероватый слой копоти.
— Прелестно! Прелестно! Никогда не думал, что желтый свет так красив, — бормотал он в восторге.
Но Теремон глядел на факелы с подозрением. Морщась от едкой вони он спросил:
— Что за штуки?
— Дерево, — коротко ответил Ширин.
— Ну, нет. Они же не горят. Обуглился только конец, а пламя продолжает вырываться из ничего.
— В этом-то вся и прелесть. Это очень эффективный механизм для получения искусственного света. Мы изготовили их несколько сотен, но большая часть, конечно, отнесена в Убежище. — Тут Ширин повернулся и вытер платком почерневшие руки. — Принцип такой: берется губчатая сердцевина тростника, высушивается и пропитывается животным жиром. Потом она зажигается, и жир понемногу горит. Эти факелы будут гореть безостановочно почти полчаса. Остроумно, не правда ли? Это изобретение одного из молодых ученых Сароского университета.
Вскоре оживление в куполе угасло. Латимер поставил свой стул прямо под факелом и, шевеля губами, продолжал монотонно читать молитвы, обращенные к Звездам. Бини опять отошел к своим камерам, а Теремон воспользовался возможностью пополнить свои заметки для статьи, которую он собирался на другой день написать для «Хроники». Последние два часа он занимался этим аккуратно, старательно и, как он хорошо понимал, бесцельно.
Однако (это видимо, заметил и Ширин, поглядывавший на него с усмешкой) это занятие помогало ему не думать о том, что небосвод постепенно приобретает отвратительный красновато-лиловый оттенок свежеочищенной свеклы, — и таким образом оправдывало себя.
Воздух, казалось, стал плотнее. Сумрак, как осязаемая материя, вползал в комнату, и танцующий круг желтого света все резче выделялся среди сгущающейся мглы. Пахло дымом, потрескивали факелы; кто-то осторожно, на цыпочках обошел стол, за которым работали; время от времени кто-нибудь сдержанно вздыхал, стараясь сохранять спокойствие в мире, уходящем в тень.
Первым услышал шум Теремон. Он даже не услышал, а смутно почувствовал какие-то звуки, которых никто не заметил бы, если бы в куполе не стояла мертвая тишина.
Журналист выпрямился и спрятал записную книжку. Затаив дыхание, он прислушался, а потом, пробравшись между солароскопом и одной из камер Бини, нехотя подошел к окну.
Тишину расколол его внезапный крик:
— Ширин!
Все бросили работу. В одну секунду психолог очутился рядом с журналистом. Затем к ним подошел Атон. Даже Йимот 70, который примостился на маленьком сиденье высоко в воздухе, возле окуляра громадного солароскопа, опустил голову и поглядел вниз.
От Беты остался только тлеющий осколок, бросавший последний отчаянный взгляд на Лагаш. Горизонт на востоке, где находился город, был поглощен Тьмой, а дорога от Саро к обсерватории стала тускло-красной полоской, по обе стороны которой тянулись рощицы. Отдельных деревьев уже нельзя было различить, они слились в сплошную темную массу.
Но именно дорога приковала к себе внимание всех, потому что на ней грозно кипела другая темная масса.
— Сумасшедшие из города! Они уже близко! — крикнул прерывающимся голосом Атон.
— Сколько осталось до полного затмения? — спросил Ширин.
— Пятнадцать минут, но… но они будут здесь через пять.
— Неважно. Проследите, чтобы все продолжали работать. Мы их не пустим. У этого здания стены, как у крепости. Атон, на всякий случай не спускайте глаз с нашего незваного гостя. Теремон, идемте со мной.
Теремон выбежал из комнаты вслед за Ширином. Лестница крутой спиралью уходила вниз, в сырой жуткий сумрак.
Не задерживаясь ни на секунду, они по инерции успели еще спуститься ступенек на сто, но тусклый, дрожащий желтый свет, падавший из двери купола исчез и со всех сторон сомкнулась густая зловещая тень.
Ширин остановился и схватился пухлой рукой за грудь. Глаза его выкатились, а голос напоминал сухой кашель:
— Я не могу… дышать… ступайте вниз… один. Заприте все двери…
Теремон спустился на несколько ступенек и обернулся.
— Погодите! Вы можете продержаться минуту? — крикнул он.
Он и сам задыхался. Воздух набирался в легкие очень медленно и был густ, словно патока, а при мысли, что надо одному спуститься в таинственную Тьму, он ощутил панический страх.
Значит, все-таки темнота внушала ужас и ему.
— Стойте здесь, — сказал он. — Я сейчас вернусь.
Перескакивая через ступеньки, он помчался наверх. У него бешено колотилось сердце и не только от физических усилий. Он ворвался в купол и выхватил из подставки факел. Факел вонял, дым слепил глаза, но Теремон, радостно сжимая его в кулаке, уже мчался вниз по лестнице.
Когда Теремон склонился над Ширином, тот открыл глаза и застонал. Теремон сильно встряхнул его.
— Ну, возьмите себя в руки! У нас есть свет!
Он поднял факел как можно выше и, поддерживая спотыкающегося психолога под локоть, направился вниз, стараясь держаться в середине спасительного кружка света.
В кабинеты на первом этаже еще проникал тусклый свет с улицы, и Теремону стало легче.
— Держите, — грубо сказал он и сунул факел Ширину. — Слышите их?
Они прислушались. До них донеслись бессвязные, хриплые вопли.
Ширин был прав: обсерватория напоминала крепость. Воздвигнутое в прошлом веке, когда безобразный неогавотский стиль достиг наивысшего расцвета, здание ее отличалось не красотой, а прочностью и солидностью постройки.
Окна были защищены железными решетками из толстых прутьев, глубоко утопленных в бетонную облицовку. Каменные стены были такой толщины, что их не могло бы сокрушить даже землетрясение, а парадная дверь представляла собой массивную дубовую доску, обитую железом. Теремон задвинул засовы.
В другом конце коридора тихо ругался Ширин. Он показал на дверь черного хода, замок которой был аккуратно выломан.
— Вот таким образом Латимер проник сюда, — сказал он.
— Ну, так и не стойте столбом! — нетерпеливо крикнул Теремон. — Помогите мне тащить мебель… И уберите факел от моих глаз. Этот дым меня задушит.
Говоря это, журналист с грохотом волок к двери тяжелый стол; за две минуты он соорудил баррикаду, которой не хватало красоты и симметрии, что, однако, с избытком компенсировалось ее массивностью.
Откуда-то издалека донесся глухой стук кулаков по парадной двери; слышались вопли, но все это было как в полусне.
Толпой, которая бросилась из Саро, руководили только стремление разрушить обсерваторию, чтобы обрести обещанное Культом спасение души, и безумный страх, лишавший рассудка. Не было времени подумать о машинах, оружии, руководстве и даже организации. Люди бросились к обсерватории пешком и попытались разбить дверь голыми руками.
Когда они достигла обсерватории, Бета сократилась до последней рубиново-красной капли пламени, слабо мерцавшей над человечеством, которому оставался только всеобъемлющий страх…
— Вернемся в купол! — простонал Теремон.
В куполе только один Йимот продолжал сидеть на своем месте, у солароскопа. Все остальные сгрудились у фотоаппаратов. Хриплым, напряженным голосом Бини давал последние указания.
— Пусть каждый уяснит себе… Я снимаю Бету в момент наступления полного затмения и меняю пластинку. Каждому из вас поручается одна камера. Вы все знаете время выдержки…
Остальные шепотом подтвердили это.
Бини провел ладонью по глазам.
— Факелы еще горят? Хотя… я сам вижу.
Он крепко прижался к спинке стула.
— Запомните, не… не старайтесь получить хорошие снимки. Не тратьте времени, пытаясь снять одновременно две Звезды. Одной достаточно. И… и если кто-нибудь почувствует, что с ним началось это, пусть немедленно отойдет от камеры!
— Отведите меня к Атону. Я не вижу его, — шепнул Теремону Ширин.
Журналист откликнулся не сразу. Он уже не видел людей, а только расплывчатые смутные тени: желтые пятна факелов над головой почти не давали света.
— Темно, — пожаловался он.
Ширин вытянул вперед руку и сказал:
— Атон.
Он неуверенно шагнул вперед.
— Атон!
Теремон взял его за локоть.
— Погодите, я отведу вас.
Кое-как ему удалось пересечь комнату. Он зажмурил глаза, отказываясь видеть Тьму, отказываясь верить, что им овладевает смятение. Никто не слышал их шагов, не обратил на них никакого внимания. Ширин наткнулся на стену.
— Атон!
Психолог почувствовал, как его коснулись дрожащие руки, и услышал шепот:
— Это вы, Ширин?
— Атон! — сказал Ширин, стараясь дышать ровно. — Не бойтесь толпы. Она сюда не ворвется.
Латимер, хранитель Культа, встал — его лицо искажала гримаса отчаяния. Он дал слово, и нарушить его значило подвергнуть свою душу смертельной опасности. Но ведь слово вырвали у него силой, он не давал его добровольно. Вскоре появятся Звезды; он не может стоять в стороне и позволить… И все же… слово было дано.
Лицо Бини, подставленное под последний луч Беты, казалось темно-багровым, и Латимер, увидев, как он склонился над фотоаппаратом, принял решение. От волнения ногти его впились в мякоть ладони.
Шатаясь из стороны в сторону, он бросился вперед. Перед ним не было ничего, кроме теней; даже сам пол под ногами, казалось, перестал быть материальным. А затем кто-то набросился на него, повалил и вцепился ему в горло.
Латимер согнул ногу и изо всех сил ударил противника коленом.
— Пустите меня или я убью вас!
Теремон вскрикнул, затем, превозмогая волны мучительной боли, пробормотал:
— Ах, ты, подлая крыса!
Его сознание, казалось, воспринимало все сразу. Он услышал, как Бини прохрипел: «Есть! К камерам, все!», и тут же каким-то образом осознал, что последний луч солнечного света истончился и исчез.
Одновременно он услышал, как перехватило дыхание у Бини, как странно вскрикнул Ширин, как оборвался чей-то истерический смешок… и как снаружи наступила тишина, странная, мертвая тишина. Теремон почувствовал, что разжимает руки, но и тело Латимера вдруг обмякло и расслабилось. Заглянув в глаза хранителя Культа, он увидел в них остекленевшую пустоту, в которой отражались желтые кружочки факелов. Он увидел, что на губах Латимера пузырится пена, услышал тихое звериное повизгивание.
Оцепенев от страха, он медленно приподнялся на одной руке и посмотрел на леденящую кровь черноту в окне.
За окном сияли Звезды!
И не каких-нибудь жалких три тысячи шестьсот слабеньких звезд, видных невооруженным глазом с Земли. Лагаш находился в центре гигантского звездного роя. Тридцать тысяч ярких солнц сияли с потрясающим душу великолепием, еще более холодным и устрашающим в своем жутком равнодушии, чем жестокий ветер, пронизывавший холодный, уродливо сумрачный мир.
Теремон, шатаясь, вскочил на ноги; горло его сдавило так, что невозможно было дышать; от невыносимого ужаса все мускулы тела свело судорогой. Он терял рассудок и знал это, а последние проблески сознания еще мучительно сопротивлялись, тщетно пытаясь противостоять волнам черного ужаса. Было очень страшно сходить с ума и знать, что сходишь с ума… знать, что через какую-то минуту твое тело будет по-прежнему живым, но ты сам, настоящий ты, исчезнешь навсегда, погрузишься в черную пучину безумия. Ибо это был Мрак… Мрак, Холод и Смерть. Светлые стены Вселенной рухнули, и их страшные черные обломки падали, чтобы раздавить и уничтожить его.
Теремон споткнулся о какого-то человека, ползущего на четвереньках, и едва не упал. Прижимая руки к сведенному судорогой горлу, Теремон заковылял к пламени факелов, заслонившему от его безумных глаз весь остальной мир.
— Свет! — закричал Теремон.
Где-то, как испуганный ребенок, захлебывался плачем Атон.
— Звезды… все Звезды… мы ничего не знали. Мы совсем ничего не знали. Мы думали шесть звезд это Вселенная что-то значит для Звезд ничего Тьма во веки веков и стены рушатся а мы не знали что мы не могли знать и все…
Кто-то попытался схватить факел — он упал и погас. И сразу же страшное великолепие равнодушных Звезд совсем надвинулось на людей.
А за окном на горизонте, там, где был город Саро, поднималось, становясь все ярче, багровое зарево, но это не был свет восходящего Солнца.
Снова пришла долгая ночь.
Рождество на Ганимеде
Тихонько напевая себе под нос, Олаф Джонсон оглядел пышную пихту в углу библиотеки, и его небесно-голубые глаза подернулись мечтательной дымкой. Библиотека была самым большим помещением в Куполе, но для его целей она подходила в самый раз. Порывшись в огромном посылочном ящике, Джонсон вдохновенно извлек на свет первую бумажную гирлянду.
Какая сентиментальная муха укусила руководство «Ганимед продактс инкорпорейтед», что оно выписало на Ганимед полный комплект рождественских украшений, Джонсон не знал и выяснять не стремился. Он вообще предпочитал держаться тише воды ниже травы. Добровольно вызвавшись отвечать за приготовления к празднику, он был вполне доволен своей долей.
Но вот библиотека озарилась тревожными сполохами — истерическое мигание сигнальных ламп означало общий сбор. Джонсон чертыхнулся, отложил молоток и свернутую в рулон гирлянду, вытряхнул из волос конфетти и понуро поплелся в административный отсек.
Когда Олаф вошел, комендант Скотт Пелхэм уже сидел в своем глубоком кресле во главе стола. Его толстые пальцы неритмично барабанили по стеклянной столешнице, глаза метали молнии. Джонсон, не дрогнув, встретил свирепый взгляд начальства, поскольку в его, Джонсона, епархии, никаких сбоев не случалось уже добрых двадцать циклов.
Помещение быстро заполнялось людьми. Пелхэм, окинув стол взглядом, мгновенно пересчитал присутствующих и сделался еще более серьезен.
— Так, все здесь, — сказал он. — Парни, у нас ЧП.
Собравшиеся вяло зашевелились. Олаф облегченно выдохнул и принялся изучать потолок. ЧП на Ганимеде случались в среднем раз в цикл. Обычно оказывалось, что руководство подняло нормы добычи оксита или недовольно качеством листьев карины… Однако следующие слова коменданта заставили Олафа похолодеть.
— В связи с этим у меня один вопрос, — сказал Пелхэм. Когда он злился, его баритон всегда делался хриплым, как скрежет ржавой пилы. — Какая тупая сволочь нарассказывала нашим эмми сказок?
Олаф нервно кашлянул, и все взгляды немедленно обратились к нему. Кадык у него нервно запрыгал, лоб сморщился в гармошку. И еще его затрясло.
— Я-я… — заикаясь, пролепетал Джонсон и тут же умолк, беспомощно ломая длинные пальцы. — Я хотел сказать, я был там вчера, после… э-э… в связи со сбором листьев… Эмми работали медленно, и…
Пелхэм перебил его, и на этот раз голос его звучал тихо и ласково, что не предвещало совсем уж ничего хорошего:
— Ты рассказывал туземцам про Санта-Клауса, Олаф?
Улыбка коменданта очень живо напоминала волчий оскал, и
Джонсон сломался. Почти помимо хозяйской воли голова Олафа дернулась, изобразив испуганный кивок.
— Выходит, рассказывал? — уточнил Пелхэм. — Так-так, ты, значит, просветил их насчет Санта-Клауса. Он, мол, летает по небу на санях, запряженных восьмеркой северных оленей, да?
— Э-э… а разве не летает? — робко спросил Олаф.
— Ты даже нарисовал для эмми северных оленей, чтоб они уж совсем наверняка все поняли правильно. А еще сказал, что у Санты минная белая бородища и одет он в красный костюмчик с белой опушкой.
— Ну да, я так сказал, — признался Олаф, не понимая, к чему клонит комендант.
— И что у него с собой большущий мешок, битком набитый подарками для хороших мальчиков и девочек. И что Санта забирается в дом через трубу и раскладывает подарки по носкам.
— Ну да.
— И еще ты им сказал, что этот парень строго соблюдает график, верно? Планета сделает еще один оборот, цикл закончится, и он явится к нам?
Олаф робко улыбнулся.
— Да, комендант, я как раз собирался вам сказать: я там наряжал елку, то есть пихту, и…
— Заткнись!!! — проревел Пелхэм. От ярости он дышал тяжело, с присвистом. — Ты знаешь, что придумали эти чертовы эмми?
— Нет, комендант.
Пелхэм перегнулся через стол и выкрикнул в лицо Олафу:
— Они хотят, чтобы Санта-Клаус приехал к ним сюда!!!
Кто-то засмеялся, но под тяжелым взглядом начальства подавился смехом и сделал вид, будто просто закашлялся.
— А если Санта-Клаус не явится, они грозятся бросить работать! Забастовкой грозят!
На этот раз никто не засмеялся и не притворился, что его одолел кашель. Всех интересовал только один вопрос, а если у кого-то имелись другие, он предпочел промолчать.
Олаф озвучил этот единственный актуальный вопрос:
— А как же норма?
— Вот-вот, как же норма? — прорычал Пелхэм. — Или мне нарисовать пару картинок, чтобы до тебя дошло? «Ганимед продактс» должна поставлять сотню тонн вольфрамита, восемь тонн листьев карины и пятьдесят тонн оксита ежегодно, иначе у нее отберут лицензию. Я полагаю, это известно всем присутствующим. Так уж вышло, что текущий год заканчивается через два ганимедских цикла, а мы на пять процентов отстаем от графика.
В комнате повисла глухая испуганная тишина.
— А теперь эмми отказываются вкалывать, пока к ним не прилетит Санта-Клаус. Прощайте, эмми, прощай, норма, прощай, лицензия, — и прощай, работа! Что нужно сделать, чтобы вы это поняли, жалкие идиоты! Если компания потеряет лицензию, мы лишимся самой высокооплачиваемой работы в Солнечной системе! Можете помахать ей ручкой, если только… — Он выдержал театральную паузу, свирепо глянул на Олафа и закончил: — Если к следующему циклу у нас не будет Санта-Клауса, восьми северных оленей и летающих саней. И клянусь каждой космической пылинкой в кольцах Сатурна, мы их раздобудем, особенно Санту!
Лица собравшихся мгновенно покрылись мертвенной бледностью.
— У вас есть кто-нибудь на примете, комендант? — раздался чей-то сиплый от волнения голос.
— Да, так уж вышло, что есть. — Пелхэм откинулся в кресле.
Олафа внезапно бросило в пот — он обнаружил, что тупо таращится на подушечку комендантского указательного пальца.
— Комендант! — взмолился он.
Указующий перст не дрогнул.
Ввалившись в переходник, Пелхэм снял спаренные кислородные баллоны и «хобот», подающий кислород к ноздрям. Потом медленно, один за другим стянул толстые шерстяные элементы верхней одежды и наконец с усталым вздохом стащил тяжелые, доходившие до колен сапоги.
Сим Пирс, с пристрастием досматривавший последнюю партию листьев карины, оторвался от своего занятия и с надеждой посмотрел на коменданта поверх очков.
— Ну? — спросил он.
Пелхэм пожал плечами.
— Пришлось пообещать им Санту. А что я мог сделать? Еще я удвоил норму выдачи сахара, так что работу они не бросили… пока.
— Хочешь сказать, пока не поймут, что обещанного Санты не будет? — Пирс для пущей выразительности помахал перед лицом коменданта длинным листом. — Эта самая идиотская история, какую мне доводилось слышать! Мы не сможем сдержать слово! Санта-Клауса не существует!
— Попробуй втолковать это эмми! — Пелхэм рухнул в кресло, и его лицо застыло, превратившись в каменную командирскую маску. — Чем там занят Бенсон?
— Ты про его обещание соорудить летающие сани? — Пирс придирчиво изучал лист на свет. — Он чокнутый, если хочешь знать мое мнение. Старый черт еще утром спустился на минус первый и с тех пор носу оттуда не кажет. Я знаю только, что он разобрал запасной электрорасщепитель. Если с основным что-нибудь случится, мы останемся без кислорода.
— А что? — Пелхэм тяжело поднялся. — По мне, так уж лучше бы мы задохнулись. Все проблемы разом долой. Ладно, я пошел вниз.
Уходя, он от души хлопнул дверью.
Спустившись на минус первый этаж, комендант ошалело заморгал — по всей мастерской в беспорядке валялись сверкающие хромированные детали. До него не сразу дошло, что все это безобразие еще вчера было компактным, элегантным электрорасщепителем. В центре помещения красовались пыльные деревянные сани на ржавых полозьях. В окружении высокотехнологичных деталей расщепителя они выглядели сущим анахронизмом.
— Эй, Бенсон! — окликнул Пелхэм.
Из-под саней показалась мрачная чумазая физиономия, расчерченная дорожками пота, и выпустила струю жевательного табака, попав точно в плевательницу. С этой посудиной Бенсон не расставался.
— Ну и чего ради так орать? — сварливо поинтересовался механик. — Работа-то тонкая, между прочим.
— Что это за чертовщина?
— Летающие сани. Моего собственного изобретения. — Водянистые глаза Бенсона вспыхнули энтузиазмом. Он принялся увлеченно объяснять, от возбуждения то и дело перекладывая табак из-за одной щеки за другую. — Сани тут валяются с незапамятных времен. Раньше-то думали, что Ганимед весь покрыт снегом, как другие луны старины Юпитера. Всего-то и делов — приспособить под них несколько гравирепульсоров из расщепителя, и тогда, если подать напряжение, сани станут невесомыми. А остальное сделают воздухонагнетатели — по типу реактивного двигателя.
Комендант с сомнением покусал губу.
— А они полетят?
— Да за милую душу! Я не первый, кому пришла в голову мысль использовать репульсоры для полетов. Только обычно-то от них мало проку, особенно на планетах с большой силой тяжести. А здесь, на Ганимеде, где гравитация всего треть земной и атмосфера разреженная, с ними и ребенок управится. Да что там ребенок — даже Джонсон с ними управится, хотя лично я не стану горевать, если он свалится и проломит свою дурацкую башку.
— Ладно, слушай сюда. У нас навалом древесины местных пурпурных деревьев. Найди Чарли Финна и скажи ему, чтоб сколотил из досок настил под твои сани. Настил должен быть футов на двадцать длиннее саней. Сани закрепите на задней части платформы, а переднюю обнесите перилами.
Бенсон сплюнул табачную жвачку и подозрительно уставился на начальство сквозь упавшие на глаза пряди.
— Что ты задумал, шеф?
Хриплый, отрывистый смех Пелхэма больше напоминал собачий лай.
— Чертовы эмми хотят северных оленей — вот они их и получат. А этой скотине надо на чем-то стоять, усек?
— Усек… Погоди! На всем Ганимеде нет ни единого оленя!
Комендант — он был уже в дверях — приостановился и недобро прищурился. Последнее время его лицо всегда приобретало это хищное выражение, стоило ему подумать об Олафе Джонсоне.
— Олаф отправился наружу отловить восьмерых шипоспинов. У этих тварей четыре ноги, голова с одного конца и хвост с другого. Для эмми сойдет.
Старик некоторое время переваривал эту информацию, потом хихикнул.
— Отлично. Надеюсь, этот кретин сполна насладится работой.
— Я тоже надеюсь, — оскалился Пелхэм.
Бенсон, злорадно похохатывая, снова скрылся под санями, и комендант потопал прочь.
Комендант не погрешил против истины, описывая шипоспинов, но опустил некоторые любопытные подробности. Во-первых, кроме упомянутых частей тела у шипоспина имеется длинный гибкий хобот, пара больших подвижных ушей и пара выразительных лиловых глаз. Самцы также могут похвастаться четырьмя мягкими шипами вдоль хребта — похоже, чем больше шипы, тем большей популярностью пользуется их обладатель у самок. Добавьте к этому длинный и мощный чешуйчатый хвост и отнюдь не заурядный мозг — и получите шипоспина. Вернее, просто так вы его не получите — эту тварь еще надо исхитриться поймать.
В точности так рассуждал Олаф Джонсон, спускаясь с невысокого каменистого холма к его подножию, где паслось стадо голов примерно в двадцать пять. Олаф шел крадучись, дабы не вспугнуть животных, объедавших редкие, жесткие, как проволока, кустики. Несколько шипоспинов оторвалось от этого занятия и недоуменно уставились на странное горбатое создание, с ног до головы покрытое мехом. Впрочем, естественных врагов у них не было, поэтому, вяло окинув чужака неодобрительными взглядами, они вернулись к своей упрямой, но питательной еде.
Олаф имел лишь самые смутные представления о том, как поймать и связать крупное животное. Нашарив в кармане большой кусок сахара, он протянул его на ладони ближайшему шипоспину:
— Ути-ути-ути!..
Шипоспин раздраженно дернул ухом — и только. Олаф подошел ближе:
— Иди ко мне, теленочек…
Шипоспин наконец заметил сахар и уставился на него во все глаза. Сплюнув растительную жвачку, он легкой иноходью двинулся в сторону более привлекательного лакомства, вытянул шею и принюхался. После чего молниеносным, точно рассчитанным движением хобота схватил сахар и отправил в пасть. Олаф, попытавшийся поймать зверя за холку свободной рукой, безнадежно опоздал.
Ничего не поделаешь, пришлось достать второй кусок.
— Эй, как там тебя… Красавчик? Сюда, Красавчик! Сюда, Фидо!
Шипоспин издал низкий, урчащий горловой звук. Он радовался. Очевидно, это незнакомое страшилище чокнулось и решило до конца жизни кормить его чудесными сверхпитательными кубиками. Он сцапал угощение и отдернул хобот гак же быстро, как и раньше. Вот только на этот раз человек держал сахар крепче, и шипоспин едва не отхватил ему полпальца. Олаф заорал.
Честно говоря, мог бы и сдержаться. Не гак уж и больно было. Но все-таки укус, который чувствуется даже сквозь толстенную перчатку, — это вам не шутка!
Отбросив всякую осторожность, Олаф решительно двинулся к наглой скотине. Иногда, в исключительных случаях, в нем просыпался дух его предков-викингов. Сейчас наступил как раз такой случай: мало того что его укусили — его попыталась укусить инопланетная зверюга!
В глазах шипоспина мелькнула тревога, и зверь на всякий случай попятился. Вкусных белых кубиков страшилище больше не предлагало, и он не знал, что оно собирается делать дальше. Страшилище разрешило его недоумение поразительно быстро, метнувшись вперед и схватив шипоспина за уши. Зверь заверещал и боднул врага головой.
Шипоспин не был напрочь лишен чувства собственного достоинства. Ему не нравилось, когда его таскают за уши, особенно в присутствии других самцов и ничейных самок, которые образовали круг и с интересом глазели на поединок.
Землянин повалился на спину и некоторое время отлеживался. Шипоспин отступил на несколько шагов назад, рыцарски позволив противнику встать.
Кровь викингов еще больше вскипела в жилах Олафа. Он потер место, куда при падении больно впечаталось ребро кислородного баллона, и резко вскочил на ноги. Слишком резко для низкой гравитации Ганимеда: землянин вдруг взмыл в воздух и проплыл футах в пяти над головой четвероногого противника.
Шипоспин наблюдал его полет взглядом, в котором ужас мешался с недоумением. Прыжок был грандиозный, но смысла в этом маневре не угадывалось никакого.
Олаф опять приземлился на спину, и чертов баллон врезался ровнехонько в место предыдущего ушиба. Джонсон заподозрил, что выставил себя дураком. Звуки, издаваемые собравшимися в круг зрителями, здорово напоминали хихиканье.
— Смейтесь, смейтесь, — пробормотал он. — Я еще даже не начинал драться всерьез.
На этот раз он приблизился к зверю медленно и осторожно. Затем двинулся по кругу, выискивая бреши в обороне противника. Олаф сделал ложный выпад, шипоспин попятился. Потом шипоспин встал на дыбы, и уже человеку пришлось отступить…
При каждой атаке или контратаке Олаф вспоминал новое крепкое словцо. Хриплое «ур-р-р-р», вырывавшееся из глотки шипоспина, как-то не очень вязалось с празднично-доброжелательным духом Рождества.
Вдруг раздался резкий свист, и что-то ударило Олафа по голове. Удар пришелся аккурат за левое ухо. На этот раз землянин не просто упал, а полетел вверх тормашками, перекувырнулся через голову и соприкоснулся с планетой сначала затылком, а потом уже спиной. Зрители хором заржали, противник горделиво помахал хвостом.
Олаф отогнал подальше видение проносящегося мимо усеянного звездами космоса и с трудом поднялся на ноги.
— Слушай, ты! — сказал он шипоспину. — Драться хвостом — это скотство!
Он уклонился от нового хлесткого удара и бросился зверю под ноги. Вцепившись в его передние конечности, Олаф рванул их вверх и в сторону, и шипоспин с негодующим воплем рухнул на спину.
Теперь исход битвы зависел только от того, кто окажется сильнее — Ганимед или Земля. Олаф забыл обо всем человеческом и дрался, как зверь. После короткой схватки шипоспин обнаружил, что лежит у страшилища на плечах и победитель крепко держит его за ноги.
Шипоспин принялся громко выражать протест, подкрепляя его весомыми ударами хвоста. Но позиция была неподходящая, и хвост только рассекал воздух над головой у человека.
Его соплеменники почтительно расступились с пути землянина. Морды у них приняли печальное выражение. Похоже, все они очень дружили с пленником и искренне горевали о его поражении. Что не помешало им отнестись к его судьбе с философской покорностью и вернуться к жвачке.
По другую сторону скалистого холма Олаф заранее присмотрел и подготовил пещеру. Туда он и отнес пленника. После недолгой борьбы он уселся шипоспину на голову и связал его достаточно надежно, чтобы тот не удрал.
Несколько часов спустя, отловив и связав восемь зверюг, Олаф овладел искусством укрощения дикого скота до такой степени, что мог бы открыть курсы повышения квалификации для канувших в прошлое ковбоев Земли. Кроме того, он мог бы читать земным грузчикам лекции по ругательствам различной степени этажности.
Настала ночь перед Рождеством. Купол содрогался от рева и грохота, словно в нем взрывалась сверхновая. Возле ржавых саней, водруженных на обширную платформу из пурпурного дерева, пятеро землян сошлись в смертельной битве с одним шипоспином.
У шипоспина имелись собственные взгляды на жизнь. И один из принципов, которым он особенно дорожил, гласил: никогда, ни при каких обстоятельствах не ходить туда, куда он, шипоспин, идти не желает. Он донес суть этого постулата до землян при помощи одной головы, одного хвоста, трех шипов и четырех ног, молотя всем этим по чему придется и изо всех сил.
Но земляне настаивали, и довольно невежливо. Несмотря на отчаянные вопли протеста, шипоспин был схвачен, скручен, поднят на платформу и привязан так, что возможность вернуть себе свободу категорически исключалась.
— Готово! — заорал Питер Бенсон. — Давайте бутылку!
Бутылку он поднес к хоботу пленника (который удерживал свободной рукой), чтобы шипоспин ощутил запах. Аромат подействовал: зверь задрожал от предвкушения и умоляюще заскулил. Бенсон капнул содержимым бутылки твари на язык. Послышался гулкий глоток и благодарное мычание. Шипоспин еще больше вытянул шею.
Бенсон вздохнул.
— Еще и наш лучший бренди…
С этими словами он влил в глотку зверю добрых полбутылки. Шипоспин, бешено вращая глазами, исполнил разудалую джигу, насколько позволяли веревки. Впрочем, продолжалось это недолго, поскольку благодаря особенностям метаболизма алкоголь действует на обитателей Ганимеда практически мгновенно. Мышцы шипоспина свело в пьяном оцепенении, он громко икнул и повис на удерживающих его веревках.
— Следующий! — зычно скомандовал Бенсон.
Через час восемь шипоспинов превратились в восемь пьяных окаменелостей. Расщепленные палки, примотанные к их головам, изображали рога. Не очень-то похоже, конечно, но для туземцев сойдет.
Едва Бенсон открыл рот, чтобы поинтересоваться, где Олаф Джонсон, как означенный фажданин явился его взгляду. Олафа волокли трое коллег, и он сопротивлялся не хуже любого шипоспина, с той только разницей, что его устные возражения были членораздельны.
— Я никуда не поеду в этом наряде! — надрывался он, заехав кулаком в чей-то глаз. — Слышите вы меня?
Вообще-то его можно было понять. Джонсон никогда не отличался красотой, но в нынешнем своем виде являл собой нечто среднее между кошмаром шипоспина и древним старцем в представлении Пикассо.
Наверченное на него сооружение призвано было изображать костюм Сайты. Костюм был красным — насколько может считаться красным термокомбинезон, обшитый красной креповой бумагой. «Горностаевая» опушка была бела, как вата, из которой ее и сделали. Длинная белоснежная борода (та же вата, приклеенная на льняную основу) свободно болталась под подбородком и не падала только благодаря накинутым на уши веревочным петлям. В сочетании с торчащим из-под носа кислородным шлангом картинка получилась не для слабонервных.
К зеркалу Олафа не подпустили, но и увиденного ему хватило, чтобы дорисовать в воображении остальное и пожалеть об отсутствии в местной атмосфере молний, способных прикончить его на месте.
Трое сопровождающих, усердно работая кулаками, подвели его к саням. Тут к ним на помощь пришли остальные, и в конце концов от Олафа остался только придушенный голос да слабые конвульсии.
— Пустите меня! — бормотал он сквозь чью-то ладонь. — Пустите меня! Подходи по одному! Ну!
Джонсон попытался взмахнуть кулаком, дабы продемонстрировать серьезность своих намерений, но множество рук держало его так крепко, что он не мог пошевелить и пальцем.
— Грузите его в сани! — приказал Бенсон.
— Катись ко всем чертям! — окрысился Олаф. — Эта таратайка с гарантией прикончит меня! Я вам не самоубийца! Можешь взять свои сани и…
— Послушай, — перебил Бенсон. — Комендант Пелхэм уже ждет тебя в пункте назначения. Если ты не появишься там через полчаса, он с тебя живьем шкуру спустит.
— Комендант Пелхэм может развернуть эти сани поперек и…
— О работе подумай! Подумай о своих полутора сотнях в неделю! О том, как будешь получать эти деньги год за годом! О Хильде, которая ждет тебя на Земле. Она ведь не пойдет за тебя замуж, если ты вылетишь с работы. Подумай обо всем этом!
Джонсон подумал и зарычал. Потом подумал еще немного, влез в сани, закрепил мешок с подарками и включил гравирепульсоры. После чего, выдав особенно грязное ругательство, открыл вентиль кормового воздухонагнетателя.
Сани рванулись вперед, две трети бороды Санты остались за кормой, да он и сам с трудом избежал той же участи. Олаф вцепился в борта обеими руками и стал смотреть на холмы, которые то приближались, то проваливались вниз, потому что сани болтались и кренились.
Ветер крепчал, болтанка усиливалась. Вскоре начался восход Юпитера, и Олаф получил замечательную возможность отчетливо разглядеть в его желтоватом свете каждую скалу и расщелину, о которую норовили разбиться сани. А к тому времени, когда гигантская планета выкатилась на небо целиком, «олени» стали приходить в себя. Действие алкоголя на местные организмы заканчивалось так же быстро, как и наступало.
Шипоспин, которого напоили последним, очнулся первым. Очнулся, ощутил в полной мере гадостный вкус во рту, внутренне содрогнулся и зарекся пить на всю оставшуюся. Приняв это важное решение, он без особого интереса попытался определить, где находится. Сначала увиденное не произвело на него впечатления. Далеко не сразу до шипоспина достучалось понимание того, что под ногами у него отнюдь не родная, надежная твердь Ганимеда, а нечто шаткое и незнакомое. Это нечто вихляло из стороны в сторону, взмывало вверх и проваливалось вниз, что было довольно необычно.
Шипоспин еще смог бы списать это странное явление на последствия недавнего кутежа, если бы у него хватило осторожности не взглянуть за ограждение, к которому он был привязан. История еще не знала случаев, чтобы шипоспины умирали от разрыва сердца, и, посмотрев вниз, он едва не стал первым.
Вопль бедняги, полный ужаса и отчаяния, разбудил всех его товарищей по несчастью. Алкогольный сон бежал от них, оставив вместо себя головную боль. Некоторое время между животными шел оживленный, беспорядочный и визгливый обмен мнениями, пока они пытались прогнать из мозгов боль и впихнуть туда факты. То и другое им в конце концов удалось, и они пустились бежать. Побегом в полном смысле слова это назвать было нельзя, поскольку все шипоспины оставались накрепко привязаны к ограждению. Однако, невзирая на тот факт, что бежать им некуда, пленники рванулись вперед, перебирая ногами так, будто скакали галопом. И сани взбесились.
Борода Олафа сорвалась с ушей, он едва успел ее поймать.
— Эй! — заорал он.
С таким же успехом можно пытаться успокоить ураган сюсюканьем.
Сани зарывались носом, вставали на дыбы и кружились в неистовом танго. Порой они совершали такие прыжки, как будто твердо вознамерились покончить с собой, разбившись о колючий наст Ганимеда. Олаф молил, проклинал, тряс и поливал слезами все нагнетатели сжатого воздуха, сколько их есть.
Поверхность Ганимеда внизу стремительно уносилась назад, Юпитер казался размытым пятном. Возможно, именно вид Юпитера, какие-то его тонкие вибрации в итоге утихомирили шипоспинов. Однако, скорее всего, животные просто выдохлись. Как бы там ни было, они прекратили скачку, в возвышенных выражениях попрощались с товарищами, покаялись во грехах и стали ждать смерти.
Сани выровнялись, и к Олафу вернулась способность дышать. Впрочем, через минуту она снова покинула его, когда он осознал, что холмы Ганимеда теперь парят у него над головой, а раздутая туша Юпитера плывет далеко внизу.
Тогда потомок викингов тоже быстренько достиг гармонии с вечностью и приготовился умереть.
Аборигены Ганимеда больше всего похожи на страусов эму, потому их так и зовут. Разве что шеи у них покороче, головы побольше, а перья выглядят так, будто вот-вот выпадут. Добавьте к этому пару тощих оперенных рук с тремя пальцами и получите портрет эмми. Они говорят по-английски, но так, что лучше бы не говорили.
В «зал собраний» — низкое строение, сколоченное из пурпурного дерева, — их набилось особей пятьдесят. Освещался зал факелами из того же пурпурного дерева, которые давали мало света, но много дыма и к тому же мерзко воняли. На почетных местах — то есть на земляной насыпи у стены — разместились комендант Скотт Пелхэм и пятеро его людей. Перед ними вышагивал самый неопрятный и гадкий эмми из всех собравшихся. Он постоянно раздувал выпуклую, как у птицы, грудную клетку, издавая ритмичное гудение.
Эмми приостановился и указал на неровную дыру в потолке.
— Глядить! — крякнул он. — Дымахот. Мы сделаль. Шантакляуз залезь.
Комендант пробормотал что-то одобрительное. Эмми разразился радостным кудахтаньем. Потом указал на развешанные по стенам мешочки, сплетенные из стеблей какой-то травы.
— Глядить! Носоки! Шантакляуз класт подарки.
— Угу, — без всякого восторга похвалил Пелхэм. — Молодцы. Носки и дымоход.
— Еще полчаса в этом курятнике я не выдержу, — сказал он Симу Пирсу, почти не открывая рта. — Где носит этого кретина?
Пирс нервно заерзал.
— Слушай, — сказал он. — Я тут подсчитал кое-что… Непорядок у нас только с листьями. Нам не хватает еще четыре тонны этого добра. Если мы тут закончим за час, можно начать новую смену, и, если эмми будут работать вдвое больше обычного… мы выполним норму. — Он уселся поудобнее. — Да, думаю, выполним.
— Если только, — мрачно проговорил Пелхэм, — этот Джонсон доберется сюда, не натворив новых дел.
Эмми тем временем снова разговорился. Они вообще любители поболтать.
— Каздый год Роздетство. Роздетство корошо, все всех любиют. Эмми Роздетство нравицца. А вам нравицца?
— Да, очень, — вежливо прошипел Пелхэм. — Мир Ганимеду, человек человеку — друг… Особенно если этот человек — Джонсон. Да где же этот чертов идиот!
Он уже не находил себе места от раздражения. А эмми тем временем несколько раз подпрыгнул, этак задумчиво — должно быть, разминался. Так он и продолжал скакать, время от времени пританцовывая мелкими шажками, и вскоре руки Пелхэма Уже стали непроизвольно сжиматься, словно на чьей-то тонкой шее. Только восторженный вопль, раздавшийся со стороны дыры, которую тут гордо именовали окном, спас его от суда за убийство эмми.
На фоне желтой громады Юпитера четко вырисовывался силуэт саней, запряженных восьмеркой оленей. Сани пока еще казались крошечными из-за расстояния, но ошибиться было невозможно: к поселению летел Санта-Клаус.
Вот только кое-что в этой картинке было неправильно. Сани и олени, несущиеся по небу с головокружительной быстротой, летели вверх тормашками.
Эмми оглушительно кудахтали.
— Шантакляуз! Шантакляуз! Шантакляуз!
Они ломились через окно на улицу, словно стая взбесившихся старых веников. Пелхэм и его люди предпочли выйти через низенькую дверь.
По мере приближения сани увеличивались в размерах. При этом они метались из стороны в сторону и тряслись, как разбалансированный маховик. Олаф Джонсон казался крошечной фигуркой, отчаянно вцепившейся обеими руками в борт саней.
Пелхэм кричал ему, громко и бессвязно, заходясь в кашле всякий раз, как забывал дышать через нос. Вдруг он умолк и в ужасе уставился на упряжку. Сани были уже настолько близко, что не казались маленькими. И теперь они резко пошли на снижение. Если бы Джонсон вздумал поиграть в Вильгельма Телля, он бы не смог точнее прицелиться Пелхэму между глаз.
— Ложи-и-ись! — заорал комендант, падая ничком.
Сани с визгом пронеслись над ними, Пелхэма обдало порывом колючего ветра, на миг ему удалось расслышать пронзительный и бессловесный визг Олафа. Из нагнетателей били тугие струи воздуха, и за санями оставались дорожки водного конденсата.
Пелхэм еще немного полежал, обнимая ледяную твердь Ганимеда и дрожа от ужаса. Потом медленно встал. Колени у него ходили ходуном, будто у гавайской танцовщицы. Эмми, которые при виде пикирующих саней разбежались, уже снова сбились в кучу. Далеко-далеко в небе сани разворачивались для второго захода.
Упряжку Санты болтало и швыряло, вдобавок она не переставала вращаться вокруг продольной оси. Сани рванулись в сторону Купола, накренились, развернулись и прибавили ходу.
А тем временем Олаф работал, как черт. Упершись ногами в борта, обливаясь потом, отчаянно ругаясь и стараясь не смотреть «вниз» на Юпитер, он бешено раскачивал свою летучую повозку. Ему уже удалось увеличить амплитуду до полуоборота, и его желудок подавал негодующие ноты протеста.
Затаив дыхание, он навалился на правый борт, отчего сани не качнулись в обратную сторону, а продолжили вращение. И когда они максимально приблизились к нормальному положению, Олаф отключил репульсоры. Поле тяготения Ганимеда потащило «оленью упряжку» к планете. И поскольку спрятанные под днищем репульсоры являлись самой тяжелой частью конструкции, в падении сани, естественно, перевернулись полозьями вниз.
Но коменданту, который обнаружил, что чертова повозка опять несется прямо на него, от этого было не легче.
— Ложись! — крикнул он, снова прижимаясь к Ганимеду.
Сани со свистом пронеслись над ним, со скрежетом задели скату, после чего зависли на высоте двадцати пяти футов, затем с грохотом рухнули наземь, и наконец из них с пыхтением вывалился Олаф.
Санта-Клаус прилетел.
Олаф испустил долгий, глубокий, прерывающийся вздох, закинул на спину мешок с подарками, поправил бороду и погладил одного из молча страдающих шипоспинов по голове. Может быть, вскоре ему предстояло умереть (на самом деле он даже не имел ничего против), но он собирался умереть как настоящий Джонсон, стоя и с гордо поднятой головой.
Эмми опять набились в хижину. Первый глухой удар возвестил о прибытии на крышу мешка с подарками, второй — самого Санты. В дыре, прорубленной как попало посреди потолка, показалось мертвенно-серое лицо.
— Счастливого Рождества! — прохрипел его обладатель и провалился вниз.
Как обычно, Олаф приганимедился на кислородные баллоны, которые пришлись ребром во все то же многострадальное место. Эмми в нетерпении скакали вверх-вниз, словно мячики.
Санта-Клаус, хромая, подковылял к висящему на стене носку, извлек из мешка ярко разрисованный шар (взятый из набора елочных украшений) и положил его в носок. Один за другим он обошел все доступные носки и в каждый сунул по шару.
Выполнив свою работу, Олаф-Санта без сил опустился на пол. Так он и продолжал сидеть, наблюдая происходящее безучастным остекленевшим взглядом. Да, вообще-то Санта-Клаусу полагается быть веселым и жизнерадостно хохотать, содрогаясь пухлым животом. Но данная конкретная модель Санты явно была старательно избавлена от этих особенностей.
Зато эмми пребывали в таком восторге, что с лихвой компенсировали недостаток веселости Санты. Пока Олаф не положил в носок последний шар, они тихо сидели на своих местах. Но как только все подарки оказались на местах, воздух содрогнулся и в ужасе сморщился от дикого визгливого гвалта. Уже через полсекунды каждый эмми сжимал в трехпалой лапке по шару. Аборигены нежно и осторожно прижимали подарки к груди, живо обсуждая их. Потом они принялись сравнивать шары, собираясь в кучки, чтобы поглазеть на наиболее, с их точки зрения, выдающиеся экземпляры.
Тот самый эмми-неряха, который разглагольствовал перед появлением Санты, подошел к Пелхэму и подергал его за рукав.
— Шантакляуз корош, — крякнул он. — Глядить, он наложиль яйца. — Эмми с благоговением посмотрел на свой шар. — Кр-разивые яйца, кразивей, чем у эмми. Яйца Шантакляуза, да? — Он ткнул Пелхэма в живот костлявым пальцем.
— Нет! — отчаянно заорал комендант. — Черт побери, все не так!
Но эмми не слушал. Он спрятал шар среди длинных перьев у себя на груди.
— Кразивые цвета. А когда мал-мал шантакляузы вылупляйся? И что мал-мал шантакляузы ням? — Он мечтательно закатил глаза. — Мы будем о них корошо забочиваться. Будем учать мал-мал шантакляузов. Чтобы они растать соображательными и мудритыми, как эмми.
Пирс схватил коменданта Пелхэма за руку.
— Не спорьте с ними! — жарко зашептал он. — Пусть думают, что это яйца Санта-Клауса. Какая нам разница? Пора за работу! Если будем вкалывать как ненормальные, еще успеем выполнить норму! Давайте начнем!
— Верно, — согласился комендант. Повернувшись к болтливому эмми, он громко и четко, почти по слогам, произнес: — Скажи всем — пора идти на работу. Понимаешь ты? Быстро-быстро-быстро! Ну! — Он взмахнул руками, пытаясь поторопить эмми, но тот будто к месту прирос.
— Мы работать, — сказал он. — Но Джонсон говориль, Роздетство приходиет каздый год.
— Вам что, мало этого Рождества? — пролаял Пелхэм. — Не наелись?
— Нет! — крякнул эмми. — Мы хотеть Шантакляуз на тот год. И на тот год. И на тот год. И на тот год. Больше яйцев. Больше шантакляузных яйцев. Если Шантакляуз не приедиет, мы не работать.
— Ну, это будет еще не скоро, — сказал Пелхэм. — Поговорим об этом позже. К тому времени либо я окончательно свихнусь, либо вы обо всем забудете.
Пирс открыл рот, чтобы что-то сказать. Закрыл его. Открыл. Закрыл. Открыл. Закрыл. Открыл снова и наконец сумел выдавить:
— Шеф, они хотят Рождество каждый год.
— Да слышал я. Но через год они и не вспомнят об этой истории.
— Вы не поняли. Для них год — это местный цикл, оборот Ганимеда вокруг Юпитера. А он равен семи суткам и трем часам. Они хотят Рождество каждую неделю!
— Каждую неделю! Джонсон сказал им…
Комната закружилась перед глазами у Пелхэма, все предметы пошли игриво кувыркаться. Балансируя на грани обморока, он машинально отыскал взглядом Джонсона.
Олаф, промерзший до мозга костей, под шумок бочком-бочком подбирался к двери. На пороге он вдруг вспомнил, что забыл кое-что очень важное.
— Всем веселого Рождества и спокойной ночи! — сипло выкрикнул он и кинулся к саням так, будто все черти преисподней гнались за ним.
Хотя это были не черти. Это был комендант Пелхэм.
Инок Вечного огня
Глаза Рассела Тимбалла сверкнули торжеством, когда он увидел обломки того, что всего несколько часов назад было крейсером ласинукского флота. Искореженные шпангоуты, выпиравшие во все стороны, убедительно свидетельствовали о чудовищной силе удара.
Невысокий полный землянин вернулся в свой ухоженный стратоплан. Какое-то время он бесцельно крутил в руках длинную сигару, потом раскурил её. Клубы дыма поплыли вверх, человек прикрыл глаза и погрузился в размышления.
Услышав осторожные шаги, Тимбалл вскочил. Двое проскользнули внутрь, бросив быстрые прощальные взгляды наружу. Люк мягко закрылся, и тут же один из пришедших направился к пульту. Почти сразу безлюдная пустынная территория оказалась далеко внизу, и серебристый нос стратоплана нацелился на древний мегаполис Нью-Йорк.
Прошло несколько минут.
— Все чисто? — спросил Тимбалл. Человек за пультом кивнул:
— Ни одного корабля тиранов поблизости. Совершенно ясно, что «Грахул» не успел запросить о помощи.
— Почту забрали? — нетерпеливо поинтересовался Тимбалл.
— Мы достаточно быстро её отыскали. Она не пострадала.
— Мы нашли и ещё кое-что, — с горечью заметил его напарник, — кое-что другое: последний доклад Сиди Пеллера.
На мгновение круглое лицо Тимбалла обмякло, изобразив что-то вроде страдания, но тут же вновь окаменело.
— Он мертв! Но он пошел на это ради Земли, и, значит, это не гибель! Это мученичество! — Помолчав, он печально добавил: — Дайте мне взглянуть на донесение, Петри.
Он взял протянутый ему простой, сложенный пополам листок, развернул и медленно прочитал вслух: «Четвертого сентября произведено успешное проникновение на борт крейсера флота тиранов «Грахул» Весь путь от Плутона до Земли вынужден скрываться. Пятого сентября обнаружил искомую корреспонденцию и завладел ею. В качестве тайника использовал кожух ракетных двигателей. Помещаю туда доклад вместе с почтой. Да здравствует Земля!» Когда Тимбалл читал последние слова, голос его странно подрагивал.
— От рук ласинукских тиранов пал Сиди Пеллер — великомученик Земли! Но он будет отомщен — и во сто крат. Человеческая раса ещё не до конца выродилась.
Петри глядел в иллюминатор.
— Как Пеллер сумел это сделать? Один человек успешно пробрался на вражеский крейсер, на глазах у всего экипажа выкрал документы и разбил корабль. Как ему это удалось? Нам никогда не узнать ничего, кроме того, о чем говорят сухие строчки его донесения.
— Он выполнял приказ, — заметил Уильямс, зафиксировав управление и повернувшись к спутникам. — Я сам доставил ему этот приказ на Плутон. Захватить дипломатическую почту! Разбить «Грахул» над Гоби! Пеллер выполнил свое задание! Вот и все! — Он равнодушно пожал плечами.
Атмосфера подавленности все усиливалась, пока Тимбалл не нарушил её.
— Забудем, об этом! — загрохотал он. — Вы уничтожили все следы пребывания Сиди на корабле?
Оба его спутника кивнули. Голос Петри стал деловитым:
— Все следы Пеллера были выявлены и деатомизированы. Они никогда не догадаются о присутствии человека на их корабле. Сам документ заменен заранее подготовленной копией, которая доведена до такого состояния, что её нельзя прочесть. Она даже пропитана солями серебра именно в том количестве, которое остается после приложения официальной печати императора тиранов. Могу поклясться жизнью: ни одному ласинуку не придет в голову что катастрофа произошла не из-за несчастного случая, а документ не был уничтожен.
— Хорошо! Они уже двадцать четыре часа не могут установить место падения. С воздуха его не засечь. Теперь передайте мне корреспонденцию.
Тимбалл бережно, почти с благоговением взял в руки металлоидный контейнер и с силой сорвал крышку. Там находился слегка почерневший деформированный футляр.
Документ, который он вытряхнул из футляра, с шуршанием развернулся. В нижнем левом углу виднелась огромная серебряная печать самого императора Ласинука-тирана, который, живя на Веге, правил третью Галактики. Послание было адресовано вице-королю Солнечной системы.
Трое землян мрачно и внимательно пробежали глазами по изящным строчкам. Резкие, угловатые ласинукские буквы отливали красным в лучах заходящего солнца.
— Что, разве я был не прав? — прошептал Тимбалл.
— Как всегда, — согласился Петри.
По-настоящему ночь так и не наступила. Черно-пурпурное небо потемнело совсем незначительно, звезды стали ненамного ярче, но, если не обращать на это внимания, в стратосфере не ощущалось разницы между присутствием и отсутствием Солнца.
— Вы уже обдумали следующий шаг? — нерешительно поинтересовался Уильямс.
— Да… и давным-давно. Завтра я навещу Пола Кейна — вот с этим, — и Тимбалл указал на послание.
— Лоару Пола Кейна! — воскликнул Петри.
— Этого… этого лоариста! — одновременно выдохнул Уильямс.
— Лоариста, — согласился Тимбалл. — Он — наш человек!
— Вернее сказать, он — лакей ласинуков, — возмутился Уильямс. — Кейн глава лоаризма, а значит, предводитель изменников-землян, которые проповедуют смирение перед захватчиками.
— Совершенно верно. — Петри побледнел, но ещё держал себя в руках. Ласинуки — наши явные враги, с которыми придется столкнуться в открытой битве, но лоаристы… это же сброд! Я скорее добровольно пойду на службу к вице-королю тиранов, чем соглашусь иметь что-нибудь общее с этими гнусавыми ковырялами древней истории Земли, которые возносят молитвы её былому величию, но ничуть не озабочены теперешним вырождением.
— Вы слишком строго судите. — Губы Тимбалла тронула едва заметная улыбка. — Мне и раньше приходилось иметь дело с вождем лоаристов… Резким жестом он предупредил удивленные и испуганные возгласы. — Там я был очень осторожен. Даже вы ничего не знали, но как видите: до сих пор Кейн меня не предал. Эти встречи обманули мои ожидания, но кое-чему научили. Вот послушайте-ка!
Петри и Уильямс придвинулись поближе, и Тимбалл продолжил жестким, деловитым тоном:
— Первое галактическое нашествие Ласинука завершилось две тысячи лет назад капитуляцией Земли. С тех пор агрессия не возобновлялась, и независимые, населенные людьми планеты Галактики вполне удовлетворены подобным «статус-кво». Они слишком поглощены междоусобными распрями, чтобы поддержать возобновление борьбы. Лоаризм заинтересован только в успешном противодействии новым путям мышления, для него нет особой разницы, люди или ласинуки правят Землей, лишь бы учение процветало. Возможно, мы, националисты, в этом отношении для них представляем большую опасность, чем тираны.
Уильямс криво ухмыльнулся:
— Я говорю то же самое.
— А раз так, вполне естественно, что лоаризм взял на себя роль миротворца. Однако, если это окажется в их интересах, они не замедлят к нам присоединиться. И вот это, — Тимбалл похлопал ладонью по разложенному перед — ним документу, — поможет нам убедить их.
Его спутники сохраняли молчание. Тимбалл продолжил:
— У нас мало времени. Не больше трех лет. Но вы сами знаете, что надежда на успех восстания есть.
— Знаем, — проворчал Петри сквозь зубы. — Если нам будут противостоять только те ласинуки, что находятся на Земле.
— Согласен. Но они могут обратиться на Вегу за помощью, а нам звать некого. Ни одна планета людей и не подумает вступиться за нас — как и пятьсот лет назад. Именно поэтому мы должны перетянуть лоаристов на свою сторону.
— А как поступили лоаристы пять веков назад, во время Кровавого восстания? — спросил Уильямс, не скрывая ненависти. — Бросили нас на произвол судьбы, спасая свою шкуру!
— Мы не в том положении, чтобы вспоминать об этом, — заметил Тимбалл. — Сейчас необходимо заручиться их поддержкой… а уж потом, когда все будет кончено, мы посчитаемся…
Уильямс повернулся к пульту.
— Нью-Йорк — через пятнадцать минут, — сообщил он и добавил: — И все-таки мне это не нравится. На что эти пачкуны лоаристы способны? Подлые, мелкие душонки.
— Они — последняя сила, объединяющая человечество, — ответил Тимбалл. — Очень слабая и беспомощная, но в ней — единственный шанс для Земли.
Стратоплан уже опускался, входя в более плотные слои атмосферы, и свист рассекаемого воздуха перешел в пронзительный вой. Уильямс выпустил тормозные ракеты, и они пронзили серое покрывало облаков. Впереди, возле самого горизонта, показалась огромная россыпь огней Нью-Йорка.
— Смотрите, чтобы ваши маневры не привлекли внимание ласинукской инспекции, и подготовьте документы. Они не должны нас поймать ни в коем случае.
Лоара Пол Кейн откинулся на спинку своего богато украшенного кресла. Тонкими пальцами он играл с пресс-папье из слоновой кости, стараясь не смотреть в глаза сидящему напротив невысокому полненькому человеку, а в голосе, стоило ему заговорить, слышалась высокопарность.
— Я больше не могу рисковать, прикрывая вас, Тимбалл. До сих пор я это делал ради человеческих уз, нас связывающих, но… — Он умолк.
— Но? — повторил Тимбалл. Кейн крутил в руках пресс-папье.
— В последнее время ласинуки ведут себя гораздо активнее. Они стали излишне самоуверенными. — Кейн поднял глаза. — А я не совсем свободный агент и не располагаю теми силой и влиянием, какие, как я вижу, вы мне приписываете. — Он вновь опустил глаза, а в голосе его прозвучали нотки беспокойства: — Ласинуки полны подозрений. Они начинают догадываться о существовании хорошо законспирированного подполья, и мы не можем позволить себе оказаться замешанными в это.
— Знаю. Возникнет необходимость — и вы нами просто пожертвуете, как и ваши предшественники пять веков назад. Но на сей раз лоаризму суждено сыграть более благородную роль.
— И кому польза от вашего восстания? — устало, спросил Кейн. — Неужели ласинуки хуже человеческой олигархии, правящей на Сантани, или диктаторов Трантора? Хоть ласинуки и негуманоиды, но они разумны. Лоаризм должен жить в мире с любой властью.
Тимбалл улыбнулся в ответ, хотя ничего смешного сказано не было. В улыбке этой ощущалась едкая ирония, и, чтобы подчеркнуть её, он достал небольшой лист бумаги.
— Вы так полагаете? Тогда прочтите. Это уменьшенная фотокопия… нет-нет, не трогайте, смотрите в моих руках, и…
Его речь была прервана внезапным растерянным восклицанием собеседника. Лицо Кейна превратилось в маску ужаса, едва он разглядел документ.
— Где вы это взяли? — Кейн с трудом узнал собственный голос.
— Удивлены? Из-за этой бумажки погибли один отличный парень и крейсер «его рептилийского величества». Надеюсь, у вас не возникает сомнений в его подлинности.
— Н-нет! — Кейн провел дрожащей рукой по лбу. — Подпись и печать императора невозможно подделать!
— Как видите, ваше святейшество, — титул прозвучал явно саркастически, — возобновление галактической экспансии — вопрос ближайших трех лет. Первые шаги к ней будут предприняты уже в нынешнем году. Какими они будут, — голос Тимбалла сделался вкрадчиво-ядовитым, — мы скоро узнаем, поскольку приказ адресован вице-королю.
— Дайте мне немного подумать. Немного подумать. — Кейн откинулся на спинку кресла.
— И в этом есть необходимость? — безжалостно воскликнул Тимбалл. — Это не что иное, как развитие моих предположений шестимесячной давности, которые вы предпочли отвергнуть. Земля — мир гуманоидов, поэтому она будет уничтожена; очаги человеческой культуры рассеяны по окраинам ласинукской зоны Галактики, так что любой след человека будет уничтожен.
— Но Земля! Земля — колыбель человеческой расы! Начало нашей цивилизации!
— Именно! Лоаризм умирает, а гибель Земли окончательно его погубит. С его крушением исчезнет последняя объединяющая сила, и планеты людей, пока еще. не побежденные, одна за другой будут уничтожены Вторым галактическим нашествием. Если только, голос Кейна прозвучал бесстрастно:
— Я знаю, что вы хотите сказать.
— Только то, что уже говорил. Человечество должно объединиться, а сделать это можно только вокруг лоаризма. У всех сражающихся должна быть цель: ею должно стать освобождение Земли. Я могу заронить искру здесь, на Земле, но вы должны раздуть костер во всей заселенной людьми части Галактики.
— Вы имеете в виду вселенскую войну… галактический крестовый поход, — прошептал Кейн, — но мы с вами знаем, что это невозможно. — Внезапно он резко распрямился. — Вы хоть знаете, насколько сегодня слаб лоаризм?
— В мире нет ничего настолько слабого, что не могло бы усилиться. Как бы лоаризм ни ослаб со времен Первого галактического нашествия, но вы и поныне сохранили свою дисциплину и организованность — лучшую в Галактике. Ваши предводители, если брать в целом, — толковые люди, в этом я вынужден признаться. А совместно действующая группа умных людей способна на многое. Иного выбора у нас нет.
— Оставьте меня, — безжизненно произнес Кейн. — На большее я сейчас не способен. Мне следует подумать. — Он пальцем указал на дверь.
— Что толку от размышлений? — раздраженно воскликнул Тимбалл. — Надо действовать! С этими словами он исчез.
Кейн провел ужасную ночь. Он побледнел и осунулся; глаза запали и лихорадочно сверкали. Но голос звучал спокойно и решительно.
— Мы союзники, Тимбалл.
Тимбалл холодно улыбнулся, на мгновение коснулся протянутой руки Кейна, но тут же уронил руку.
— Только лишь по необходимости, ваше святейшество. Мы — не друзья;
— А я и не говорю, что друзья. Но действовать мы должны вместе. Я уже разослал предварительные указания. Верховный совет их утвердит. В этом отношении я не предвижу осложнений.
— Как долго мне придется ждать результатов?
— Кто знает? Лоаристам пока ещё не мешают пропагандировать. До сих пор есть люди, воспринимающие пропаганду: одни — с почтением, другие — со страхом, третьи просто поддаются её воздействию. Но кто может знать? Человечество слепо, антиласинукские настроения слабы, трудно разбудить их, просто колотя в барабаны.
— Никогда не составляло труда играть на ненависти. — Круглое лицо Тимбалла исказилось гримасой жестокости. — Пропаганда! Оппортунизм искренний и неразборчивый! К тому же, несмотря на свою слабость, лоаризм богат. Массы могут быть покорены словами, но тех, кто занимает высокие посты, тех, кто по-настоящему важен, можно соблазнить и кусочками желтого металла.
Кейн устало махнул рукой:
— Ничего нового вы не предложили. Подобные методы применялись ещё на заре истории человечества. Подумать только, — горько добавил он, — нам приходится возвращаться к тактике варварских эпох!
Тимбалл равнодушно пожал плечами:
— Вы знаете лучший способ?
— В любом случае, даже со всей этой грязью, мы можем потерпеть неудачу.
— Нет, если план будет хорошо продуман. Лоара Пол Кейн вскочил, кулаки его сжались.
— Глупость это! И вы, и ваши планы! Все это ваши многомудрые, тайные, уклончивые, неискренние планы! Неужто вы считаете, что заговор приведет к восстанию, а восстание — к победе? На что вы способны? Вынюхивать информацию, неторопливо подкапываться под корни. Но руководить восстанием выше ваших сил. Я могу заниматься организацией, подготовкой, но руководство восстанием тоже не в моих силах.
Тимбалл вздрогнул.
— Подготовка… детальнейшая подготовка…
— Ничего она не даст, говорю я вам. Можно иметь все необходимые химические ингредиенты, можно создать самые благоприятные условия — и все же реакция не пойдет. В психологии, точнее, в психологии масс, как и в химии, необходимо наличие катализатора.
— Великий Космос, о чем вы?
— Можете вы быть предводителем восстания? — выкрикнул. Кейн. Крестовый поход — это война эмоций. Сможете ли вы контролировать и направлять эти эмоции? Куда вам! Вы — конспиратор, и не в ваших правилах участвовать в открытой битве. Могу я руководить восстанием? Я — старый и миролюбивый человек. Так кто же будет вождем, тем психологическим катализатором, который окажется способным вдохнуть жизнь в безжизненное тело ваших изумительных «приготовлений»?
Рассел Тимбалл стиснул зубы.
— Пораженчество! Так, значит?
— Нет! Реализм! — резко ответил Кейн. Тимбалл озлобленно смолк, потом быстро повернулся и вышел.
По корабельному времени наступила полночь, и бал был в самом разгаре: центральный салон суперлайнера «Пламя сверхновой» заполнили кружащиеся, смеющиеся, сверкающие фигуры.
— Все это напоминает мне те трижды проклятые приемы, что устраивала моя жена на Лакто, — пожаловался Саммел Маронни своему спутнику. — Я-то думал, что хоть немного отдохну от них здесь, в гиперпространстве, но, как видите, не удалось.
Он тяжело вздохнул и взглянул на развлекающихся с явной неприязнью.
Маронни был одет по последней моде — от пурпурной ленты, стягивавшей волосы, до небесно-голубых сандалий, — но выглядел невероятно неуклюже. Его полная фигура была так затянута в ослепительно красивую, но ужасно тесную тунику, что с ним того и гляди мог случиться сердечный приступ.
Его спутник, высокий, худощавый, облаченный в безукоризненно белый мундир, держался с непринужденностью, порожденной длительной практикой. Его подтянутая фигура резко контрастировала с нелепым внешним видом Саммела Маронни.
Лактонский экспортер прекрасно осознавал это.
— Будь оно все проклято, Дрейк, но работа у вас здесь просто изумительная. Одеты, словно крупная шишка, а всего и требуется — приятно выглядеть да отдавать честь. Кстати, сколько вам здесь платят?
— Маловато. — Капитан Дрейк приподнял седую бровь и вопросительно посмотрел на лактонца. — Хотел — бы я, чтобы вы попали в мою шкуру на недельку-другую. Тогда бы вы запели не так сладко. Если вам кажется, что угождать жирным вдовушкам и завитым снобам из высшего общества — значит возлежать на ложе из роз, то будьте добры, займитесь этим сами.
Какое-то время он беззвучно ругался, потом любезно поклонился глупо улыбнувшейся ему, усыпанной драгоценностями старой ведьме.
— Вот от этого-то у меня и появились морщины и поседели волосы, клянусь Ригелем.
Маронни достал из портсигара длинную «Карену» и с наслаждением раскурил её. Выпустив в лицо капитану яблочно-зеленое облако дыма, он проказливо усмехнулся:
— Ни разу ещё не встречал человека, который не проклинал бы свою работу, будь она даже такой пустяковой, как ваша, старый седой мошенник. Ах, если не ошибаюсь, к нам направляется великолепнейшая Илен Сурат.
— О, розовые Дьяволы Сириуса! Мне и поглядеть-то на неё страшно. Неужто эта старая карга в самом деле идет к нам?
— Определенно… Неужели вы не счастливы! Все-таки она — одна из богатейших женщин на Сантани и вдова к тому же. Полагаю, мундир их околдовывает. Какая жалость, что я женат!
Физиономия капитана Дрейка исказилась испуганной гримасой.
— Чтоб на неё люстра обрушилась!
Тут он повернулся, и выражение его лица претерпело мгновенную метаморфозу, сменившись глубочайшим восхищением.
— О, мадам Сурат, я уже потерял надежду увидеть вас сегодня ночью!
Плен Сурат, шестидесятилетие которой осталось в далеком прошлом, хихикнула, как девица:
— Ох, оставьте, старый соблазнитель, не заставляйте меня забыть, что я пришла сюда вас выбранить.
— Ничего особо скверного, надеюсь?
Дрейк почувствовал, как волосы на голове медленно встают дыбом. Он уже имел дело с жалобами мадам Сурат. Обычно дела обстояли очень скверно.
— Скверного очень и очень много. Я только что узнала, что через пятьдесят часов мы совершим посадку на Землю… если только я правильно произнесла название.
— Совершенно верно, — ответил капитан Дрейк с некоторым облегчением.
— Но она не была указана в нашем маршруте?
— Нет, не была. Но это, видите ли, вполне обычное дело. Через десять часов мы уже покинем планету.
— Но это же невыносимо. Ведь я потеряю целый день! А мне необходимо, оказаться на Сантани на этой неделе, и каждый день для меня дорог. К тому же я никогда о Земле не слышала. Мой путеводитель… — она извлекла из сумочки переплетенный в кожу томик и раздраженно зашелестела страницами, даже не упоминает о таком месте. И я совершенно уверена, что никто не испытывает ни малейшего желания там побывать. Если вы будете упорствовать в намерении тратить время пассажиров на абсолютно бессмысленные остановки, то мне придется объясниться по этому поводу с президентом компании. Должна вам напомнить, что у себя дома я пользуюсь некоторым влиянием.
Капитан Дрейк неслышно вздохнул. Это был уже не первый случай, когда Илен Сурат напоминала ему о своем «некотором влиянии».
— Дорогая мадам Сурат, вы правы, вы совершенно правы, вы абсолютно правы, но я ничего не могу поделать. Все корабли с линий Сириуса, альфы Центавра и шестьдесят первой Лебедя обязаны останавливаться на Земле. Это предусмотрено межзвездным соглашением, и даже сам президент компании, какие бы убедительные аргументы вы ему ни привели, в данном случае окажется бессилен.
— К тому же, — заметил Маронни, решив, что пришло время выручать взятого в осаду капитана, — я полагаю, что двое из пассажиров направляются именно на Землю.
— Вот именно. Я и забыл. — Лицо капитана Дрейка несколько просветлело. — Да-да! Мы имеем вполне конкретную причину для остановки.
— Два пассажира из более чем пяти сотен! Вот так логика!
— Вы несправедливы, — беззаботно произнес Маронни. — В конце концов, именно на Земле зародилась человеческая раса. Надеюсь, вы об этом знаете?
Патентованные накладные брови Илен Сурат взлетели вверх.
— Да неужели? — Растерянная улыбка на её лице тут же сменилась презрением. — Ах да-а, но ведь это было много тысяч лет назад. Теперь это не имеет никакого значения.
— Для лоаристов имеет, а те двое, что собираются высадиться, лоаристы.
— Вы хотите сказать, — ухмыльнулась вдова, — что даже в наш просвещенный век сохранились люди, занятые изучением «нашей древней культуры»? Ведь именно так они о себе говорят?
— По крайней мере, Филип Санат говорит именно так, — улыбнулся Маронни, — Несколько дней назад он прочитал мне длиннейшую проповедь и как раз на эту тему. Кстати, было довольно интересно. Что-то в этом есть. — Он добродушно покивал и продолжил: — А голова у него хорошая, у этого Филипа Саната. Из него вышел бы неплохой бизнесмен.
— Помянешь метеорит — услышишь его свист, — неожиданно заметил капитан и показал головой направо.
— Хм! — изумленно выдохнул Маронни. — Это он. Но… клянусь пространством, что он здесь делает?
Филип Санат производил странное впечатление, когда стоял вот так, прислонившись к косяку двери. Его длинная темно-пурпурная туника — знак лоариста — мрачным пятном выделялась на фоне собравшихся. Его тяжелый взгляд остановился на Маронни, и тот помахал рукой в знак приветствия.
Танцующие машинально расступились перед Санатом, когда он пошел вперед, а потом бросали ему вслед долгие удивленные и растерянные взгляды. Любой услышал бы возбужденный шепоток, вызванный собственным появлением. Любой, но не Филип Санат. Глаза его каменно смотрели перед собой, выражение неподвижного лица было бесстрастным.
Филип Санат приветливо поздоровался с обоими мужчинами и после официального представления сухо поклонился вдове, которая взирала на него с открытым пренебрежением.
— Прошу прощения, капитал Дрейк, за то, что потревожил вас, — произнес он низким голосом. — Я лишь хотел узнать, когда мы покинем гиперпространство.
Капитан извлек массивный карманный хронометр.
— Через час. Не более.
— И тогда мы окажемся?..
— За орбитой девятой планеты. — Плутона. Очутившись в пространстве, мы увидим Солнце?
— Если знаете точное направление, то увидите.
— Благодарю вас.
Филип Санат сделал движение, словно намеревался уйти, но Маронни остановил его.
— Побудьте с нами, Филип. Я уверен, что мадам Сурат умирает от желания задать вам несколько вопросов. Она проявила величайший интерес к лоаризму.
Глаза лактонца забегали более чем подозрительно. Филип Санат с готовностью повернулся к вдове: на мгновение захваченная врасплох, она, казалось, потеряла дар речи.
— Скажите, молодой человек, — ринулась она вперед, вновь обретя его, неужели до сих пор живут люди вроде вас? Я имею в виду лоаристов.
Филип Санат так долго смотрел на мадам Сурат, сохраняя при этом полное молчание, что это могло показаться невежливым. Наконец он произнес с мягкой настойчивостью:.
— До сих пор существуют люди, которые стремятся сохранить культуру и образ жизни древней Земли. Капитан Дрейк не смог удержаться от иронии:
— Даже под грузом культуры хозяев с Ласинука?
— Вы хотите сказать, что Земля — ласинукский мир? — воскликнула Илен Сурат. — Так? — Ее голос поднялся до испуганного визга.
— Ну да, разумеется, — недоуменно ответил капитан, сожалея, что заговорил об этом. — Разве вы не знали?
— Капитан, — уже истерически кричала женщина, — вы не имеете права садиться! Если вы это сделаете, я вам такие неприятности устрою, такую массу неприятностей! Я не желаю выставлять себя напоказ перед мордами этих ужасных ласинуков — этих омерзительных рептилий с Веги.
— Вам нечего бояться, мадам Сурат, — холодно заметил Филип Санат. Подавляющее большинство земного населения — люди. И только один процент правители-ласинуки.
— Ох. — Помедлив, вдова оскорбление заявила: — Нет уж, я и думать не хочу, что Земля — такое важное место, если ею управляют не люди. И лоаризм не лучше! Только напрасная трата времени, вот что я вам скажу!
К лицу Саната внезапно прилила кровь: казалось, какой-то момент он был не в состоянии вымолвить слово. Но справился с собой и сказал тоном проповедника:
— Ваша точка зрения весьма поверхностна. Тот факт, что Ласинук контролирует Землю, ничего не значит для фундаментальных проблем самого лоаризма… — Затем он резко повернулся и ушел.
Саммел Маронни тяжело вздохнул, глядя вслед удаляющейся фигуре.
— Вы сразили его наповал, мадам Сурат. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы он увиливал от спора подобным образом.
— Он производит впечатление неплохого парня, — заметил капитан Дрейк. Маронни хмыкнул:
— Мы с ним с одной планеты. Он — типичный лактонец, ничуть не лучше меня.
Вдова сердито откашлялась:
— Ах, давайте же сменим тему разговора, умоляю. Этот тип словно тень навел на всех нас. И зачем они рядятся в эти омерзительные пурпурные одеяния? Никакого стиля!
Лоара Броос Порин поднял глаза навстречу юному священнослужителю.
— Итак?
— Меньше чем через сорок пять минут, Лоара Броос.
Бросившись в кресло, Сенат наклонился вперед и оперся подбородком о стиснутый кулак. Его нахмуренное лицо раскраснелось.
Порин поглядел на своего спутника с любящей улыбкой.
— Опять поспорил с Саммелом Маронни, Филип?
— Нет, не совсем. — Резким движением юноша выпрямился. — Но какая в этом польза, лоара Броос? Там, на верхнем этаже, сотни человеческих существ, бездумных, ярко разодетых, веселящихся — и полное равнодушие к Земле. Из всех пассажиров корабля только мы двое останавливаемся, чтобы посетить мир наших предков. — Его глаза избегали взгляда пожилого спутника, голос приобрел оттенок горечи. — А раньше тысячи людей из всех уголков Галактики ежедневно прибывали на Землю; Великие дни лоаризма прошли.
Лоара Броос рассмеялся. Никто бы не подумал, что в его длинном и тощем теле может таиться такой душевный смех.
— Я уже, наверное, в сотый раз все это от тебя выслушиваю. Глупости! Придет день, когда о Земле вспомнят все. Начнется массовое паломничество сюда.
— Нет! Все это в прошлом!
— Ха! Пророки гибели каркают, но им ещё предстоит доказать свою правоту.
— Им это удастся. — Глаза Саната неожиданно вспыхнули. — И знаете почему? Потому что Земля осквернена захватчиками-рептилиями. Женщина мерзкая, пустая женщина — только что мне заявила: «Не думаю, что Земля может быть такой уж значительной, если на ней правят ласинуки». Она произнесла то, что миллиарды говорят про себя бессознательно, и я не нашел слов, чтобы опровергнуть её.
— И какое же ты сам предлагаешь решение, Филип?
— Изгнать захватчиков с Земли! Снова сделать её планетой людей! Нам уже приходилось сражаться с ними во время Первого галактического нашествия, две тысячи лет тому назад, и мы смогли их остановить, когда уже казалось, что они приберут к рукам всю Галактику. Теперь нам самим надо начать Второе нашествие и отбросить их на Вегу.
Порин вздохнул и покачал головой:
— Ты ещё молод и горяч! Не найдется юного лоариста, который не метал бы молний по этому поводу. Ты это перерастешь. Перерастешь. Послушай, мальчик мой! — Лоара Броос поднялся и положил руку на плечо собеседнику. Люди и ласинуки равно наделены разумом, и в нашей Галактике существуют только эти две расы разумных существ.
Они — братья по разуму и духу и должны жить в мире. Постарайся понять это.
Филип Санат уставился в пол, не давая понять, слышал ли он сказанное. Его наставник с ласковым упреком поцокал языком:
— Ладно, станешь постарше, сам поймешь. А пока забудь обо всем этом, Филип. Знай, что стремления любого истинного лоариста для тебя уже близки к осуществлению. Через два дня трава Земли окажется у тебя под ногами. Разве этого не достаточно для счастья? Только подумай об этом! Когда ты вернешься, тебе присвоят титул «лоара». Ты станешь одним из тех, кто посетил Землю. Золотое солнце будет приколото к твоему плечу.
Рука Порина скользнула к яркому желтому кругу на тунике, немому свидетельству его трех предшествующих визитов на Землю.
— Лоара Филип Санат, — медленно произнес Санат, глаза его заблестели. — Лоара Филип Санат. Превосходно звучит, правда?
— Ну, вот ты и почувствовал себя лучше. Но приготовься: с минуты на минуту мы покинем гиперпространство и увидим Солнце.
И сразу же после его слов. мутная, давящая пелена гиперматерии, плотно обнимавшей со всех сторон борта «Пламени сверхновой», начала претерпевать странные изменения, которые знаменовали начало выхода в нормальное пространство. Тьма посветлела, и концентрические круги разных оттенков серого цвета понеслись друг за другом мимо иллюминатора со все возрастающей скоростью. Это была поразительная и прекрасная оптическая иллюзия, которую наука так и не смогла объяснить.
Порин выключил свет, и они вдвоем сидели в темноте, наблюдая за слабо фосфоресцирующей, бегающей рябью. Потом с ужасающей молчаливой внезапностью структура гиперпространства, казалось, взорвалась крутящимся безумием ослепительных тонов. И тут же все снова успокоилось. В иллюминаторе спокойно заискрились звезды нормального пространства.
Среди них, сверкая, выделялась самая яркая, сиявшая желтыми лучами, превратившими лица в бледные маски. Это было Солнце!
Родная звезда человечества была ещё так далека, что даже не имела выраженного диска, и тем не менее являлась уже самым ярким видимым объектом. В его мягком желтом свете двое людей предались неторопливым размышлениям, и Филип Санат почувствовал, как на него нисходит спокойствие.
Два дня спустя «Пламя сверхновой» совершило посадку на Землю.
Филип Санат мгновенно позабыл о священном трепете, охватившем его, едва сандалии впервые коснулись твердого зеленого дерна Земли, стоило ему увидеть ласинукских чиновников.
Они выглядели совсем как люди, во всяком случае как гуманоиды.
На первый взгляд человекоподобные черты преобладали над всем остальным. Строение ничем существенным не отличалось от человеческого. Двуногое тело с довольно правильными пропорциями, шея четко обозначена все это бросалось в глаза. И требовалось несколько минут, прежде чем взгляд начинал выделять отдельные нюансы, свидетельствующие о различии между расами.
Прежде всего обращали на себя внимание чешуйки, покрывавшие голову, и тусклые линии на коже, шедшие вдоль позвоночника. Лицо с плоским, широким, покрытым мельчайшей чешуей носом производило скорее отталкивающее впечатление, впрочем, ничего грубого в нем не было. Одежда отличалась простотой, а речь была довольно приятна для слуха. Но самое главное, в их темных, блестящих глазах светился подлинный разум.
Порин подметил удивление Саната, когда тот впервые взглянул на веганских рептилий.
— Вот видишь, — заметил он, — их внешность не столь чудовищна. Ну и чего ради должна существовать ненависть между людьми и ласинуками?
Санат не ответил. Конечно же, наставник был прав. Слово «ласинук» так долго ассоциировалось в его мозгу с понятиями «чужак» и «монстр», что вопреки своим знаниям и логике он подсознательно ожидал увидеть этакое сверхъестественное существо.
Однако пока властные, плохо говорящие по-английски ласинуки проводили досмотр, вызванная внешним сходством растерянность постепенно уступила место липкой, неотвязчивой неприязни, переходящей почти в ярость.
На следующий день они отправились в Нью-Йорк — крупнейший город планеты. И в стенах этого невероятно древнего мегаполиса Санат на время позабыл обо всех заботах Галактики. Для него настал великий момент: он предстал перед похожим на башню сооружением и торжественно сказал себе:
— Вот он, Мемориал!
Это был величайший монумент на Земле — символ величия человеческой расы, и как раз наступала среда, тот день недели, когда двоим избранным поручалось «охранять Вечный огонь». Двое, одни во всем Мемориале, следили за трепещущим, желтым пламенем, символизировавшим мужество человечества, и Порин уже договорился, что в этот день выбор падет на него и на Саната, поскольку они специально для этого проделали такое далёкое путешествие.
С приходом сумерек они остались одни в просторном зале Вечного огня Мемориала. В мрачной полутьме, освещаемой только судорожными вспышками танцующего желтого пламени, полное умиротворение спустилось на них.
В этом месте скапливалась некая аура, смягчавшая все душевные борения. Мягкие тени, подрагивая, покачивались за колоннами, тянувшимися по обе стороны зала, плетя свою гипнотическую сеть.
Постепенно люди погрузились в полудрему, пристально вглядываясь в пламя слипающимися глазами, пока живое биение огня не превратилось в туманную молчаливую фигуру.
Но из-за контраста с царившей вокруг глубочайшей тишиной малейшего звука оказалось достаточно, чтобы нарушить мечтательность. Санат моментально напрягся, больно ухватив Порина за локоть.
— Прислушайтесь, — прошептал он, предупреждая вопрос. Порин, насильственно вырванный из мечтательной дремы, взглянул — на своего молодого спутника тревожно и пристально, потом без слов приложил руку к уху. Тишина стала ещё более глубокой, давление её ощущалось чуть ли не материально. Потом издалека донеслось едва уловимое шарканье подошв по мраморному полу. Слабый, почти на грани восприятия, шепот — и снова тишина.
— Что это? — растерянно спросил Порин.
— Ласинуки! — бросил Санат, вскакивая. Лицо его превратилось в маску ненависти и возмущения.
— Не может быть! — Порин попытался придать своему голосу холодную уравновешенность, хотя и его внутренне трясло от злости. — Это было бы неслыханным оскорблением. Просто наши нервы обострились от тишины, ничего больше. Скорее всего это кто-то из служителей Мемориала.
— После захода солнца, в среду? — Голос Саната звучал резко. — Это так же противозаконно, как и вторжение ласинуков, и ещё более неправдоподобно. Мой долг хранителя Вечного огня все выяснить.
Он уже собрался шагнуть в темноту, но Порин схватил его за запястье.
— Не стоит, Филип. Повремени до рассвета. Что ты сможешь сделать там один, если обнаружишь ласинуков? Если ты…
Но Санат не стал слушать дальше. Резким движением он освободился.
— Оставайтесь здесь. Нельзя оставлять Вечный огонь без присмотра. Я скоро вернусь
Он быстро пересек половину просторного, вымощенного мрамором зала и осторожно приблизился к стеклянной двери, ведшей на темную винтовую лестницу, уходившую в кромешный мрак, к пустым помещениям башни.
Скинув сандалии, он стал красться по ступеням, бросив прощальный взгляд на мягкий свет Вечного огня и застывшего возле него испуганного человека.
Перед ним оказались два ласинука, стоявших в жемчужном свете атомолампы.
— Местечко древнее и унылое, — заметил Трет Бан Сола. Его наручная камера трижды щелкнула. — Скинь-ка несколько книг с полок. Они послужат дополнительным фоном.
— Думаешь, стоит? — спросил Кор Вен Хаста. — Эти земные мартышки могут всполошиться.
— Делай! — холодно приказал Трег Бан Сола. — Чем они нам помешают? Иди-ка сюда, присаживайся! — Он быстро взглянул на часы. — Ему придется выложить по пятьдесят кредиток за каждую минуту, что мы здесь пробудем. Так почему бы нам немного не отдохнуть в предвкушении кучи денег?
— Пират Фор — болван. С чего это он решил, что мы не сможем выиграть пари?
— Думаю, — сказал Бан Сола, — он слышал про того солдата, которого в прошлом году разорвали в клочья, когда он попытался ограбить земной музей. Мартышкам это не нравится, хотя лоаризм и отвратительно богат, клянусь Вегой. Людишек, конечно, призвали к порядку, но солдат-то мертв. В любом случае Пират Фор не знает, что по средам Мемориал пуст. И это незнание обойдется ему в круглую сумму.
— Пятьдесят кредиток за минуту. Семь минут уже прошло.
— Триста пятьдесят кредиток. Садись. Сыграем в картишки, а наши денежки пусть накапливаются.
Трег Бан Сола достал из подсумка потрепанную колоду карт, которые, будучи типично и несомненно ласинукскими, носили тем не менее безошибочные следы земного происхождения.
— Поставь лампу на стол, я сяду между ней и окном, — повелительно распорядился он, одновременно сдавая карты. — Ха! Ручаюсь, ни одному ласинуку ещё не приходилось играть в таком месте. Что ж, удовольствие от игры только усилится.
Кор Вен Хаста уселся, но тотчас же вскочил:
— Ты ничего не слышал?
Он вгляделся в тень по ту сторону приоткрытой двери.
— Нет. — Бан Сола нахмурился, продолжая сдавать. — Ты, случаем, не боишься, а?
— Нет, конечно. Но, знаешь, если они застукают нас в этой проклятой башне, то удовольствия будет мало. Бан Сола кончил сдавать.
— Знаешь, — заметил Вен Хаста, внимательно изучая свои карты, — будет не слишком приятно, если об этом пронюхает вице-король. Могу представить, как из политических соображений ему придется извиняться перед лоаристскими вожаками. Тогда опять на Сириус, где я служил до того, как меня перевели сюда. И все из-за этих подонков…
— Верно, подонков, — поддержал его Бан Сола. — Плодятся, как мухи, и бросаются друг на друга, словно свихнувшиеся быки. Взгляни только на этих тварей! — Он бросил карты рубашкой вверх и рассудительно заговорил: Взгляни на них по-научному и беспристрастно. Что они такое? Всего лишь млекопитающие, каким-то образом научившиеся думать. Всего-навсего млекопитающие! И ничего больше.
— Знаю. Ты уже побывал хоть на одном из человеческих миров?
Бан Сола ухмыльнулся:
— Побываю, и очень скоро.
— В отпуск поедешь? — Вен Хаста выразил вежливое изумление.
— В отпуск, клянусь чешуей. На своем кораблике! И под пальбу пушек!
— Ты о чем?
Глаза Вен Хасты неожиданно засверкали. Его товарищ таинственно осклабился:
— Считается, что Об этом не должны знать даже мы, офицеры. Но ты же знаешь, как просачиваются новости. Вен Хаста кивнул:
— В курсе.
Оба невольно заговорили шепотом.
— Ладно. Ко Второму нашествию все готово. Оно может начаться с минуты на минуту.
— Не может быть!
— Факт! Мы начнем прямо отсюда. Клянусь Вегой, во дворце вице-короля ни о чем больше не шепчутся. Некоторые офицеры даже затеяли тотализатор насчет точной даты первого выступления. Я сам поставил сотню кредиток из расчета двадцать к одному. Мне, правда, досталась ближайшая неделя. Можешь тоже вложить сотню из расчета пятьдесят к одному, если у тебя хватит нервов выбрать нужный день.
— Но почему отсюда, с этих задворок галактики.
— Стратегия разработана на родине. — Бан Сола подался вперед. — В настоящий момент мы оказались лицом к лицу с несколькими серьезными противниками, которые беспомощны и пока разобщены. Если нам удастся сохранить такое положение, мы легко раздавим их поодиночке. При обычных условиях человеческие миры скорее перегрызут друг другу глотку, чем подадут соседу руку помощи.
Вен Хаста кивнул.
— Вот вам типичное поведение млекопитающих. Эволюция, должно быть, здорово веселилась, когда наградила обезьян мозгом.
— Но Земля имеет особое значение. Она — центр лоаризма, поскольку именно здесь зародилось человечество. Она — аналог нашей Системы Веги.
— Ты в самом деле так думаешь? Да не может того быть! Чтобы в этом крохотном, затерянном мирке…
— Так они утверждают. Сам я здесь недавно, поэтому не знаю. Но как бы там ни было, уничтожив Землю, мы уничтожим лоаризм. Историки утверждают, что именно лоаризм смог сплотить земные миры против нас в конце Первого нашествия. Не станет лоаризма — исчезнет последняя опасность объединения врагов. Наша победа значительно упростится.
— Дьявольски ловко! И что нам предстоит сделать?
— Значит, так: говорят, что все люди будут высланы с Земли и расселены по разным покоренным мирам. После этого мы сотрем с лица Земли все, что ещё попахивает млекопитающими, и превратим её полностью в ласинукский мир.
— И когда?
— Пока неизвестно, потому и организовали тотализатор. Но никто не заключает пари на срок более двух лет.
— Слава Веге! Ставлю два к одному, что изрешечу земной крейсер раньше тебя, когда придет время.
— Согласен! — воскликнул Бан Сола. — Ставлю пятьдесят кредиток.
Поднявшись, они обменялись рукопожатием в знак заключения сделки; Вен Хаста бросил взгляд на часы:
— Еще минутка — и нам нащелкает тысячу кредиток. Бедняга Пират Фор! А теперь пошли, ждать дальше уже вымогательство.
Послышался негромкий смех, два ласинука направились к выходу, сопровождаемые шелестом длинных плащей. Они не обратили внимания на чуть более густую тень, прильнувшую к стене на верхней площадке лестницы, хотя едва не задели её, проходя мимо, и не ощутили взгляда горящих глаз, когда начали бесшумно спускаться.
С облегчением всхлипнув, лоара Броос Порин резко вскочил на ноги, когда увидел, что Филип Санат, спотыкаясь, бредет по залу в его сторону. Он нетерпеливо подбежал к нему и схватил за руки:
— Где ты так задержался, Филип? Ты и представить не можешь, какие дикие мысли теснились в моей голове последний час.
Потребовалось некоторое время, чтобы лоара Броос успокоился и смог заметить дрожащие руки своего спутника, его взъерошенные волосы и лихорадочно блестящие глаза; тотчас же все его страхи вернулись.
Он испуганно наблюдал за Санатом и с трудом заставил себя задать вопрос, уже заранее опасаясь ответа. Но Саната не нужно было подталкивать. Коротко, отрывистыми фразами он передал подслушанный разговор, и после его рассказа установилось молчание безнадежности.
Бледный как смерть лоара Броос дважды пытался заговорить, но смог выдавить из себя лишь несколько хриплых звуков. Наконец ему удалось сказать:
— Но это же смерть лоаризма! Что мы можем сделать? Филип Санат рассмеялся: так смеются те, кто наконец-то убеждается, что им не остается ничего, кроме смеха.
— Что мы можем сделать? Можно сообщить Всемирному совету. Но вы прекрасно знаете, насколько он беспомощен. Можем связаться с отдельными правительствами людей. Воображаю, насколько эффективными окажутся действия этих грызущихся между собой болванов.
— Все это не может быть правдой! Такого просто не может быть!
Несколько секунд Санат молчал, потом срывающимся от возбуждения шепотом произнес:
— Я этого не допущу! Слышите? Я остановлю их! Нетрудно было заметить, что он полностью потерял контроль над собой, попав во власть своих необузданных эмоций;
Крупные капли пота выступили на лбу Порина, он обхватил Саната за талию:
— Сядь, Филип, посиди! Ты себя плохо чувствуешь?
— Нет!
Он оттолкнул Порина, от движения воздуха Вечный огонь яростно затрепетал.
— Со мной все в порядке. Время идеализма, компромиссов, подхалимажа кончилось! Настало время силы! Нам выпал жребий сражаться, и, клянусь Космосом, мы победим!
И он стремительно выбежал из помещения.
Прихрамывая, Порин поспешил за ним:
— Филип, Филип!
Он остановился в дверном проеме, сраженный отчаянием. Идти дальше он не имел права. Пусть рухнут небеса, но кто-то должен охранять Вечный огонь.
Но… но на что рассчитывал Филип Санат? В измученном мозгу Порина возникли видения той самой ночи, когда пять веков назад легкомысленные слова, драка и стрельба разожгли над Землей пожар, который был потушен лишь человеческой кровью.
Лоара Пол Кейн проводил ночь в одиночестве. Внутренние помещения были пусты, неяркая, голубоватая лампа на простом строгом столе была единственным источником света в комнате. Сухощавое лицо Кейна было залито призрачным светом, подбородок покоился на сложенных руках.
Внезапно его размышления были прерваны: с грохотом распахнулась дверь, и взъерошенный Рассел Тимбалл, стряхнув с себя полдюжины слуг, пытавшихся остановить его, ворвался в комнату. Кейн испуганно схватился рукой за горло; глаза его расширились, на лице отразилось смятение.
Тимбалл успокаивающе поднял руку.
— Все в порядке. Дайте мне только перевести дух. — Он с трудом отдышался, осторожно опустился в кресло и только тогда продолжил: — Ваш катализатор случайно подвернулся мне, лоара Пол… и знаете где? Здесь, на Земле! Здесь, в Нью-Йорке! В полумиле отсюда!
Лоара Пол Кейн, сощурившись, посмотрел на Тимбалла.
— Вы с ума сошли?
— Вовсе нет. Я все расскажу, только не сочтите за труд, зажгите ещё пару ламп. В этом голубом освещении вы похожи на привидение.
Комната озарилась сиянием атомных светильников, и Тимбалл начал, рассказ:
— Мы с Ферни возвращались с собрания. И как раз проходили мимо Мемориала, когда это произошло. Надо возблагодарить провидение, что случай привел нас именно туда и в нужное время.
Когда мы проходили мимо, из бокового входа выскочил человек, прыгнул на мраморные ступени центральной лестницы и закричал: «Люди Земли!» Все повернулись и уставились на него, а вы знаете, сколько народу бывает в секторе Мемориала в одиннадцать часов. Не прошло и двух секунд, как он собрал вокруг себя толпу.
— Кто был этот оратор, и что он делал в Мемориале? Ведь сегодня ночь среды, вы же знаете.
— Ну… — Тимбалл замолчал, соображая. — Хорошо, что вы напомнили, получается, он — один из двух Хранителей. И он лоарист — тунику вашу ни с чем не спутаешь. И, вдобавок, он не с Земли!
— Носит желтую орбиту?
— Нет.
— Тогда я знаю его. Это молодой приятель Порина. Продолжайте.
— Он, значит, стоит, — Тимбалл воодушевился собственным рассказом, стоит футах в двадцати над улицей. Вы даже представить себе не можете, как эффектно он выглядел в свете люкситов, озарявших лицо. Внушительное впечатление, но не то, что производят всякие мускулистые атлеты. Он скорее аскет, если вы понимаете, о чем я. Бледное, худощавое лицо, сверкающие глаза, длинные каштановые волосы.
И тут он заговорил! Описать это невозможно; чтобы понять — необходимо слышать самому. Он начал говорить толпе о замыслах ласинуков, да так, что меня в дрожь кинуло. Очевидно, он узнал об этом из надежного источника, так как оказался знаком с деталями… О них он и говорил! Звучало это правдиво и страшно. Даже я стоял, синий от страха, и слушал его, а толпа… уже на второй фразе была покорена. Каждому из них все уши прожужжали о ласинукской опасности, но тут они впервые к этому прислушались.
Он стал поносить ласинуков. Их зверства, их вероломство, их преступления — только он смог найти слова, которые окунули каждого из толпы в грязь, померзостнее венерианских океанов. Каждый раз толпа отвечала на его призывы ревом. «Позволим ли мы продолжаться этому?» — вопрошал он. «Никогда!» — вопила толпа. «Можем ли мы смириться?» — «Нет!» «Будем ли мы сопротивляться?» — «До самого конца!» «Долой ласинуков!» — бросал он. «Бей их!» — выла толпа.
И я вопил так же громко, как и все остальные, совсем позабыв собственное «я»;
Не знаю, как долго это продолжалось. Вскоре неподалеку появились ласинукские патрули. Толпа двинулась на них, подстрекаемая лоаристом. Вы когда-нибудь слышали, как воет толпа, жаждущая крови? Нет? Это самый ужасный звук в мире. Патрульные тоже испугались, поскольку с первого взгляда поняли, что с ними будет, и пустились наутек. Толпа тем временем выросла до нескольких тысяч.
Не прошло и двух минут, как завыли сирены — впервые за сотни лет. Тут я пришел в себя и пробился к лоаристу, который ни на мгновение не прерывал своей проповеди. Нельзя было позволить ему оказаться в лапах ласинуков.
Потом началась сплошная неразбериха. На нас бросили эскадрон моторизованной полиции, но мы с Ферни ухитрились улизнуть, прихватив с собой лоариста, и доставили его сюда. Сейчас он в наружном помещении, связанный и с кляпом во рту, чтобы вел себя тихо.
На протяжении всего рассказа Кейн нервно расхаживал по комнате, то и дело останавливаясь, слушая со все возрастающим вниманием. Крохотные капельки крови выступили на его нижней губе.
— Вы не думаете, — спросил он, — что мятеж может выйти из-под нашего контроля? Преждевременная вспышка… Тимбалл энергично замотал головой:
— Их уже разогнали. Стоило молодому человеку исчезнуть, как толпа утратила весь пыл.
— Убитых и раненых будет много, но… Ладно, пригласите своего юного смутьяна.
Кейн уселся за стол, придав лицу видимость спокойствия. Филип Санат выглядел не лучшим образом, когда преклонил колени перед первосвященником. Его туника превратилась в лохмотья, лицо было разукрашено ссадинами и синяками, но пламя решимости по-прежнему полыхало в неистовых глазах. Рассел Тимбалл глядел на него, затаив дыхание, словно все ещё ощущал действие магии предыдущего часа.
Кейн ласково протянул руку:
— Я уже наслышан о твоей дикой выходке, мой мальчик. Что так сильно на тебя подействовало, что заставило тебя очертя голову ринуться в бой? Это вполне могло стоить тебе жизни, не говоря уже о жизнях тысяч других людей.
Во второй раз за этот вечер Санату пришлось пересказать беседу, которую он подслушал, — драматически и с мельчайшими подробностями.
— Так-так, — произнес Кейн, недобро усмехнувшись, — и ты подумал, что мы ничего об этом не знаем? Мы давным-давно подготовились отразить эту угрозу, а ты был близок к тому, чтобы разбить все наши тщательные приготовления. Своим преждевременным вмешательством ты мог нанести непоправимый вред нашему делу.
Филип Санат залился краской.
— Простите мне мой глупый энтузиазм…
— Вот именно! — воскликнул Кейн. — Однако при должном руководстве ты способен оказать нам серьезную помощь. Твой ораторский дар и юношеский пыл могут творить чудеса при умелом использовании. Согласен ли ты посвятить себя нашему делу?
Глаза Саната сверкнули.
— Разве надо ещё спрашивать?
Лоара Пол Кейн улыбнулся и украдкой бросил торжествующий взгляд на Рассела Тимбалла.
— Вот и отлично. Через два дня ты отправишься к другим звездам. Тебя будут сопровождать мои люди. Сейчас ты устал, и тебе надо отдохнуть. Выспись хорошенько, так как в дальнейшем тебе потребуются все твой силы.
— Но… но лоара Броос Порин… мой напарник у Вечного огня?
— Я сейчас же направлю посыльного в Мемориал. Он сообщит лоаре Броосу, что ты в безопасности, и останется в качестве второго Хранителя до исхода ночи. Можешь не волноваться! Иди!
Санат поднялся, успокоенный и безгранично счастливый, но тут Тимбалл сорвался с места и конвульсивным движением схватил пожилого лоариста за запястье:
— Великий Космос! Да послушайте же! Резкий, пронзительный вой, донесшийся снаружи, объяснил им все. Лицо Кейна разом осунулось.
— Военное положение! — Губы Тимбалла побелели от ярости. — Мы проиграли. Они воспользовались сегодняшними беспорядками, чтобы первыми нанести удар. Они ищут Саната, и они до него доберутся. Мышь не проскочит через их кордоны.
— Но они его не получат! — Глаза Кейна сверкали. — Мы отведем его в Мемориал по туннелю. Осквернить Мемориал они не посмеют!
— Уже посмели! — пылко выкрикнул Санат. — Нам ли прятаться от ящериц! Мы будем сражаться!
— Спокойно, — прервал его Кейн. — Молча следуйте за мной.
Стенная панель сдвинулась в сторону. Кейн исчез в проеме. Когда панель бесшумно вернулась на место, оставив их в холодном свете переносной атомолампы, Тимбалл пробормотал:
— Если они все заранее подготовили, даже Мемориал не послужит нам защитой.
Нью-Йорк лихорадило. Ласинукский гарнизон был приведен в полную боевую готовность и переведен на осадное положение. Никто не мог, проникнуть в город. Никто не мог покинуть его. По главным улицам разъезжали патрульные армейские машины, над головами проносились военные стратопланы.
Человеческая масса бурлила без отдыха. Горожане просачивались на улицы, собирались небольшими кучками, рассыпавшимися при приближении ласинуков. Колдовские слова Саната не забылись, тут и там люди повторяли их яростным шепотом.
Атмосфера, казалось, потрескивала от напряжения.
Вице-король Земли понимал это; он сидел за столом во дворце, вознесшем свои шпили на Высотах Вашингтона, и смотрел из окна на Гудзон, темной лентой тянувшийся внизу. Наконец он обратился к замершему перед, ним ласинуку в форме:
— Это должна быть решительная акция, капитан. Тут вы правы. И все же, если возможно, прямого разрыва отношений следует избегать. У нас катастрофически не хватает экипажей, и на всей планете наберется не более пяти кораблей третьего класса.
— Не наша сила, а страх делают землян беспомощными, ваше превосходительство. Их дух окончательно сломлен. Толпа рассеивается при одном появлении отряда гвардейцев. Именно исходя из этих соображений мы и должны нанести удар немедленно. Люди начали поднимать голову, они должны сразу же отведать хлыста. Второе нашествие может с полным успехом начаться и сегодняшней ночью.
— Согласен. — Вице-король криво улыбнулся. — Мы поймали разную мелкую рыбку, но… хм-м… наказание этого подстрекателя черни должно послужить хорошим уроком. Он, не сомневаюсь, в ваших руках.
Капитан злобно усмехнулся:
— Нет. У земной собаки влиятельные дружки. Он — лоарист, и Кейн…
— И Кейн пошел против нас? — В глазах вице-короля сверкнули красноватые огоньки. — Глупая затея! Солдаты арестуют бунтовщиков, несмотря на него, и его тоже, если он вздумает протестовать.
— Ваше превосходительство! — В голосе капитана зазвенел металл. — У нас есть основания предполагать, что мятежник укрылся в Мемориале.
Вице-король приподнялся, нахмурился и опять нерешительно опустился в кресло.
— Мемориал! Это меняет дело!
— Необязательно!
— Это одна из тех вещей, после которых землян будет не остановить. — В голосе вице-короля звучала неуверенность.
— Смелость города берет, — решительно возразил капитан. — Быстрая атака… ведь преступника можно захватить и в самом зале Вечного огня… И одним ударом мы расправимся с лоаризмом. После столь решительного вызова необходимость в борьбе может и совсем отпасть.
— Клянусь Вегой! Чтоб я сгорел, если вы не правы. Отлично! Беремся за Мемориал!
Капитан отдал уставной поклон, резко повернулся и покинул дворец.
Филип Санат вернулся в зал Вечного огня, худощавое лицо его дышало яростью.
— Сектор целиком патрулируется ящерицами. Все улицы, ведущие к Мемориалу, перекрыты. Рассел Тимбалл заскрежетал зубами:
— Что ж, они не дураки. — Загнали нас в тупик, и Мемориал их не остановит. По сути дела они могут решить начать операцию уже сегодня.
Филип нахмурился, его голос зазвенел от злости.
— А мы будем их здесь поджидать, да? Лучше погибнуть сражаясь, чем сдохнуть скрываясь.
— Лучше остаться живым, Филип, — спокойно ответил Тимбалл.
Мгновение все молчали. Лоара Пол Кейн разглядывал собственные пальцы. Наконец он произнес:
— Если сейчас же начать восстание, Тимбалл, как долго вы сможете продержаться?
— Пока ласинукские подкрепления не прибудут в достаточном количестве, чтобы нас сломить. Чтобы разбить нас, земного гарнизона, даже включая весь Солнечный патруль, будет недостаточно. Без помощи извне мы сможем эффективно сражаться, по меньшей мере, шесть месяцев. К сожалению, вопрос об этом не стоит.
Его спокойствие казалось непоколебимым.
— Почему же не стоит?
Лицо Тимбалла стремительно налилось краской, и он вскочил на ноги.
— Потому что восстание — это не просто нажатие кнопки. Ласинуки слабы. Мои люди знают об этом, но остальные земляне — нет. Ящерицы владеют непобедимым оружием — страхом. И нам не одолеть их, пока народ не переборет своего ужаса перед пришельцами. — Его губы скривились. — Вы просто не знакомы со всеми практическими сложностями. Десять лет я потратил на планирование, подготовку, объединение. Я располагаю армией и приличным флотом, укрытыми в Аппалачах. Я могу привести в движение отряды на всех пяти континентах одновременно. Но что толку? Все бесполезно. Если бы я смог захватить Нью-Йорк… если бы смог доказать остальным землянам, что ласинуков можно победить…
— А если я сумею изгнать страх из человеческих сердец? — мягко спросил Кейн.
— Тогда Нью-Йорк станет моим ещё до рассвета. Но для этого потребуется чудо.
— Возможно! Вы сможете пробраться сквозь кордон и оповестить своих людей?
— Смогу, если понадобится. Но вы-то что задумали?
— Узнаете в свое время. — Кейн лучезарно улыбнулся. — И как только это произойдет — выступайте!
Тимбалл отступил назад, и в его руке внезапно оказался тонит. Его полное лицо теперь вряд ли можно было назвать добродушным.
— Я воспользуюсь этим шансом, Кейн. Удачи!
Капитан с надменным видом поднимался по опустевшим ступеням Мемориала. С обеих сторон его прикрывали вооруженные адъютанты.
Он задержался на мгновение перед огромной двустворчатой дверью. Бросил взгляд на стройные колонны, грациозно взмывающие ввысь по обе её стороны. В его улыбке ощущался робкий сарказм.
— А ведь впечатляет… все это… верно?
— Так точно, капитан, — последовал моментальный ответ в два голоса.
— И таинственно темно вдобавок, если не считать слабого желтого отблеска от этого их Вечного огня. Видите?
Он указал на цветные витражи окон, озаренные изнутри мерцающим светом.
— Так точно, капитан!
— Сейчас здесь темно, таинственно, впечатляюще… и все это будет лежать в руинах.
Он рассмеялся и рукоятью сабли застучал по металлическим узорам дверей. Резкий звук эхом прокатился по внутренним помещениям, но ответа не последовало.
Стоявший слева адъютант поднес к уху коммуникатор, вслушиваясь в доносящийся из него тихий голос, потом доложил, отдав честь:
— Капитан, людишки скапливаются в секторе. Капитан усмехнулся:
— Пусть! Прикажи, чтобы держали оружие наготове и стреляли вдоль проспекта, но только по моему приказу. Если хоть одна мартышка попробует пересечь границу, убивать без жалости.
Его лающая команда была повторена через телекоммуникатор, и в сотне ярдов позади них ласинукские гвардейцы, выполняя распоряжение, вскинули оружие, внимательно наблюдая за проспектом. Ответом им было низкое, зарождающееся ворчание — ворчание страха. Толпа подалась назад.
— Если дверь не откроют, — зло произнес капитан, — её придется высадить.
Он снова поднял саблю, опять разнесся грохот металла о металл.
Медленно, беззвучно створки двери широко разошлись, и капитан увидел суровую, облаченную в пурпур фигуру.
— Кто смеет нарушить покой Мемориала в ночь Хранителей огня? торжественно вопросил лоара Пол Кейн.
— Весьма драматично, Кейн. Отойди в сторону!
— Назад! — Слова звучали звонко и отчетливо. — Ласинукам запрещено приближаться к Мемориалу.
— Выдайте нам преступника, и мы уйдем. Станете его покрывать — мы возьмем его силой.
— Мемориал не выдает преступников. Это незыблемый закон. Можете даже и не пытаться.
— Прочь с дороги!
— Ни с места!
Ласинук раздраженно рыкнул, но тут же понял, что это бессмысленно. Улица вокруг была пуста, только в квартале от Мемориала вытянулась цепь солдат с оружием на изготовку, а дальше — земляне. Они сбились в плотную, шумящую толпу, в свете атомоламп виднелись бледные лица.
— Что, — проскрипел сам себе капитан, — этот подонок ещё огрызается?
Жесткая шкура натянулась на челюстях, чешуя на черепе встопорщилась. Он повернулся к адъютанту с коммуникатором:
— Прикажи дать залп над их головами!
Ночь раскололась надвое пурпурными выплесками энергии. В наставшей тишине ласинук громко расхохотался. Затем он повернулся к Кейну:
— Если ты рассчитывал на помощь этих людишек, то ты ошибся. Следующий залп будет на уровне голов. Если думаешь, что это блеф — проверь! — Челюсти ящера отрывисто щелкнули: — Прочь с дороги!
Тонит в руке капитана нацелился на Кейна, палец застыл на курке.
Лоара Пол Кейн медленно отступил, не спуская глаз с оружия. Капитан двинулся вперед. Но стоило ему сделать шаг, как внутренняя дверь распахнулась, открыв проход в зал Вечного огня. От притока воздуха огонь задрожал; толпа в отдалении, увидев это, разразилась неистовыми воплями.
Кейн повернулся к огню, возведя очи горе. Движение его руки было быстрым и незаметным.
И мгновенно Вечный огонь переменился. Он успокоился, а затем с ревом взметнулся к потолку слепящей пятидесятифутовой колонной. Рука лоариста шевельнулась вновь, и, отвечая её движению, цвет огня изменился, став карминовым. Окраска становилась все глубже, малиновый цвет огненного столба растекся по городу, превратив окна Мемориала в кровавые глаза.
Мучительно текли секунды, капитан оцепенел от растерянности, людские толпы погрузились в благоговейное молчание.
Потом побежал растерянный шепоток, крепнущий, растущий, сливающийся в один короткий призыв:
— Долой ласинуков!!!
Откуда-то сверху пурпуром сверкнул тонит, и капитан очнулся. Но опоздал на миг: удар пришелся точно по нему, и он медленно согнулся, умирая. На холодном лице рептилии застыло презрение.
Рассел Тимбалл опустил тонит и хищно усмехнулся:
— Отличная цель на фоне огня. Слава Кейну! Его выдумка подхлестнет эмоции; а нам только того и надо. Продолжим!
И с прекрасной позиции на крыше дома лоары Кейна он выстрелил по стоявшему внизу ласинуку. В тот же миг словно сам ад выплеснулся наружу. Ниоткуда, будто прямо из-под земли, вырастали, как грибы сквозь асфальт, вооруженные люди. Их тониты засверкали со всех сторон раньше, чем испуганные ласинуки успели прибегнуть к своим.
Они пришли в себя слишком поздно. Кто-то крикнул:
«Бей гадов!»; одинокий возглас был подхвачен и мгновенно тысячегласным ревом вознесся к небесам. Безоружная толпа, пьянея от собственной ярости, многоглавым чудовищем ринулась на ласинуков. Те не дрогнули: их оружие косило людей сотнями. Но тысячи, десятки тысяч бежали вперед по телам павших, собственными телами закрывая изрыгающие пламя стволы, сокрушая ряды ласинуков, дробя кости.
Сектор Мемориала был залит кровавым отсветом малинового пламени, стоны умирающих и яростные вопли победителей слились в сплошной гул.
Это была первая битва великого восстания. По всему городу, от оконечности Лонг-Айленда до Джерсийских равнин, ласинуков ждала смерть. С той же быстротой, с какой приказы Тимбалла достигали снайперов подполья, заставляя их браться за оружие, слухи о чудесном превращении огня, передаваемые из уст в уста, заставляли нью-йоркцев поднимать головы и бросать свои жизни в единый гигантский тигель, именуемый «толпа».
События развивались неуправляемо, безответственно, стихийно. С самого начала любые попытки тимбаллистов взять ситуацию под контроль оказались тщетными.
Подобно могучей реке толпа разлилась по городу, и там, где она проносилась, живых ласинуков остаться не могло.
— Солнце, взошедшее в то роковое утро, обнаружило повелителей Земли удерживающими сжимающийся круг в верхней части Манхэттена. С хладнокровием прирожденных воинов они сцепили руки и противостояли напирающим, вопящим миллионам. Но и они медленно отступали. Каждое здание ласинуки отдавали с боем, каждый квартал — после отчаянного сражения. Их раскалывали на изолированные группы, удерживавшие сначала здания, потом верхние их этажи, наконец одни только крыши.
К вечеру, когда солнце уже садилось, оборонялся лишь дворец. Его отчаянная зашита остановила натиск землян. Сжавшееся огненное кольцо оставило за собой мостовые, устланные почерневшими телами. Вице-король лично руководил обороной из своего зала, собственными руками наводил полупереносную установку.
И тогда, поняв, что толпа начала выдыхаться, Тимбалл воспользовался удобным случаем и принял командование на себя. Тяжелые орудия с лязгом двинулись вперед. Ядерные и дельталучевые установки, доставленные из арсеналов восставших, нацелили смертоносные стволы на дворец. Теперь орудиям отвечали орудия. И первая управляемая битва механизмов разгорелась во всей своей неудержимой ярости. Тимбалл был вездесущ: командовал, перебегая от одного орудийного расчета к другому, демонстративно стрелял из своего ручного тонита по дворцу.
Под прикрытием плотного огня люди перешли в наступление и закрепились на стенах. Атомные снаряды проложили им дорогу в центральную башню, где бушевало теперь адское пламя.
Этот пожар стал погребальным костром последних ласинуков Нью-Йорка. С невероятным грохотом обуглившиеся стены дворца обваливались, но за минуту до этого вице-король с чудовищно израненным лицом все ещё был на посту, целясь в плотные скопления осаждающих. Когда его переносная установка выплюнула последнюю порцию энергии и умолкла, он вышвырнул её в окно отчаянным и бесполезным жестом презрения, а сам исчез в пылающем аду.
Сумерки опустились на дворец, и подсвеченный заревом дальних пожарищ затрепетал над развалинами зеленый флаг независимой Земли. Нью-Йорк снова принадлежал людям.
Рассел Тимбалл. вновь появившийся той ночью в Мемориале, являл собой жалкое зрелище. В разодранной одежде, в крови с головы до пят, он тем не менее с довольным видом обводил взглядом видневшиеся вокруг следы бойни.
Наскоро собранные из добровольцев похоронные команды и санитарные отряды успели лишь прикоснуться к смертоносному делу восстания.
Мемориал превратился в импровизированный госпиталь. Пациентов было немного. Энергетическое оружие в большинстве случаев разит насмерть, а большинство раненых вскоре должны были умереть, не получив облегчения. Беспорядок вокруг стоял невообразимый, агонические стоны были пугающе созвучны отдаленным крикам опьяненных победой уцелевших.
Лоара Пол Кейн пробился сквозь толпу к Тимбаллу:
— Скажите, все кончено?
— Начало положено. Земной флаг реет над развалинами дворца.
— Это был кошмар! Этот день… он… — Лоара Кейн содрогнулся и зажмурился. — Если бы я знал заранее, то, наверное, предпочел бы Землю без людей и гибель лоаризма.
— Да, получилось скверно. Но результат мог быть куплен и более дорогой ценой. Так что победа досталась нам ещё дешево. Где Санат?
— Во дворе… помогает раненым. Мы все там. Это… это… Его голос опять прервался. В глазах Тимбалла появилось раздражение, он нетерпеливо пожал плечами:
— Я — не бессердечное чудовище, но это необходимо пережить, к тому же это лишь начало. Сегодняшние события мало что значат. Восстание охватило большую часть Земли, но в других местах отсутствует фанатичный энтузиазм жителей Нью-Йорка. Ласинуки ещё не разбиты или, точнее, ещё не везде разбиты до конца, тут не следует заблуждаться. Сейчас Солнечная гвардия уже движется к Земле, начинается мобилизация сил на внешних планетах. А скоро вся Ласинукская империя нацелится на Землю. Счеты будут сводиться безжалостно и только кровью. Нам необходима помощь! — Он схватил Кейна за плечи и резко встряхнул. — Вы меня поняли? Нам нужна помощь! Даже здесь, в Нью-Йорке, первый восторг победы завтра пройдет. Нам необходима помощь!
— Знаю, — устало произнес Кейн. — Я уже говорил с Сенатом, он готов отправиться сегодня. — Он вздохнул: — Если сегодняшние события могут служить единственным мерилом его силы как катализатора, то нам следует ожидать великих свершений.
Полчаса спустя Санат забрался в небольшой двухместный крейсер и занял кресло штурмана рядом с Петри. Прощаясь, он протянул руку Кейну.
— Когда я вернусь, следом за мной придет флот.
Кейн крепко пожал руку молодого человека:
— Мы рассчитываем на тебя, Филип. — Он сделал паузу, потом мягко закончил: — Желаю удачи, лоара Филип Санат!
Санат вспыхнул от удовольствия и заерзал в кресле. Петри помахал рукой, и Тимбалл прокричал вслед:
— Остерегайтесь гвардейцев!
Люк с лязгом закрылся, и вскоре мини-крейсер с кашляющим ревом вознесся в небеса.
Тимбалл следил за ним, пока корабль не превратился в точку и совсем не исчез, потом повернулся к Кейну:
— Теперь все в руках провидения. Да, Кейн, как, кстати, действует эта штуковина, изменяющая огонь? Только не говорите, что все произошло само по себе.
Кейн медленно покачал головой:
— Нет! Карминовая вспышка — результат действия пакета с солями стронция. Он был приготовлен на всякий случай, чтобы произвести впечатление на ласинуков. Да и остальное — дело химии.
Тимбалл мрачно хохотнул:
— А вы говорили, что главное — психология масс! Кстати, на ласинуков это произвело впечатление, могу поклясться… да ещё какое!
В пространстве не было ничего настораживающего, но масс-детектор загудел. Гудок был настойчив и повелителен. Петри напрягся в кресле и сказал:
— Мы вне метеоритных зон.
Филип Санат подавил вздох, когда его спутник потянулся к рукоятке, приводящей во вращение маховик. Звездное пространство на экране визора начало перемещаться с медлительной важностью, и тут-то они его увидели.
Он блеснул на солнце, точно половинка маленького оранжевого футбольного мяча, и Петри проворчал:
— Если они нас заметили, нам конец.
— Ласинукский корабль?
— Корабль? Это боевой крейсер в пятьдесят тысяч тонн. Что он, во имя Галактики, здесь делает, понятия не имею. Тимбалл считал, что корабли Солнечной гвардии движутся к Земле.
Голос Саната прозвучал спокойно:
— Только не этот. Мы можем оторваться от него?
— Пустая затея. — Пальцы Петри побелели, сжимая рукоятку акселератора. — Он слишком близко.
Его слова словно послужили сигналом. Стрелка аудиометра закачалась, и зазвучал хриплый ласинукский голос, начав с шепота и перейдя в рев, когда луч сфокусировался:
— Включить тормозные двигатели! Приготовиться к принятию на борт!
Петри оторвался от пульта и быстро — глянул на Саната:
— Я просто извозчик. Вам решать. Шансов у нас, что у метеорита против Солнца, но если вы решитесь рискнуть…
— Рискнем, — просто согласился Санат. — Ведь не капитулировать же нам, верно?
Его спутник ухмыльнулся, когда сработали тормозные ракеты.
— Для лоариста неплохо! Из стационарного тонита стрелять приходилось?
— Никогда не пробовал.
— Ладно, учиться придется теперь. Беритесь вот за этот штурвальчик и глядите на экран маленького визора над ним. Что-нибудь видите?
Скорость упала почти до нулевой, вражеский корабль надвигался.
— Одни звезды!
— Отлично, поворачивайте колесико… вперед, ещё дальше. Попробуйте в другую сторону. Теперь видите корабль?
— Да! Вот он!
— Порядок. Теперь вводите его в центр, в перекрестие. Солнцем заклинаю, не выпускайте его оттуда. Теперь я попробую незаметно развернуться к этим подонкам ящерам, — сказал Петри, одновременно включая боковые двигатели. — Держите его в перекрестии.
Ласинукский корабль медленно приближался, голос Петри упал до напряженного шепота:
— Я сниму защитный экран и двинусь прямо на врага. Если нам повезет, то они снимут свою защиту, чтобы выстрелить, и есть шанс, что в спешке промахнутся.
Санат молча кивнул.
— Как увидите пурпурную вспышку тонита, в ту же секунду рвите штурвал на себя. Если хоть на мгновение замешкаетесь, то уже навсегда. — Петри пожал плечами. — Риск есть риск! — Он резко двинул рукоять акселератора вперед и рявкнул: — Не упускайте его!
Ускорение с силой вдавило Саната в кресло, штурвал во вспотевших руках вращался неохотно. Оранжевый футбольный мяч раскачивался в центре экрана. Санат чувствовал, что руки дрожат, но ничего не мог поделать. Глаза слезились от напряжения.
Ласинукский корабль увеличился уже до чудовищных размеров, и вдруг из его носа метнулся в направлении мини-крейсера пурпурный клинок. Санат зажмурился и рванул штурвал.
Да так и остался сидеть, зажмурившись и ожидая чего-то. Услышав хохот Петри, он раскрыл глаза и вопросительно посмотрел на того.
— Везет же новичкам, — выговорил пилот сквозь смех. — Ни разу в жизни не брался за оружие, а тут, как я вижу, сбил тяжелый крейсер.
— Я его взорвал? — выдавил из себя Санат.
— Не совсем, но из строя вывел. Нам этого достаточно. А теперь уберемся Подальше от Солнца и уйдем в гиперпространство.
Высокий, облаченный в пурпур человек стоял у центрального иллюминатора, пристально разглядывая молчаливую планету. То была Земля огромная и восхитительная.
Возможно, мысли человека лишь ненамного омрачились бы, примись он вспоминать все случившееся за шесть месяцев своего отсутствия. Это началось подобно вспышке сверхновой. Пламенный энтузиазм распространялся, перепрыгивая через звездные бездны с планеты на планету со скоростью гиператомных лучей. Конфликтующие правительства, внезапно притихшие из-за оскорбительного возмущения собственных народов, снарядили флот. Столетние враги заговорили о мире и объединились под зеленым знаменем Земли.
Конечно, надеяться на то, что эта идиллия продлится долго, было бы слишком наивно. Но пока она сохранялась, люди не знали поражений. Один флот сейчас находился всего в двух парсеках от самой Веги, второй захватил Луну и парил в одной световой секунде над Землей, где оборванные повстанцы Тимбалла продолжали упорное сопротивление.
Филип Санат вздохнул и повернулся, услышав чьи-то шаги. Вошел седоволосый Айон Смитт из лактонского контингента.
— По вашему лицу можно читать все новости, — заметил Санат.
— Похоже, все бесполезно, — покачал головой Смитт. Санат опять повернулся к иллюминатору.
— Вы знаете, сегодня было поймано сообщение от Тимбалла? — не оборачиваясь, спросил он. — Они сражаются за каждую пядь земли. Ящеры захватили Буэнос-Айрес, похоже, вся Южная Америка попала под их пяту. Тимбаллисты теряют надежду и возмущаются. Я, кстати, тоже. — Он внезапно обернулся. — Вы говорили, что наши новые таранные корабли обеспечат победу. Тогда почему мы не атакуем?
— По одной простой причине. — Старый солдат оперся, рукой на спинку одного из соседних кресел. — Подкрепления с Сантани не прибыли.
— Я думал, они уже в пути, — удивился Санат. — Что случилось?
— Правительство Сантани решило, что флот необходим ему для защиты собственных территорий. — Смитт сопроводил свои слова кривой усмешкой.
— Значит, собственных территорий? И это когда ласинуки в пятистах парсеках от них? Смитт пожал плечами:
— Оправдание, оно и есть оправдание, ему не обязательно быть осмысленным. Я бы не сказал, что это подлинная причина.
Санат отбросил назад волосы, его пальцы скользнули к желтому солнцу на плече.
— Даже так! Но мы можем сражаться и без них, у нас свыше сотни кораблей. Враг превосходит нас вдвое, но с таранными кораблями, с Лунной базой за спиной, с повстанцами, беспокоящими их с тыла… — Он погрузился в невеселые размышления.
— Вам некого вести в битву, Филип. Эскадры, одолженные Трантором, отошли. — Голос Смитта срывался от бешенства. — Из всего флота я могу положиться только на двенадцать кораблей своего собственного отряда — на лактонцев. Ах, Филип, не знаете вы, какая все это грязь… никогда и не знали. Вы подвигли народы на дело, но правительства вам никогда не убедить. Общественное мнение вынудило их к сотрудничеству, но делать они будут только то, что им выгодно.
— Не могу поверить, Смитт. Сейчас, когда победа у нас в руках?
— Победа? Чья победа? Это именно та кость, из-за которой планеты и грызутся. На секретном совещании наций Сантани потребовала предоставить ей контроль над всеми ласинукскими мирами в секторе Сириуса, — мы ещё ни об одном из них и понятия не имеем — и ей отказали. А-а, вы об этом и не слышали. Разумеется, там решили, что следует позаботиться о безопасности собственного дома, и отозвали свои отряды.
Филип Санат с болью на лице отвернулся, но голос Айона Смитта тяжело, беспощадно рушился на него:
— Тогда-то Трантор и понял, что он ненавидит и опасается Сантани даже больше, чем ласинуков. Так что теперь в любой день можно ожидать со всех планет, населенных людьми, команд своим флотам воздержаться от потерь, поскольку корабли противника возвращаются в свои порты целыми и невредимыми. — Старый воин грохнул кулаком по столу. — Человеческое единство расползается, как истлевшая тряпка. Глупо было мечтать, что эти самовлюбленные идиоты способны надолго объединить усилия, даже ради самых великих целей.
Внезапно глаза Саната сузились.
— Погодите минутку! Все ещё может наладиться, если нам удастся установить контроль над Землей. Земля-ключ ко всей ситуации. — Его пальцы забарабанили по краю стола. — Это доведет народный энтузиазм, сейчас несколько запаздывающий, до точки кипения, и правительства… что ж, они или тоже вознесутся на этой волне, или же их разорвут в клочья.
— Я знаю. Если мы победим сегодня, то, даю слово солдата, завтра мы будем на Земле. Противник тоже понимает это и сражаться не станет.
— Тогда… тогда их придется заставить сражаться. А единственный способ вынудить противника ввязаться в бой-это не оставить ему другого выбора. Сейчас ласинуки увиливают от схватки, так как знают, что могут отступить в любой момент, когда им потребуется, но если…
Внезапно он посмотрел вверх, лицо его раскраснелось от возбуждения.
— Знаете, я уже несколько лет не снимал туники лоариста. Как вы думаете, ваш мундир мне подойдет?
Айон Смитт скосил глаза вниз, пытаясь обнаружить у себя хоть намек на талию, и осклабился:
— Да-а, может, он и не будет сидеть на вас, как влитой, но для маскировки сойдет. Что вы надумали?
— Я объясню. Риск большой, но… Немедленно передайте Лунному гарнизону следующие распоряжения…
Адмирал Солнечной гвардии ласинукского флота, отмеченный шрамами боевой ветеран, больше всего ненавидел две вещи: людей и штатских. Подобное сочетание в виде высокого стройного человека в плохо сидящем мундире заставило его раздраженно насупиться.
Санат пытался вырваться из рук двух ласинукских солдат
— Прикажите им отпустить меня! — выкрикнул он по-вегански. — Я безоружен.
— Говорите, — распорядился по-английски адмирал. — Вашего языка они не знают. — Потом по-ласинукски отдал распоряжение солдатам: стрелять по первому его слову.
Солдаты ослабили хватку…
— Я прибыл обсудить условия перемирия.
— Я так и решил, когда вы вывесили белый флаг. Но вы прибыли на одноместном крейсере, прячась от собственного флота, словно дезертир. Уверен, за весь флот вы говорить не можете.
— Я говорю сам за себя.
— Тогда я уделю вам одну — минуту. Если к концу этого срока я не заинтересуюсь — вас застрелят.
Выражение адмиральского лица сделалось каменным. Санат ещё раз попытался высвободиться, но с обратным результатом: стражники стиснули его ещё сильнее.
— Ваше положение таково, — заговорил землянин, — что вы не можете без серьезных потерь атаковать флот людей до тех пор, пока он контролирует Лунную базу; и вы не можете атаковать Лунную базу, пока в тылу у вас восставшая Земля. В то же время, насколько мне известно, с Веги пришел приказ выбросить людей из Солнечной системы любой ценой и что неудачи императора не порадуют.
— Вы потратили десять секунд впустую, — заметил адмирал, но многозначительные красные пятна появились на его лбу.
— Согласен, — последовал торопливый ответ, — но что вы скажете, если я предложу вам загнать в ловушку весь флот людей?
Молчание. Санат продолжил:
— Что, если я отдам вам Лунную базу и вы сможете окружить силы людей?
— Продолжайте!
Это было первое свидетельство заинтересованности, которое позволил себе проявить адмирал.
— Я командую одной из эскадр и обладаю некоторой властью. Если вы согласитесь на мои условия, то через двенадцать часов персонал базы дезертирует. Двух кораблей, — землянин выразительно выставил два пальца, достаточно, чтобы её захватить.
— Любопытно, — неторопливо произнес адмирал, — но каковы ваши мотивы? По каким соображениям вы на это идете?
— Вас это не заинтересует, — процедил Санат сквозь плотно сжатые зубы. — Со мной плохо обошлись, отстранили от должности. К тому же, — его глаза сверкнули, — земляне все равно проиграли кампанию. Взамен я ожидаю вознаграждения… и немалого. Поклянитесь в этом — и флот ваш.
Адмирал не скрывал презрения.
— Существует старая ласинукская поговорка: люди неизменны только в привычке изменять. Постарайтесь изменить как следует, и я с вами расплачусь. Даю слово ласинукского солдата. Можете вернуться на свой корабль.
Движением руки он отпустил солдат, потом задержал Саната на пороге.
— Но помните, я рискую двумя кораблями. Они немного решают в составе моего флота. Но если хоть одна ласинукская голова падет благодаря людской измене…
Чешуйки на его голове встали торчком, и Санат опустил глаза под холодным взглядом воина.
Оставшись в одиночестве, адмирал долгое время сидел неподвижно. Потом фыркнул:
— Ну и мерзость же эти людишки! Сражаться с ними подобно бесчестью!
Флагман флота Людей дрейфовал в сотне миль от поверхности Луны. Собравшиеся на его борту командиры эскадр сидели за столом и выслушивали резкие обвинения Айона Смитта.
— …И повторяю, ваше поведение равносильно измене. Битва за Вегу разгорается, и если победят ласинуки, то Солнечный флот начнет сражение с преимуществом, которое заставит нас отступить. Если победят люди, то наше преступное промедление здесь оставит их фланги открытыми, а одно это сведет победу на нет. Сколько можно повторять: мы должны победить. С нашими новыми таранными кораблями…
Заговорил синеглазый командующий транторианских частей:
— Таранные корабли раньше никогда не применялись. Мы не можем рисковать, используя в генеральном сражении экспериментальное оружие.
— Ваша точка зрения не оригинальна, Поркут. Вы… да и все остальные просто трусливые предатели. Трусы! Изменники!
Стул отлетел в сторону, когда один из присутствующих в ярости вскочил на ноги, остальные последовали за ним. Лоара Филип Санат, удобно устроившийся у центрального иллюминатора и напряженно наблюдавший за мрачной поверхностью Луны внизу, с тревогой обернулся, но Жем Поркут поднял узловатую руку, требуя внимания.
— Хватит! — заявил он. — Я представляю здесь Трантор и выполняю распоряжения, получаемые только оттуда. У нас здесь одиннадцать кораблей, и один только космос знает, сколько ещё ушло к Веге. А сколько кораблей выставила Сантани? Ни одного! Зачем она отозвала свою эскадру домой? Не для того ли, чтобы иметь преимущество при нападении на Трантор? Может, найдется человек, который не слышал, что они против нас замышляют? И мы не собираемся ради сомнительных выгод терять здесь корабли. Трантор не будет сражаться. Завтра наш отряд уходит!
— Поритта тоже уходит. Драконианское соглашение уже двадцать лет нейтронным грузом висит на наших шеях. Имперские планеты отказались его пересмотреть, так чего ради мы станем участвовать в войне, которая ведется только ради их интересов?
Один за другим угрюмые выкрики сложились в непрекращающийся рефрен:
— Это не в наших интересах! Мы сражаться не будем! Внезапно лоара Филип Санат рассмеялся. Он отвернулся от Луны и смеялся над спорщиками.
— Господа, — произнес он, — никто из вас не уйдет.
Айрон Смитт вздохнул с облегчением и опустился в кресло.
— И кто же нас остановит? — с презрением спросил Поркут.
— Ласинуки! Они только что захватили Лунную базу и окружили нас.
Комната наполнилась тревожными перешептываниями. Растерянное смущение быстро прошло, чей-то выкрик перекрыл голоса остальных:
— Что с гарнизоном?
— Гарнизон уничтожил укрепления и эвакуировался за несколько часов до появления ласинуков. Врагу не было оказано сопротивления.
Молчание, воцарившееся после этого, было более пугающим, чем предшествовавшие ему крики.
— Измена, — выдохнул кто-то.
— Кто ответствен за это? — Со сжатыми кулаками и побагровевшими лицами, один за другим капитаны воззрились на Саната. — Кто распорядился?
— Я, — спокойно ошеломил всех Санат.
— Пес!
— Лоаристская гадина!
— Выпустить ему кишки!
Но они тут же попятились от пары тонитов, появившихся в руках Айона Смитта. Неугомонный лактонец стоял, прикрывая молодого человека.
— Я в этом тоже замешан! — прорычал он. — Теперь вам придется сражаться! Порой, если надо, огонь пускают против огня; так и Санат пустил измену против измены.
Жем Поркут внимательно поглядел на свои руки и неожиданно захихикал:
— Ладно, раз уж нам не увильнуть, то с тем же успехом мы можем и подраться. Приказы приказами, а я не собираюсь отказываться от возможности хорошенько вломить этим пресмыкающимся тварям.
Мучительная пауза понемногу заполнилась стыдливыми высказываниями остальных — они выражали согласие и готовность.
Два часа спустя ласинукский ультиматум был презрительно отвергнут, эскадры флота людей перестроились. Сотни кораблей заняли свои места, образуя поверхность сферы — стандартной защитной позиции для окруженного флота, — и битва за Землю началась.
Космическое сражение двух близких по мощи армад во многом напоминает рыцарский турнир: управляемые пучки смертоносных излучений играют здесь роль мечей, а непробиваемые стены инертного пространства служат щитами.
Две силы, сойдясь в смертельной схватке, заманеврировали, выбирая позицию, флоты разворачивались по широкой спирали. Вот тусклый пурпурный луч тонита яростно хлестнул по защитному экрану вражеского корабля, сразу налившемуся малиновым сиянием, но и собственный его экран засиял, гася энергию ответного удара. В момент залпа кораблю приходилось на мгновение снимать защиту, и в этот миг он сам представлял собою идеальную мишень. Задачей каждого командира было не только поразить противника, но и сохранить в этот критический момент собственный крейсер.
Лоара Филип Санат хорошо знал тактику звездных войн. С тех пор как ему пришлось схватиться с боевым ласинукским крейсером по пути с Земли, он потратил много сил на изучение этого вопроса. И теперь, когда эскадры выстраивались в линию, он почувствовал, что у него пальцы сводит от жажды деятельности.
Он повернулся к Смитту:
— Я спущусь к большим излучателям. Смитт не отрывал глаз от центрального визира, рука его лежала на эфироволновом передатчике.
— Идите, если хотите, только не заблудитесь по дороге. Санат улыбнулся. Личный лифт капитана доставил его на орудийную палубу; пятьсот футов он прошагал сквозь деловую толпу оружейников и инженеров, пока не достиг первого тонита. Свободное пространство на боевом корабле — излишняя роскошь. Санат поражался тесноте отсеков, в которых люди спокойно и согласованно работали, образуя сложнейший механизм, приводящий в действие гигантский дредноут.
По шести ступенькам он поднялся к первому тониту и отослал бомбардира. Расчет заколебался было, каждый скользнул взглядом по пурпурной тунике, но в конце концов люди подчинились.
Санат повернулся к координатору, сидевшему возле видеоэкрана орудия:
— Как ты думаешь, сработаемся? У меня скорость реакции один-А. Классификационная карточка у меня при себе, можешь взглянуть, если хочешь.
Координатор залился краской и ответил, заикаясь:
— Н-нет, с-сэр! Это большая ч-честь р-работать вместе с вами, с-сэр!
Система оповещения громыхнула: «По местам!» Установилось глубокое молчание, нарушаемое лишь Негромким урчанием механизмов.
— Это орудие перекрывает полный квадрант пространства, так? прошептал Санат.
— Да, сэр.
— Отлично. Посмотри, не сможешь ли отыскать дредноут с эмблемой в виде двойной звезды в положении неполного затмения.
Они надолго замолчали. Чуткие пальцы координатора лежали на штурвале, осторожно поворачивая его то в одну, то в другую сторону, так что поле зрения постоянно смещалось. Глаза внимательно следили за выстраивающимися в боевые порядки вражескими кораблями.
— Вот он, — произнес координатор. — Ха, это же флагман!
— Именно! Наводи на него!
Изображение вражеского флагмана заскользило в крест нитей прицела. Движения пальцев координатора сделались ещё точнее и неуловимее.
— В центре! — бросил он.
В перекрестии прицела застыл крохотный овал эмблемы.
— Так держать! — жестко распорядился Санат. — Не теряй его ни на секунду, пока он находится в нашем квадранте. На этом корабле вражеский адмирал, и мы постараемся с ним разделаться.
Корабли двигались, уже не выдерживая строя, и Санат почувствовал возбуждение. Он знал, что скоро все начнется. Люди выигрывали в скорости, но ласинуки вдвое превосходили их численностью.
Сверкнул мерцающий луч, затем ещё один, потом сразу десяток.
Стремительное слепящее полыхание пурпурной энергии!
— Первое попадание! — выдохнул Санат и попытался расслабиться.
Один из вражеских кораблей беспомощно дрейфовал: его корма превратилась в груду распадающегося, добела раскаленного металла.
Вражеских кораблей на дистанции поражения не было. Обмен выстрелами шел с ошеломляющей скоростью. Дважды пурпурные стрелы пролетали по самому краю видеоэкрана. Ощущая, как по спине побежали странные мурашки, Санат понял, что стреляли соседние тониты его же корабля.
Бой достиг кульминации. Почти одновременно полыхнули две ярчайшие вспышки, и Санат застонал. В одной из них потонул корабль людей. Трижды нарастал тревожный гул — это ядерщики на нижнем уровне запускали свои машины на полную мощность, когда вражеское излучение задерживалось защитным экраном корабля.
И вновь координатор ввел в перекрестие прицела вражеский флагман.
Так прошел час, на протяжении которого шесть ласинукских и четыре земных корабля рассыпались в прах.
По лбу координатора, заливая глаза, катился пот; пальцы наполовину потеряли чувствительность, но вражеский флагман не выходил из перекрестия тончайших волосяных нитей.
А Санат следил, следил, не снимая пальца со спуска, и выжидал.
Дважды флагман озарялся пурпурными сполохами: его орудия били — и тотчас же восстанавливался защитный экран. Дважды палец Саната начинал давить на гашетку и в последний момент замирал. Он чувствовал, что не успевает.
Но все же Санат доказал свое умение и в восторге вскочил на ноги. Координатор тоже завопил и выпустил штурвал.
Обратившись в гигантский погребальный костер, в пурпурное кипение энергии, флагман и находившийся на его борту адмирал ласинукского флота прекратили свое существование.
Санат рассмеялся, и они с координатором обменялись сильным, торжествующим рукопожатием.
Но торжество длилось недолго: не успел координатор произнести первых ликующих слов, теснившихся в горле, как видеоэкран залило бушующим пурпуром. Это пять кораблей с людьми одновременно взорвались, сраженные смертоносным потоком энергии.
— Усилить защитные экраны! — проревел динамик. — Прекратить огонь! Перестроиться в таранный строй!
Санат почувствовал, как мертвая хватка неуверенности стиснула его горло. Он понимал, что произошло. Ласинуки наконец-то сумели наладить управление гигантскими орудиями Лунной базы, чьи громадные пушки втрое превосходили по мощности самые крупные из корабельных установок; эти огромные орудия могли расстреливать земные корабли, не опасаясь возмездия.
Рыцарский турнир завершился, теперь начиналось настоящее сражение. В нем люди собирались воспользоваться способом ведения боя, никогда ранее не применявшимся, и все мысли экипажа были об одном. Санат читал это по мрачному выражению лиц, ощущал это в молчании людей.
Метод мог сработать! Но мог и не сработать!
Флот людей вновь стягивался в сферу. Корабли медленно дрейфовали, их батареи молчали. Ласинуки окружали их, собираясь добить. Люди были отрезаны от внешних источников энергии. Противостоять гигантским орудиям Лунной базы, контролирующим ближний космос, они не могли, поэтому их капитуляция или окончательное уничтожение представлялись лишь вопросом времени.
Тониты врага не переставая выплевывали потоки энергии, пытаясь сокрушить защитные экраны кораблей с людьми. Те искрили и флюоресцировали под ударами жестких радиационных хлыстов.
Санат слышал, как гудение ядерных установок поднялось до протестующего визга. Глаза его не могли оторваться от датчика энергии: подрагивающая стрелка все более заметно отклонялась вниз, к нулю.
Координатор провел языком по пересохшим губам:
— Думаете, нам удастся, сэр?
— Несомненно! — Но Санат далеко не был уверен в правоте своих слов. Нам необходимо продержаться ещё час, и чтобы они при этом не отступили.
Ласинуки и не отступали. Отойти назад — значило ослабить ряды нападавших, дать возможность внезапным ударом прорвать окружение и спасти часть флота людей.
Корабли людей двигались со скоростью улитки, делая чуть больше сотни километров в час. Бездействующие, подстегиваемые пурпурными стрелами энергии, они продолжали образовывать медленно расширяющуюся сферу, так что расстояние между флотами даже немного сократилось.
Санат оставил орудийную палубу и присоединился к солдатам, крепко державшим гигантский поблескивавший рычаг и ожидавшим команды, которая должна была вот-вот раздаться или не раздаться никогда.
Расстояние между противниками не превышало теперь одной-двух миль почти соприкосновение по критериям космических войн. Тут-то и пришел приказ флагмана.
Он отозвался во всех отсеках:
— Иглы наружу!
Множество рук навалилось на рычаг — и руки Саната среди прочих, резкими толчками отжимая его вниз. Рычаг изогнулся величественной дугой, раздался оглушительный, все. заполнивший собой грохот, и корабль содрогнулся от резкого толчка.
Дредноут превратился в таранный корабль!
Носовые секции бронеплит мягко разошлись, и наружу зловеще выдвинулось сверкающее металлическое жало. Стофутовой длины, десяти футов в диаметре у основания, оно изящно сужалось к концу, точно иголка. В солнечном свете хромированная сталь тарана засверкала пылающим великолепием.
Все корабли людей были оснащены точно так же. Каждый из них нес в себе десяти-, пятнадцати-, двадцати-, даже пятидесятитысячетонную выдвижную рапиру
Меч-рыбы космоса!
Там, на кораблях ласинукского флота, сейчас, должно быть, отдавались самые безумные приказания. Против этой: древнейшей из всех флотоводческих тактик, применявшейся ещё на заре истории, когда враждующие триремы маневрировали и таранили друг друга, сверхсовременное оборудование космических кораблей защитой не располагало.
Санат поспешил к экрану и пристегнулся в противоперегрузочном кресле, почувствовав амортизирующую упругость спинки, когда корабль рванулся вперед.
Он не обратил на это внимания. Ему необходимо было видеть ход битвы. И не было ни здесь, ни во всей Галактике риска, равного тому, на который он пошел: он рисковал мечтой, им же созданной, уже почти достигнутой, тогда как остальные — разве что своими жизнями.
Он расшевелил апатичную Галактику, он поднял её на борьбу с рептилиями. Он нашел Землю стоявшей на грани гибели и отодвинул её, почти беспомощную, от этой грани. Если человечеству суждено победить, то это будет победа лоары, Филипа Саната и никого больше.
Он сам, Земля, Галактика слились теперь в единое целое и были брошены на чашу весов. А на другой лежал результат последнего сражения, безнадежно проигранного из-за его измены, если только тараны не внесут решающих изменений. Если же и они окажутся бессильны, то в величайшей катастрофе гибели всего рода человеческого — будет виноват только он один.
Ласинукские корабли бросились прочь, но недостаточно быстро. Пока они медленно гасили инерцию и расходились, люди успели преодолеть три четверти расстояния. На экране ласинукский крейсер вырос до гигантских размеров. Его пурпурный энергетический кнут исчез, каждая унция энергии была брошена на спасительную попытку быстро набрать скорость.
И все же его изображение на экране росло, и сверкающая рапира, видимая в нижней части экрана, была, подобно лучезарному мечу, направлена в сердце врага.
Санат почувствовал, что не способен больше выносить ожидания. Еще пять минут — и все узнают, кто он: величайший герой Галактики или же величайший её преступник! Кровь мучительно стучала в висках.
И тут свершилось. Контакт!
Экран зарябило от хаотической ярости искореженного металла. Противоперегрузочные кресла застонали, когда их амортизаторы приняли на себя удар. Понемногу ситуация прояснилась. Сектор обзора неистово скакал, пока корабль медленно уравновешивался. Таран был сломан, его зазубренный остаток загнуло в сторону, но пропоротое им вражеское судно превратилось во вскрытую консервную банку.
Затаив дыхание, Сенат шарил глазами по пространству. Ему открылось море разбитых кораблей, по краям уцелевшие остатки вражеского флота пытались спастись бегством — земные корабли преследовали их.
Позади раздался откровенно радостный вопль, пара крепких рук опустилась ему на плечи. Санат повернулся. Это был Смитт — ветеран пяти войн, стоявший перед ним со слезами на глазах.
— Филип, — с трудом выговорил он, — мы победили! Мы только что получили сообщение с Веги: флот ласинукской метрополии тоже разгромлен — и тоже таранными кораблями. Победа за нами! Это ваша победа, Филип! Ваша!
Его объятия причиняли боль, но лоара Филип Санат думал не об этом. Он замер, охваченный экстазом, лицо его преобразилось.
Земля стала свободной! Человечество было спасено!
Прикол
Во время летних каникул студенческий городок Арктурского университета на Эроне, второй планете системы Арктура, становился весьма унылым, да к тому же и очень жарким местом, поэтому не стоило удивляться, что для второкурсника Майрона Тубала жизнь наполнилась скукой и тоской. Заглянув вот уже в пятый раз за день в студенческий клуб в отчаянной попытке увидеть хотя бы одно знакомое лицо, он наконец с радостью обнаружил там Билла Сефана, зеленокожего юношу с пятой планеты Веги.
Сефан, как и Тубал, завалил биосоциологию, и теперь остался на каникулы в университете, готовясь к переэкзаменовке. Подобная несправедливость судьбы делает второкурсников закадычными друзьями.
Обессилевший от жары Тубал буркнул что-то вместо приветствия, плюхнул в самое большое кресло свое огромное безволосое тело коренного арктурца и спросил:
— Новичков уже видел?
— Так рано? До начала осеннего семестра еще шесть недель!
Тубал зевнул.
— Таких у нас еще не было. Это первая группа из Солярианской системы десять первокурсников.
— Солярианской системы? Ты имеешь в виду новую систему, что присоединилась к Галактической федерации три… нет, четыре года назад?
— Та самая. Их главная планета называется, кажется, Земля.
— Ну так что?
— Да ничего особенного. Прилетели, и все. Кое у кого из них на верхней губе растут волосы — смотрится очень глупо. Но если этого не брать в расчет, они выглядят как любой из десятка разновидностей гуманоидов.
Тут распахнулась дверь и ворвался коротышка Ври Форасе. Родом он был с единственной планеты Денеба, и сейчас покрывающий его лицо и голову короткий серый мех топорщился от возбуждения, а большие пурпурные глаза восхищенно светились.
— Слушайте, — пропищал он, задыхаясь после бега, — вы уже видели землян?
Сефан вздохнул:
— Неужели никто так и не сменит тему? Тубал мне только что о них рассказал.
— Уже? — разочарованно отозвался Форасе. — Но… он говорил, что это та самая ненормальная раса, которая наделала столько шума, когда Солярианскую систему приняли в Федерацию?
— Внешне они мне показались вполне нормальными, — заметил Тубал.
— Да я не об их внешности толкую, — с отвращением пояснил денебианец. Все дело в их мышлении. Психология! Вот в чем главное!
Форасе учился на психолога.
— Вот как! И что же в них такого особенного?
— Психология толпы у этой расы совершенно неправильная, — принялся торопливо выкладывать Форасе. — Когда они собираются вместе в больших количествах, то не только не становятся менее эмоциональными, что характерно для всех известных нам типов гуманоидов, а еще более увеличивают свою эмоциональность! Собравшись толпами, земляне начинают бунтовать, впадать в панику, сходить с ума. И чем больше их собирается, тем сильнее эффект. Представляете, мы даже изобрели новое математическое обозначение, чтобы справиться с этой проблемой. Смотрите!
Он быстро выхватил из кармана блокнот и стилус, но ручища Тубала прихлопнула их к столу раньше, чем стилус успел коснуться бумаги.
— Ура! Меня осенила потрясающая идея! — воскликнул Тубал.
— Могу представить! — буркнул Сефан.
Тубал не обратил на него внимания. Он снова улыбнулся и задумчиво пригладил ладонью лысый череп.
— Слушайте, — произнес он с неожиданным вдохновением, и его голос упал до заговорщического шепота.
Альберт Уильямс, недавно прилетевший с Земли, зашевелилися во сне и вдруг осознал, что чей-то палец тычет его в ребра. Он открыл глаза, повернул голову и спросонья уставился в темноту, потом ахнул, резко сел и потянулся к выключателю лампы.
— Не шевелись, — приказал кто-то, стоящий рядом. Уильямс услышал легкий щелчок, в лицо ему ударил узкий жемчужно-белый луч карманного фонарика.
— Ты кто такой, черт тебя побери? — моргая, спросил Уильямс.
— Сейчас ты встанешь, — твердо заявил незнакомец, — оденешься и пойдешь со мной.
Уильямс зловеще ухмыльнулся:
— А ну, попробуй меня скрутить!
Ответа не последовало, но луч фонарика переместился немного в сторону, осветив вторую руку злоумышленника. Она держала нейронный хлыст, то самое маленькое приятное оружие, что парализует голосовые связки и завязывает нервы маленькими узелками мучительной боли. Уильямс с трудом сглотнул и вылез из постели.
Он молча оделся, потом спросил:
— Ладно, что мне теперь делать?
Поблескивающий хлыст указал на дверь.
— Просто иди впереди, — велел незнакомец, когда землянин шагнул в нужную сторону.
Уильямс вышел из комнаты, прошел по пустынному коридору и спустился на восемь этажей по лестнице, так и не осмелившись оглянуться. Выйдя на улицу, он остановился, но тут же почувствовал прикосновение металла к спине.
— Знаешь, где находится Обел-холл?
Кивнув, Уильямс зашагал дальше. Он миновал Обел-холл, свернул вправо на Университетскую авеню и, пройдя по ней около полумили, направился в сторону, к рощице. Там, в темноте, смутно угадывался корпус звездолета с наглухо задраенными иллюминаторами, и лишь тусклая полоска света выдавала расположение едва приоткрытой двери шлюза.
— Залезай!
Его заставили подняться по лесенке, затем втолкнули в тесную комнатушку.
Уильямс заморгал, огляделся и принялся считать вслух:
— …семь, восемь, девять, и я десятый. Полагаю, нас захватили всех.
— Тут и полагать нечего, — проворчал Эрик Чемберлен. — Всех до единого. Я тут уже час торчу, — сообщил он, потирая руку.
— Что у тебя с рукой? — спросил Уильямс.
— Связки растянул. Проверял на прочность челюсть того мерзавца, который затащил меня сюда. С тем же успехом мог врезать и по корпусу корабля.
Уильямс, скрестив ноги, уселся на пол и прислонил голову к стене.
— У кого-нибудь есть идеи насчет того, что все это значит?
— Похищение! — выпалил коротышка Джо Свини, стуча зубами.
— Черта лысого! — фыркнул Чемберлен. — Если кто-то из нас миллионер, то я об этом не слыхал. Я-то уж точно не богач.
— Послушайте, — предложил Уильямс, — давайте искать причины попроще. Похищение или нечто в этом роде отпадает сразу. Те люди не могли быть преступниками. Почему? Да потому что цивилизация, достигшая таких высот в психологии, какими известна Галактическая федерация, способна искоренить преступность, едва шевельнув пальцем.
— Пираты, — буркнул Лоуренс Марш. — Сам-то я в них не верю, но для предположения сгодится.
— Чушь! — парировал Уильямс. — Пиратство — явление, характерное для пограничных, неосвоенных территорий. А в этой области космоса цивилизация существует уже десятки тысяч лет.
— Все равно, они же были вооружены, — не сдавался Джо, — и мне это очень не нравится.
Он позабыл в комнате свои очки, и теперь в его близоруких глазах угадывалась особая встревоженность.
— Это тоже мало о чем говорит, — заметил Уильямс. — А теперь я поделюсь с вами тем, что пришло мне на ум. Мы, все десять, — только что прибывшие в Арктурский университет новички. И в первую же ночь нас таинственно похищают из комнат и переправляют в странный звездолет. Эти факты подталкивают меня к определенным выводам. А вас?
Сидни Мортон, дремавший сидя, опустив голову на руки, приподнял ее и сонно пробормотал:
— Я тоже об этом подумал. Похоже, мы все влипли в дурацкий прикол. Как мне кажется, джентльмены, местные второкурсники решили от души повеселиться.
— Совершенно верно, — согласился Уильямс. — Другие идеи есть?
Молчание.
— Хорошо, тогда нам остается только ждать. Лично я собираюсь немного вздремнуть. Если я им понадоблюсь, они меня сами разбудят.
В этот момент корабль дернулся и Уильямс, потеряв равновесие, повалился на пол.
— Что ж, вот мы и взлетели… знать бы только, куда летим?
Чуть позднее Билл Сефан, прежде чем войти в рубку управления, на мгновение замер в дверях. Поборов неуверенность, он все-таки сделал шаг вперед и едва не столкнулся с весьма возбужденным Ври Форасе.
— Ну как, сработало? — нетерпеливо спросил денебианец.
— Хреново, — кисло признался Сефан. — Если это называется паникой, тогда я сам паникер. Они собираются спать.
— Спать! Все до единого? Но о чем они разговаривали?
— Да почем мне знать? Они ведь говорили не на галактическом, а в их землянской тарабарщине я ни в зуб ногой.
Форасе жестом отвращения воздел руки.
— Послушай, Форасе, — заговорил Тубал после долгого молчания, — я учусь на биосоциолога. А о психологии этих придурков заговорил ты. И успех прикола гарантировал тоже ты. Так что если мы сядем в лужу, мне это вовсе не понравится.
— Ну, клянусь благосклонностью Денеба, — отчаянно пропищал Форасе, — какие же вы еще желтопузые сопляки! Вы что думаете, они так сразу и начнут вопить да брыкаться? О бурлящий Арктур! Подождите, пока не доберемся до системы Спики, ладно? Вот посидят они взаперти ночку-другую…
Он хихикнул, вспомнив кое-что.
— Кажется, это будет самая классная шуточка с тех пор, как кто-то привязал летучих мышей-вонючек к хроматическому органу в ночь выпускного бала.
Тубал слегка улыбнулся, но Сефан откинулся на спинку кресла и задумчиво произнес:
— А что, если кто-нибудь — скажем, президент Уинн — об этом узнает?
Сидящий за пультом арктурец пожал плечами:
— Это самый обычный прикол. Они легко сходят с рук.
— Не прикидывайся дурачком, М. Т. Это уже не детские шалости. На четвертую планету Спики кораблям Федерации садиться запрещено. Да что планета — вся система Спики для нас под запретом, и ты это прекрасно знаешь. На этой планете обитает субгуманоидная раса. Их сознательно решили не тревожить до тех пор, пока они сами не изобретут средства для межзвездных полетов. Таков закон, и за его нарушение карают очень строго. О космос! Если нас застукают, то о последствиях лучше и не думать!
Тубал обернулся, не вставая.
— Ну как, по-твоему, Прекси Уинн — да будет проклята его толстая шкура! сможет об этом пронюхать? Да, мы обязательно расскажем обо всем приятелям какой смысл приберегать историю только для себя? Половину удовольствия потеряем. Но как он узнает имена? Никто и не пикнет. Ты сам это знаешь.
— Ладно, — сказал Сефан, пожимая плечами.
— Можно входить в гиперпространство! — объявил Тубал.
Он нажал несколько клавиш и корабль вздрогнул, покидая нормальное пространство.
Десять землян настроились на самое скверное и выглядели соответственно. Лоуренс Марш, сощурившись, снова взглянул на часы.
— Половина третьего, — сказал он. — Теперь уже тридцать шесть часов. Как мне хочется, чтобы все осталось позади.
— Никакой это не прикол, — простонал Свини. — Слишком уж долго все тянется.
Уильямс покраснел от гнева.
— Что у вас за вид, словно вы уже наполовину покойники? Ведь они нас регулярно кормят, разве не так? Нас не связали, верно? На мой взгляд, совершенно очевидно, что о нас хорошо заботятся.
— Или же, — задумчиво протянул Сидни Мортон, — откармливают на убой.
Он многозначительно смолк, и все напряглись. Каждый ощутил характерную дрожь, которую так трудно описать словами.
— Чувствуете? — воскликнул Эрик Чемберлен. — Мы снова в нормальном пространстве, а это означает, что всего через час-другой мы узнаем, куда нас привезли. Нам необходимо что-то предпринять!
— Знакомые все речи, — фыркнул Уильямс. — Но что именно?
— Нас здесь десять, верно? — крикнул Чемберлен, выпячивая грудь. — Так вот, до сих пор я видел только одного из них. Когда он придет в следующий раз, а очень скоро нам должны снова принести еду, надо навалиться на него всем вместе.
— А как же нейронный хлыст? — побледнел Свини. — Он у него всегда наготове.
— Это оружие не убивает. Во всяком случае, со всеми сразу ему справиться не удастся.
— Эрик, ты дурак, — откровенно заявил Уильямс.
Чемберлен вспыхнул и сжал кулаки.
— Я как раз не прочь немного размяться. Повтори-ка свои слова.
— Сядь! — Уильямс даже не потрудился взглянуть в его сторону. — И не очень усердствуй, доказывая правоту моего эпитета. Все мы нервничаем, все на взводе, но это отнюдь не означает, что нам следует сходить с ума окончательно. По крайней мере, не сейчас. Во-первых, даже если не брать в расчет хлыст, мы мало чего добьемся, скрутив нашего тюремщика.
— Мы видели только одного, но он из системы Арктура. В нем добрых семь футов роста, а весит он не менее трехсот фунтов. Он голыми руками сделает из всех нас отбивные. Кажется, ты уже успел испытать его на прочность, Эрик?
После этих слов наступило угрюмое молчание.
— И даже если нам удастся справиться с ним и со всеми остальными на корабле, сколько бы их ни оказалось, — добавил Уильямс, — мы и после этого не будем иметь ни малейшего представления о том, куда нас привезли, как вернуться обратно и как управлять кораблем. — Он сделал паузу. — Так что скажете?
— Проклятие! — Чемберлен нахмурился, отвернулся и молча уставился на стенку.
Дверь распахнулась от мощного пинка. Вошел великан-арктурец и вытряхнул на пол содержимое принесенного с собой мешка. В другой руке он держал наготове нейронный хлыст.
— Последняя кормежка, — буркнул он.
Началась легкая суета, пока земляне собирали раскатившиеся по углам еще теплые, недавно подогретые консервные банки. Мортон взглянул на свою и скривился.
— Послушай, — произнес он на галактическом, немного запинаясь с непривычки, — неужели нельзя принести что-нибудь другое? Меня тошнит от вашего протухшего гуляша. Четвертая банка подряд!
— Какая разница? Я же сказал, это ваша последняя кормежка, — процедил арктурец, закрывая за собой дверь.
Все застыли, парализованные ужасом.
— Что он хотел этим сказать? — выдавил кто-то.
— Они собираются нас убить! — взвизгнул Свини. Глаза его округлились от страха. Судя по голосу, он был на грани истерики.
У Уильямса пересохло во рту, он ощутил, как внутри него поднимается гнев, вызванный заразительным для прочих страхом Свини. Он сдержался — в конце концов, парнишке только семнадцать — и хмуро произнес:
— Прекрати это, хорошо? Давайте есть.
Два часа спустя он ощутил толчок. Корабль сел, путешествие завершилось. Все эти два часа царило молчание, но Уильямс ощущал, как тиски страха с каждой минутой сжимаются все сильнее.
Багровый диск Спики висел над самым горизонтом, дул холодный порывистый ветер. Десять землян, сбившись в жалкую кучку на каменистой вершине холма, мрачно разглядывали своих похитителей. Говорил огромный арктурец Майрон Тубал, а зеленокожий веганец Билл Сефан и маленький лохматый денебианец Ври Форасе смущенно топтались за его широкой спиной.
— Огонь у вас есть, — грубо пробасил арктурец, — а дров здесь в лесах хватает. Костер отпугнет диких зверей. Перед отлетом мы оставим вам два хлыста, с их помощью вы защититесь от туземцев, если они начнут вас беспокоить. А что касается еды, воды и жилья, тут вам придется самим пораскинуть мозгами.
Он отвернулся. Взревев, Чемберлен внезапно бросился на удаляющегося арктурца, но тот отшвырнул его прочь небрежным взмахом руки.
Дверь шлюза закрылась, и почти немедленно корабль оторвался от земли и рванулся вверх. Наконец Уильямс прервал всеобщее оцепенение:
— Они оставили хлысты. Я возьму один, а ты, Эрик, можешь взять второй.
Один за другим испуганные, дрожащие от возбуждения земляне уселись возле костра. Уильямс выдавил из себя улыбку.
— Местность тут лесистая, так что в дичи недостатка не будет. Ну, чего приуныли? Нас тут десять человек, а рано или поздно, но они за нами вернутся. Давайте лучше покажем им, что земляне могут пережить и такое. Что скажете, парни?
Слова его словно упали в пустоту, и лишь Мортон раздраженно посоветовал:
— Почему бы тебе не заткнуться? И без тебя тошно.
Уильямс сдался. В желудке у него застыл холодный комок.
Сумерки перешли в ночь, и круг света вокруг костра сжался до маленького мерцающего пятнышка с пляшущими по краям тенями. Внезапно Марш ахнул, глаза его округлились.
— Там… там что-то приближается!
Все вздрогнули, готовые вскочить, но тут же замерли, затаив дыхание и пристально вслушиваясь.
— Ты просто свихнулся… — начал было Уильямс, но оборвал себя, услышав характерный скользящий звук, который ни с чем невозможно спутать.
— Доставай свой хлыст! — рявкнул он Чемберлену.
Джо Свини внезапно истерично рассмеялся.
И тут воздух содрогнулся от вопля, а со всех сторон на них обрушились тени.
На корабле тем временем тоже кое-что происходило.
Корабль Тубала набирал скорость, удаляясь от четвертой планеты Спики. За пультом сидел Билл Сефан, а сам Тубал, сидя в тесной каютке, двумя глотками прикончил содержимое огромной плоской бутылки с денебианским ликером.
Ври Форасе с грустью наблюдал за этой операцией.
— Он стоит двадцать кредитов бутылка, — сказал он, — а у меня осталось всего две.
— Ну, так не позволяй мне его заграбастывать, — великодушно произнес Тубал. — Меняю пустую бутылку на полную.
— Один такой глоток, — пробормотал денебианец, — и я отключусь до осенних экзаменов.
Тубал не обратил на его слова внимания.
— Это, — начал он, — войдет в историю университета как самый потрясающий прикол за…
И тут послышался звонкий щелчок, почти не приглушенный слоями обшивки, и свет в каютке погас.
Ври Форасе вдавило в переборку, да так сильно, что он мог дышать лишь короткими судорожными вздохами.
— О к-космос! П-полное уск-корение! Что с-случи-лось с ур-равнителем?
— К чертям уравнитель! — взревел Тубал, с трудом поднимаясь. — Что случилось с кораблем?
Спотыкаясь, он выбрался через дверь в столь же темный коридор. Форасе полз следом. Когда они ворвались в рубку, Сефан сидел за пультом. Его заливал тусклый свет аварийных ламп, зеленая кожа блестела от пота.
— Метеор, — прохрипел он. — Вывел из строя распределители мощности, и теперь вся энергия идет на разгон. Освещение, обогрев и радио также накрылись, а вентиляторы еле крутятся. В четвертом отсеке пробоина.
Тубал вперил в Сефана безумный взгляд.
— Идиот! Почему ты не смотрел на индикатор массы?
— Смотрел, еще как смотрел! — взвыл Сефан. — Так знай, комок шпатлевки, что он ничего не показывал. Он — ничего — не — показывал! А чего еще ожидать от раздолбанной жестянки, взятой напрокат за две сотни? Метеор прошел сквозь защитный экран, как сквозь бумагу.
— Заткнись!
Тубал распахнул дверцу шкафчика со скафандрами и застонал.
— Тут только арктурские модели. Черт, забыл проверить перед вылетом. Справишься с таким, Сефан?
— Может быть, — протянул Сефан, с сомнением почесывая ухо.
Через пять минут Тубал протиснулся в шлюз, за ним последовал Сефан, неуклюже путаясь в складках огромного скафандра. Через полчаса они вернулись.
— Заслонки! — процедил Тубал, стянув шлем.
Ври Форасе ахнул:
— Выходит… нам крышка?
Арктурец покачал головой.
— Мы сможем их починить, но это займет некоторое время. Радио накрылось окончательно, так что на помощь рассчитывать нечего.
— Помощь! — встрепенулся Форасе. — Только ее нам еще не хватало! А как мы объясним, что оказались в системе Спики? Нам теперь что радио включить, что покончить жизнь самоубийством — все едино. Пока мы в состоянии вернуться сами, мы в безопасности. Если и пропустим парочку лекций, ничего страшного не случится.
— А что станет с пугливыми землянами на четвертой планете Спики? — мрачно поинтересовался Сефан.
Форасе открыл рот, собираясь ответить, но так и не смог произнести ни слова. Когда он его закрыл, вид у него стал такой, что денебианца можно было демонстрировать студентам-психологам как типичного гуманоида, охваченного отчаянием.
Но это было только начало неприятностей.
Полтора дня ушло на то, чтобы разобраться в схемах энергетической установки. Еще два дня пришлось тормозить, сбрасывая скорость для разворота. На возвращение к Спике-4 потратили еще четыре. На все вместе — восемь.
Когда корабль снова завис над холмом, на котором они оставили землян, день только начинался. Лицо Тубала, изучавшего район недавней посадки через телевизор, все более вытягивалось, и вскоре он нарушил затянувшееся гробовое молчание.
— Кажется, мы ухитрились совершить все возможные ошибки до единой. Мы высадили их возле туземной деревни. От землян не осталось и следов.
— Дело скверно, — уныло покачал головой Сефан.
Охваченный отчаянием Тубал закрыл лицо руками.
— Все, конец. Или они сами напугали друг друга до смерти, или их прикончили туземцы. Мы прилетели в запретную зону, что само по себе скверно… а теперь, полагаю, нас можно обвинить в преднамеренном убийстве.
— Нам остается только одно, — сказал Сефан, — совершить посадку и проверить, не остался ли кто из них в живых. Это наш долг. А потом…
Он судорожно сглотнул.
— А потом, — шепотом закончил за него Форасе, — нас ждет исключение из университета, психоревизия… и физический труд до конца жизни.
— Заткнитесь! — рявкнул Тубал. — О наказании еще будет время подумать. За дело.
Медленно совершая круги, корабль начал опускаться и сел на каменистую площадку, где восемь дней назад они бросили десятерых ошеломленных землян.
— Как нам общаться с туземцами? — спросил Тубал у Форасе, вопросительно приподняв надбровные складки (на которых, разумеется, не росли волосы). Валяй, парень, выдай нам что-нибудь из субгуманоидной психологии. Нас тут только трое, и я не хочу лишних неприятностей.
Форасе пожал плечами, его мохнатое лицо сморщилось.
— Как раз об этом я только что подумал, Тубал. Я ничего о ней не знаю.
— Что?! — одновременно выпалили Тубал и Сефан.
— Никто не знает, — торопливо добавил денебианец. — Это факт. В конце концов, мы ведь не позволяем субгуманоидам вступать в Федерацию до тех пор, пока они не станут полностью цивилизованными, а пока подобное не произойдет, всякие контакты с ними запрещены. Или ты полагаешь, что у нас было много возможностей изучать их психологию?
Арктурец тяжело уселся на землю.
— Да, все лучше и лучше. Так думай, лохматая твоя морда. Предложи хоть что-нибудь!
Форасе почесал макушку.
— Ну… гм… полагаю, лучше всего будет обращаться с ними как с нормальными гуманоидами. Если мы приблизимся медленно, показывая раскрытые ладони, не станем делать резких движений и попробуем сохранять спокойствие, то, думаю, все обойдется. Но помните — я сказал, что так думаю. Уверенности у меня нет.
— Пошли, и к черту твою уверенность, — нетерпеливо бросил Сефан. — Какая, собственно, разница? Если меня и прикончат здесь, то, по крайней мере, не придется возвращаться домой. — Он сжался, словно затравленный зверь. — Как подумаю, что скажет моя семья…
Они вышли из корабля и вдохнули воздух четвертой планеты Спики. Солнце, похожее на большой оранжевый баскетбольный мяч, висело прямо над их головами. Где-то в лесу хрипло каркнула птица, потом воцарилась мертвая тишина.
— Гм-м! — произнес Тубал, уперев руки в бока.
— Тишина такая, что в сон клонит. Никаких признаков жизни. Ладно, в какой стороне деревня?
Вспыхнул короткий спор, и вскоре арктурец, а за ним двое приятелей зашагали по склону в сторону молчаливого леса.
Когда они углубились в него на сотню футов, деревья внезапно ожили, и с нависающих ветвей на них бесшумно хлынула волна туземцев. Ври Форасе она захлестнула сразу, Билл Сефан продержался секунду-другую, но тоже со стоном повалился на спину.
И лишь гигант Майрон Тубал остался на ногах. Уперев в землю широко расставленные подошвы и устрашая противника оглушительным ревом, он замахал руками. Атакующие туземцы накатывались со всех сторон, но тут же отлетали обратно, словно капельки воды, угодившие под струю вентилятора. Построив оборону по принципу ветряной мельницы, Тубал медленно пятился, желая упереться спиной в ствол дерева.
Тут он и совершил ошибку. На самой низкой ветви этого дерева, прижавшись к ней, лежал туземец — более осторожный и сообразительный, чем его товарищи, Тубал уже заметил, что природа наградила туземцев гибкими мускулистыми хвостами, и мысленно отметил этот факт. Только еще одна разумная раса в Галактике, гуманоиды с гаммы Цефея, имела хвосты. Но не заметил он, однако, того, что хвосты у местных туземцев были хватательными.
Обнаружил он это почти немедленно, когда туземец на ветке опустил хвост вниз, мгновенно обвил им шею Тубала и затянул тугую петлю.
Арктурец резко рванулся от боли, хвостатый противник слетел с ветки, но хватки так и не ослабил, хотя висел вниз головой, а Тубал мотал его из стороны в сторону.
Мир перед глазами Тубала потемнел, и он потерял сознание раньше, чем коснулся земли.
Тубал медленно пришел в себя и тут же с неудовольствием ощутил, как покалывает онемевшую шею. Он попробовал ее потереть и лишь через несколько секунд сообразил, что лежит, крепко связанный. Этот факт заставил его насторожиться, и он тут же понял, что лежит на животе, что неподалеку что-то ужасно грохочет и что Сефан и Форасе лежат рядом с ним такими же неподвижными тюками. Последним до него дошло, что он не в силах разорвать свои путы.
— Эй, Сефан, Форасе! Вы меня слышите?
— Так ты жив, старый драконианский козел? — жизнерадостно отозвался Форасе. — А мы уж решили, что тебе крышка.
— Меня не так-то просто прикончить, — буркнул арктурец. — Где мы?
Наступило короткое молчание.
— Полагаю, в туземной деревне, — мрачно произнес Ври Форасе. — Слышал когда-нибудь такой шум? Барабан не замолкал ни на минуту с тех пор, как нас сюда бросили.
— А вы не видели никого из…
В Тубала вцепились чьи-то руки, потянули и усадили. Шея заболела еще сильнее. Кривобокие хижины из зеленых бревен, крытые соломой, поблескивали в лучах послеполуденного солнца. Вокруг них в молчаливом ожидании кольцом стояли темнокожие длиннохвостые туземцы. Их было несколько сотен, у каждого головной убор из перьев и короткое копье со зловещего вида зазубренным наконечником.
Их глаза не отрывались от цепочки фигур на переднем плане, и Тубал тоже обратил на них свой гневный взгляд. Не вызывало сомнений, что то были вожди племени. Кроме пышных, украшенных бахромой одеяний из скверно выдубленных шкур, варварское впечатление их наряда усиливали высокие деревянные маски, разрисованные карикатурами на человеческие лица.
Одна из внушающих ужас фигур в маске короткими ритуальными шажками приблизилась к гуманоидам.
— Привет, — произнес туземец, снимая маску. — Решили вернуться пораньше?
Очень долго Тубал и Сефан не могли выдавить из себя ни слова, а Ври Форасе одолел приступ кашля.
Наконец Тубал медленно сделал глубокий вдох,
— Ты один из землян, верно?
— Верно. Эл Уильямс. Можете звать меня просто Эл.
— Они тебя еще не убили?
— Они никого из нас не убили, — радостно улыбнулся Уильямс. — Как раз наоборот. Джентльмены, — он церемонно поклонился, — позвольте вам представить новых… э-э… богов этого племени.
— Новых чего? — выдавил Форасе. Он все еще кашлял.
— Э-э… богов. Извините, но я не знаю этого слова на галактическом.
— Но что оно означает? Что такое «бог»?
— Мы для них некие сверхъестественные существа — объект поклонения. Разве вы еще не поняли?
Гуманоиды с тоской переглянулись.
— Мы для них, — ухмыльнулся Уильямс, — существа, обладающие огромной силой.
— Что за ерунду ты несешь? — раздраженно произнес Тубал. — С чего они взяли, что вы очень сильны? Силы в вас, землянах, не так-то и много — куда ниже среднего!
— Тут все дело в психологии, — пояснил Уильямс. — Раз уж они увидели, как мы опускаемся в огромной сверкающей повозке, которую таинственная сила переносит по воздуху, а потом эта повозка взлетает, опираясь на огненный столб, то им не остается ничего иного, как считать нас существами сверхъестественными. Это же азы психологии примитивных племен.
Глаза Форасе, слышавшего Уильямса, едва не вылезли от удивления.
— Кстати, — продолжил Уильямс, — а что вас задержало? Мы давно догадались, что это был студенческий прикол, верно?
— Слушай, — оборвал его Сефан, — кончай вешать нам лапшу на уши! Если они решили, что вы боги, то почему они не приняли за богов нас? Мы тоже прилетели на корабле, и…
— А тут, — пояснил Уильямс, — немного вмешались мы. Мы им объяснили картинками и на языке жестов, — что вы были демонами. И когда вы в конце концов вернулись — кстати, мы тоже очень обрадовались, заметив корабль, — они уже знали, что надо делать.
— А что такое «демоны»? — с легким, но совершенно отчетливым оттенком ужаса спросил Форасе.
Уильямс вздохнул:
— Неужели вы, жители Галактики, не знаете элементарщины?
Тубал медленно, потому что шея еще болела, повернул голову.
— Может, пора нас освободить? У меня вся шея затекла.
— Куда ты торопишься? В конце концов, вас принесли сюда, чтобы принести в жертву в нашу честь.
— Принести в жертву?
— Конечно. Вас разрежут ножами на кусочки.
Гуманоиды смолкли, парализованные ужасом. Тубал опомнился первым и прохрипел:
— Хватит нам туфту подсовывать! Сам знаешь, мы не какие-то там земляне, нас так легко не запугаешь.
— О, уж это мы знаем! Сам я ни за что на свете не стал бы пытаться вас одурачить. Но существует такая простая вещь, как психология дикарей, и она требует небольших человеческих жертв, так что…
Связанный Сефан, яростно извиваясь, попытался накинуться на Форасе:
— Ты, по-моему, говорил, что никто не владеет психологией субгуманоидов! Выходит, ты пытался оправдать свое невежество, мохнатый пучеглазый отпрыск незаконнорожденной веганской ящерицы! Ну и вляпались же мы!
Форасе торопливо отполз подальше.
— Нет, погоди! Я только…
Уильямс решил, что шутка зашла слишком далеко.
— Не дергайтесь, ребята, — успокоил он. — Ваш хитроумный прикол дал вам самим пинка под зад — и хорошего пинка, — но мы не собираемся заходить настолько далеко. Пожалуй, мы уже достаточно повеселились за ваш счет. Свини сейчас у туземного вождя, объясняет, что мы собираемся улететь и взять вас с собой. Честно говоря, мне уже давно не терпится отсюда… Погодите, меня зовет Свини.
Когда Уильямс через несколько секунд вернулся, в его глазах застыло странное выражение, а лицо позеленело и продолжало на глазах зеленеть.
— Похоже, — выдавил он, судорожно сглотнув, — что наш прикол теперь дал пинка нам. Туземный вождь настаивает на жертвоприношении!
Трое гуманоидов молча принялись обдумывать ситуацию. Молчание несколько затянулось.
— Я велел Свини, — мрачно добавил Уильямс, — вернуться к вождю и сказать, что если он не поступит так, как мы велели, с его племенем случится нечто ужасное. Но это чистый блеф, а вождь может и заупрямиться. Гм-м… мне очень жаль, парни. Кажется, мы зашли слишком далеко. Если дела пойдут совсем скверно, мы вас развяжем и станем сражаться рядом с вами.
— Тогда развязывай сразу! — взревел Тубал. — Пора с этим покончить!
— Стой! — отчаянно пискнул Форасе. — Пусть землянин сперва испробует психологию. Давай, землянин, раскинь мозгами!
Уильямс задумался настолько упорно, что у него заболела голова.
— Видите ли, — вскоре пробормотал он, — мы потеряли часть своего божественного престижа, когда не смогли вылечить жену вождя. Она вчера умерла. — Он рассеянно кивнул. — И сейчас нам требуется впечатляющее чудо. Гм-м… Парни, а у вас в карманах ничего не завалялось?
Он присел рядом с ними на корточки и принялся обшаривать карманы. У Ври Форасе обнаружились стилус, блокнот, густой гребешок, немного порошка от чесотки, пачка кредиток и всякие безделушки. В карманах Сефана нашлась примерно такая же коллекция бесполезных мелочей.
Зато из заднего кармана Тубала Уильямс извлек небольшой черный предмет, похожий на пистолет с огромной рукояткой и коротким стволом.
— Что это?
Тубал нахмурился.
— Выходит, я именно на нем все это время сидел? Это сварочный пистолет, я им заделывал пробоину в корпусе после удара метеорита. Толку от него никакого — заряд почти кончился.
Глаза Уильямса вспыхнули, тело возбужденно вздрогнуло.
— Это ты так думаешь! Вы, жители Галактики, дальше своего носа ничего не видите. Почему бы вам не слетать на Землю — сразу станете смотреть на мир другими глазами.
И Уильямс помчался к своим приятелям-конспираторам.
— Свини! — заорал он. — Вали к этой проклятой хвостатой обезьяне и передай, что через секунду я разгневаюсь и обрушу небо на его тупую башку. Припугни его как следует!
Однако вождь не стал дожидаться посланника. Он сделал повелительный жест, и туземцы разом бросились вперед. Тубал взревел, его мускулы затрещали, пытаясь разорвать путы. Сварочный пистолет в руке Уильямса ожил, метнув вперед слабый энергетический луч.
Ближайшая к нему хижина внезапно вспыхнула. Затем вторая, третья, четвертая… и тут пистолет выдохся окончательно.
Но этого оказалось достаточно. Ни один туземец не остался на ногах — все они лежали, уткнувшись в землю и воплями вымаливая прощение. Громче всех выл и вопил вождь.
— Передай вождю, Свини, — велел Уильямс, — что то был лишь маленький, незначительный пример того, что мы собирались с ним сделать!
И благодушно добавил, разрезая стягивающие гуманоидов сыромятные ремни:
— Сами видите — примитивная дикарская психология.
Они успели вернуться на корабль и взлететь, и лишь тогда Форасе нашел в себе силы поступиться гордостью:
— Я думал, что земляне никогда не владели математической психологией, потому что она у них не развилась. Откуда же тебе известна психология субгуманоидов? Никто в Галактике не развил эту науку настолько далеко!
— Знаешь, — улыбнулся Уильямс, — мы накопили кое-какие практические приемы обращения с племенами, не затронутыми цивилизацией. Видишь ли, мы прилетели с планеты, где большинство населения, образно говоря, не отличается цивилизованностью. Поэтому такие знания нам просто необходимы.
Форасе медленно кивнул.
— Ну ты и халявщик! Но этот небольшой эпизод, по крайней мере, кое-чему нас научил.
— Чему же?
— Никогда, — заявил Форасе, снова прибегая к жаргону землян, — не дразни чокнутых. Они могут оказаться куда более чокнутыми, чем ты думал!
Тупик
Тор был первым роботом, не потерявшим рассудка. Впрочем, лучше бы он последовал примеру своих предшественников.
Труднее всего, конечно, создать достаточно сложную мыслящую машину, и в то же время не слишком сложную. Робот Болдер-4 удовлетворял этому требованию, но не прошло и трех месяцев, как начал вести себя загадочно: отвечал невпопад и почти все время тупо глядел в пространство. Когда он действительно стал опасен для окружающих, Компания решила принять свои меры. Разумеется, невозможно было уничтожить робота, сделанного из дюралоя: Болдера-4 похоронили в цементе. Прежде чем цементная масса застыла, пришлось бросить в нее и Марса-2.
Роботы действовали, это бесспорно. Но только ограниченное время. Потом у них в мозгу что-то портилось и они выходили из строя. Компания даже не могла использовать их детали. Размягчить затвердевший сплав из пластиков было невозможно и при помощи автогена. И вот двадцать восемь обезумевших роботов покоились в цементных ямах, напоминавших главному инженеру Харнаану о Рэдингской тюрьме.
— И безымянны их могилы! — торжественно воскликнул Харнаан, растянувшись в своем кабинете на диване и выпуская кольца дыма.
Харнаан был высокий человек с усталыми глазами, вечно нахмуренный. И это не удивительно в эпоху гигантских трестов, всегда готовых перегрызть друг другу горло ради экономического господства. Борьба трестов кое-чем даже напоминала времена феодальных распрей. Если какая-нибудь компания терпела поражение, победительница присоединяла ее к себе и — «горе побежденным!»
Ван Дамм, которого скорее всего можно было назвать инженером аварийной службы, кусал ногти, сидя на краю стола. Он был похож на гнома низенький, темнокожий, с умным морщинистым лицом, таким же бесстрастным, как у робота Тора, который неподвижно стоял у стены.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Ван Дамм, взглянув на робота. Твой мозг еще не испортился?
— Мозг у меня в полном порядке, — ответил Тор. — Готов решить любую задачу.
Харнаан повернулся на живот.
— О’кей. Тогда реши вот такую: Лаксингэмская компания увела у нас доктора Сэдлера вместе с его формулой увеличения предела прочности на разрыв для заменителя железа. Этот негодяй держался за нас, потому что здесь ему больше платили. Они надбавили ему, и он перекинулся в Лаксингэм.
Тор кивнул.
— У него был здесь контракт?
— Четырнадцать-Х-семь. Обычный контракт металлургов. Практически нерасторжимый.
— Суд станет на нашу сторону. Но лаксингэмские хирурги, специалисты по пластическим операциям, поторопятся изменить внешность Сэдлера и отпечатки его пальцев. Дело будет тянуться… два года. За это время Лаксингэм выжмет все, что возможно, из его формулы увеличения предела прочности на разрыв для заменителя железа.
Ван Дамм состроил страшную гримасу.
— Реши эту задачу, Тор.
Он бросил беглый взгляд на Харнаана. Оба они знали, что должно сейчас произойти. Они не зря возлагали надежду на Тора.
— Придется применить силу, — сказал Тор. — Вам нужна формула. Робот не отвечает перед законом — так было до сих пор. Я побываю в Лаксингэме.
Не успел Харнаан неохотно процедить: «О’кей», как Тора уже и след простыл. Главный инженер нахмурился.
— Да, я знаю, — кивнул Ван Дамм. — Он просто войдет и стащит формулу. А нас опять привлекут к ответственности за то, что мы выпускаем машины, которыми невозможно управлять.
— Разве грубая сила — это лучшее логическое решение?
— Вероятно, самое простое. Тору нет надобности изобретать сложные методы, не противоречащие законам. Ведь это неразрушимый робот. Он просто войдет в Лаксингэм и возьмет формулу. Если суд признает Тора опасным, мы можем похоронить его в цементе и сделать новых роботов. У него ведь нет своего «я», вы же знаете. Для него это не имеет значения.
— Мы ожидали большего, — проворчал Харнаан. — Мыслящая машина должна придумать многое.
— Тор может придумать многое. Пока что он не потерял рассудка, как другие. Он решал любую задачу, какую бы мы ему ни предлагали, даже эту кривую тенденции развития, которая поставила в тупик всех остальных.
Харнаан кивнул.
— Да. Он предсказал, что выберут Сноумэни… это выручило компанию из беды. Он способен думать, это бесспорно. Держу пари, что нет такой задачи, которую он не смог бы решить. И все-таки Тор недостаточно изобретателен.
— Если представится случай… — Ван Дамм вдруг отклонился от темы. Ведь у нас монополия на роботов. А это уже кое-что. Пожалуй, пришло время поставить на конвейер новых роботов типа Тора.
— Лучше немного подождем. Посмотрим, потеряет ли Тор рассудок. Пока что он самый сложный из всех, какие у нас были.
Видеотелефон, стоявший на столе, вдруг ожил. Послышались крики и ругань.
— Харнаан! Ах, ты, вшивый негодяй! Бесчестный убийца! Ты…
— Я записываю ваши слова, Блейк! — крикнул инженер, вставая. — Не пройдет и часа, как против вас будет возбуждено обвинение в клевете.
— Возбуждай и будь проклят! — завопил Блейк из Лаксингэмской компании. — Я сам приду и разобью твою обезьянью челюсть! Клянусь богом, я сожгу тебя и наплюю на твой пепел!
— Теперь он угрожает убить меня, — громко сказал Харнаан Ван Дамму. Счастье, что я записываю все это на пленку.
Багровое лицо Блейка на экране стало размываться. Однако прежде, чем оно окончательно исчезло, на его месте появилось другое — гладко выбритая, вежливая физиономия Йэйла, начальника полицейского участка. Йэйл, видимо, был озабочен.
— Послушайте, мистер Харнаан, — печально произнес он, — так не годится. Давайте рассуждать здраво, идет? В конце концов, я тут блюститель закона…
— Гм! — вполголоса хмыкнул Харнаан.
— … и не могу допускать членовредительства. Может быть, ваш робот лишился рассудка? — с надеждой спросил он.
— Робот? — повторил Харнаан с удивлением. — Я не понимаю. О каком роботе вы говорите?
Йэйл вздохнул.
— О Торе. Конечно, о Торе. О ком же еще? Теперь я понял, вы ничего об этом не знаете. — Он даже осмелился сказать это слегка саркастическим тоном. — Тор явился в Лаксингэм и все там перевернул вверх дном.
— Неужели?
— Ну да. Он прямо прошел в здание. Охрана пыталась его задержать, но он просто всех растолкал и продолжал идти. На него направили струю огнемета, но это его не остановило. В Лаксингэме достали все защитное оружие, какое только было в арсенале, а этот ваш дьявольский робот все шел и шел. Он схватил Блейка за шиворот, заставил его отпереть дверь лаборатории и отобрал формулу у одного из сотрудников.
— Удивительно, — заметил пораженный Харнаан. — Кстати, кто этот сотрудник? Его фамилия не Сэдлер?
— Не знаю… подождите минутку. Да, Сэдлер.
— Так ведь Сэдлер работает на нас, — объяснил инженер. — У нас с ним железный контракт. Любая формула, какую бы он ни вывел, принадлежит нам.
Йэйл вытер платком блестевшие от пота щеки.
— Мистер Харнаан, прошу вас! — проговорил он в отчаянии. — Подумайте только, каково мое положение! По закону я обязан что-то предпринять. Вы не должны позволять своему роботу совершать подобные насилия. Это слишком… слишком…
— Бьет в глаза? — подсказал Харнаан. — Так я же вам объяснил, что все это для меня новость. Я проверю и позвоню вам. Между прочим, я возбуждаю обвинение против Блейка. Клевета и угроза убийства.
— О боже! — воскликнул Йэйл и отключил аппарат.
Ван Дамм и Харнаан обменялись восхищенными взглядами.
— Прекрасно, — захихикал похожий на гнома инженер аварийной службы. Блейк не станет бомбардировать нас — и у нас и у них слишком сильная противовоздушная оборона. Так что дело пойдет в суд. В суд!
Он криво усмехнулся.
Харнаан снова улегся на диван.
— Мы это сделали. Теперь надо принять решение бросить все силы на таких роботов. Через десять лет Компания будет господствовать над всем миром. И над другими мирами тоже. Мы сможем запускать космические корабли, управляемые роботами.
Дверь отворилась, и появился Тор. Вид у него был обычный. Он положил на стол тонкую металлическую пластинку.
— Формула увеличения предела прочности на разрыв для заменителя железа.
— У тебя нет повреждений?
— Нет, это невозможно.
Тор подошел к картотеке, вынул оттуда конверт и снова исчез. Харнаан встал и начал рассматривать пластинку.
— Да. Это она. — Он опустил ее в щель движущейся ленты. — Иногда все разрешается совсем просто. Пожалуй, на сегодня я кончил. Послушайте! А что это Тор сейчас замышляет?
Ван Дамм посмотрел на него.
— А?
— Зачем он полез в картотеку? Что у него на уме? — Харнаан порылся в регистраторе. — Какая-то статья по электронике — не знаю, зачем она ему понадобилась. Наверное, собирается заняться какими-то самостоятельными исследованиями.
— Интересно, — произнес Ван Дамм. — Пойдем посмотрим.
Они спустились на лифте в подвальный этаж, в мастерскую робота, но там никого не было. Харнаан включил телевизор.
— Проверка. Где Тор?
— Одну минуту, сэр… В седьмой литейной. Соединить вас с мастером?
— Да. Айвер? Чем занимается Тор?
Айвер почесал затылок.
— Прибежал, схватил таблицу пределов прочности на разрыв и снова выбежал. Подождите минутку. Вот он опять здесь.
— Прикажите ему связаться с нами, — сказал Харнаан.
— Попробую, — лицо Айвера исчезло, но тут же вновь появилось. — Не успел. Он взял кусок синтопласта и вышел.
— Что все-таки происходит? — спросил Ван Дамм. — Вы не думаете…
— Что он тоже спятил, как и другие роботы? — проворчал Харнаан. — Они себя так не вели. Но, впрочем, все возможно.
Как раз в эту минуту появился Тор. В своих резиновых руках он держал кучу всевозможных предметов. Не замечая Харнаана и Ван Дамма, он положил все это на скамью и начал раскладывать, работая быстро и точно.
— Он не отвечает на команды, но лампочка горит.
Во лбу Тора светился красный сигнальный огонек: он зажигался, когда робот был занят решением задачи. Это новое усовершенствование позволяло проверить, не лишился ли робот рассудка. Если бы огонек мигал, это означало бы, что нужно кое о чем позаботиться — приготовить свежую порцию цемента, чтобы устроить могилу для обезумевшего робота.
— Тор, что ты делаешь? — обратился к нему Ван Дамм.
Робот не ответил.
— Да, что-то произошло, — Харнаан нахмурился. — Интересно, что это такое?
— Любопытно, что навело его на эту мысль, — сказал инженер аварийной службы. — Наверняка какие-то недавние события. Может, он занимается усовершенствованием процесса производства заменителя железа?
— Возможно. Гм-гм…
Несколько минут они смотрели, как трудится робот, но ни о чем не могли догадаться. В конце концов, вернувшись в кабинет Харнаана, они выпили по рюмке, рассуждая о том, что мог затеять Тор. Ван Дамм стоял на своем, считая, что это, вероятно, усовершенствование процесса производства заменителя железа, а Харнаан не соглашался с ним, но не мог придумать ничего более правдоподобного.
Они все еще спорили, когда увидели в телевизоре, что в подвальном помещении произошел взрыв.
— Атомная энергия! — одним прыжком вскочив с дивана, крикнул Харнаан. Он бросился к лифту; Ван Дамм поспешил за ним. В подвале кучка людей собралась у двери в мастерскую Тора.
Харнаан пробился к ней и, переступив порог, вошел в облако цементной пыли. Когда оно рассеялось, он увидел у своих ног разбросанные куски сплава. Это были остатки Тора. Робота, по-видимому, уже нельзя было отремонтировать.
— Забавно, — пробормотал Харнаан. — Взрыв был не очень сильный. Но если он разрушил Тора, то должен был разрушить и весь завод, во всяком случае подвал. Ведь дюралой почти расплавился.
Ван Дамм не ответил. Харнаан взглянул на него и увидел, что инженер аварийной службы смотрит на какой-то прибор, парящий в пыльном воздухе на расстоянии нескольких метров от них.
Несомненно, это был прибор. Харнаан узнал некоторые детали из тех, что Тор принес в свою мастерскую. Но разгадать, что это за агрегат и для какой цели он предназначается, было нелегко. Он походил на игрушку, составленную каким-то странным ребенком из деталей набора «Конструктор».
Это было нечто вроде цилиндра длиной сантиметров шестьдесят, диаметром — тридцать, с линзой, движущимися частями и проволочной катушкой. Прибор гудел.
Вот и все, что можно было о нем сказать.
— Что это такое? — с тревогой спросил Харнаан.
Ван Дамм осторожно отступил к обломкам двери. Он отдал отрывистые торопливые приказания. Стенные панели плотно сдвинулись, и человек в синей форменной куртке поспешно подошел к инженеру аварийной службы.
— Все задержаны, начальник.
— Хорошо, — сказал Ван Дамм. — Загипнотизируйте этих ребят.
Он кивнул в сторону рабочих. Их было человек двадцать. Они беспокойно задвигались.
— Хотим знать причину, сэр! — крикнул кто-то из них.
Ван Дамм улыбнулся.
— Вы видели, что осталось от Тора. Если распространится слух, что один из наших неразрушимых роботов может быть разрушен, другие компании начнут нам пакостить. Помните, что произошло со стальными роботами, которых мы выпускали? Их портили. Вот почему мы стали производить роботов из дюралоя. Это единственный практически применимый тип. Мы только уберем из вашего мозга представление о том, что Тор сгорел. Тогда ни Лаксингэм, ни другие компании не смогут получить этой информации, даже если применят к вам действие скополамина.
Удовлетворенные его ответом, рабочие стали выходить один за другим. Харнаан по-прежнему смотрел на прибор непонимающим взглядом.
— На нем нет выключателя, — заметил он. — Интересно, что приводит его в движение?
— Может быть, мысль, — предположил Ван Дамм. — Но будьте осторожны. Нельзя запускать прибор, пока мы не узнаем его назначения.
— Что ж, логично, — кивнул Харнаан.
Вдруг он изменился в лице.
— Я только сейчас начинаю понимать, зачем создана эта машина. Предполагалось, что Тор неразрушим.
— Нет ничего абсолютно неразрушимого.
— Знаю. Но дюралой… гм-м-м. Посмотрите, там линза. Может быть, она здесь для того, чтобы фокусировать какие-то мощные лучи, разрушающие атомную структуру сплавов? Нет. Ведь от Тора-то остался дюралой! Значит, не в этом дело. А все-таки… Берегись!
Он пригнулся и быстро отскочил в сторону, потому что прибор, висевший в воздухе, начал медленно вращаться.
Ван Дамм нырнул в дверь.
— Вы привели его в действие! Уйдем отсюда!
Но он опоздал. Прибор пронесся у него над головой, выдернув на лету клок седых волос, и стукнулся о металлическую перегородку, разделявшую помещения подвала. Харнаан и Ван Дамм стояли в проеме двери, которая вела в мастерскую робота, и смотрели, как прибор медленно прогрызал себе путь сквозь твердую сталь.
И вот он исчез.
Харнаан взглянул на телевизор, стоявший позади него. Экран был разбит взрывной волной. Главный инженер вздрогнул.
— Не думаете ли вы…
Он осекся.
Ван Дамм испытующе посмотрел на пего.
— Что?
— Пожалуй… Но… Я думаю о механической мутации.
— Это невозможно! — убежденно заявил Ван Дамм. — Механическая чушь!
— А все же подумайте! Когда жизнь достигает какого-то кульминационного пункта, происходит мутация. Это биологический закон. Предположите, что Тор создал робота еще более совершенного, чем он сам, и… и…
— Эта штука, — сказал Ван Дамм, указывая на дыру в стене, — может быть чем угодно, но только не роботом. Это машина. И машина мыслящая. Но она обладает силой, огромной силой. Наше дело — выяснить, как применить эту силу. — Он помолчал.
— Может, спросить Тора?
Харнаан покачал головой.
— Не выйдет. Его мозг сгорел. Я это проверил.
— А роботы не оставляют записей. Но ведь можем же мы как-то выяснить назначение этого прибора.
— Прожигать отверстия в стали, — заметил Харнаан.
— Попробуем сообразить, — сказал Ван Дамм, посмотрев на свой ручной хронометр. — Мы должны поставить себя на место робота и понять, что ему могло прийти в голову.
Харнаан взглянул на инженера аварийной службы и поспешно вышел в соседнюю комнату. Там не было никаких признаков машины. Но дыра в потолке объясняла все, что здесь произошло.
Они поднялись по лестнице и на экране телевизора, стоявшего в холле, увидели, что прибор висит неподвижно в одном из цехов. Он оставался в том же положении, когда Ван Дамм и Харнаан вошли в цех. Пятьдесят металлических станков были выстроены в ряд; рабочие с удивлением смотрели на плавающий в воздухе предмет.
Подошел мастер.
— Что это такое? — спросил он. — Новая выдумка Лаксингэма? Может быть, бомба?
— Как она действует?
— Никак. Только станки не работают.
Ван Дамм взял длинный шест с металлическим наконечником и приблизился к загадочной машине. Она медленно поплыла прочь. Загнав ее в угол, он ткнул в нее шестом — никакого результата. Тон гудения не изменился.
— Теперь попробуйте включить станки, — предложил Харнаан.
Они по-прежнему не работали. Но прибор, будто почуяв, что может завоевать новые миры, скользнул к двери, прожег себе путь сквозь нее и исчез.
Теперь он вырвался из большого здания. С балкона, выступавшего над высокой, как утес, стеной, Харнаан и Ван Дамм могли, глядя вверх, видеть, как прибор плавно поднимается к небу. Он исчез где-то в вышине; и на голову им полетели осколки флексигласа. Они едва успели спрятаться.
— Он где-то натворит бед, и чует мое сердце, что в кабинете Туилла.
Все было ясно. Джозеф Туилл был одним из совладельцев Компании, богоподобным существом, пребывавшим в разреженной атмосфере, в самых высоких башнях.
Встревоженная охрана впустила их в служебные апартаменты Туилла. Как и предполагал Харнаан, случилось самое худшее. Загадочно гудящий прибор опустился на стол к магнату. Сам Туилл, оцепенев от ужаса, скорчился в своем кресле и тупо уставился на машину. Он то вздрагивал и бледнел как полотно, то снова приходил в себя с интервалами примерно в три минуты.
Ван Дамм выхватил пистолет.
— Дайте мне ацетиленовый резак! — крикнул он и решительно направился к прибору, который поплыл к Туиллу. Инженер аварийной службы, быстро повернувшись, выстрелил. Он промахнулся. Прибор поднялся вверх, помедлил, а потом пошел вниз сквозь письменный стол со всеми его ящиками, сквозь ковер и пол — и исчез. Гудение постепенно утихло.
Туилл вытер лицо.
— Что это такое? — сказал он. — Я думал…
Ван Дамм посмотрел на Харнаана. Тот перевел дух и сообщил шефу все, что они знали.
— Теперь мы уничтожим его, — закончил он. — Ацетиленовый резак быстро его расплавит — ведь это не дюралой.
Туилл снова напустил на себя важный вид.
— Стойте, — приказал он, когда Харнаан уже повернулся к двери. — Не уничтожайте его без надобности. Может, это все равно что взорвать алмазные россыпи. Эта штука, должно быть, стоящая, даже если это оружие.
— Она вам не причинила вреда? — спросил Ван Дамм.
— Собственно говоря, нет. Сердце у меня то сжималось и замирало, то опять начинало биться правильно.
— На меня она так не действовала, — заметил Харнаан.
— Нет? Может, и придется ее уничтожить, но помните — только в случае крайней необходимости. Тор был толковым роботом. Если мы узнаем назначение этой штуки…
Выйдя из кабинета, Ван Дамм и Харнаан посмотрели друг на друга. Разумеется, Туилл был совершенно прав. Если бы только можно было изучить возможности этого прибора! Вероятно, они неограниченны. По внешнему виду ничего нельзя было сказать. Он прожег металлическую стену, но это можно было сделать с помощью ацетилена или термита. Его неуловимое излучение подействовало на сердце Туилла. Но это тоже ни о чем не говорило. Не был же прибор создан только для того, чтобы испортить Туиллу самочувствие.
Прибором никто не управлял, но это не значило, что им нельзя было управлять. И все-таки только Тор мог сказать, для чего он так поспешно построил эту машину.
— Попробуем проследить, какие она дает побочные эффекты; может быть, это позволит установить ее назначение, — предложил Харнаан.
Ван Дамм возился в холле с телевизором.
— Подождите минутку. Я хочу выяснить…
Он резко заговорил в микрофон. Потом охнул с искренним огорчением.
Все часы на заводе остановились. Все точные инструменты пришли в негодность. Если верить показаниям сейсмографа, происходило сильное землетрясение. Если верить барометру, бушевал ураган. А если судить по действию атомного ускорителя, вся материя стала до невозможности инертной.
— Невероятность! — произнес Харнаан, хватаясь за соломинку. Коэффициент невероятности. Он переворачивает законы вероятности.
— Вам то-что от этого? — ответил Ван Дамм. — Вы скоро начнете считать по пальцам. Мы имеем дело с логичной, лишенной эмоций наукой. Стоит только найти ключ, и все станет ясным как дважды два.
— Но мы не знаем всех возможностей робота. Он мог создать что угодно… нечто выходящее за пределы нашего понимания.
— Вряд ли, — с присущим ему здравым смыслом заметил Ван Дамм. — До сих пор с точки зрения современной науки прибор не совершил ничего невозможного.
Телевизор истерически застрекотал. Па глазах у них все сотрудники исследовательского отдела B-4 превратились в скелеты, а потом и вовсе исчезли. Разумеется, там побывал прибор.
— Да… — сказал Ван Дамм немного хриплым голосом. — Я все-таки схожу за резаком. Так мне будет спокойнее.
Пока они доставали это оружие, оказалось, что исчезнувшие сотрудники появились снова, причем загадочный эксперимент нисколько им не повредил. Тем временем прибор посетил Отдел личного состава, до истерики испугал секретаршу, засветил пленки и привел в состояние невесомости огромный сейф, так что тот повис на потолке, среди кусков раздавленного пластика.
— Теперь он уничтожает силу тяжести, — с горечью констатировал Харнаан. — Попробуйте свести воедино все, что нам о нем известно. До сих пор мы знали, что прибор уничтожает силу тяжести, делает людей невидимыми, выключает электроэнергию и вызывает у Туилла сердечные приступы. Все говорит только о том, что это машина разрушения.
— Она ведет себя все хуже и хуже, — согласился Ван Дамм. — Но нужно еще поймать ее, прежде чем мы сможем направить шланг на эту проклятую штуковину.
Он пошел было к лифту, но передумал и включил ближайший телевизор. Новости были отнюдь не обнадеживающие. Прибор забрался в продуктовый склад, и там скисло все молоко.
— Хотел бы я напустить его на Лаксингэм, — заметил Харнаан. — Ну и натворил бы он там делишек… Бог свидетель, нам-то он изо всех сил старается навредить! Если бы мы только знали, как им управлять!
— Телепатическим способом, — во второй раз подсказал Ван Дамм. — Но нам нельзя пробовать. Судя по тому, что он уже натворил, он расщепит на нейтроны весь округ, если мы… ха-ха!.. попытаемся управлять им.
— Может быть, только робот способен им управлять, — произнес Харнаан и вдруг, просияв, щелкнул пальцами.
— Продолжайте!
— Существует еще один робот, построенный по образцу Тора. Он совсем готов, закончен, и в его электронную память вложена целая библиотека. Остается только снабдить его энергией. Да, вот это идея. Мы не можем представить себе назначение этого прибора, но другой робот, такой же, как Тор, сможет. Ведь он обладает совершенной логикой, не так ли?
— Насколько это безопасно? — нерешительно сказал Ван Дамм. — А вдруг он направит прибор на нас? А что, если этот агрегат создан для того, чтобы превратить роботов в господствующую расу?
— Похоже, как будто вы сами спятили, — съязвил Харнаан.
Он передал по телевизору какие-то распоряжения и, улыбаясь, отошел от него. Через пятнадцать минут должен был явиться Тор-2 в состоянии рабочей готовности, мыслящий и способный разрешать любые задачи.
Однако эти четверть часа прошли в тревоге и волнениях. Прибор, словно подстрекаемый каким-то демоном, стремился забраться в каждый отдел гигантского предприятия. Он превратил ценную партию золотых слитков в почти ничего не стоящий свинец. Он аккуратно, полосками снял одежду с важного клиента в верхней башне. Потом снова пустил в ход все часы, но только в обратную сторону. И еще раз нанес визит несчастному мистеру Туиллу, вызвав у него новый сердечный приступ, после чего от босса стало исходить неясное красноватое сияние, которое окончательно исчезло только через месяц после этого происшествия.
За эти пятнадцать минут нервы у всех были взвинчены еще больше, чем в последний раз, когда бомбардировщики Лаксингэма кружили над башнями Компании. Туилл пытался что-то объяснить своим компаньонам в Нью-Йорке и Чикаго и выкрикивал проклятия. Техники и аварийные монтеры налетали друг на друга в холлах. Над зданием парил вертолет, готовый сбить прибор, как только тот попытается ускользнуть. Акционеры Компании молили небеса, чтобы прибор в конце концов оставил их в покое.
А загадочный нервирующий прибор, который всегда появлялся неожиданно, весело плыл своей дорогой, пока что причинив не так уж много вреда, если не считать того, что он дезорганизовал всю Компанию. Пока подготавливали Тора-2, Харнаан грыз ногти. Затем он помог быстро смонтировать робота и вместе с ним спустился в лифте, чтобы присоединиться к Ван Дамму, который запасся резаком и ожидал Харнаана на одном из нижних этажей, где в последний раз видели прибор.
Ван Дамм окинул робота испытующим взглядом.
— Ему заданы условия и он может действовать?
— Да, — кивнул Харнаан. — Ты знаешь, чего мы хотим, Тор-2, не так ли?
— Да, — ответил робот. — Но, не видя аппарата, я не могу определить его назначение.
— Спору нет, — проворчал Ван Дамм, когда мимо него с визгом пронеслась какая-то блондинка. — Наверное, он в этой конторе.
Ван Дамм пошел впереди. Из конторы, конечно, все убежали, а прибор, слабо жужжа, висел в воздухе посреди комнаты. Тор-2 прошел вслед за Харнааном и остановился, пристально разглядывая загадочную машину.
— Он живой? — тихо спросил Харнаан.
— Нет.
— Это машина?
— Похоже, что он был создан, чтобы решить определенную задачу… это несомненно. Но я не знаю, решил ли он задачу, для которой он был создан. Есть только один способ получить ответ.
Тор-2 шагнул вперед. Прибор плавал, и линза была нацелена на робота. Какой-то инстинкт предостерег Харнаана. Он услышал, как гудение усилилось, и в тот же миг бросился к Ван Дамму. Оба они столкнулись, и портативный резак, выскользнув из рук инженера аварийной службы, тяжело стукнулся о стену и ушиб ногу Харнаана.
Но он почти не почувствовал боли, так как был поглощен более важными событиями. От прибора протянулся яркий розовый луч и осветил Тора-2. В то же время гудение усилилось и перешло в пронзительный, действующий на нервы вой. Он длился недолго — затем раздался взрыв, который ослепил и оглушил обоих людей. На них обрушился стол.
Харнаан надрывно закашлялся и что-то пробормотал. Он почувствовал, что остался жив, и даже слегка удивился этому. Поднимаясь, он успел заметить, как Ван Дамм выскочил вперед, держа в руке резак и направляя воющее пламя на прибор, который не сделал никакой попытки ускользнуть. Он накалился докрасна и затем начал плавиться. Капли металла потекли на пол. Прибор, или, вернее, то, что от него осталось, упал с глухим стуком, теперь уже безвредный и лишенный смысла.
Ван Дамм отвел шланг. Тихое гудение прекратилось.
— Опасная штука, — сказал он, глядя на Харнаана блуждающим взглядом. Успел как раз вовремя. Вы ранены?
— Как раз вовремя! — повторил Харнаан, указывая на робота. Взгляните сюда!
Ван Дамм увидел Тора-2, которого постигла та же участь, что и Тора-1. Разбитый, расплавленный робот лежал возле двери.
Харнаан провел рукой по щеке и посмотрел на почерневший металл. Он прислонился к столу; постепенно лицо его прояснилось, и он улыбнулся. Ван Дамм в изумлении глядел на него.
— Какого черта…
Но Харнааном овладел почти истерический смех.
— Он… он выполнил свое назначение, — наконец выговорил главный инженер. — Какой… какой удар для Компании! Прибор сработал!
Ван Дамм схватил его за плечо и начал трясти. Харнаан успокоился, хотя губы его все еще кривились в улыбке.
— О’кей, — произнес он наконец. — Я я ничего не мог с собой поделать. Очень уж забавно!
— Что? — спросил Ван Дамм. — Если вы видите здесь что-то забавное…
Харнаан перевел дух.
— Этот… ну, этот порочный круг. Разве вы еще не догадались, зачем был создан прибор?
— Лучи смерти или что-нибудь в этом роде?
— Вы упустили из виду то, что сказал Тор-2: есть только один способ узнать, может ли прибор сделать то, ради чего он был создан.
— Ну, так какой же это способ?
Харнаан фыркнул.
— Рассуждайте логически. Помните первых роботов, которых мы изготовляли? Их всех портили, и потому мы стали выпускать роботов из дюралоя, которых по идее нельзя было разрушить. А роботы создавались для того, чтобы решать задачи, — в этом был смысл их существования. Все шло хорошо до тех пор, пока они не теряли рассудка.
— Я все это знаю, — нетерпеливо сказал Ван Дамм. — Но при чем тут прибор?
— Они портились, — продолжил Харнаан, — когда перед ними вставала неразрешимая задача. Это элементарная психология. Перед Тором встала та же задача, но он разрешил ее.
По лицу Ван Дамма стало видно, что он постепенно начинает догадываться.
Харнаан продолжил:
— Постепенно роботы задумывались над задачей, неизбежно встававшей перед ними: как они сами могут быть разрушены. Мы конструировали их таким образом, чтобы они в большей или меньшей степени могли действовать самопроизвольно. Это был единственный способ сделать их хорошими мыслящими машинами. Перед роботами, похороненными в цементе, вставала задача: каким образом разрушить самих себя; не в силах ее решить, они теряли рассудок. Тор-1 оказался умнее. Он нашел ответ. Но у него был единственный способ проверить правильность решения — на себе самом!
— Но он же знал, что Тор-1 был уничтожен…
— Тор-2 знал, что прибор подействовал на Тора-1, но не знал, подействует ли он на него самого. Роботы обладают холодной логикой. У них нет инстинкта самосохранения. Тор-2 просто испытал прибор, чтобы посмотреть, сможет ли он решить ту же задачу. — Харнаан перевел дух. Прибор решил ее.
— Что мы скажем Туиллу? — безучастно спросил Ван Дамм.
— Что мы можем ему сказать? Правду, — что мы зашли в тупик. Единственные роботы, которых нам стоит производить, — это мыслящие машины из дюралоя, а они будут уничтожать сами себя, как только начнут задавать себе вопрос, в самом ли деле их нельзя разрушить. Каждый из выпущенных нами роботов дойдет до последнего испытания — саморазрушения. Если мы сделаем их не такими разумными, их нельзя будет применять. Если мы перестанем применять дюралой, Лаксингэм или другая компания начнет их портить. Роботы, конечно, замечательная вещь, но они родятся со стремлением к самоубийству. Ван Дамм, я боюсь, нам придется сказать Туиллу, что Компания зашла в тупик.
— Так в этом и состояло истинное назначение прибора, а? — пробормотал инженер аварийной службы. — А все остальные его проделки — это лишь побочные явления, результаты действия неуправляемой машины?
— Да.
Харнаан направился к двери, обойдя полурасплавленные останки робота. Он с грустью взглянул на свое погибшее создание и вздохнул.
— Когда-нибудь, возможно, мы и найдем выход. Но сейчас, по-видимому, получился порочный круг. Нам не следовало называть его Тором, — добавил Харнаан, выходя в холл. — Я думаю, правильнее было бы назвать его Ахиллом.
Мать-Земля
— Кто вы такой, чтобы утверждать это? Вы уверены, что даже профессиональный историк всегда может отличить победу от поражения?
Густав Штейн, который с улыбкой задал этот вопрос и утер седые усы, еще миг назад касавшиеся края опустевшего стакана, не был историком. Он был психологом.
Историком был его собеседник, и эту дружескую подначку он встретил ответной улыбкой.
Квартира у Штейна была по земным меркам роскошная. Конечно, ей недоставало пустынной уединенности Внеземелья, поскольку за ее окнами простирался феномен, присущий лишь планете-прародительнице, — город. Огромный город, полный людей, толкотни, шума…
Не была квартира Штейна оборудована и собственным источником энерго- и водоснабжения. В ней отсутствовало даже минимально необходимое число позитронных роботов. Словом, она не могла похвастаться достоинством автономности и, как и все на Земле, являлась просто частью сообщества, ячейкой сот, частичкой толпы.
Но Штейн родился на Земле и привык к этому. И потом, по земным меркам квартира у него была все-таки роскошная.
Просто из тех же самых окон, за которыми раскинулся город, были видны звезды, а среди них притаились планеты Внеземелья, где не было никаких городов, только сады, где зеленели изумрудные лужайки, где все люди были королями и куда все нормальные земляне горячо и тщетно надеялись в один прекрасный день попасть.
За исключением тех, кто кое-что знал — как Густав Штейн. Пятничные вечера с Эдвардом Филдом принадлежали к числу ритуалов того сорта, которые порождаются возрастом и спокойной жизнью. Они вносили приятное разнообразие в будни двух пожилых холостяков и давали им законный повод посидеть за шерри и звездами. Они отвлекали их от житейских тягот и, самое главное, давали возможность поговорить.
Особенно Филду, который, будучи преподавателем, ученым и человеком скромного достатка, обожал цитировать свой неоконченный труд по истории Земной империи.
— Я хочу дождаться последнего акта, — объяснил он. — Тогда я смогу озаглавить мой труд «Закат и падение империи» и опубликовать его.
— Значит, вы полагаете, что последний акт разыграется в самое ближайшее время.
— В каком-то смысле он уже разыгрался. Просто лучше подождать, пока все не осознают этот факт. Видите ли, закат любой империи, экономической системы или социального института можно разделить на три этапа, вы, Фома неверующий…
Филд оборвал себя, помолчал для пущего эффекта и дождался, когда Штейн наконец поинтересовался:
— И что же это за этапы?
— На первом этапе, — Филд загнул мизинец на правой руке, — на приближение неотвратимого финала указывает лишь один крохотный звоночек. Никто не замечает его до тех пор, пока не наступает конец, и тогда, оглядываясь назад, все понимают, что это и был тот самый звоночек.
— И вы знаете, когда прозвенел этот звоночек?
— Думаю, да, поскольку у меня есть одно преимущество: я только и делаю, что оглядываюсь назад, на промежуток протяженностью в сто пятьдесят лет. Это произошло, когда одна колония из сектора Сириуса, Аврора, впервые получила разрешение Центрального Правительства Земли внедрить в жизнь общины позитронных роботов. Сейчас уже совершенно очевидно, что это событие открыло дорогу развитию полностью механизированного общества, основанного не на человеческом, а на машинном труде. Именно эта механизация стала и останется в будущем решающим фактором в борьбе между Землей и Внеземельем.
— Неужели? — пробормотал психолог. — До чего же вы, историки, умные! Настоящие дьяволы. А каков второй этап падения империи?
— Второй этап, — Фидд осторожно загнул безымянный палец на правой руке, — наступает, когда обнаруживается какой-нибудь тревожный признак, настолько серьезный и явный, что эксперты видят его, даже не обращаясь к перспективе. И эта веха тоже была пройдена, когда планеты Внеземелья впервые ввели иммиграционную квоту для жителей Земли. Тот факт, что Земля оказалась не в состоянии предотвратить столь пагубную для нее меру, стал вторым и очень тревожным звонком, а ведь это произошло пятьдесят лет тому назад.
— Час от часу не легче. А третий этап?
— Третий этап? — В ход пошел средний палец. — Он почти не важен. Третий этап начинается, когда тревожный признак превращается в гигантскую стену с нацарапанной на ней огромной надписью «Конец». Чтобы понять, что конец настал, на этом этапе не нужно ни умения предвидеть перспективу, ни специальных знаний, достаточно просто иметь возможность слушать видео.
— Насколько я понял, третий этап пока что не наступил.
— Очевидно, нет, иначе вы бы не спрашивали. Впрочем, он может наступить в самом ближайшем времени, к примеру если начнется война.
— Думаете, война будет?
Филд уклонился от прямого ответа.
— Времена нынче тревожные, а по вопросу иммиграции по всей Земле ломается немало копий. И если начнется война, то Земля потерпит быстрое и долговременное поражение и перед нами появится та самая стена.
— Кто вы такой, чтобы утверждать? Вы уверены, что даже профессиональный историк всегда может отличить победу от поражения?
Филд улыбнулся.
— Возможно, вам известно что-то такое, чего не знаю я, — сказал он. — К примеру, ходят слухи о каком-то Тихоокеанском проекте.
— Никогда о таком не слышал. — Штейн наполнил оба стакана. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом.
Он поднес свой стакан к широкому окну, так что в прозрачной жидкости розовато замерцали далекие звезды, и произнес:
— За счастливое окончание всех земных бед. Филд присоединился к нему со словами:
— За Тихоокеанский проект.
Штейн сделал небольшой глоток и заметил:
— Но мы с вами пили за две разные вещи.
— Вы думаете?
Довольно трудно описать какой-либо из миров Внеземелья человеку, рожденному на Земле, потому что описывать приходится не мир как таковой, а скорее состояние души. В физическом смысле миры Внеземелья — их насчитывается что-то около пятидесяти, изначально они были колониями, позднее — доминионами, еще позднее — отдельными государствами — разительно отличаются друг от друга. Но состояние души повсюду практически совпадает.
Это нечто такое, что произрастает на почве мира, изначально не пригодного для жизни человеческого рода, однако населенного самыми-самыми из непростых, особенных, дерзких, не таких, как все. Если необходимо выразить это одним словом, слово это будет «индивидуальность».
Есть, к примеру, планета Аврора, в трех парсеках от Земли. Она была первой колонией, основанной за пределами Солнечной системы, и стала символом зари межзвездных путешествий. Отсюда и название.
На ней, конечно, были воздух и вода, но по земным меркам она была каменистой и бесплодной. Существовавшая на ней растительная жизнь, которая получала питание за счет желто-зеленого пигмента, не имевшего ничего общего с хлорофиллом и не шедшего с ним ни в какое сравнение по эффективности, придавала сравнительно плодородным регионам исключительно тошнотворный и отталкивающий для непривычного глаза вид. Животный мир ограничивался лишь простейшими одноклеточными организмами да подобием бактерий. Никакой опасности они, разумеется, не представляли, поскольку биосистемы Земли и Авроры химически были никак не связаны друг с другом.
Аврору обустраивали в буквальном смысле по кусочкам. Первыми появились злаки и плодовые деревья; следом завезли кусты, цветы и травы. Потом скот. И, как будто переселенцы ни в коем случае не хотели создавать слишком точную копию родной планеты, на Авроре появились позитронные роботы, задачей которых было возводить дворцы, разбивать ландшафты, конструировать силовые установки. Словом, осваивать планету, озеленять ее и очеловечивать.
Роскошь нового мира и неограниченных минеральных ресурсов. Пьянящее изобилие атомной энергии, которую вырабатывали новые установки, обслуживающие тысячи, в лучшем случае миллионы, а не миллиарды потребителей. На просторе новых планет пышным цветом расцвели естественные науки.
Взять, к примеру, дом Франклина Мейнарда, который со своей женой, тремя детьми и двадцатью семью роботами жил на участке, откуда до ближайших соседей было более сорока миль. Тем не менее при желании он мог через планетарный канал подключиться к гостиной любого из семидесяти пяти миллионов обитателей Авроры — хоть поодиночке, хоть ко всем сразу.
Свою долину Мейнард знал как собственные пять пальцев. Он точно знал, в каком месте она резко обрывается и упирается в инопланетные утесы, за чьи неприступные склоны с мрачным упорством цеплялся остролистый местный дрок — словно в пику более кротким растениям, которые заняли его место под солнцем.
Мейнарду не было нужды покидать долину. Он был депутатом Собрания, но мог вести все дела, кроме особо важных, по планетарному каналу, не жертвуя даже своим драгоценным уединением, без которого ему было не обойтись и необходимости в котором не дано было понять ни одному землянину.
Даже с предстоящим ему делом можно было справиться по планетарному каналу. К примеру, человек, сидевший рядом с ним в его гостиной, был Чарльз Хиджкмен, и на самом деле он сидел у себя в гостиной на острове посреди искусственного озера, где водилось пятьдесят видов рыбы и до которого было двадцать пять миль пути.
Эта близость была, разумеется, иллюзорной. Если бы Мейнард протянул руку, то наткнулся бы на невидимую стену.
К этому парадоксу привыкли даже роботы, и, когда Хиджкмен сделал знак подать ему сигарету, робот Мейнарда даже не шелохнулся, чтобы исполнить его желание, хотя прошло не менее чем полминуты, прежде чем робот самого Хиджкмена пришел на помощь своему хозяину.
Мужчины разговаривали как истые жители Внеземелъя, слишком сухими и рублеными фразами, чтобы их беседа производила впечатление дружеской, однако неприязненной она определенно не была. Просто в ней отчетливо недоставало сливок — пусть даже кисловатых и жидких — живого человеческого интереса, который волей-неволей вынуждены проявлять обитатели перенаселенных земных муравейников.
— Я уже давно хотел связаться с вами в приватном режиме, Хиджкмен, — сказал Мейнард. — Много дел в Собрании, в этом году мы…
— Довольно. Это понятно. Поговорим сейчас, разумеется. Даже хорошо, что вы связались с мной, поскольку я наслышан о превосходном качестве ваших почв и ландшафтов. Это правда, что ваш скот питается привозной травой?
— Боюсь, это легкое преувеличение. Вообще-то некоторые мои молочные коровы из лучших во время отела питаются импортным кормом с Земли, но придерживаться подобной практики в общем случае, боюсь, было бы непомерно дорого. Впрочем, молоко получается бесподобное. Не окажете ли мне честь принять в подарок мой дневной удой?
— Вы исключительно любезны. — Хиджкмен с достоинством наклонил голову. — В таком случае я настаиваю, чтобы вы взяли у меня немного лососины.
На взгляд землянина, двое этих мужчин почти ничем не отличались друг от друга. Оба были рослыми, хотя, по меркам Авроры, не слишком — здесь средний рост взрослого мужчины составлял шесть футов и полтора дюйма. Оба были светловолосыми и жилистыми, с резкими и ярко выраженными чертами. Хотя обоим было уже за сорок, никто не дал бы им этих лет.
На этом обмен любезностями был окончен. Не меняя тона, Мейнард перешел к цели своего вызова.
— Знаете, наш комитет сейчас ведет сражение с Мореану и его консерваторами. Мы намерены проявить твердость — говоря «мы», я подразумеваю нашу Независимую партию. Но прежде чем мы сможем сделать это с необходимым спокойствием и уверенностью, я хотел бы задать вам кое-какие вопросы.
— Почему мне?
— Потому что вы — самый крупный физик на Авроре.
Скромность противоречит человеческой природе и ее с большим трудом удается привить детям. В индивидуалистическом обществе необходимость в ней отпадает, и потому Хиджкмен ею не страдал. Он просто бесстрастно кивнул в знак согласия со словами Мейнарда.
— И один из нас, — продолжал тот. — Вы ведь независимый.
— Я член партии. Не слишком активный, но взносы плачу исправно.
— И все же вы человек надежный. А теперь скажите мне вот что. Вы слышали о Тихоокеанском проекте?
— О Тихоокеанском проекте? — В голосе физика послышалась вежливая заинтересованность.
— Это нечто, затевающееся сейчас на Земле. Кажется, Тихим называется один из земных океанов, но название само по себе, возможно, ничего не значит.
— Никогда о нем не слышал.
— Ничего удивительного. О нем даже на Земле не многим известно. Кстати, мы с вами сейчас общаемся по фокус-лучу, и все сказанное должно остаться между нами.
— Понимаю.
— В чем бы этот Тихоокеанский проект ни заключался — а наши агенты располагают крайне расплывчатыми сведениями, — он вполне может таить в себе угрозу. Похоже, к нему причастны многие из тех клоунов, которых на Земле считают учеными. А также кое-кто из наиболее радикальных и недалеких политиков.
— Гм. Когда-то давно был такой Манхэттенский проект.
— Да, — навострил уши Мейнард. — Что это был за проект?
— О, это дремучая древность. Просто название похожее, вот и вспомнилось. Манхэттенский проект, или проект «Манхэттен», как его еще называли, разрабатывался еще до эры внеземных путешествий. У них там давным-давно случилась какая-то небольшая междоусобная война, и такое название дали группе ученых, которые исследовали атомную энергию.
— Гм-м… — Мейнард сжал руку в кулак. — И в чем тогда, по вашему мнению, заключается этот Тихоокеанский проект?
Хиджкмен задумался. Потом сказал негромко:
— Думаете, Земля готовится к войне?
На лице Мейнарда отразилось неожиданное отвращение.
— Шесть миллиардов людей. Вернее, шесть миллиардов полуобезьян, живущих друг у друга на головах, против нескольких миллионов нас, колонистов, в общей сложности. Положение не кажется вам опасным?
— Подумаешь, численный перевес!
— Ладно. Вы считаете, что нам ничего не грозит, несмотря на перевес не в нашу пользу? Объясните мне. Я всего лишь функционер, а вы физик. Земля способна выиграть войну?
Хиджкмен глубоко и надолго задумался. Потом сказал:
— Давайте рассуждать логически. Существует три широких класса методов, посредством которых индивидуум или группа людей может достичь своих целей в борьбе с противником. Эти три класса довольно условно можно назвать физическими, биологическими и психологическими.
Физические методы можно отмести сразу. Земля не имеет необходимой промышленной базы. У них нет техники. И ресурсы у них крайне ограниченные. На всю планету не найдется ни одного выдающегося специалиста в области естественных наук. Так что Земля не в состоянии создать какой-либо вид физико-химического устройства, которое не было бы известно во Внеземелье. Разумеется, в том случае, если по условиям задачи предполагается, что Земля намерена в одиночку противостоять любому из миров Внеземелья. Насколько я понимаю, ни одной из планет Внеземелья не придет в голову вступить с Землей в коалицию против нас.
Мейнард поспешил отвергнуть даже самую возможность такого предположения.
— Нет, нет и нет. Об этом не может быть и речи. Даже не думайте.
— Значит, обычное физическое вооруженное нападение можно сбросить со счетов и обсуждать его в дальнейшем не имеет смысла.
— А что со вторым классом, с биологическим? Хиджкмен медленно повел бровями.
— Вот тут уверенности меньше. Мне говорили, что на Земле есть довольно сведущие биологи. Конечно, сам я физик и достоверно судить не могу. И все же я полагаю, что в отдельных областях они до сих пор не утратили своих знаний. Хотя бы в агрономии, чтобы далеко не ходить за примером. В бактериологии. Гм…
— Да, а как у них обстоят дела с бактериологическим оружие?
— Я тут кое-что подумал… Впрочем, нет, это уже из разряда невозможного. Такая до предела перенаселенная планета, как Земля, не может позволить себе сражаться против открытой системы из пятидесяти разрозненных миров при помощи биологического оружия. Они неизмеримо больше нашего подвержены эпидемиям, то есть наш ответный удар обойдется им гораздо дороже. Вообще, я бы сказал, что, учитывая условия жизни как у нас, на Авроре, так и на других планетах Внеземелья, едва ли нам грозит сколько-нибудь серьезная эпидемия какого-либо инфекционного заболевания. Нет, Мейнард. Можете, конечно, проконсультироваться с бактериологами, но думаю, что они скажут вам все то же самое.
— А третий класс? — спросил Мейнард.
— Психологические методы? Тут ни в чем нельзя быть уверенным заранее. И все же миры Внеземелья населены разумными и душевно здоровыми жителями, которые не поддадутся незатейливой пропаганде или нездоровому ажиотажу, если уж на то пошло. Мне тут подумалось…
— Что?
— А вдруг Тихоокеанский проект именно в этом и заключается? Ну, то есть это какая-то чудовищная уловка, призванная вывести нас из равновесия. Какой-то суперсекрет, который должен в строго определенное время просочиться наружу, чтобы планеты Внеземелья пошли на небольшие уступки Земле, просто на всякий случай, для подстраховки.
Наступило долгое молчание.
— Быть того не может, — сердито выпалил Мейнард.
— Вы правильно реагируете. Колеблетесь. Но я не настаиваю на этой идее. Это было всего лишь предположение. — Повисло еще более долгое молчание, потом Хиджкмен снова заговорил: — У вас есть еще какие-нибудь вопросы?
Мейнард вздрогнул от неожиданности.
— Нет… это все.
Канал отключился, и на месте, где только что было продолжение гостиной, возникла стена.
Медленно, с упрямым недоверием, Франклин Мейнард покачал головой.
Эрнест Кейлин поднялся по лестнице и почувствовал, как его обступили все прошедшие века разом. Здание было древнее, опутанное паутиной истории. Когда-то в нем располагался Парламент Человечества, и слова, произносившиеся в этих стенах, гремели среди звезд.
Здание было высокое. Оно уходило к небесам, тянулось, напрягалось изо всех сил. Оно пыталось дотянуться до звезд — до звезд, которые теперь отвернулись от него.
Земной Парламент больше не размещался здесь. Его перенесли в более новое здание в неоклассическом стиле — неумелую имитацию архитектурных изысков доатомной эпохи.
Тем не менее его великого имени у древнего здания никто не отбирал. Официально оно все так же именовалось Звездным Домом, правда, теперь в нем заседали лишь функционеры из поредевшей армии чиновников.
Кейлин вышел на двенадцатом этаже, и лифт сразу же пошел вниз. На светящейся вывеске значилось неприметное и обтекаемое: «Бюро информации». Он протянул секретарше письмо и стал ждать. Наконец его провели в кабинет, на двери которого красовалась табличка «Л. З. Сельони. Секретарь по информации».
Сельони был смуглый коротышка. У него были густые черные волосы и жидкие черные усики. Когда он улыбался, взгляду открывались зубы, поразительно белые и ровные, поэтому улыбался он часто.
Вот и сейчас он с улыбкой поднялся и протянул гостю руку. Кейлин пожал предложенную ему руку, уселся на предложенное ему место и принял предложенную ему сигару.
— Очень рад вас видеть, мистер Кейлин, — сказал Сельони. — Вы были очень добры, согласившись без промедления прилететь сюда из Нью-Йорка.
Уголки губ Кейлина дрогнули, он скромно отмахнулся.
— Полагаю, — продолжал Сельони, — вы ждете от меня объяснений.
— Не отказался бы их услышать, — кивнул Кейлин.
— К сожалению, так просто тут не объяснить. Нелегко быть секретарем по информации. Я должен стоять на страже безопасности и благосостояния Земли и в то же время следить за тем, чтобы не ущемлялась традиционная свобода печати. Естественно, у нас нет цензуры, и это замечательно, но столь же естественно, что бывают времена, когда приходится пожалеть о том, что у нас ее нет.
— Это имеет какое-то отношение ко мне? — осведомился Кейлин. — Ваше высказывание относительно цензуры?
Сельони уклонился от прямого ответа. Вместо этого он снова улыбнулся, медленно и на удивление невесело.
— Вы, мистер Кейлин, ведете одну из наиболее популярных и влиятельных телепередач на видео. Поэтому вы представляете особый интерес для правительства.
— Это мое эфирное время, — уперся Кейлин. — Я плачу за него. Я плачу налоги с прибыли, которую получаю со своей передачи. Я соблюдаю все законы о запретах. Так что не вижу, какой интерес я могу представлять для правительства.
— О, вы не так меня поняли. Должно быть, я недостаточно ясно выразился. Вы не совершили никакого преступления, не нарушили никакого закона. Я преклоняюсь перед вашим журналистским талантом. Я имею в виду вашу редакционную политику.
— В отношении чего?
— В отношении, — тонкие губы Сельони приняли строгое выражение, — нашей политики во Внеземелье.
— Моя редакционная политика отражает мои мысли и чувства, господин секретарь.
— Я не спорю. Вы имеете право на собственные мысли и чувства. Тем не менее опрометчиво едва ли не ежевечерне выплескивать их на полумиллиардную аудиторию.
— Возможно, это и впрямь, как вы выражаетесь, опрометчиво. И тем не менее это законно.
— Иной раз необходимо ставить благо страны превыше формального и своекорыстного толкования законности.
Кейлин дважды пристукнул носком туфли по полу и нахмурился.
— Послушайте, — сказал он, — давайте начистоту. Что вам от меня нужно?
Секретарь по информации развел руками.
— Если в двух словах — ваше содействие. Право же, мистер Кейлин, мы не можем допустить, чтобы вы подрывали народный дух. Вы осознаете, в каком положении находится Земля? Шесть миллиардов, а пищевые ресурсы на грани истощения! Так дальше продолжаться не может! Единственный выход — эмиграция. Ни один патриотически настроенный землянин не станет отрицать справедливости нашей позиции.
— Я согласен с вашим утверждением, что проблема перенаселения стоит очень остро, но эмиграция — не единственный выход. Напротив, эмиграция — самый верный способ приблизить крах.
— Правда? И почему вы так думаете?
— Потому что планеты Внеземелья не согласятся принять эмигрантов, и принудить их к этому можно только войной. А мы не в состоянии выиграть войну.
— Скажите, — негромко поинтересовался Сельони, — вы когда-нибудь пытались эмигрировать? Мне кажется, вы подходите од их критерии. Вы высокого роста, у вас светлые волосы, вы умны…
Известный ведущий покраснел.
— Я страдаю сенной лихорадкой, — отрывисто сказал он.
— Понятно, — улыбнулся секретарь. — Тогда у вас есть все основания относиться к их деспотической генетической и расовой политике с неодобрением.
— Я не могу позволить себе руководствоваться личными мотивами, — горячо отвечал Кейлин. — Я относился бы к их политике с неодобрением и тогда, если бы подходил под условия эмиграции. Но мое одобрение или неодобрение ничего не изменит. Их политика — это их политика, и они имеют право проводить ее. Более того, их политика не лишена логики, пусть даже и ошибочной. На планетах Внеземелья человечество начинает все заново, и они — те, кто отправился туда первыми, — ходят искоренить определенные изъяны человеческого организма, которые обнаружились со временем. Человек, страдающий сенной лихорадкой, с точки зрения генетики — паршивая овца. Не говоря уже о предрасположенности к раку. Их предубежденность против цвета кожи и волос, разумеется, несусветная глупость, но я могу предположить, что они заинтересованы в единообразии и однородности. Что же до Земли, мы и без помощи планет Внеземелья можем немало сделать для собственного спасения.
— Что же, к примеру?
— Внедрить позитронных роботов и гидропонику и прежде всего ввести контроль над рождаемостью. Я имею в виду разумный контроль, основанный на строгих психиатрических критериях и призванный искоренить психические отклонения, врожденные заболевания…
— Прямо как на планетах Внеземелья.
— Отнюдь нет. Я ни слова не сказал о расистских принципах. Я говорю лишь о душевных и физических заболеваниях, которые равно присущи всем этническим и расовым группам. И прежде всего необходимо удерживать рождаемость на более низком уровне, чем смертность, пока не будет достигнуто здоровое равновесие.
— Мы не располагаем промышленными технологиями и ресурсами, которые необходимы для внедрения робо- и гидропонной техники в ближайшие пять столетий, — угрюмо сказал Сельони. — Более того, земные традиции, равно как и этические принципы нашего времени, запрещают роботизированный труд и пищу искусственного происхождения. Но строже всего они запрещают убийство нерожденных детей. Сами подумайте, Кейлин, как мы можем позволить вам пропагандировать все это с экрана? Ничего хорошего из этого не выйдет, ваши разглагольствования только отвлекают внимание народа и подрывают его дух.
— Господин секретарь, — нетерпеливо перебил его Кейлин, — вы хотите войны?
— Хочу ли я войны? Какая дерзость!
— Тогда кто такие эти политиканы в правительстве, которые жаждут войны? К примеру, на ком лежит ответственность за тщательно распущенный слух о Тихоокеанском проекте?
— Тихоокеанский проект? Откуда вы о нем узнали?
— Я не выдаю своих источников.
— Что ж, тогда я назову их сам. Вы слышали о Тихоокеанском проекте от Мореану с Авроры, когда он в последний раз был на Земле. Мы знаем о вас куда больше, чем вы предполагаете, мистер Кейлин.
— Охотно верю, но намеки на Мореану отрицаю. С чего вы взяли, будто я получил эти сведения от него? Из-за того, что вы намеренно навешали ему на уши всю эту лапшу?
— Лапшу?
— Да. Я считаю, что Тихоокеанский проект — фикция. Выдумка, предназначенная придать землянам уверенности. По-моему, правительство планирует подстроить намеренную утечку этого так называемого секрета, чтобы обеспечить поддержку своей военной политики. Это часть психологической войны против собственных же соотечественников, и в конце концов Землю ждет крах. И я намерен довести это мнение до людей.
— Вы этого не сделаете, мистер Кейлин, — спокойно заявил Сельони.
— Еще как сделаю.
— Мистер Кейлин, ваш друг Ион Мореану нажил себе на Авроре большие неприятности, и причина их, возможно, в слишком теплых отношениях с вами. Смотрите, как бы вам не нажить себе подобные неприятности из-за слишком теплых отношений с ним.
— Меня это не волнует. — Журналист отрывисто рассмеялся, стремительно поднялся на ноги и зашагал к двери.
При виде двух плечистых парней, преградивших ему выход, Кейлин еле заметно улыбнулся.
— Значит, я арестован.
— Совершенно верно, — кивнул Сельони.
— На каком основании?
— Мы что-нибудь придумаем. Потом. Кейлин вышел — под конвоем.
На Авроре происходили события, в точности соответствующие вышеупомянутым, только с большим размахом.
Комитет по инопланетной агентуре при Собрании собирался уже который день — с того самого заседания, на Котором Ион Мореану и его Консервативная партия внесла свое памятное предложение выразить вотум недоверия. За то, что оно в итоге не получило поддержки, следовало благодарить отчасти превосходящее по численности политическое руководство Независимой партии, а также деятельность все того же Комитета по инопланетной агентуре.
Доказательства копились уже не первый месяц, и, когда стало понятно, что Независимые побеждают в голосовании со значительным перевесом, Комитет смог нанести свой удар.
Мореану взяли под стражу в его же собственном доме и посадили под домашний арест. Хотя при сложившихся обстоятельствах процедура домашнего ареста была незаконна — о чем Мореану не преминул решительно заявить, — это отнюдь не помешало благополучному ее завершению.
На протяжении трех дней Мореану подвергали тщательному перекрестному допросу — ровным и вежливым тоном, который едва ли выражал что-либо, кроме бесстрастного любопытства. Семеро следователей Комитета по очереди сменяли друг друга, тогда как Мореану давали лишь десятиминутную передышку в те часы, когда заседал Комитет.
Через три дня эффект был налицо. Мореану охрип, требуя личной встречи со своими обвинителями, обессилел, настаивая, чтобы ему сообщили, в чем именно его обвиняют, и сорвал себе горло, возмущаясь незаконностью всего происходящего. В конце концов представители Комитета принялись зачитывать ему обвинения.
— Это правда или нет? Правда или нет?
Мореану был в состоянии лишь устало мотать головой.
Он заявил о том, что свидетельские показания сфабрикованы, и ему учтиво сообщили, что слушания являют собой производимое Комитетом расследование, а не суд…
В конце концов председатель ударил молотком. Это был широкоплечий мужчина, настроенный пугающе решительно. Он говорил целый час, подводя итоги допроса, однако приводить здесь большую часть его речи нет никакой необходимости.
Он сказал:
— Если бы вы вступили в заговор с другими обитателями Авроры, мы еще могли бы вас понять и даже простить. Подобные проступки вменялись в вину не одному честолюбивому человеку в истории. Дело вовсе не в этом. Если что и ужасает нас и заставляет забыть всякую жалость к вам, это ваша готовность связаться с насквозь больными и невежественными недочеловеками. Против вас, обвиняемый, имеются весьма тяжкие улики, доказывающие, что вы вступили в заговор с наихудшими элементами выродившегося населения Земли…
Речь председателя прервал отчаянный крик Мореану:
— Но мотив! Какой мотив вы можете мне приписа…
Обвиняемого усадили обратно на место. Председатель поджал губы и отступил от тяжеловесной серьезности своей заранее заготовленной речи в пользу некоторой импровизации.
— Вникать в ваши мотивы не входит в задачи Комитета, — сказал он. — Мы здесь изложили фактическую сторону дела. Комитет располагает доказательствами. — Помолчав, он оглядел членов Комитета, сидевших справа и слева от него, и продолжил: — Думаю, я смело могу утверждать, что Комитет располагает доказательствами, которые изобличают ваши намерения воспользоваться людскими ресурсами Земли с целью устроить государственный переворот и захватить власть на Авроре. Но, поскольку указанные доказательства не были пущены в ход, я не стану углубляться в этот вопрос, скажу лишь, что подобное деяние представляется весьма в вашем характере, как показали эти слушания.
Он вернулся к своей речи.
— Полагаю, все сидящие здесь слышали название «Тихоокеанский проект», который, если верить слухам, представляет собой попытку Земли вернуть себе утраченные доминионы.
Нет нужды напоминать, что любая подобная попытка скорее всего будет обречена на провал. И все же возможность нашего поражения не исключена полностью. Лишь одна вещь может заставить нас дрогнуть, и вещь эта — наша собственная внутренняя слабость, о которой мы не подозреваем. В конце концов, генетика до сих пор не всесильна. Даже двадцать поколений спустя нежелательные признаки могут обнаружиться в самых неожиданных местах, и каждая такая неожиданность — слабое место в стальном щите обороны Авроры.
Вот в чем заключается этот Тихоокеанский проект — в использовании против нас наших же собственных преступников и предателей, и если им удастся отыскать таковых в наших рядах, злодейский план землян может даже увенчаться успехом.
Комитет по инопланетной агентуре существует для того, чтобы противостоять этой угрозе. В лице обвиняемого мы имеем дело лишь с отдельной ячейкой разветвленной агентурной сети. Мы ни в коем случае не должны прекращать…
Речь свою он, во всяком случае, прекращать точно не собирался.
Когда она все же была завершена, Мореану, бледный, с огромными глазами, грохнул кулаком:
— Я требую последнего слова!
— Обвиняемый может высказаться, — провозгласил председатель.
Мореану поднялся и обвел присутствующих долгим взглядом. Зал, рассчитанный на аудиторию в размере семидесяти пяти миллионов пользователей планетарного канала, практически пустовал. Там были следователи, судебный персонал, официальные протоколисты. И рядом с ним, во плоти, его охранники.
Он пожалел, что нет публики. К кому ему теперь обращаться? Мореану оглядел все лица по очереди, и от каждого отвел взгляд, понимая, что слушать его не собираются. Однако больше ему обращаться было не к кому.
— Во-первых, — начал он, — я отказываюсь признавать законность этого заседания. Мои конституционные права на уединение и обособленное существование были грубо попраны. Надо мной учинила судилище шайка людей, не имеющих никакого права вершить суд, людей, которые были заранее убеждены в моей виновности. Мне было отказано в справедливой возможности защищать себя. Напротив, все это время со мной обращались как с осужденным преступником, которого уже признали виновным и которому осталось лишь вынести приговор.
Я отрицаю, полностью и безоговорочно, свою причастность к какому-либо виду подрывной деятельности, наносящей вред государству или призванной ниспровергнуть какой-либо из его основополагающих институтов.
Более того, я открыто и решительно обвиняю данный Комитет в умышленном злоупотреблении своей властью для того, чтобы одержать победу в политической борьбе. Я виновен не в государственной измене, но в инакомыслии. Я выступаю против политики, направленной на уничтожение большей части человеческой расы на основании ненаучных и негуманных причин.
Вместо истребления мы обязаны протянуть руку помощи этим людям, которые обречены на безрадостную и полную лишений жизнь только потому, что это нашим, а не их предкам посчастливилось первыми добраться до планет Внеземелья. Имея наши технологии и ресурсы, они еще могут заново воссоздать преобразовать…
Жаркий сорванный шепот Мореану заглушил голос председателя:
— Вы нарушаете регламент. Комитет готов выслушать любые доводы, которые вы желаете высказать в собственную защиту, но проповедь о правах землян лежит вне законной сферы данной дискуссии.
Слушания были официально объявлены закрытыми. Независимая партия одержала значительную политическую победу; на этом сходились абсолютно все. Из всех членов Комитета один лишь Франклин Мейнард остался не вполне удовлетворен. Его продолжал грызть червячок сомнения.
Может быть…
Может быть, нужно попробовать в самый последний раз? В самый последний раз попробовать переговорить с этим странным обезьяноподобным коротышкой, послом Земли?
Мейнард быстро принял решение и стремительно перешел к действиям. Единственное промедление было вызвано необходимостью запастись свидетелем: разговор в приватном режиме с глазу на глаз с землянином был чреват опасными последствиями даже для него.
Луис Морено, посол Земли на Авроре, представлял собой, откровенно говоря, жалкую пародию на человека. И это не было случайностью. Все дипломатические представители Земли на планетах Внеземелья были темноволосыми, низкорослыми или морщинистыми — а то и все это сразу.
Это была всего лишь вынужденная мера самозащиты, поскольку Внеземелье обладало огромной притягательностью в глазах землян. К примеру, дипломаты, вкусившие всех прелестей жизни на Авроре, волей-неволей проникались отвращением к мысли о возвращении на Землю. Но хуже всего и намного опаснее было то, что, попадая на Аврору, они все больше сроднялись с полубогами со звезд и все больше отдалялись от обитателей перенаселенных земных трущоб.
Если, конечно, сам посол не оказывался отверженным. Или не обнаруживал, что к нему относятся с некоторым презрением. После этого едва ли можно было сыскать где-то более преданного слугу Земли, человека, который был бы меньше подвержен коррупции.
Рост посла Земли ограничивался всего пятью футами двумя дюймами, у него была лысая голова и покатый лоб, манерная розоватая бородка и красные глаза. Он где-то подхватил простуду и время от времени трубно сморкался в платок. И тем не менее в уме ему отказать было нельзя.
Вид землянина и издаваемые им звуки доставляли Франклину Мейнарду физические мучения. От каждого приступа кашля его начинало подташнивать, а когда посол утирал нос, его бросало в дрожь.
— Ваше превосходительство, — обратился к землянину Мейнард. — Я просил вас об этом сеансе связи, поскольку мне нужно сообщить вам, что наше Собрание постановило обратиться к вашему правительству с требованием отозвать вас на Землю.
— Это весьма любезно с вашей стороны, советник. Я подозревал об этом. И по какой же причине?
— Причина выходит за рамки этого разговора. Полагаю, любое суверенное государство имеет прерогативу решать, объявлять какого-либо представителя иностранной державы персоной нон грата или нет. Впрочем, не думаю, чтобы вы в самом деле нуждались в каких-либо пояснениях по данному вопросу.
— Что ж, ладно. — Посол сделал паузу, чтобы воспользоваться платком, и гнусаво извинился. — Это все?
— Не совсем, — ответил Мейнард. — Я хотел бы затронуть еще кое-какие вопросы. Останьтесь!
Покрасневшие ноздри посла слегка раздулись, однако он с улыбкой произнес:
— Почту за честь.
— Ваша родина, ваше превосходительство, — надменно проговорил Мейнард, — в последнее время проявляет определенную враждебность, которую мы на Авроре находим крайне раздражающей и излишней. Полагаю, что по возвращении на Землю вам представится подходящий случай употребить ваше влияние на то, чтобы предотвратить дальнейшие враждебные проявления, подобные тем, что недавно имели место в Нью-Йорке, когда уличная банда избила двух уроженцев Авроры. В следующий раз выплатой компенсации дело может не ограничиться.
— Но это уже эмоциональное преувеличение, советник Мейнард. Не можете же вы считать юнцов, которые вопят на улицах, серьезным подтверждением этой враждебности.
— Она неоднократно подкреплялась разнообразными действиями вашего правительства. Взять для примера хотя бы недавний арест мистера Эрнеста Кейлина…
— Каковой является исключительно внутренним делом Земли, — невозмутимо подхватил посол.
— Однако не относится к разряду тех, которые демонстрируют здравое отношение к Внеземелью. Кейлин был одним из небольшого числа землян, которые до недавних пор могли быть услышанными. У него хватало ума понимать, что никакие данные свыше права не защищают неполноценных людей на том лишь основании, что они неполноценные.
Посол поднялся.
— Меня не интересуют аврорианские теории о расовых различиях.
— Секунду. Возможно, ваше правительство поймет, что большая часть их планов пошла прахом вместе с арестом вашего агента, Мореану. Обратите их внимание на то, что нам теперь известно гораздо больше, нежели до его ареста. Возможно, это немного их остудит.
— А что, Мореану — мой агент? Право же, советник, если я объявлен персоной нон грата, я покину вашу планету. Но утрата мной дипломатической неприкосновенности никоим образом не влечет за собой утраты моей личной неприкосновенности, неприкосновенности честного человека, не причастного ни к какому шпионажу.
— Разве это не ваша работа?
— А что, аврориане автоматически приравнивают дипломатическую деятельность к шпионажу? Мое правительство будет счастливо об этом узнать. Мы примем соответствующие предосторожности.
— Значит, вы пытаетесь выгородить Мореану? Вы отрицаете, что он работал на Землю?
— Я пытаюсь выгородить исключительно себя самого. Что же до Мореану, я не настолько глуп, чтобы что-то говорить.
— При чем здесь глупость?
— А разве любая моя попытка обелить его не будет расценена вами как очередная улика против него? Я не обвиняю и не защищаю его. Разногласия вашего правительства с Мореану, точно так же, как разногласия моего правительства с Кейлином — которого вы, кстати говоря, как-то подозрительно рьяно кинулись защищать, — дело сугубо внутреннее. Засим я удаляюсь.
Связь прервалась, и почти мгновенно стена вновь растаяла. Задумчивый взгляд Хиджкмена был устремлен на Мейнарда.
— Ну и что вы о нем думаете? — мрачно поинтересовался Мейнард.
— Позор, что такая насмешка над человеческим родом оскверняет землю Авроры, вот что я думаю.
— Я согласен с вами, и все же… все же…
— Что?
— И все же я почти склоняюсь к мысли, что он владеет положением, а мы все пляшем под его дудку. Вы знаете про Мореану?
— Разумеется.
— В общем, он будет осужден и сослан на астероид. Его партию распустят. На первый взгляд, кто угодно скажет, что все это означает для Земли сокрушительное поражение.
— Вы сомневаетесь, что это так?
— Точно не знаю. Председатель Комитета Хонд настаивает на обнародовании его теории о том, что Тихоокеанский проект — это название, которое земляне дали своему плану по использованию предателей из числа уроженцев Внеземелья. Но мне так не кажется. По-моему, факты с этим не вяжутся. К примеру, откуда мы получили улики против Мореану?
— Мне определенно ничего об этом не известно.
— Во-первых, от наших агентов. Но откуда их получили наши агенты? Улики были слишком убедительными. Мореану мог бы принять более надежные меры предосторожности… — Мейнард нерешительно умолк и, поколебавшись, закончил: — Короче говоря, мне кажется, что это посол Земли каким-то образом подсунул нам под нос большую часть этих улик. Думаю, сначала он сыграл на сочувствии Мореану землянам и завязал с ним дружбу, а потом сдал его.
— Зачем?
— Не знаю. Возможно, чтобы гарантированно добиться войны — и тут-то нас и будет поджидать этот их Тихоокеанский проект.
— Мне в это не верится.
— Я понимаю. У меня нет доказательств. Одни только подозрения. И в Комитете мне тоже не поверят. Мне казалось, что в ходе последнего разговора с послом может что-нибудь выясниться, но оказалось, что один его вид вызывает у меня неприязнь, и я потратил большую часть времени на то, чтобы постараться его не видеть.
— Я вижу, вас начинают одолевать эмоции, друг мой. Это отвратительная слабость. Я слышал, вас назначили делегатом Межпланетного Собрания на Геспере. Примите мои поздравления.
— Благодарю вас, — рассеянно проговорил Мейнард.
Луис Морено, бывший посол Земли на Авроре, был рад вернуться на родину. Наконец-то он очутился подальше от искусственных ландшафтов, которые, казалось, не жили собственной жизнью, а существовали лишь благодаря сильной воле своих владельцев. Подальше от неправдоподобно совершенных мужчин и женщин и их вездесущих навязчивых роботов.
Он вернулся к бурлению жизни и шарканью ног, к толкотне и ощущению чужого дыхания на лице.
Впрочем, нельзя сказать, что он только и делал, что наслаждался этими ощущениями. Первые несколько дней он посвятил оживленным совещаниям с главами земного правительства.
Лишь по прошествии почти недели он смог по-настоящему перевести дух.
Он находился в редчайшей из всех ипостасей Земной Роскоши — в саду на крыше. Рядом с ним сидел Густав Штейн, мало кому известный психолог, который тем не менее являлся одним из инициаторов плана, известного в широких кругах как Тихоокеанский проект.
— Все предварительные испытания пока что проходят благополучно, не так ли? — с почти злорадным удовлетворением сказал Морено.
— Пока что. Только пока что. У нас впереди еще долгий путь.
— Все будет хорошо. Для любого, кто, подобно мне, прожил на Авроре почти год, не может быть никаких сомнений в том, что мы на верном пути.
— Гм. И все же я буду руководствоваться только лабораторными отчетами.
— И правильно. — Хилое тельце бывшего посла едва не перекосило от злорадства. — В один прекрасный день все изменится. Вы, Штейн, не имели дела с этими людьми, с этими внеземлянами. Возможно, вам доводилось случайно натыкаться на туристов в отелях, построенных специально для этой публики, или посреди улиц, в непроницаемых машинах, оборудованных чистейшими автономными атмосферами с кондиционированием, чтобы их утонченные ноздри, чего доброго, не вдохнули нашего отравленного воздуха, глазеющих на виды через портативный перископ и шарахающихся от землян, чтобы, не дай бог, не прикоснулись.
Но вам не приходилось иметь с ними дело на их родной планете, во всей их уверенности в собственном тошнотворном, омерзительном величии. Отправляйтесь туда, Штейн, и попробуйте какое-то время побыть отверженным. Отправляйтесь туда и испробуйте на собственной шкуре, получится ли у вас состязаться с их лощеными лужайками, по кому будут топтаться бережней.
И все-таки, когда я нажал на нужные рычаги, Ион Мореану угодил под арест — Ион Мореану, единственный из них, кто способен понять ход мыслей другого человека. Все, кризис миновал. Мы вышли на ровную дорогу, — подытожил бывший посол.
О, как же он злорадствовал!
— Что же до Кейлина, — сказал он внезапно, скорее себе самому, нежели Штейну, — теперь его можно отпустить. Все, что он станет болтать в будущем, ни на что уже не повлияет. Кстати, у меня идея. Через месяц на Геспере состоится межпланетная конференция. Можно послать его освещать это мероприятие. Это будет знаком нашего дружеского отношения — и позволит на все лето убрать его с дороги. Думаю, это можно будет устроить.
И все было устроено.
Из всех миров Внеземелья Геспер был самым маленьким, самым недавно заселенным и самым отдаленным от Земли. Отсюда и имя. В материальном смысле он был далеко не лучшим местом для великого дипломатического собрания, поскольку удобств на нем практически не было. К примеру, имеющуюся на нем планетарно-канальную сеть никак нельзя было расширить, чтобы обеспечить ею всех делегатов, секретариат и администрацию, необходимую на ассамблее представителей пятидесяти планет. Поэтому встречаться предстояло лично — в зданиях, специально реквизированных для этой цели.
И все же символизм, крывшийся в выборе места сбора, не ускользнул практически ни от кого. Из всех миров Внеземелья Геспер дальше всех отстоял от Земли. Но пространственная удаленность — на сотню парсеков, если не больше, — была далеко не самым главным фактором. Важнее всего было то, что Геспер колонизировали уже не земляне, а обитатели другого мира Внеземелья — Фавна.
Таким образом, Геспер представлял собой уже второе поколение колонизированных планет, и у него не было «матери-Земли». Ему Земля приходилась лишь полузабытой бабкой, затерянной где-то среди звезд.
Как обычно на всех подобных мероприятиях, в залах заседаний ничего по-настоящему важного практически не происходит. Они предназначены лишь для официальных объявлений того, что прежде предназначалось лишь для ушей посвященных. Настоящие сделки и махинации проворачиваются в кулуарах и за банкетными столами, и не одно неразрешимое противоречие было сглажено за супом и благополучно забыто уже к десерту.
Впрочем, на этот раз не обошлось без специфических затруднений. Далеко не на всех планетах планетарно-канальная сеть играла столь заметную роль и была столь повсеместно распространена, как на Авроре, однако хорошо развита была везде. Поэтому когда все эти высокие осанистые люди обнаружили, что приходится лично приближаться друг к другу — без уютного уединения в привычном коконе невидимых стен, без греющего душу ощущения кнопки отключения связи под пальцами, — они почувствовали себя лишенными полагающегося им по праву комфорта и возроптали.
Они в тревожном смущении сидели нос к носу друг с другом и пытались не смотреть, как собеседник ест; старались не шарахаться от нечаянных прикосновений. Даже роботов хватало не на всех.
Эрнест Кейлин, единственный аккредитованный представитель видеожурналистики с Земли, лишь смутно улавливал кое-какие проблемы из тех, что здесь описаны. Более глубокого понимания ему было взять неоткуда. Как и любому другому человеку, выросшему в обществе, где человеческие особи существовали исключительно во множественном числе и где обезлюдевшие дома наводили страх.
Вот как вышло, что определенные трения, возникшие на официальном обеде, который правительство Геспера давало на третьей неделе конференции, остались им совершенно незамеченными. Впрочем, другие трения от его взгляда не ускользнули.
После обеда собрание само собой распалось на мелкие группки. Кейлин присоединился к той, которая включала в себя Франклина Мейнарда с Авроры. Как делегат крупнейшего из миров Внеземелья, последний, разумеется, был наиболее интересной с точки зрения представителя прессы фигурой.
Мейнард вел непринужденную беседу, перемежая ее глотками знаменитого коричневого гесперианского коктейля. Если от близости такого количества людей ему и было не по себе, он мастерски это скрывал.
— Земля, — говорил он, — в сущности, беспомощна против нас, если мы не станем ввязываться в непредсказуемые военные авантюры. Но если мы намерены избегать подобных авантюр, нам необходимо экономическое единство. Пусть на Земле поймут, до какой степени их экономика зависит от нас в тех вещах, которыми можем обеспечить ее только мы, тогда не будет больше никаких разговоров о жизненном пространстве. А если мы объединимся, земляне никогда не осмелятся напасть на нас. Они променяют свои бесплодные желания на атомные двигатели — или не променяют, как им будет угодно.
Тут он прервался и бросил надменный взгляд на Кейлина, который уязвленно заметил:
— Но ваши промышленные товары, советник, — я имею в виду те, которые вы поставляете на Землю, — они достаются нам не задаром. Взамен вы получаете нашу сельскохозяйственную продукцию.
Мейнард вкрадчиво улыбнулся.
— Да, по-моему, об этом какое-то время назад упоминал делегат с Тефиды. Некоторые из нас пребывают в заблуждении, что лишь привезенные с Земли семена вырастают должным…
Его перебил чей-то спокойный голос:
— Вообще-то я не с Тефиды, но то, о чем вы говорите, не заблуждение. Я выращиваю рожь на Рее, и мне никогда еще не удавалось полностью воспроизвести земной сорт. Вкус совершенно не тот. — Он обратился ко всем собравшимся. — Должен признаться, пять лет назад я импортировал полдюжины землян по визам сельскохозяйственных рабочих, чтобы приглядывали за роботами. Знаете, они просто творят чудеса. Им довольно плюнуть на землю, чтобы колосья в этом месте вымахали пятнадцати футов высотой. В общем, это немного помогло. И использование земных семян тоже. Но даже если у тебя получится вырастить земной злак, на следующий год семена не всходят.
— Вы обращались в свое Министерство сельского хозяйства с просьбой проверить ваши почвы? — осведомился Мейнард.
— Да, и вердикт был, что они лучшие во всем секторе, — высокомерно ответил реянин. — И рожь у меня первосортная. Я даже отправлял центнер зерна на Землю на экспертизу питательной ценности, и она вернулась с наивысшей оценкой. — Он задумчиво поскреб подбородок. — Все дело во вкусе. Он какой-то не такой…
Мейнард попытался отвязаться от него.
— Вкус сейчас не самое главное. Они приползут к нам на наших условиях, эти ничтожные земляшки, как только столкнутся с дефицитом всего, чего только можно. Мы лишимся лишь этого загадочного вкуса, зато им придется отказаться от атомных двигателей, сельскохозяйственного оборудования и наземных машин. Вообще говоря, попробовать обходиться без этих земных вкусов, о которых вы так печетесь, даже неплохая идея. Давайте лучше будем ценить вкус наших собственных, доморощенных продуктов — которые, я уверен, могли бы составить конкуренцию земным, если бы мы дали им такой шанс.
— Вот как? — улыбнулся реянин. — Вы, я вижу, курите выращенный на Земле табак.
— Я в состоянии отказаться от этой привычки, если понадобится.
— Вероятнее всего, вместе с курением. Табак с планет Внеземелья, по моему скромному мнению, не годен ни на что другое, кроме как травить москитов.
Он рассмеялся, чуточку слишком громогласно, и отошел в сторону. Мейнард, слегка задетый за живое, проводил его неприязненным взглядом.
Эта небольшая пикировка по поводу ржи и табака доставила Кейлину немалое удовольствие. Он рассматривал подобные происшествия как крошечное отражение определенных галактополитических реалий. Тефида и Рея были крупнейшими планетами на юге Галактики, а Аврора — на севере. На всех трех царил одинаково махровый расизм и изоляционизм. Их отношение к Земле было сходным и совершенно единодушным. Кто бы мог подумать, что у них могут быть поводы для разногласий?
Но Аврора была самой старшей из планет Внеземелья, наиболее развитой и наиболее боеспособной и потому претендовала на некоторое моральное главенство над остальными мирами. Одного этого было достаточно, чтобы вызывать неприятие, и Рея с Тефидой стали знаменем тех, кто не признавал верховенства Авроры.
Такое положение дел вызывало у Кейлина мрачную радость. Если бы только Земля смогла правильно оказать давление, сначала в одном направлении, затем в другом, в конце концов можно было бы вызвать раскол или даже распад…
Он осторожно, почти украдкой, взглянул на Мейнарда и задался вопросом, каким образом этот маленький эпизод скажется на завтрашних прениях. Аврорианин и так уже был куда более молчалив, чем того требовали правила вежливости.
Тут какой-то не то младший секретарь, не то мелкий чиновник осторожно пробрался сквозь толпу гостей и поманил Мейнарда к себе.
Кейлин проводил аврорианина взглядом. Тот внимательно выслушал пришельца, потом произнес изумленное «что?!», отлично читаемое по губам, хотя и слишком далекое, чтобы расслышать, и протянул руку за бумагой, которую пришелец протянул ему.
В результате следующее заседание собрания прошло совершенно не так, как ожидал Кейлин.
Подробности он узнал из вечерних видеопередач. Похоже, земное правительство направило ноту правительствам всех планет, представленных на конференции. В ней без обиняков заявлялось, что любое соглашение, которое они заключат между собой в области экономического или военного сотрудничества, будет расценено как недружественный акт против Земли и встречено надлежащими ответными мерами. В ноте резко осуждались Аврора, Тефида и Рея. Их обвиняли в причастности к империалистическому заговору против Земли, и так далее, и так далее, и так далее.
— Идиоты! — Кейлин заскрежетал зубами и с досады едва не начал биться головой о стену. — Идиоты! Идиоты! Идиоты! — Его голос затих вдали, раз за разом повторяя одно и то же слово.
Следующее заседание было отмечено практически полной и ранней явкой группы рассерженных депутатов, которые рвались стереть в порошок все разногласия, еще остававшиеся в отношениях между планетами. Когда оно было окончено, все вопросы, касающиеся торговли между Землей и мирами Внеземелья, были переданы в руки комиссии с неограниченными полномочиями.
Даже Аврора не могла ожидать столь полной и легкой победы, и Кейлин, возвращаясь обратно на Землю, скрипел зубами от невозможности, как обычно, поделиться своим возмущением со зрителями.
И все же на Земле были люди, у которых все происходящее вызывало улыбку.
Кейлин вернулся домой, но вскоре его голос стал практически неразличим, потонув в более громких призывах к действию.
Его популярность падала тем ниже, чем больше ужесточались торговые ограничения. Внеземелье мало-помалу закручивало гайки. Сначала они ввели систему строгого контроля за выдачей лицензий на экспортную торговлю. Затем запретили экспортировать на Землю все материалы, пригодные для «применения в военной экономике». И в довершение всего начали весьма широко трактовать, что можно счесть пригодным для такого применения.
Импортные предметы роскоши — да и импортные предметы первой необходимости, если уж на то пошло, — исчезли из продажи или подскочили в цене настолько, что стали недоступны почти всем, за исключением небольшой горстки избранных.
Люди выходили на демонстрации, драли глотки, размахивали флагами и метали камни в окна посольств…
Кейлин сорвал себе голос и не мог отделаться от ощущения, что сходит с ума.
До тех пор, пока Луис Морено совершенно добровольно не предложил появиться в программе Кейлина и откровенно ответить на любые вопросы в качестве бывшего посла Земли на Авроре и действующего министра без портфеля.
Для Кейлина это был превосходный шанс вернуть себе былую популярность. Он знал Морено — тот был далеко не дурак. Заполучив Морено к себе на передачу, можно было рассчитывать на огромную аудиторию, как в лучшие его времена. Сам факт того, что Морено изъявил желание воспользоваться его — а не чьей-нибудь — программой в качестве трибуны для выступления, вполне мог означать поворот на более гибкий и разумный курс во внешней политике. Возможно, Мейнард оказался прав и дефицит всего подействовал в точности так, как было предсказано.
Список вопросов, разумеется, был представлен Морено заранее, но бывший посол заявил, что ответит на все до единого, а также на любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в процессе интервью.
С виду все было совершенно идеально. Пожалуй, даже слишком идеально, но в сложившихся обстоятельствах только полный псих стал бы беспокоиться о таких мелочах.
Предстоящую передачу, разумеется, усердно рекламировали, и, когда ведущий с гостем уселись друг напротив друга за маленьким столиком, красная стрелка, которая показывала число видеоаппаратов, настроенных на их канал, зашкаливала за отметку в двести миллионов. А на каждый видеоаппарат по статистике приходилось в среднем 2,7 зрителя. Дали заставку, а ней последовало официальное представление.
Кейлин медленно потирал щеку, дожидаясь сигнала. Потом заговорил:
— Господин министр, вопрос, который в настоящее время волнует всех землян, касается возможности войны. Давайте с него и начнем. Как вы считаете, война будет?
— Если это будет зависеть только от Земли, я отвечу: нет, и еще раз нет. За свою историю Земля повидала немало войн и не раз убеждалась, что войной нельзя ничего достичь.
— Вы сказали «если это будет зависеть только от Земли». Вы имеете в виду, что войну вызовут факторы, которые находятся не в нашей власти?
— Я не говорю «вызовут», но могу сказать «способны вызвать». Я, разумеется, не имею возможности говорить за Внеземелье. Я не стану делать вид, будто знаю их мотивы и намерения в этот критический миг галактической истории. Они могут выбрать войну. Надеюсь, что этого не произойдет. Однако, если они решат воевать, мы будем обороняться. В любом случае, мы никогда не развяжем военные действия, мы не нанесем удар первыми.
— Правильно ли я понял, что, по вашему мнению, между Землей и Внеземельем не существует фундаментальных противоречий, которые нельзя было бы разрешить путем переговоров?
— Совершенно верно. Если бы Внеземелье было искренне заинтересовано в том, чтобы найти решение, от всех наших разногласий не осталось бы и следа.
— Относится ли это и к вопросу иммиграции?
— Безусловно. Наша роль тут совершенно ясна, и нам не в чем себя упрекнуть. Текущее положение дел таково, что двести миллионов человек в настоящее время занимают девяносто пять процентов всех пригодных для обитания территорий во вселенной. Шесть миллиардов — а это девяносто семь процентов всего человечества — ютятся на оставшихся пяти процентах. Подобная ситуация совершенно определенно несправедлива и, хуже того, нестабильна. И все же даже перед лицом такой несправедливости Земля неизменно изъявляла готовность заниматься разрешением этой проблемы постепенно. Мы до сих пор этого хотим. Нам нужно прийти к согласию относительно разумных квот и разумных ограничений. Однако планеты Внеземелья отказались обсуждать этот вопрос. На протяжении пяти десятилетий они отвергали все попытки Земли начать переговоры.
— Если такое отношение со стороны Внеземелья будет продолжаться, по вашему мнению, начнется война?
— Я не могу представить, чтобы подобное отношение продолжалось. Наше правительство не теряет надежды, что планеты Внеземелья в конце концов пересмотрят свою позицию по этому вопросу, что их совесть и чувство справедливости не умерли, а лишь дремлют.
— Господин министр, давайте перейдем к другой теме. Как вы считаете, Комиссия Объединенных Планет, учрежденная не так давно мирами Внеземелья для контроля над торговлей с Землей, представляет угрозу для мира?
— Если считать, что ее действия свидетельствуют о желании планет Внеземелья добиться изоляции Земли и ослабить ее экономику, то да, представляет.
— О каких именно действиях вы говорите, сэр?
— О ее действиях, направленных на ограничение межзвездной торговли с Землей до такой степени, что общий ее объем в стоимостном выражении в настоящее время составляет менее десяти процентов от показателя трехмесячной давности.
— Но действительно ли эти ограничения представляют собой экономическую угрозу для Земли? К примеру, разве объемы торговли с Внеземельем не составляют практически ничтожную часть от общего объема земной торговли? Разве товары, импортируемые с планет Внеземелья, не попадают в руки в лучшем случае незначительного меньшинства всего населения?
— Эти вопросы иллюстрируют глубокое заблуждение, которое весьма распространено среди наших изоляционистов. Действительно, в стоимостном выражении объем межзвездной торговли составляет лишь пять процентов от общего объема нашей торговли, однако же девяносто пять процентов всех наших атомных двигателей мы импортируем. Восемьдесят процентов нашего тория, шестьдесят пять процентов нашего цезия, шестьдесят процентов нашего молибдена и олова мы также импортируем.
— Так какой вопрос вы хотели мне задать, мистер Кейлин?
— Принимая во внимание все изложенное мной, считаете ли вы выдвинутую правительством Земли ноту преступной ошибкой дипломатии, которую теперь можно исправить лишь политикой разумного улаживания разногласий, или нет?
— А вы не стесняетесь в выражениях. Впрочем, я не могу прямо ответить на ваш вопрос, поскольку не согласен с вашей главной предпосылкой. Мне с трудом верится, что делегаты могли вести себя так, как вы утверждаете. Во-первых, общеизвестно, как на планетах Внеземелья гордятся тем, что частота душевных расстройств, психозов и даже сравнительно незначительных личностных отклонений в их обществе практически равна нулю. Один из их наиболее весомых аргументов против Земли — что психиатров у нас и так больше, чем сантехников, а нам все равно не хватает. Делегаты представляют собой цвет их столь психически уравновешенного общества. И вы хотите, чтобы я поверил, будто эти полубоги в пылу полемики отступились от своих убеждений и коренным образом изменили экономическую политику пятидесяти миров разом? Я не могу представить, что они способны на столь ребяческое и несерьезное поведение и потому вынужден утверждать, что все предпринятые ими действия были вызваны не какой бы то ни было нотой правительства Земли, а какими-то более глубинными соображениями.
— Но я собственными глазами видел, какое воздействие она на них оказала, сэр. Не забывайте, их отчитали, и притом, как они это расценили, в недопустимых выражениях, неполноценные люди. Нет никаких сомнений, сэр, что в целом обитатели Внеземелья являются исключительно психически уравновешенными людьми, несмотря на весь ваш сарказм, но их отношение к Земле представляет собой слабое место в этой уравновешенности.
— Вы задаете мне вопросы или защищаете расистские взгляды и политику Внеземелья?
— Хорошо. Если вы считаете, что нота правительства Земли не нанесла никакого вреда, какую пользу она могла принести? Зачем вообще было ее выдвигать?
Более того, если какой-то крупный производитель получает груз атомных металлообрабатывающих станков с Реи, это не значит, что выгоду от этого получает исключительно он один. Выгоду при этом получает каждый житель Земли, который пользуется стальными инструментами или любыми предметами, изготовленными при помощи стальных инструментов.
— Но ведь текущие ограничения на межзвездную торговлю с Землей почти полностью прекратили наш экспорт зерна и скота. Какой там вред, неужели это не благо для наших собственных голодающих?
— Это еще одно серьезное заблуждение. Продовольственное снабжение на Земле действительно оставляет желать лучшего. Наше правительство не может этого не признавать. Но экспорт продовольственных товаров не наносит сколько-нибудь серьезного ущерба этому снабжению. На экспорт идет менее чем одна пятая процента всех продовольственных запасов Земли, в обмен на что мы получаем, к примеру, удобрения и сельскохозяйственное оборудование, которое сторицей вознаграждает нас за эту незначительную потерю, повышая эффективность сельскохозяйственного производства. Таким образом, снижая закупки нашего продовольствия, Внеземелье, по сути, урезает наши и без того скудные продовольственные запасы.
— Значит, господин министр, вы готовы признать, что по меньшей мере часть вины за сложившуюся ситуацию лежит на самой Земле? Иными словами, мы подошли к следующему моему вопросу: не допустило ли наше правительство грубейший дипломатический просчет, распространив свою приснопамятную ноту, в которой осуждало намерения планет Внеземелья еще до того, как они высказали эти намерения на Межпланетной Конференции?
— Думаю, их намерения уже тогда были предельно ясны.
— Прошу прощения, сэр, но я присутствовал на конференции. К тому моменту, когда была выдвинута нота, отношения между делегатами планет практически зашли в тупик. Представители Реи и Тефиды резко возражали против введения экономических санкций против Земли, и существовал значительный шанс, что Аврора со своим блоком потерпит поражение. Нота правительства Земли в один миг перечеркнула эту возможность.
— Думаю, мы имели полное право представить на суд галактического общественного мнения наш взгляд на ситуацию. Полагаю, эта тема себя уже исчерпала. Перейдем к вашему следующему вопросу. Это уже последний, верно?
— Последний. Не так давно было объявлено, что земное правительство будет принимать строгие меры против тех, кто занимается контрабандной торговлей. Как это согласуется с мнением правительства о том, что ухудшение торговых отношений пагубно сказывается на благоденствии Земли?
— Наша главная забота — сохранение мира, а не сиюминутное благоденствие. Планеты Внеземелья ввели определенные торговые ограничения. Мы их не одобряем и считаем глубоко несправедливыми. Тем не менее мы подчинимся им, чтобы ни одна планета не могла заявить, что мы ухватились за первый же подвернувшийся предлог развязать военные действия. Кстати, я имею удовольствие сообщить, что за прошлый месяц пять кораблей, путешествующих под флагом Земли без законного на то основания, были пойманы за контрабандной переправкой техники из Внеземелья на Землю. Их товар был конфискован, а члены экипажей взяты под стражу. Это — доказательство наших добрых намерений.
— Эти корабли были из Внеземелья?
— Да. Но путешествовали под флагом Земли.
— А арестованные — граждане планет Внеземелья?
— Думаю, да. Однако они нарушили не только наши законы, но и законы Внеземелья и тем самым дважды лишились своих межпланетных прав. Мне кажется, на этом интервью лучше завершить.
— Но это же…
Ровно в этот миг передача оборвалась. Конец последнего предложения Кейлина не услышал никто, кроме Морено. Звучали они так:
— …означает войну!
Однако Луис Морено больше не был в эфире. Он натянул перчатки, улыбнулся и многозначительно пожал плечами, выражая полнейшее равнодушие.
Этого уже никто не видел.
Заседание Собрания Авроры все еще тянулось. Франклин Мейнард до предела вымотался и на миг отключился. Он посмотрел на сына, которого впервые видел во флотской форме.
— По крайней мере, ты знаешь, что должно произойти, верно?
В ответе юноши не прозвучало ни усталости, ни страха — ничего, кроме полной убежденности.
— Наконец-то, папа!
— Значит, тебя ничто не смущает? Ты не считаешь, что мы опались на их удочку?
— Какая разница? Земле конец. Мейнард покачал головой.
— Но ты отдаешь себе отчет, что нас подталкивают к несправедливости? Граждане Внеземелья, которых они держат под арестом, нарушили закон. Земля в своем праве. Юноша нахмурился.
— Надеюсь, ты не собираешься делать подобные заявления на Собрании, папа? По-моему, Земля не имела никакого права так поступать. Ну ладно, допустим, они действительно занимались контрабандой. Это все потому, что кое-кто из внеземлян готов платить за земное продовольствие по ценам черного рынка. Если бы у землян было хотя бы немного здравого смысла, они могли бы закрыть на это глаза, и всем было бы хорошо. Если они на каждом углу трезвонят, как им необходимо торговать с нами, почему бы не принять к этому какие-то меры? И вообще, по-моему, нам не пристало оставлять честных аврориан или любых других внеземлян в лапах этих обезьян. Если их не отдают добром, мы отобьем их силой. Иначе никто из нас больше не сможет чувствовать себя в безопасности.
— Я вижу, ты нахватался где-то распространенных нынче взглядов.
— Это мои собственные взгляды. И если они распространенные, то это потому, что они имеют смысл. Земля хочет войны? Что ж, она ее получит.
— Да, но почему они хотят войны, а? Зачем им нас подталкивать? Вся наша экономическая политика последних месяцев была направлена лишь на то, чтобы заставить их изменить свою позицию, не прибегая к военным действиям.
Он разговаривал сам с собой, но сын ответил ему неопровержимым аргументом:
— Мне все равно, почему они хотели войны. Теперь они ее получили, и мы их разобьем.
Мейнард вновь подключился к Собранию, но в тот миг, когда комнату снова огласил гул прений, его кольнула мысль, что в этом году земной люцерны не будет. Ему стало жалко молока. Даже мясо теперь почему-то казалось не таким вкусным…
Вотум был принят ранним утром. Аврора объявила войну. К рассвету в нее вступило большинство стран аврорианского блока.
Впоследствии эта война вошла в учебники истории под именем Трехнедельной. За первую неделю аврорианские войска заняли несколько астероидов, лежащих за границей орбиты Плутона, а к началу третьей недели основная масса флота Земли была практически полностью разгромлена в бою с аврорианским флотом, в численном выражении уступавшим земному более чем вчетверо. Было это внутри орбиты Сатурна.
После этого объявления войны от еще сохранявших нейтралитет планет Внеземелья посыпались, как горох из мешка.
Через двадцать одни сутки без двух часов от начала войны Земля капитулировала.
Условия мирного договора обсуждали между собой планеты Внеземелья. Земле предоставили только подписать его. Договор был необычный, возможно, даже единственный в своем роде, и перед лицом беспрецедентного унижения все многомиллионное население Земли в полном составе словно проглотило язык от гнева и стыда, слишком сильного, чтобы можно было выразить его словами.
Пожалуй, наиболее любопытный комментарий к условиям упомянутого мирного договора прозвучал по аврорианскому видео два дня спустя после его опубликования. Выдержку из него можно привести здесь:
«…Ни на Земле, ни внутри ее нет ничего такого, что было бы необходимым или желанным во Внеземелье. Все стоящее, что когда-либо было на Земле, покинуло ее в лице наших пращуров.
Они зовут нас детьми матери-Земли, но это не так, поскольку мы потомки той Земли, которой больше не существует, Земли, которую мы забрали с собой. Сегодняшняя Земля доводится нам в лучшем случае дальней родственницей. И не более того.
Нужны ли нам их ресурсы? Да им самим всего не хватает. Можем ли мы воспользоваться их промышленностью или наукой? Они находятся при последнем издыхании из-за оторванности от наших. Можем ли мы пустить в ход их людские ресурсы? От одного нашего робота толку больше, чем от целого их десятка. Нужна ли нам хотя бы сомнительная слава господства над ними? В этом нет никакой славы. Беспомощные и бестолковые, они будут нам лишь обузой. Они будут только попусту растрачивать наши собственные продовольственные, трудовые и административные ресурсы.
Как видим, они не в состоянии дать нам ничего, кроме места, которое они занимают в наших умах. Они не в состоянии снять с нас никакое бремя, кроме самих себя. Они не могут принести нам никакой пользы, кроме как своим отсутствием.
Именно по этой причине условия мирного договора были установлены в таком виде. Мы не желаем им зла, так что пусть им остается их родная Солнечная система. Пусть живут в ней с миром. Пусть строят свою судьбу, как считают нужным, а мы не потревожим их даже намеком на свое присутствие. Но за это мы хотим от них мира. За это мы хотим строить свое будущее, как мы считаем нужным. Поэтому мы не желаем их присутствия. И с этой целью флот Внеземелья будет патрулировать границы Солнечной системы, а на отдаленных астероидах будут размещены наши военные базы, чтобы мы могли быть уверены, что они не вторгнутся на нашу территорию.
Между нами не будет ни торговли, ни дипломатических отношений, ни сообщения, ни связи. Они Отторожены, заперты, герметично запечатаны. У нас здесь новая вселенная, в которой человек сотворен заново, высший человек…
Нас спрашивают: а что же будет с Землей? Отвечаем: это проблема Земли. Рост населения можно сдерживать. Ресурсы можно использовать эффективно. Экономическую систему можно перестроить. Мы знаем это, потому что нам это удалось. Если у них ничего не получится, пусть они повторят судьбу динозавров и освободят место другим.
Пусть лучше они освободят место другим, чем вечно требовать его для себя!»
Эрнест Кейлин потерянно сказал с видеоэкрана:
— Теперь мы предоставлены самим себе. Для нас нет ни Вселенной, ни прошлого — только Земля и будущее.
Вечером с ним снова связался Луис Морено, и еще до рассвета Кейлин выехал в столицу.
В чопорной официальной обстановке президентского дворца присутствие Морено казалось неуместным. Он снова был простужен и то и дело шмыгал носом.
Кейлин поглядывал на него с пугающей его самого враждебностью, пальцы у него сводило от желания сомкнуть их на горле бывшего посла. Наверное, зря он приехал… Впрочем, что толку об этом думать; распоряжения были недвусмысленными. Если бы он не приехал сам, его привезли бы силой.
Новоиспеченный президент устремил на него проницательный взгляд.
— Вам придется пересмотреть свое отношение ко мне, Кейлин. Я знаю, что вы считаете меня одним из могильщиков Земли — кажется, именно так вы выразились вчера вечером? — но вы должны спокойно меня выслушать. Сомневаюсь, чтобы сейчас, когда вы еле сдерживаете ваш гнев, вы были в состоянии услышать меня.
— Я услышу все, что вы намерены мне сказать, господин президент.
— Что ж, внешняя любезность — уже кое-что. Это вселяет надежду. Или вы считаете, что за этим помещением ведется видеонаблюдение?
Кейлин только вскинул брови.
— Его нет, — сказал Морено. — Мы с вами совершенно одни. При нашем разговоре не должен никто присутствовать, иначе как прикажете сообщить вам, что вам предстоит быть избранным на пост президента в соответствии с конституцией, которую в данный момент разрабатывают? Что-то не так?
Он усмехнулся при виде потрясенного выражения на побледневшем лице Кейлина.
— А, не верите. Что ж, теперь вы уже не можете отказаться. Не пройдет и часа, как вы все поймете.
— Я буду президентом? — выдавил Кейлин чужим, севшим голосом. Потом добавил, уже тверже: — Вы сошли с ума.
— Нет. Не я. Скорее они там. В своем Внеземелье.
В глазах, в лице, в голосе Морено вдруг появилась какая-то недобрая решимость, которая заставляла мгновенно позабыть, что перед тобой маленький обезьяноподобный человечек с вечной простудой. Ты уже не замечал морщинистого покатого лба. Ты не помнил ни о лысеющей голове, ни о мешковатой одежде. Оставался лишь ясный проницательный взгляд и металл в голосе. Их не заметить было невозможно.
Морено приблизился и заговорил, все жарче и жарче, и Кейлин слепо пошарил за спиной в поисках кресла.
— Да, — сказал Морено. — Они. Небожители. Полубоги. Неприступные сверхлюди. Сильная и прекрасная раса господ. Они сошли с ума. Но лишь мы на Земле догадываемся об этом.
Вы ведь слышали о Тихоокеанском проекте. Знаю, что слышали. Вы как-то раз упомянули о нем в разговоре с Сельони и назвали его фикцией. Но он не фикция. И в нем нет практически никакого секрета. На самом деле единственный связанный с ним секрет заключался в том, что в нем не было практически никакого секрета.
Вы далеко не дурак, Кейлин. Вы просто никогда не задумывались над всем этим хорошенько. И все же вы напали на след. Вы почуяли его. Как это вы сказали, когда брали у меня интервью? Что-то насчет того, что отношение внеземлян к землянам — единственный изъян в их былой психической уравновешенности. Так, да? Ну или как-то в этом духе? Ну ладно, хорошо! Уже тогда вам была известна первая треть Тихоокеанского проекта, и в ней не было никакого секрета, не так ли?
Задайтесь вопросом, Кейлин: что испытывает типичный аврорианин по отношению к типичному землянину? Чувство превосходства? Пожалуй, это первое, что приходит в голову. Но скажите мне, Кейлин, если бы он действительно чувствовал себя высшим существом, по-настоящему высшим, неужели ему было бы так необходимо постоянно привлекать к этому вопросу такое внимание? Что это за превосходство, если его нужно постоянно подкреплять определениями вроде «обезьяны», «недочеловеки», «полуживотные», «земляшки» и тому подобными? Тут нет ничего общего со спокойной внутренней уверенностью в собственном превосходстве. Вы часто разбрасываетесь эпитетами в адрес земляных червей? Нет, здесь что-то не то.
Или давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Почему туристы из Внеземелья останавливаются в специальных отелях, перемещаются в замкнутых машинах и подчиняются строгим, пусть и неписаным, правилам, запрещающим все внешние контакты? Чего они так боятся? Загрязнения? Тогда странно, что они не боятся есть нашу еду, пить наше вино и курить наш табак.
Видите ли, Кейлин, во Внеземелье нет психиатров. Наши сверхлюди, по их собственным уверениям, слишком хорошо адаптировались. Но здесь, на Земле, как говорится, психиатров больше, чем сантехников, и никто из них не испытывает недостатка в пациентах. Так что это мы, а не они, знаем правду о комплексе превосходства, которым страдают внеземляне, и знаем, что это всего лишь отчаянная реакция на невыносимое чувство вины.
Вы не считаете, что такое возможно? Вы качаете головой, как будто с чем-то не согласны. Вам не кажется, что горстка людей, которая заграбастала себе всю Галактику, в то время как миллиарды их соплеменников задыхаются от недостатка места, непременно должна испытывать подсознательное чувство вины? И раз уж они не захотели делить добычу, единственный способ, которым они могут оправдать свое поведение в собственных глазах, это попытаться убедить себя, что земляне все-таки неполноценны, что они не заслуживают Галактики, что там, на планетах Внеземелья, была создана раса новых людей, а мы здесь — всего лишь презренные остатки былой расы, которая должна вымереть, подобно динозаврам, благодаря действию неумолимых законов природы?
О, если бы им удалось убедить себя в этом, они больше не чувствовали бы за собой вины, а чувствовали бы одно лишь превосходство. Вот только ничего у них не выходит. Приходится постоянно распалять себя, постоянно напоминать себе об этом, постоянно укреплять это чувство. И все равно получается не совсем убедительно.
Но лучше всего было бы, если бы им удалось сделать вид, будто Земли с ее населением не существует вовсе. Поэтому, когда оказываешься на Земле, необходимо избегать землян, иначе вам может стать не по себе оттого, что они не производят впечатления достаточно неполноценных людей. Вместо этого они иногда производят впечатление обездоленных, и ничего больше. Или, того хуже, они могут даже показаться умными — что, кстати, и произошло со мной на Авроре.
Время от времени среди внеземлян появлялся кто-нибудь вроде Мореану, способный признать чувство вины и не бояться говорить об этом вслух. Он утверждал, что Внеземелье в долгу перед землянами, и потому был для нас опасен. Если бы все остальные прислушались к нему и предложили Земле означенную поддержку, это могло бы заставить их избавиться от чувства вины, и тогда в долгосрочной перспективе Земля осталась бы без помощи. Поэтому мы окольными путями устранили Мореану и расчистили дорогу тем, кто был непреклонен и отказывался признать свою вину и чью реакцию можно было точно предсказать и использовать ее в наших целях.
К примеру, выставить им надменную ноту, на которую они автоматически ответят бесполезным эмбарго и тем самым лишь подадут нам идеальный повод для войны. После этого нужно быстренько проиграть войну, и раздраженные сверхлюди надежно Оттородятся от вас. Никаких сношений, никаких контактов. Вас больше не существует, некому действовать им на нервы. Правда, просто? И все получилось как нельзя лучше.
Кейлин наконец-то обрел дар речи, поскольку Морено умолк и дал ему собраться с мыслями.
— Вы хотите сказать, что все это было подстроено? Вы намеренно спровоцировали войну с целью изолировать Землю от всей остальной Галактики? Вы отправили наш флот на верную гибель, потому что вам нужно было поражение? Да вы просто чудовище, вы… вы… вы… Морено нахмурился.
— Успокойтесь, пожалуйста. Я не так прост, как вам кажется, и я отнюдь не чудовище. По вашему мнению, войну можно так просто взять и развязать? Нет, ее необходимо заботливо подготавливать, направлять в нужное русло и подталкивать к нужному финалу. Да если бы нас вынудили сделать первый шаг, если бы мы стали агрессорами, если бы ответственность в силу каких-либо причин легла на нас, внеземляне оккупировали бы Землю и поработили бы ее. Понимаете, они больше не чувствовали бы себя виноватыми, если бы мы совершили какое-нибудь преступление против них. Равно как если бы наше сопротивление затянуло войну или нанесло бы им существенный ущерб, они тоже вполне могли бы переложить вину на нас.
Но ничего этого не произошло. Мы просто арестовали аврорианских контрабандистов, причем действовали строго в рамках своих прав. Им волей-неволей пришлось объявить нам войну, поскольку лишь таким образом они могли сохранить чувство своего превосходства, которое, в свою очередь, защищало их от мук сознания своей вины. А мы быстро сдались. Во всей войне едва ли погиб хотя бы один аврорианин. Чувство вины укоренилось в них еще глубже и в результате привело в точности к такому мирному договору, как и предсказывали наши психиатры.
Что же касается того, что мы послали людей на гибель, на любой войне это обычное дело — и необходимость. Необходимо было вести сражение, и, естественно, не обошлось без потерь.
— Но почему? — исступленно перебил его Кейлин. — Почему? Почему? Почему вы находите какой-то смысл в этой тарабарщине? Что мы приобрели? Какую пользу нам может принести сложившаяся ситуация?
— Приобрели? Вы спрашиваете, что мы приобрели? Да всю Вселенную! Что до сих пор нам мешало? Вы знаете, что было нужно Земле последние несколько столетий. Вы сами не так давно весьма убедительно изложили это Сельони. Нам нужно общество, основанное на позитронных роботах, и техника, основанная на атомной энергии. Нам нужно химическое производство пищи и ограничение рождаемости. Ну и что всему этому мешало, а? Всего лишь вековые традиции, согласно которым роботов считали злом, потому что когда-то давно они лишали людей работы, а контроль над рождаемостью объявляли просто-напросто убийством нерожденных детей, и так далее. Но хуже всего то, что всегда существовала лазейка — эмиграция, доступная или желанная.
Но теперь нам некуда эмигрировать. Мы застряли здесь. Хуже того, мы потерпели унизительное поражение от горстки людей со звезд и получили навязанный нам унизительный мирный договор. Какой землянин не будет гореть желанием отомстить, пусть и подсознательно? Инстинкт самосохранения нередко отступает перед неукротимым желанием поквитаться.
В этом и заключается вторая треть Тихоокеанского проекта — в признании желания отомстить. Проще некуда.
Откуда мы знаем, что пойдет так, как я описал? Да оттуда, что этому не счесть примеров в истории. Нанеси поражение государству, но не уничтожай его полностью, и через одно-два-три поколения оно станет сильнее прежнего. Почему? Потому что месть заставляет идти на такие жертвы, на которые никогда не пошел бы ради простого завоевания.
Задумайтесь! В первый раз римляне одержали победу над Карфагеном сравнительно легко, тогда как во второй едва сами не потерпели поражения. Всякий раз, когда Наполеон наносил поражение очередной коалиции европейских государств, он закладывал фундамент для новой, разбить которую с каждым разом становилось все сложнее и сложнее, пока на восьмой раз не сокрушили его самого. Шесть лет ушло на то, чтобы нанести поражение германскому королю Вильгельму, и еще шесть неизмеримо более страшных лет — чтобы остановить его последователя, Гитлера.
Вот видите! До сих пор Земле нужно было изменить свой образ жизни лишь ради большего удобства и счастья. Подобные мелочи всегда могут подождать. Но теперь она должна измениться ради мести, а месть ждать не будет. А я хочу этих перемен ради них самих.
Вот только… я не из тех людей, кто способен повести за собой других. Мое имя запятнано тенью прошлогодней неудачи и будет оставаться запятнанным до тех пор, когда в далеком будущем, много лет спустя после того, как я обращусь в прах, Земля не узнает правду. Но вы… вы и вам подобные всегда прокладывали дорогу к новым горизонтам. Вы поведете по ней других. На это может уйти сотня лет. Возможно, лишь внуки тех, кто пока еще даже не родился на свет, увидят конец пути. Но вы, по крайней мере, увидите его начало.
— Э-э… что вы сказали?
Кейлин примерил на себя эту мечту. Казалось, он видит ее в туманной дали — новую, возрожденную Землю. Но для этого требовалась слишком кардинальная перемена в умах. Невозможно было произвести ее так сразу. Он покачал головой.
— Даже если все, что вы сказали, правда, почему вы считаете, что планеты Внеземелья допустят подобные перемены? Я уверен, что они будут наблюдать за нами, обнаружат зреющую опасность и пресекут ее в зародыше. Вы станете утверждать обратное?
Морено запрокинул голову и беззвучно расхохотался.
— Но у нас осталась еще третья, и последняя, треть Тихоокеанского проекта, заключительная, неочевидная и парадоксальная треть…
Внеземляне именуют людей Земли жалкими отбросами великой расы, но мы — люди Земли. Понимаете, что это значит? Мы живем на планете, на которой на протяжении миллиарда лет жизнь — жизнь, венцом которой стало Человечество, — приспосабливалась к изменяющимся условиям. Не существует ни единой микроскопической части Человека, ни единого крошечного движения его мысли, в основе которого не лежала бы какая-либо незаметная грань физического строения Земли, или биологического строения других земных форм жизни, или социологического строения окружающего его общества.
Человеку в настоящем его виде ни одна другая планета не заменит Землю.
Внеземляне самым своим теперешним существованием всецело обязаны тому, что на их планеты были перенесены частички Земли. Туда переправили почву, растения, животных, людей. Они живут в окружении искусственно созданных земных ландшафтов, которые содержат в себе, к примеру, все те же самые микроскопические следы кобальта, цинка и меди, какие можно найти на Земле. Они окружают себя земными бактериями и водорослями, которые обладают способностью вырабатывать эти микроэлементы в точности в таком виде и в точности в таком количестве, как нужно.
И они поддерживают такую ситуацию постоянным импортом — импортом роскоши, как они это называют, — с Земли.
Но у себя на планетах, несмотря даже на привозную земную почву, уложенную поверх коренной породы, они не в состоянии помешать дождям идти, а рекам — течь, поэтому происходит неизбежное, пусть и медленное, смешение с туземной почвой, неизбежное столкновение земных почвенных бактерий с туземными, да и воздействие чужой атмосферы и солнечной радиации совершенно иного типа тоже играет свою роль. Земные бактерии исчезают или видоизменяются. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в растительном мире. Потом — в животном.
Эти изменения не так уж значительны, нет. Растения не способны стать ядовитыми или потерять свою питательную ценность ни за день, ни за год, ни за десять. Но жители Внеземелья уже ощущают исчезновение или изменение микроэлементов, отвечающих за то неуловимое ощущение, которое мы называем «тем самым вкусом». Все уже зашло слишком далеко.
И пойдет еще дальше. Знаете ли вы, что на Авроре, к примеру, в основе протоплазмы половины известных науке видов туземных бактерий лежат фторуглеродные, а не углеводородные соединения? Можете себе представить, насколько чужеродна для человека такая среда обитания?
В общем, на протяжении двух десятилетий земные бактериологи и физиологи изучали различные формы жизни планет Внеземелья — это была единственная по-настоящему засекреченная часть Тихоокеанского проекта — и сделали вывод, что у перевезенных с Земли живых организмов уже начинают проявляться определенные изменения на субклеточном уровне. Даже у людей.
Вот ведь какой парадокс. Внеземляне с их непробиваемым расизмом и негибкой генетической политикой последовательно избавляются от всех детей, которые выказывают признаки адаптации к новым условиям жизни, являющиеся сколько-нибудь заметным отклонением от нормы. Они поддерживают — должны поддерживать, у них такой образ мышления — искусственный критерий «здорового» человечества, основанный на биохимии Земли, а не их собственных планет.
Но теперь, когда Земля отрезана от них, теперь, когда к ним не просочится ни щепотки земной почвы, ни единого живого организма с Земли, изменения начнут наслаиваться одно на другое. Пойдут болезни, повысится смертность, станет появляться на свет больше детей с врожденными уродствами…
— И тогда? — спросил Кейлин, внезапно захваченный этой речью.
— Тогда? Ну, они же обожают естественные науки, а глупости вроде биологии за ненадобностью оставили нам. И они не в состоянии отказаться от чувства собственного превосходства и своих жестких стандартов человеческого совершенства. Они не заметят перемен, пока бороться с ними не станет слишком поздно. Не все мутации видны невооруженным взглядом, и все чаще будут звучать протесты против косных общественных устоев Внеземелья. Им обеспечено столетие природных и общественных потрясений, во время которых им будет не до нас.
А для нас наступит столетие обновления и возрождения, и в конце его мы будем иметь дело с внешней Галактикой, умирающей или изменившейся. В первом случае мы создадим вторую Земную империю, только устроенную мудрее и разумнее предыдущей, империю, которая будет зиждиться на сильной и обновленной Земле.
Во втором случае нам придется иметь дело с десятком, двумя или даже всеми пятьюдесятью планетами Внеземелья, на каждой из которых будет свое, немного отличное от других человечество. Пятьдесят гуманоидных рас, больше не объединенных в коалицию против нас, каждая из которых будет все лучше и лучше адаптироваться к жизни на своей планете и обладать склонностью атавистически любить Землю, считать ее великой матерью-прародительницей.
Расизм отомрет, потому что реальностью человечества станет многообразие, а не единообразие. Каждый тип человека будет обитать в своем собственном мире, который никогда не сможет заменить любой другой мир и на котором никогда не сможет жить любой другой вид. И можно будет заселять другие, новые миры, на которых станут появляться все новые и новые типы людей, пока не окажется, что в этом гигантском плавильном котле мать-Земля в конце концов дала рождение не просто Земной, но Галактической империи.
— Вы так уверенно все это предсказываете, — восхитился Кейлин.
— Ну, по-настоящему уверенным нельзя быть ни в чем, в этом сходятся все лучшие умы Земли. На этом пути могут возникнуть непредвиденные препятствия, но преодолевать их предстоит уже нашим внукам. Мы же благополучно справились с первой частью нашей задачи и теперь приступим ко второй. Вливайтесь в наши ряды, Кейлин.
Кейлин мало-помалу склонялся к мысли, что, пожалуй, этот Морено вовсе не такое уж и чудовище…
День охотников
Все кончилось в тот же вечер, что и началось. Тогда я затрепыхался; до сих пор беспокоюсь.
Ну, так вот. Джо Блох, Рей Меннинг и я сидели за своим любимым столиком в забегаловке, перед нами весь вечер, много болтовни и все такое.
Начал Джо Блох. Он что-то такое сказал об атомной бомбе, что, он думает, с ней нужно сделать, и кто бы мог сказать пять лет назад. А я сказал, что много парней думали об этом пять лет назад, и рассказов написали порядочно, а теперь им за газетными заголовками не угнаться. Все это привело к общему трепу о том, что бывают возможны самые невероятные вещи, и много «например» было при этом пущено в ход.
Рей сказал: он слышал от кого-то, что какой-то ученый, большая шишка, отправил брусок свинца назад во времени, то ли на две секунды, то ли на две минуты, то ли вообще на тысячную секунды — он не знает точно. Он еще сказал, что ученый никому не рассказывает: боится, что не поверят.
Тут я, конечно, спросил, а он-то откуда знает. У Рея приятелей навалом, но я их всех знаю, и ни у кого знакомых шишек-ученых нет. Но он говорит: неважно, от кого, не хочешь — не верь.
И ничего нам не оставалось делать, как потолковать о машинах времени, и как ты отправляешься назад и убиваешь собственного дедушку, и почему никто из будущего к нам не приходит и не говорит, кто выиграет следующую войну, и будет ли следующая война, и останется ли кто на Земле после нее. Кто бы ни выиграл.
Рей сказал, что здорово было бы знать победителя седьмого заезда, когда идет шестой.
Но Джо решил по-другому. Он сказал:
— У вас, парни, на уме только войны да скачки. А я любопытен. Знаете, что бы я сделал с машиной времени?
Конечно, мы захотели узнать, чтобы потом вдоволь над ним поржать.
Он сказал:
— Если бы у меня была машина, я бы отправился назад на пять или там пятьдесят миллионов лет и посмотрел, что стало с динозаврами.
Вот это дал! Мы с Реем решили, что толку в этом никакого. Рей сказал, что кого интересуют динозавры, и я — что они годны на то только, чтобы оставить груды скелетов; знаете, всякие придурки ходят по музеям и на них смотрят; и хорошо, что они убрались: место для людей освободили. Конечно, Джо тут же сказал, что некоторых своих знакомых — тут он на нас поглядел он бы сменял на динозавров, но нам-то что с того?
— Вы, тупые башки, только и знаете, что ржать, будто что понимаете. У вас никакого воображения, — сказал он. — Динозавры — это здорово! Их были миллионы всяких — большие, как дом, тупые тоже, как дом — повсюду. И вдруг, в один миг, вот так, — он щелкнул пальцами, — они исчезли.
Как это, захотели мы узнать.
Но он только прикончил пиво и помахал Чарли, чтобы тот принес новое. Помахал монетой, значит, заплатит. И пожал плечами.
— Не знаю. Вот это я бы и хотел узнать.
Вот и все. На этом мы бы и кончили. Я бы что-нибудь сказал, Рей добавил бы что потешное, мы бы еще заказали пива, и разговор пошел бы о погоде, о Бруклинских Ловкачах, потом мы бы сказали «пока» и даже не думали бы о динозаврах.
Но не вышло, и теперь эти динозавры у меня из головы не выходят, меня с них тошнит даже.
Потому что алкаш за соседним столиком поднял голову и сказал:
— Эй!
Мы его не заметили. Мы, как правило, не связываемся с незнакомыми в баре. У меня хватает своих забот, никаких алкашей не нужно. Перед этим парнем стояла бутылка, наполовину полная, в руке он держал стакан, наполовину пустой.
Он сказал:
— Эй!
Мы все посмотрели на него, и Рей высказался:
— Джо, узнай, что ему нужно.
Джо к нему сидел поближе. Он отклонил стул назад и спросил:
— Чего нужно?
Алкаш ответил:
— Джентльмены, не вы ли говорили о динозаврах?
Он был только слегка навеселе, глаза красные, будто он кровью плакал, а о рубашке можно было догадаться, что когда-то она была белой. Но вот говорил он… говорил он не как алкаш, если вы понимаете, что я хочу сказать.
Ну, Джо, похоже, успокоился и сказал:
— Да. Хотите что-нибудь знать?
Тот будто улыбнулся. Странная улыбка: начиналась на губах и кончилась, не тронув глаз. Сказал:
— Вы хотели бы построить машину времени и отправиться в прошлое, посмотреть, что произошло с динозаврами?
Я видел, что Джо решил: готовится какое-то надувательство. Я тоже так подумал. Джо спросил:
— Ну и что? Хотите построить мне такую?
Алкаш показал пригоршню зубов и ответил:
— Нет, сэр. Мог бы, но не стану. Знаете почему? Потому что построил такую машину для себя несколько лет назад, и побывал в мезозойской эре, и посмотрел, что стало с динозаврами.
Потом я заглянул в словарь — поэтому и могу так сказать «мезозойская». Вдруг вы сомневаетесь. Я там узнал, что мезозойская эра это когда динозавры делали то, что положено динозаврам. Но тогда, конечно, для меня это была пустая болтовня. Я решил, что парень спятил. Джо потом клялся, что знал, что такое мезозойская эра, но долго же ему клясться придется, чтобы мы с Реем поверили.
Но все же на нас подействовало. Мы сказали алкашу, чтобы пересаживался к нам. Наверно, хотели послушать немного, а потом добраться до его бутылки. Но он крепко держал бутылку правой рукой, садясь к нам, и так и не выпустил.
Рей спросил:
— Где вы ее построили?
— В Средне-Западном университете. Мы с дочерью работали.
Говорил он как парень из колледжа.
Я спросил:
— И где же она? У вас в кармане?
Он даже не мигнул: как бы мы ни шутили, он не реагировал. Просто говорил все громче — виски язык развязывало — и не заботился, слушаем мы или нет.
Он сказал:
— Я ее сломал. Не захотел. Хватит с меня.
Мы ему не поверили. Ни на грош не поверили. Вы это поймите. У парня, который построил бы машину времени, были бы миллионы. Да он все деньги мог бы забрать, все бы знал наперед о бирже, скачках, выборах. Ни за что не поверю, что он от этого откажется, что бы там ни было. Да к тому же никто из нас в путешествия во времени не верил: а правда, что если вы убьете своего дедушку?
Ну, неважно.
Джо сказал:
— Да, сломали. Конечно. Как вас зовут?
Но тот не ответил. Мы еще несколько раз спрашивали и кончили тем, что стали звать его «Профессор».
Он прикончил стакан и очень медленно стал снова его наполнять. Нам не предложил, и мы продолжали сосать пиво.
Ну, я сказал:
— Валяйте. Что случилось с динозаврами?
Но он опять не ответил сразу. Потом уставился на середину стола и стал ей рассказывать:
— Не знаю, сколько раз Кэрол отправляла меня назад — на несколько минут и часов, — прежде чем я сделал большой прыжок. Динозавры меня не интересовали: я просто хотел узнать, как далеко можно послать машину времени при моем запасе энергии. Конечно, это опасно, но так ли уж интересна жизнь? Тогда шла война… и еще одна жизнь?
Он погладил свой стакан, будто просто рассуждает, и что-то пропустил в голове, потом продолжал:
— Было солнечно, солнечно и ярко, сухо и жестко. Ни болот, ни папоротников. Ничего из обычного для мелового периода окружения динозавров, — ну мне кажется, он так сказал. Я незнакомые слова не всегда запоминаю, но кое-что запомнил. Потом посмотрел в словарь, и должен сказать, что он хоть и выпил, но все эти слова произнес, не запнувшись.
Наверно, это нас и беспокоило. Он будто привык ко всему этому, с языка его так легко скатывалось.
Он продолжал:
— Период поздний, определенно меловый. Динозавры уже почти исчезли все, кроме маленьких, с их металлическими поясами и оружием.
Джо тут же практически окунул нос в пиво. Чуть не пролил половину, когда профессор произнес печально последнюю фразу.
Джо вышел их себя.
— Какие маленькие, с поясами и оружием?
Профессор секунду смотрел на него, потом снова уставился в никуда.
— Маленькие ящеры, четырех футов ростом. Стоят на задних лапах, упираясь хвостом, и у них маленькие передние лапы с пальцами. Вокруг талии металлический пояс, с него свисает оружие. Не просто пулевое — какой-то энергетический проектор.
— Что? — спросил я. — Послушайте, когда это было? Миллионы лет назад?
— Совершенно верно, — ответил он. — Ящеры. С чешуйками, век у них не было, и, вероятно, они откладывали яйца. Но у них были энергетические ружья. Их было пятеро. Набросились на меня, как только я слез с машины. Их, наверно, на Земле были миллионы — миллионы. Повсюду. Тогда это были цари природы.
Я догадался, кем его посчитал Рей: у него появилось такое хитрое выражение в глазах; мне в таких случаях всегда хочется двинуть его пустой пивной бутылкой; полной нельзя: пива жалко. Рей сказал:
— Послушайте, профессор, миллионы? Разве те парни, что только и знают, что отыскивать старые кости и возиться с ними, не выяснили, как выглядят динозавры? Музеи полны их скелетов. Ну, где же те, с металлическими поясами? Если их было миллионы, что с ними стало? Где их кости?
Профессор вздохнул. По-настоящему вздохнул, печально. Может, впервые понял, что говорит с тремя парнями в комбинезонах. В забегаловке. А может, ему было все равно.
Он сказал:
— Костей находят немного. Подумайте, сколько животных жило на Земле. Миллиарды и триллионы. А сколько окаменелостей мы находим? И эти ящеры были разумные. Не забывайте этого. Они не попадали в лавины, болота, лаву, за исключением редких случаев. Сколько окаменелостей человека находят, даже полуразумных обезьянолюдей миллионы лет назад?
Он смотрел на свой полупустой стакан, поворачивая его в руках.
Потом сказал:
— Да и что покажут окаменелости? Металлические пояса проржавеют, от них ничего не останется. Эти ящеры были теплокровными. Я знаю это, но как это докажешь по окаменевшим костям? Какого дьявола? Можно ли будет через миллион лет сказать по человеческому скелету, как выглядел Нью-Йорк? Можно ли по костям выяснить, кто именно: человек или горилла, придумал атомную бомбу, а кто ел бананы в зоопарке?
— Эй, — заявил Джо, решивший поспорить, — любой тупица отличит скелет человека от скелета гориллы. У человека мозг больше. Каждый дурак скажет, кто из них умнее.
— Правда? — Профессор рассмеялся, будто все это просто и очевидно, и просто стыдно на это тратить время. — Вы судите по тому, чего сумел добиться человек. У эволюции много возможностей и путей. Птицы летают так, летучие мыши по-другому. У жизни много хитростей. Как вы думаете, какую часть своего мозга вы используете? Примерно пятую. Так говорят психологи. Насколько нам известно, восемьдесят процентов мозга не используются. Все работают на первой передаче, кроме, может быть, нескольких человек в истории. Леонардо да Винчи, например. Архимед, Аристотель, Гаусс, Галуа, Эйнштейн…
Ни о ком из них, кроме Эйнштейна, я не слыхал, но запомнил. Он еще нескольких упомянул, но этих я не помню. Потом он сказал:
— У этих ящеров мозг был маленький, может, в четверть нашего или еще меньше, но они использовали его полностью, весь без остатка. Кости этого не покажут, но они были разумными; разумными, как люди. И хозяевами Земли.
Тут Джо придумал кое-что хорошее. На какое-то время мне показалось, что он профессора прищучил, и я ужасно обрадовался, когда тот вывернулся. Джо сказал:
— Слушайте, профессор, если эти ящерицы были такие умные, почему после них ничего не осталось? Где их города, где их дома, где все то, что мы находим после пещерного человека: каменные ножи и прочее? Дьявол, если человек уберется с Земли, сколько мы за собой оставим! Мили не пройдешь, не наткнувшись на город. А дороги, а все остальное!
Но профессора остановить было невозможно. Он и не моргнул. Продолжал:
— Вы по-прежнему судите о других по человеческим меркам. Мы строим города, дороги, аэропорты и прочее, а они нет. Он жили по-другому. Образ жизни был совсем другим. У них не было городов. Не было нашего искусства. Не знаю, что у них было, потому что очень уж они чужие, и от них ничего не могло сохраниться, кроме оружия. Но и оно не сохранилось. Мы, может, каждый день спотыкаемся об их реликты и не подозреваем об этом.
К этому времени я решил, что с меня хватит. Его просто невозможно прижать. Чем умнее ты, тем умнее и он.
Я сказал:
— Послушайте. Откуда вы все это знаете? Что вы — жили с ними? Или они говорят по-английски? А, может, вы изучили язык ящеров? Ну-ка, скажите несколько слов по-ящеричьи.
Он меня уже достал. Знаете, как это бывает. Парень тебе в лицо врет, а ты его прижать не можешь.
Но профессор не вышел из себя. Он по-прежнему медленно наполнял стакан.
— Нет, — сказал он, — я не знаю их языка, и они со мной не говорили. Только смотрели на меня своими холодными жесткими глазами — змеиными глазами, — и я знал, о чем они думают, а они знали, о чем думаю я. Не спрашивайте, как это происходило. Просто так было. Все. Я знал, что они на охоте, и знал, что меня они не отпустят.
Тут мы перестали его спрашивать. Смотрели на него, потом Рей спросил:
— И что же случилось? Как вам удалось уйти?
— Ну, это просто. На вершине холма показалось какое-то животное. Длинное, футов десять, узкое, и прижималось к земле. Ящеров охватило возбуждение. Я чувствовал это возбуждение волнами. Они как будто забыли обо мне в порыве кровожадности — и побежали туда. Я сел в машину, вернулся и разбил ее.
Большего вранья мне слышать не приходилось. Джо откашлялся.
— Ну, и что же случилось с динозаврами?
— Как, вы разве не поняли? Я думал, это достаточно ясно. Все эти маленькие разумные ящеры. Они охотники — по инстинкту и по желанию. Это их самое большое увлечение в жизни. Они охотились не ради пищи — ради забавы.
— И они стерли с лица Земли всех динозавров?
— Всех, какие жили в их время, все современные им виды. Думаете, это невозможно? Сколько нам потребовалось, чтобы уничтожить миллионные стада бизонов? А что в течение нескольких лет произошло с дронтом? Предположим, мы всерьез возьмемся: сколько лет продержатся львы, тигры, жирафы? К тому времени, как я с этими ящерами встретился, большой дичи уже не оставалось — ни одной рептилии крупнее пятнадцати футов, может быть. Все исчезли. Маленькие дьяволы гонялись за меньшими, распугивали их и, вероятно, все глаза проплакали из-за добрых старых дней.
Мы молчали, смотрели на свои пустые бутылки и думали. Все эти динозавры, большие, как дом, убитые маленькими ящерами с ружьями. Убитые для забавы.
Джо наклонился, легко положил руку профессору на плечо и потряс. Он сказал:
— Эй, профессор, но если это так, что случилось с самими маленькими ящерами с ружьями? А? Вы туда не возвращались, чтобы узнать?
Профессор с каким-то потерянным выражением посмотрел на нас.
— Вы все еще не понимаете! Это уже началось. Я видел по их глазам. У них кончилась большая дичь, кончилась забава их жизни. И что же они должны были делать? Обратились к другой дичи — самой опасной из всех — и позабавились вволю. Перебили эту дичь до конца.
— Что за дичь? — спросил Рей. Он еще не понял, но мы с Джо поняли.
— Они сами, — громко ответил профессор. — Прикончили всех остальных и принялись за себя — и не остановились, пока никого не осталось.
Мы снова замолчали и думали об этих больших ящерах, больших, как дом, которых прикончили маленькие ящеры с ружьями. Потом подумали и о маленьких ящерах, как они, когда ничего уже не оставалось, пустили эти ружья в ход друг против друга.
Джо сказал:
— Бедные глупые ящеры.
— Да, — согласился Рей, — бедные спятившие ящеры.
И тут он нас испугал по-настоящему. Профессор вскочил, глаза его выпятились, будто вот-вот выскочат из глазниц. И заорал:
— Проклятые придурки! Какого дьявола вы тут слюни пускаете из-за ящеров? Они уже миллионы лет как мертвы! Это был первый разум на Земле, и вот чем он кончил. Но это в прошлом. А сегодня второй разум — и как он, по-вашему, кончит?
Он оттолкнул свой стул и направился к выходу. На пороге обернулся и сказал:
— Бедные глупые люди! Давайте поплачьте о них.
Зеленые пятна
Он проскользнул на борт корабля. Десятки других остались ждать за энергетическим барьером, но он вовремя понял, что ожидание ни к чему не приведет. Улучил момент, когда барьер на пару минут забарахлил (что лишний раз продемонстрировало превосходство цельных организмов над живыми фрагментами), и проскочил.
Из оставшихся никто не сумел отреагировать так быстро и воспользоваться сбоем, но его это не волновало. Проскочил — и ладно.
Постепенно радость угасла, и навалилось одиночество. Ужасно плохо и неестественно, оказывается, отделиться от остальных цельных организмов и самому стать живым фрагментом. Как только эти пришельцы могут существовать отдельно друг от друга?
Он искренне посочувствовал пришельцам. Испытав на себе состояние фрагментации, он впервые ощутил невыносимое одиночество, которое внушало им такой ужас. Именно страх перед непреодолимой изоляцией и диктовал пришельцам их поступки. Что, как не безумный ужас, могло заставить их превратить огромную площадь диаметром в квадратную милю в раскаленный докрасна круг? В результате взрыва погибли даже организмы, обитающие на глубине десяти футов.
Он включил восприятие, жадно прислушался, позволяя мыслям пришельцев пропитать его сознание. Он наслаждался прикосновением чужой жизни. Придется ограничить эту радость. Нельзя забывать себя.
Но никакого вреда от слушания мыслей не бывает. Отдельные фрагменты на корабле мыслили довольно четко для таких примитивных и несовершенных созданий. Их мысли напоминали крошечные колокольчики…
— Я чувствую себя зараженным. Постоянно ощущаю грязь, — сказал Роджер Олден. — Понимаете, о чем я? Мою руки чуть ли не каждую минуту, но это не помогает.
Джерри Торн терпеть не мог драматичных заявлений и даже не взглянул в сторону Роджера. Корабль по-прежнему маневрировал в стратосфере планеты Сэйбрук, и Джерри предпочитал не отрываться от приборов.
— Не вижу причин для беспокойства. Ничего ведь не произошло.
— Надеюсь, что нет, — вздохнул Олден. — По крайней мере все скафандры оставили в шлюзовой камере для полной дезинфекции. И всех, кто выходил наружу, подвергли радиационному душу.
— Тогда чего ты нервничаешь?
— Не знаю. Барьер все-таки ломался.
— Понятно, что лучше бы ему не ломаться. Всегда что-то выходит из строя.
— Непонятно другое, — раздраженно сказал Олден. — Я ведь был там, когда это произошло. Барьер полетел во время моей смены. Не было никакой причины перегружать сеть. А оказалось, что к ней подключили совершенно постороннее оборудование. Совершенно.
— Бывает. Знаешь, какие у нас бестолковые люди.
— Непохоже. Я слышал, как Старик проводил расследование. Никто не смог объяснить, как такое могло случиться. От линии энергетического барьера запитали сварочные агрегаты, которые забирают на себя по две тысячи ватт. Причем всю прошлую неделю пользовались второй подстанцией. Почему они ни с того ни с сего перешли на эту, никто не знает.
— А ты знаешь?
— Нет, но я думаю, может, вся бригада оказалась… — Олден запнулся, подыскивая нужное слово, — загипнотизирована. Этими тварями.
Торн посмотрел Олдену прямо в глаза:
— Я бы не стал повторять эту версию. Барьер полетел всего на две минуты. Если бы хоть одна травинка просочилась на корабль, это бы в течение получаса засветилось на бактериальном уровне. Через несколько дней мы бы определили проникновение по колониям фруктовых мушек. Короче, к нашему возвращению это отразилось бы на хомяках, кроликах, может быть, козах. Ты усвой одно, Олден: ничего не случилось. Ничего.
Олден развернулся на каблуках и вышел из рубки. При этом его нога пронеслась в двух футах от лежащего в углу существа.
Он отключил центры восприятия, и чужие мысли потекли мимо. В любом случае эти живые куски не имеют большой ценности, поскольку непригодны для продолжения жизни. Даже как отдельные фрагменты, они были недоделаны и требовали завершения.
Теперь следующий тип живых кусков… эти уже совсем другие. С ними надо быть осторожнее. Искушение может оказаться непреодолимым, а ему нельзя выдать свое присутствие на борту корабля до тех пор, пока они не приземлятся на свою родную планету.
Он сосредоточился на других отсеках корабля, поражаясь разнообразию живых форм. Причем каждое существо, каким бы крошечным оно ни казалось, было самодостаточным. Он с трудом заставлял себя об этом думать, пока ему не стало невыносимо противно и не захотелось вернуться к нормальной жизни.
Как и следовало ожидать, мысли маленьких кусочков оказались несущественными и поверхностными. Извлечь из них было нечего, что лишний раз подчеркивало необходимость завершенности. Именно это задевало его острее всего.
Один живой кусочек сидел на корточках и перебирал лапками окружающую его сеточку. Мысли его были прозрачны, но ограничены. Главным образом они касались ломтика желтого фрукта, который поедал соседний фрагмент. Живой кусочек очень хотел получить этот ломтик. И лишь тонкая сеточка, разделяющая фрагменты, удерживала его от того, чтобы наброситься на соседа и отобрать желанную еду силой.
Он отключил восприятие, не в силах терпеть отвращение. Фрагменты соперничали из-за пищи!
Он попытался дотянуться до мирной гармонии родного дома, но их уже разделяло огромное расстояние. Он мог дотянуться только до пустоты, которая отсекла его от разума и здравого смысла.
На мгновение он затосковал даже по ощущению мертвой земли между барьером и кораблем. Прошлой ночью он ползком преодолел это расстояние. Участок был мертв, но даже по другую сторону барьера он все еще чувствовал успокаивающее дыхание организованной жизни родной планеты.
Он хорошо помнил сам момент проникновения на корабль. Когда открылся воздушный шлюз, у него едва не оторвались присоски. Потом он осторожно пробрался в помещение, стараясь не попасть под многочисленные ноги. Позже пришлось миновать еще один шлюз. И вот он лежит, сам превратившийся в живой фрагмент, неподвижный и незаметный.
Он осторожно подключил прием в прежней фокусировке. Сидящий на корточках кусок жизни яростно тянул за свою сеточку, по-прежнему стремясь к чужой еде, хотя из них двоих был менее голоден.
Ларсен сказал:
— Прекрати кормить эту сволочь. Она вовсе не голодна, просто взбесилась из-за того, что Тилли решилась поесть. Жадная обезьяна! Скорей бы домой, чтобы не видеть больше этих тварей.
Он погрозил старшей самке шимпанзе, и та возмущенно зашамкала в ответ.
— Хорошо, хорошо, — проворчал Ризо. — Тогда какого черта мы тут околачиваемся? Время кормежки закончилось. Пошли.
Они миновали загоны с козами, клетки с кроликами и хомяками.
— Вызвались добровольцами в исследовательскую экспедицию, — с горечью произнес Ларсен. — Герои. Провожали с речами… а потом заставили работать смотрителем в зоопарке.
— Тебе платят двойную зарплату.
— Ну и что? Я ведь не за деньги сюда записался. На первой встрече нам сказали: пятьдесят на пятьдесят, что мы можем не вернуться и закончим как Сэйбрук. Я пошел потому, что хотел чего-то важного и значительного.
— Что там говорить, ты у нас просто герой, — пробурчал Ризо.
— Я не хочу быть сиделкой при животных.
— Эй, — Ризо остановился, вытащил из клетки хомяка и погладил его. — Тебе не приходило в голову, что, может быть, внутри одного из них сейчас образовываются крошечные малыши?
— Умник! Их же каждый день тестируют.
— Ладно, ты прав. — Он потрепал зверька за морду, и тот потешно сморщил носик. — Просто представь: однажды утром ты заходишь, и видишь, что они уже здесь. Новые крошечные хомячки таращатся на тебя мягкими, зелеными пятнышками меха, который растет у них в том месте, где должны быть глаза.
— Заткнись, ради памяти Майка! — заорал Ларсен.
— Маленькие, мягкие, зеленые пятна блестящего меха, — пробормотал Ризо и с неожиданным отвращением швырнул хомяка в клетку.
Он снова подключил восприятие и изменил фокус. Каждому фрагменту жизни дома находилось грубое соответствие на корабле.
Были подвижные бегуны разной формы, подвижные пловцы и подвижные летуны. Среди летунов попадались крупные существа с четкими мыслями, но были и маленькие с прозрачными крылышками. Последние передавали только обрывки чувственных восприятий, причем даже их умудрялись исказить. Собственного интеллекта у них практически не было.
Местные неподвижные походили на домашних неподвижных, были такими же зелеными и существовали за счет воздуха, воды и почвы. Здесь наблюдался умственный пробел. Они могли лишь смутно, смутно ощущать свет, влажность и притяжение. При этом каждый фрагмент, как подвижный, так и неподвижный, жил своей потешной жизнью.
Еще нет. Еще нет…
Он решительно подавил свои чувства. Как-то раз эти фрагменты уже прилетали; тогда остальные попытались им помочь, но… поторопились. Ничего не вышло. На этот раз нужно подождать.
Лишь бы только его не обнаружили.
Пока все шло нормально. Главное, его не заметили в штурманской рубке. Он прижался к полу, стараясь поскорее забиться в угол. Никто не наклонился, не поднял и не уничтожил его. Ему пришлось долго не двигаться. Иначе любой мог повернуться и увидеть жесткий, похожий на червяка предмет длиной чуть меньше шести дюймов. Вначале взгляд, потом крики и… все кончено.
Но в этот раз, похоже, он выждал хорошо. Корабль давно взлетел. Штурманская рубка опустела, пульт заперт. Он быстро нашел трещинку в стальном кожухе, под которым проходили мертвые провода.
Передняя часть его тела была острой и жесткой, как рашпиль. Он выбрал провод нужного ему диаметра и рассек его одним прикосновением; отступив на шесть дюймов, перерезал его еще раз. Вырезанный кусок он толкал перед собой, пока не задвинул в самый угол панели, где никто не смог бы его обнаружить. С внешней стороны провод был покрыт эластичным коричневым материалом, а сердцевина его была сделана из блестящего, гибкого металла. На сердцевину он, конечно, не походил, ну и ладно. Достаточно, что покрывающая его кожица напоминала поверхность провода.
Он вернулся и ухватился за обрезанные концы спереди и сзади. Крошечные диски-присоски вступили в действие, тело напряглось и вытянулось, исчезли даже швы в тех местах, где он присоединился к обрезанному проводу.
Теперь они ни за что его не найдут. Будут смотреть прямо на него и видеть сплошной длинный провод.
Если, конечно, не станут присматриваться очень тщательно. Тогда в определенном месте заметят два крошечных пятнышка мягкого, блестящего, зеленого меха.
— Примечательно, — заметил доктор Вайс, — что эти зеленые волосики обладают такими колоссальными возможностями.
Капитан Лоринг осторожно разлил бренди. В некотором смысле событие надлежало отметить. Через два часа закончится подготовка к прыжку через гиперпространство, а после этого, еще через два дня, они вернутся на Землю.
— Значит, вы убеждены, что зеленый мех — это орган восприятия?
— Именно так, — кивнул Вайс. От спиртного лицо его пошло пятнами, но он понимал, что повод действительно есть, очень хорошо понимал. Эксперименты прошли с большими трудностями, но получены чрезвычайно важные результаты.
Капитан жестко улыбнулся:
— С большими трудностями… Можно, наверное, сказать и так. Только я бы на вашем месте ни за что не пошел на такой риск.
— Чепуха. Мы здесь все герои. Все, кто полетел на этом корабле добровольцы и храбрецы, достойные барабанов, фанфар и труб. Вы тоже рисковали, прилетев сюда.
— Вы первым пересекли барьер.
— Да риска-то особого и не было, — пожал плечами Вайс. — Я же предварительно выжег перед собой всю землю, не говоря о том, что меня окружал передвижной барьер. Это все чепуха, капитан. Не будем считать, кто сделал меньше, а кто больше. Помимо всего прочего, я мужчина.
— Так то оно так, но бактерий в вас не меньше, чем в женщине. А значит, вы одинаково уязвимы.
В разговоре наступила пауза, необходимая для того, чтобы выпить.
— Хотите еще? — спросил капитан.
— Нет, спасибо. Я свою норму уже превысил.
— Давайте по последней, за космический путь, — Капитан поднял бокал в сторону уже пропавшей из виду планеты Сэйбрука. Только ее солнце сияло самой яркой звездой на видеоэкране. — За маленькие зеленые волосики, благодаря которым Сэйбрук все понял.
Вайс кивнул.
— Планету, конечно, надо поставить на карантин.
— По-моему, это не выход. Рано или поздно кто-то приземлится там по ошибке. И может случиться, что у этих людей не окажется ни прозорливости Сэйбрука, ни его мужества. Предположим, они не взорвут свой корабль, как это сделал Сэйбрук, а вернутся в какое-либо необитаемое место.
Капитан помрачнел.
— Как вы думаете, сумеют ли эти существа когда-нибудь наладить собственные межзвездные перелеты?
— Сомневаюсь. Доказательств, конечно, нет. У них ведь совершенно иная ориентация. При их жизненном укладе инструменты оказались совершенно излишними. Насколько нам известно, на всей планете не сыщешь даже каменного топора.
— Надеюсь, вы правы. Да, чуть не забыл, Вайс, не уделите ли немного времени Дрейку?
— Это парень из «Галактик пресс»?
— Да. Когда мы вернемся, о планете Сэйбрука узнает широкая публика, и я бы не хотел, чтобы репортаж получился излишне эмоциональный. Я попросил Дрейка обратиться к вам за консультацией. Вы достаточно авторитетный биолог, с вашим мнением считаются все. Не возражаете?
— Помогу с удовольствием.
Капитан устало закрыл глаза и покачал головой.
— Головная боль, капитан?
— Нет. Просто подумал о бедном Сэйбруке.
Корабль ему надоел. Недавно возникло такое чувство, словно его вывернули наизнанку. Это встревожило, и он обратился за объяснением к сознанию четко мыслящих. Очевидно, корабль перескочил через безмерный океан пустого космоса, называемого еще «гиперпространством». Четко мыслящие знали все.
Но… корабль ему надоел. Поразительный в своей бесполезности феномен. Живые фрагменты были довольно умело сработаны, но в конце концов это лишний раз доказывало их несчастье. Они из кожи вон лезли, чтобы завладеть большим количеством неодушевленного вещества, какового в них самих не содержалось. Подсознательно стремясь к полноте, они понастроили механизмов и без устали мотались по космосу, пытаясь найти, найти…
Эти существа не могли найти того, что искали, в силу собственной природы. И не найдут, пока он им не позволит.
При этой мысли он слегка вздрогнул.
Полнота!
Эти куски даже не знали такого понятия. Слово «полнота» имело у них отрицательный оттенок.
В своем невежестве они могли даже с ней сражаться. До них прилетал еще один корабль с большим количеством четко мыслящих фрагментов. Они подразделялись на два типа: производители жизни и стерильные. (Второй корабль в этом отношении отличался разительно. Все четко мыслящие были стерильны, в то время как остальные, смутно мыслящие и немыслящие, оказались производителями жизни. Это было странно.)
Как радостно приветствовала тот первый корабль вся планета!.. Он хорошо помнил, какой все испытали шок, когда оказалось, что пришельцы были не цельным организмом, а отдельными, не связанными друг с другом кусками. Шок уступил место жалости, после чего решили перейти к действиям. Оставалось неясным, как они приживутся в сообществе, но колебаний не было. Всякая жизнь священна, нашлось бы место и для них для всех, от огромных четко мыслящих и до крошечных существ, размножающихся в темноте.
Однако случилась ошибка — неверно просчитали способ мышления фрагментов. Четко мыслящие поняли, что произошло, и воспротивились. Конечно, они перепугались и не разобрались до конца.
Вначале они установили барьер, а потом уничтожили сами себя, распылив корабль на атомы.
Бедные, глупые фрагменты.
По крайней мере на этот раз все будет по-другому. Их ждет спасение, хотят они того или нет.
Джон Дрейк не любил распространяться на эту тему, но в душе чрезвычайно гордился тем, что успел в свое время овладеть искусством фотопечати. У него была походная модель аппарата, представляющая собой темную пластмассовую коробку размерами шесть на восемь дюймов с цилиндрическими наплывами с каждой стороны, в которые вкладывались ролики тонкой бумаги. Все помещалось в коричневый кожаный футляр с ремешком, что позволяло носить его либо на поясе, либо на бедре. Весь прибор весил не более фунта.
Дрейк мог работать на нем обеими руками. Пальцы его легко и стремительно перемещались по поверхности футляра, надавливали на нужные точки, и на бумаге бесшумно появлялись слова.
Он задумчиво взглянул на свой очерк, потом поднял глаза на доктора Вайса:
— Что скажете, док?
— Начало хорошее.
Дрейк кивнул:
— Я вообще хотел начать с самого Сэйбрука. У нас на Земле до сих пор ничего не знают об этом деле. Эх, если бы удалось почитать его отчеты!.. Как, кстати, ему удалось их передать?
— Насколько мне известно, всю последнюю ночь он передавал их по субэфиру. А закончив, закоротил двигатели, и спустя миллионную долю секунды корабль превратился в прозрачное облачко. Вместе с командой и самим Сэйбруком.
— Вот человек!.. Вы ведь с самого начала занимались этим делом, док?
— Не с начала, — мягко поправил Вайс. — С момента получения отчетов Сэйбрука.
Он невольно вспомнил то время. Прочитав первое донесение, он понял, какой прекрасной должна была показаться эта планета исследовательской экспедиции Сэйбрука. Она почти в точности повторяла Землю, отличаясь лишь изобилием растительной жизни и исключительно вегетарианской диетой животных.
Странными показались только небольшие пятна зеленого меха (как часто ему приходилось употреблять это сочетание вслух и про себя!). И еще — ни у одного живого существа на планете не было глаз. Вместо них рос мех. Даже растения имели на каждом цветочке или листике по два ярких зеленых пятнышка.
Затем Сэйбрук, к величайшему своему изумлению, обнаружил, что на планете нет соперничества из-за пищи. У всех растений были мясистые придатки, которые охотно поедали животные. В течение нескольких часов придатки отрастали заново; к другим частям животные не прикасались. Казалось, растения кормили животных, следуя установленному самой природой порядку. При этом нигде не было густых, непроходимых зарослей. Создавалось впечатление, что кто-то старательно возделывал насаждения, настолько равномерно и разумно они были распределены по поверхности планеты.
Интересно, думал Вайс, сколько времени Сэйбрук наблюдал за царящим в этом мире странным порядком? Как он объяснял себе, почему не растет число насекомых, хотя птицы их не едят, почему в отсутствие хищников не расплодились грызуны?
Затем произошел инцидент с белыми крысами…
Вайс вздрогнул и произнес:
— Да, одна поправка, Дрейк. Первыми животными были не хомяки. Первыми были белые крысы.
— Белые крысы, — повторил Дрейк, делая исправления в записях.
— На борту каждого исследовательского корабля, — пояснил Вайс, находятся белые крысы. С их помощью проверяется инопланетная пища. С точки зрения питания крысы мало чем отличаются от людей. На борт, естественно, берутся исключительно самки белых крыс. Таким образом стараются исключить опасность неконтролируемого размножения в случае, если животные попадут в благоприятные условия. Нечто подобное произошло в свое время с кроликами в Австралии.
— А почему, кстати, берут не самцов, а самок? — поинтересовался Дрейк.
— Самки более приспособлены. В конечном счете это сыграло на руку, ибо помогло прояснить ситуацию. Неожиданно выяснилось, что все крысы беременны.
— Да-да. Вот этот момент я очень хотел уточнить. Объясните, док, каким образом Сэйбрук узнал, что они собираются принести потомство?
— Разумеется, случайно. В ходе экспериментов с питанием крыс вскрывают на предмет обнаружения внутренних изменений. Так что их состоявшие не могло остаться незамеченным. Скольких бы крыс ни разрезали, результат был один и тот же. В конце концов оставшиеся в живых принесли потомство. При том, что на корабле не было ни одного самца!
— И у всех малышей были крошечные пятна зеленого меха вместо глаз?
— Совершенно верно. Сэйбрук доложил о происшествии, и мы подтвердили его данные. После крыс воздействию подверглась кошка, которую протащил на корабль какой-то ребенок. Когда она окотилась, у котят вместо закрытых глазок были маленькие пятна зеленого меха. Кота на борту не было.
Тогда Сзйбрук проверил женщин. Он не стал объяснять им причину, поскольку боялся паники. Оказалось, что все до единой находятся на ранней стадии беременности, не говоря о тех, кто успел забеременеть раньше. Разумеется, Сэйбрук не стал ждать рождения детей, и так понятно, что вместо глаз у них будут блестящие пятна зеленого меха.
Он препарировал даже бактериальные культуры (Сэйбрук был щепетильным человеком) и выяснил, что на каждой бацилле имелись микроскопические зеленые пятна.
— На брифинге нам такого не говорили, — взволнованно произнес Дрейк, — во всяком случае на том, куда меня приглашали. Но если верно, что жизнь на планете Сэйбрука организована в единое целое, как это могло получиться?
— Как? Точно так же, как клетки вашего тела образуют единый организм. Возьмите отдельную клетку, даже клетку мозга. Что она представляет сама по себе? Ничего. Крошечный комок протоплазмы, в котором человеческого не больше, чем в амебе. А может, и меньше, поскольку клетка отдельно существовать не может. Но сложите эти клетки вместе, и вы получите существо, способное изобрести космический корабль и написать симфонию.
— Я понял, — пробормотал Дрейк.
— Вся жизнь на планете Сэйбрука, — продолжал Вайс, — это единый организм. В некотором смысле земная жизнь тоже единый организм, но у нас зависимость основана на соперничестве и конкуренции. Бактерии поглощают азот, растения — углекислый газ, животные едят растения и друг друга, и все заканчивается бактериальным распадом. Совершается полный кругооборот. Каждый ухватывает сколько сможет, а его, в свою очередь, ухватывает кто-то другой.
На планете Сэйбрука любой организм занимает свое место, наподобие клеток в нашем теле. Бактерии и растения производят пищу, избытком которой питаются животные, возвращающие взамен углекислый газ и азот. Все воспроизводится в строго необходимом количестве. Схема жизни разумно подогнана под местные условия. Ни одна из жизненных форм не размножается больше или меньше положенного предела, точно так же прекращают размножаться клетки нашего тела, когда их количество становится оптимальным для выполнения нужной функции. Неконтролируемое размножение мы называем раком. Этим, по сути дела, и является вся земная жизнь по сравнению с жизнью на планете Сэйбрука. Одним большим раком. Каждый вид, каждая отдельная особь пытается выжить за счет других видов и особей.
— Похоже, вы на стороне планеты Сэйбрука, док.
— В некотором смысле — да. Они живут разумнее. Я могу представить, каким представляется им наше существование. Вообразите, что одна из клеток вашего организма сумела оценить возможности всего человеческого тела по сравнению с ней самой. Потом ей стало известно о существовании клеток, живущих отдельно от других, просто живущих и ничего более. Она может испытать непреодолимое желание затянуть неприкаянных собратьев в единую систему. Она может испытать к ним жалость, может зажечься миссионерским духом. Существа с планеты Сэйбрука — или одно существо, можно сказать и так — вероятно, почувствовали нечто подобное.
— И пошли лепить непорочные зачатия, а, док? Здесь придется писать поосторожнее. Иначе цензура не пропустит.
— В этом нет ничего скабрезного, Дрейк. Оплодотворять без участия самцов яйцеклетки морских ежей, пчел и лягушек люди научились несколько сотен лет назад. Иногда оказывается достаточно один раз прикоснуться к яйцеклетке иглой или просто погрузить ее в соляной раствор нужной пропорции. Живущие на планете Сэйбрука могут совершать оплодотворение при помощи контролируемого потока энергии. Почему и возникла необходимость в энергетических барьерах, представляющих собой элементарные статистические помехи.
Выяснилось, однако, что они могут не только стимулировать деление и развитие неоплодотворенного яйца, но и наделять его на уровне протоплазмы ядра своими характеристиками. Таким образом, потомство появляется на свет с маленькими пятнами зеленого меха, служащего на этой планете органом чувств и средством общения. Другими словами, рождаются уже не отдельные особи, но части живого организма планеты Сэйбрука. Этот организм способен оплодотворять любые виды — растения, животных и даже микробов.
— Мощная штука, — пробормотал Дрейк.
— Чрезвычайно, — резко произнес Вайс. — Сверхмощная, универсальная система. И каждая ее часть столь же универсальна и всепроникающа. Единственная бактерия с планеты Сэйбрука может со временем превратить в целостный организм всю Землю! И мы имеем тому экспериментальные доказательства.
— А знаете, док, — неожиданно произнес Дрейк, — я, похоже, стану миллионером. Вы умеете хранить тайну?
Вайс озадаченно кивнул.
— Я захватил сувенир с планеты Сэйбрука, — с улыбкой сообщил Дрейк. — Это всего-навсего камень, но после скандальной известности, которую получит эта планета, и карантина, который наверняка введут, этот камень окажется единственным сувениром! Сколько, по-вашему, я могу за него выручить?
— Камень? — опешил Вайс и вырвал из рук репортера небольшой овальный булыжник. — Вы не имели права этого делать, Дрейк! Вы грубейшим образом нарушили инструкцию!
— Я знаю. Поэтому и спросил у вас, умеете ли вы хранить тайны. Вот если бы получить на него официальное свидетельство о подлинности… В чем дело, док?
Вместо ответа Вайс пробормотал что-то нечленораздельное и вытянул в сторону камня трясущуюся руку. «Камень» ничуть не изменился.
Разве что когда свет падал под определенным углом, на нем появлялись два зеленых пятна. И если присмотреться, можно было разглядеть, что состоят эти пятна из крошечных зеленых шерстинок.
Он был встревожен. На корабле отчетливо ощущалась опасность. Фрагменты заподозрили его присутствие. Как такое могло случиться? Он ведь еще ничего не сделал. Может, еще кто-то из своих попал на борт и оказался менее осторожен? Но он бы обязательно об этом знал. Несмотря на тщательную проверку всего корабля, ему ничего не удалось обнаружить.
Подозрения помаленьку утихли, но полностью не пропали. Один из четко мыслящих приближался к разгадке.
Сколько осталось до приземления? Неужели мир живых фрагментов окажется лишен целостности?
Он еще крепче вцепился в обрезанные концы провода, боясь, что не сумеет довести до конца миссию спасения.
Доктор Вайс заперся в своей каюте. Корабль уже вошел в Солнечную систему. Через три часа должно состояться приземление. Надо думать. На решение оставалось три часа.
Дьявольский «камень» Дрейка являлся, разумеется, частью организованной жизни планеты Сэйбрука, но он был мертв. «Камень» был мертв, когда он впервые его увидел, и, уж конечно, погиб окончательно, когда его забросили в гиператомный двигатель. Да и бактерии при проверке оказались нормальными.
Вайса тревожило другое.
Дрейк поднял «камень» в последние часы пребывания на планете Сэйбрука, вскоре после поломки барьера. Что, если поломка явилась следствием медленного и ненавязчивого давления на сознание людей со стороны живущего на планете существа? Что, если составляющие его организмы дожидались поломки барьера? «Камень» попал в зону после восстановления барьера и был тут же убит. Поэтому он и лежал, дожидаясь, пока Дрейк его не увидит и не поднимет с земли.
«Камень», а не естественная форма жизни. Но не могло ли так случиться, что это была особая форма жизни? Существо, специально созданное организмом планеты похожим на камень, безобидное с виду, не вызывающее подозрений. Замаскированное настолько четко и грамотно, что становилось страшно.
Сколько еще замаскированных созданий пересекли барьер, прежде чем его удалось восстановить, и пробрались на корабль под видом различных предметов, выхваченных из сознания людей читающим мысли организмом планеты? Не пора ли искать их среди вазочек для карандашей? Или декоративных медных гвоздей в сработанном под старину кресле капитана? И как их вообще разглядеть? Неужели придется осматривать весь корабль в поисках предательских зеленых пятен? Весь, вплоть до населяющих его микробов?
И почему они решили замаскироваться? Хотят остаться незамеченными? Как долго? Зачем? А может, они намереваются высадиться на Землю?
Тогда взрывать корабль поздно. Первыми будут инфицированы земные бактерии, мхи, лишаи, простейшие. Спустя год миллионами начнут рождаться новые жители Земли.
Вайс прикрыл глаза, повторяя, что такого просто не может быть. Болезней тоже, кстати, больше бы не было, поскольку ни одна бактерия не стала бы размножаться в ущерб своему хозяину. Вместо этого микроорганизмы стали бы довольствоваться тем, что есть в их распоряжении. С перенаселением было бы покончено; человеческие орды сократились бы до количества разумного, с точки зрения запасов продовольствия. Исчезли бы войны, преступления, жадность.
Вместе с тем исчезло бы и понятие индивидуальности.
Человечество обрело бы покой и безопасность, став крошечным винтиком в огромном биологическом механизме. Сам же человек стал бы братом микробу и одноклеточному организму.
Вайс вскочил. Он обязан переговорить с капитаном Лорингом. Они отправят отчет о проделанной экспедиции и взорвут корабль, как сделал это Сэйбрук.
Он снова опустился в кресло. У Сэйбрука были доказательства, в то время как у него нет ничего, кроме глупых предположений, порожденных перепуганным сознанием, и камня с двумя зелеными крапинками. Уничтожить корабль и убить двести человек из-за неподтвержденного подозрения?
Надо думать!
Он весь дрожал. Почему он должен ждать? Ему так хотелось поприветствовать всех, кто находился на борту корабля. Сейчас!
Между тем более холодная и рассудительная его часть говорила, что время еще не пришло. Те, которые плодятся в темноте, выдадут его присутствие через пятнадцать минут, а четко мыслящие постоянно их контролируют. Даже когда до поверхности их планеты останется одна миля, будет все равно рано, ибо они успеют уничтожить и себя и корабль.
Надо дождаться, когда откроются воздушные шлюзы и миллионы крошечных плодящихся ворвутся внутрь корабля. Лучше поприветствовать каждого из них в отдельности и поздравить со вступлением в братство организованной жизни. А потом этот рой полетит дальше, распространяя послание…
Вот тогда — все! Еще один организованный, полный мир.
Он ждал. Слышалось глухое гудение могучих двигателей, замедляющих спуск космического корабля, затем шорох и треск, последовавшие в момент соприкосновения с поверхностью планеты. Затем…
Он настроился на радость четко мыслящих, и их торжество слилось с его собственным. Скоро они смогут воспринимать мир так же полно, как и он. Может, не именно эти фрагменты, но другие, которые вырастут из пригодных для продолжения жизни особей.
Скоро откроются главные шлюзы…
Мысли оборвались.
Черт бы все побрал, опять что-то не так, подумал Джерри Торн.
— Простите, — проворчал он, обращаясь к капитану Лорингу. Кажется, произошел обрыв в сети. Шлюзы не открываются.
— Вы уверены, Торн? Лампочки горят.
— Да, сэр. Мы пытаемся выяснить, в чем дело.
Торн вышел и присоединился к Роджеру Олдену, вскрывшему кожух с идущей к шлюзу проводкой.
— Ну что там?
— Подожди, дай разобраться. — Роджер возился с проводами. Затем он пробормотал: — Хочешь верь, хочешь нет, но в двадцатиамперном проводе не хватает шести дюймов.
— Чего?!
Олден поднял вверх аккуратно перерезанные концы провода.
К ним подошел доктор Вайс. Выглядел он изможденным, а изо рта сильно пахло бренди.
— В чем дело? — нетвердым голосом поинтересовался он.
Ему объяснили причину поломки. В самом углу кожуха нашелся вырезанный конец.
Вайс наклонился. На полу валялся черный кусочек. Он прикоснулся к нему пальцем. Кусок оказался грязным, на подушке пальца осталось пятно, как от сажи. Доктор рассеянно потер его о ладонь. Очевидно, вместо недостающего куска провода находилось что-то другое. Оно только внешне походило на провод, а на самом деле было живым, и когда по цепи пошел ток, вспыхнуло, сгорело и обуглилось.
— Как бактерии? — хрипло спросил Вайс.
Кто-то из команды проверил и доложил:
— Все в порядке, док.
Между тем провод заменили, шлюзы открылись, и вскоре доктор Вайс оказался в полном анархии мире Земли.
— Анархия, — произнес он и диковато рассмеялся. — И так будет всегда.
Благое намерение
В Великом Суде, представляющем собой тихий оазис посреди пятидесяти сумасшедших квадратных миль, занятых небоскребами Объединенных Миров Галактики, есть одна статуя.
Она поставлена так, чтобы ночью ей было видно звезды. Есть и другие статуи, они стоят по кругу, но эта одиноко возвышается в самом центре.
Статуя не очень удачная. Чересчур благородному лицу недостает жизни. Брови чуть выше, нос чуть симметричнее, а одежда чуть аккуратнее, чем бывает на самом деле. В результате статуя кажется слишком святой и ненастоящей. Наверное, в реальной жизни этот человек мог нахмуриться и икнуть, но статуя всем своим видом демонстрировала, что подобного никогда не случалось.
Все это, конечно, вполне понятная суперкомпенсация. При жизни этому человеку статуй не возводили. Последующие поколения взирали на него с исторической перспективы и терзались виной.
Надпись на пьедестале гласит: «Ричард Сайама Альтмайер». Ниже идет короткая фраза, рядом вертикально стоят три даты. Фраза звучит так: «Благое намерение не знает неудач». Даты таковы: 17 июня 2755 года, 5 сентября 2788 года, 21 декабря 2800 года; по летоисчислению того периода, начиная с первого атомного взрыва, случившегося в 1945 году прежней эры. Ни одна из приведенных дат не соответствует рождению или смерти этого человека. Не соответствуют они также ни свадьбе, ни вообще какому-либо значительному событию, каковым могли бы гордиться жители Объединенных Миров. Они символизируют вину и скорбь.
Указанные даты означают дни, когда Ричарда Сайаму Альтмайера бросали за его взгляды в тюрьму.
17 июня 2755 года
Несомненно, в возрасте двадцати двух лет Дик Альтмайер был способен испытывать ярость. Волосы его тогда имели темно-коричневый цвет, и усов, которые позже стали неотъемлемой принадлежностью его облика, он еще не отрастил. Конечно, у него и тогда был тонкий нос с горбинкой. Пройдет немало лет, прежде чем все усиливающаяся худоба щек превратит его нос в настоящий хребет, который навсегда западет в умы миллиардов школьников.
Грегори Сток стоял на пороге и взирал на учиненный другом погром. Круглое лицо и холодный цепкий взгляд уже узнавались, а вот военная форма, в которой ему предстояло провести остаток жизни, была еще не пошита.
— Великая Галактика! — воскликнул он.
— Привет, Джеф, — поднял голову Альтмайер.
— Что происходит, Дик? Я думал, твои принципы, дружище, противоречат всякого рода разрушениям. А этот вьюер, похоже, сильно пострадал. — Он поднял с пола обломок.
— Я держал вьюер в руках, когда мне сбросили на приемник официальное извещение. Сам знаешь какое.
— Знаю. Я получил такое же. Где оно?
— На полу. Сорвал с катушки, как только его изрыгнули. Подожди, сейчас я брошу его в атомную мусорку!
— Эй, остынь. Мы не можем…
— Почему?
— Потому, что так ты ничего не добьешься. Каждый обязан отслужить свой срок.
— Ты так и не понял моих мотивов.
— Не будь ослом, Дик.
— Клянусь космосом, это дело принципа.
— Глупости! Нельзя сражаться со всей планетой. Твоя болтовня о коварных правителях, втягивающих невинных людей в войну — самая настоящая звездная пыль. Думаешь, если сейчас объявить всеобщее голосование, большинство не поддержало бы войну?
— Это ни о чем не говорит, Джеф. Правительство контролирует…
— Средства пропаганды. Да, знаю. Ты мне все уши прожужжал. Только я не понимаю, почему ты так настроен против службы?
Альтмайер отвернулся.
— Во-первых, — продолжил Сток, — ты можешь просто не пройти медицинскую комиссию.
— Пройду. Я был в космосе.
— Не обольщайся. Если доктора пропустили тебя на лайнер, значит, у тебя нет явных сердечных заболеваний и отека легких. Для воинской службы этого недостаточно. Вдруг ты действительно не пройдешь?
— Речь о другом, Джеф. Я ведь не боюсь сражаться.
— Надеешься остановить таким способом войну?
— Было бы здорово. — Голос Альтмайера задрожал от волнения. — Я верю в то, что человечество должно объединиться. Нам не нужны ни войны, ни вооруженные до зубов космические армады. Галактика готова открыть свои тайны объединенным усилиям человеческой расы. Мы же целых две тысячи лет враждуем сами с собой и отдаем Галактику другим.
Сток рассмеялся:
— В этом мы преуспели. На сегодняшний день существует более восьмидесяти независимых планетных систем.
— Мы забыли, что существуют и другие разумные цивилизации.
— Вспомнил своих любимых диаболов? — Сток прижал кулаки к вискам и покрутил указательными пальцами.
— И твоих тоже, — огрызнулся Альтмайер. — У них одно правительство контролирует больше планет, чем драгоценные восемьдесят независимых, вместе взятые.
— Правильно. Не забывай, что их ближайшая планета находится в полутора тысячах световых лет от Земли. В любом случае они не смогут жить на кислородных планетах.
Теряя дружеское расположение духа, Сток резко добавил:
— Послушай, я, собственно, заглянул, желая сообщить тебе, что на следующей неделе прохожу медкомиссию. Идешь со мной?
— Нет.
— Твердо решил?
— Абсолютно.
— Ты ничего не добьешься. Пламя на Земле не возгорится. И миллионы молодых людей не пойдут за тобой на антивоенные выступления. Тебя просто упекут в тюрьму.
— В тюрьму, так в тюрьму.
Так и вышло. Ричард Сайама Альтмайер угодил за решетку. 17 июня 2755 года атомной эры после короткого судебного заседания, на котором он отказался от всякой защиты, его приговорили к заключению сроком на три года — или на время военных действий, смотря по тому, что продлится дольше.
Он отсидел немногим более четырех лет и двух месяцев. Ровно столько потребовалось, чтобы сантаниане потерпели серьезное, хотя и не окончательное поражение. В результате Земля установила контроль над несколькими спорными астероидами, получила определенные коммерческие привилегии и добилась ограничения сантанианского космического флота.
Общие потери составили чуть больше двух тысяч кораблей с экипажами плюс несколько миллионов человек, погибших при бомбардировке планет из космоса. Космические флоты обеих сторон достаточно успешно справились с защитой, вынуждая противника расстреливать боезапасы на дальних подступах к Земле и Сантане.
Благодаря войне Земля стала считаться сильнейшей военной диктатурой.
Джеффри Сток воевал от начала до конца, не раз принимал участие в боевых действиях, но, несмотря на это, остался жив. Войну Джеффри закончил майором. Он участвовал в первой дипломатической миссии, отправленной с Земли в цивилизацию диаболов. Это был его первый шаг в большой военной и политической карьере.
5 сентября 2788 года
Они были первыми диаболами, ступившими на поверхность Земли. Федералистская партия старалась разъяснить драматизм ситуации тем, кто его еще не прочувствовал. На проекционных плакатах и в выпусках новостей снова и снова прокручивалась хронология событий.
Впервые исследователи с Земли столкнулись с диаболами в начале века. Это была разумная раса, вступившая в эру межзвездных перелетов независимо от людей и немного раньше их. К моменту описываемых событий они контролировали большую, чем человечество, часть Галактики.
Регулярные дипломатические отношения между диаболами и представителями крупнейших человеческих колоний начались двадцать лет назад, сразу же после войны между Землей и Сантаной. Уже в то время опорные пункты диаболов находились на расстоянии двадцати световых лет от наиболее отдаленных центров человечества. Диаболы бороздили космос во всех направлениях, перехватывали выгодные торговые контракты и получали концессии на разработку незанятых астероидов.
И вот они прибыли на саму Землю. Правители крупнейшего человеческого центра Галактики принимали их как равных, а может быть, даже и лучше. Федералисты надрывались, трубя о страшной статистике. А факты были таковы: несмотря на то что люди численно превосходили диаболов, человечество колонизовало за пятьдесят лет всего пять новых миров, в то время как диаболы захватили почти пятьсот.
— Сто — один в их пользу, — кричали федералисты, — потому что у них единая политическая организация, а у нас их сто.
Тем не менее мало кто на Земле, а тем более в других частях Галактики, обращал внимание на призывы федералистской партии к созданию Галактического Союза.
Вдоль улиц, по которым пятеро диаболов почти ежедневно добирались от специально оборудованного в лучшем отеле номера до министерства обороны, выстраивались толпы землян. Между тем общее настроение было отнюдь не враждебным. Люди приходили в основном из любопытства, хотя многие испытывали к пришельцам откровенное отвращение.
Смотреть на диаболов было неприятно. Крупнее и массивнее землян, при ходьбе они опирались на четыре толстые ноги, помимо которых у чужаков имелись по две руки с подвижными и гибкими пальцами. Одежды они не носили и ничем не прикрывали морщинистых складок кожи. С точки зрения землян, их широкие, плоские лица не имели никакого выражения, зато над глазами с огромными зрачками росли короткие рога. Благодаря последним эти существа и получили свое прозвище. Поначалу их попросту называли чертями, затем перешли на более вежливый латинский эквивалент.
На спине у каждого была закреплена пара цилиндров, из которых тянулись к ноздрям гибкие шланги. Плотно закрепленные на ноздрях трубки были заполнены гашеной известью, поглощающей ядовитый для инопланетян углекислый газ. Они явно страдали от нехватки серы; время от времени стоящие в первых рядах зрители улавливали смрадный запах выдыхаемого диаболами сероводорода.
В толпе находился и лидер федералистов. Он стоял чуть поодаль, дабы не привлекать особого внимания полиции. Стражи порядка натянули вдоль пути следования гостей веревки и смотрели за порядком с небольших роллеров, на которых они могли мгновенно рассеять любую толпу. У лидера федералистов было худое лицо, тонкий, выдающийся нос и прямые седеющие волосы.
— Не могу смотреть. Противно, — произнес он и отвернулся.
Его спутник отозвался более философски:
— По духу они ничуть не уродливее некоторых наших красавцев-политиков. Эти, по крайней мере, соответствуют своему виду.
— К сожалению, ты прав. У нас все готово?
— Полностью. Ни один из них не вернется домой живым.
— Хорошо! Я останусь здесь и отсюда подам сигнал.
Диаболы тоже вели между собой беседу. Люди этого заметить не могли, даже те, кто стоял совсем рядом. Натянутая между рогами кожа пришельцев обладала способностью быстро вибрировать с помощью мышц, аналогов которым в человеческом теле не имелось. Возникающие при этом колебания воздуха могли уловить лишь самые чувствительные земные приборы. Так или иначе, в тот момент на Земле об этом еще не подозревали.
При помощи вибрации прозвучал вопрос:
— Все знают, что именно эта планета — родина двуногих?
— Нет, — ответило несколько вибраций, после чего одна вибрация поинтересовалась:
— Ты понял это благодаря тому, что освоил их способ общения?
— Кстати, этим делом не мешало бы заняться нам всем, вместо того чтобы в один голос твердить о бессмысленности двуногой культуры. Я не говорю о том, что с двуногими гораздо легче иметь дело, когда хоть что-то о них знаешь. У них жуткая, но интересная история. Я не жалею, что довелось повидать все своими глазами.
— Предыдущие контакты с двуногими свидетельствуют, что они не знают, с какой планеты они произошли, — возразила другая вибрация. Во всяком случае, никакого почтения этой планете, они не оказывают. Не существует посвященных ей торжественных ритуалов. Между прочим, отсутствие ритуалов и тот факт, что Земля менее всего напоминает святыню, вполне понятно в свете истории двуногих. Живущие на других планетах двуногие не признают первенства Земли. Они рассматривают ее лидерство как ущемление собственной независимости и достоинства.
— Непонятно.
— Я тоже не сразу разобрался, пришлось несколько дней почитать их прессу. Теперь, кажется, начинаю кое-что схватывать. Похоже, до начала межзвездных полетов двуногие имели единое политическое устройство.
— Естественно.
— Только не для двуногих. Это был как раз необычный период в их истории, который, кстати, долго и не продлился. Стоило образовавшимся в различных мирах колониям окрепнуть, как они тут же старались порвать с родным домом. К этому периоду относится первая волна межзвездных войн двуногих.
— Ужасно. Просто каннибалы.
— Иначе и не скажешь. Когда я все это читал, у меня даже аппетит испортился, а отрыжка несколько дней горчила. Как бы там ни было, колонии завоевали независимость, и сложилась нынешняя ситуация. Все эти королевства, республики и прочие государственные формирования двуногих на деле представляют собой крошечные миры, каждый из которых состоит из главенствующего образования и нескольких подчиненных. При этом подчиненные миры без конца пытаются оторваться от главного или перейти в другое подчинение. Земля является сильнейшим миром, хотя контролирует менее дюжины прочих образований.
— Даже не верится, что эти существа настолько слепы к своим собственным интересам. Разве у них не сохранилось традиции единого правительства, которое существовало в тот период, когда они обитали на одной планете?
— Я уже говорил, им это не свойственно. Единое правительство просуществовало несколько десятилетий. А раньше они даже на одной планете умудрились создать несколько враждующих политических формирований.
— Никогда ни о чем подобном не слышал. — На время колебания нескольких существ заглушили друг друга.
— Удивительно, но такова природа этих тварей.
Тут пришельцы подошли к министерству обороны.
Пятеро диаболов рядком выстроились возле стола. Они стояли, поскольку не могли сидеть в силу своего анатомического устройства. По другую сторону стола, также стоя, находились пятеро землян. Людям было бы естественнее сидеть, но им не хотелось еще больше усугублять недостаток роста.
Стол был довольно широк; собственно говоря, шире достать просто не удалось. От ширины стола зависело самочувствие и настроение людей, ибо от диаболов исходил почти незаметный при дыхании, но весьма сильный при разговоре запах сероводорода. С подобными сложностями дипломатам прежде сталкиваться не приходилось.
Как правило, встречи длились не более получаса, после чего диаболы без церемоний заканчивали беседу и удалялись. На этот раз, однако, произошла задержка. В зал вошел человек, и пятеро ведущих переговоры землян тут же посторонились, уступая ему место.
Он был высок — выше, чем любой из присутствующих людей — и носил военную форму с легкостью, которая приходит лишь с годами. У него было круглое лицо и холодные, цепкие глаза. Черные волосы начали редеть, но седина их еще не тронула. Неровный шрам пересекал челюсть и убегал за высокий коричневый воротник — такие шрамы остаются от удара лучом из ручного стрелкового оружия. Скорее всего он получил эту рану в давно забытом бою в одной из пяти войн, в каковых принимал активное участие.
— Господа, — торжественно произнес главный из ведущих переговоры землян, — позвольте представить вам нашего министра обороны.
Диаболы несколько растерялись, хотя по выражению их лиц заметить этого было нельзя. Звуковые пленки на лбах завибрировали. Они уважительно относились к служебной и официальной иерархии, которая оказалась неожиданным образом нарушена. Понятно, что этот министр всего-навсего двуногий, но по принятым у двуногих стандартам он превосходил их в звании и должности. Они не могли вести с ним переговоры на официальном уровне.
Министр понимал их смятение, но не имел другого выбора. Диаболов требовалось задержать хотя бы минут на десять, и это был единственный способ.
— Господа, — обратился он к пришельцам, — я прошу вас сегодня ненадолго задержаться.
Стоящий посередине диабол ответил на сравнительно неплохом английском; лучше, наверное, с его голосовыми связками сказать было невозможно. Фактически диаболы имели по два рта. Один помещался на конце челюстной кости и использовался при еде. Людям редко приходилось видеть эту процедуру, поскольку диаболы предпочитали есть исключительно в своей компании. Более узкое ротовое отверстие, не превышающее, по сути, двух дюймов, служило для произнесения звуков. Когда диаболы открывали рот, в глаза землянам бросалось отсутствие передних резцов. В процессе речи рот оставался постоянно открытым, необходимые для произнесения согласных преграды формировались при помощи неба и спинки языка. В результате получались грубые, плохо различимые звуки, но общаться было можно.
Диабол произнес:
— Вы нас извините, нам уже трудно. — При помощи пластинки на лбу он передал: — Они решили уморить нас в своей вони. Пора заказывать ядопоглощающие цилиндры большего размера.
— Я с сочувствием отношусь к вашей ситуации, — сказал министр обороны, — но боюсь, у нас не будет другой возможности для общения. Надеюсь, вы окажете нам честь и отобедаете с нами.
Стоящий рядом с министром землянин не сумел побороть гримасу отвращения. Быстро набросав на листике несколько слов, он передал его министру.
Записка гласила: «Ни в коем случае. Они жрут пропитанное серой сено. Мы задохнемся». Министр скомкал листик и бросил его на пол.
— Это честь для нас, — ответил диабол. — Если бы мы только могли дольше переносить вашу необычную атмосферу, мы бы с радостью приняли ваше приглашение.
Лобной пластинкой он раздраженно передал:
— Они сами не пойдут на то, чтобы мы ели вместе. Мы же увидим, как они пожирают трупы мертвых животных. Я всерьез опасаюсь за свою отрыжку. Она навсегда потеряет сладость.
— Мы уважаем ваши проблемы, — улыбнулся министр. — Давайте поговорим о деле. В ходе переговоров нам так и не удалось добиться от вашего правительства, каковое вы здесь представляете, ответа на вопрос о границах вашего влияния. Мы выступили с целым рядом предложений.
— В отношении всех земных территорий мы давно определились и четко высказали свою позицию, — ответил диабол.
— Надеюсь, вы понимаете, что этого недостаточно. Границы Земли и ваши владения нигде не пересекаются. До сего времени мы ограничивались лишь констатацией данного факта. Однако вопрос гораздо серьезнее.
— Не совсем ясно. Вы предлагаете обсудить наши границы с Вегой? Это королевство населено людьми, но оно давно обрело независимость от Земли.
— Именно так.
— Это исключено, сэр. Вы, безусловно, понимаете, что все моменты, касающиеся нас и независимого мира Веги, не имеют к Земле никакого отношения. Мы намерены говорить о них только с Вегой.
— В таком случае вам придется вести сотни переговоров с сотней населенных людьми мировых систем.
— Ничего не поделаешь. Отмечу лишь, что эта необходимость продиктована не нами, а сложившейся природой ваших человеческих взаимоотношений.
— В этом случае круг обсуждаемых вопросов резко сужается, рассеянно произнес министр обороны. Казалось, он прислушивается не к собеседнику, а к происходящим на улице событиям.
Снаружи действительно что-то происходило. Сквозь толстые стены здания доносился едва различимый гул голосов, далекий треск лучевых пистолетов и рев полицейских роллеров.
Диаболы хранили полное спокойствие. Это могло быть либо очередным проявлением воспитанности, либо доказательством того, что, обладая повышенной чувствительностью к ультразвуку, они плохо слышат в обычном диапазоне.
Ведущий переговоры диабол произнес:
— Я искренне удивлен. Мы считали, что это все вам известно.
В дверях появился человек в полицейской форме. Министр обороны повернулся в его сторону, Едва заметно кивнув, полицейский исчез.
Тогда министр неожиданно громко и энергично сказал:
— Ну и отлично. Я просто хотел лишний раз убедиться. Надеюсь, вы готовы возобновить наши переговоры завтра?
— Разумеется, сэр.
Один за другим, медленно, как и подобает наследникам вселенной, диаболы покинули зал переговоров.
— Хорошо, что они отказались с нами есть, — пробормотал землянин.
— Я знал, что они откажутся, — задумчиво произнес министр. — Они вегетарианцы. При одной мысли о поедании мяса им становится дурно. Я ведь видел, как они едят; кстати, не многие могут этим похвастаться. Так вот, едят они наподобие нашего скота. Сваливают еду в кучу, становятся кругом и задумчиво пережевывают собственную отрыжку. Возможно, при этом они общаются неизвестным для нас способом. Жуют так: нижняя челюсть описывает горизонтальные круги…
В дверях снова появился полицейский.
— Всех взяли? — поинтересовался министр.
— Так точно, сэр.
— И Альтмайера?
— Да, сэр.
— Хорошо.
К тому моменту когда диаболы появились на ступеньках здания министерства обороны, вокруг снова собралась толпа народа. График никогда не нарушался. Ежедневно, ровно в три часа, инопланетяне покидали свой номер в отеле и тратили пять минут на дорогу до министерства. В три тридцать пять они выходили из здания и возвращались в отель по охраняемому полицией пути. Они торжественно и чинно шествовали по широкому проспекту. Со стороны казалось, что в поступи их есть что-то от механических роботов.
Когда позади осталась половина пути, раздались шум и крики. Толком было непонятно, кто и почему кричит, но треск лучевых пистолетов и бледно-голубые разряды над головами заметили все. Полиция тут же устремилась к месту происшествия, роллеры подлетали в воздух футов на семь, после чего плавно опускались в толпу, никому, однако, не причиняя вреда, и снова взмывали вверх. Народ бросился врассыпную, все потонуло в шуме и гаме.
Посреди этого беспорядка диаболы продолжали механически топать в нужную им сторону. Либо они действительно ничего не слышали, либо обладали поистине завидным самообладанием.
У дальнего края площади, напротив того места, где начались беспорядки, довольно потирал нос Ричард Сайама Альтмайер. Строгая пунктуальность диаболов позволяла рассчитать акцию до секунды. Первые беспорядки преследовали своей целью отвлечь внимание полиции. И вот сейчас…
Он произвел оглушительный, но безвредный выстрел в воздух.
В ту же секунду со всех сторон загремели залпы разрывных снарядов. С крыш стоящих вдоль дороги домов заработали снайпера. Пули пробивали тела диаболов и разрывались у них внутри, разнося на куски все органы. Один за другим пришельцы ввалились на землю.
Неожиданно, откуда ни возьмись, появилась полиция. Альтмайер изумленно уставился на кинувшихся к нему офицеров. Мягко, ибо за двадцать лет он утратил всю свою ярость, Альтмайер произнес, показывая на разорванных пришельцев:
— На сей раз вы сработали оперативно, но все равно опоздали.
В толпе началась паника. Подоспевшие в рекордно короткие сроки дополнительные подразделения полиции направляли потоки бегущих по безопасным направлениям.
Схвативший Альтмайера полицейский имел чин капитана.
— А мне кажется, вы ошиблись, мистер Альтмайер, — жестко произнес он. — Не показалось ли вам странным, что на убитых нет крови? — При этом он тоже махнул рукой в сторону лежащих на земле диаболов.
Альтмайер вздрогнул и побледнел. Пришельцы валялись на земле, некоторые были разорваны на части, лоскуты кожи болтались на погнутых ребрах каркаса. В одном капитан полиции оказался прав. Не было ни крови, ни мяса.
Белые, окаменевшие губы Альтмайера не могли выговорить ни слова.
Капитан усмехнулся:
— Правильно догадались, сэр. Это роботы.
В этот момент из дверей министерства обороны показались настоящие диаболы. Полиция дубинками расчистила им путь в противоположную сторону, чтобы гостям не пришлось проходить мимо искалеченных чучел из пластмассы и алюминия, которые в течение трех минут исполняли роль живых существ.
— Рекомендую вести себя разумно, мистер Альтмайер, — произнес капитан полиции. — С вами желает переговорить министр обороны.
— Я готов, сэр. — На Альтмайера начало наваливаться каменное безразличие.
Джеффри Сток и Ричард Альтмайер вновь увидели друг друга спустя четверть века. Встреча состоялась в частном кабинете министра обороны. Обстановка удивляла суровостью: стол, кресло и два стула. Темно-коричневая мебель была обита губчатой пленкой; удобно, но без лишней роскоши. На столе лежал микровьюер и небольшой ящик, в котором могли поместиться несколько десятков кассет. На противоположной от стола стене красовалось трехмерное изображение «Бесстрашного» первого корабля, которым довелось командовать министру обороны.
— Нелепая у нас получилась встреча, — смущенно пробормотал Сток. — После стольких лет… Мне жаль.
— Чего тебе жаль, Джеф? — попытался улыбнуться Альтмайер. — Мне вот ничего не жаль, кроме того, что я попался на твою удочку с роботами.
— Трюк не хитрый, — сказал Сток, — и прекрасная возможность потрясти твою партию. Не сомневаюсь, что после такого прокола она надолго потеряет авторитет. Пацифисты пытаются развязать войну; апостол мягкости покушается на убийство.
— Войну с истинными врагами, — печально уточнил Альтмайер. — Но ты прав. На такое можно пойти только с отчаяния. Кстати, откуда ты узнал о моих планах?
— Ты по-прежнему переоцениваешь человечество, Дик. Слабость любого заговора заключается в людях, которые его замышляют. У тебя было двадцать пять сообщников. Неужели тебе не пришло в голову, что по крайней мере один из них информатор, а может, и мой агент?
Щеки Альтмайера загорелись пунцовым огнем.
— Кто? — спросил он.
— Извини. Он нам еще пригодится.
Альтмайер устало откинулся на спинку стула.
— Ну и чего ты достиг?
— Сам-то ты чего достиг? Такой же непрактичный, как в последний день нашей встречи. Помнишь, когда ты решил отправиться в тюрьму, вместо того чтобы записаться на военную службу?.. Ты не изменился.
Альтмайер покачал головой:
— Истина не меняется.
— Если это истина, — нетерпеливо перебил его Сток, — объясни мне, почему у вас все всегда проваливается? Ты отмотал срок, но ничего не добился. Война все равно началась. Ни одной жизни ты не спас. С тех пор ты основал политическую партию, но все ваши начинания тоже пошли прахом. И заговор твой лопнул как мыльный пузырь. Тебе скоро пятьдесят, Дик, а чего ты достиг? Ничего.
— А ты отправился на войну, — сказал Альтмайер, — дослужился до командира корабля, затем получил портфель в правительстве. Поговаривают, что ты станешь следующим Координатором. Ты-то добился многого. И все же успех и неудача не могут существовать сами по себе. Да и успех ли это? В чем? В дальнейшем развале человечества? Неудача в чем? Благое намерение не знает неудач, речь может идти только об отсрочке успеха.
— А если тебя казнят за то, что ты сегодня сделал?
— Даже если меня казнят. Мое дело продолжит другой, и его успех станет моим успехом.
— И как же ты его себе представляешь? Неужели ты действительно веришь в союз миров, Галактическую Федерацию? Неужели ты хочешь, чтобы сантаниане занимались нашими вопросами? Или чтобы вегийцы диктовали, что нам следует делать? Скажи, неужели ты согласишься, чтобы судьба Земли зависела от случайной комбинации политических сил?
— Мы будем зависеть от них не больше, чем они от нас.
— За исключением того, что мы богаче их всех. Они будут нас грабить, чтобы поддержать разрушенную экономику миров Сириуса.
— Мы легко рассчитаемся за счет средств, сэкономленных на не случившихся войнах.
— У тебя на все вопросы есть ответы, Дик?
— За двадцать лет мне задали все вопросы, Джеф.
— Тогда ответь мне, как ты заставишь свой союз выступить против врагов человечества?
— Для этого я и хотел убить диаболов. — Впервые с начала разговора Альтмайер проявил раздражение. — Это привело бы к войне, в которой все человечество объединилось бы против общего врага. Все наши политические и идеологические разногласия отошли бы на второй план.
— Ты в самом деле так считаешь? Между прочим, диаболы еще ни разу не ущемили наших интересов. Они просто не могут жить в наших мирах. Они вынуждены обитать на планетах с сернистой атмосферой и океанами из сернокислого натрия.
— Человечество само разберется, Джеф. Диаболы переползают с одного мира на другой, как раковая опухоль. Они блокируют полеты в регионы с незанятыми кислородными планетами, такими, которые подходят нам. Они думают о будущем, о расселении грядущих поколений бесчисленных диаболов, в то время как мы забились в угол Галактики и бьемся друг с другом смертным боем. Через тысячу лет мы станем их рабами, через десять тысяч лет вымрем совсем. Поверь, они наш общий враг. И человечество об этом знает. Ты поймешь свою ошибку раньше, чем думаешь.
— Твои партийные активисты без конца твердят о Древней Греции доатомной эры, — сказал министр обороны. — Утверждают, что греки были прекрасными людьми, самым культурным и образованным народом своего времени, а может, и всех времен. Древние греки вывели человечество на дорогу, с которой, оно окончательно не, сошло до сих пор. У них был лишь один недостаток: они не могли объединиться. Потом их завоевали, а сами они вымерли. И мы следуем их путем, так?
— Ты хорошо усвоил урок, Джеф.
— А ты, Дик?
— Что ты имеешь в виду?
— Был ли у греков общий враг, против которого им следовало объединиться?
Альтмайер молчал.
— Греки сражались с Персией, могучим общим врагом. При этом немало греческих государств сражались на стороне персов.
— Да, так, — промолвил наконец Альтмайер. — Некоторые считали победу персов неизбежной и хотели оказаться на стороне победителя.
— С тех пор люди не изменились, Дик. Почему, по-твоему, диаболы прибыли к нам? Что мы с ними обсуждаем?
— Я не вхожу в правительство.
— Не входишь, — прорычал Сток. — А я вхожу!.. И знаю, что Лига Веги вступила в союз с диаболами.
— Не может быть! Никогда не поверю!
— Может. И есть. Диаболы согласились предоставить им пятьсот кораблей в любой момент, как только они вступят в войну с Землей. Взамен Вега отказывается от всех притязаний на Нигеланское звездное скопление. Так что, если бы тебе удалось убить диаболов, война бы, конечно, началась, но половина человечества сражалась бы на стороне так называемого общего врага. Мы пытаемся этого не допустить.
— Я готов к суду, — медленно проговорил Альтмайер. — Или меня казнят без него?
— Как был дураком, так дураком и остался! — всплеснул Сток. Если мы тебя расстреляем, ты станешь мучеником. А вот когда мы расстреляем всех твоих помощников, тебя заподозрят в сотрудничестве с государственными службами. Как предатель, ты будешь для нас совершенно безвреден.
Таким образом, пятого сентября 2788 года Ричард Сайама Альтмайер после короткого тайного судебного заседания был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Он отбыл полный срок. В год, когда он вышел на свободу, Джеффри Сток был избран Координатором планеты Земля.
21 декабря 2800 года
Симон Девуар не находил себе места. Это был маленький человечек с песочными волосами и покрытым веснушками румяным лицом. Он произнес:
— Жаль, что я согласился встретиться с вами, Альтмайер. Вам это не принесет никакой пользы. А мне может навредить.
— Я уже старик, — ответил Альтмайер. — Никакого вреда я вам не причиню.
Он и в самом деле стал стариком. К началу нового века он прожил две трети столетия, но выглядел гораздо старше; да и внутренне изрядно поизносился. Одежда болталась на нем, как на вешалке. Не постарел лишь его нос — по-прежнему тонкий, аристократический, хищный нос Альтмайера.
— Я боюсь не вас, — поморщился Девуар.
— Почему? Может, вы думаете, что я предал своих людей на процессе восемьдесят восьмого года?
— Нет, конечно, нет. Просто времена федералистов прошли.
Альтмайер попытался улыбнуться. Он был голоден, ибо за весь день так и не успел перекусить. Значит, времена федералистов прошли? Наверное, со стороны многим именно так и кажется. Движение осмеяли. Провалившийся заговор и «безнадежное дело» нередко привлекают романтиков, о нем помнят спустя многие поколения; главное, чтобы проигрыш оказался достойным. Но открыть пальбу по чучелам, дать обвести себя вокруг пальца, выставить себя на посмешище — это погибель. Это хуже, чем предательство, ошибка и грех. Не многие поверили в то, что Альтмайер купил себе жизнь, выдав товарищей, но всеобщий смех добил федерализм.
Лишь Ричард Альтмайер хранил упрямое достоинство.
Он произнес:
— Времена федералистов никогда не пройдут. Движение будет жить, пока живет человечество.
— Слова, — нетерпеливо перебил его Девуар. — В молодости я еще мог ими увлечься. Сейчас я устал.
— Симон, мне нужен выход на всегалактическую систему.
Лицо Девуара окаменело.
— И ты вспомнил обо мне… Извини, Альтмайер, я не позволю тебе использовать мои передачи.
— Ты же был федералистом.
— И что теперь? — огрызнулся Девуар. — Это было давно. Теперь я… теперь я никто. Девуарист, может быть. Я хочу жить.
— Под пятой диаболов? Хочешь жить, пока они тебе позволяют, и умереть по их приказу?
— Слова!
— Ты одобряешь всегалактическую конференцию?
Девуар покраснел гуще своего обычного розового цвета. На мгновение Альтмайеру показалось, что в его собеседнике слишком много крови.
— А почему бы и нет? Неужели так важно, каким способом мы установим Федерацию Человека? — ядовито поинтересовался Девуар. — Если ты остался федералистом, ты не можешь выступать против объединенного человечества.
— Объединенного диаболами?
— Какая разница? Человечество не способно объединиться своими силами. Пусть нам помогут, хотя бы на первоначальном этапе. Мне это все надоело, Альтмайер. Мне надоела наша бестолковая история. Я устал быть идеалистом, когда нет никаких идеалов. Люди остаются людьми, и это самое неприятное. Наверное, нам действительно нужен хороший кнут. Если так, то я не возражаю, чтобы его применили диаболы.
— Ты поразительно глуп, Девуар, — мягко произнес Альтмайер. Настоящего союза не получится, пойми! Диаболы созывают конференцию, чтобы выступить в роли арбитров в межчеловеческих распрях и сохранить за собой функцию верховного суда навечно. Они не заинтересованы в образовании реального единого человеческого правительства. Все пойдет по-прежнему, населенные людьми миры будут отстаивать каждый свои интересы. Зато мы начнем привыкать по малейшему пустяку обращаться за помощью к диаболам.
— С чего ты взял, что все будет именно так?
— А как еще может быть?
— По-разному, — Девуар пожевал нижнюю губу.
— Посмотри в окно, Симон. Мы потеряем последние остатки независимости.
— Много нам было проку с той независимости? А потом, в чем смысл? Мы все равно ничего не сможем изменить. Не думаю, чтобы Координатор Сток радовался этой конференции больше тебя, но и он здесь бессилен. Если Земли откажется участвовать в работе конференции, союз будет сформирован без нас, после чего нам придется воевать с остальным человечеством и диаболами. Это, кстати, грозит всем проигнорировавшим конференцию мирам.
— А теперь представь, что все правительства откажутся в ней участвовать! Тогда конференция лопнет сама по себе!
— Хоть раз было такое, чтобы все человеческие правительства сделали что-нибудь вместе? Ты так ничему и не научился, Альтмайер.
— Появились новые факторы.
— Какие например? Я знаю, что спрашивать глупо, но все равно расскажи.
— В течение двадцати лет большая часть Галактики была закрыта для пилотируемых людьми кораблей. Тебе это известно. Никто из нас не имеет малейшего понятия о том, что происходит на контролируемой диаболами территории. Между тем внутри их сферы влияния есть человеческие колонии.
— Ну?
— Время от времени жителям этих миров удается вырваться в свободные зоны. Правительство Земли получает сообщения, которые оно боится публиковать. Однако не все члены правительства готовы вечно терпеть подобную трусость. Я кое с кем встречался. Разумеется, имя должно остаться в тайне. Так вот, у меня есть документы, Девуар, надежные, официальные, достоверные.
— Какие? — пожал плечами Девуар и повернул настольные часы так, чтобы Альтмайер мог видеть сверкающий металлический циферблат, на котором резко выделялись светящиеся красные цифры. Часы показывали 22:31; когда он их поворачивал; единичка погасла, а на ее месте засияла двойка.
— Существует планета, — сказал Альтмайер, — которую ее обитатели называют Чу Хси. Население ее невелико: может быть, миллиона два. Пятнадцать лет назад диаболы захватили прилегающие к ней миры, и за все пятнадцать лет ни один пилотируемый людьми корабль не приземлился на поверхности этой планеты. В прошлом году на ней высадились сами диаболы. Они привезли с собой гигантские грузовые корабли, полные сернокислого натрия и бактериальных культур, свойственных их родным мирам.
— Что?.. Ты не заставишь меня в это поверить.
— А ты постарайся, — иронично заметил Альтмайер. — Все просто. Сернокислый натрий растворится в океане любого мира. Затем в сернистом океане начнут расти и размножаться соответствующие бактерии. Они будут выделять сероводород, который заполнит все моря и атмосферу. После этого диаболы смогут поселить там свои растения и животных, а потом поселятся и сами. Еще одна планета окажется пригодной для диаболов и непригодной для людей. Конечно, потребуется время, но время у них есть. Они представляют собой объединенный народ и…
— Послушай! — Девуар раздраженно покачал пальцем. — Эти россказни не проходят. У диаболов множество планет, они даже не знают, что с ними делать.
— Сегодня — да. Но диаболы — это раса, которая думает о будущем. У них высокая рождаемость, и рано или поздно они заполнят Галактику. Представь, насколько им будет легче, если кроме них во вселенной не будет другого разума.
— То, о чем ты рассказал, невозможно чисто с технической точки зрения. Представь, сколько потребуется миллионов тонн сернистого натрия, чтобы создать в океанах нужную им пропорцию?
— Очевидно, планетный запас.
— Правильно. Что же, по-твоему, они разорят один из своих миров, чтобы создать новый? Это бессмысленно.
— Симон, Симон, в Галактике миллионы планет, по атмосферным условиям, температуре или силе притяжения не подходящих для жизни ни людей, ни диаболов. И многие из них чрезвычайно богаты серой.
— А что с людьми, которые жили на той планете?
— На Чу Хси? Их подвергли эвтаназии, всех, за исключением немногих, кто успел вовремя смотаться. Полагаю, все произошло быстро и безболезненно. Диаболы не проявляют ненужной жестокости, они просто деятельны и исполнительны.
Альтмайер ждал. Девуар сжимал и разжимал кулак.
— Опубликуй эту новость. Распространи ее по межзвездному эфиру. Передай документы в приемные центры различных миров. Ты сможешь это сделать, и тогда межгалактическая конференция лопнет.
Кресло Девуара резко заскрипело. Он вскочил на ноги.
— У тебя есть доказательства?
— Ты сделаешь это?
— Я хочу видеть доказательства.
— Пойдем, — улыбнулся Альтмайер.
Его ждали в небольшой меблированной квартирке, где он проживал последнее время. Он ничего не заметил. Он даже не обратил внимания на небольшой автомобиль, который медленно сопровождал его на почтительном расстоянии. Альтмайер шел опустив голову, подсчитывая сколько времени потребуется Девуару, чтобы протолкнуть информацию через космические глубины; как скоро приемные станции на Веге, Сантане и Центавре распространят страшную новость по всей Галактике. Так он и вошел в подъезд, даже не взглянув на дежуривших на лестнице парней в штатском.
И только повернув ключ в замке, он почувствовал неладное, но люди в штатском были уже за его спиной. Альтмайер вошел в комнату и сел, неожиданно осознав, какой же он старый. Надо любой ценой задержать их на час десять минут, лихорадочно думал он.
Сидящий в темноте человек вытянул руку и щелкнул выключателем. В мягком, струящемся из стен свете его круглое лицо и лысеющая седая голова показались Альтмайеру до боли знакомыми.
— Кажется, сам Координатор оказал мне честь, — мягко сказал он.
— Мы с тобой старые друзья, Дик, — произнес Сток. — Правда, встречаемся редко.
Альтмайер промолчал.
— У тебя хранятся кое-какие правительственные бумаги, Дик, сказал Сток.
— Если ты в этом уверен, Джеф, тебе придется их поискать.
Сток устало поднялся с кресла.
— Давай без героики, Дик. Хочешь, я тебе расскажу, что это за бумаги? Это донесения о сульфации планеты Чу Хси. Не так ли?
Альтмайер взглянул на часы.
— Если ты собираешься тянуть время, то будешь сильно разочарован. Мы знаем, где ты был, знаем, что бумаги у Девуара, и точно знаем, что он собирается с ними делать.
Альтмайер окаменел. Тонкая кожа на его щеках задрожала.
— Давно знаете? — произнес он.
— Столько же, сколько и ты, Дик. Ты очень предсказуемый человек. По этой причине мы тебя и использовали. Неужели ты думаешь, что Фиксатор мог в самом деле прийти к тебе без нашего согласия?
— Не понимаю
— Правительство Земли, — сказал Сток, — не заинтересовано в продолжении межгалактической конференции. Между тем мы не федералисты и знаем истинную цену человечеству. Что, по-твоему, произойдет, когда остальная часть Галактики узнает, что диаболы занимаются перегонкой соленых океанов в серно-кислые?
Не надо, не отвечай. Ты же Дик Альтмайер, и я не сомневаюсь, что сейчас ты закипишь благородным негодованием и провозгласишь, что все человеческие миры тут же покинут конференцию, объединятся в любящий, братский союз, дружно навалятся на диаболов и, конечно же, одолеют их.
Сток сделал длинную паузу, и Альтмайеру показалось, что он больше не заговорит. Но Координатор добавил, перейдя почти на шепот:
— Чепуха. Другие миры скажут, что правительство Земли, преследуя собственные корыстные цели, запустило фальшивку и изготовило поддельные документы с целью срыва конференции. Диаболы станут все отрицать, для большинства человеческих миров окажется выгоднее поверить не нам, а им. Они вспомнят о порочности и лживости Земли, забыв о порочности и лживости диаболов. Надеюсь, ты понимаешь, что мы не можем выступить с подобным обвинением.
Альтмайер почувствовал себя выжатым и ненужным.
— Значит, вы остановите Девуара. Ты всегда думаешь о людях настолько плохо, что даже самые…
— Подожди! Разве я сказал, что собираюсь останавливать Девуара? Я только сказал, что правительство не может выступить с подобным обвинением, и мы действительно не станем этого делать. Но обвинение все равно прозвучит, разве что сразу после него мы арестуем тебя и Девуара и начнем все отрицать еще активнее, чем диаболы. Тогда дело примет другой оборот. Правительства населенных людьми миров решат, что ради достижения собственных эгоистических целей мы пытаемся скрыть действия диаболов и не иначе как вошли с ними в особый сговор. Этого они испугаются по-настоящему и тут же заключат против нас союз. Против нас — и против диаболов. Они станут настаивать на том, что предъявленное обвинение истинно, документы настоящие… и конференция не состоится.
— Это будет означать новую войну, — устало проговорил Альтмайер, — причем не с нашим истинным противником. Снова люди станут убивать друг друга, а победа, кто бы не победил, достанется диаболам.
— Войны не будет, — отрезал Сток. — Ни один мир не рискнет напасть на Землю, пока диаболы будут на нашей стороне. Они просто порвут с нами отношения и изменят пропагандистский уклон. Они начнут раздувать ненависть к диаболам. Позже, если нам придется воевать с диаболами, они, по крайней мере, сохранят нейтралитет.
«А он сильно постарел, — думал Альтмайер. — Мы все стали стариками. Пора на покой».
— С чего ты взял, что диаболы поддержат Землю? Ты можешь обмануть остальное человечество, сделав вид, что стараешься скрыть факты, касающиеся планеты Чу Хси, но диаболов ты никогда не проведешь. Они ни на секунду не поверят, что Земля в самом деле считает документы подделкой.
— Представь себе, поверят. — Джеффри Сток поднялся. — Видишь ли, документы на самом деле фальшивые. Диаболы только замышляют провести сульфацию планеты, но, насколько нам известно, еще не приступили к реализации проекта.
21 декабря 2800 года Ричард Сайама Альтмайер был посажен в тюрьму в третий и последний раз в своей жизни. Не было ни суда, ни определенного приговора, да и самого заключения в буквальном смысле этого слова тоже не было. Ему ограничили право передвижения и разрешили общаться только со строго определенным кругом чиновников. В остальном его удобства не нарушались. Разумеется, Альтмайера лишили доступа к средствам информации, таким образом, он не знал, что на втором году его третьего заключения разразилась война между Землей и диаболами. Все началось неожиданной атакой земной эскадры на флот диаболов в районе Сириуса.
В 2802 году Джеффри Сток посетил находящегося в неволе Альтмайера. Старик удивленно поднялся поприветствовать неожиданного гостя.
— Хорошо выглядишь, Дик, — сказал Сток.
Сам он этим похвастаться не мог. Лицо Координатора посерело. Он по-прежнему носил форму космического флота, но тело его давно утратило военную выправку. Он должен был умереть через год, о чем знал и к чему относился спокойно. «Я прожил все эти годы, теперь пришло время умереть», — то и дело повторял про себя Сток.
Выглядевшему старше Альтмайеру предстояло прожить еще более девяти лет.
— Рад тебя видеть, Джеф, — воскликнул он, — тем более что на сей раз ты не сможешь меня арестовать! Я уже в тюрьме!
— Я пришел тебя освободить, если хочешь.
— С какой целью, Джеф? Ты ведь все делаешь с какой-то целью. Нашел способ меня использовать?
— Есть идея, — по губам Стока скользнула улыбка. — Думаю, тебе понравится. Мы воюем.
— С кем? — Альтмайер вздрогнул.
— С диаболами. Война идет уже шесть месяцев.
Альтмайер сцепил руки, пальцы его нервно переплелись.
— Ничего об этом не слышал.
— Я знаю. — Координатор заложил руки за спину и удивился, ибо они дрожали. — Мы с тобой проделали нелегкий путь, Дик. У тебя и у меня была одна цель… Нет, дай мне закончить. Я часто хотел объяснить тебе свою позицию, но ты ни разу не выслушал меня до конца. Тебя могли убедить только результаты. Мне было двадцать пять лет, Дик, когда я впервые попал на планету диаболов. Еще тогда я понял: либо они — либо мы.
— Я с самого начала это утверждал, — прошептал Альтмайер.
— Утверждать мало. Ты стремился к объединению человеческих правительств против диаболов, что было политической утопией. Более того, это оказалось бы нежелательно. Люди не диаболы. Среди диаболов индивидуальная совесть является крайне слабым, почти несуществующим понятием. У нас она играет довлеющую роль. У них нет такого понятия, как политика, у нас нет ничего другого. Они не знают противоречий, у них не может быть двух правительств. Мы никак не можем прийти к соглашению; даже если бы мы жили на одном острове, мы бы разделили его как минимум на три части.
Однако в наших разногласиях заключается и наша сила! Твоя федералистская партия некогда много рассуждала о Древней Греции. Помнишь? Но вы всегда упускали самый важный момент. Греция не смогла объединиться, и из-за этого ее в конце концов покорили. Но даже в состоянии раздора ей удалось разбить гигантскую империю персов. Почему?
Да потому, что в течение столетий греческие города-государства воевали друг с другом. Они были вынуждены совершенствовать свое боевое мастерство и достигли не доступного персам высочайшего уровня. Это понимали даже персы, укомплектовывавшие в последнее столетие существования их империи наиболее боеспособные, элитные войска греческими наемниками.
То же самое можно сказать и о небольших национальных государствах доатомной Европы, которые за столетия непрерывных сражений довели свое воинское искусство до того уровня, который позволил им сдерживать многократно превосходящие их в численном отношении азиатские орды.
Это в равной степени относится и к нам. Диаболы, владеющие гигантскими галактическими просторами, никогда не воевали. Их огромная военная машина не имеет опыта. За последние пятьдесят лет они с грехом пополам построили военный флот, пытаясь использовать опыт некоторых населенных людьми миров. Человечество, с другой стороны, ожесточенно совершенствовалось в военном искусстве. Правительства из кожи вон лезли, чтобы опередить соперников в военной науке. У людей не было выбора! В результате наша разобщенность привела к тому, что едва ли не каждый из человеческих миров мог на равных сразиться с диаболами, при условии, что ни один из других миров не выступил бы на их стороне.
Именно на предотвращение подобного хода событий и была направлена вся земная дипломатия. До тех пор пока не существовало гарантии, что остальные миры сохранят нейтралитет, Земля не могла начать войну с диаболами. По той же причине мы не могли допустить единения человеческих миров, надо было поддерживать военное соперничество. Как только мы убедились, что после провала конференции, которая должна была состояться два года назад, остальные миры не вступят в конфликт на стороне диаболов, мы стали искать повода к началу военных действий. Сегодня идет война.
Казалось, что Альтмайер застыл. Прошло немало времени, прежде чем он смог заговорить.
— Что, если диаболы все-таки победят? — спросил он наконец.
— Не победят, — спокойно сказал Сток. — Две недели назад в бой вступили основные силы. Армады врага были полностью уничтожены, мы практически не понесли никаких потерь. Это при том, что они значительно превосходили нас в численности. Мы будто сражались с торговым флотом. Наше оружие оказалось мощнее и во много раз точнее. Мы почти в три раза превосходим их в скорости, поскольку у нас имеются антиакселерационные устройства, неизвестные диаболам. После сражения с добрый десяток других населенных людьми миров решил присоединиться к побеждающей стороне и объявил войну диаболам. Вчера диаболы запросили перемирия. Война практически окончена, впредь диаболам придется проживать исключительно на собственных планетах, а их дальнейшее распространение будет осуществляться под нашим строгим контролем.
Альтмайер пробормотал что-то нечленораздельное.
— И вот теперь возникла необходимость в союзе. После разгрома Персии греческие города-государства продолжали междоусобные войны, и это их сгубило. Македоняне, а потом римляне завоевали их территории. После того как Европа колонизировала Америку, отсекла часть Африки и завоевала Азию, серия внутренних войн привела к полному упадку Европы.
Разобщенность до победы, после нее — союз! Теперь заключить его несложно. Пусть мы добились успеха своими силами, плодами должны воспользоваться все человеческие миры. Древний писатель Тойнби первым указал на различие между так называемым «доминирующим меньшинством» и «творческим меньшинством».
Теперь мы стали творческим меньшинством. Различные человеческие правительства почти одновременно выступили за создание организации Объединенных Миров. Более семидесяти миров заявили о желании принять участие в первой сессии, на которой будет принята хартия Федерации. Другие присоединятся позже, я в этом уверен. Мы хотим, чтобы ты вошел в состав делегации Земли, Дик.
Из глаз Альтмайера потекли слезы.
— Я… я ничего не понимаю. Это… правда?
— Все обстоит именно так. Ты был гласом вопиющего в пустыне, Дик. Ты призывал нас к объединению. Твои слова имеют огромный вес. Помнишь, как ты сказал однажды: «Благое намерение не знает неудач».
— Нет! — воскликнул Альтмайер с неожиданной энергией. — Это твое намерение оказалось благим.
— Ты никогда не понимал человеческой природы, Дик. — Окаменевшее лицо Стока не выражало никаких эмоций. — Когда Объединенные Миры станут реальностью и новые поколения мужчин и женщин обратят сквозь столетия спокойствия и мира свои взоры к сегодняшнему дню, они забудут, что я шел к той же, что и ты, цели. Для них я буду символизировать войну и смерть. А вот твой идеализм и призывы к союзу запомнятся им навсегда.
Он отвернулся, и Альтмайер едва разобрал последние слова Координатора:
— Они прославят историю в статуях, но мне не поставят ни одной.
В Великом Суде, представляющем собой тихий оазис посреди пятидесяти сумасшедших квадратных миль, занятых небоскребами Объединенных Миров Галактики, есть одна статуя…
С-шлюз
В каюту, куда поместили полковника Энтони Уиндема и других пассажиров, проникал шум боя. На некоторое время наступила тишина, корабль замер, а это означало, что противники сражаются — находясь на астрономическом расстоянии друг от друга, нанося мощные удары, отражаемые защитными силовыми полями.
Никто не сомневался в том, каким будет конец. Земной корабль был всего лишь торговым судном, на которое спешно поставили вооружение, а прежде чем члены команды выгнали пассажиров с палубы, полковник успел заметить, что их атакует легкий крейсер клоро.
Прошло меньше получаса, и начались короткие, но ощутимые толчки, которых он ждал. Пассажиров болтало из стороны в сторону, когда корабль пытался маневрировать, словно океанский лайнер, попавший в шторм. Однако космос был спокойным и безмолвным. Просто пилот изо всех сил старался избежать прямого попадания, из чего следовало, что защитные экраны не выдержали перегрузок.
Полковник Уиндем опирался на свою алюминиевую палку и думал о том, что, хоть он и провел всю свою жизнь в народном ополчении, ему так и не довелось принять участия ни в одном сражении; и сейчас наконец-то, став толстым и хромым стариком, он оказался в самом сердце боевых действий — командир, у которого в подчинении нет ни одного солдата.
Очень скоро гнусные чудовища — клоро — ступят на борт корабля. Такова их манера вести бой. Им, конечно, ужасно мешают космические скафандры, и они понесут большие потери, зато получат корабль землян. Уиндем подумал о пассажирах, и на мгновение в мозгу промелькнуло: «Если бы они были вооружены, а я мог встать во главе нашей маленькой армии…»
Он быстро отбросил эту бесполезную мысль. Портер явно перепуган до смерти, да и юноша Лебланк не в лучшем состоянии. Братья Полиоркеты — проклятье, он даже не может отличить одного от другого — устроились в уголке и, не обращая никакого внимания на остальных, тихо себе разговаривают. Вот Мален — совсем другое дело: сидит совершенно прямо и, похоже, ничего не боится, его лицо вообще лишено каких бы то ни было эмоций. Впрочем, человеку ростом в пять футов вряд ли когда-нибудь доводилось держать в руках оружие…
Совершенно бессмысленные размышления — какая польза от таких вояк!
А вот еще Стюарт — насмешливая улыбочка и сарказм, которым пронизаны все его заявления… Уиндем искоса посмотрел на Стюарта тот приглаживал своими неестественно белыми руками песочные волосы. Что толку от его искусственных рук?
Полковник почувствовал, как содрогнулся корабль — с ним состыковалось другое космическое судно. Через пять минут из коридора донесся шум сражения. Один из братьев Полиоркетов что-то крикнул и метнулся к двери. Другой позвал его:
— Аристид! Подожди! — И бросился следом.
Все произошло слишком быстро. Аристид выскочил из двери в коридор. И вспыхнул на одно короткое мгновение, не успев даже вскрикнуть от боли. Уиндем, который стоял у двери, в ужасе смотрел на бесформенные, почерневшие останки молодого человека. Как странно — всю свою жизнь полковник был военным, но до сих пор ему ни разу не доводилось видеть насильственной смерти.
Понадобились совместные усилия всех остальных пассажиров, чтобы затащить внутрь каюты отчаянно сопротивлявшегося второго брата.
Постепенно шум сражения стих.
— Ну вот и все, — сказал Стюарт. — Теперь они оставят двоих клоро на борту и отправят нас на одну из своих планет. Мы превратились в военнопленных.
— Неужели их здесь будет только двое? — удивленно спросил Уиндем.
— Так у клоро принято, — ответил Стюарт. — А почему вы спрашиваете, полковник? Намерены возглавить бесстрашный рейд и отобрать корабль у врага?
— Черт побери, уже и полюбопытствовать нельзя, — покраснев, заявил Уиндем.
Но из его попыток напустить на себя важный вид, исполненный чувства собственного достоинства, ничего не вышло. И ему это было прекрасно известно. От хромого старика мало прока.
Кроме того, Стюарт, по всей вероятности, хорошо знал клоро. Он ведь жил среди инопланетян и наверняка успел изучить их обычаи.
Джон Стюарт с самого начала объявил, что клоро всегда ведут себя как джентльмены. Через двадцать четыре часа плена он повторил свои слова, сгибая и разгибая пальцы рук и наблюдая за движением мягкой синтеплоти.
Ему нравилось, что у остальных его слова вызвали возмущение. Люди созданы для того, чтобы им причинять боль; самые настоящие вонючки все до единого. И руки у них сделаны из того же материала, что и тело.
Вот, например, Энтони Уиндем, особенно он. Полковник Уиндем — так он сам себя называл, и Стюарт был готов ему поверить. Полковник в отставке, который дрессировал отряд деревенских ополченцев на зеленой лужайке лет сорок назад, и при этом настолько ничем не выделялся, что его не позвали назад на службу, даже когда на Земле во время первой межзвездной войны возникла чрезвычайная ситуация.
— Чертовски неприятные вещи вы тут рассказываете про нашего врага, Стюарт. Я совсем не уверен, что мне нравится ваше отношение.
Казалось, Уиндем с трудом выталкивает слова сквозь свою аккуратно подстриженную бородку. Голова у него была выбрита в соответствии с современной армейской модой, только теперь возле круглой лысины появилась короткая седая щетина. Отвислые дряблые щеки да красные прожилки на массивном носу придавали старику какой-то неопрятный вид, словно его неожиданно и слишком рано разбудили.
— Чушь собачья, — заявил Стюарт. — Вам нужно только развернуть данную ситуацию на сто восемьдесят градусов. Представьте себе, что корабль землян взял в плен лайнер клоро. Как вы думаете, какая судьба ждала бы всех гражданских лиц, находящихся на борту?
— Я ни секунды не сомневаюсь, что наши солдаты стали бы соблюдать все законы ведения межзвездной войны, — важно проговорил Уиндем.
— Если не считать того, что таковых законов не существует. Высадив на борт захваченного корабля команду, как вы думаете, стали бы мы заботиться о том, чтобы обеспечить тех, кто остался в живых, атмосферой с высоким содержанием хлора, оставили бы им личные вещи, отдали бы в их распоряжение самую удобную каюту, и так далее, и так далее, и так далее?
— Заткнитесь, ради всего святого! — рявкнул Бен Портер. — Если я еще услышу ваши «и так далее», я просто свихнусь.
— Извините! — сказал Стюарт, не испытывая ни малейших угрызений совести.
У Портера было тонкое лицо, украшенное похожим на клюв носом, на котором блестели капельки пота, и он так усердно кусал щеку изнутри, что в какой-то момент даже поморщился от боли. Прижал язык к больному месту и стал ужасно похож на клоуна.
Стюарту надоело дразнить товарищей. Уиндем был совсем неподходящей мишенью, а Портер мог только корчиться и страдать. Все остальные просто молчали. Деметриос Полиоркет удалился в страну безмолвного, нестерпимого горя. Похоже, он так и не заснул ночью. По крайней мере, когда Стюарт просыпался, чтобы повернуться на другой бок — он и сам спал ужасно неспокойно — с соседней койки до него доносилось тихое бормотание Полиоркета, где доминировал один и тот же тоскливый стон: «О, мой брат!» Сейчас он сидел на своей койке, время от времени его покрасневшие от слез и бессонницы глаза на широком, смуглом, небритом лице останавливались на других пленниках, а потом он закрывал лицо загрубевшими мозолистыми руками, так что был виден только затылок, заросший курчавыми жесткими волосами. И медленно раскачивался из стороны в сторону — только теперь, когда все проснулись, не произносил ни звука.
Клод Лебланк безуспешно пытался читать письмо. Он был самым молодым из шести пленников, может быть, даже не успел закончить колледж, и возвращался на Землю, чтобы жениться. Стюарт заметил, как юноша тихо плакал утром, а его розовощекая физиономия превратилась в мордашку несправедливо обиженного ребенка. У него были почти белые волосы, огромные голубые глаза и полные губы — красивое, женственное лицо. Интересно, подумал Стюарт, какая девушка могла согласиться стать его женой? Он видел фотографию этой девушки. Впрочем, кто на корабле ее не видел? Хорошенькая, без каких бы то ни было запоминающихся черт — все портреты невест похожи друг на друга. Однако Стюарту казалось, что, будь он девушкой, наверняка выбрал бы себе в спутники жизни человека больше похожего на мужчину.
И еще Рэндольф Мален. Стюарт никак не мог понять, что же это за человек. Он единственный из всей шестерки достаточно долго прожил на планетах Арктура. Сам Стюарт, к примеру, пробыл там ровно столько, сколько требовалось, чтобы прочитать в провинциальном университете серию лекций по астроинженерии. Полковник Уиндем путешествовал от туристической фирмы Кука, Портер намеревался купить замороженные инопланетные овощи для своих консервных заводов на Земле, а братья Полиоркеты пытались заниматься фермерством на Арктуре, но после двух сезонов сдались и, умудрившись получить небольшую прибыль, возвращались на Землю.
Рэндольф Мален провел в системе Арктура семнадцать лет. И как только путешественникам удается быстро узнать друг о друге самые разнообразные подробности? Маленький человечек практически все время молчал. Он был исключительно вежлив, всегда сторонился, стараясь дать дорогу другому, и, казалось, его словарь состоял только из слов «спасибо» и «извините». Однако каким-то образом стало известно, что он отправляется на Землю впервые за семнадцать лет.
Маленький человечек, даже чересчур аккуратный — это немного раздражало. Например, проснувшись сегодня утром, он старательно заправил койку, побрился, принял душ и оделся. Складывалось впечатление, что на его многолетние привычки никак не повлиял тот факт, что он стал пленником клоро. Нужно признать, что поведение Малена не было демонстративным, и он ни в коей мере не показывал, что не одобряет неряшливости других. Одетый в свой консервативный костюм, Мален сидел на койке, сложив руки на коленях — вот-вот готов начать за что-нибудь извиняться. Тонкая полоска растительности над верхней губой не добавляла характера, только усиливала впечатление сдержанности. Он был похож на карикатурное изображение бухгалтера.
«Самое забавное то, — думал Стюарт, — что он и есть бухгалтер». Стюарт заметил запись в судовом журнале: «Рэндольф Флюэллен Мален; специальность: бухгалтер; место работы: «Прайм Пейпер Бокс Компани», Арктур-2, Новая Варшава, Тобайас-авеню, 27».
— Мистер Стюарт?
Стюарт поднял голову.
Это был Лебланк. Нижняя губа у него немного дрожала, и Стюарт заставил себя вспомнить, что человек временами должен испытывать сострадание к ближнему.
— В чем дело, Лебланк?
— Вы не могли бы мне сказать, когда нас отпустят?
— А я-то откуда знаю?
— Все говорят, будто вы жили на планете клоро, а еще вы недавно сказали, что они всегда ведут себя как джентльмены.
— Ну да. Но ведь даже джентльмены воюют, чтобы победить. Возможно, нас на некоторое время интернируют.
— Это же может длиться годы! Маргарет ждет. Она подумает, что я умер!
— Надеюсь, нам позволят связаться с Землей, когда мы прибудем на их планету.
— Послушайте, если вы так много знаете про этих мерзавцев, хриплым от возбуждения голосом заговорил Портер, — скажите, что они станут с нами делать? Чем будут кормить? Где возьмут кислород? Не сомневаюсь, они нас убьют. — И, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову, он добавил. — Меня тоже ждет жена.
Стюарт слышал, как он говорил о своей жене за несколько дней до нападения клоро; особого впечатления на него эти разговоры не произвели. Руки Портера с обкусанными ногтями вцепились в рукав Стюарта, беспрерывно теребили его и дергали. Стюарт резко, с отвращением отодвинулся. Ему были неприятны эти уродливые руки. Его охватывало отчаяние от одной только мысли, что эти чудовища могут быть настоящими, в то время как его собственные, белые, безупречной формы руки — всего лишь имитация, рожденная из инопланетного латекса.
— Нас не убьют. Если бы это входило в намерения клоро, они бы давно с нами покончили. Знаете, мы ведь тоже берем клоро в плен, так что здравый смысл подсказывает, что с пленниками следует обращаться хорошо, если хочешь, чтобы с твоими согражданами тоже обходились гуманно. Они сделают все, что в их силах. Еда, возможно, будет и не самой лучшей, однако клоро лучше нас разбираются в химии. В этой области они истинные мастера. Клоро выяснят, в какой пище мы нуждаемся и сколько нам нужно калорий. Мы выживем. Они об этом позаботятся.
— Не знаете, почему во мне растет уверенность, что вы симпатизируете этим зеленым тварям, Стюарт? — проворчал Уиндем. — Меня просто тошнит, когда я слышу, как землянин так прекрасно отзывается об этих типах. Послушайте, приятель, по-моему, вы забыли о том, что такое лояльность.
— Я лоялен по отношению к тому, кто честен и благороден, вне зависимости от внешнего вида существа, обладающего этими качествами. Стюарт вытянул вперед свои руки. — Вы вот это видите? Их сделали клоро. Я прожил на одной из их планет шесть месяцев. Мои руки были изуродованы взрывом кондиционера в моей квартире. Мне показалось, что кислорода, которым меня обеспечивают, недостаточно — на самом деле все было в полнейшем порядке — и решил немного покопаться в установке. В том, что произошло, мне некого винить, кроме самого себя. Никогда не следует соваться в приборы, сделанные не на твоей родной планете. Когда один из клоро надел атмосферный скафандр и добрался до меня, спасти мои руки уже было невозможно.
Они вырастили — специально для меня — руки из синтеплоти и сделали операцию. Знаете, что это означает? Это означает, что им пришлось построить оборудование и изобрести питательные растворы, которые могли бы функционировать в кислородной атмосфере. И еще это означает, что их хирурги вынуждены были сделать сложнейшую операцию, надев атмосферные скафандры. И вот я снова с руками. — Стюарт неожиданно рассмеялся и потряс почти бесполезными кулаками. — Руки…
— И вы готовы ради этого предать Землю? — спросил Уиндем.
— Предать Землю? Вы спятили! Я многие годы ненавидел клоро за то, что они для меня сделали. Раньше, до несчастного случая, я был пилотом на трансгалактических линиях. А теперь? Работа в конторе, время от времени лекции. Мне понадобилось немало времени, чтобы понять, что я один во всем виноват, а клоро поступили со мной невероятно благородно. У них есть свой этический кодекс, и он ничем не отличается от нашего. Если бы не глупость кое-кого из их представителей — да и наших, конечно — мы бы не воевали. А после того как все закончится…
Полиоркет вскочил на ноги и сжал руки в кулаки. Его глаза метали молнии.
— Мне совсем не нравится то, что вы говорите, мистер.
— Хотелось бы знать почему?
— Потому что ты тут расхваливаешь этих зеленых ублюдков. Клоро хорошо с тобой обращались, да? А вот по отношению к моему брату они вели себя не так благородно. Они его убили. Знаешь, пожалуй, я тебя прикончу. Я понял: ты наверняка шпионишь для этих зеленух.
И он бросился на Стюарта.
Тот даже не успел поднять руки, чтобы защититься от разъяренного фермера.
— Что, черт подери…
Потом Стюарт схватил Полиоркета за запястье и выставил плечо, чтобы помешать тому дотянуться до своего горла. Рука из синтеплоти оказалась практически бесполезной, Полиоркет легко вырвался.
Уиндем вопил что-то неразборчивое, а Лебланк взмолился своим нежным голоском:
— Перестаньте! Ну перестаньте же!
Но именно коротышка Мален обхватил фермера сзади за шею и попытался оттащить его от Стюарта. Без особого результата; Полиоркет, казалось, и не заметил, что маленький человечек висит у него на шее. Ноги Малена болтались в воздухе, так что он беспомощно мотался из стороны в сторону. Но он не разжимал рук и мешал Полиоркету, так что в конце концов Стюарт вырвался и схватил алюминиевую палку Уиндема.
— А ну, отвали, Полиоркет! — крикнул он.
А потом с трудом перевел дух, опасаясь нового нападения. Пустой алюминиевый цилиндр почти ничего не весил, пользы от него было бы совсем немного, но это все равно лучше, чем рассчитывать на свои слабые руки.
Мален отошел в сторону, но остался настороже. Он тяжело дышал, а его одежда была в беспорядке.
Секунду Полиоркет не шевелился. Просто стоял, глядя в пол.
— Бессмысленно все это, — проговорил он наконец. — Я должен убить клоро. А ты думай, о чем говоришь, Стюарт. Станешь болтать лишнее — и у тебя будут серьезные неприятности. Очень болезненные, уж можешь мне поверить.
Стюарт вытер пот со лба и бросил палку Уиндему; тот схватил ее левой рукой, потому что в правой у него был зажат носовой платок, которым он усиленно приводил в порядок свою лысину.
— Господа, нам следует избегать подобных стычек, — произнес Уиндем. — Подумайте о нашем престиже. Не забывайте, у нас общий враг. Мы все являемся представителями Земли и должны вести себя соответствующим образом — мы же правящая раса Галактики. Негоже нам унижать себя перед низшими существами.
— Ну хорошо, полковник, — устало перебил его Стюарт, — не могли бы вы отложить продолжение речи до завтра? — А затем повернулся к Малену: — Спасибо вам.
Он стеснялся своих слов, но не мог не выразить свою благодарность. Поступок маленького путешественника поразил его до глубины души.
— Не стоит благодарить меня, мистер Стюарт, — тихо, почти шепотом, но сухо сказал Мален. — Я не мог поступить иначе. Это было только логично. Если нас интернируют, вы нам пригодитесь в качестве переводчика — вы же единственный знаете клоро и их повадки.
Стюарт поморщился. Очень бухгалтерские рассуждения, слишком логические, бесцветные, лишенные жизни. Риск — и выгода, которую можно получить в результате. Все сбалансировано — активы и пассивы. Ему было бы приятнее, если бы Мален бросился ему на помощь из-за… ну и по какой причине? Из чистого самоотверженного благородства?
Стюарт беззвучно рассмеялся. Почему он ждет от людей идеализма вместо честной, неприкрытой мотивации, направленной на соблюдение собственной выгоды?
Полиоркет впал в ступор. Горе и ярость сжигали его изнутри, но он не умел облечь их в слова и выпустить на свободу. Если бы он был Стюартом, с длинным болтливым языком, то смог бы выговориться, и тогда ему, может быть, стало бы лучше. Вместо этого он сидел тут, в каюте захваченного корабля, а часть его души умерла: у него больше нет брата, Аристида больше нет…
Все произошло так быстро. Если бы можно было вернуться назад, если бы у него была одна лишняя секунда… он бы схватил Аристида, удержал бы его, спас…
Он ненавидел клоро. Два месяца назад он что-то смутно о них слышал, но не более того, теперь же так сильно их ненавидел, что с радостью отдал бы жизнь за возможность убить парочку этих тварей.
— А из-за чего началась война? — спросил Полиоркет, не поднимая головы.
Он боялся услышать голос Стюарта, потому что ненавидел его, но ответил Уиндем, лысый полковник:
— Основной причиной, сэр, был спор за право владения рудниками в системе Уандотт. Клоро посягнули на собственность Земли.
— Там хватило бы места и тем и другим, полковник!
Полиоркет поднял голову и злобно оскалился. Ну не способен этот Стюарт долго помалкивать. Снова открыл свою пасть, безрукий инвалид, умник, дружок клоро.
— Разве это повод для войны, полковник? — продолжал Стюарт. — Мы же не можем существовать на одних и тех же планетах. Нам нечего делать там, где атмосфера богата хлором, а от наших — кислородных — им тоже нет никакой выгоды. Хлор смертельно опасен для нас, для них смертельно опасен кислород. Нет ни малейшего смысла воевать. Наши расы не имеют ничего общего. Да, и мы, и они намерены добывать железо на планетоидах, лишенных атмосферы, но в Галактике таких — миллионы. Разве это повод для войны?
— Существует понятие планетарной чести… — проговорил Уиндем.
— Планетарное удобрение, вот что это такое. Как можно оправдывать этими глупыми рассуждениями столь бессмысленную войну? Вести ее можно только на пограничных постах. Рано или поздно дело закончится переговорами, с которых следовало начинать. Ни мы, ни клоро от этой войны ничего не выигрываем.
Полиоркет, хоть и неохотно, был вынужден признать — не вслух, естественно — что согласен со Стюартом. Какое им с Аристидом было дело до того, где Земля или клоро добывают железо? Неужели ради этого стоило умирать? Неужели из-за этого погиб Аристид?
Неожиданно прозвучала предупредительная сирена.
Полиоркет вскинул голову и медленно поднялся, обнажив зубы в хищной усмешке. Возле двери могло находиться только одно существо. Он ждал — руки напряжены, сжаты в кулаки. Стюарт бросился к нему. Полиоркет заметил это и усмехнулся. Пусть только клоро зайдет, и тогда ни Стюарт, ни один другой ублюдок не сможет его остановить. Подожди, Аристид, подожди всего одну минутку, и я начну за тебя мстить.
Дверь открылась, и на пороге возникло существо, полностью спрятанное в бесформенную пародию на скафандр. Зазвучал странный, неестественный, но достаточно приятный голос:
— Мой товарищ и я, земляне, мы обеспокоены…
Существо вдруг замолчало, потому что Полиоркет с диким ревом метнулся к нему. Его движение не было заранее рассчитанным, им двигала слепая животная ярость. Темноволосая голова опущена, сильные руки расставлены в стороны, а поросшие короткими волосками пальцы скрючены, словно готовясь задушить первого, кто попадется на пути. Стюарт, не успев ничего предпринять, в единую долю секунды был отброшен на какую-то койку.
Клоро, не особенно напрягаясь, мог бы остановить Полиоркета или отойти в сторону, позволив урагану двигаться своим путем. Он не сделал ни того ни другого. Откуда-то возникло оружие, из которого вылетел розовый луч и коснулся землянина. Полиоркет споткнулся и рухнул на пол, тело замерло в том положении, в котором было за секунду до выстрела — одна нога поднята — точно его моментально парализовало. Он свалился на бок и так и остался лежать, а его живые, дикие, исполненные ненавистью глаза метали молнии.
— Через некоторое время с ним все будет в порядке, — произнесло существо. Казалось, клоро просто отмахнулся от нападения Полиоркета. Он заговорил снова: — Мой товарищ и я, земляне, мы обеспокоены возникшим в этом помещении волнением. Вы в чем-то нуждаетесь, мы можем вам как-нибудь помочь?
Стюарт сердито потирал коленку, которую ушиб, когда падал на койку.
— Нет, спасибо, клоро.
— Послушайте, — зло процедил Уиндем, — это чертовски возмутительно. Мы требуем, чтобы вы нас освободили!
Крошечная голова клоро, похожая на головку насекомого, повернулась в сторону толстого старика. Не очень приятное зрелище, если тебе не доводилось видеть клоро раньше. Существо было ростом с человека, но верхняя часть его тела — шея — напоминала тонкий стебель, на который насажена голова, похожая на опухоль. Тупой треугольный хобот спереди, а по обе стороны — выпуклые глаза. И все. Места для мозга, да и самого мозга здесь не было. То, что у клоро соответствовало мозгу, находилось в животе — по земным представлениям — так что голова являлась только органом чувств. Скафандр клоро почти точно повторял очертания его головы, за двумя полукруглыми прозрачными стеклами были видны глаза. Стекло казалось зеленоватого цвета из-за того, что внутри скафандра содержалась атмосфера, богатая хлором.
В данный момент один из глаз внимательно уставился на Уиндема, и старик съежился под этим взглядом, но продолжал настаивать на своем:
— Вы не имеете нрава держать нас в плену. Мы же гражданские лица.
Голос клоро, какой-то искусственный, доносился из небольшого приборчика, покрытого хромированной сеточкой и укрепленного у него на груди — опять же, с точки зрения землян. Эта звуковая коробочка действовала при помощи сжатого воздуха, контролируемого одним или двумя тонкими, раздвоенными щупальцами, которые росли из верхней части тела и были, благодарение Богу, спрятаны внутри скафандра.
Клоро сказал:
— Вы что, серьезно все это говорите, землянин? Вы наверняка слышали о войне, знаете, что такое законы военного времени и военнопленные.
Он быстро подергал головой в разные стороны — внимательно разглядывая присутствующих сначала одним, а потом и вторым глазом. Стюарт был уверен, что каждый из глаз посылает свою собственную информацию мозгу, который сводит ее воедино.
Уиндему было нечего сказать. Как и всем остальным. Клоро, у которого четыре основные конечности примерно соответствовали ногам и рукам, в своем скафандре отдаленно напоминал человека, если, конечно, не поднимать голову выше груди… но кто же знает, о чем он думает?
Все молча наблюдали за тем, как инопланетянин повернулся и вышел из каюты.
Портер откашлялся и с трудом проговорил:
— О Господи, вы чувствуете запах хлора? Если они ничего с этим не сделают, мы все умрем, у нас сгорят легкие.
— Заткнитесь, — велел ему Стюарт. — В нашей атмосфере хлора так мало, что и комар бы его не заметил, а если что-то и есть, через несколько минут все будет в порядке. Кроме того, немного хлора вам не повредит. Он прикончит вирус, вызвавший вашу простуду.
— Стюарт, — тоже кашляя, сказал Уиндем, — я считаю, вы должны были сказать вашему приятелю клоро, чтобы они нас отпустили. Вы не очень-то храбро себя вели в его присутствии, так что нечего важничать сейчас, когда этот урод ушел.
— Вы же слышали, что он сказал, полковник, Мы военнопленные, а обменом военнопленных занимаются дипломаты. Придется нам подождать.
Лебланк, который смертельно побледнел, когда в каюту вошел клоро, вскочил на ноги и бросился в туалет. Все слышали, как его вырвало.
Пока Стюарт пытался придумать, что же можно сказать, чтобы заглушить неприятные звуки, заговорил Мален. Он покопался в маленькой коробочке, которую вытащил из-под подушки, и сказал:
— Возможно, мистеру Лебланку стоит принять успокоительное, прежде чем он отправится спать. У меня есть тут несколько таблеток, я с удовольствием с ним поделюсь. — И тут же попытался объяснить, почему проявляет такое великодушие: — Иначе он не даст нам заснуть ночью.
— Очень разумно, — согласился Стюарт. — Приберегите-ка еще таблеточку для нашего сэра Ланселота. — Он подошел к Полиоркету, который по-прежнему лежал на полу, опустился рядом с ним на колени и спросил: — Тебе удобно, малыш?
— Стюарт, так вести себя — дурной тон, — объявил Уиндем.
— Ну, если вас настолько сильно беспокоит судьба бедолаги, почему бы вам с Портером не перетащить его на койку?
Он им помог. Теперь руки Полиоркета судорожно дергались. Судя по тому, что было известно Стюарту про действие нервно-паралитического оружия клоро, в данный момент Полиоркет испытывал ужасную боль, словно все его тело пронзали тысячи иголок.
— И советую с ним не церемониться, — сказал Стюарт. — Идиотизм этого придурка чуть не стоил нам всем жизни. И ради чего?
Он отодвинул застывшее тело Полиоркета и уселся рядом с ним на край койки.
— Ты меня слышишь?
Глаза Полиоркета горели яростью. Он чуть приподнял руку, потом бессильно уронил ее.
— В таком случае слушай внимательно. Не вздумай еще раз выкинуть что-нибудь подобное. Потому что тогда мы все можем умереть. Если бы ты был клоро, а он — землянином, мы уже давно превратились бы в бездыханные трупы. Так что постарайся запомнить одну простую вещь. Мы сожалеем о том, что твой брат погиб, но он сам был виноват.
Полиоркет попытался подняться, и Стюарт толкнул его назад на койку.
— Нет, лежи и слушай, — сказал он. — Возможно, больше мне не представится такой удобной возможности заставить тебя выслушать внимательно то, что я говорю. Твой брат не имел никакого права покидать каюту, отведенную пассажирам. Ему все равно некуда было бы идти. Он просто оказался в гуще боя. Мы же не знаем наверняка, что он погиб от выстрела клоро. Это мог быть и солдат землян.
— О, послушайте, Стюарт… — запротестовал Уиндем.
— А у вас есть доказательства? — резко повернулся к нему Стюарт. — Вы видели стрелявшего? Можете определить по останкам, чей луч сразил несчастного — клоро или землян?
Полиоркет вновь обрел дар речи; впрочем, его непослушный язык с трудом справлялся со звуками.
— Проклятый, вонючий ублюдок, дружок зеленух…
— Я? Мне известно, какие мысли бродят у тебя в голове, Полиоркет. Ты решил, что сможешь облегчить свою душу, набив мне морду. Так вот, если ты это сделаешь, нам всем придет конец.
Стюарт встал и прислонился спиной к стене. Сейчас он был один против всех.
— Никто из вас не знает клоро настолько хорошо, насколько их знаю я. То, что они отличаются от нас в физическом отношении, не имеет никакого значения. Существенно лишь различие темпераментов. Например, они не понимают нашего отношения к сексу. Для них аналогичный акт всего лишь биологический рефлекс, вроде дыхания. Они не придают этому процессу никакого значения. А вот социальные группы являются очень важным предметом. Не следует забывать, что предки клоро имели много общего с нашими насекомыми. Поэтому они неизменно считают, что любая попавшаяся им на глаза группа землян, объединенная по той или иной причине, является социальным сообществом.
А для них это имеет принципиальное значение. По правде говоря, я не знаю точно, что именно это означает. Такое не дано понять ни одному землянину. Но, вследствие своих взглядов, клоро никогда не разбивают группы людей, как мы стараемся не разделять мать и ее детей, если, конечно, у нас есть такая возможность. Сейчас с нами так трогательно-нежно обращаются, возможно, только потому, что клоро считают, будто мы страдаем из-за смерти одного из нас — они испытывают чувство вины.
Запомните вот что: нас интернируют вместе и будут держать вместе все время. Лично мне эта перспектива не по душе. Добровольно я не выбрал бы ни одного из вас в сокамерники, и, думаю, никто из вас не выбрал бы меня. Но тут мы ничего не можем поделать. Клоро не в состоянии понять, что мы оказались вместе на борту этого корабля совершенно случайно.
А это означает, что нам следует вести себя прилично. Имейте в виду, речь тут идет не о цветочках и птичках и прочих глупостях. Как вы полагаете, что произошло бы, если бы клоро пришли сюда немного раньше и обнаружили, что Полиоркет собирается меня прикончить? Не знаете? Ну а что бы вы подумали о матери, которая пытается задушить своих детей?
Надеюсь, вам понятно. Они убили бы нас, посчитав извращенцами и чудовищами. Уловили? А ты, Полиоркет? Ты все понял? Так что давайте будем обзывать друг друга, как нам вздумается, но никаких оскорблений действием. А теперь, если не возражаете, я приведу свои руки в порядок, верну им прежнюю форму — мои синтетические руки, которые я получил благодаря клоро и которые один из моих соплеменников допытался испортить.
С точки зрения Клода Лебланка, самое худшее было уже позади. Он сумел справиться с первым потрясением, когда его практически от всего мутило; но хуже всего ему было от мысли, что он покинул Землю. Отправиться в колледж, находящийся на другой планете — здорово, настоящее приключение, позволившее ему оказаться вне сферы влияния матери! Месяц спустя, когда он окончательно привык к новой обстановке, его переполняло самое настоящее счастье.
А потом, во время летних каникул, он уже больше не был Клодом, скромным учеником; теперь он превратился в Лебланка, космического путешественника. И эксплуатировал эту идею на полную катушку. Настоящий, сильный мужчина рассказывал о звездах, скачках через гиперпространство, обычаях и природе других миров; благодаря этому он чувствовал себя уверенно с Маргарет. Она полюбила его за те опасности, с которыми он столкнулся…
А вот в ситуации, в которую он попал сейчас, по правде говоря, вел он себя не так чтобы очень здорово. Лебланк это понимал, ему было стыдно. Ему ужасно хотелось быть похожим на Стюарта.
Он подошел к Стюарту во время обеда и сказал:
— Извините, мистер Стюарт.
Стюарт поднял голову:
— Как вы себя чувствуете?
Лебланк понял, что начал краснеть. Он легко краснел и, смущаясь из-за этого, становился пунцовым.
— Гораздо лучше, спасибо. Мы тут обедаем. Я принес вам вашу порцию.
Стюарт взял из его рук банку — стандартный космический рацион: искусственная, концентрированная, питательная и совершенно безвкусная еда. Она нагревалась, когда вы открывали банку, но ее можно было есть и холодной, если возникала необходимость. И хотя к банке прилагались ложка с вилкой, ее содержимое было такой консистенции, что вполне можно было есть пальцами и при этом не слишком испачкаться.
— Вы слышали мою маленькую речь? — спросил Стюарт.
— Да, сэр. Я хочу, чтобы вы знали — вы можете на меня рассчитывать.
— Ну что ж, хорошо. А теперь идите ешьте.
— Нельзя остаться с вами?
— Пожалуйста, оставайтесь.
Некоторое время они молча ели. Потом Лебланк выпалил:
— Вы так уверены в себе, мистер Стюарт! Наверное, просто замечательно быть таким!
— Уверен в себе? Ну уж нет — вон кто у нас никогда не теряет уверенности.
Лебланк с удивлением проследил за взглядом Стюарта.
— Мистер Мален? Этот коротышка? Нет!
— Вы со мной не согласны?
Лебланк покачал головой, а потом внимательно посмотрел на Стюарта, пытаясь понять, не смеется ли тот над ним.
— Он просто ледышка. В нем нет никаких чувств. Он похож на маленькую счетную машинку. У меня он вызывает отвращение. А вот вы, мистер Стюарт, совсем не такой. У вас внутри бушуют чувства, но вы их контролируете. Я бы очень хотел быть похожим на вас.
Мален подошел к ним, словно понял, что говорят о нем, хотя он, вне всякого сомнения, ничего не слышал. Его банка с едой оставалась практически нетронутой. Над ней еще поднимался легкий пар, когда Мален уселся на корточки рядом со Стюартом.
Голос бухгалтера, как и всегда, напоминал шелест ветра в кустах:
— Мистер Стюарт, как вы думаете, сколько времени займет наше путешествие?
— Не знаю, Мален. Клоро, естественно, постараются избегать оживленных торговых маршрутов и, чтобы избавиться от преследования, предпримут больше скачков через гиперпространство, чем обычно. Меня не удивит, если пройдет целая неделя. А почему вы спрашиваете? Не сомневаюсь, у вас на это есть вполне определенная причина?
— Да, конечно. — Казалось, сарказм Стюарта совершенно не затрагивает Малена. — Просто мне пришло в голову, что было бы разумно экономить продовольствие.
— Продовольствия и воды нам хватит на месяц. Я проверил это в первую очередь.
— Понятно. В таком случае я доем содержимое этой банки.
Что он и сделал, аккуратно воспользовавшись вилкой и время от времени прикладывая платок к абсолютно чистым губам.
Часа через два Полиоркет сумел подняться на ноги. Его немного качало. Не приближаясь к Стюарту, он обратился к нему с того места, где стоял:
— Ты, вонючий шпион зеленых ублюдков, последи-ка за собой!
— Ты слышал, что я говорил, Полиоркет?
— Слышал. А еще я прекрасно слышал, что ты плел про Аристида. Я не стану тратить на тебя силы, потому что ты всего лишь болтливый мешок, надутый вонючим воздухом. Только рано или поздно ты слишком разойдешься и лопнешь — тебе придет конец.
— Буду ждать с нетерпением, — сказал Стюарт.
Тяжело опираясь на свою палку, к ним подковылял Уиндем.
— Ну-ну, — произнес полковник с наигранной веселостью, которой безуспешно пытался прикрыть беспокойство, отчего оно было заметно еще больше. — Не следует забывать, что мы все земляне, черт побери, и пусть вас это поддерживает и вдохновляет. Мы не должны унижаться перед проклятыми клоро. Поставим крест на всех наших разногласиях и будем помнить только, что мы являемся гражданами Земли, которым следует объединиться против инопланетных подонков.
Стюарт непристойно выругался.
Портер стоял сразу за Уиндемом. Они вот уже целый час о чем-то шептались с бритоголовым отставным воякой, и сейчас Портер с возмущением произнес:
— Вы можете, конечно, умничать, Стюарт, только вряд ли это поможет. Выслушайте полковника. Мы тут с ним обсуждали сложившуюся ситуацию.
Портер смыл грязь с лица, намочил волосы и зачесал их назад. Это, однако, не избавило его от небольшого подергивания правого уголка рта и не сделало руки с заусеницами более привлекательными.
— Ладно, полковник, — сказал Стюарт. — Что вы там надумали?
— Я бы хотел, чтобы собрались все, — сказал Уиндем.
— Ну хорошо, зовите их.
Очень быстро подошел Лебланк, за ним, не торопясь, последовал Мален.
— А этот нужен? — спросил Стюарт, махнув рукой в сторону Полиоркета.
— Конечно. Мистер Полиоркет, не могли бы вы присоединиться к нам?
— Отвяжитесь.
— Ладно, — бросил Стюарт, — оставьте его в покое. Лично мне он не нужен.
— Нет, нет, — сказал Уиндем, — это дело касается всех землян. Мистер Полиоркет, вы должны к нам присоединиться.
Полиоркет перекатился на край койки.
— Мне и отсюда все прекрасно слышно.
— Как вы думаете, они — я имею в виду клоро — прослушивают нашу каюту? — спросил Уиндем у Стюарта.
— Нет, с какой стати?
— Вы уверены?
— Естественно, уверен. Они же не знали, что произошло, когда Полиоркет на меня набросился. Просто услышали шум.
— А может, они специально постарались сделать вид, что наша каюта не прослушивается.
— Знаете, полковник, я ни разу в жизни не слышал, чтобы клоро сознательно кого-нибудь обманули…
— Эта вонючка просто обожает клоро, — перебил его Полиоркет.
— Давайте не будем начинать все сначала, — поспешно проговорил Уиндем. — Вот что я хочу вам сказать, Стюарт: мы тут с Портером обсуждали наши проблемы и пришли к выводу, что вы достаточно хорошо знаете клоро и можете придумать способ повернуть наш корабль в сторону Земли.
— Вы ошибаетесь. Я ничего не могу придумать.
— Может быть, существует какая-нибудь возможность отбить корабль у этих зеленых уродов, — предположил Уиндем. — Ну, скажем, у них есть какое-нибудь слабое место. Черт побери, вы же должны понимать, о чем я говорю.
— Скажите мне, полковник, что вас так беспокоит? Ваша собственная шкура или интересы Земли?
— Меня возмущает ваш вопрос! Я хочу, чтобы вы знали: несмотря на то что я, как и любой другой человек, забочусь о собственной безопасности, в первую очередь я думаю о Земле. И считаю, что все остальные со мной согласны.
— Совершенно верно, — мгновенно подтвердил Портер. Лебланк казался обеспокоенным, весь вид Полиоркета выражал презрение. На лице Малена не отразилось ничего.
— Отлично, — кивнул Стюарт. — Конечно, я совершенно точно знаю, что мы не сможем отобрать у них корабль. Они вооружены, а мы нет. Но вот что я вам скажу: вам наверняка известно, почему клоро постарались захватить корабль, не повредив его. Дело в том, что им необходимы корабли. Они лучше нас, землян, разбираются в химии, зато мы добились гораздо больших успехов в астроинженерии. Наши корабли больше, мощнее, и у нас их много. По правде говоря, если бы команда нашего судна с уважением относилась к военным аксиомам, они должны были бы взорвать корабль, как только возникла опасность захвата.
— И погубить пассажиров? — Лебланк пришел в ужас.
— А почему бы и нет? Вы же слышали нашего симпатягу полковника. Каждый из нас ставит интересы Земли выше собственной вонючей ничтожной жизни. Какой толк Земле от того, что мы остались в живых? Никакого. Принесет ли вред этот корабль, попав в руки клоро? Уж можете не сомневаться!
— В таком случае почему, — спросил Мален, — наши отказались взорвать корабль? Наверняка у них была причина.
— Естественно, была. У наших военных существует жесткий закон: ни в коем случае нельзя допускать, чтобы соотношение жертв, понесенных землянами и их врагами, было не в пользу Земли. Если бы они взорвали корабль, погибли бы двадцать военных и семь гражданских лиц, в то время как враг вообще не понес бы никаких потерь. Следовательно, произошло скорее всего вот что: мы пустили их на борт корабля, убили двадцать восемь клоро — не сомневаюсь, что не меньше — а после этого позволили им захватить корабль.
— Болтовня, болтовня, болтовня, — оскалился Полиоркет.
— Во всем этом есть еще и мораль, — продолжал Стюарт. — Нам не отобрать корабль у клоро. Но мы могли бы напасть на них и отвлекать ровно столько времени, сколько понадобится кому-нибудь из нас, чтобы испортить двигатель.
— Что? — крикнул Портер, и Уиндем испуганно махнул ему рукой, чтобы тот вел себя потише.
— Испортить двигатель, — повторил Стюарт. — То есть уничтожить корабль. Мы же все этого хотим, не так ли?
— Не думаю, что что-нибудь получится, — побелевшими губами прошептал Лебланк.
— Ну, тут нельзя быть ни в чем уверенным, пока не попробуешь. А разве мы что-нибудь теряем, предпринимая такую попытку?
— Наши жизни, черт вас подери! — взревел Портер. — Ты, безумный маньяк, ты спятил!
— Если я маньяк, — сказал Стюарт, — и безумен, следовательно, я спятил. Только, по-моему, вы забыли одну истину: в случае нашей смерти — а вероятность такого исхода крайне велика — не пропадет ничего, что представляло бы для Земли ценность; а вот если уничтожим корабль, Земля от этого лишь выиграет. Разве настоящий патриот будет колебаться, какой ему должно сделать выбор? Кто из здесь присутствующих готов поставить собственные интересы выше интересов своей планеты? — Он замолчал и оглядел всех по очереди. — Не сомневаюсь, что про вас этого сказать ни в коем случае нельзя, полковник Уиндем?
Уиндем закашлялся.
— Дорогой мой, дело вовсе не в этом. Наверняка существует возможность сохранить корабль для Земли, не рискуя при этом нашими жизнями, как вы полагаете?
— Отлично. Может быть, вы скажете нам всем, что нужно делать?
— Давайте подумаем. На борту корабля находится всего два клоро. Если бы кто-нибудь из нас смог к ним подобраться и…
— Каким образом? Весь корабль заполнен хлором. Придется надеть скафандр. Сила тяжести в отсеках врага увеличена до привычных им величин, так что тот придурок, что согласится отправиться к клоро, будет ползти, словно металлическая муха, тяжелая и неповоротливая. Да, конечно, можно попытаться подобраться к ним незаметно — это все равно что посоветовать скунсу двигаться по ветру.
— Ну, в таком случае нужно отказаться от этой затеи, — голос Портера дрожал. — Послушайте, Уиндем, и речи не может быть о том, чтобы уничтожить корабль. Лично я достаточно высоко ценю свою жизнь. Если кто-нибудь из вас попытается выкинуть какую-нибудь глупость, я позову клоро и все им расскажу.
— Великолепно, — сказал Стюарт, — вот наш герой номер один.
— Я хочу вернуться на Землю, однако… — проговорил Лебланк.
— Не думаю, что у нас есть серьезные шансы уничтожить корабль, если только… — перебил его Мален.
— Герои номер два и три. А как насчет тебя, Полиоркет? Вот реальная возможность прикончить парочку клоро.
— Я хочу удавить их собственными руками, — прорычал фермер, сжав могучие кулаки. — Подожди, попаду на их планету, тогда пришью целую дюжину.
— Самое время давать подобные обещания, — усмехнулся Стюарт. — А как насчет вас, полковник? Разве вы не хотите бок о бок со мной шагнуть в пасть смерти, покрыв себя славой?
— Стюарт, вы ведете себя цинично и некрасиво. Совершенно очевидно, что, если наши товарищи не согласны с вашим планом, у вас ничего не выйдет.
— Если только я один не управлюсь, не так ли?
— Вы этого не сделаете, слышите? — мгновенно вставил Портер.
— Конечно, не сделаю, — согласился с ним Стюарт. — Я не утверждал, что являюсь героем. Я всего лишь самый обычный патриот и готов отправиться на любую планету, где, меня примут и где я смогу пересидеть войну.
— По правде говоря, существует способ удивить клоро, — задумчиво проговорил Мален.
На его слова никто не обратил бы внимания, если бы не Полиоркет. Он грубо рассмеялся и, указав коротким указательным пальцем с грязными ногтями на Малена, фыркнул:
— Мистер бухгалтер!.. Ну давайте, выкладывайте, мистер бухгалтер. И вам захотелось произнести речь? Вам тоже вздумалось побренчать пустыми, бессмысленными словами? — Он повернулся к Стюарту и зло проговорил: — Пустая брехня! А ты, трепло безрукое, вообще ни на что не способен, кроме болтовни.
Мален подождал, пока Полиоркет замолчит, и только тогда заговорил снова, обращаясь к Стюарту:
— Возможно, нам удастся подобраться к клоро снаружи. В этой каюте наверняка есть С-шлюз.
— А что это такое? — спросил Лебланк.
— Ну… — начал Мален, а потом замолчал, не зная, что сказать.
— Это такое сокращение, приятель, — насмешливо проговорил Стюарт: — Полностью он называется «санитарный шлюз». О С-шлюзах не принято говорить, но они есть на всех кораблях, во всех больших каютах. Это всего лишь воздушные шлюзы, через которые наружу выбрасываются трупы. Похороны в космосе. Благородная печаль, опущенные головы, капитан произносит речь, которая берет всех за душу — на Полиоркета она не произвела бы никакого впечатления, только ужасно разозлила бы.
— Воспользоваться этим, чтобы покинуть корабль? — Лебланк поморщился.
— А почему бы и нет? Вы что, суеверны? Я вас слушаю, Мален.
Маленький человечек терпеливо ждал своей очереди.
— Оказавшись снаружи, — продолжил он, — можно войти в корабль по одной из паровых труб — если, конечно, повезет. И тогда в рубку управления явится нежданный гость.
— Как это вы придумали такую штуку? — удивленно посмотрел на него Стюарт. — Что вы можете знать о паровых трубах?
Мален кашлянул:
— Вы имеете в виду мою бумажную профессию? Ну… — Он слегка покраснел, помолчал немного, а потом заговорил бесцветным, лишенным каких бы то ни было эмоций голосом: — Наша компания, которая выпускает нарядные коробочки для подарков и всякие безделушки, несколько лет назад стала производить коробочки для конфет в виде космических кораблей. Она была устроена таким образом, что стоило потянуть за веревочку, как в небольших резервуарах с воздухом возникали отверстия, из которых вырывался сжатый воздух — и космический корабль, разбрасывая конфеты, начинал летать по комнате. Специалисты по торговле утверждали, что дети с удовольствием будут, с одной стороны, играть с кораблем, а с другой — собирать конфеты.
На самом деле этот проект потерпел полнейший крах. Корабли били посуду, а пару раз даже нанесли детям травмы. Кроме того, дети не то чтобы с удовольствием собирали конфеты — они устраивали из-за сладостей настоящие баталии. В общем, идея оказалась, мягко говоря, неудачной. Мы потеряли кучу денег.
Однако, пока эти космические корабли разрабатывались, всем было страшно интересно. Эта новая игра отвратительно сказывалась на качестве работы и моральном духе нашей конторы. На некоторое время мы все превратились в специалистов по паровым трубам. Я прочитал множество книг о строительстве космических кораблей. В свободное от работы время, естественно.
— Знаете, идея-то киношная, прямо как в боевиках, — проговорил Стюарт. Он был явно заинтересован. — Но, может быть, из нее что-нибудь и получится, если у нас, конечно, найдется лишний герой. Есть такой?
— А как насчет вас? — спросил Портер, в голосе которого звучало высокомерие. — Вы тут насмехаетесь над нами, отпускаете дешевые шуточки. Что-то я не заметил, чтобы вы рвались в бой.
— А я не герой, Портер, и не скрываю этого. Моя главная цель остаться в живых. Но вы все — благородные патриоты. Полковник ведь так сказал, кажется? Как насчет вас, полковник? Вы же тут у нас заводила.
— Если бы я был моложе, — сказал Уиндем, — и если бы у вас, черт побери, были здоровые руки, я бы с удовольствием набил вам морду, сэр.
— Вот уж в этом я ни секунды не сомневаюсь. Только вы не ответили на мой вопрос.
— Вам прекрасно известно, что в мои годы и с такой ногой… — он хлопнул рукой по коленке, — я не в состоянии проделывать подобные вещи, как бы сильно мне этого ни хотелось.
— Ну да, — сказал Стюарт, — а я безрукий, как охарактеризовал меня Полиоркет. Значит, мы с вами не считаемся. А остальные? Что помешает им совершить этот героический акт?
— Послушайте, — воскликнул Портер, — я хочу, чтобы вы объяснили мне, что вы тут обсуждаете! Как может человек пройти по паровой трубе? А что, если клоро воспользуются трубой в тот момент, когда кто-нибудь из нас будет находиться внутри?
— Ну, Портер, в этом как раз и заключается прелесть риска. Самое интересное.
— Он же заживо сварится, как рак!
— Очень симпатичное сравнение, но, к сожалению, совершенно неверное. Пар будет идти по трубе совсем недолго, может быть, несколько секунд, скафандр выдержит. Однако пар вырывается со скоростью в несколько сотен миль в минуту, так что вас выбросит наружу еще прежде, чем вы успеете вспотеть. Если быть до конца честным, вы окажетесь в открытом космосе достаточно далеко от корабля, так что сможете больше не опасаться клоро. Надеюсь, вы понимаете, что в такой ситуации вернуться на корабль вам вряд ли удастся.
Портер весь взмок.
— И не надейтесь напугать меня, Стюарт.
— Я вас не напугал? Значит, вы готовы отправиться на задание? А вы хорошо себе представляете, что значит оказаться в открытом космосе? Там не будет никого, совсем никого. Сначала вас станет на довольно большой скорости бросать из стороны в сторону, но вы этого не заметите. Вам покажется, что вы замерли на месте. Только звезды мечутся вокруг, превращаясь в светящиеся пятна и полосы. Они не остановятся. Они даже не замедлят движения. А потом откажет обогревательная система скафандра, затем кончится кислород — вы будете умирать очень, очень медленно. У вас будет масса времени на раздумья. Ну а если захочется покончить со всем этим поскорее, можно расстегнуть скафандр. Только удовольствия вы все равно не получите. Я видел лица тех, у кого скафандры порвались в результате несчастного случая ужасающее зрелище. С другой стороны, разумеется, быстро. А потом…
Портер отвернулся и нетвердыми шагами отошел от Стюарта. Тот спокойно, почти весело продолжал:
— Еще одна неудача. Ну, кто готов заплатить самую высокую цену за то, чтобы стать героем?
— Давай, давай, болтай, мистер Трепло, — сказал Полиоркет, и его резкий голос сделал слова еще злее. — Давай, пустозвон, чего замолк? Очень скоро я выбью тебе все зубы, подожди чуть-чуть. Я думаю, кое-кто с удовольствием ко мне присоединится, а, мистер Портер?
Портер посмотрел на Стюарта, словно соглашаясь с Полиоркетом, но промолчал.
— А ты, Полиоркет? Ты же у нас парень что надо, крутой мужик. Помочь тебе надеть скафандр?
— Я скажу, когда мне понадобится твоя помощь.
— Лебланк?
Молодой человек отшатнулся от него.
— Вы же хотите вернуться к Маргарет.
Лебланк только покачал головой.
— А как насчет вас, Мален?
— Ну, я попробую.
— Что?
— Я сказал «да», я попробую. Ведь это же я все придумал.
— Вы что, серьезно? — Стюарт был потрясен. — Почему?
Мален поджал губы:
— Потому что никто другой не хочет.
— Но это же не уважительная причина. Особенно для вас.
Мален пожал плечами.
За спиной Стюарта застучала по полу алюминиевая палка Уиндема.
— Вы действительно намерены туда отправиться?
— Да, полковник.
— В таком случае, проклятье, я хочу пожать вашу руку. Вы… вы настоящий представитель Земли, клянусь небесами. Сделайте это, одержите победу или умрите, я буду свидетелем вашего подвига.
Мален смущенно вытащил руку из трепещущей от энтузиазма ладони полковника Уиндема.
А Стюарт просто стоял и смотрел. Он попал в весьма затруднительную ситуацию. По правде говоря, он оказался в самом необычном из всех положений на свете. Такого с ним еще никогда не случалось.
Он не знал, что сказать.
Атмосфера, в которой пребывали пленники, изменилась. Вместо отчаяния и мрачной тоски всех охватило взволнованное единение заговорщиков. Даже Полиоркет принялся рассматривать скафандры и высказался — коротко, хриплым голосом — какой считает самым подходящим.
У Малена возникли проблемы — скафандр висел на нем мешком, даже несмотря на то что все застежки были затянуты на максимум.
Стюарт неловко держал тяжелый шлем, искусственные руки были не в состоянии надежно за него ухватиться.
— Если у вас чешется нос, лучше почесать его сейчас, посоветовал он. — Боюсь, следующая возможность представится не скоро. — Он не сказал: «Возможно, никогда».
— Думаю, следует взять запасной баллон с кислородом, — бесцветным голосом проговорил Мален.
— Хорошая идея.
— С ограничивающим подачу кислорода вентилем.
Стюарт кивнул:
— Да, да, понятно. Если вас отбросит от корабля, вы попробуете воспользоваться запасным баллоном в качестве реактивного двигателя, при помощи которого можно будет попытаться вернуться к кораблю.
Они надели шлем Малену на голову и прикрепили ему на пояс запасной баллон. Полиоркет и Лебланк подняли бухгалтера над отверстием С-шлюза. Внутри царил пугающий мрак, поскольку металлическая обшивка была выкрашена в черный похоронный цвет. Стюарту показалось, что он уловил какой-то специфический запах — всего лишь шутки чересчур разгулявшегося воображения.
Когда Мален уже почти был в трубе, Стюарт неожиданно постучал рукой по шлему:
— Вы меня слышите?
Мален кивнул.
— Воздух поступает нормально? Никаких проблем?
Мален жестом успокоил его.
— В таком случае не забудьте: вы не должны пользоваться радиоприемником, вмонтированным в скафандр. Клоро могут уловить сигнал.
Стюарт неохотно отошел в сторону.
Сильные руки Полиоркета опустили Малена, и наконец они услышали, как металлические подошвы коснулись внутренней стенки шлюза. Внешняя крышка захлопнулась, силоксановая прокладка с тихим шуршанием встала на место, надежно запечатав С-шлюз.
Стюарт стоял возле рубильника, контролирующего выход из шлюза. Потянул рубильник на себя, и стрелка прибора, определяющего давление внутри трубы, метнулась к нулю. Крошечная красная точка показывала, что шлюз открыт. Потом точка погасла, а стрелка медленно добралась до отметки пятнадцать фунтов.
Они снова открыли крышку, труба была пуста.
Первым заговорил Полиоркет.
— Вот так коротышка! — Фермер с изумлением огляделся по сторонам. — Такой невзрачный, а с характером!
— Послушайте, давайте-ка подготовимся, — перебил его Стюарт. Существует вероятность, что клоро заметили, как мы открывали и закрывали шлюз. Если это так, они обязательно захотят проверить, что тут происходит, нужно будет прикрыть Малена.
— Каким образом? — спросил Уиндем.
— Они заметят, что Малена нигде нет. Мы скажем, что он вышел ненадолго. Клоро знают, что земляне обладают весьма странным качеством — обожают в полнейшем одиночестве проводить время в туалете. Так что не станут проверять. Если нам удастся их в этом убедить…
— А если они захотят подождать, пока Мален вернется, или пересчитают скафандры? — спросил Портер.
— Будем надеяться, что они не станут этого делать, — пожав плечами, ответил Стюарт. — И вот еще что, Полиоркет, постарайся вести себя тихо, когда они появятся.
— Когда этот парень там? — фыркнул Полиоркет. — Ты думаешь, я кто? — Он без всякой злобы посмотрел на Стюарта и почесал затылок. Знаешь, я ведь потешался над ним. Считал, что он… ну, вроде старой бабы. Стыдно как-то.
Стюарт откашлялся и сказал:
— Знаете, я тут говорил всякое разное, теперь мне кажется, что забавного в моих речах было маловато. Я хочу извиниться.
Он отвернулся и с мрачным видом отошел к своей койке. Услышал, что за ним кто-то идет; его дернули за рукав. Оказалось, что это Лебланк.
— Я постоянно думаю о том, что мистер Мален пожилой человек, сказал Лебланк.
— Ну уж это точно. Кажется, ему лет сорок пять или все пятьдесят.
— Как вы полагаете, мистер Стюарт, может быть, мне следовало пойти вместо него? — спросил Лебланк. — Я ведь здесь самый молодой. Мне совсем не нравится мысль о том, что я позволил пожилому человеку… отправиться туда и не пошел сам. Я чувствую себя ужасно.
— Понимаю. Если он погибнет, это будет настоящей трагедией.
— Но ведь он сам вызвался. Мы же его не заставляли, правда?
— Не пытайтесь снять с себя ответственность, Лебланк. Вам от этого легче не станет. Потому что у него-то как раз было меньше всего причин, чтобы рисковать жизнью, меньше, чем у всех остальных.
Стюарт сидел и молча думал.
Ноги Малена потеряли опору, и он начал соскальзывать вниз, все быстрее и быстрее. Он знал, что воздух выталкивает его наружу, тащит за собой, поэтому изо всех сил уперся руками и ногами в стену, чтобы немного замедлить движение. Предполагается, что трупы выбрасывают в открытый космос, подальше от корабля, но он-то не был трупом — пока еще.
Ноги его свободно болтались. Затем раздался щелчок — ботинок с магнитом на подошве прилепился к корпусу корабля, в то время как все остальное тело напоминало пробку, которая вылетела из бутылки с шампанским. Мален на мгновение застыл на краю открытого шлюза неожиданно произошла смена ориентации, теперь он почему-то смотрел на корабль сверху вниз — потом сделал шаг назад, и в этот момент крышка шлюза аккуратно и совершенно самостоятельно вернулась на свое место.
Малена охватило ощущение нереальности всего происходящего. Неужели это он стоит на внешней обшивке корабля? Нет, конечно же, не Рэндольф Ф. Мален. Совсем немногие могут похвастаться тем, что им довелось выходить в открытый космос. Даже те, кто почти всю свою жизнь провел на космических кораблях.
Вдруг он понял, что испытывает боль. Выскочив из шлюза так, что одна нога оказалась прочно прикрепленной к корпусу, Мален словно сложился пополам. Он попытался пошевелиться, очень осторожно, и обнаружил, что его движения стали какими-то беспорядочными и что он практически не в состоянии их контролировать. Вроде бы ничего себе не сломал, хотя все мышцы с левой стороны отчаянно болели.
Тут Мален окончательно пришел в себя и заметил, что небольшие фонарики, встроенные в комбинезон возле запястий, зажжены. Именно благодаря их свету удалось разглядеть внутренности С-шлюза. Он с опаской подумал, что клоро на борту корабля могут заметить два крошечных световых пятна, двигающихся вдоль корпуса. И нажал на кнопку у себя на поясе.
Мален и представить себе не мог, что, стоя на корабле, не сможет разглядеть его корпус. Но вокруг царил полнейший мрак. Были, конечно, звезды — яркие крошечные точки, лишенные измерения. И больше ничего. Нигде. Внизу же не было даже звезд — не удавалось разглядеть собственные ноги.
Мален отклонился назад, чтобы посмотреть на звезды, и у него тут же закружилась голова. Звезды медленно плыли. Точнее, звезды стояли на месте, а вращался корабль, но Мален никак не мог заставить себя в это поверить. Они плыли. Он проследил глазами — вниз, за корабль. На другой стороне появились другие звезды. Черный, пустой горизонт. О существовании корабля можно было догадываться лишь по темному пятну, где царила абсолютная тьма.
Хотя… Да вот же одна звезда, почти у него под ногами! Он, наверное, мог бы до нее дотянуться; и тут Мален понял, что это отражение на сверкающей, словно зеркало, металлической поверхности.
Они неслись вперед со скоростью несколько тысяч миль в час звезды, корабль, он сам. Впрочем, разве это имеет какое-нибудь значение? Для него существовали только тишина, мрак и медленное вращение ярких точек. Он не мог отвести от них взгляда…
Неожиданно Мален ударился головой, упрятанной в шлем, о корпус корабля — раздался тихий звон маленьких колокольчиков.
Его охватила паника, и он принялся водить вокруг себя онемевшими руками в грубых силиконовых перчатках. Снабженные мощными магнитами ботинки по-прежнему надежно удерживали его на корпусе, зато все остальное тело откинулось назад так, что колени согнулись почти под прямым углом. Вне корабля не существовало никакой силы тяжести. Если отклониться назад, никакая сила не станет тянуть верхнюю часть тела вниз и не подскажет суставам, что они принимают неестественное положение.
Он отчаянно прижался к корпусу, и тогда его торс метнулся вверх, но не прекратил своего движения, заняв вертикальное положение — теперь Мален упал вперед.
Он попытался повторить свое упражнение, только очень медленно, развел руки в стороны, чтобы сохранить равновесие, прижал их к корпусу корабля и вскоре сумел сесть на корточки. Осторожно начал выпрямляться. Медленно. Еще чуть-чуть. И еще. Руки помогают удержаться в вертикальном положении…
И вот он уже стоит, его немного подташнивает, и кружится голова.
Мален огляделся по сторонам. О Господи, а где же паровые трубы? Не видно. Черное на черном, пустота на пустоте. На одно короткое мгновение пришлось включить фонарики на запястьях. В космосе не возникло никаких лучей, только эллиптические, резко очерченные пятна голубой стали подмигивали ему, отражая свет. Там, где лучи попадали на клепку, появлялась тень — черная, как сам космос, похожая на острый нож. А световые пятна были четкими, ясными и не рассеивались.
Мален пошевелил руками; его тело тут же чуть качнулось в противоположную сторону — действие и противодействие. И тут он увидел паровую трубу, ее гладкие, цилиндрические бока.
Он было двинулся к ней, но магниты прочно держали ноги. Тогда он напряг правую, потянул, с трудом приподнял, не забывая ни на минуту, что должен контролировать еще и положение тела. Нога висела всего в трех дюймах над корпусом, действие магнитов почти прекратилось; шесть дюймов — и Малену показалось, что нога, вдруг став самостоятельной, вот-вот улетит в непроглядный мрак.
Он снова начал медленно ее опускать, почувствовал действие магнита. Когда подошва находилась в двух дюймах от поверхности, он потерял над ней контроль, и нога снова намертво приклеилась к корпусу; раздался резкий гудящий звук. Его скафандр еще больше усиливал вибрацию, отчего в ушах Малена зазвенело.
Он остановился, охваченный ужасом. Дегидраторы, которые контролировали атмосферу внутри скафандра, не справились со своей задачей — лоб и подмышки Малена покрылись потом.
Он подождал несколько секунд, а потом снова поднял ногу — всего на один дюйм, усилием воли постарался удержать ее в этом положении, затем передвинул горизонтально вперед. Это оказалось совсем легко движение шло перпендикулярно линиям распространения магнитного поля только приходилось постоянно следить за тем, чтобы нога не падала на обшивку корабля резко: требовалось делать все очень медленно, осторожно.
Мален тяжело дышал, каждый шаг давался с трудом, причинял отчаянные страдания. Коленные сухожилия скрипели, бок пронзала нестерпимая боль.
Мален остановился, подождал, чтобы высох пот. Если изнутри запотеет шлем скафандра, он окажется совершенно беспомощным. Затем снова включил фонарики и увидел впереди паровую трубу.
На корабле их было четыре, располагались они по кольцу под углом девяносто градусов друг к другу и служили для «точной регулировки» курса корабля. Грубая регулировка производилась мощными двигателями, находящимися спереди и сзади, которые позволяли набирать необходимую скорость и обеспечивали торможение, а для совершения гиперпространственных скачков имелись гиператомные устройства. Однако время от времени возникала необходимость уточнения направления полета, и тогда за дело принимались паровые трубы. Они могли изменить движение корабля — отправить его вверх, вниз, направо или налево. Используя их попарно, при определенном соотношении мощности каждого двигателя можно было направить корабль в любую сторону.
Это приспособление не удавалось улучшить вот уже несколько веков, поскольку оно было невероятно простым. Атомный котел нагревал воду, содержащуюся в закрытом резервуаре, она превращалась в пар, менее чем за секунду пар достигал таких температур, что разлагался на кислород и водород, а затем на электроны и ионы. Устройство функционировало превосходно, поэтому никого не интересовало, какие именно процессы там идут.
В определенный момент срабатывал клапан, пар начинал вырываться наружу, возникал короткий, невероятно сильный импульс. А корабль, словно по волшебству, поворачивался в противоположном направлении относительно собственного центра тяжести. Как только корабль занимал нужное положение, его фиксировал другой, такой же мощный, импульс, направленный в противоположную сторону, который компенсировал вращательный момент. Корабль продолжал движение на той же скорости, только в противоположном направлении.
Мален подобрался к краю паровой трубы, И неожиданно посмотрел на себя со стороны — крошечная пылинка, балансирующая на яйце, несущемся сквозь космос со скоростью десять тысяч миль в час.
Впрочем, потоков воздуха, которые могли бы сорвать и унести его с поверхности этого яйца, не было, а магнитные подошвы держали даже слишком надежно.
Снова включив фонарик, Мален наклонился, чтобы заглянуть в трубу, и корабль резко ушел вниз — человек снова потерял ориентацию. Он всплеснул руками, машинально пытаясь удержаться, и тут понял, что вовсе не падает. В космосе вообще нет ни верха, ни низа, а есть только то, что растерявшийся разум определяет как верх и низ.
Труба была достаточных размеров, чтобы туда мог забраться человек, ведь иногда возникает необходимость проведения ремонтных работ. В свете своих фонариков Мален заметил ступеньки внутри, совсем рядом с тем местом, где он находился. Он с облегчением вздохнул, хотя теперь и само дыхание давалось ему с трудом. В некоторых кораблях лестниц не было.
Мален подобрался поближе, чувствуя, как корабль раскачивается, пытаясь выскользнуть из-под него. Снова иллюзия. Затем он нащупал ступеньку рукой, оторвал ноги от обшивки и забрался внутрь трубы.
Отвратительный комок в желудке, появившийся там с самого начала, теперь причинял невыносимые мучения. Если сейчас клоро вздумают изменить направление движения корабля, если пар начнет вырываться наружу…
Он этого все равно не услышит и ничего не узнает. Вот он держится рукой за ступеньку, пытаясь осторожно, ощупью отыскать следующую… а через мгновение окажется в открытом космосе, один, не сводя глаз с черной точки, пустоты среди звезд, которая только что была кораблем. Возможно, на короткие секунды его окружит рой пляшущих ледяных кристаллов, переливающихся радужным сиянием в свете его наручных фонариков; они медленно приблизятся к нему и исполнят свой изысканный танец, привлеченные массой тела, словно крошечные планеты к такому же крошечному Солнцу.
Мален почувствовал, как весь снова покрылся испариной, а еще он понял, что ужасно хочет пить. Заставил себя не думать об этом. Придется подождать до того момента, когда можно будет снять скафандр если до этого вообще когда-нибудь дойдет дело.
Ступенька… следующая… еще одна. Сколько их здесь? Рука соскользнула, и Мален с изумлением посмотрел на сверкающую в свете фонарика перчатку.
Лед?
А почему бы ему не быть? Перегретый пар, хотя и обладает невероятно высокой температурой, входит в соприкосновение с металлом при практически абсолютном нуле. Импульс занимает всего долю секунды, за это время металл не успевает нагреться выше температуры замерзания воды. Образуется слой льда, который постепенно испаряется в вакуум. Только скорость, с которой происходит процесс, предотвращает плавление труб и резервуара с водой.
Наконец рука Малена коснулась последней ступеньки. Он снова включил фонарики. И с нарастающим ужасом посмотрел на отверстие диаметром всего в полдюйма, из которого вырывается пар. Сейчас оно казалось совершенно безобидным, мертвым. Впрочем, достаточно микросекунды, чтобы все изменилось…
Отверстие закрывал внешний клапан, который крепился на центральной втулке, на пружинах, подсоединенных к корпусу корабля. Под могучим натиском пара пружины разжимались перед тем, как преодолевалась огромная инерция всего корабли. Пар проникал во внутреннюю камеру, и, хотя общее количество энергии не менялось, она прикладывалась в течение некоторого времени, так что существенно уменьшалась опасность того, что корпус будет пробит.
Мален крепко уперся ногами в ступеньку и нажал на внешний клапан, так что тот слегка подался. Пружина была очень жесткой, но Малену требовалось лишь немного отжать ее для того, чтобы просунуть отвертку.
Он еще раз напрягся, надавил сильнее, чувствуя, как тело начинает вращаться в противоположном направлении. Уперся изо всех сил и аккуратно переключил контрольное реле, освобождающее пружину. Как здорово, что он запомнил все инструкции из книг!
Наконец Мален оказался в переходном шлюзе, довольно просторном опять же для удобства проведения ремонтных работ. Теперь его не выбросит в открытый космос. Если паровая установка и заработает, Малена только прижмет к внутренней стене — достаточно сильно, чтобы превратить в бесформенную массу. Он умрет быстро и, по крайней мере, совсем ничего не почувствует.
Очень медленно Мален отцепил запасной баллон с кислородом. Теперь между ним и рубкой управления был только внутренний люк. Он открывался наружу, в космос, а во время движения пара закрывался еще плотнее, никакой опасности. И никакой возможности открыть снаружи.
Мален приподнялся, прижав согнутую спину к стенке. Дышать стало тяжелее. Запасной кислородный баллон висел под странным углом. Мален взял в руки металлический шланг и принялся колотить по крышке люка. Вибрация стала распространяться по корпусу корабля. Снова и снова…
Это должно привлечь внимание клоро. Им придется выяснить, что здесь происходит.
У него, конечно же, нет никакой возможности узнать, когда они соберутся это сделать. Обычно полагается заполнить воздухом переходный шлюз, чтобы надежно закрыть внешний люк. Но в данный момент внешний люк был распахнут, так что разность давлений будет недостаточной, чтобы заставить его захлопнуться. Воздух просто выйдет наружу.
Мален продолжал стучать. Посмотрят ли клоро на манометр, заметят ли, что стрелка стоит практически на нуле, или посчитают, что так и должно быть?
— Он ушел полтора часа назад, — сказал Портер.
— Знаю, — отозвался Стюарт.
Они нервничали, не находили себе места, но напряженность в отношениях исчезла. Словно все чувства сейчас были сосредоточены на том, что происходило снаружи, на корпусе корабля.
Портеру было ужасно не по себе. Его жизненная философия не отличалась особой сложностью: позаботься о себе сам, поскольку никто другой за тебя этого не сделает. Теперь он уже не был так уверен в справедливости своего постулата, и это его раздражало.
— Думаете, они его поймали? — спросил он.
— Ну, если бы это произошло, мы бы узнали, — ответил Стюарт.
Портер понял, что остальные не рвутся вступать с ним в беседу, и ему стало жаль себя. Он прекрасно понимал товарищей, потому что ничем не заслужил их уважения. В течение нескольких секунд Портер приводил самому себе доводы, оправдывавшие его поведение. Ведь и остальные тоже были напуганы. Человек имеет право бояться. Никто не хочет умереть. По крайней мере, он не сломался, как Аристид Полиоркет. И не плакал, как Лебланк. Он…
Но ведь Мален находится сейчас там, снаружи, в паровой трубе.
— Послушайте, почему он это сделал? — Остальные пленники повернулись к нему, не понимая, но Портеру было все равно. Его настолько беспокоил этот вопрос, что он больше не мог сдерживаться. Я хочу знать, почему Мален рискует жизнью?
— Этот человек, — ответил ему Уиндем, — настоящий патриот.
— Нет, ничего подобного! — Портер был близок к истерике. — У коротышки нет никаких чувств. Им двигают только уважительные причины, и я хочу знать какие, потому что…
Он не закончил предложения. Мог ли он сказать вслух, что, если эти причины достаточно серьезны для бухгалтера средних лет, они могут оказаться серьезными и для него?
— Он просто невероятно храбрый человек, хоть и ростом не вышел, сказал Полиоркет.
Портер вскочил на ноги.
— Подождите, — быстро проговорил он. — Мален может там застрять. Что бы он ни делал, возможно, ему не справиться одному. Я… я готов пойти за ним.
Его трясло, он со страхом ждал реакции острого на язык, язвительного Стюарта. Стюарт не сводил с него глаз — вероятно, был удивлен.
— Давайте дадим ему еще полчаса, — тихо ответил Стюарт.
Портер с изумлением огляделся по сторонам. На лице Стюарта не было ничего похожего на насмешку. Оно даже показалось Портеру дружелюбным. Вообще все смотрели на него дружелюбно.
— А потом…
— А потом желающие пойти вслед за Маленом будут бросать жребий. Есть еще добровольцы, кроме Портера?
Все подняли руки. И Стюарт тоже.
Но Портер был счастлив. Он вызвался первым. И с нетерпением ждал, когда пройдут эти полчаса.
Клоро застал Малена врасплох. Внешний люк распахнулся, и в нем появилась длинная, тощая, змеиная, практически безголовая шея клоро, который был не в силах бороться с потоком вырывающегося наружу воздуха.
Кислородный баллон Малена отлетел в сторону, почти оторвался. Прошло всего одно короткое мгновение паники, а потом он подтянул баллон к себе, против воздушного потока, подождал немного, пока первая ярость немного улеглась, и с силой обрушил на врага.
Мален попал прямо по тонкой жилистой шее, сломал ее. Сам он забрался повыше, так что воздушный поток не представлял для него никакой опасности, снова поднял баллон и на этот раз нанес удар по голове, превратив уставившиеся на него глаза в отвратительную, жидкую массу. Из того, что осталось от шеи, брызнула зеленая жидкость.
Малена затошнило, но он держался изо всех сил.
Отвернувшись, сделал несколько шагов назад и, схватившись одной рукой за рукоять запорного устройства, начал его вращать. Через несколько мгновений, когда резьба кончилась, автоматически сработала пружина, и крышка захлопнулась. Теперь включатся насосы, и вскоре рубка управления снова заполнится воздухом.
Мален переполз через изуродованного клоро в рубку. Она была пуста.
Он не успел этого до конца осознать, потому что тут же упал на колени. Подняться ему удалось с большим трудом. Переход из состояния невесомости в поле тяготения застал его врасплох. Кроме того, сила тяжести здесь была привычной для клоро, а это означало, что скафандр и обмундирование весили на пятьдесят килограммов больше, чем могло выдержать хрупкое человеческое тело. К счастью, тяжелые, с металлическими подошвами ботинки не приклеивались к полу — это давало маленькую надежду на спасение. Полы и стены внутри корабля были сделаны из сплава алюминия с пробковым покрытием.
Мален медленно обошел рубку. Клоро со сломанной шеей упал и теперь лежал на полу, лишь время от времени у него подергивались разные части тела — только так и можно было догадаться, что совсем недавно он был живым существом.
Мален с отвращением перешагнул через него и закрыл крышку паровой трубы.
В рубке царила какая-то неприятная, чужая атмосфера, горели желто-зеленые огни. Конечно же, клоро чувствовали себя здесь прекрасно.
Мален с удивлением и невольным восхищением подумал о том, что клоро, вероятно, знают способ уберечь материалы от окисления под влиянием хлора. Даже карта Земли на стене, напечатанная на блестящей глянцевитой бумаге, казалась совершенно новенькой и нетронутой. Он подошел поближе, стараясь разглядеть знакомые очертания континентов…
Краем глаза заметил движение. Тяжелый скафандр делал его неповоротливым, но он все равно постарался быстро развернуться насколько это было возможно. И дико завопил. Клоро, которого он считал мертвым, медленно поднимался на ноги.
Его безжизненная шея висела под странным углом, во все стороны торчали порванные, изуродованные ткани, но руки были вытянуты вперед, щупальца на груди извивались, точно змеиные жала.
Клоро, конечно же, был слеп. Сломав ему шею, Мален лишил его всех органов чувств, а частичная асфиксия на некоторое время вывела клоро из строя. Но мозг, расположенный в районе живота, остался в целости и сохранности. Клоро был жив.
Мален отшатнулся от него. Обошел, стараясь — неуклюже и не очень успешно — ступать на цыпочках, хотя и знал, что раненый клоро лишен способности слышать тоже. Инопланетянин, спотыкаясь, не разбирая пути, метался по рубке. Налетел на стену и начал сползать на пол.
Мален отчаянно оглядывался по сторонам в поисках оружия, но ничего не нашел. У клоро была кобура, но он не решался к ней потянуться. И почему он только не схватился за нее сразу? Идиот!
Дверь в рубку открылась почти бесшумно. Малан повернулся, его трясло.
Вошел второй клоро, живой, абсолютно целехонький. Он постоял в дверном проеме несколько мгновений, щупальца у него на груди замерли и напряглись, длинная, похожая на стебель шея вытянута вперед. Мерзкие, пугающие глаза сначала уставились на Малена, затем на полуживого товарища.
Потом он потянулся за оружием.
Мален, полностью не отдавая себе в этом отчета, сделал такое же быстрое и совершенно рефлекторное движение. Он вытянул трубку шланга запасного кислородного баллона, который снова закрепил у себя на поясе, когда вошел в рубку, и повернул кран. Даже не стал уменьшать давления. Струя кислорода вырвалась с такой силой, что Мален с трудом удержался на ногах.
Он видел струю кислорода — бледное облако на зеленом фоне. Враг, который пытался выстрелить, так и не успел вытащить своего оружия.
Клоро вскинул вверх руки. Широко раскрыл маленький клюв, но не произнес ни звука. Покачнулся и упал, несколько раз дернулся, а потом замер. Мален подошел к нему и провел струей кислорода вдоль тела, словно пытался погасить пожар. А потом поднял ногу в тяжелом ботинке и с силой ударил по шее, растоптав ее.
И снова повернулся к первому которо. Тот неподвижно лежал на полу.
Рубку заполнил кислород — его количества хватило бы, чтобы прикончить целую армию клоро, а баллон Малена опустел. Он перешагнул через мертвого врага, вышел из рубки и по главному коридору направился к каюте, где томились пленники.
Наступила реакция — Мален всхлипывал от ослепляющего, бессмысленного ужаса.
Стюарт устал, Неживые руки, да и все остальное — он снова вел корабль. К ним направлялись два земных легких крейсера. Почти двадцать четыре часа Стюарт провел в капитанской рубке, управляя кораблем практически в одиночку. Он выбросил все оборудование клоро, привел в порядок приборы, следящие за составом атмосферы, определил местоположение корабля, попытался рассчитать новый курс и послал в космос осторожные сигналы — и вскоре они получили ответ.
Так что когда дверь в рубку открылась и вошел Мален, Стюарт почувствовал раздражение. Он ужасно устал, ему было не до разговоров.
— Ради всех святых, отправляйтесь-ка обратно в постель! — сказал Стюарт.
— Мне надоело спать, — ответил Мален, — хотя совсем недавно казалось, что и жизни не хватит, чтобы отоспаться.
— Как вы себя чувствуете?
— Все тело болит. Особенно бок. — Он поморщился и огляделся по сторонам.
— Клоро здесь нет, — успокоил его Стюарт. — Мы выбросили их за борт. — Он покачал головой. — Мне было их страшно жаль. С их точки зрения, они являются человеческими существами, а мы — инопланетяне. Естественно, меня бы не устроило, если бы они убили вас; надеюсь, вы это понимаете.
— Понимаю.
Стюарт искоса посмотрел на маленького человечка, который изучал карту Земли.
— Я должен принести вам свои глубочайшие извинения, Мален. Потому что не воспринимал вас всерьез.
— Вы имели на это полное право, — ответил Мален сухим, бесцветным голосом.
— Нет, не имел. Никто не имеет права презирать другого человека. Это может быть хоть в какой-то степени оправдано только после длительного общения.
— Вы много об этом думали?
— Да, целый день. Наверное, я не смогу вам всего объяснить. Дело в моих руках, — он вытянул вперед руки. — Мне было трудно жить с мыслями о том, что у других людей они настоящие, свои. Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы принизить мотивы поведения окружающих, указать на ошибки, слабости, продемонстрировать миру их глупость. Я должен был постоянно доказывать себе, что они не достойны моей зависти.
Мален смущенно поерзал на месте:
— Не надо ничего объяснять.
— Нет, надо! Надо! — Стюарт подбирал слова, чтобы пояснее выразить свои мысли. — Уже много лет назад я оставил все надежды встретить благородного человека… А потом вы отправились в С-шлюз.
— Думаю, мне следует объяснить, что мной двигали исключительно практические и эгоистичные побуждения. Я не позволю вам выставлять меня в героическом свете, да еще в моих собственных глазах.
— А это и не входит в мои намерения. Мне известно, что вы не станете ничего делать без уважительной причины. Гораздо важнее то, как изменились все остальные в результате вашего поступка. Компания идиотов и фальшивок превратилась в компанию приличных людей. И никакое это не волшебство. На самом деле они всегда были приличными людьми. Просто у них перед глазами не было примера для подражания, а вы как раз и стали таким примером. И я — один из таких людей. Мне тоже нужно будет многое сделать, чтобы стать похожим на вас. Возможно, на это уйдет вся жизнь.
Мален отвернулся, ему было явно не по себе. Он попытался разгладить рукав своего пиджака, который был в идеальном порядке. А потом показал пальцем на карту:
— Знаете, я родился в Ричмонде, штат Вирджиния. Вот здесь. И решил отправиться туда в самую первую очередь. А вы где родились?
— В Торонто, — ответил Стюарт.
— А это вот здесь. По карте получается совсем рядом, правда?
— Вы ответите на мой вопрос? — спросил Стюарт
— Если смогу.
— Почему вы вызвались пойти в санитарный шлюз?
Мален сжал губы, а потом сухо проговорил:
— А не может так сложиться, что моя достаточно прозаическая причина разрушит тот эффект, который произвел на вас этот поступок?
— Ну, называйте мой вопрос интеллектуальным любопытством. В сущности, у каждого из нас были такие очевидные причины вызваться на подвиг. Портер до смерти боялся плена; Лебланк умирал от желания вернуться к своей любимой; Полиоркет мечтал прикончить клоро; а Уиндем, с его собственной точки зрения, был самым настоящим патриотом. Что касается меня… боюсь, я считал себя благородным идеалистом. И тем не менее ни у кого мотивация не была столь сильной, чтобы заставить надеть скафандр и отправиться в С-шлюз. Так по какой же причине на это решились вы, именно вы?
— А что значит «именно вы»?
— Не обижайтесь, мистер Мален, но вы кажетесь человеком, лишенным каких бы то ни было эмоций.
— Неужели? — Голос Малена не изменился. Он по-прежнему оставался тихим, однако в нем возникло какое-то напряжение. — Тут дело в тренировке, мистер Стюарт, и в самодисциплине, а вовсе не в моей природе. Маленький человек, человек моих размеров, не может иметь респектабельных эмоций. Разве не смешон я был бы, если бы впал в состояние слепой ярости? Мой рост — пять футов и полдюйма, вешу я сто два фунта, если вас, конечно, интересуют точные цифры. Я настаиваю на одной второй дюйма и двух фунтах.
Могу я выглядеть благородно? А как насчет гордости? Выпрямиться в полный рост и стать смешным? Где найти женщину, которая не оттолкнет меня, смеясь в лицо? Естественно, мне пришлось научиться не проявлять каких бы то ни было эмоций.
Вы говорите об уродстве… Никто и не обратил бы внимания на ваши руки, никто не заметил бы, что они чем-то отличаются от рук остальных людей, если бы вы сами не сообщали о них всем и каждому. Неужели вы считаете, что есть способ скрыть низкорослость? Именно это-то люди и замечают в первую очередь, стоит им только посмотреть в мою сторону.
Стюарту стало стыдно. Он вторгся в личные, самые сокровенные мысли человека — а этого не следовало делать.
— Простите меня… — проговорил он.
— За что?
— Зря я вынудил вас говорить об этом. Нужно было самому понять, что вы… что вы…
— Что? Пытался утвердиться таким образом? Хотел показать, что я, несмотря на свое убогое тело, обладаю сердцем отважного великана?
— Я не стал бы над этим смеяться.
— А почему? Это глупая идея, и я сделал то, что сделал, совсем по иной причине. Чего бы я добился, если бы мной двигали подобные побуждения? Как вы думаете, что произойдет на Земле? Меня поставят перед телевизионными камерами, опустив их пониже, конечно, чтобы можно было показать лицо крупным планом? Или заставят взгромоздиться на стул — а потом приколют на грудь медаль?
— Очень даже может быть.
— Ну и какая мне от этого польза? Все только станут причитать: «Ой-ой-ой, какой он маленький». А потом? Я что, должен буду говорить каждому встречному: «Знаешь, я тот самый парень, которого наградили за невероятное мужество и отвагу в прошлом месяце?» Мистер Стюарт, сколько нужно медалей, чтобы компенсировать недостающие восемь дюймов роста?
— Да, я понимаю, — задумчиво ответил Стюарт.
Мален заговорил быстрее; в его голосе появилось сдержанное волнение, так что теперь он немного дрожал.
— Были дни, когда я думал, что смогу доказать им, таинственным «им», которые и были всем остальным миром… Я собирался покинуть Землю и открыть новые миры. Я стал бы вторым Наполеоном. Я оставил Землю и направился к Арктуру. Ну и что я делал на Арктуре такого, чего не мог бы сделать на Земле? Ничего. Вел бухгалтерские книги. Так что, мистер Стюарт, я расстался с тщеславными мечтами и больше не встаю на цыпочки, чтобы казаться выше.
— В таком случае почему же именно вы решились выйти в шлюз?
— Я покинул Землю, когда мне было двадцать восемь лет. Все это время я провел в системе Арктура. Это мой первый отпуск, и впервые за долгие годы я возвращаюсь на Землю. Собирался провести там шесть месяцев. А вместо этого нас поймали клоро и бесконечно держали бы в плену. Но я не мог… Они помешают мне попасть на Землю! Я должен был изменить ситуацию, и риск здесь не имел никакого значения. Не любовь к женщине, не страх, не идеализм и даже не ненависть — ничего подобного. Мои чувства были гораздо сильнее всего этого.
Он замолчал и протянул руку, словно хотел приласкать карту на стене.
— Мистер Стюарт, — тихо спросил Мален, — разве вы никогда не скучали по дому?
Молодость
В окошко бросили горсть камней — и мальчишка завозился во сне.
Бросили еще раз — он проснулся.
Сел в кровати, весь напрягшись. Тянулись секунды, а он все осваивался со своим странным окружением. Конечно, это не его родной дом. Он за городом. Здесь холоднее, чем в его краях, за окошком видна зелень.
— Тощий!
Его окликнули хриплым, встревоженным шепотом, и мальчишка дернулся к окну.
На самом деле у него было совсем другое имя, но его новый друг, с которым он познакомился накануне, едва взглянул на худощавую фигурку, сказал: «Ты — Тощий». И добавил: «А я — Рыжий».
На самом деле его тоже звали совсем иначе, но это имечко явно шло к нему.
Тощий крикнул:
— Эй, Рыжий! — и радостно замахал ему, стряхивая с себя остатки сна.
Рыжий продолжал все тем же хриплым шепотом:
— Тихо, ты! Хочешь всех перебудить?
Тощий вдруг заметил, что солнце едва поднялось над низкими восточными холмами, что тени еще длинные и размытые, а на траве роса.
Он сказал уже тише:
— Чего тебе?
Рыжий махнул рукой — выходи на улицу.
Тощий быстро оделся и умылся — то есть быстренько брызнул на себя чуть тепловатой водичкой; она высохла, пока он бежал к выходу, а потом кожа опять стала влажной, на этот раз уже из-за росы.
Рыжий сказал:
— Давай потише. Если проснется ма, или па, или твой па, или еще кто, уж тут начнется: «Сейчас же марш домой, а то будешь бегать по росе — простудишься и умрешь».
Он так точно передал интонацию, что Тощий расхохотался и подумал, что, пожалуй, во всем свете нет такого занятного парня, как Рыжий.
— Ты что, каждый день сюда приходишь, вот как сейчас, а, Рыжий? — спросил он с интересом. — В такую рань, да? Когда весь мир будто принадлежит только тебе, ведь верно, Рыжий? И никого вокруг, и все так здорово. — Он ощутил прилив гордости оттого, что его допустили в этот таинственный мир.
Рыжий искоса взглянул на него и небрежно бросил:
— Я уже давно не сплю. Ты ничего не слышал ночью?
— А что?
— Да гром.
— А разве была гроза? — Тощий очень удивился. Он обычно не мог спать во время грозы.
— Да нет. Но гром был. Я сам слышал, подошел к окну, гляжу, а дождя— то нет. Только звезды и небо такое бледное. Понимаешь?
Тощий никогда не видел такого неба, но кивнул.
Они шли по траве вдоль бетонки, которая сбегала вниз, деля надвое окрестные просторы, и исчезала вдали между холмами. Дорога была такая древняя, что даже отец Рыжего не мог сказать сыну, когда ее построили.
И все же на ней не было ни трещинки, ни выбоины.
— Ты умеешь хранить тайну? — спросил Рыжий.
— Конечно. А что за тайна?
— Ну просто тайна. Может, я скажу, а может, и нет. Я еще и сам не знаю. — Рыжий на ходу сломал длинный гибкий стебель папоротника, аккуратно очистил его от листочков и взмахнул им, как хлыстом. Вмиг он словно очутился на лихом скакуне, который встает на дыбы и грызет удила, сдерживаемый железной волей наездника. Но вот усталость взяла свое, он отбросил хлыст и загнал своего коня в самый дальний закоулок воображаемого мира — авось еще пригодится.
— Сюда приедет цирк, — сказал он.
— Ну какая же это тайна? Я уже давно знаю. Мне об этом папа сказал еще до того, как мы приехали.
— Да нет, тайна — это другое. Уж эта тайна что надо. Ты хоть раз бывал в цирке?
— Ясное дело.
— Ну и как, понравилось?
— Больше всего на свете.
Рыжий краешком глаза наблюдал за ним.
— Ну а тебе никогда не приходило в голову там остаться? То есть, я хочу сказать, навсегда.
Тощий пораскинул умом.
— Пожалуй, нет. Я хочу быть астрономом, как папа. По-моему, и он этого хочет.
— Хи! Астроном! — фыркнул Рыжий.
Тощий почувствовал, как перед его носом захлопнулись двери в новый, таинственный мир, и астрономия стала тоской зеленой.
Он сказал примирительно:
— Цирк — это, должно быть, занятнее.
— Ну а если тебе можно было бы поступить в парк прямо сейчас? Что бы ты сделал?
— Я… Я…
— Ну вот. — Рыжий презрительно усмехнулся.
Тощий обиделся.
— Ну и поступлю.
— Давай!
— Испытай меня!
Рыжий быстро повернулся к нему, взволнованный, весь как натянутая струна.
— Ты правда так думаешь? Хочешь со мной, да?
— Как это?
— Понимаешь, я все устроил, нас возьмут. А то, глядишь, когда — нибудь мы и сами откроем цирк. Мы будем самыми потрясными циркачами на свете. Это если ты пойдешь со мной. А не то… А не то я и сам справлюсь.
Новый мир был необыкновенным и волшебным, и Тощий ответил:
— Заметано, Рыжий! Я с тобой! Что ты затеял? Скажи мне все как есть.
— Догадайся, Кто в цирке всех главней?
Тощий отчаянно соображал. Он хотел попасть в точку. Наконец он сказал:
— Акробаты?
— О господи! Да я бы палец о палец не ударил, чтобы увидеть акробатов!
— Тогда не знаю.
— Звери, вот кто! Какие номера самые интересные? Где больше всего народу? Даже в самых лучших цирках самые лучшие номера — это которые со зверями.
— Ты так думаешь?
— Все до единого так думают. Спроси кого хочешь. Так вот, сегодня утром я нашел зверьков. Двух зверьков.
— Ты их поймал?
— Еще бы. Это и есть моя тайна. Ты не протрепешься?
— Что за вопрос!
— Ладно. Я запер их в амбаре. Хочешь посмотреть?
Они были почти рядом с амбаром, невдалеке чернела его большая, настежь распахнутая дверь. Черным-черно. Они все время шли к этому амбару. Тощий остановился. Он старался не выдать волнения.
— А они большие?
— Да разве бы я их обдурил, если б они были большие? Они тебе ничего не сделают. Я посадил их в клетку.
Они уже вошли в амбар, и Тощий увидел большую клетку, висевшую на крюке под крышей и накрытую грубым брезентом.
Рыжий сказал:
— У нас здесь обычно живет птичка или еще кто-нибудь. Главное, им отсюда не выбраться. Полезли на чердак.
Они вскарабкались по деревянной лестнице, и Рыжий подтянул клетку к себе.
Тощий ткнул пальцем в брезент:
— А здесь, кажется, дырка.
Рыжий нахмурился:
— Откуда она взялась?
Он приподнял брезент, заглянул внутрь и с облегчением произнес:
— Они там!
— Брезент вроде бы обгорел, — с беспокойством заметил Тощий.
— Ну, ты как — хочешь смотреть или нет?
Тощий неуверенно кивнул. В конце концов он не был убежден, что хочет. А вдруг они…
Но Рыжий сбросил брезент. Вот они. Двое, как он и говорил.
Маленькие и противные на вид. Как только брезент убрали, зверьки кинулись к ребятам. Рыжий осторожно ткнул их пальцем.
— Берегись! — крикнул Тощий.
— Они не тронут, — бросил Рыжий. — Ты когда-нибудь видел таких?
— Нет.
— Представляешь, как в цирке все за них ухватятся?
— А если они слишком маленькие для цирка, что тогда?
Рыжий разозлился. Он отпустил клетку, и та начала раскачиваться словно маятник.
— Идешь на попятную?
— Вовсе нет. Я только…
— Не беспокойся, не такие уж они маленькие. Меня-то сейчас беспокоит только одно.
— Что?
— Ведь я должен продержать их в клетке, пока не приедет цирк, верно? Так вот, мне нужно узнать, что они едят.
А клетка все раскачивалась, и маленькие пойманные зверьки цеплялись за прутья, делая ребятам какие-то знаки, странные и быстрые, будто эти существа были разумными.
* * *
Астроном вошел в столовую при полном параде. Он ощущал себя гостем.
— А где молодежь? — спросил он. — Моего сына нет дома.
Промышленник улыбнулся:
— Они уже давно гуляют. Но женщины заставили их позавтракать, так что не беспокойтесь. Известное дело — молодость!
«Молодость»! Казалось, это слово заставило Астронома задуматься.
Завтракали в молчании. Только один раз Промышленник бросил:
— Вы и вправду считаете, что они придут?
— Придут, — отвечал Астроном.
И все.
После завтрака Промышленник сказал:
— Вы уж меня извините. Хоть убей, не пойму, зачем вам выкидывать такие трюки? Вы действительно с ними говорили?
— Так же, как сейчас с вами. Только телепатически. Они умеют передавать мысли на расстояние.
— Я понял это из вашего письма. Но как они передают мысли, интересно выяснить.
— Ну, этого я не знаю. Конечно, я их спросил, но не добился четкого ответа. Впрочем, возможно, я чего-то не разобрал. Для этого нужно какое— то устройство, проецирующее мысли, и, что особенно важно, необыкновенная сосредоточенность как индуктора, гак и перципиента. До меня не сразу дошло, что они пытаются передать мне мысль. Может быть, телепатия — одно из научных достижений, которым они с нами поделятся.
— Может быть, — ответил Промышленник. — Но подумайте о том, как это открытие может изменить нашу общественную жизнь. Передатчик мыслей!
— А почему бы и нет? Перемены для нас полезны.
— Не думаю.
— Перемены нежелательны только для старости, — сказал Астроном. — А ведь расы могут стариться так же, как и люди.
Промышленник указал на окно.
— Видите эту дорогу? Ее построили давным-давно. Сумели бы мы теперь построить такую? Сомневаюсь. Когда прокладывали эту дорогу, раса была молодой.
— Тогда? Да! По крайней мере, новое не внушало им страха.
— Лучше бы оно внушало! Что же сталось с нашими предками? Они уничтожены, доктор! Что хорошего в Молодости и в Новом? Мы сейчас живем лучше. В мире больше нет войн, мы медленно продвигаемся вперед. Они это доказали, те, кто построил эту дорогу… Как мы условились, я поговорю с вашими гостями, если они приедут. Но мне кажется, я только попрошу их уехать.
— Слушайте! Прежде чем вам написать, я изучил ваше экономическое положение.
— И установили, что я платежеспособен? — улыбаясь, перебил его Промышленник.
— Ну да. О, я вижу, вы шутите? А впрочем, может, в вашей шутке есть доля правды. Ваша платежеспособность ведь ниже, чем у вашего отца, а у него была ниже, чем у вашего деда. Ваш сын, возможно, будет вообще неплатежеспособным. С каждым годом планете все труднее поддерживать производство на существующем уровне, хотя это крайне низкий уровень по сравнению с тем, который бьет раньше. Мы возвратимся к натуральному хозяйству, а потом что? Опять в пещеры?
— А если обогатить расу новыми техническими знаниями, то все изменится?
— Дело не только в знаниях. Здесь важнее эффект от самих изменений, от расширения горизонтов. Послушайте, сударь, я обратился к вам не только потому, что вы богаты и имеете влияние на правительственные круги, а потому, что у вас необычная для наших дней репутация: вы человек, который может порвать с традициями. Наши соотечественники будут противиться новшествам, а вы знаете, как на них воздействовать, как добиться того…
— Чтобы возродить молодость нашей расы?
— Да.
— Скажите мне, — поинтересовался Промышленник, — что хотят эти друзья из космоса в обмен на свои достижения?
Астроном колебался, затем признался.
— Я буду с вами откровенен. Они прибыли с планеты, обладающей большей, чем наша, массой. Наша богаче легкими элементами.
— Им нужен магний, алюминий?
— Нет. Углерод и водород. Им нужны уголь и нефть.
— В самом деле?!
Астроном торопливо вставил:
— Вы хотите спросить, зачем существам, которые освоили космические полеты, а следовательно, овладели атомной энергией, уголь и нефть? Я не могу ответить на этот вопрос.
Промышленник улыбнулся.
— Зато я могу. Вот вам лучшее подтверждение правдивости ваших же слов. На первый взгляд может показаться, что при атомной энергии уголь и нефть не нужны. Однако они не только сырье для производства энергии, они всегда будут основным сырьем для всех отраслей органической химии. Пластмассы, красители, медикаменты, растворители. Промышленность не может обойтись без них даже в атомный век. Но я бы сказал, что, хоть уголь и нефть недорогая плата за мучения и заботы молодой расы, все же эти уголь и нефть обойдутся нам очень дорого, если мы не получим ничего взамен.
Астроном вздохнул:
— А вон и наши мальчики.
В открытое окно видно было, как они стоят на лугу и оживленно разговаривают. Сын Промышленника сделал властный жест, сын Астронома кивнул и побежал к дому.
— Вот она, молодость, о которой вы говорили. У нашей расы столько же молодых, сколько было всегда, — заметил Промышленник.
— Да. Но мы делаем все, чтоб они быстро состарились.
Тощий вбежал в комнату, дверь громко хлопнула за ним.
— Что случилось? — недовольно проворчал Астроном.
Тощий удивленно поднял глаза и остановился.
— Извините. А я и не знал, что здесь кто-то есть. Простите, что я вам помещал. — Он старательно подбирал самые вежливые выражения.
— Да ничего, все в порядке, — сказал Промышленник.
Но Астроном заметил:
— Даже если ты входишь в пустую комнату, не обязательно хлопать дверью.
— Ерунда, — запротестовал Промышленник. — Парнишка не сделал ничего плохого. Вы его браните просто за то, что он молод. И это вы, с вашими взглядами! Подойди-ка сюда, парень! — обратился он к Тощему.
Тощий медленно приблизился.
— Как тебе здесь нравится?
— Очень, сэр, благодарю вас.
— Показал ли тебе мой сын наше поместье?
— Да, сэр. Рыжий, то есть…
— Ничего, ничего. Называй его Рыжим. Я его сам так зову. А теперь скажи, чем вы сейчас занимаетесь?
Тощий отвернулся:
— Мы… мы проводим исследования, сэр.
Промышленник повернулся к Астроному.
— Вот вам юношеская любознательность и жажда приключений. Наша раса еще не утратила этих свойств.
— Сэр? — спросил Тощий.
— Да, парень.
Мальчишка помолчал, пытаясь понять, о чем речь, потом сказал:
— Рыжий велел мне принести что-нибудь вкусненькое, но я не очень понял что. Вот я и не хотел говорить.
— Ну что ж, спроси кухарку. У нее найдется что-нибудь вкусненькое для таких юнцов, как вы.
— Сразу видно, что сын мой воспитывался в городе, — сказал Астроном.
— Ну что вы, это не страшно, — возразил Промышленник.
— О нет, сэр. Это не для нас, а для зверьков.
— Для зверьков?
— Да, сэр. Что едят звери?
— А что это за звери, парень?
— Они маленькие, сэр.
— Тогда попробуйте дать им листья или траву, а если они не станут есть, может, им понравятся орехи или ягоды.
— Благодарю вас, сэр.
Тощий выбежал из комнаты, но на этот раз осторожно закрыл за собой дверь.
— Вы думаете, они поймали зверьков живьем? — спросил Астроном. Он был явно встревожен.
— Ну, это дело обычное. В моем поместье охота запрещена, и все животные стали ручными, здесь много грызунов и мелкой живности. Рыжий то и дело таскает домов всяких тварей. Только ненадолго они его занимают.
Он посмотрел на стенные часы:
— Ваши друзья уже должны прибыть, как вы думаете?
* * *
Качка прекратилась. Стало темно. Воздух чужой планеты не подходил для Исследователя. Атмосфера была густой, как суп, и он не мог глубоко вздохнуть. И даже если…
Внезапно испугавшись одиночества, он потянулся и потрогал теплого Торговца. Очевидно, тот спал: он тяжело дышал, время от времени дрожь пробегала по телу. Исследователь решил не будить его. Это все равно ни к чему. Спасения не будет, это ясно. Это расплата за высокие барыши, которые приносила неограниченная конкуренция. Торговец, открывший новую планету, получал монополию на торговлю с ней в течение десяти лет. Он мог торговать в одиночку или, что более вероятно, продать это право всем желающим на жестких условиях. Из-за этого поиски новых планет велись под большим секретом и как можно дальше от обычных торговых путей. У них не было почти никакой надежды на то, что хоть один корабль окажется в пределах их субэфирной связи, разве что произойдет невероятное. Даже если бы они были в своем корабле, а не в этой… этой… клетке.
Исследователь схватился за толстые прутья. Даже если уничтожить прутья — а это нетрудно сделать, — им не спрыгнуть — слишком высоко. Все шло из рук вон плохо. Еще до этого приземления они дважды приземлялись на корабле-разведчике, установили контакт с местными жителями, чудовищно большими, но кроткими и доброжелательными существами. Лучшего рынка и желать нельзя. Очевидно, когда-то у них была высокоразвитая промышленность, но они не сумели избежать нежелательных последствий.
Эта планета поражала своими размерами. Особенно удивлялся Торговец.
Он уже знал, какая она огромная, и все же, подойдя к ней на расстояние двух световых секунд и взглянув на экран обзора, пробормотал:
«Невероятно!».
— О! Бывают планеты и больше этой, — невозмутимо сказал Исследователь. Чрезмерная восторженность не к лицу Исследователю.
— Заселена?
— Да.
— Ого, вашу планету можно утопить вон в том большом океане.
Исследователь улыбнулся. Это был деликатный намек на его родину — планету Арктур, по размерам уступавшую большинству планет. Он сказал:
— Не совсем так.
— И здешние жители такие же большие, как и их мир? — спросил Торговец.
Казалось, такая перспектива не слишком радовала его.
— Почти в десять раз больше нас.
— А вы уверены, что они настроены дружелюбно?
— Трудно сказать. Дружба между чуждыми культурами — дело неверное.
Но мне кажется, жители этой планеты не опасны.
Тут Исследователь услышал мощный рев двигателей.
— Что-то мы слишком быстро снижаемся, — нахмурился он.
Начали обсуждать, не опасно ли садиться на несколько часов раньше расчетного времени. Планета, к которой они приближались, была огромна для кислородно-водяного мира. Гравитационный потенциал был высок, а бортовой компьютер не давал информации о траектории при посадке в зависимости от гравитационного потенциала. Значит, Пилоту придется выполнять посадку вручную.
Торговец потребовал немедленно произвести посадку, но почувствовал, что это требование нужно аргументировать. Он сердито сказал Исследователю:
— Вы думаете, что Пилот не знает своего дела? Ведь он уже два раза справлялся с посадкой!
Да, подумал Исследователь, на корабле-разведчике, а не на этой неуклюжей грузовой посудине. Вслух он не сказал ничего, только глядел на локатор обзора. Они спускались слишком быстро. Сомнений не оставалось. Слишком быстро.
— Что вы молчите? — с раздражением спросил Торговец.
— Ну если уж вам так хочется, чтобы я говорил, я бы посоветовал вам пристегнуть ремни и помочь мне наладить катапультирующее устройство.
Пилот вступил в схватку со стихией. Он не был новичком. Корабль, объятый пламенем, со свистом рассекал слои атмосферы, необычно плотные даже для гравитационного потенциала этой планеты. Но, несмотря ни на что, до последнего момента казалось, что Пилот справится с кораблем. Он даже придерживался заданного курса на определенную точку северного континента, следуя расчетной траектории. Если бы счастье им улыбнулось, их посадку вечно приводили бы как пример героического и мастерского управления в безнадежных условиях. Но когда победа была уже рядом, Пилот не выдержал физического и нервного напряжения и чуть сильнее нажал рычаг управления. Корабль, который почти выровнялся, опять камнем пошел вниз.
Уже не было времени исправлять ошибку. До поверхности планеты оставалось ничтожное расстояние. Пилот не покинул кабины, он думал только о том, как бы уменьшить силу удара при падении, как бы сохранить корабль. Пока корабль бешено пробивался сквозь плотные слои атмосферы, удалось включить несколько катапультирующих устройств, и только одно — вовремя.
Когда Исследователь очнулся и поднялся на ноги, он был почти уверен, что, кроме него и Торговца, больше никто не уцелел. А возможно, остался в живых только он. Его паритель сгорел на такой высоте, что падение его оглушило. Может, Торговцу повезло еще меньше. Его окружала густая, жесткая трава, и вдали виднелись деревья, по виду напоминавшие деревья его родного Арктура, только они свободно разместились бы под их нижними ветвями.
Он крикнул. Его голос глухо прозвучал в плотном воздухе. Торговец ответил. Исследователь бросился на голос, с трудом продираясь сквозь жесткие заросли, преграждавшие путь.
— Вы ранены? — спросил он.
Торговец сморщился от боли.
— Я что-то растянул, мне трудно ходить.
Исследователь осторожно ощупал его.
— Не думаю, что это перелом. Вы должны идти, несмотря на боль.
— Нельзя ли сначала отдохнуть?
— Прежде всего поищем корабль. Если он не поврежден или если его можно отремонтировать, тогда живем. Если нет, то наше дело плохо.
— Минуточку. Дайте мне отдышаться.
Исследователь и сам был рад этой передышке. Торговец уже закрыл глаза. Исследователь тоже.
Услышав звук шагов, он открыл глаза. «Никогда не спите на чужой планете», — мелькнула в его голове запоздалая мысль.
Торговец проснулся, и его вопль был полон ужаса.
Исследователь крикнул ему:
— Всего лишь туземец! Он вас не тронет!
Но тут гигант наклонился, схватил их и прижал к своему уродливому телу.
Торговец отчаянно сопротивлялся, и, конечно, напрасно.
— Неужели вы не можете поговорить с ним? — взвыл он.
Исследователь только покачал головой.
— Мой проектор на него не действует. Он не будет слушать.
— Тогда взорвите его. Взорвите его к чертям!
— Это невозможно.
Он чуть не добавил «идиот». Исследователь старался сохранять самообладание.
— Но почему? — кричал Торговец. — Ведь вы можете дотянуться до своего взрывателя. Я его ясно вижу. Не бойтесь упасть!
— Все намного сложнее! Если убить чудовище, вы никогда не сможете торговать с этой планетой. Вам даже не удастся взлететь с нее. Вы, вероятно, не доживете до вечера.
— Но почему? Почему?
— Потому что это молодой представитель вида. Вы должны знать, что происходит, если торговец убивает детеныша, даже случайно. И кроме того, если мы попали туда, куда хотели, то мы находимся во владениях могущественного аборигена. А это может быть один из его выводка.
Так они попали в тюрьму. Они осторожно выжгли кусочек толстого плотного материала, которым была накрыта клетка, и им стало ясно, что прыгнуть с такой высоты означало бы наверняка разбиться.
И вот еще раз клетка закачалась и, описав дугу, замерла. Торговец скатился в нижний угол и ощетинился. Покрывало приподнялось, хлынул свет. У клетки стояли два молодых туземца. «Внешне они мало чем отличаются от взрослых экземпляров, — подумал Исследователь, — хотя, конечно, поменьше ростом».
Меж прутьев просунули пучок зеленых стебельков, похожих на камыш, они приятно пахли, но на них были комочки земли.
Торговец отшатнулся и хрипло сказал:
— Что это они делают?
— По-моему, пытаются нас кормить. По крайней мере, это что-то вроде здешней травы.
Покрывало задернули и клетку отпустили. Она опять покачалась вместе с пучком стеблей между прутьев.
* * *
При звуке шагов Тощий вздрогнул и засветился радостью, когда оказалось, что это всего лишь Рыжий.
— Вокруг никого. Я все глаза проглядел, это уж точно, — сказал он.
— Шш… Ну-ка посмотри, — ответил Рыжий. Возьми и сунь в клетку.
Мне пришлось сбегать домой.
— А что это? — Тощий неохотно протянул руку.
— Фарш. Ты что, никогда не видел фарша? Зачем же я посылал тебя домой? Ты должен был принести его, а не эту дурацкую траву.
Тощего обидел его тон.
— Откуда я знал, что они не едят траву? И потом фарш таким не бывает. Он бывает в целлофане, и он не такого цвета.
— Так то в городе. А здесь мы сами готовим фарш, и он всегда такого цвета, пока его не пожаришь.
— Так ты говоришь, он сырой? — Тощий быстро отодвинулся.
Рыжий возмутился.
— Уж не думаешь ли ты, что животные едят приготовленную пищу? Ну-ка бери, оно тебя не съест. Я тебе говорю, у нас времени в обрез.
— Почему? Что делается в доме?
— Не знаю. Мой отец ходит с твоим отцом. Может, они ищут меня.
Может быть, кухарка сказала им, что я взял мясо. Во всяком случае, нельзя, чтобы они нашли нас здесь.
— Ты без спроса взял мясо у кухарки?
— У этого краба-то? Конечно. Она и капли воды мне не даст без разрешения отца. Ну же, бери!
Тощий взял большой комок фарша, хотя при этом у него по коже побежали мурашки. Он повернулся к амбару, а Рыжий быстро побежал к дому.
Приблизившись к взрослым, Рыжий замедлил шаг, несколько раз глубоко вздохнул, чтобы установить дыхание, а затем сделал вид, что беззаботно прогуливается.
— Здорово, пап. Хелло, сэр, — поздоровался он.
— Стой-ка, Рыжий, у меня к тебе вопрос, — сказал отец.
Рыжий повернулся к нему с безразличным видом:
— Да, пап?
— Мама сказала, что ты сегодня очень рано встал.
— Не очень, пап. Незадолго до завтрака.
— Ты говорил, тебя что-то разбудило сегодня ночью?
Рыжий помедлил с ответом. Потом признался:
— Да, сэр.
— Что тебя разбудило?
Рыжий не заметил в вопросе никакого подвоха. Он сказал:
— Не знаю, пап. Сперва было что-то вроде грома, а потом что-то вроде упало.
— Не можешь сказать, откуда доносились звуки?
— Вроде из-за холма.
Это была правда, да к тому же очень ему на руку, потому что холм был в противоположной стороне от амбара.
Промышленник взглянул на своего гостя:
— Не прогуляться ли нам к холму, а?
— Я готов, — ответил Астроном.
Рыжий посмотрел им вслед; повернувшись, он увидел Тощего, который выглядывал из-за кустов шиповника.
— Иди сюда! — помахал ему Рыжий.
Тощий вышел из-за кустов.
— Они сказали что-нибудь про мясо?
— Нет. По-моему, они ничего не знают. Они пошли к холму.
— Для чего?
— Почем я знаю! Они расспрашивали меня о громе, который я слышал.
Послушай, зверьки съели мясо?
— Хм, — осторожно произнес Тощий, — они его рассматривали и как бы принюхивались.
— Ладно, — сказал Рыжий. — Я думаю, они его съедят. Господи, должны же они хоть что-то есть. Давай пойдем к холму, посмотрим, что собираются делать наши родители.
— А как же зверьки?
— Не беспокойся, все в порядке. Нельзя же все время сидеть с ними. Ты им дал воды?
— Конечно. Они напились.
— Вот видишь. Пошли. Заглянем к ним после полдника. Вот что я тебе скажу. Мы им принесем фруктов. Кто же отказывается от фруктов?
И они побежали вверх по склону. Рыжий, как всегда, впереди.
* * *
— Вы думаете, это был гул корабля при посадке? — спросил Астроном.
— А вам как кажется?
— Если это так, вероятно, все погибли.
— А может быть, и нет, — нахмурился Промышленник.
— Но если они приземлились и не погибли, то где же они?
— Надо подумать.
Он все еще хмурился.
— Я вас не понимаю, — заметил Астроном.
— А если они враждебно настроены?
— О нет! Я говорил с ними, они…
— Вы с ними говорили! Положим, это рекогносцировка. А что будет дальше? Вторжение?
— Но у них только один корабль, сэр!
— Это они так говорят. А у них за спиной может быть целый флот.
— Я уже говорил вам об их размерах. Они…
— Неважно, какие там у них размеры, если их оружие превосходит наше.
— Я не подумал об этом.
— А меня это с самого начала беспокоило, — продолжал Промышленник.
— Вот почему, получив ваше письмо, я согласился встретиться с ними. Не для того, чтобы идти на какие-то неприемлемые для нас предложения по торговле, а для того, чтобы узнать их истинные цели. Я не предполагал, что они будут избегать встречи.
Вдруг он осмотрелся и спросил:
— Куда же мы забрели? По-моему, ничего из наших поисков не получится.
Но Астроном, шедший немного впереди, хрипло проговорил:
— Нет, сэр. Посмотрите сюда!
* * *
Рыжий и Тощий тайно следовали за старшими. Им помогало то, что отцы были взволнованы и поглощены разговором. Они не могли толком рассмотреть объект своих поисков — мешали заросли, в которых приходилось скрываться.
— Ну и ну! Ты только посмотри на эту штуку! Сияет, как серебро! — сказал Рыжий.
Но особенно взволнован был Тощий. Он вцепился в товарища.
— Я знаю, что это такое. Это космический корабль. Верно, из-за этого мой отец и приехал сюда. Он один из самых известных астрономов в мире, и твой отец пригласил его, когда космический корабль приземлился в ваших краях.
— Что ты болтаешь? Да мой отец понятия не имел о том, что это за штука. Он пришел сюда только потому, что я слышал раскат грома. И, кроме того, космических кораблей не существует.
— Нет, существуют. Ну-ка взгляни: посмотри на эти круглые штуки.
Это дюзы. А вон ракетные двигатели.
— Откуда ты все это знаешь?
Тощий вспыхнул:
— Я читал об этом. У моего отца есть книга. Старые книги.
— Хм. Все выдумываешь.
— Ничего не выдумываю: мой отец преподает в университете, ему нельзя без книг. Это же его работа.
Он уже говорил на высоких нотах, и Рыжему пришлось одернуть его.
— Хочешь, чтоб нас услышали? — с негодованием прошептал он.
— Ладно, а все же это космический корабль!
— Послушай, Тощий, ты думаешь, что это корабль из другого мира?
— Должно быть. Посмотри, как мой отец осматривает его. Он бы так не интересовался, если бы это было что-нибудь другое.
— Другие миры! А где они, эти другие миры?
— Везде. Возьми, например, планеты. Некоторые из них такие же миры, как наш. А может, и у других звезд тоже есть планеты. Наверное, планет триллионы.
Рыжий чувствовал себя уничтоженным и поверженным. Он пробормотал:
— Ты сошел с ума!
— Хорошо же. Я тебе покажу.
— Эй, ты куда?
— Спрошу отца. Надеюсь, ему-то ты поверишь, что профессор астрономии знает…
Он поднялся во весь рост.
— Эй! Ты что хочешь, чтобы они нас увидели? — сказал Рыжий. — Они же не догадываются, что мы здесь. Хочешь, чтобы лезли к нам с расспросами и узнали про зверьков?
— А мне плевать! Ты сказал, что я сумасшедший…
— Эх ты, ябеда! Ты же обещал, что никому не проговоришься!
— Я и не собираюсь проговариваться. Но если они сейчас все узнают, сам будешь виноват — ведь это ты начал спорить, ты сказал, что я сумасшедший.
— Беру свои слова обратно, — буркнул Рыжий.
— Ну тогда ладно.
Тощий был немного разочарован. Он хотел подойти поближе к космическому кораблю, но не мог нарушить клятву.
— Больно уж он мал для космического корабля, — сказал Рыжий.
— Конечно, потому что это, наверное, разведчик.
— Держу пари, отцу не удастся даже заглянуть в эту штуковину.
Тощий считал это слабым местом и в собственных рассуждениях и поэтому промолчал.
Рыжий поднялся на ноги, ему явно надоело приключение.
— Знаешь, давай уйдем отсюда. У нас свои дела, не пялиться же целый день на какой-то там старый космический корабль. Нам надо заняться зверьками, если мы хотим стать циркачами. Это для циркачей самое первое дело. Они должны заботиться о животных. Вот я и собираюсь это сделать, — с добродетельным видом закончил он.
— Ну что ты, Рыжий? У них там полно мяса. Давай подождем, — сказал Тощий.
— А что ждать? И потом мой отец и твой отец собираются уходить, и уже пора полдничать. И вообще, Тощий, мы не должны вызывать подозрений, а то они начнут расспрашивать. Неужели ты никогда не читал детективов? Если ты затеял большое дело и не хочешь, чтобы тебя поймали, главное — действовать как обычно. Тогда никто ничего не заподозрит. Это первая заповедь…
— Ну ладно.
Тощий неохотно поднялся. В этот момент затея с цирком показалась ему нестоящей и старомодной по сравнению с блистательной карьерой астронома, и он недоумевал, как он мог связаться с глупыми прожектами Рыжего.
Они пошли вниз до склону. Тощий, как всегда, позади.
* * *
— Что меня поражает, так это качество работы, — сказал Промышленник. — Никогда не видывал такой конструкции.
— Ну и что с того? — отрезал Астроном. — Ведь никого из них не осталось. Второго корабля не будет. Они обнаружили жизнь на нашей планете случайно.
— Да, тут была авария, это ясно.
— Корабль почти не поврежден. Его можно было бы отремонтировать, если бы хоть один из путешественников уцелел.
— Если они уцелели, все равно о торговых отношениях и думать не приходится. Очень уж они непохожи на нас. Неудобств много будет. Так или иначе, все кончено.
Они вошли в дом, и Промышленник спросил жену:
— Полдник уже готов, дорогая?
— Да нет. Видишь ли… — Она в нерешительности посмотрела на Астронома.
— Что случилось? — спросил Промышленник. — Что же ты молчишь?
Думаю, наш гость простит нас.
— Умоляю, не обращайте на меня внимания, — пробормотал Астроном. Он незаметно отошел в дальний угол комнаты.
— Видишь ли, дорогой, кухарка очень расстроена, — торопливо, низким голосом проговорила его жена. — Я утешала ее все утро и, честное слово, не знаю, зачем Рыжий сделал это.
— Что он натворил?
— Он взял почти весь фарш, — сказала она.
— И съел его?
— Ну, надеюсь, что нет. Ведь он сырой.
— Тогда зачем он ему понадобился?
— Представления не имею. Я видела Рыжего только за завтраком.
Кухарка в ярости. Она заметила, как он удирал из кухни, и в чаше почти не осталось фарша. А фарш предназначался для полдника. Ты же знаешь кухарку. Ей пришлось готовить что-то другое, а это значит, что теперь целую неделю от нее покоя не будет. Поговори с Рыжим, дорогой, и пусть он больше носа не показывает на кухню. И не мешало бы ему извиниться перед кухаркой.
— Только этого не хватало! Она служит у нас, и если мы не жалуемся на изменения в меню, ей-то что?
— Но ей приходится выполнять двойную работу. Она уже поговаривает об уходе. А попробуй-ка сейчас найти хорошую кухарку. Помнишь, какая у нас была до нее?
Это был сильный довод.
— Видимо, ты права, — сказал Промышленник. — Я поговорю с ним, как только он придет.
— Да вот он.
Рыжий весело вошел в дом со словами:
— Кажется, пора полдничать. — Он взглянул на отца, потом на мать, и в нем мгновенно проснулись подозрения. — Пойду сначала помоюсь, — сказал он и направился к другой двери.
— Минуту, сынок, — остановил его Промышленник.
— Сэр?
— Где твой маленький друг?
— Да где-то рядом, — беспечно ответил Рыжий. — Мы вроде вместе гуляли, потом я оглянулся, а его нет. — Это было правдой, и Рыжий почувствовал под собою твердую почву. — Я ему сказал, что пора полдничать, говорю: по-моему, пора полдничать; говорю: надо возвращаться домой; а он говорит: да. Я и пошел, а потом, когда я был уже около ручья, оглядываюсь, а…
Астроном прервал это словоизлияние, оторвавшись от журнала, который он перелистывал:
— Я нисколько не беспокоюсь о моем юнце. У него есть голова на плечах. Не ждите его к столу.
— Все равно полдник еще не готов, доктор. — Промышленник опять повернулся к сыну. — И откровенно говоря, потому, сынок, что кухарка кое— чего недосчиталась. Тебе нечего сказать?
— Сэр?
— Как это ни противно, но придется объясниться начистоту! Зачем ты взял фарш?
— Фарш?
— Да, фарш.
— Ну, я был немного… — начал было Рыжий.
— Голоден? — подсказал отец. — И тебе захотелось сырого мяса?
— Нет, сэр. Оно мне было вроде бы нужно.
— Для чего именно?
Рыжий молчал с жалким видом.
Но тут опять вмешался Астроном:
— Если вы позволите вставить словечко, я вам напомню, что как раз после завтрака мой сын зашел и спросил, что едят животные.
— О, вы правы! Какой же я дурак, что забыл об этом! Послушай, Рыжий, ты взял мясо для твоего ручного зверька?
Рыжий с трудом подавил негодование.
— Так вы хотите сказать, что Тощий заходил сюда и наябедничал, что у меня есть зверьки? Он пришел к вам и проболтался, да? Он сказал, что у меня есть зверьки?
— Нет. Он этого не говорил, а просто спросил, чем питаются животные. Вот и все. И вообще, если уж он пообещал тебя не выдавать, он не выдаст. Это твоя собственная глупость выдала тебя — ты взял без спроса фарш. А это называется воровством. Теперь отвечай без уверток — есть у тебя зверек?
— Да, сэр.
Это было сказано едва слышным шепотом.
— Отлично! Придется тебе избавиться от него. Понятно?
— Ты хочешь сказать, что у тебя есть хищное животное, да, Рыжий? — вмешалась мать. — Оно может тебя укусить, и у тебя будет заражение крови.
— Они совсем крохотулечки, — сказал Рыжий дрожащим голосом. — Если их тронуть, они едва шевелятся.
— Они? Сколько же их у тебя?
— Два.
— Где они?
Промышленник дотронулся до руки жены.
— Не мучай ребенка, — сказал он тихо. — Если он обещает избавиться от них, он так и сделает, и этого наказания с него достаточно.
И он выкинул из головы и Рыжего, и его зверьков.
* * *
Полдник уже подходил к концу, как вдруг Тощий ворвался в столовую.
Какое— то мгновение он стоял в растерянности, а потом закричал почти в истерике:
— Мне надо поговорить с Рыжим! Я должен ему что-то сказать!
Рыжий посмотрел на него со страхом, а Астроном заметил:
— Сын, не очень-то ты воспитан. Ты заставил нас ждать себя.
— Прости, отец.
— О, не сердитесь на парнишку, — сказала жена Промышленника. — Пусть поговорит с Рыжим, если хочет, а полдник от них не уйдет.
— Мне нужно поговорить с Рыжим наедине, — настаивал Тощий.
— Ну хватит, хватит, — сказал Астроном со скрытым раздражением. — Садись.
Тощий повиновался, но ел без особого аппетита, да и то только тогда, когда кто-нибудь глядел прямо на него.
Рыжий перехватил его взгляд и тихо спросил:
— Что, зверьки убежали?
Тощий покачал головой и прошептал:
— Нет, это…
Астроном бросил на него строгий взгляд, и Тощий осекся.
Едва полдник закончился, Тощий выскользнул из комнаты, незаметно пригласив Рыжего следовать за ним.
В молчании они дошли до ручья. Тут Рыжий разом повернулся к своему спутнику.
— Слушай, с чего это тебе взбрело в голову сказать моему отцу, что мы кормим животных?
— Да я и не говорил. Я только спросил, чем кормят животных, — запротестовал Тощий. — Это не значит сказать, что мы кормим их. И кроме того, дело не в этом, Рыжий.
Но Рыжий еще не простил обиды.
— А потом куда ты запропастился? Я думал, ты идешь домой. По-ихнему получается, будто я виноват, что тебя не было.
— Я все пытаюсь тебе объяснить, если ты помолчишь хоть минутку. Ты же мне словечка вставить не даешь.
— Ну что ж, валяй выкладывай, если у тебя есть что.
— Я пошел обратно к кораблю. Родителей там уже не было, а я хотел посмотреть, что это за штука.
— Это не космический корабль, — мрачно сказал Рыжий. Ему нечего было терять.
— Вот именно что космический корабль. Туда можно заглянуть через иллюминаторы, я и заглянул, и они там мертвые. — Он был очень бледен.
— Все до одного мертвые.
— Кто мертвые?
— Да зверьки! — закричал Тощий. — Такие же, как наши! Только они не зверьки, это жители других планет.
На мгновение Рыжий окаменел. Он и не подумал усомниться в правоте Тощего, слишком искренне тот был взволнован. Рыжий только сказал:
— Ну и ну!
— Вот. Что теперь делать? Ей-же-ей, будет нам взбучка, если они узнают!
Тощего всего трясло.
— Может, лучше их выпустить? — спросил Рыжий.
— Они на нас наябедничают.
— Да они не могут говорить на нашем языке. Ведь они с другой планеты.
— Нет, могут. Я помню, как мой отец говорил о всяком таком с мамой, ну, он не знал, что я в комнате. Он говорил, что есть пришельцы, которые могут говорить без всяких слов. Вроде бы телепатия. Я думал, он фантазирует.
— Да… Ну и ну! То есть ну и ну! — Рыжий взглянул на Тощего. — Ну ладно, слушай. Мой отец велел мне избавиться от них. Давай зароем их, что ли, где-нибудь или бросим в ручей.
— Он тебе так велел?
— Он заставил меня признаться, что у меня есть зверьки, а потом сказал: «Придется избавиться от них». Должен же я делать то, что он говорит! Ведь он мой отец!
У Тощего немного отлегло от сердца. Это был отличный выход из положения.
— Хорошо. Идем прямо туда и опередим их. Ох, если они их найдут, будет нам на орехи!
Они бросились к амбару, обуреваемые невыразимыми видениями.
* * *
Совсем иное дело — видеть в них «людей». Как животные они были занятны, но как «люди» — ужасны! Их глаза, которые раньше представлялись маленькими невыразительными точками, теперь, казалось, следили за Рыжим и Тощим с явной злобой.
— Они издают звуки, — прошептал Тощий.
— Наверное, разговаривают или что-то вроде того, — сказал Рыжий.
Забавно, что раньше они слышали эти звуки, но не придавали им значения. Рыжий не сдвинулся с места. Тощий — тоже.
Брезент был откинут, но они просто наблюдали. Тощий заметил, что зверьки не дотронулись до фарша.
— Ну как, будешь действовать? — спросил Тощий.
— А ты?
— Ты их нашел!
— Сейчас твоя очередь.
— Нет. Ты их нашел. Ты сам виноват во всем. Я только наблюдал.
— А ты со мной заодно. Не станешь же ты отрицать.
— Неважно. Ты их нашел, я так и скажу, когда они придут сюда искать нас.
— Ну и пусть, — сказал Рыжий, но все же мысль о том, что их ожидает, подхлестнула его, и он потянулся к дверце клетки.
— Стой! — крикнул Тощий.
— Какая муха тебя укусила? — спросил Рыжий. Он был доволен.
— У одного из них есть какая-то железяка или что-то вроде этого.
— Где?
— Да вон там. Я ее видел и раньше, но думал, что это часть его тела. Но если они люди, может быть, это ружье-дезинтегратор.
— А что это такое?
— Я читал об этом в старых книгах. У большинства людей на космических кораблях есть такие ружья-дезинтеграторы. Наведут такое на тебя — ты и распался на элементы.
— До сих пор его на нас не наводили, — возразил Рыжий, но на душе у него явно кошки скребли.
— Неважно. Я не собираюсь болтаться здесь и ждать, пока меня разложат на части. Я приведу отца.
— Эх ты, трусишка! Жалкий трус!
— Ну и пусть! Можешь обзывать меня как хочешь, но, если ты сейчас их тронешь, тебя разложат. Вот подожди и увидишь, и поделом тебе.
Он двинулся к узенькой винтовой лестнице, которая вела вниз, остановился на площадке и отшатнулся.
По лестнице, тяжело дыша, поднималась мать Рыжего.
— Рыжий, эй, Рыжий! Ты наверху? И не пытайся спрятаться. Я знаю, что они у вас там. Кухарка видела, куда ты побежал с мясом.
— Привет, мама! — дрожащим голосом крикнул Рыжий.
— А ну-ка покажи мне этих мерзких животных. Я хочу, чтобы ты при мне избавился от них, и немедленно.
Все кончено! Но хотя ему грозило наказание, Рыжий почувствовал, как с него свалилось бремя. По крайней мере, ему не надо самому принимать решение.
— Они здесь, мам. Я им ничего не сделал, мам. Я не знал. Они выглядели ну совсем как маленькие зверюшки, и я думал, ты позволишь мне подержать их у себя, мам. Я бы не брал мяса, да только они не ели травы и листьев, а мы не смогли найти хороших орехов или ягод, а кухарка никогда мне ничего не дает, или я должен упрашивать ее, а я и не знал, что это для полдника…
Он все говорил, охваченный страхом, и не сознавал, что мать уставилась на клетку и, не слушая его, визжит, визжит тонко и пронзительно.
* * *
— Нам остается только одно — похоронить их как можно тише. Не стоит поднимать шум, — говорил Астроном, но тут раздался визг.
Она бежала всю дорогу и, когда оказалась рядом с ними, еще не совсем пришла в себя. Только через несколько минут муж смог привести ее в чувство.
Наконец она произнесла:
— Они в амбаре. Я не знаю, кто они такие. Нет, нет…
Промышленник собрался было пройти вперед, но она преградила ему дорогу.
— Нет, ты не пойдешь. Пошли одного из слуг с ружьем. Я тебе говорю, в жизни не видывала таких. Маленькие ужасные существа… с… с… я не могу их описать! И подумать только, что Рыжий трогал их и пытался кормить. Он держал их, скармливал им мясо.
— Я только… — начал Рыжий.
А Тощий добавил:
— Это не…
— Ну, мальчишки, вы сегодня наломали дров! — сказал Промышленник. — Марш в дом! И больше ни слова! Что бы вы там ни говорили, мне неинтересно. Я вас выслушаю, когда все будет кончено, а что касается тебя, Рыжий, я сам прослежу за тем, чтобы тебя наказали.
Он повернулся к жене:
— Какими бы ни были эти животные, их надо уничтожить.
А когда мальчишки отошли на достаточное расстояние, мягко добавил:
— Ну, успокойся, дети живы-здоровы и не сделали ничего ужасного.
Это для них просто новая забава.
— Простите, мадам, но не могли бы вы описать этих животных? — прерывающимся голосом спросил Астроном.
Она покачала головой. Она не могла говорить.
— Не могли бы вы сказать мне…
— Я должен ей помочь! Простите меня, — извинился Промышленник.
— Минуточку. Пожалуйста. Она говорит, что никогда не видала таких животных раньше. Наверное, не очень часто у вас находят таких уникальных животных.
— Давайте не будем обсуждать сейчас этот вопрос.
— Если только эти уникальные животные не приземлились сегодня ночью.
— Что вы имеете в виду?
— Я думаю, нам нужно пойти в амбар, сударь!
Промышленник несколько мгновений смотрел на него, потом повернулся и бросился бегом к амбару. Астроном последовал за ним. Вдогонку им несся крик.
* * *
Промышленник воззрился на них, потом перевел взгляд на Астронома и опять на них.
— Это они?
— Они, — сказал Астроном. — Не сомневаюсь, что мы для них так же отвратительны, как и они для нас.
— Что они говорят?
— Ну, что им очень неудобно, они утомлены я нездоровы, но что при посадке они пострадали несерьезно и что ребята обращались с ними хорошо.
— Обращались хорошо! Схватили их, держали в клетке, совали траву и сырое мясо! Скажите, а я могу с ними поговорить?
— На это нужно время. Настройтесь на одну волну с ними. Вы примете сигналы, но, возможно, не сразу.
Промышленник сделал попытку. От напряжения лицо его скривилось в гримасу, он передавал одну и ту же мысль: «Мальчишки не знали, кто вы такие».
И внезапно в его мозгу мелькнула мысль: «Мы все прекрасно понимали и именно потому не атаковали их».
«Атаковали их?» — подумал Промышленник и, погруженный в свои мысли, произнес это вслух.
«Ну да, конечно, — пришла ответная мысль. — Ведь мы вооружены».
Одно из омерзительных созданий подняло металлический предмет, и внезапно в крышке клетки и в крыше амбара появились отверстия с обуглившимися краями.
«Мы надеемся, — передавали эти существа, — что будет несложно отремонтировать крышу».
Промышленник почувствовал, что сбился с волны. Он повернулся к Астроному.
— И с таким оружием они дали себя захватить и оказались в клетке?
Не понимаю.
И получил спокойный ответ:
«Мы никогда не трогаем детей мыслящих существ».
* * *
Вечерело. Промышленник и думать забыл об ужине.
— Вы верите в то, что корабль полетит? — спросил он.
— Если они так сказали, значит полетит, — ответим Астроном. — Надеюсь, скоро они вернутся.
— И когда они к нам вернутся, я выполню соглашение, — энергично сказал Промышленник. — И даже больше: я переверну небо и землю, чтобы их признал весь мир. Я был не прав, доктор. Создания, которые не причинили вреда детям, хотя их буквально толкали на это, достойны восхищения. Но знаете, мне очень трудно говорить…
— О ком?
— Да о ребятах. О вашем и моем. Я почти горжусь ими. Схватить таких существ, прятать их, кормить или хотя бы пытаться накормить. Это поразительно. Рыжий сказал мне, что это он придумал — использовать их для выступления в цирке. Подумать только!
А Астроном сказал:
— Молодость!
* * *
— Скоро стартуем? — спросил Торговец.
— Через полчаса, — ответил Исследователь.
Они отправятся в одинокое путешествие. Остальные семнадцать членов экипажа погибли, и прах их останется на чужой планете. В обратный путь они отправятся на поврежденном корабле и поведут его вручную, рассчитывая только на своя сипы.
— Хорошо, что мы не тронули этих мальчишек, — сказал Торговец. — Мы заключили очень выгодные сделки, очень выгодные.
«Сделки», — подумал Исследователь.
— Они собрались, чтобы проводить нас, — сказал Торговец. — Все как один. Вам не кажется, что они стоят слишком близко?
— Им ничто не угрожает.
— Какая у них отталкивающая внешность, а?
— Зато их внутренний мир подкупает. Они настроены абсолютно дружелюбно.
— Глядя на них, этого не скажешь. Вон тот юнец, который первым подобрал нас…
— Они зовут его Рыжим.
— Странное имя для чудовища. Смешное. Он, кажется, всерьез расстроен тем, что мы улетаем. Только я что-то не разберу, почему. Будто тем самым мы лишаем его чего-то. Я не очень-то понял.
— Цирк, — коротко сказал Исследователь.
— Что? Почему? Чудовищная нелепость!
— А отчего бы и нет? Что бы сделали вы сами, если бы нашли его спящим на поле на Земле: красные щупальца, шесть ног, псевдоподии и прочее в том же роде?
* * *
Рыжий смотрел, как отлетает корабль. Красные щупальца — из-за них он получил свое прозвище — все еще колыхались, выражая сожаление об утраченной надежде, а глаза на ножках были полны желтоватыми кристаллами, которые соответствовали нашим земным слезам.
Что, если…
Разумеется, Норман и Ливи опаздывали — когда спешишь на поезд, в последнюю минуту непременно что-нибудь да задержит, — и в вагоне почти не осталось свободных мест. Пришлось сесть впереди, так что взгляд упирался в скамью напротив, обращенную спинкой к движению и примыкавшую к стенке вагона. Норман стал закидывать чемодан в сетку, и Ливи досадливо поморщилась.
Если какая-либо пара сядет напротив, придется всю дорогу до Нью-Йорка, несколько часов кряду, с глупейшим ощущением неловкости пялить глаза друг на друга, что едва ли приятнее — Оттородиться барьерами газетных листов. Но искать по всему поезду, не найдется ли еще где-нибудь свободного места, тоже нет смысла.
Нормана, кажется, все это ничуть не трогало, и Ливи немножко огорчилась. Обычно они на все отзываются одинаково. Именно поэтому, как уверяет Норман, он и по сей день нимало не сомневается, что правильно выбрал себе жену.
«Мы подходим друг другу, Ливи, это главное, — говорил он. — Когда решаешь головоломку и один кусочек в точности подошел к другому, значит он то здесь и нужен. Никакой другой не подойдет. Ну а мне не подойдет никакая другая женщина».
А она смеется и отвечает:
«Если бы в этот день ты не сел в трамвай, мы бы, наверное, никогда бы и не встретились. Что бы ты тогда делал?»
«Остался бы холостяком, разумеется. И потом, не в тот день, так в другой, все равно, я бы познакомился бы с тобой через Жоржетту».
«Тогда все вышло бы по-другому».
«Нет, так же».
«Нет, не так. И потом, Жоржетта ни за что бы меня с тобой не познакомила. Она тебя приберегала для себя и уж постаралась бы не обзаводиться соперницей. Не тот уж у нее характер».
«Что за чепуха».
И тут Ливи — в который уже раз — спросила:
— Слушай, Норман, а что если бы ты пришел на угол минутой позже и сел бы не в тот трамвай, а в следующий? Как по твоему, что бы тогда было?
— А что если у всех рыб выросли крылья и они улетели бы на высокие горы? Что бы мы тогда ели по пятницам?
Но они тогда все-таки сели в тот самый трамвай, и рыб не растут крылья, а потому они уже пять лет женаты и по пятницам едят рыбу. И так как они женаты уже целых пять лет, они решили это отпраздновать и едут на неделю в Нью-Йорк.
Тут она вернулась к настоящему:
— Неудачные нам все-таки попались места.
— Да, верно, — сказал Норман. — Но ведь напротив пока никого нет, так что мы более или менее одни хотя бы до Провиденса.
Но Ливи это не утешило, и недаром она огорчилась: по проходу шагал маленький кругленький человечек. Откуда он, спрашивается взялся? Поезд прошел уже пол пути между Бостоном и Провиденсом. Если этот человечек раньше где-то сидел, чего ради ему вздумалось менять место? Ливи достала пудреницу и погляделась в зеркало. Если не обращать внимания на этого коротышку, может он еще и пройдет мимо. И она поправила свои светло-каштановые волосы, которые чуточку растрепались, пока они с Норманом бежали к поезду, и принялась изучать в зеркальце голубые глаза и маленький пухлый рот — Норман уверяет, что губы ее всегда сложены для поцелуя.
Недурно, подумала она, глядя на свое отражение.
Потом она подняла глаза — тот человечек уже сидел напротив. Он встретился с нею взглядом и широко улыбнулся. От улыбки во все стороны разбежались морщинки. Он поспешно стянул шляпу и положил ее на свой багаж — маленький черный ящичек. Тотчас на голове у него вокруг голой, как пустыня, лысины вздыбился венчик седых волос.
Ливи невольно улыбнулась в ответ, но тут взгляд ее снова упал на черный ящик — и улыбка угасла. Она тронула Нормана за локоть.
Норман поднял глаза от газеты. Брови у него такие грозные — черные, сросшиеся, — что впору испугаться. Но темные глаза из под этих бровей глянули на нее, как всегда, и ласково и словно бы чуть насмешливо.
— Что случилось? — спросил Норман. На человечка напротив он не взглянул.
Кивком, потом рукой Ливи пыталась незаметно показать, что именно ее поразило. Но толстяк не сводил с нее глаз, и она почувствовала себя преглупо, потому сто Норман только уставился на нее, ничего не понимая. Наконец она притянула его к себе и шепнула на ухо:
— Ты разве не видишь? Смотри, что написано у него на ящике.
И сама посмотрела еще раз. Да, так и есть. Надпись была не очень заметна, но свет падал вкось и на черном фоне виднелось блестящее пятно, а на нем старательно округлым почерком было выведено:
ЧТО ЕСЛИ…
Человечек снова улыбнулся. Он торопливо закивал и несколько раз кряду ткнул пальцем в эту надпись, а потом себе в грудь.
Норман повернулся к жене, а потом сказал тихонько:
— Наверное, его так зовут.
— Да разве такие имена бывают? — возразили Ливи.
Норман отложил газету.
— Сейчас увидишь. — И, наклонившись к человечку, сказал: — Мистер, Если?
Тот с готовностью поглядел на него.
— Не скажете ли, который час, мистер Если?
Человечек вытащил из жилетного кармана большущие часы и показал Норману циферблат.
— Благодарю вас, мистер Если, — сказал Норман. И шепнул жене: — Вот видишь.
Он уже хотел опять взяться за газету, но человечек стал открывать свой ящик и несколько раз многозначительно поднял палец, словно старался привлечь внимание Нормана и Ливи. Он достал пластинку матового стекла, примерно 9 дюймов в длину, шести в ширину и около дюйма толщиной. Края пластины были скошены, углы закруглены, поверхность совершенно слепая и гладкая. Потом человечек вытащил проволочную подставку и надежно приладил к ней пластинку. Установил это сооружение у себя на коленях и гордо посмотрел на попутчиков.
Ливи вдруг ахнула:
— Смотри, Норман, это вроде кино!
Норман наклонился поближе. Потом поднял глаза на человечка.
— Что это у вас? Телевизор новой системы?
Человечек покачал головой, и тут Ливи сказала:
— Норман, да это мы с тобой!
— То есть как?
— Разве ты не видишь? Это тот самый трамвай. Вон ты сидишь на задней скамейке, в старой шляпе, уже три года, как я ее выкинула. А вот мы с Жоржеттой идем по проходу. И толстая дама загородила дорогу. Вот, смотри! Это мы! Неужели не узнаешь?
— Какой-то обман зрения, пробормотал Норман.
— Но ведь ты же видишь, правда? Так вот почему он называет это «Что если». Эта штука нам сейчас покажет, что было бы, если… если бы трамвай не качнуло на повороте…
Она ничуть не сомневалась. Она была очень взволнована и ничуть не сомневалась, что так оно и будет. Она смотрела на изображение в матовом стекле — и предвечернее солнце померкло, и невнятный гул голосов позади, в вагоне, начал стихать.
Как она помнила тот день! Норман был знаком с Жоржеттой и уже хотел встать и уступить ей место, но вдруг трамвай качнуло на повороте, Ливи пошатнулась — и шлепнулась прямо ему на колени. Получилось очень смешно и неловко, но из этого вышел толк. Она до того смутилась, что он поневоле должен был проявить какую-то учтивость, а потом и разговор завязался. И вовсе не потребовалось, чтобы Жоржетта их знакомила. К тому времени, как они оба вышли из трамвая, Норман уже знал, где Ливи работает.
Она и по сей день помнит, какими злыми глазами смотрела на нее тогда Жоржетта, как натянуто улыбнулась, когда они стали прощаться. Потом сказала:
— Ты, кажется, понравилась Норману.
— Что за глупости! — возразила Ливи. — Просто он человек вежливый. Но у него славное лицо, правда?
Всего через каких-нибудь полгода они поженились.
И вот он опять перед ними, тот трамвай, а в трамвае — Норман, она и Жоржетта. Пока она так думала, мерный шум поезда, торопливый перестук колес затихли окончательно. И вот она в тряском, тесном трамвайном вагоне. Она с Жоржеттой только что вошли.
Ливи покачивалась в лад ходу трамвая, как и остальные сорок пассажиров, — все они, стоя ли, сидя ли, подчинялись одному и тому же однообразному и нелепому ритму. Потом она сказала:
— Тебе кто-то машет, Жоржи. Ты его знаешь?
— Мне? — Жоржетта бросила рассчитанно небрежный взгляд через плечо. Ее искусно удлиненные ресницы затрепетали. — Да, немного знаю. Как по-твоему, зачем мы ему понадобились?
— Давай выясним, — сказала Ливи с удовольствием и даже капелькой ехидства. Всем известно, что Жоржетта никому не показывает своих знакомых мужчин, будто они — ее собственность, и очень приятно ее подразнить. Да и лицо у ее знакомого, кажется, очень… занятное.
Ливи стала пробираться вперед. Жоржетта нехотя двинулась следом. Наконец Ливи оказалась подле того молодого человека, и тут вагон сильно качнуло на повороте. Ливи отчаянно взмахнула рукой, стараясь ухватиться за петли. С трудом, самыми кончиками пальцев, все-таки поймала одну и удержалась на ногах. Не сразу ей удалось перевести дух. Как странно, ведь секунду назад ей казалось, что в пределах досягаемости нет ни одной петли. Почему-то у Ливи было такое чувство, что по всем законам физики она непременно должна была упасть.
Молодой человек на нее не смотрел. Он с улыбкой поднялся, уступая место Жоржетте. У него были необыкновенные брови, они предавали ему вид уверенный и властный. Да, безусловно, он мне нравится, подумала Ливи.
— Нет-нет, не беспокойтесь, — говорила между тем Жоржетта. — Мы скоро выходим, нам только две остановки.
И они вышли. Ливи сказала:
— А я думала, мы едем за покупками к Сэчу.
— Мы и поедем. Просто я вспомнила, что у меня тут есть еще одно дело. Ничего, мы и минуты не задержимся.
— Следующая станция — Провиденс! — завопило радио.
Поезд замедлил ход, прошлое вновь съежилось и ушло в пластинку матового стекла. Человечек по-прежнему улыбался им обоим.
Ливи обернулась к Норману. Ей стало страшновато.
— С тобой тоже это было? — спросила она.
— Что такое стряслось со временем? — спросил Норман. — Неужели уже Провиденс? Невероятно! — Он взглянул на часы. — Нет, видно так оно и есть. — И обернулся к Ливи. — На этот раз ты не упала.
— Значит, ты тоже видел? — Она нахмурилась. — Как это похоже на Жоржетту! Совершенно незачем было выходить на той остановке, просто она не хотела, чтобы мы с тобой познакомились. А до этого ты долго был с ней знаком, Норман?
— Нет, не очень. Просто знал в лицо, и неудобно было не уступить ей место.
Ливи презрительно скривила губы. Норман усмехнулся.
— Не стоит ревновать к тому, что не случилось, малышка. И даже если бы и случилось, какая разница? Ты все равно мне приглянулась, и уж я нашел бы способ с тобой познакомиться.
— Ты даже не посмотрел в мою сторону.
— Просто не успел.
— Так как же ты бы со мной познакомился?
— Не знаю. Уж как-нибудь да познакомился бы. Но согласись, довольно глупо сейчас об этом спорить.
Поезд отошел от Провиденса. Ливи была в смятении. А человечек все прислушивался к их шепоту, только улыбаться перестал, давая знать, что понял, о чем речь.
— Вы можете показать нам дальше? — спросила Ливи.
— Постой-ка, — прервал Норман. — А зачем тебе это?
— Я хочу увидеть день нашей свадьбы, — сказала Ливи. — Как бы это было, если бы в трамвае я не упала.
Норман с досадой поморщился.
— Слушай, это несправедливо. Может, мы бы тогда поженились не в тот день, а в другой.
Но Ливи сказала:
— Вы можете мне это показать, мистер Если?
Человечек кивнул.
Матовое стекло вновь ожило, слегка засветилось. Потом рассеянный свет сгустился в яркие пятна, в отчетливые человеческие фигурки. В ушах у Ливи слабо зазвучал орган, хотя на самом деле никакой музыки не было слышно.
Норман вздохнул с облегчением:
— Ну вот, видишь, я на месте. Это наша свадьба. Ты довольна?
Шум в поезде снова умолк; напоследок Ливи услышала свой собственный голос:
— Да, ты-то на месте. А где же я?
Ливи сидела в церкви на одной из последних скамей. Сперва она совсем не собиралась быть на этой свадьбе. В последнее время она, сама не зная почему, все больше отдалялась от Жоржетты. О ее помолвке она услышала случайно, от их общей приятельницы, и, конечно, Жоржетта выходила за Нормана. Ливи отчетливо вспомнился тот день, полтора года назад, когда она впервые увидела его в трамвае. В тот раз Жоржетта поспешила убрать ее с дороги. Потом Ливи еще несколько раз встречала Нормана, но он никогда не бывал один, между ними всегда стояла Жоржетта.
Что ж, тут и обижаться нечего, ведь Жоржетта первая с ним познакомилась. Она сегодня кажется куда красивее, чем обычно. А он всегда очень хорош.
Ей было грустно и как-то пусто на душе, словно случилась какая-то ошибка, а какая — она толком понять не могла. Жоржетта прошествовала по проходу, словно не заметив ее, но немного раньше Ливи встретилась глазами с Норманом и улыбнулась ему. И кажется он улыбнулся в ответ.
Издалека до нее донеслись слова священника: «Нарекаю вас мужем и женою…»
Вновь послышался стук колес. Какая-то женщина с маленьким сынишкой возвращалась по проходу на свое место, покачиваясь в такт движению поезда. В середине вагона, где сидели четыре девочки-подростка, поминутно раздавались взрывы звонкого смеха. Мимо, озабоченный какими-то своими таинственными делами, торопливо прошелся кондуктор.
Все это мало трогало Ливи, она словно застыла.
Она сидела неподвижно, глядя в одну точку, а за окном, сливаясь в лохматую ярко-зеленую полосу, проносились деревья, мелькали, точно в скачке, телеграфные столбы.
Наконец она сказала:
— Так, значит, вот на ком ты женился!
Норман посмотрел на нее в упор и уголок рта у него дрогнул. Он сказал беспечно:
— Это не совсем верно, Оливия. Все-таки моя жена — ты. Вспомни об этом, пожалуйста.
Она резко повернулась к нему:
— Да, ты женился на мне… потому что я свалилась к тебе на колени. А если бы я не упала, ты бы женился на Жоржетте. А если бы она не захотела за тебя выйти, ты бы женился на ком-нибудь еще. На коим попало. Вот тебе и твоя головоломка!
— Черт… меня… побери!.. — медленно, с расстановкой сказал Норман и ладонями пригладил волосы — они были прямые, только над ушами чуть кучерявились. Могло показаться, что это он схватился за голову от отчаяния. — Послушай, Ливи, — продолжил он, — глупо же поднимать шум из-за какого-то дурацкого фокуса. Не можешь же ты меня осудить за то, чего я не делал?
— Ты бы так и сделал.
— Почему ты знаешь?
— Ты сам видел.
— Я видел какую-то нелепость… наверное, это гипноз. — И вдруг громко, голосом, в котором прорывалось бешенство, он сказал человечку напротив: — Убирайтесь, мистер Если или Как-Вас-Там! Вон отсюда! Вы тут не нужны. Убирайтесь, пока я не выкинул вас за окно вместе с вашей хитрой механикой!
Ливи дернула его за локоть.
— Перестань. Перестань, сейчас же! Люди кругом!
Человечек весь съежился, спрятал черный ящичек за спину и забился в угол. Норман поглядел на него, потом на Ливи, потом на пожилую даму, которая сидела по другую сторону прохода и смотрела на него с явным неодобрением.
Он покраснел и поперхнулся еще какими-то злыми словами. В ледяном молчании доехали до Нью-Лондона, ни слова не сказали во время остановки.
Через четверть часа после того, как поезд отошел от Нью-Лондона, Норман позвал:
— Ливи!
Она не ответила. Она смотрела в окно, но ничего не видела — только стекло.
— Ливи, — повторил Норман. — Ливи! Да отзовись же!
— Что тебе? — глухо спросила она.
— Послушай, это же нелепо. Я не знаю, как он это проделывает, но даже если в этом есть на грош правды, все равно ты несправедлива. Почему ты остановилась на пол пути? Допустим, что я и впрямь женился на Жоржетте, ну а ты? Разве ты осталась одна? Откуда я знаю, может ко времени моей предполагаемой женитьбы ты уже была замужем за другим. Может поэтому я и женился на Жоржетте.
— Я не была замужем.
— Откуда ты знаешь?
— Уж я бы разобралась. Я то знаю о чем я думала в то время.
— Ну, так вышла бы замуж не позже чем через год.
Ливи злилась все сильней. Краешком сознания она понимала, что злиться нет причины, но это не утешало. Напротив, досада росла. И она сказала:
— А если бы и вышла, это бы тебя уже не касалось.
— Да, конечно. Но это бы только доказывало, что мы не можем отвечать за то, что было бы. Если бы, да кабы, да во рту росли грибы…
Ливи гневно раздула ноздри, но промолчала.
— Послушай, — продолжал Норман. — Помнишь, мы встречали у Винни позапрошлый Новый Год? Было много народу и очень весело?
— Как не помнить! Ты мне устроил душ из коктейля.
— Это к делу не относится, да и коктейля-то было всего ничего. А я вот что хочу сказать: Винни ведь твоя лучшая подруга, мы с ней дружили давным-давно, когда мы с тобой еще не были женаты.
— Ну и что?
— И Жоржетта тоже с ней дружила, верно?
— Да.
— Ну так вот. И ты и Жоржетта все равно встречали бы у Винни Новый Год, на ком бы я не женился. Я тут ни при чем. Пускай он нам покажет, что было бы на этом вечере, если бы я женился на Жоржетте, и держу пари, ты там будешь либо с женихом, либо с мужем.
Ливи заколебалась. Честно говоря, именно это ее и пугало.
— Что, боишься рискнуть? — спросил Норман.
И, конечно, Ливи не стерпела. Она так и вскинулась:
— Ничего я не боюсь! Уж наверно я вышла замуж! Не сохнуть же по тебе! И любопытно посмотреть, как ты обольешь коктейлем Жоржетту. Она тебе при всех надает оплеух, не постесняется. Я ее знаю. Вот тогда ты увидишь, какой кусок в твоей головоломке подходящий.
И Ливи сердито скрестила руки на груди и устремила вперед взор, исполненный решимости.
Норман поглядел на человечка напротив, но просить ни о чем не пришлось. Тот уже установил на коленях матовое стекло. В окно косо светило закатное солнце, и венчик седых волос вокруг лысины человечка отливал розовым.
— Ты готова? — напряженным голосом спросил Норман.
Ливи кивнула, и они снова перестали слышать рокот колес.
Раскрасневшаяся с мороза, Ливи остановилась в дверях.
Она только что сняла пальто, на котором таяли снежинки, и обнаженным рукам было еще зябко.
Ее встретили криками: «С Новым Годом!» — и она ответила тем же, стараясь перекричать радио, которое орало во всю мочь. Еще с порога она услышала пронзительный голос Жоржетты и теперь направилась к ней. Она больше месяца не видела ни Жоржетты, ни Нормана.
Жоржетта жеманно подняла одну бровь — это она в самое последнее время завела такую манеру — и спросила:
— Ты разве одна, Оливия?
Окинула взглядом тех, что стоял поближе, и вновь посмотрела на Ливи. Та сказала равнодушно:
— Я думаю, Дик заглянет попозже. У него там еще какие-то дела.
Она не притворялась, ей и правда было все равно.
— Ну, зато Норман здесь, — сказала Жоржетта, натянуто улыбаясь. — Так что ты не будешь скучать, дорогая. По крайней мере раньше ты в таких случаях не скучала.
И тут из кухни лениво вышел Норман. В руке он держал шейкер, кубики льда в коктейле постукивали, точно кастаньеты, в такт словам:
— Эй вы, гуляки-выпивохи! Подойдите, хлебните — от моего зелья еще не так разгуляетесь… Ба, Ливи!
Он направился к ней, широко и радостно улыбаясь.
— Где вы пропадали? Я вас сто лет не видал. В чем дело? Дик решил вас прятать от посторонних глаз?
— Налей мне, Норман, — резко сказала Жоржетта.
— Сию минуту, — не взглянув на нее, отозвался Норман. — А вам налить, Ливи? Сейчас найду бокал.
Он обернулся и тут-то все и произошло.
— Осторожно! — вскрикнула Ливи.
Она видела, что сейчас будет, у нее даже возникло какое-то смутное чувство, словно так уже когда-то было, и все-таки это случилось, неизбежно и неотвратимо. Норман зацепился каблуком за ковер, пошатнулся, тщетно пытаясь сохранить равновесие, и выронил шейкер. Тот словно выпрыгнул у него из рук — и добрая пинта ледяного коктейля обдала Ливи, промочив ее до нитки.
Она задохнулась. Вокруг стало тихо, и несколько невыносимых мгновений она тщетно пыталась отряхнуться, а Норман опять и опять все громче повторял:
— Черт побери! Ах, черт побери!
Жоржетта сказала холодно:
— Очень жаль, что так вышло, Ливи. С кем не случается. Но это платье как будто не очень дорогое.
Ливи повернулась и побежала из комнаты. И вот она в спальне, тут по крайней мере никого нет и почти не слышно шума. При свете лампы на туалетном столике, затененным абажуром с бахромой, она в куче пальто, брошенных на кровать, стала отыскивать свое.
За нею вошел Норман.
— Послушайте, Ливи, не обращайте внимание на то, что она сболтнула. Я просто в отчаянии. Конечно же я заплачу…
— Пустяки. Вы не виноваты. — Она быстро замигала, не глядя на него. Поеду домой и переоденусь.
— Но вы вернетесь.
— Не знаю. Едва ли.
— Послушайте, Ливи…
Ей на плечи легли его горячие ладони…
Что-то странно оборвалось у нее внутри, словно она вырвалась из цепкой паутины, и…
…и снова послышался шум и рокот колес.
Все-таки, пока она была там… в матовом стекле… что-то пошло не так, как надо. Уже смеркалось. В вагоне зажглись лампочки. Но это неважно. И, кажется, мучительное, щемящее чувство внутри понемногу отпускает.
Норман потер пальцами глаза.
— Что случилось? — спросил он.
— Просто все кончилось, — сказала Ливи. — Как-то вдруг.
— Знаешь, мы уже подъезжаем к Нью-Хейвену, — растерянно сказал Норман. Он посмотрел на часы и покачал головой.
Ливи сказала с недоумением:
— Ты вылил коктейль на меня.
— Что ж, так было и на самом деле.
— На самом деле я твоя жена. На этот раз ты должен был облить Жоржетту. Как странно, правда?
Но она все думала о том, как Норман пошел за нею и как его ладони легли ей на плечи…
Она подняла на него глаза и сказала с жаркой гордостью:
— Я не вышла замуж!
— Верно, не вышла. Но вот, значит, с кем ты повсюду разгуливала — с Диком Рейнхардтом?
— Да.
— Может ты за него и замуж собиралась?
— А ты ревнуешь?
Норман как будто смутился.
— К чему ревную? К куску стекла? Нет, конечно!
— Не думаю, чтобы я вышла замуж за Дика.
— Знаешь, — сказал Норман, — жалко, что это так вдруг оборвалось. Мне кажется, что-то должно было случиться… — Он запнулся, потом медленно договорил: — У меня было такое чувство, будто я предпочел бы выплеснуть коктейль на кого угодно, но только не на тебя.
— Даже на Жоржетту?
— Я о ней и не думал. Ты мне, разумеется, не веришь.
— А может быть и верю. — Ливи подняла на него глаза. — Я была глупая. Норман. Давай… давай жить нашей настоящей жизнью. Не надо играть тем, что могло бы случиться, да не случилось.
Но он порывисто взял ее руки в свои.
— Нет, Ливи. Еще только один раз, последний. Посмотрим, что бы мы делали вот сейчас, Ливи. В эту самую минуту! Что было бы с нами сейчас, если бы я женился на Жоржетте.
Ливи стало страшно.
— Не надо, Норман!
Ей вспомнилось, какими смеющимися глазами и жадным взглядом смотрел он на нее, держа в руке шейкер, а Жоржетту, которая стояла тут же, словно и не замечал. Нет, не хочет она знать, что будет дальше. Пусть будет все как сейчас, в их настоящей, такой хорошей жизни.
Проехали Нью-Хейвен. Норман снова сказал:
— Я хочу попробовать, Ливи.
— Ну, если тебе так хочется…
А про себя она с ожесточением думала: это неважно! Это ничего не изменит, ничего не может измениться. Обеими руками она стиснула его руку выше локтя. Она крепко сжимала его руку, а сама думала: что бы нам там не померещилось, никакие фокусы не отнимут его у меня!
— Заводите опять свою машинку, — сказал Норман человечку напротив.
В желтом свете ламп все шло как-то медленнее. Понемногу прояснилось матовое стекло, будто рассеялись облака, гонимые неощутимым ветром.
— Что-то не так, — сказал Норман. — Тут только мы двое, в точности, как сейчас.
Он был прав. В вагоне поезда, на передней скамье, сидели две крошечные фигурки. Изображение ширилось, росло… они слились с ним. Голос Нормана затихал где-то вдалеке.
— Это тот самый поезд, — говорил он. — И в окне сзади такая же трещина…
У Ливи голова шла кругом от счастья.
— Скорей бы Нью-Йорк! — сказала она.
— Осталось меньше часа, любимая, — отвечал Норман. — И я буду тебя целовать. — Он порывисто наклонился к ней, словно не собирался ждать ни минуты.
— Не злись же! Ну что ты, Норман, люди смотрят!
Он отодвинулся.
— Надо было взять такси, — сказал он.
— Из Бостона в Нью-Йорк?
— Конечно. Зато мы были бы только вдвоем.
Ливи засмеялась:
— Ты ужасно забавный, когда разыгрываешь пылкого любовника.
— А я не разыгрываю. — Голос его вдруг стал серьезнее, глуше. Понимаешь, дело не только в том, что ждать еще целый час. У меня такое чувство, будто я жду уже пять лет.
— И у меня.
— Почему же мы с тобой не встретились раньше? Сколько времени прошло понапрасну.
— Бедная Жоржетта, — вздохнула Ливи.
Норман нетерпеливо отмахнулся.
— Не жалей ее, Ливи. Мы с ней сразу поняли, что ошиблись. Она была только рада от меня избавиться.
— Знаю. Потому и говорю — бедная Жоржетта. Мне ее жалко: она тебя не оценила.
— Ну смотри, сама меня цени! — сказал Норман. — Цени меня высоко-высоко, безмерно, бесконечно высоко, больше того: цени меня по крайней мере вполовину так, как я ценю тебя!
— А не то ты и со мной тоже разведешься?
— Ну, уж это — только через мой труп! — заявил Норман.
— Как странно, — сказала Ливи. — Я вот все думаю, что, если бы тогда под Новый Год ты не вылил на меня коктейль? Ты бы не пошел за мной, и ничего бы мне не сказал, я бы ничего и не знала. И все сложилось бы по-другому… Совсем-совсем иначе…
— Чепуха. Было бы все тоже самое. Не в этот раз, так в другой.
— Кто знает… — тихо сказала Ливи.
Стук колес того поезда перешел в нынешний стук колес. За окном замелькали огни, стало шумно, пестро — это был Нью-Йорк. В вагоне поднялась суета, пассажиры разбирали свои чемоданы.
В этой суматохе лишь одна Ливи словно застыла. Наконец Норман тронул ее за плечо. Она подняла глаза.
— Все-таки головоломка складывается только так.
— Да, — ответил Норман.
Она коснулась его руки.
— И все равно вышло нехорошо. Напрасно я это затеяла. Я думала, раз мы принадлежим друг другу, значит и все другие — те, какими стали бы мы, если б жизнь сложилась по-иному, — тоже принадлежали бы друг другу. А на самом деле неважно, что могло бы быть. Довольно того, что есть. Понимаешь?
Норман кивнул.
— Есть еще тысячи разных «если бы», — сказала Ливи. — И я не хочу знать, что бы тогда было. Никогда больше даже слов таких не скажу — что если…
— Успокойся, родная, — сказал Норман. — Вот твое пальто.
И потянулся за чемоданами.
Ливи вдруг сказала резко:
— А где же мистер Если?
Норман медленно обернулся, напротив никого не было. Оба пытливо оглядели салон.
— Может быть он перешел в другой вагон? — сказал Норман.
— Но почему? И потом, он бы тогда не оставил шляпу. — Ливи наклонилась и хотела взять ее со скамьи.
— Какую шляпу? — спросил Норман.
Ливи замерла, рука ее повисла над пустотой.
— Она была тут… я чуть чуть до нее не дотронулась! — Ливи выпрямилась. — Норман, а что если…
Норман прижал палец к ее губам.
— Родная моя…
— Прости, — сказала она. — Дай-ка я помогу тебе с чемоданами.
Поезд нырнул в туннель под Парк-авеню, и перестук колес обратился в гром.
Ах, Баттен, Баттен!
В течение каких-нибудь двух секунд я действительно его не узнавал. Он был для меня просто долгожданным клиентом, первым, кого судьба мне наконец послала за всю неделю, и, естественно, показался великолепным. Даже в смокинге в 9.45 утра он был неземным видением. Хотя из рукавов, не доходивших до запястий дюймов на шесть, свисали длинные костлявые кисти рук, а края носков и края брюк тщетно пытались встретиться, он был прекрасен, этот первый за неделю клиент.
Но затем я увидел лицо, и клиента не стало — передо мной был дядюшка Отто. Прекрасное видение исчезло. Как всегда, дядюшка напоминал старого, верного пса, которому только что ни за что ни про что дали пинка в зад. Дальнейшее мое поведение не отличалось оригинальностью. Я сказал;
— А, это вы, дядюшка Отто!
Вы бы его тоже где угодно узнали, доведись вам хоть раз увидеть эту физиономию. Когда пять лет назад на обложке журнала «Тайм» поместили его портрет (а было это в году 80-м или 81-м), по меньшей мере человек двести прислали в редакцию письма, где клялись, что вовек его не забудут. Большинство из них даже добавили что-то насчет ночных кошмаров. Вы хотите знать полное имя моего дядюшки? Пожалуйста. Зовут его Отто Шеммельмайер. Но прошу вас не делать из этого каких-либо поспешных выводов. Он всего лишь родной брат моей матери, меня же зовут Смит.
— Гарри, мой мальчик, — сказал он, и из его груди вырвался звук, похожий на стон.
Все это было впечатляюще, но не очень вразумительно. Поэтому я спросил:
— При чем здесь смокинг?
— Я взял его напрокат, — ответил дядюшка.
— Хорошо. Но зачем надевать его рано утром?
— А разве уже утро? — Он растерянно оглянулся по сторонам, подошел к окну и высунулся в него.
Вот таков он всегда, мой дядюшка Отто.
Когда мне все же удалось убедить его в том, что сейчас действительно утро, он не без труда пришел к выводу, что, должно быть, всю ночь бродил по городу.
Убрав костлявые пальцы со лба, он сказал:
— Я был так расстроен, Гарри. На этом банкете…
Пальцы помелькали в воздухе еще с минуту, а затем сжались в увесистый кулак, который несколько раз опустился на мой стол, подобно молоту, забивающему сваи.
— Хватит. Теперь я все буду делать сам.
Такие заявления мой дядюшка делал уже не в первый раз, с тех пор как началась эта история с «Эффектом Шеммельмайера». Вы удивлены? Может быть, даже считаете, что «Эффект Шеммельмайера» создал дядюшке Отто имя и сделал его знаменитым? Что ж, все зависит от того, как на это посмотреть.
Он открыл эффект еще в 1966 году, и, возможно, вам это не хуже моего известно. Короче, он изобрел германиевое реле, которое приводилось в действие биотоками мозга, или, как бы это сказать, электромагнитными полями, образующимися вокруг мозговых клеток. Он потратил годы, чтобы превратить это реле в флейту, которая играла по велению только одной вашей мысли. Это была его любовь, его жизнь, и это должно было совершить полный переворот в музыке. Отныне играть смогут все. Не надо ни таланта, ни умения. Достаточно только подумать и захотеть.
А потом лет пять назад этот парень, Стивен Уиланд, из военного концерна «Консолидейтед армс» внес в эффект кое-какие изменения и приспособил его совсем для другой цели. Он создал поле сверхзвуковых волн, которые через германиевое реле так активизировали деятельность клеток мозга, что буквально испепеляли их. С расстояния двадцати шагов можно было мгновенно убить крысу А затем выяснилось, что и человека тоже.
Уиланд получил десять тысяч долларов, а главные держатели акций «Консолидейтед армс» огребли миллионы, когда правительство купило патент.
А мой дядюшка Отто? Что же, он попал на обложку журнала «Тайм».
После этого все, кто знал его, заметили, что он загрустил. Некоторые думали, что это потому, что он ничегошеньки не получил за свое изобретение. Другие считали, что его величайшее открытие стало орудием войны и убийства.
Все это ерунда. Дело все во флейте. Она была венцом его творений. Бедный дядюшка Отто пуще всего любил свою флейту. Он всегда носил ее с собой, готовый в любую минуту продемонстрировать ее. Она висела в специальном футляре на спинке его стула, когда он завтракал, обедал или ужинал, и у изголовья его кровати, когда он спал. В воскресенье, по утрам, физическая лаборатория университета оглашалась душераздирающими звуками, издаваемыми флейтой дядюшки Отто в результате не всегда удачных попыток воспроизвести сентиментальные напевы родной Германии. Вся беда в том, что ни один фабрикант музыкальных инструментов не хотел и слышать о флейте моего дядюшки. Как только стало о ней известно, профсоюз музыкантов пригрозил расправиться с любым, кто посмеет к ней хотя бы прикоснуться; представители всех зрелищных предприятий мобилизовали своих лоббистов и приказали в случае чего немедленно ринуться в бой. Даже старик Пьетро Фаранини, заложив дирижерскую палочку за ухо, сделал представителям печати гневное заявление о гибели искусства. Это был удар, от которого дядюшка Отто по сей день не мог оправиться.
Теперь же он рассказывал:
— Вчера я так надеялся. «Консолидейтед» звонит, говорит, будет банкет в моя честь. Как знать, сказал я себе, может, они моя флейта думают купить.
Волнуясь, мой дядюшка всегда строил фразы на немецкий лад.
Его рассказ начал меня интриговать.
— Представляю! — воскликнул я. — Тысяча гигантских флейт на территории противника изрыгают рекламу столь идиотскую, что…
— Молчать, молчать! — Дядюшка Огго опустил свою ладонь на стол с треском, похожим на выстрел, отчего пластмассовый календарь судорожно подпрыгнул, захлопнулся и плашмя упал на пол. — Ты тоже шутишь? Ты тоже меня не уважайт?
— Простите, дядюшка Отто.
— Тогда слушай. Я был на банкет, где было много речей о «Шеммельмайер эффект», какую силу он разуму придал. А потом, когда я так ожидал, что они покупайт моя флейта, они сунул мне вот это!
Он вытащил что-то похожее на увесистую золотую монету стоимостью в две тысячи долларов и вдруг швырнул ею в меня. Я вовремя увернулся. Если бы монета угодила в открытое окно, она наверняка отправила бы на тот свет кого-нибудь из прохожих, но она, слава Богу, угодила в стену. Я поднял ее. По ее весу мне сразу стало ясно, что она лишь позолоченная. На одной ее стороне большими буквами было оттиснуто: «Медаль Элиаса Банкрофта Сэндфорта», а буквами поменьше: «Доктору Отто Шеммельмайеру за его вклад в науку». На другой же стороне был чей-то профиль, но явно не моего дядюшки. Во всяком случае, в нем не было сходства с породой лающих; скорее он напоминал кого-то из семейства хрюкающих.
— Это Элиас Банкрофт Сэндфорт, президент «Консолидейтед армс», — пояснил дядюшка. И продолжал свой рассказ: — Когда я понял, что это все, я вставал и очень любезно им говорил: «Джентльмены, я не нахожу слов» — и ушел.
— И бродили всю ночь по улицам? — Я проникся к нему искренним сочувствием. — Вы пришли сюда даже не переодевшись, прямо в этом смокинге?
Дядюшка Отто вытянул перед собой руку и с явным недоумением посмотрел на нее.
— В смокинге?
— Да, в смокинге, — подтвердил я.
Его длинное костлявое лицо покрылось красными пятнами. Дядюшка Отто буквально зарычал:
— Я прихожу к родной племянник с очень важным вопрос, а он только об один дурацкий смокинг говорит. Мой родной племянник!
Я дал ему выкричаться. Дядюшка Отто действительно единственный гений в нашем роду, и поэтому мы стараемся по мере возможности уберечь его от того, чтобы он не угодил в канаву или не вышел вместо двери в окно. Во всем же остальном мы даем ему полную свободу.
Наконец я спросил:
— Чем я могу быть полезен, дядюшка? — и постарался, чтобы мой вопрос прозвучал солидно и по-деловому.
После многозначительной паузы он наконец сказал:
— Мне нужны деньги.
Увы, он обратился не по адресу.
— В данный момент, дядюшка… — начал было я.
— Не твои деньги, — прервал он меня.
Я с облегчением вздохнул.
— У меня есть новый «Эффект Шеммельмайера», еще лучше, чем первый. Но я его никому не давать, никакой журнал не сообщать. Свой большой глотка я буду держать теперь закрытый. Я делаю все сам.
Он размахивал костлявыми кулаками, словно дирижировал невидимым оркестром.
— Благодаря этот новый эффект, — продолжал он, — я собираюсь делать много денег и открывать мой собственный фабрик для флейта.
— Очень хорошо, — сказал я, подумав о фабрике и кривя душой.
— Но я не знаю как.
— Плохо, — сказал я, снова подумав о фабрике и снова кривя душой.
— Беда в том, что мой ум гениален есть и я могу придумывать то, чего не может придумывать обыкновенный человек. Только, Гарри, я не умею делать деньги. Этот талант у меня нет.
— Плохо, — сказал я теперь уже вполне искренне.
— Поэтому я пришел к тебе как к адвокату.
Я осторожно хихикнул.
— Я пришел к мой племянник, — продолжал дядюшка, — чтобы он мне помог через свой хитрый, извращенный, лживый, бесчестный адвокатский профессия.
Мысленно я отнес его слова к категории неожиданных комплиментов и поторопился сказать:
— Я тоже очень люблю вас, дядюшка Отто.
Он, должно быть, уловил иронию, ибо, побагровев от гнева, закричал:
— Не смей обижаться! Смотри на меня — терпение, понимание, добродушие, болван! Кто говорит о тебе, как о человек? Как человек ты есть честный дурак, а как юрист ты должен мошенник быть. Все это знают.
Я вздохнул. Коллегия адвокатов предупреждала меня, что подобное непонимание вполне возможно в адвокатской практике.
— Что это за новый эффект, дядюшка?
— Я могу проникать в прошлое и брать оттуда любой вещь.
Моя реакция была моментальной. Сунув левую руку в левый нижний карман жилета, я извлек часы и с крайне озабоченным видом посмотрел на них, а правой рукой потянулся к телефонной трубке.
— Простите, дядюшка, — сказал я, изобразив сожаление в голосе, — но я только что вспомнил о весьма важном свидании. Так досадно, но я уже опаздываю. Всегда рад вас видеть, но боюсь, мне уже надо бежать. Да-да, видеть вас доставило мне истинное удовольствие. Пока, дядюшка, я побежал…
Но поднять телефонную трубку мне так и не удалось. Я приложил все усилия, но рука дядюшки Отто намертво прижала мою руку вместе с телефоном к столу. Силы были явно неравные. Говорил ли я вам, что мой дядюшка Отто в 32 году защищал честь Гейдельбергского университета по классу вольной борьбы?
Он нежно (как ему казалось) взял меня под локоть, и я уже не сидел, а стоял. Это сэкономило мне лишнюю трату энергии на то, чтобы самому подняться со стула (так я пытался утешить себя).
— Пошли, — сказал он. — В мой лаборатория пошли.
И он действительно отправился в свою лабораторию, а мне, поскольку я не имел под руками ножа, чтобы отсечь свою зажатую как в тисках левую кисть, пришлось последовать за ним.
Лаборатория моего дядюшки Отто находилась в самом конце коридора за поворотом, в одном из корпусов университета. С тех пор как «Эффект Шеммельмайера» стал величайшим открытием, дядюшка более не читал лекций, был освобожден от всякой научной деятельности и предоставлен самому себе. Об этом красноречиво свидетельствовал вид его лаборатории.
— Разве вы больше не запираете дверь лаборатории, дядюшка? — спросил я.
Он хитро посмотрел на меня и наморщил свой огромный нос так, будто собирался чихнуть.
— Дверь заперта. С помощью реле Шеммельмайера. Я заветное слово подумать, и дверь открывается. Кто слово не знает, дверь не открывает. Даже директор университета, даже сам привратник не открывает.
Я почувствовал легкое волнение.
— Черт побери, дядюшка! Такой замок может дать вам…
— Ха! Продать патент, чтобы разбогател еще какой-нибудь один большой дурак? После этого банкета вчера? Ни за что. Я сам разбогатеть должен.
Когда имеешь дело с дядюшкой Отто, хорошо одна- вам — никогда не приходится что-либо ему втолковывать, чтобы он уразумел. Вы наперед знаете, что это бесполезно.
Поэтому я переменил тему.
— А где же машина времени? — спросил я.
Дядюшка Отто выше меня на целый фут, весит фунтов на тридцать больше моего и здоров как бык. Когда такой человек берет вас за душу и трясет, как грушу, единственное сопротивление, которое вы способны ему оказать, — это измениться в лице.
Что я и сделал — я посинел.
Он зловеще прошипел:
— Тсс-с!
И я все понял.
Наконец он отпустил меня.
— Никто не должен знать о проект X. — Затем многозначительно повторил: — Проект X, понимаешь?
Я молча кивнул. Даже если бы я захотел что-либо ответить, я все равно бы не смог — травмы дыхательных путей, как известно, не проходят мгновенно.
— Я не прошу тебя верил, мне на слово. Я демонстрируй тебе.
Я постарался остаться у самой двери.
Он спросил:
— У тебя есть заметки, или что-нибудь с твой почерк?
Я порылся во внутреннем кармане пиджака. Где-то у меня были заметки, сделанные на тот случай, если ко мне как-нибудь все же забредет клиент.
— Не показывай мне. Надо записку порвать. Мелкий обрывки положить вот в этот мензурка.
Я разорвал листок с моими заметками на сотню мелких кусочков.
Он внимательно посмотрел на них и стал прилаживать что-то — пожалуй, это было похоже на какую-то машину. На ней на кронштейне была приделана пластина из толстого матового стекла, напоминающая поднос для зубоврачебных инструментов.
Я ждал, пока он довольно долго что-то налаживал. Наконец он сказал: «Ага!» — а я издал звук, который невозможно изобразить графически.
Над стеклянной пластиной в воздухе появилось нечто похожее на расплывчатое изображение. Чем больше я вглядывался в него, тем отчетливей оно становилось, и наконец — нет, я враг всяких сенсаций, но это действительно был лист бумаги с моими заметками, сделанными моей собственной рукой, очень разборчиво, так, что все можно было прочитать.
— Можно потрогать? — спросил я несколько хриплым голосом, отчасти от охватившего меня волнения, а отчасти от последствий деликатной манеры моего дядюшки преподавать мне уроки бдительности.
— Нет, нельзя, — ответил он и провел руку через изображение. Оно осталось нетронутым.
— Это всего лишь изображение в одном фокусе четырехмерного параболоида. Другой фокус находится в той временной точке, когда ты свой листок еще не разрывал.
Я тоже провел руку через изображение и ничего не почувствовал, кроме пустоты.
— А теперь смотри, — сказал он и повернул переключатель. Изображение исчезло. Он взял пальцами горстку обрывков, бросил в пепельницу и поджег, затем высыпал пепел в раковину и открыл кран. После этого он снова повернул переключатель, и я увидел изображение, но теперь оно было другим — не хватало сожженных дядюшкой обрывков бумаги.
— Те клочки, что вы сожгли, Дядюшка, их нет, — сказал я.
— Совершенно верно, машина времени может проследить во времени гипервекторы молекул, на которые она сфокусирована. Если же молекулы растворились в воздухе… пф-фьють!
У меня родилась идея.
— А если бы у вас был только пепел от сожженного документа?
— Проследить во времени можно только эти молекулы.
— Но они были бы слишком равномерно распределены и изображение документа получилось бы расплывчатым, нечетким, не так ли? — спросил я.
— Гм. Возможно.
Идея все больше захватывала меня.
— Послушайте, дядюшка, сколько заплатит вам полицейское управление за эту машину? Да она просто находка для следственных органов…
Я тут же осекся. Мне совсем не понравилось, как грозно вытянулся мой дядюшка, и я поспешил вежливо спросить:
— Вы, кажется, что-то хотели сказать, дядюшка?
У него все же замечательная выдержка, у моего дядюшки Отто. Он всего лишь заорал на всю лабораторию:
— Запомни раз и навсегда, племянничек! Мое изобретение — это мое изобретение. Мне нужен капитал, но капитал от другой источник, чем мои идеи продавать. Потом я фабрика флейт открывать. Это мой первый задача. Потом на доходы я строить векторная машина времени. Но сначала флейты. Самое первое мой флейта. Вчера я клятву давал. Эгоизм кучки людей мешает миру великую музыку слушать. Почему мое имя история должна запоминать как имя убийцы? Неужели «Эффект Шеммельмайер» должен жарить человеческий мозг? Или он может людям давать великую музыку? Прекрасную музыку?
И величественным жестом пророка он вытянул вперед одну руку, а другую заложил за спину. Стекла окон задребезжали от его могучего баса.
— Дядюшка, вас могут услышать, — поспешно сказал я.
— Тогда сам перестань кричать, — ответил он.
— Но как же, дядюшка, вы достанете капитал, если не используете эту машину?
— Я еще тебе не все сказал. Я могу изображение материализовать, делать как настоящая вещь. А если эта вещь очень ценная?
Это уже был другой разговор.
— Вы хотите сказать, что-нибудь вроде затерянных документов, пропавших рукописей, первых изданий? Вы это хотите сказать?
— Нет. Здесь есть один трудность. Нет, два, даже три.
Я боялся, что он будет считать и дальше, но, слава Богу, он ограничился всего лишь тремя.
— Какие же, дядюшка? — спросил я.
— Прежде всего я должен иметь вещь в настоящем, чтобы сфокусировать машину, иначе я не могу ее в прошлом найти.
— Вы хотите сказать, дядюшка, что можете достать из прошлого только то, что существует в настоящем и на что вы сами сможете поглядеть собственными глазами?
— Да.
— В таком случае трудности номер два и три — это, должно быть, лишь теоретические трудности? Что же это за трудности, дядюшка?
— Я могу извлечь из прошлого вещь весом только в один грамм. Всего один грамм! Одна тридцатая унции!
— Почему? Машина не обладает достаточной мощностью?
Дядюшка раздраженно поморщился:
— Это обратная экспоненциальная связь. Вся энергия Вселенной не сможет достать из прошлого предмет весом более двух граммов.
Это объяснение ничего мне не дало.
— Ну а третья трудность? — спросил я.
— Видишь ли. — Он умолк, раздумывая. — Чем больше расстояние между двумя фокусами, тем гибче связь. Оно должно быть определенным, это расстояние, чтобы достать вещь из прошлого. Короче, я должен попадать ровно на сто пятьдесят лет назад.
— Понимаю, — сказал я (хотя ничего не понял). — Итак, резюмируем.
Я постарался вести себя как профессиональный юрист.
— Вы хотите достать кое-что из прошлого, что помогло бы вам приобрести небольшой капиталец. Это должно быть нечто реально существующее, на что вы можете поглядеть собственными глазами, следовательно, потерянные документы, представляющие историческую или археологическую ценность, исключаются. Вещь должна быть весом меньше одной тридцатой унции, следовательно, это не может быть бриллиант «Куллинан» или что-нибудь в этом роде. Вещи должно быть не менее ста пятидесяти лет, так что какая-нибудь редкая почтовая марка исключается.
— Совершенно верно, — сказал дядюшка Отто. — Ты все правильно понимал.
Но что же я все-таки «понимал»? Я поразмыслил еще две секунды.
— Нет, я ничего не могу придумать, дядюшка. Мне, пожалуй, пора, до свидания.
Я не очень верил, что мне удастся так легко отделаться, однако все же направился к двери.
Все получилось именно так, как я и предполагал Руки дядюшки Отто железной хваткой сжали мои плечи, и я почти повис в воздухе.
— Вы испортите мне пиджак, дядюшка!
— Гарольд, — сказал он. — Как мой адвокат ты так легко от меня не отделаешься!
— Я не брал у вас зад атка, — буквально прохрипел я, ибо воротничок сорочки врезался мне в горло, Я попытался было глотнуть, и верхняя пуговица с треском отлетела.
Дядюшка немного поостыл
— Задаток — есть пустой формальность между племянник и дядя. Ты должен быть лояльный адвокат, так как я есть твой дядя и твой клиент. Кроме того, если ты мне не помогаешь. я твои ноги за шею надеваю и тобой играю, как футбольный мяч.
Будучи юристом, я не мог остаться глухим к подобного рода доводам. Поэтому я ответил:
— Хорошо, я сдаюсь. Ваша взяла, дядюшка.
Он отпустил меня.
И в эту самую секунду — когда я теперь вспоминаю все, именно этот момент представляется мне фантастически неправдоподобным, — у меня родилась идея.
Это была гениальная идея, подлинная находка, то, что случается с человеком один и только один раз в его жизни.
Тогда я не сказал всего сразу моему дядюшке Отто. Мне нужно было время, несколько дней, чтобы самому все хорошенько обдумать. Но я сказал ему, что следует делать. Я сказал, что он должен поехать в Вашингтон. Нелегко было уговорить его на это, но если хорошо знать дядюшку Отто, то это вполне возможно. Я выудил из своего портмоне две бумажки по десять долларов и отдал их ему.
— На проездные я дам вам чек, а эти двадцать долларов держите как залог, если я вдруг как адвокат поведу нечестную игру, — сказал я.
Он призадумался.
— Ты не такой дурак, чтобы рисковать двадцатью долларами.
Он был прав.
Он вернулся через два дня и объявил мне, что вещь сфокусирована. В конце концов, это не представляло трудности, ибо она была выставлена для всеобщего обозрения. Правда, она находилась в воздухонепроницаемом, наполненном азотом стеклянном ящике, но дядюшка Отто сказал, что это не имеет значения. И в лаборатории, за четыреста миль от подлинника, воспроизведение его со всей возможной точностью было вполне осуществимо. Мой дядюшка заверил меня в этом.
— Прежде чем мы начнем, дядюшка Отто, я хотел бы уточнить две вещи, — сказал я.
— Что еще? Что? Что? — Дядюшка даже заикался от нетерпения, так ему хотелось поскорее начать опыт. — Что?
Я оценил обстановку.
— Вы уверены, дядюшка, что, если мы воспроизведем какую-то часть или деталь вещи из прошлого, это не отразится на самом оригинале?
Дядюшка Отто хрустнул своими огромными костлявыми пальцами.
— Мы будем создавать вещь заново, а не воровать старую. Зачем тогда тратить такой огромный количество энергии?
Тогда я перешел ко второму вопросу;
— А мой гонорар?
Хотите верьте, хотите нет, но до этого я ни разу не заикался о деньгах. Не упоминал о них и дядюшка Отто. А теперь слушайте, что было дальше. Его рот растянулся в некое подобие приятной улыбки.
— Гонорар?
— Десять процентов от выручки, — сказал я, — это все, что я прошу.
У дядюшки отвалилась челюсть.
— А какой будет выручка?
— Возможно, тысяч сто. Вам останется девяносто тысяч.
— Девяносто тысяч! Himmel! Тогда чего же мы ждем?
Он бросился к машине, и уже через тридцать секунд над стеклянной пластиной в воздухе возникло изображение старинного пергамента.
Он весь был густо исписан аккуратным мелким почерком и напоминал представленный на конкурс образец каллиграфического искусства. Внизу стояли подписи — одна большая, размашистая, а под нею — пятьдесят пять поменьше.
Странное дело, я почувствовал, как к горлу подкатил комок.
Я видел немало репродукций Декларации независимости, но передо мной сейчас был ее бесспорный оригинал. Настоящая подлинная Декларация независимости!
— Черт побери! Поздравляю с успехом, — сказал я.
— И с сотней тысяч долларов, да? — сказал дядюшка, не забывая о деле.
Теперь настало время все ему объяснить.
— Видите, дядюшка, внизу вот эти подписи. Это имена великих американцев, отцов-основателей страны, которых мы все помним и чтим. Все, что касается их, дорого каждому истинному американцу.
— Ладно, — буркнул дядюшка Отто, — если уж ты такой патриот, я могу сыграйт тебе на моей флейта «Звездно-полосатый флаг».
Я поспешил хихикнуть, чтобы дать ему понять, что воспринял это как шутку. Ибо и впрямь испугался, что он, чего доброго, возьмет свою флейту. Вы бы поняли меня, если бы слышали, как он исполняет «Звездно-полосатый флаг» на своей чудо-флейте!
Я продолжил:
— Один из подписавших Декларацию независимости от штата Джорджия умер в 1777 году, то есть год спустя после того, как подписал этот документ. После него немногое осталось, и образцам его подлинной подписи просто цены нет. Звали его Баттен Гвиннетт.
— А что это нам даст? — спросил дядюшка Отто, продолжая, должно быть, думать только о преходящих ценностях в современном мире.
— Перед нами, — сказал я торжественно, — подлинная подпись Баттена Гвиннетта, поставленная им на самой Декларации независимости!
Дядюшка Отто погрузился в полное и абсолютное молчание. А привести его в такое состояние что-нибудь да значит. Надо, чтобы его действительно что-то по-настоящему потрясло.
— Вы видите его подпись, — продолжал я, — в левом крайнем углу рядом с подписями двух других представителей штата Джорджия — Лимана Холла и Джорджа Уолтена. Вы заметили, что все они поставили свои подписи совсем рядом, хотя было свободное место и сверху и снизу. Заглавное «Г» фамилии Гвиннетта почти сливается с именем Холла. Поэтому мы не будем их отделять, а воспроизведем все три подписи вместе. Как вы думаете, вам это удастся?
Видели ли вы когда-нибудь собаку-ищейку, которая улыбается? Ну тогда вы представляете, как выглядел в эту минуту мой дядюшка Отто.
Пятно яркого цвета упало на подписи трех сенаторов от штата Джорджия.
— Я никогда это еще не пробовал, — несколько волнуясь, сказал дядюшка.
— Как? — почти выкрикнул я. Так, значит, он сам еще не знает, как работает его машина!
— На это потребуется очень много электроэнергии. А я не хотел, чтобы университет спрашивал, чем я здесь занимаюсь. Но ты не волнуйся. Мой математика еще никогда меня не подводил.
Я молился в душе, чтобы его «математика» и на сей раз его не подвела.
Пятно становилось все ярче, все ослепительнее, и лаборатория наполнилась ровным низким гудением. Дядюшка Отто повернул переключатели — один, второй, третий.
Вы помните случай, когда весь верхний Манхэттен и Бронкс внезапно на целые полсуток лишились электричества из-за того, что перегорели предохранители на главной турбине? Не стану утверждать, что именно мы с дядюшкой Отто виноваты в этом, ибо не намерен, чтобы меня, чего доброго, еще привлекли к ответственности. Но скажу только одно. Когда дядюшка Отто повернул третий переключатель, должно быть, перегорели пробки.
В лаборатории мгновенно погас свет, а сам я очутился на полу. В ушах зазвенело, на мне лежал дядюшка Отто.
Мы кое-как поднялись на ноги, и дядюшка Отто отыскал ручной фонарик.
Осветив машину, он завопил в отчаянии:
— Короткий замыкание! Короткий замыкание! Моя машина вся погиб!
— А подписи, подписи, дядюшка? — крикнул я. — Вы получили подписи?
Он прекратил причитания.
Он посмотрел, а я — я закрыл глаза. Не очень-то легко видеть, как из-под носа уплывают сто тысяч долларов.
Но тут я услышал торжествующий вопль дядюшки: «Ага! Ага!» — и быстро открыл глаза. В руках у него был кусок пергамента — два дюйма на два. На нем стояли три подписи и самой верхней была подпись Баттена Гвиннетга.
Подпись, уверяю вас, была абсолютно подлинной. Это не была подделка.
Этот кусок пергамента на все сто процентов был подлинным документом. Я хочу, чтобы вы это поняли. На широкой ладони дядюшки Отто лежала подпись Баттена Гвиннетта, поставленная им собственноручно на куске пергамента, являющегося частью подлинной, неподдельной и единственной Декларации независимости.
Было решено, что в Вашингтон поедет дядюшка Отто. Я для этой роли не годился. Я был адвокат. Я слишком много знал. Он же был просто гениальным изобретателем, и от него не требовалось, чтобы он в чем-то разбирался. К тому же никому и в голову не пришло бы заподозрить доктора Отто Шеммельмайера в каких-либо нечестных проделках.
Мы целую неделю сочиняли подходящую версию. Я даже купил для этой цели в букинистической лавке книгу, старинную книгу о штате Джорджия времен гражданской войны. Дядюшка должен был прихватить ее с собой и сказать, что нашел этот кусок пергамента в книге — письмо континентальному конгрессу от штата Джорджия.
Дядюшка лишь пожал плечами и поднес пергамент к горелке Бунзена.
Его, физика, мало интересовала история и ее реликвии. Но тут он услышал специфический запах тлеющего пергамента. Он сбил пламя, и в руках у него остался лишь обгоревший кусок с тремя подписями. Он посмотрел на пергамент, и имя Баттена Гвиннетта вернуло его к действительности.
Он выучил наизусть все, что должен был говорить. Я предложил поджечь края пергамента так, чтобы чуть-чуть пострадала подпись сенатора Уолтона.
— Для большей правдоподобности, — пояснил я. — Конечно, подпись, где не все буквы видны, теряет свою ценность, но у нас здесь целых три подписи.
В душу дядюшки Отто закралось сомнение.
— А если они сравнивает эти подписи с теми, что на Декларации, если они замечает, что они как две капля похожи? Они подозревает подделку?
— Конечно. Но что они смогут сделать? Пергамент подлинный, чернила тоже и подписи тоже. Им придется согласиться с этим. Что бы они ни подозревали, доказать им ничего не удастся. Я надеюсь, что они поднимут шум вокруг всего этого. Им, конечно, и в голову не придет, что вы достали этот кусок из времени. А реклама лишь поднимет цену нашего пергамента.
Последняя фраза ободрила дядюшку Отто.
На следующий день он поездом отбыл в Вашингтон, мечтая о своих флейтах — длинных и коротких, флейтах-басах и флейтах-тремоло, флейтах-гигантах и микрофлейтах, флейтах для музыкантов-одиночек и для мощных оркестров. О целом мире флейт, играющих по одному только велению человеческого разума.
— Помни, — были его последние слова, — у меня нет денег починить мой машин. У нас не должно быть осечка.
— Осечки не может быть, дядюшка Отто, — заверил я его.
Не может? Ха! Ха!
Он вернулся через неделю. Я звонил ему в Вашингтон ежедневно, и каждый раз он мне отвечал, что «они исследуют».
Исследуют!
А разве вы бы не сделали этого? Но что это им даст?
Я встречал его на вокзале. Лицо его ничего не выражало. Я не посмел ни о чем спросить его на людной платформе. Хотелось только задать вопрос: «Да или нет?» — но я решил, пусть лучше он сам расскажет.
Я привез его в свою контору. Я предложил ему сигару и виски. Свои руки я спрятал под стол, но толку от этого не было — стол заходил ходуном, поэтому я сунул их в карманы, продолжая уже мелко дрожать всем телом.
Он сказал:
— Они исследовали.
— Конечно! Я же вас предупреждал, что они это сделают. Ха-ха-ха! Ха-ха?
Дядюшка медленно затянулся сигарой. Затем сказал:
— Этот тип из бюро документов пришел ко мне и говорил: «Профессор Шеммельмайер, — говорил он, — вы есть жертва хитрый обман». «Да? — спросил я. — Как может это быть обман? По-вашему, подпись не настоящий, да?» Он тогда отвечал: «Это действительно не похоже на подделку, но все-таки это есть подделка!» «Почему это есть подделка?» — спрашивайт я.
Дядюшка отложил сигару, отставил стакан с виски и наклонился ко мне через стол. Он держал меня в таком напряжении своим рассказом, что я невольно тоже придвинулся к нему поближе и поэтому в какой-то степени сам виноват во всем, что потом произошло.
— Вот именно! — залепетал я. — Почему это должно быть подделкой? Они не могут этого доказать, потому что это подлинная подпись. Какая же это подделка?!
Голос дядюшки Отто стал просто медовым.
— Мы доставали пергамент из прошлого?
— Да, конечно. Вы же сами его доставали.
— Значит, из прошлого?
— Да, сто пятьдесят лет назад. Вы же сказали…
— Сто пятьдесят лет назад пергамент, на котором написана Декларация независимости, был совсем новый, так или не так?
Я начал понемногу соображать, но все же недостаточно быстро.
Голос моего дядюшки стал подобен раскатам грома:
— …если твой Баттен Гвиннетт умирайт в 1777 год ты большой, глупый, набитый дурак, почему не соображайт, что его подпись не может сейчас стоять на совсем новый кусок пергамент?..
Далее помню только, что стены и потолок не то сдвинулись, не то рухнули, не то понеслись вокруг меня в диком плясе.
Я надеюсь скоро снова быть на ногах. На мне нет ни единого местечка, которое бы не ныло и не болело, но врачи уверяют, что все кости целы.
И все-таки дядюшка поступил нехорошо, заставив меня проглотить этот ужасный кусок пергамента.
Перст обезьяны
— Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, — сказал Марми Таллинн, писатель-фантаст, всякий раз придавая голосу новую модуляцию и высоту тона. Кадык на его длинной шее ходил ходуном.
— Нет, — отрезал Лемюэл Хоскинс, редактор научно-фантастического журнала, глядя немигающим взором сквозь стекла очков в стальной оправе.
— Значит, вы против научного опыта. Вы и слушать меня не желаете. Как это понимать? Меня забаллотировали? — Марми принялся подниматься на носках и опускаться, дыхание у него участилось. В тех местах, где он хватался за голову, волосы его спутались.
— Один против шестнадцати, — сказал Хоскинс.
— Слушайте, — не унимался Марми, — ну почему вы всегда правы? Почему я всегда не прав?
— Марми, посмотрите правде в глаза. С каждого из нас спрашивают по-своему. Упади тираж: журнала, и я погорел. Меня тут же вышвырнут. Президент фирмы «Спейс паблишерс» даже не станет задавать вопросов, уж вы мне поверьте. Он просто посмотрит цифры. Но тираж пока не падает, а растет. Выходит, я хороший редактор. Ну, а с вами дело обстоит так: когда редакторы принимают вашу продукцию, вы талант. Когда они вас отвергают, вы бездельник. В данном конкретном случае вы бездельник.
— Есть и другие редакторы. На вас, знаете ли, свет клином не сошелся. — Марми воздел руки и растопырил пальцы. — Считать умеете? Вот сколько научно-фантастических журналов с удовольствием возьмут любое произведение Таллинна, причем возьмут с закрытыми глазами.
— Ну и на здоровье, — сказал Хоскинс.
— Послушайте, — голос Марми смягчился. — Вы хотите, чтобы я внес в повествование два изменения, верно? Вам нужен был вводный эпизод с войны в космосе. И я вам его представил, вот он. — Марми помахал рукописью под носом у Хоскинса, и тот отодвинулся, будто от нее попахивало. — Но вы также хотели, чтобы в эпизод, где действие происходит на обшивке корпуса космического корабля, я ввел короткую ретроспективную сцену с действием внутри корабля, — продолжал Марми, — А вот этого вам не видать как своих ушей. Если я пойду на это изменение, я испорчу концовку, которая в ее теперешнем виде исполнена пафоса и глубокого чувства.
Редактор откинулся в кресле и воззвал к своей секретарше, которая на протяжении этого спора знай себе неторопливо печатала. К подобным сценам она привыкла.
— Вы слышите, мисс Кейн? И он еще толкует о пафосе, глубоком чувстве… Что он, писатель, может понимать в таких вещах? Да вы меня послушайте! Если вы вставите эту ретроспективную сцену, вы усилите напряжение, уплотните сюжет, прибавите ему убедительности.
— Каким же образом я прибавлю ему убедительности? — в отчаянии вскричал Марми. — По-вашему, если я заставлю ребят в космическом корабле толковать о политике и социологии, когда они того и гляди взорвутся, повествование от этого станет убедительнее? О Господи Боже!
— А больше ничего и не остается. Если вы начнете толковать о политике и социологии после кульминации, читатель у вас заснет.
— Но я же пытаюсь доказать вам, что вы ошибаетесь. И я могу это доказать. Какой прок от разговоров, когда я условился о научном эксперименте…
— О каком еще эксперименте? — Хоскинс снова обратился к секретарше: — Как вам это нравится, мисс Кейн? Он уже вообразил себя одним из своих героев.
— Так уж вышло, что я знаком с одним ученым.
— С кем именно?
— С доктором Арпдтом Торгессоном, профессором психодинамики из Колумбийского университета.
— Сроду о таком не слыхал.
— Я полагаю, это о многом говорит, — с презрением сказал Марми. — Вы никогда о нем не слыхали! Да вы и об Эйнштейне-то услышали только тогда, когда ваши авторы стали упоминать о нем в своих рассказах!
— Очень смешно. Ну, и что этот Торгессон?
— Он разработал способ научного определения ценности литературного произведения. Это огромная работа… она… она…
— И она закрытая?
— Разумеется, закрытая. Он же не профессор от научной фантастики. В научной фантастике, когда человек придумывает какую-нибудь теорию, он тут же растрезвонивает о ней в газетах. В настоящей жизни такого не бывает. Ученый порой годами экспериментирует, прежде чем что-нибудь напечатать. Публикация — дело нешуточное.
— Тогда откуда об этом знаете вы, если не секрет?
— Так уж вышло, что доктор Торгессон — мой поклонник. Так уж случайно оказалось, что ему нравятся мои рассказы. Так уж получилось, что он считает меня лучшим из всех писателей-фантастов.
— И он знакомит вас со своей работой?
— Совершенно верно. Я как будто чувствовал, что вы встанете на дыбы из-за этого рассказа, и попросил его устроить для нас показательный опыт. Он обещал — если только мы не станем болтать. Он сказал, что эксперимент будет интересный. Он сказал…
— Что же в нем такого тайного?
— Ну… — Марми замялся. — Послушайте, а что, если бы я сказал вам, что у него есть обезьяна, которая из головы может отстукивать на машинке «Гамлета»?
Хоскинс в тревоге воззрился на Марми.
— Что это вы тут устраиваете? Хотите сыграть со мной злую шутку? — Он повернулся к мисс Кейн: — Когда писатель десять лет строчит научную фантастику, его для вящей безопасности надо держать в клетке-одиночке.
Мисс Кейн знай себе размеренно печатает.
— Вы слышали, что я сказал, — продолжал Марми. — Обыкновенная обезьяна, на вид даже смешнее среднестатистического редактора. Я договорился на сегодняшний полдень. Пойдете со мной или нет?
— Разумеется, нет. Вы думаете, я оставлю кучу рукописей вот такой высоты, — он провел рукой по горлу, — ради ваших глупых шуток? Вообразили себя комиком, а я, значит, должен вам подыгрывать?
— Если это шутка, Хоскинс, я угощаю вас обедом в любом ресторане по вашему выбору. Мисс Кейн свидетель.
Хоскинс откинулся в кресле.
— Вы угостите меня обедом?! Вы, Мармадъюк Таллинн, самый известный в Нью-Йорке тунеядец, живущий в долг, собираетесь уплатить наличными?!
Марми всего передернуло — и не оттого, что его упрекнули в скупердяйстве, а потому, что произнесли его имя полностью, все его три ужасных слога.
— Повторю, — заявил он, — обед за мной: где хотите и что хотите. Бифштекс, грибы, грудка цесарки, марсианский аллигатор — что угодно.
Хоскинс встал и взял шляпу с крышки ящика для картотеки.
Да ради того только, чтобы поглядеть, как вы разворачиваете огромные старинные долларовые купюры, которые прячете в ложном каблуке своей левой туфли с тысяча девятьсот двадцать восьмого года, я бы пошел пешком в Бостон…
Доктор Торгессон был польщен. Он тепло пожал Хоскинсу руку и сказал:
— Я читаю «Космические истории». С тех самых нор, как приехал в эту страну, мистер Хоскинс. Превосходный журнал. И особенно мне нравятся рассказы мистера Таллинна.
— Вы слышите? — не удержался Марми.
— Слышу. Марми говорит, что у вас, профессор, есть какая-то одаренная обезьяна.
— Да, — ответил Торгессон, — но, разумеется, это должно остаться между нами. К публикациям я еще не готов, а преждевременная шумиха может погубить мою профессиональную карьеру.
— Дальше редактора не пойдет, профессор.
— Хорошо, хорошо, садитесь, джентльмены, садитесь. — Он принялся вышагивать перед ними туда-сюда. — Что вы сказали мистеру Хоскинсу о моей работе, Марми?
— Ничего, профессор.
— Так. Ну, мистер Хоскинс, поскольку вы редактор журнала научной фантастики, мне, я полагаю, не нужно спрашивать, имеете ли вы представление о кибернетике.
Хоскинс сверкнул из-под очков в стальной оправе взглядом, в котором сконцентрировались все его умственные способности.
— Ну да. Счетные машины… Массачусетский технологический институт… Норберт Винер… — Он пробормотал что-то еще.
— Да-да. — Торгессон зашагал быстрее. — Тогда вы должны знать, что на принципах кибернетики созданы компьютеры для игры в шахматы. Правила шахматных ходов и задачи игры встроены в их схемы. Возьмите любое положение на доске, и машина вычислит все возможные ходы с их последствиями и выберет тот единственный, который обеспечит наибольшую вероятность победы в партии. Машину даже можно настроить так, что она будет учитывать темперамент противника.
— Ну да, — согласился Хоскинс, задумчиво поглаживая подбородок.
— Теперь представьте ситуацию, в которой вычислительной машине предложат отрывок из литературного произведения, к которому компьютер затем сможет добавить слова из своего запаса. Из того словаря, который служит материалом для создания величайших литературных ценностей. Естественно, эту машину пришлось бы научить, что означают различные клавиши на пишущей машинке. Разумеется, подобный компьютер был бы гораздо сложнее, чем любой шахматный.
Хоскинс беспокойно заерзал.
— А как же обезьяна, профессор? Марми упоминал какую-то обезьяну.
— Но ведь именно к этому я и подхожу, — сказал Торгессон. — Естественно, ни одна рукотворная машина не может быть достаточно сложной. Другое дело — человеческий мозг. Он и сам по себе уже вычислительная машина. Разумеется, я не могу использовать мозг человека: этого мне, увы, не позволяет закон. Но даже и мозг обезьяны, если им умело манипулировать, в состоянии сделать гораздо больше, чем любая машина, когда-либо созданная человеком. Подождите! Пойду принесу крошку Ролло.
Он вышел из комнаты. Хоскинс подождал немного, потом с опаской посмотрел на Марми и сказал:
— Эх, братец!
— В чем дело? — спросил Марми.
— В чем дело?! Да ведь этот человек самозванец. Скажите мне, Марми, где вы наняли этого жулика?
— Жулика?! — оскорбился Марми. — Ну знаете! Мы находимся в кабинете настоящего профессора в Фейеруэзер-холл, Колумбийский университет. Надеюсь, хоть Колумбийский университет вы узнаете? На 116 авеню вы видели статую Альма Матер. Я еще показал, где кабинет Эйзенхауэра.
— Разумеется, но…
— А это кабинет доктора Торгессона. Взгляните на эту пыль — он дунул на какой-то учебник и поднял целое облако пыли. — Одна эта пыль уже говорит о том, что тут все самое настоящее. А взгляните-ка на заглавие этой книжки: «Психодинамика человеческого поведения». Автор — профессор Арндт Ролф Торгессон.
— Допускаю, Марми, допускаю. Есть какой-то Торгессон, а это его кабинет. Как вы пронюхали, что настоящий Торгессон в отпуске, и как вам удалось воспользоваться его кабинетом, я не знаю. Но неужели вы пытаетесь убедить меня, что этот шут с его обезьянами и компьютерами — настоящий ученый? Х-ха!
— Судя по вашей природной подозрительности, можно сделать лишь один вывод: у вас было несчастливое и полное лишений детство.
— Подозрительность во мне развилась от постоянного общения с писателями, Марми. Ресторан я уже выбрал, и сводить меня туда вам обойдется в кругленькую сумму.
Марми фыркнул:
— Это не будет стоить мне даже того самого жалкого цента, который вы время от времени мне кидаете. Тс-с-с! Он возвращается.
К шее профессора липнула обезьянка-капуцин, имевшая очень грустный вид.
— А это, — представил профессор, — крошка Ролло. Поздоровайся, Ролло.
Обезьянка дернула себя за вихор.
— Боюсь, он переутомился, — сказал профессор. — Ну, вот тут у меня как раз кусок его рукописи.
Он опустил обезьянку, позволив ей дернуть себя за палец, а сам тем временем вытащил из кармана пиджака два листка бумаги и протянул их Хоскинсу. Тот прочел:
«Быть или не быть, таков вопрос. Что благородней духом — покоряться пращам и стрелам яростной судьбы иль, ополчася против роя смут, сразить их противоборством? Умереть, уснуть и только; и сказать, что сном кончаешь…»
Он поднял глаза.
— Это напечатал крошка Ролло?
— Не совсем. Это копия с того, что напечатал он.
— Ах, копия. Ну, крошка Ролло не знает своего Шекспира. Здесь должно быть: «Иль ополчась на море смут».
Торгессон кивнул:
— Вы совершенно правы, мистер Хоскинс. Шекспир действительно написал «море». Но, видите ли, это смешанная метафора, На море с оружием не бросаются. Ролло выбрал односложное слово и отстукал «рой». Это одна из редких ошибок Шекспира.
— Позвольте мне понаблюдать, как он печатает, — попросил Хоскинс.
— Пожалуйста. — Профессор выкатил столик с машинкой. За ней тянулся проводок. Он объяснил: — Приходится пользоваться электрической машинкой, иначе физическое напряжение оказывается слишком большим. Необходимо также подсоединить крошку Ролло вот к этому трансформатору.
Он сделал это, используя в качестве подводящих проводов два электрода, которые едва заметно торчали из шерсти на голове зверька.
— Ролло подвергся весьма тонкой операции на мозге, в результате которой несколько проводков были вживлены в различные участки коры. Мы можем блокировать свободную деятельность мозга и, по сути дела, использовать его как компьютер. Боюсь, подробности были бы…
— Давайте посмотрим, как он печатает, — повторил Хоскинс.
— Что бы вы хотели?
— Он знает «Лепанто» Честертона? — почти не раздумывая спросил Хоскинс.
— Наизусть он ничего не знает. Его писательство — просто вычисления. Прочтите отрывок из этого произведения, чтобы он мог проникнуться настроением и высчитать продолжение.
Хоскинс кивнул, набрал в грудь воздуха и громовым голосом принялся читать:
— «Бьет в Садах Солнца сто один фонтан, Усмехается фонтанам Византийский Султан, Смех его, знак радости, предвестник беды, Колеблет черный лес, лес его бороды, Изгибает полумесяцем кроваво-красный рот: Срединным морем мира завладел султанский флот…»
— Достаточно, — сказал Торгессон. Наступило молчание. Они ждали. Обезьяна разглядывала пишущую машинку.
— Этот процесс, само собой, требует времени, — сказал Торгессон. — крошке Ролло надо принять во внимание романтичность этого стихотворения, несколько архаичный оттенок, четкий монотонный ритм и все такое прочее.
И вдруг черный пальчик потянулся и коснулся какой-то клавиши. Это была буква «б».
— Заглавных букв он не пишет, — объяснил ученый. — Не ставит и знаков препинания, да и слова не всегда отделяет друг от друга. Вот почему я обычно перепечатываю его работу, когда он заканчивает.
Крошка Ролло нажал «е», потом «л», потом «о», «с», «т», «е», «н», «н», «а», «я». Потом, после продолжительной паузы, он стукнул по пробельной клавише.
— «Белостенная», — сказал Хоскинс.
Слова печатались сами собой:
«белостенная италия от страха чуть жива в адриатике ждет гибель веницейского гольва у монархов христианских папа ради Христа молит войско для спасения святого креста»
— Боже мой! — воскликнул Хоскинс.
— Значит, у стихотворения такое именно продолжение? — спросил Торгессон.
— Видит Бог! — отвечал Хоскинс.
— Если так, значит, Честертон, должно быть, поработал на славу. Тут все на своем месте.
— Видите? — проговорил Марми, сжимая Хоскинсу плечо. — Видите, видите, видите? — И еще раз добавил: — Видите?
— Черт меня подери! — не успокаивался Хоскинс.
— А теперь, — сказал Марми, взъерошив себе волосы так, что они стали похожи на хохолок какаду, — давайте перейдем к делу. Давайте проверим мой рассказ.
— Да, но…
— Не бойтесь. Крошке Ролло это по силам, — заверил Торгессон Хоскинса. — Я частенько читаю ему отрывки из лучших образцов научной фантастики, включая многие рассказы Марми. Просто поразительно, насколько он улучшил многие произведения.
— Не в этом дело, — сказал Хоскинс. — Любая обезьяна способна писать научную фантастику лучше иных наших литературных поденщиков. Но ведь в рассказе Таллинна тридцать тысяч слов. Этому монаху понадобится целая вечность, чтобы отстукать его.
— А вот и нет, мистер Хоскинс, а вот и нет. Я прочту ему рассказ, а в самом важном месте пусть продолжает он.
Хоскинс сложил руки.
— Валяйте, я готов.
— А я и подавно, — заявил Марми и тоже скрестил руки.
Крошка Ролло, пушистый комочек, похожий на несчастного каталептика, сидел и слушал, а мягкий голос доктора Торгессона мерно повышался и понижался, пока он читал о битве в космосе и о последующей борьбе пленников-землян, стремившихся вернуть себе потерянный корабль.
Один из героев выбрался на обшивку корабля, и доктор Торгессон передавал эти колоритные события с легким восхищением. Он читал:
— «Безмолвие вечных звезд повергло Стелни в оцепенение. Саднящее колено резко напомнило о себе, когда он ждал, что чудовища услышат звук удара и…»
Тут Марми неистово дернул доктора Торгессона за рукав. Торгессон поднял глаза и отключил Ролло.
— Ну вот, — сказал Марми. — Понимаете, профессор, именно здесь Хоскинс лезет своими липкими пальцами в мою работу. Я продолжаю эпизод за пределами космического корабля. Наконец Стелни побеждает, и корабль снова оказывается в руках землян. Затем я начинаю объяснять. Хоскинс хочет, чтобы я прервал эту сцену, вернулся на борт корабля, приостановил действие на целых пять страниц, затем снова вышел в космос… Вы когда-нибудь слышали такую муру?
— Может быть, пусть все-таки решает обезьяна? — предложил Хоскинс.
Доктор Торгессон включил крошку Ролло, и черный сморщенный пальчик неуверенно потянулся к машинке. Хоскинс и Марми одновременно подались вперед, их головы мягко соприкоснулись над тельцем размышляющего крошки Ролло. Машинка отстукала букву «н».
— «Н», — подбодрил Марми, кивая.
— «Н», — согласился Хоскинс.
Машинка пробила «а», затем продолжала в более быстром темпе; «…чнут действовать стелни ждал в беспомощном ужасе что сейчас откроются шлюзовые камеры и неумолимо появятся облаченные в скафандры ларусы».
— Слово в слово, — восхищенно проговорил Марми.
— Да, у него, безусловно, ваш слащавый стиль.
— Читателям он нравится.
— Только потому, что их среднее умственное развитие… — Хоскинс умолк.
— Продолжайте, продолжайте, — подбодрил Марми. — Говорите уж. Скажите, что коэффициент их умственного развития на уровне двенадцатилетнего ребенка, и я процитирую вас во всех научно-фантастических журналах нашей страны. Скажите, ну!
— Джентльмены, — встревожился Торгессон. — Джентльмены, вы мешаете крошке Ролло.
Они повернулись к машинке, которая по-прежнему размеренно отстукивала: «звезды кружили по своим орбитам а чувствительное нутро землянина упорно подсказывало стелни что корабль вращается стоя на одном месте».
Каретка откатилась назад, чтобы начать новую строку. Марми затаил дыхание. Если что-то и произойдет, то именно сейчас.
И обезьяна, протянув палец, отстукала «*».
— Знак сноски! — завопил Хоскинс.
А Марми пробормотал:
— Звездочка…
— Звездочка?! — удивился Торгессон. Последовала строчка еще из девяти звездочек.
— Все, братец, — сказал Хоскинс. Он быстро объяснил вытаращившему глаза Торгессону: — У Марми такая привычка — пробивать строчку из звездочек, когда он хочет указать на радикальное изменение действия. А радикальное изменение действия — именно то, чего я от него добивался.
Машинка начала новый абзац: «внутри корабля…»
— Отключите его, профессор, — попросил Марми. Хоскинс потирал руки от удовольствия.
— Когда я получу переработанный вариант, Марми?
— Какой вариант? — холодно спросил тот.
— Обезьяний. Сами же говорили…
— Да, говорил. Для этого я и привел вас сюда. Этот крошка Ролло, он — машина, холодная, бесчувственная логическая машина.
— Ну и что?
— А то, что хороший писатель — не машина. Он пишет не умом, а сердцем, — Марми несколько раз стукнул себя в грудь. Хоскинс застонал.
— Что вы со мной делаете, Марми? Если вы опять заведете свою песню о душе и сердце писателя, я просто не выдержу, меня вырвет прямо здесь, сию же минуту. Давайте придерживаться обычной формулы: «Ради денег я напишу что угодно».
— Одну минуту, — сказал Марми. — Послушайте. Крошка Ролло поправил Шекспира. Вы сами указали на это. Крошка Ролло хотел, чтобы Шекспир сказал: «против роя смут». И он был прав с его машинной точки зрения. «На море смут» в данных обстоятельствах выступает как смешанная метафора. А вам не кажется, что Шекспир тоже это знал? Шекспир просто знал, когда нарушить правила, вот и все. Крошка Ролло — машина, которая правил нарушать не может. А хороший писатель может и должен. «Море смут» производит большее впечатление, в этом есть некая раскатистость, мощь. А то, что метафора смешанная, — пустяки, черт с ним.
Далее. Велев мне сменить место действия, вы руководствовались механическим правилом для поддержания напряженности повествования, поэтому, разумеется, крошка Ролло согласен с вами. Но я-то знаю, что обязан нарушить правила, чтобы не снизить глубокого эмоционального воздействия концовки, какой я ее вижу. В противном случае у меня получается механическая продукция, которую в состоянии выдать и компьютер.
— Но ведь… — начал было Хоскинс.
— Давайте голосуйте за механическое! Скажите еще, что мечтаете стать моим редактором, как крошка Ролло!
— Ладно, Марми, — с дрожью в голосе сказал Хоскинс, — я возьму рассказ в его нынешнем виде. Нет, не давайте его мне, пошлите почтой. Пойду поищу бар, если вы не против.
Он нахлобучил шляпу и повернулся, готовый уйти. Торгессон крикнул ему вслед:
— Пожалуйста, никому не рассказывайте о крошке Ролло!
Из-за хлопнувшей двери донеслось в ответ:
— Вы что, думаете я сошел с ума?
Удостоверившись, что Хоскинс ушел, Марми довольно потер руки.
— Великая вещь мозги, — сказал он и до упора вдавил палец в висок. — С каким удовольствием я продал этот рассказ, профессор. Эта сделка стоит всех предыдущих вместе взятых.
Он весело плюхнулся в ближайшее кресло. Торгессон посадил крошку Ролло себе на плечо.
— И все же, Мармадъюк, — мягко спросил он, — как бы вы поступили, если б крошка Ролло напечатал вместо своей версии вашу?
По лицу Марми пробежала грустная тень.
— Черт возьми, — сказал он, — как раз этого я от него и ждал.
Небывальщина
Первый приступ тошноты миновал, и Ян Прентисс воскликнул:
— Черт возьми, ты же насекомое!
Это звучало как констатация факта, отнюдь не как оскорбление, и нечто, сидевшее на рабочем столе Прентисса, подтвердило:
— Разумеется…
В нем было около фута росту. Тонюсенькое, со стебельками-ручками и кочерыжками-ножками, оно казалось маленькой неумелой пародией на разумное существо. И ручки и ножки брали свое начало в верхней части тела. Ножки были длиннее и толще, чем ручки, длиннее, чем само туловище, и в коленях переламывались не назад, а вперед. Нечто сидело на этих своих коленях, и конец его пушистого брюшка почти касался поверхности стола.
Времени, чтобы подметить все эти подробности, у Прентисса было хоть отбавляй. Нечто вовсе не возражало, чтобы его разглядывали. Казалось, оно привыкло вызывать восхищение, привыкло, чтобы им любовались.
— Откуда ты взялось?
Задавая свой вопрос, Прентисс был не слишком уверен, что поступает здраво. Пять минут назад он сидел себе за машинкой, неторопливо выстукивая рассказ, обещанный Хорасу Даблъю Брауну еще для прошлого номера журнала «Небывальщина и чертовщина». Настроение у Прентисса было самое обыкновенное, чувствовал он себя превосходно — и умственно и физически. И вдруг какая-то часть пространства тут же, рядом с машинкой, замерцала, заклубилась и сконденсировалась в этот нелепый кошмар, свесивший блестящие черные ножки над краем стола…
— Я авалонец, — высказался кошмар. — Из Авалона, другими словами… — Крошечное его личико заканчивалось роговыми челюстями. Пара качающихся трехдюймовых антенн поднималась из прыщей над глазами, фасеточные глаза сверкали множеством мелких граней, — и не было даже и признака ноздрей.
«Естественно, их нет, — пришла неясная мысль. — Оно должно дышать отверстиями в брюшке. Стало быть, и говорить оно должно брюшком. Или, может, с помощью телепатии…»
— Авалон? — зачем-то переспросил Прентисс. А про себя подумал: «Авалон? Страна эльфов из времен короля Артура?»
— Разумеется, — подтвердило создание, непринужденно отвечая на мысль. — Я эльф.
— Нет, нет!.. — Прентисс поднял руки к лицу, прижал их, но, когда отнял, увидел, что эльф по-прежнему тут, и ножки его постукивают по верхней доске стола. Прентисс не был ни алкоголиком, ни психопатом. Напротив, соседи считали его весьма прозаической личностью. У него был приличный животик, заметные, хоть и не очень, остатки волос на черепе, привлекательная жена и деятельный десятилетний сын. Конечно же, соседи пребывали в полном неведении, что взносы за дом он выплачивает, сочиняя фантастические рассказы для второсортных журналов.
До сих пор, однако, тайный этот порок никогда не отражался пагубно на его психике. Само собою, его жена не раз укоризненно качала головой — мнение ее сводилось, в сущности, к тому, что он растрачивает и даже извращает свои талант.
— И кто только это читает? — говаривала она. — Демоны, гномы, эльфы… Детские сказочки!..
— Ты совершенно не права, — ответствовал ей Прентисс. — Современные фантазии представляют собою вольные и, если хочешь, утонченные переработки народных мотивов. Под маской нереальности нередко кроется острый комментарий к злободневным событиям…
Бланш пожимала плечами.
— Кроме того, — добавлял он обычно, — за фантазии платят, и неплохо платят, не так ли?
— Может, и так, — отвечала она, — но как было бы славно, если б ты перестроился на детективы… По крайней мере, мы могли бы сказать соседям, чем ты зарабатываешь на жизнь…
Прентисс застонал — беззвучно, про себя. Ведь Бланш могла войти в любую минуту и застать его разговаривающим с самим собой. Нет, это все-таки слишком реально для сна — вероятно, галлюцинация. Уж после такого позора волей-неволей придется переключаться на детективы…
— Вы заблуждаетесь, — сказал эльф. — Я не сон и не галлюцинация.
— Почему же ты не исчезаешь? — спросил Прентисс.
— Дайте срок — исчезну. Перспектива поселиться здесь навсегда мне совсем не улыбается. Но вам придется последовать за мной.
— Мне? Придется? Черт побери, по какому праву ты распоряжаешься мной?
— Если вы полагаете, что это вежливо так обращаться с представителем древней культуры, то остается лишь пожалеть, что вы не получили хорошего воспитания…
— Какая там древняя культура!
Он хотел было добавить: «Просто плод моего воображения!» — но он слишком давно начал писать для того, чтобы скомпрометировать себя подобным штампом.
— Мы, насекомые, — молвил эльф свысока, — существовали за полмиллиарда лет до того, как на Земле появилось первое млекопитающее. Мы видели, как воцарились динозавры, и видели, как они вымерли. А что до вас, человекообразных тварей, — вы-то уж и вовсе новоселы…
— Так стоило ли, — заметил Прентисс, — растрачивать на нас свое высокое внимание?
— Не стал бы, — ответил эльф, — поверьте, не стал бы, если б не насущная потребность…
— Послушайте, времени у меня в обрез. Бланш… моя жена, может зайти сюда с минуты на минуту. Она будет очень расстроена…
— Она не придет, — заверил эльф. — Я заблокировал ее сознание.
— Что???
— Совершенно безвредно, уверяю вас. В конце концов, вы и сами не хотите, чтобы нас потревожили, не правда ли?
Прентисс сжался в кресле, ошеломленный и несчастный.
— Мы, эльфы, начали сотрудничество с человекообразными сразу же, как только наступил последний ледниковый период. Вы себе представить не можете, какое это было скверное для нас время. Не могли же мы носить звериные шкуры или жить в пещерах, как ваши неотесанные предки. Понадобилось невероятно много психоэнергии, чтоб сохранить тепло…
— Невероятно много чего?
— Психоэнергии. О ней вы ровным счетом ничего не знаете. Ум ваш слишком груб, чтоб уловить хотя бы суть концепции. И не перебивайте меня, пожалуйста…
Необходимость вынудила нас поставить эксперимент. Ваш человеческий мозг незрел, но велик. Клетки его неэффективны и медлительны, зато их множество. Вот нам и удалось применить ваш мозг как усилитель, как своеобразную линзу, концентрирующую психолучи, и многократно увеличить сумму используемой нами энергии. Оледенение мы пережили довольно сносно, и нам не пришлось эвакуироваться в тропики, как в эпохи предыдущих оледенений…
Разумеется, мы избаловались. Когда тепло вернулось, мы не бросили человекообразных, нет! Мы использовали их, чтобы поднять наш жизненный уровень в целом. Чтоб передвигаться быстрее, питаться лучше, успевать больше. И мы навсегда утратили наш старый, простой, целомудренный образ жизни. А потом — еще и молоко…
— Молоко? — удивился Прентисс. — Не вижу связи.
— Божественная жидкость! Сам я пробовал ее лишь однажды, но классическая поэзия эльфов воспевает ее в таких выражениях… В прежние времена, бывало, вы снабжали нас молоком в достатке. Какое несчастье, что человекообразные отбились от рук!
— Отбились?..
— Двести лет назад.
— Уже неплохо.
— Да не будьте вы таким ограниченным! — сказал эльф жестко. — Сотрудничество было полезным для обеих сторон, покуда вы, человекообразные, не научились сами управлять энергией. С вашей стороны это было просто гнусно, — впрочем, чего еще от вас ждать…
— Почему же гнусно?
— Ну как вам объяснить!.. Было так хорошо освещать ночные наши пирушки светлячками — это требовало психоэнергии всего на две человечьих силы. Но вы провели повсюду электрический свет. Наши антенны годны для связи на целые мили, но вы придумали телеграф, телефон и радио. Наши слуги-кобольды добывали всевозможные руды куда эффективней, чем вы, покуда не был изобретен динамит. Вам понятно?
— Нет.
— А вы полагаете, чувствительные создания высшего порядка, эльфы, могли равнодушно взирать на то, как кучка волосатых млекопитающих теснит их и обгоняет? Это, может, и не было бы трагично, если бы мы были способны развить свою электронику или скопировать вашу, но для такой цели наша психоэнергия оказалась, увы, неприменима. И вот мы ушли от мира. Мы рассердились, зачахли, упали духом. Назовите это комплексом неполноценности, если угодно, но за последние два столетия мы мало-помалу расстались с человечеством и удалились в такие местечки, как Авалон…
Прентисс напряженно размышлял.
— Давайте-ка без обиняков. Значит, как я понимаю, вы способны читать мои мысли?
— Разумеется. Труд довольно грязный и неблагодарный, но могу, если надо. Ваша фамилия Прентисс, и вы сочиняете рассказы о том, что считаете небывальщиной. У вас есть детеныш, который сейчас находится в так называемой школе. Я знаю о вас достаточно много.
Прентисс поморщился.
— А где находится Авалон?
— Вы его все равно не найдете. — Эльф щелкнул челюстями два-три раза подряд. — И не помышляйте даже о том, чтобы вызвать полицию. Вы окажетесь в сумасшедшем доме. Авалон — если уж вы надеетесь, что это вам как-то поможет, — находится в самой середине Атлантики и к тому же совершенно невидим. Когда вы, человекообразные, придумали пароходы, то взяли себе в привычку плавать как попало, очертя голову, и мы были вынуждены накрыть весь остров психоэкраном.
Разумеется, оградить себя от инцидентов мы все-таки не могли. Однажды корабль, огромный до безобразия, стукнул нас точнехонько посередине, и потребовалась психоэнергия всего населения, чтобы придать нашему острову вид айсберга. Кажется, «Титаник» — вот какое название было на борту корабля. А сегодня над нашими головами то и дело проносятся самолеты, и с ними происходят аварии. Один раз мы подобрали несколько ящиков сгущенного молока. Тогда-то я его и попробовал…
— Ну, так почему же, черт возьми, — воскликнул Прентисс, — вам не сидится на вашем Авалоне? Почему вы здесь, а не там?
— Меня выслали, — сказал эльф со злостью. — Дурачье!..
— Выслали?..
— Вы же знаете, чем это пахнет, когда вы разнитесь ото всех хотя бы на самую малость. Я не такой, как они, и бедное дурачье, слепо верующее в традиции, вознегодовало. Они приревновали ко мне. Вот оно, лучшее объяснение. Приревновали!..
— Чем же это вы не такой, как они?
— Подайте мне вон ту лампочку, — сказал эльф. — Нет, нет, просто выверните ее из патрона…
Содрогнувшись от отвращения, Прентисс сделал, что ему было велено, и передал лампочку в лапки эльфа. Тот осторожно, пальчиками, тонкими и гибкими, словно усики, коснулся цоколя снизу и сбоку. Нить накаливания слабо засветилась.
— Боже милостивый, — вымолвил Прентисс.
— Это, — заявил эльф гордо, — мой величайший талант. Я говорил вам, что мы, эльфы, не способны применять психоэнергию к электронике. Зато я — я могу! Я не просто заурядный эльф. Я мутант! Суперэльф! Новая ступень в нашей эволюции! Этот накал, как вы понимаете, возник лишь благодаря активности собственного моего мозга. Теперь взгляните, что получится, когда я использую ваш как линзу…
И едва он произнес это, лампочка раскалилась добела, на нее стало больно смотреть. Где-то внутри, глубоко под черепом, у Прентисса возникло смутное, но отнюдь не противное ощущение сродни щекотке. Лампочка погасла, и эльф положил ее на стол позади машинки.
— Я еще не пробовал, — сказал он горделиво, — но подозреваю, что сумел бы даже расщепить ядро урана…
— Но постойте, чтоб зажечь лампочку, нужна энергия. Нельзя же просто взять ее и…
— Я ведь говорил вам — психоэнергия. Великий Оберон, ну постарайся же понять, человекообразный!..
Прентисс чувствовал растущее беспокойство, но ограничился осторожным вопросом:
— И что вы намерены делать с этим вашим даром?
— Вернуться в Авалон, разумеется. Я мог бы предоставить дурачье их собственной судьбе, но эльфам не чужд известный патриотизм… Мы вернемся обратно вместе, вы и я.
— Но постойте…
— Подумать только, — продолжал эльф, раскачиваясь взад и вперед в своего рода экстазе, — наши ночные пирушки на волшебной лужайке озарит причудливое сияние неоновых трубок. В свои летающие тележки мы впрягали раньше осиный рой — теперь мы приспособим к ним двигатели внутреннего сгорания. Когда наступало время спать, мы завертывались в листья — теперь мы покончим с этим обычаем, построим заводы по производству матрасов. Мы заживем, доложу я вам!.. А они, которые меня выслали, будут ползать передо мной на коленях…
— Но я не могу отправиться с вами, — заблеял Прентисс. — У меня обязательства. У меня жена и ребенок. Вы же не станете отрывать человека от его… от его детеныша? Не станете, правда?
— Я не жесток, — сказал эльф, уставив свои глазищи прямо на Прентисса. — У меня нежная душа эльфа. Однако есть ли у меня выбор? Мне необходим человеческий мозг, чтоб сфокусировать его на стоящих передо мной задачах, или я ничего не свершу. И вовсе не всякий человеческий мозг пригоден для этой цели…
— Почему же не всякий?
— Великий Оберон, ну пойми же ты, существо! Мозг — это тебе не пассивный кусок дерева или камня. Чтоб принести пользу, он должен вступить в сотрудничество. А сотрудничество возможно, только если сам мозг уверен, что мы, эльфы, действительно способны им управлять. Я могу, например, использовать твой мозг, но мозг твоей жены был бы для меня бесполезен. Понадобились бы годы, чтобы она поняла, кто я и откуда.
— Это черт знает что, — оскорбился Прентисс. — Уж не хотите ли вы убедить меня, что я верю в сказки? Считаю своим долгом сообщить вам, что я полный рационалист.
— Неужто? Когда я впервые тебе явился, у тебя мелькнуло было сомненьице по части снов и галлюцинаций, но ты говорил со мной, ты принял меня как факт. Твоя жена, наверно, завизжала бы и забилась в истерике…
Прентисс молчал. Он не мог придумать никакого ответа.
— В том-то и горе, — признался эльф уныло. — Практически все вы, люди, позабыли о нас с тех самых пор, как мы вас покинули. Ваши умы закрылись для нас, сделались бесполезными. Конечно, детеныши ваши верят еще в легенды о «маленьком народце», но их мозги недоразвиты и годны лишь для самых простых процессов. Повзрослев, они тут же теряют веру. Честно, я и не знаю, что бы я делал, если б не вы, писатели-фантасты…
— Что вы имеете в виду?
— Вы принадлежите к тем немногим взрослым, которые еще способны поверить в наше существование. Ты, Прентисс, более всех других. Ведь ты сочиняешь свои фантазии вот уже двадцать лет…
— Вы не в своем уме. Я вовсе не верю в то, что пишу.
— И не хочешь, а веришь. Сие от тебя не зависит. В том смысле, что если уж пишешь всерьез, то всерьез принимаешь и сюжет, и все, что к нему относится. Один — два абзаца — и вот уже твой мозг обработан настолько, что способен войти в контакт… Но к чему спорить? Я же тебя использовал. Ты видел, как загорелась лампочка. Так что придется тебе отправиться вместе со мной…
— Но я не хочу! — Прентисс скрестил упрямо руки. — Или вы можете заставить меня против воли?
— Мог бы, но насилие, видимо, принесло бы тебе вред, а этого не хочу я. Предположим, будет так. Или ты отправляешься со мной добровольно, или я пропускаю ток высокого напряжения через твою жену. Насколько я понимаю, у тебя в стране принято казнить врагов государства именно таким способом, так что тебе, вероятно, подобная мера не покажется слишком уж отвратительной. Не хотелось бы мне выглядеть чрезмерно жестоким даже по отношению к человекообразному…
Волосики на виске у Прентисса начали слипаться от пота.
— Погодите, — сказал он, — не делайте ничего такого. Давайте еще раз все обсудим…
— Обсудим, обсудим… Мне это надоело. У тебя, конечно, есть молоко. Не очень-то ты заботливый хозяин, если не предложил мне освежиться по собственному почину…
Прентисс постарался припрятать возникшую у него мысль, схоронить ее как можно дальше, в самой глубине сознания. Он произнес небрежно:
— У меня найдется кое-что получше, чем молоко. Сейчас, минуточку…
— Ни с места! Позови жену. Пусть она подаст.
— Но я не хочу, чтоб она вас видела. Она еще испугается…
— Не волнуйся, — сказал эльф. — Я управлюсь с ней так, что она не почувствует ни малейшей тревоги…
Прентисс поднял руку.
— Учти, — предупредил эльф, — как бы стремительно ты ни напал, электрический ток прошьет твою жену насквозь неизмеримо быстрее…
Рука упала. Прентисс сделал шаг к дверям кабинета.
— Бланш! — крикнул он на лестницу. — Принеси банку с гоголь-моголем и стаканчик, ладно?
— Что такое гоголь-моголь? — спросил эльф.
Прентисс постарался вложить в свой ответ весь энтузиазм. на какой только был способен.
— Это смесь молока, сахара и яиц, взбитая и восхитительно вкусная. Простое молоко по сравнению с ней совершеннейшая ерунда…
Вошла Бланш с гоголь-моголем. Ее миловидное личико ровным счетом ничего не выражало. Хотя она взглянула на эльфа, но осталось непонятным, видит ли она его.
— Пожалуйста, Ян, — сказала она и присела на старенькое, крытое кожей кресло у окна. Руки ее безвольно упали на колени. Какое-то время Прентисс с тревогой смотрел на жену.
— Вы что, собираетесь так ее здесь и оставить?
— За ней будет легче следить… Ну что же ты, предложишь мне свой гоголь-моголь?
— О, конечно! Пожалуйста!
Он налил густую белую жидкость в стаканчик для коктейлей. За два дня до того он приготовил пять таких банок для своих друзей из Нью-Йоркской ассоциации фантастов и щедрой рукой замешал туда вино, поскольку хорошо известно, что фантасты именно это и любят.
Антенны эльфа яростно затрепетали.
— Небесный аромат, — пробормотал он.
Кончиками тоненьких своих лапок он обнял стакан за донышко и поднял его ко рту. Уровень жидкости в стаканчике сразу упал.
— Когда твой детеныш вернется из так называемой школы? — спросил эльф. — Он мне нужен.
— Скоро, скоро, — ответил Прентисс нервно. Он взглянул на ручные часы. Действительно, Ян-младший должен был появиться, пронзительно требуя пирога с молоком, минут эдак через пятнадцать, не позже.
— Подливайте себе, — настойчиво сказал Прентисс, — подливайте…
Эльф весело прихлебывал.
— Как только детеныш будет здесь, — заявил он, — ты сможешь идти.
— Идти?
— В библиотеку и сразу обратно. Ты возьмешь там книги по электронике. Мне нужно точно знать, как строят телевизоры, телефоны и все такое прочее. Мне нужны инструкции по телефонной связи, правила производства вакуумных ламп. Все как можно точнее, Прентисс, и как можно подробней! Перед нами стоят огромные задачи. Нефтепромыслы, перегонка бензина, моторы, научная агротехника. Мы с тобой построим новый Авалон. Технический. Волшебную страну по последнему слову науки. Новый, небывалый мир!..
— Великолепно! — воскликнул Прентисс. — Но не забывайте про свое питье…
— Вот видишь! Ты уже загорелся моей идеей. И ты будешь вознагражден. Ты получишь дюжину самок человекообразных для себя одного…
Прентисс опасливо глянул на Бланш. Никаких признаков, что она это слышала, но кто знает?..
— А какой мне прок, — сказал он, — от дюжины сам… женщин, я хотел сказать?
— Не прикидывайся, — осадил его эльф, — будь правдив. Вы, человекообразные, известны моему народу как распутные и лживые созданья. Вот уже много поколений матери пугают вами свое потомство!..
Он поднял стакан с гоголь-моголем и, провозгласив:
— За мое потомство! — осушил его.
— Подливайте себе, — сказал Прентисс сразу же, — подливайте.
Эльф так и сделал.
— У меня будет много детей, — сказал он. — Я продолжу и разовью расу суперэльфов. Расу электр… — он икнул, — электронных чудодеев, расу необозримого будущего…
Громко хлопнула дверь внизу, и юный голос позвал:
— Мам! Эй, мама!..
Блестящие глаза эльфа, пожалуй, были слегка затуманены.
— Затем мы приступим, — говорил он, — к перевоспитанию человекообразных. Некоторые и сейчас верят в нас, остальных мы будем, — он опять икнул, — учить… Настанут прежние времена, только еще счастливее: эльфократия будет становиться все совершеннее, сотрудничество все теснее…
Голос Яна-младшего прозвучал уже ближе и с оттенком нетерпения:
— Мам, эй! Тебя что, нет дома?..
Бланш сидела неподвижно. Речь эльфа стала чуть хрипловата, равновесие он держал как-то неуверенно. Если Прентисс вообще собирался рискнуть, сейчас, вот сейчас настало самое время…
— Сиди смирно, — потребовал эльф властно, — не валяй дурака. Что в твоем гоголь-моголе есть алкоголь, я узнал в тот же миг, когда ты задумал свой идиотский план. Вы, человекообразные, весьма и весьма коварны. У нас, эльфов, про вас есть много пословиц. К счастью, алкоголь на нас почти не влияет. Вот если бы ты взял кошачью мяту и добавил к ней капельку меду… А-а, детеныш! Как поживаешь, маленький человекообразный?
Эльф застыл на столе, бокал с гоголь-моголем — на полпути к его челюстям, а Ян-младший — в дверях. Яну-младшему было десять, лицо у него было замазюкано, волосы встрепаны. В серых его глазах читалось величайшее изумление. Потертые учебники болтались на конце ремешка, зажатого в кулаке.
— Пап! — позвал он. — Что случилось с мамой? И — и что это такое?
Эльф повернулся к Прентиссу.
— Бегом в библиотеку! Нельзя терять ни минуты. Какие мне нужны книги, ты знаешь…
От притворного опьянения не осталось уже и следа, и Прентисс окончательно упал духом. Существо играло с ним как кошка с мышью. Он поднялся, чтобы идти.
— И без фокусов, — предупредил эльф. — Никаких подлостей. Твоя жена по-прежнему заложница. Убить ее я могу и с помощью мозга детеныша, на это его хватит. Правда, мне не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Я член Эльфетарианского общества этики, и мы выступаем за гуманное отношение к млекопитающим, так что можешь рассчитывать на мое благородство, если, конечно, будешь подчиняться моим приказам…
Прентисс, спотыкаясь, направился к двери.
— Пап, а оно разговаривает! — вскричал Ян-младший. — Оно грозится, что убьет маму. Эй, не уходи!..
Прентисс был уже за порогом, когда услышал, как эльф сказал:
— Не пялься на меня, детеныш. Я не причиню твоей матери вреда, если ты будешь делать все точно, как я скажу. Я эльф, волшебник и чародей. Ты, разумеется, знаешь, кто такие волшебники…
И Прентисс был уже на крыльце, когда услышал, как дискант Яна-младшего сорвался на резкий крик… Мощные, хоть и невидимые вожжи, тянувшие Прентисса из дому, вдруг порвались и исчезли. Он бросился назад, вновь обретая контроль над собой, и взлетел вверх по лестнице.
На столе лежал сплющенный черный панцирь, из-под него сочилась бесцветная жидкость.
— Я его стукнул, — всхлипывая Ян-младший. — Стукнул своими книжками. Оно обижало маму…
Понадобился час, чтобы Прентисс понял, что нормальный мир потихоньку возвращается на место и что трещины, пробитые в реальности созданием из Авалона, мало-помалу затягиваются. Сам эльф превратился уже в горстку пепла в печи для мусора на заднем дворе, и о нем напоминало теперь лишь влажное пятно под столом.
Бланш была еще болезненно бледна. Говорили они шепотом.
— Как там Ян-младший? — спросил Прентисс.
— Смотрит телевизор.
— С ним все в порядке?
— О, с ним-то все в порядке, зато меня теперь неделями будут мучить кошмары…
— Знаю. Меня тоже, пока мы не заставим себя выбросить все это из головы. Не думаю, чтобы здесь еще раз появилось что-нибудь… что-нибудь подобное.
— Не могу передать тебе, — сказала Бланш, — какой это был ужас. Я ведь каждое его слово слышала, даже пока была еще внизу в гостиной.
— Телепатия, видишь ли…
— Просто двинуться не могла, и все. Потом, когда ты вышел, я набрала сил чуть-чуть пошевелиться. А потом Ян-младший шарахнул его, и я тотчас же освободилась. Не понимаю, как и почему.
Прентисс ощутил своеобразное мрачное удовлетворение.
— А я, пожалуй, знаю, в чем тут дело. Я был под его контролем, поскольку допускал, что он существует на самом деле. Тебя он держал в повиновении через меня. А когда я вышел, он решил, что пришла пора переключиться с моего мозга на мозг Яна-младшего. Это и была его ошибка.
— Почему же ошибка? — спросила Бланш.
— Он считал само собою разумеющимся, что дети, все без исключения, верят в эльфов и волшебников. Он заблуждался. Сегодняшние американские дети ни в каких волшебников не верят. Они просто никогда о них не слышали. Они верят в Тома Корбетта и Дика Трэси, в неустрашимых сыщиков и неуловимых преступников, в сверхчеловека и во множество других вещей, но только не в волшебников. И когда он попытался завладеть сознанием Яна-младшего, ему это просто не удалось…
Прентисс засунул руки в карманы и медленно ухмыльнулся.
— Знаешь, Бланш, когда я увижусь с Уолтом Рэем, я, наверно, намекну ему, что писал до сих пор чепуху. Пришло, наверно, время, чтоб соседи и впрямь узнали…
Ян-младший, держа в руке огромный бутерброд, забрел в кабинет к отцу в погоне за недавним, но уже тускневшим воспоминанием. Папа то и дело похлопывал его по спине, и мама совала ему пирожки и печенье, а он уже забывал почему. Там, на столе, сидело какое-то чучело, которое могло разговаривать…
Все случилось так быстро, что сам он ни в чем не успел разобраться. Он пожал плечами и глянул туда, куда ударил луч предвечернего солнца — на частично уже напечатанную страницу в машинке, затем на стопку бумаги, ожидавшую на столе. Прочел немножко, скривил губу и буркнул:
— Ха! Опять чародеи. Небывальщина. Детские сказки.
И убежал на улицу.
Вера
— Тебе когда-нибудь снилось, что ты летаешь? — спросил доктор физики Роджер Туми свою жену.
Джейн Туми подняла голову:
— Конечно!
Ее быстрые пальцы безостановочно проделывали ловкие манипуляции с пряжей, в результате чего на свет рождалась изысканная и совершенно бесполезная салфеточка. Телевизор что-то негромко бормотал, но, по давно установившейся привычке, никто не обращал на него внимания.
— Всем время от времени снится, что они летают. Однако со мной это происходит постоянно, знаешь, я даже начал беспокоиться, — продолжал Роджер.
— Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, дорогой. Извини, ответила Джейн, старательно считая стежки.
— Стоит об этом задуматься, и моментально возникает множество вопросов. Сказать, что снится, будто ты летишь — неправильно. Ведь крыльев-то у тебя нет; во всяком случае у меня их никогда не бывает. И ты не прилагаешь никаких усилий. Просто паришь. Да, именно так. Паришь.
— Когда я летаю, — заявила Джейн, — в памяти у меня не остается никаких деталей. Если не считать одного случая, когда мне приснилось, что я залетела на крышу мэрии — и на мне не было никакой одежды. Почему-то в снах никто не видит, что ты совсем раздетая. Замечал? Ты просто помираешь от смущения, а люди проходят мимо и хоть бы что!
Джейн потянула за нитку, клубок выскочил из коробочки и покатился по полу, но она не обратила на это внимания.
Роджер задумчиво покачал головой. У него был длинный прямой нос, да и вообще черты лица, на котором сейчас застыло сомнение, казались чересчур резкими. В тридцать пять лет Роджер уже начинал лысеть.
— Ты никогда не задумывалась о том, почему тебе снятся полеты?
— Нет, никогда.
Джейн Туми была миниатюрной тридцатилетней блондинкой. Ее хрупкая красота производила впечатление далеко не сразу. Блестящие голубые глаза, розовые щечки фарфоровой куколки…
— Многие сны определяются реакцией нашего разума на внешние раздражители. Далеко не всегда эта интерпретация являешься правильной да и происходит все в считанные доли секунды, — сказал Роджер.
— О чем ты говоришь, дорогой? — недоуменно спросила Джейн.
— Послушай, однажды мне снилось, что я приехал в какой-то город на конференцию и остановился в отеле. Встретил там старых друзей. Все шло как обычно. Вдруг раздались крики, и я, без особой на то причины, запаниковал. Бросился к двери — не открывается! Один за другим мои приятели исчезли. Они без труда выходили из комнаты, а я никак не мог понять, как им это удается. Я кричал, но они не обращали на меня внимания.
Неожиданно я понял, что в отеле начался пожар. Я не чувствовал запаха дыма, просто мне стало ясно, что здание загорелось. Подбежав к окну, я увидел, что на внешней стене есть пожарная лестница. Я бросился ко второму окну, потом к третьему, но ни одно из них не выходило на пожарную лестницу. К этому моменту я уже оставался в комнате один. Высунувшись в окно, я принялся звать на помощь. Никто меня не слышал.
Затем появились пожарные машины — я заметил, что красные автомобили мчатся к отелю. Это мне очень хорошо запомнилось. Пронзительно дребезжал колокол пожарной тревоги, требуя, чтобы другие автомобили посторонились. Грохот колоколов становился все громче, этот звук буквально наполнил мой череп. Я проснулся. Оказалось, звонит будильник.
Спрашивается: как мне мог присниться такой длинный сон, который закончился сигналом пожарного колокола, точно совпавшим со звонком моего будильника? Гораздо естественнее предположить, что сон начал мне сниться в тот момент, когда зазвонил будильник, и мое ощущение времени кардинально изменилось. Сработало какое-то устройство в мозгу, которое в доли секунды постаралось обосновать причину шума.
Джейн нахмурилась. И даже отложила в сторону шитье.
— Роджер! С тех пор как ты вернулся из колледжа, ты как-то странно себя ведешь. Плохо ешь, а теперь еще какие-то дурацкие рассуждения. Раньше ты никогда не был таким мрачным. Тебе следует выпить соды.
— Боюсь, это вряд ли поможет, — тихо проговорил Роджер. — Что вызывает сны о полетах?
— Милый, если ты не возражаешь, я бы хотела сменить тему.
Джейн встала и твердой рукой увеличила звук в телевизоре. Молодой джентльмен с впалыми щеками и берущим за душу тенором сладкозвучно уверял ее в своей вечной любви.
Роджер выключил звук и встал, загородив экран спиной.
— Левитация! — возбужденно провозгласил он. — Вот в чем дело. Человеческое существо может воспарить только в одном случае. Проблема заключается в том, что люди не знают, как воспользоваться этим даром знание возвращается к ним лишь во сне. Именно в такие моменты человек может подняться в воздух, может быть, на десятую долю дюйма. Этого недостаточно, чтобы кто-нибудь заметил, но мозг получает необходимый импульс — нам снится, что мы летим.
— Роджер, ты бредишь. Я прошу тебя, прекрати!
Не обращая внимания на просьбы Джейн, он продолжал:
— Иногда мы медленно опускаемся, и ощущение пропадает. А в других случаях неожиданно теряем контроль и падаем. Джейн, разве тебе не снилось, что ты падаешь?
— Да, конеч…
— Ты висишь на стене дома или сидишь на краешке стула и вдруг соскальзываешь вниз. Ты падаешь… а потом просыпаешься — сердце отчаянно колотится, воздуха не хватает. А ведь ты действительно упала. Никакого другого объяснения нет.
На хорошеньком личике Джейн сначала появились удивление, потом беспокойство, а затем она с облегчением рассмеялась:
— Роджер, ты настоящий дьявол. Ловко меня провел. Ну и паршивец же ты!
— Что?
— Ну ладно, хватит, больше у тебя это не получится. Я все поняла. Ты придумал сюжет для рассказа и пытаешься опробовать его на мне. Могла бы и раньше сообразить, что не следует тебя слушать.
Роджер выглядел удивленным и даже слегка смущенным. Он подошел к креслу, где сидела Джейн, и склонился над ней.
— Нет, дорогая.
— В самом деле, ты говоришь о том, что собираешься начать писать, с тех самых пор, как я тебя знаю. Если ты и в самом деле придумал забавный сюжет, почему бы тебе не изложить его на бумаге? Зачем только меня-то пугать?
По мере того как росло возбуждение Джейн, ее пальцы двигались все быстрее и быстрее.
— Джейн, это не сюжет для рассказа.
— Но что же это еще…
— Проснувшись сегодня утром, я упал на кровать! — Роджер смотрел на жену, не мигая. — Мне снилось, что я летаю. Ощущение было совершенно отчетливым, и я помню каждое мгновение полета. Я проснулся, лежа на спине. Мне было очень удобно, и я прекрасно себя чувствовал. Только вот мне показалось, что потолок выглядит как-то необычно. Тогда я зевнул, потянулся и дотронулся до потолка. Я целую минуту разглядывал руку, пальцы которой, касались потолка. А потом я перевернулся, Джейн, я не пошевелил ни единым мускулом! Просто повернулся, потому что мне этого захотелось. И увидел, что вишу в воздухе в пяти футах над кроватью. Ты спала. Тогда я испугался. Я не знал, как к тебе спуститься… но стоило только об этом подумать, и я сразу начал падать. Очень медленно! Процесс спуска находился под полным контролем.
Наверное, еще минут пятнадцать я оставался в постели, не осмеливаясь пошевелиться. Потом встал, помылся, оделся и отправился на работу.
Джейн с трудом выдавила из себя смешок:
— Дорогой, тебе определенно стоит записать все это. Ничего страшного не произошло. Просто в последнее время ты слишком много работаешь.
— Пожалуйста, не надо банальных глупостей!
— Многие люди слишком много работают, хотя говорить об этом и считается банальной глупостью. В конце концов, ты просто спал на пятнадцать минут больше, чем тебе показалось.
— Это был не сон.
— Конечно же, сон! Не могу даже сосчитать, сколько раз мне снилось, что я проснулась, оделась и приготовила завтрак; а потом, когда я и в самом деле просыпалась, оказывалось, что придется проделать то же самое снова. Пару раз мне даже снилось, что мне все это снится, если ты понимаешь, что я имею в виду. Здесь совсем нетрудно запутаться.
— Послушай, Джейн. Я обратился к тебе с этой проблемой потому, что мне больше не к кому идти. Пожалуйста, отнесись к моим словам серьезно.
Голубые глаза Джейн широко раскрылись.
— Дорогой, я отношусь к тебе совершенно серьезно! Ведь это ты профессор физики, а не я. Ты разбираешься в гравитации, а не я. Отнесся бы ты серьезно ко мне, если бы я вдруг заявила, что летаю?
— Нет. Нет! В этом, черт возьми, все дело! Я и сам не хочу верить, но ничего другого мне не остается. Это не было сном, Джейн. Я старался убедить себя в том, что мне все приснилось. Ты и представить себе не можешь, как упорно я себя уговаривал. Войдя в аудиторию, я уже не сомневался в том, что это был самый настоящий сон… Ты не заметила во мне ничего странного за завтраком?
— Да, пожалуй… когда ты спросил меня…
— Ну, ничего особенного, наверное, не произошло, иначе ты бы обратила внимание. Так или иначе первая, девятичасовая лекция прошла прекрасно. К одиннадцати я уже обо всем забыл. Потом, сразу после ленча, мне потребовалась книга. Пейдж и… да ладно, это не имеет значения, книга была нужна, и все. Она стояла на верхней полке, и мне было до нее не достать. Джейн…
Он замолчал.
— Ну, продолжай, Роджер.
— Послушай, ты когда-нибудь пыталась взять то, что находится в одном шаге от тебя? Ты приподнимаешься и делаешь шаг в нужном направлении, одновременно протягивая руку. Все это происходит совершенно непроизвольно. Тело само делает необходимые движения.
— Ну хорошо, и что из того?
— Я потянулся за книгой и машинально сделал шаг вверх. По воздуху, Джейн! По воздуху!
— Я позвоню Джиму Сарлю, Роджер.
— Черт возьми, я совершенно здоров.
— Думаю, ему следует с тобой встретиться. Он ведь наш друг. Собственно, это и не визит к врачу. Он просто с тобой побеседует.
— И что это даст? — Лицо Роджера покраснело, потому что он вдруг разозлился.
— Посмотрим. А теперь посиди, Роджер. Пожалуйста. — Джейн направилась к телефону.
Он остановил ее, схватив за руку:
— Ты мне не веришь.
— О, Роджер…
— Ты не веришь.
— Я тебе верю. Конечно. Я тебе верю. Я просто хочу…
— Да. Ты просто хочешь, чтобы Джим Сарль поговорил со мной. Вот насколько ты мне веришь. Я говорю правду, а ты хочешь обратиться к психиатру. Послушай, ты вовсе не должна верить мне на слово. Я могу доказать свою правоту, доказать, что умею парить.
— Я верю тебе.
— Не будь дурой. Я знаю, когда меня пытаются ублажить. Встань спокойно и смотри.
Роджер отошел на середину комнаты и без малейшего промедления оторвался от пола. Он висел в воздухе; носки его туфель болтались в шести футах над ковром.
Глаза и рот Джейн превратились в три большие буквы «О».
— Роджер, спустись — прошептала она. — О Господи, спустись скорей, пожалуйста.
Он медленно поплыл вниз, его ноги бесшумно коснулись пола.
— Ну, видишь?
— Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Джейн, не отрываясь, смотрела на мужа, в ее глазах застыл ужас.
На экране телевизора полногрудая женщина беззвучно пела о том, что она просто мечтает воспарить в небеса с одним парнем.
Роджер Туми сидел, уставившись в темноту спальни.
— Джейн, — прошептал он.
— Что?
— Ты не спишь?
— Нет.
— Я тоже не могу заснуть. Я все время держусь за изголовье кровати, чтобы быть уверенным в том… ну, ты знаешь.
Его рука нервно дернулась, и он осторожно коснулся лица жены. Джейн вздрогнула, словно ее ударило электрическим током, и отпрянула в сторону.
— Извини, я немножко нервничаю, — сказала она.
— Да ничего, я все равно собираюсь вставать.
— Зачем? Тебе нужно выспаться.
— Все равно не получается, нет никакого смысла не давать спать еще и тебе.
— Может, ничего и не произойдет. Может, это не должно случаться каждую ночь. Ведь позавчера все было в порядке.
— Откуда мне знать? А если я просто не поднимался так высоко? Или не просыпался, поэтому ничего и не замечал. В любом случае теперь все изменилось.
Роджер сидел на кровати, спустив ноги, обхватив руками колени и положив на них голову. Потом отбросил простыню в сторону и потерся щекой о мягкую фланель пижамы.
— Теперь все будет иначе. Я постоянно об этом думаю. Стоит мне заснуть и перестать за что-нибудь держаться, я обязательно взлечу.
— Не понимаю, почему ты так в этом уверен? Ведь полет должен требовать определенных усилий.
— В том-то и дело, что это совсем не так.
— Но тебе же приходится преодолевать тяготение?
— Приходится, только при этом я не прилагаю никаких усилий. Видишь ли, Джейн, если бы я только мог понять механизм того, что со мной происходит, я бы так не переживал.
Он немножко поболтал ногами и встал.
— Не хочу больше об этом говорить.
— Я тоже, — пробормотала Джейн и заплакала.
Отчаянно стараясь подавить рыдания, она сдавленно всхлипнула, и Роджеру стало еще хуже.
— Прости меня, Джейн, — сказал он. — Прости, что нарушаю твой покой.
— Нет, не трогай меня. Просто… просто оставь одну.
Он сделал несколько неуверенных шагов в сторону от кровати.
— Куда ты? — спросила Джейн.
— На диван, в кабинет. Ты мне поможешь?
— Как?
— Я хочу, чтобы ты меня привязала.
— Привязала?
— Да, веревками. Так, не очень крепко, чтобы я мог ворочаться. Поможешь?
Босые ноги Джейн уже искали в темноте тапочки.
— Ладно, — со вздохом согласилась она.
Роджер Туми сидел в маленькой каморке, которая считалась его кабинетом, и смотрел на кипу контрольных работ, сложенных на столе. В данный момент он не очень ясно представлял себе, как сможет их проверить.
Он успел прочитать пять лекций по электричеству и магнетизму с той первой ночи, когда обнаружил, что умеет летать. Каким-то образом ему удавалось доводить лекции до конца, хотя далеко не всегда все шло гладко. Студенты часто задавали дурацкие вопросы, из чего Роджер сделал вывод, что его лекции потеряли прежнюю стройность.
Сегодня ему удалось избежать необходимости читать лекцию благодаря тому, что он устроил неожиданную контрольную работу. Он не стал утруждать себя составлением нового варианта; просто воспользовался тем, который предлагал своим студентам несколько лет назад.
Теперь ему предстояло проверить работы и оценить их. Зачем? Разве имеет значение то, что в них написано? Да и вообще, имеют ли какой-нибудь смысл все постулаты физики? И уж если на то пошло, в чем они заключаются и существуют ли на самом деле?
Может быть, это вовсе не гармоничные законы, а сплошная путаница, из которой нельзя сделать никаких разумных выводов? И Вселенная, несмотря на то что утверждают эти законы, есть исходный хаос, дожидающийся того момента, когда явится Дух и наведет порядок?
Ко всему прочему Роджера сильно донимала бессонница. Даже привязавшись к дивану, он не спал как следует; если ему и удавалось ненадолго заснуть, его постоянно преследовали сны.
В дверь постучали.
— Кто там? — сердито крикнул Роджер.
После короткой паузы последовал неуверенный ответ:
— Это мисс Хэрроуэй, доктор Туми. Я принесла письма, которые вы диктовали.
— Ну, тогда заходите скорее, не стойте в дверях.
Секретарша приоткрыла дверь на минимально необходимое расстояние и протиснула свое худое, невзрачное тело в кабинет. В руках она держала стопку бумаг. К каждому листочку была скрепкой прикреплена копирка и конверт с адресом.
Роджеру не терпелось поскорее от нее избавиться. В этом и заключалась его ошибка: когда секретарша направилась к столу, он потянулся за письмами и почувствовал, что приподнимается со стула. Сохраняя сидячее положение, Роджер скользнул на два фута вперед, и только тогда сообразил, что происходит. Он заставил себя резко опуститься вниз и чуть не потерял равновесия. Однако это уже не имело значения.
Ни малейшего.
Мисс Хэрроуэй выпустила из рук письма, и они разлетелись в разные стороны. Потом она вскрикнула, повернулась, ударилась плечом о дверь, вылетела в коридор и помчалась прочь, громко стуча высокими каблуками.
Роджер встал, потирая ушибленное бедро.
— Проклятье! — выругался он.
Его все время преследовала мысль о том, какое впечатление он произвел на несчастную секретаршу. Он видел себя ее глазами: здоровенный мужчина медленно поднимается над своим столом и, продолжая сохранять сидячее положение, летит к ней.
Он поднял разбросанные письма и закрыл дверь в кабинет. Было уже довольно поздно, коридор давно опустел; мисс Хэрроуэй вряд ли станет рассказывать кому-нибудь о том, что видела. И все же Роджер с беспокойством ждал, что вокруг его кабинета начнет собираться толпа.
Однако ничего особенного не произошло. Возможно, мисс Хэрроуэй выскочила из коридора и грохнулась в обморок. Роджер подумал, что ему следовало бы проверить, все ли с ней в порядке, но потом он решил послать свою чересчур щепетильную совесть к дьяволу. Пока он не выяснит, что же такое с ним происходит, почему не прекращается этот ужасный кошмар, особенно высовываться не следует.
Нужно сидеть очень тихо, и так уже сделано достаточно глупостей.
Роджер просмотрел письма: по одному каждому крупному физику-теоретику страны. Местные корифеи вряд ли сумели бы справиться с его проблемой.
Интересно, подумал он, поняла ли мисс Хэрроуэй, о чем письма? Он надеялся, что нет. Письма были сознательно составлены с использованием множества специальных терминов; возможно, их было даже больше, чем требовалось. Частично для того, чтобы продемонстрировать скромность; частично, чтобы подчеркнуть тот факт, что он сам, Роджер Туми, является серьезным ученым.
Он разложил письма по конвертам. Лучшие физики страны… Смогут ли они что-нибудь сделать?
В библиотеке царила тишина. Роджер Туми закрыл журнал «Теоретическая физика» и мрачно уставился на заднюю обложку. Журнал «Теоретическая физика»!.. Что, в конечном счете, понимают авторы той наукообразной галиматьи, которая напечатана в журнале? Эта мысль расстроила Роджера. Еще совсем недавно он считал этих людей образцом для подражания.
К тому же он жил, следуя их философии и кодексу чести. Вместе с Джейн, которая все более неохотно ему помогала, Роджер сделал кое-какие измерения. Он попытался обследовать феномен со всех сторон, выразить свои новые возможности в конкретных цифрах. Короче говоря, принялся атаковать проблему единственно известным ему способом — надеясь установить связь между новым явлением и вечными законами, которым должна следовать Вселенная.
(Должна следовать. Лучшие умы так считают.)
Только вот измерять было нечего. Ему не требовалось прилагать никаких усилий, чтобы взлететь. Дома — Роджер, конечно же, не решался проводить свои эксперименты на открытом воздухе — он так же легко доставал потолок, как и приподнимался над полом всего на дюйм, просто подъем продолжался чуть дольше. Если бы у него было достаточно времени, он мог бы подниматься бесконечно; добраться до Луны, например, если возникнет необходимость.
Он поднимал на себе груз. Процесс замедлялся, но дополнительных усилий не требовалось.
Однажды он подошел к Джейн, держа в одной руке часы.
— Сколько ты весишь? — спросил Роджер.
— Сто десять фунтов, — ответила она, с подозрением посмотрев на мужа.
Он схватил ее за руку. Джейн попыталась оттолкнуть его, но он не обратил на это внимания, и они начали медленно подниматься вверх, Джейн прижалась к Роджеру, побелев от ужаса.
— Двадцать две минуты и тридцать секунд, — заявил он, когда его голова коснулась потолка.
Оказавшись снова на полу, Джейн вырвала руку и выбежала из комнаты.
Несколько дней назад Роджер заметил возле аптеки весы. На улице никого не было, поэтому он встал на весы и опустил монетку. Хотя он и предполагал нечто подобное, но все равно был потрясен, когда увидел, что стрелка остановилась на отметке в тридцать фунтов.
С тех пор он постоянно таскал с собой мелкие монетки и при каждом удобном случае взвешивался. В те дни, когда дул свежий ветер, он весил больше, словно кто-то беспокоился, чтобы его не унесло.
Изменения происходили совершенно автоматически. Его вес постоянно находился в границах между максимальным удобством и безопасностью. Однако Роджер был в состоянии управлять левитацией — примерно так же, как дыханием. Стоя на весах, он изменял свой вес от нормального до, естественно, нуля.
Купив весы, Роджер попытался измерить скорость, с которой он мог менять свой вес. Из этой затеи ничего не вышло. Стрелка за изменениями не поспевала. Единственное, в чем Роджеру удалось убедиться, так это в ограниченных возможностях купленных весов.
Ну и какой из этого всего следует вывод?
Он встал и, опустив плечи, направился к выходу из кабинета, по дороге стараясь незаметно касаться столов, стульев, стены. Ему это было необходимо. Контакт с вещами успокаивал — так Роджер убеждался, что все еще касается ногами пола. Если он перестанет чувствовать рукой стол или пальцы скользнут по стене — дело дрянь.
В коридоре, как обычно, было полно студентов. Роджер не обращал на них внимания, а они уже привыкли к тому, что с ним не следует здороваться. Роджер понимал, что кое-кто считает его странным, а многие стали хуже к нему относиться.
Он прошел мимо лифта, которым теперь практически перестал пользоваться — в особенности когда нужно было спуститься вниз. Лифт начинал опускаться, а Роджер всегда поднимался в воздух. Он тщательно готовился к моменту начала движения, но все равно подскакивал вверх, и люди начинали подозрительно на него коситься.
Когда Роджер подошел к лестнице и уже протягивал руку к перилам, он споткнулся. Ужасная неприятность. Три недели назад он покатился бы по ступенькам.
На этот раз автоматическая система сработала безотказно: наклонившись вперед и раскинув руки с растопыренными пальцами, согнув ноги в коленях, Роджер спланировал вниз, как самолет, заходящий на посадку. Или как марионетка на веревочках.
Он был слишком ошеломлен и испуган, чтобы что-нибудь исправить. В двух футах от окна, в конце пролета, он автоматически остановился и завис в воздухе.
В это время на лестнице находилось двое студентов, которые в ужасе прижались к стене, наверху — трое, и еще один застыл на площадке, перед висящим преподавателем, так близко, что они могли коснуться друг друга.
Наступила тишина. Все смотрели на него.
Роджер выпрямился, опустился и побежал вниз по ступенькам, отталкивая попадающихся по дороге студентов. У него за спиной слышались громкие удивленные восклицания.
— Доктор Мортон хочет поговорить со мной? — Роджер повернулся в своем кресле, крепко держась за одну из ручек.
Новая секретарша факультета кивнула:
— Да, доктор Туми. — С этими словами она быстро вышла.
За короткое время, что прошло с того момента, как уволилась мисс Хэрроуэй, она уже успела выяснить, что с доктором Туми что-то не так. Студенты его избегали. На лекциях передние ряды оставались незанятыми, зато последние были заполнены перешептывающимися юношами и девушками…
Роджер заглянул в маленькое зеркало, висевшее на стене возле двери. Поправил пиджак и стряхнул ниточки, приставшие к обшлагам — впрочем, это не слишком помогло. В последнее время он заметно похудел, хотя и не мог с точностью сказать, на сколько именно, Да и вообще, выглядел неважно, как будто постоянно вступал в спор с собственным пищеварением, и оно всякий раз одерживало победу.
У него не было никаких неприятных предчувствий относительно предстоящей беседы с деканом факультета. Роджеру удалось выработать достаточно циничное отношение к случаям своей левитации. Судя по всему, свидетели не стали никому ничего рассказывать. Мисс Хэрроуэй определенно промолчала. И у него не было никаких оснований считать, что студенты с лестницы разболтали то, что видели.
Поправив галстук, он вышел из своего кабинета.
Кабинет доктора Филиппа Мортона находился совсем неподалеку, вдоль по коридору, что вполне устраивало Роджера. Он постоянно приучал себя двигаться как можно медленнее: чуть-чуть приподняв ногу, ставил ее перед собой и оценивал результат, потом, не теряя бдительности, делал следующий шаг. Так и шел, шаркая ногами и не поднимая глаз от пола.
Увидев Роджера, доктор Мортон нахмурился. У него были маленькие глазки, неровно подстриженные редкие усики и мятый костюм. Он имел очень неплохую репутацию в научном мире и был склонен предоставлять решение проблем обучения своим преподавателям.
— Вы знаете, Туми, — без всяких предисловий начал декан, — я получил очень странное письмо от Линуса Диринга. Вы писали ему, — он заглянул в листок, лежащий на столе, — двадцать второго прошлого месяца? Это ваша подпись?
Роджер посмотрел и кивнул. Он попытался прочитать перевернутое письмо Диринга. Несколько неожиданный поворот. На письма, отосланные в день инцидента с мисс Хэрроуэй, пришли ответы только от четырех физиков.
Три из них состояли из одного абзаца, в котором говорилось примерно следующее: «Я действительно получил ваше письмо от двадцать второго. Боюсь, что ничем не смогу вам помочь». В четвертом от Баллантайна из Северо-западного технологического настойчиво рекомендовалось обратиться в институт психиатрических исследований. Роджер не знал, это попытка помочь или насмешка.
Диринг из Принстона был пятым. Роджер очень на него рассчитывал.
Доктор Мортон громко откашлялся и поправил очки.
— Я хочу прочитать вам это письмо. Садитесь, Туми, садитесь, не стойте. В письме говорится: «Дорогой Фил…» — доктор Мортон быстро посмотрел на Роджера и глупо улыбнулся. — Линус и я познакомились на одном из семинаров в прошлом году. Мы с ним немного выпили. Очень симпатичный человек.
Он снова поправил очки и вернулся к письму:
— «Дорогой Фил, работает ли на вашем факультете некий доктор Роджер Туми? Вчера я получил от него очень необычное письмо. Ума не приложу, как к нему отнестись. Поначалу я хотел просто выбросить письмо, посчитав самой обычной чушью, но потом подумал, что, раз доктор Туми работает у вас на факультете, вы должны его знать. Вполне возможно, что кто-то использует бумагу с печатью факультета для каких-то махинаций. Поэтому я прикладываю письмо доктора Туми, чтобы вы сами с ним разобрались. Надеюсь, когда вы окажетесь в наших краях…» Ну, остальное носит личный характер.
Доктор Мортон сложил письмо, снял очки, положил их в кожаный футляр, который, в свою очередь, засунул в нагрудный карман пиджака, потом переплел пальцы и откинулся на спинку кресла.
— Надеюсь, — продолжал он, — нет необходимости зачитывать вам ваше письмо. Что это было? Шутка? Розыгрыш?
— Доктор Мортон, — серьезно проговорил Роджер. — Это не шутка. И не розыгрыш. Я разослал письма многим физикам. Содержание говорит само за себя. Я наблюдал случаи… левитации и хочу, чтобы была предпринята попытка сделать теоретическое обоснование этого явления.
— Левитация! В самом деле?
— Тут все абсолютно честно, доктор Мортон.
— Вы сами наблюдали левитацию?
— Конечно.
— Никаких скрытых проводов или веревочек? Никаких зеркал? Послушайте, Туми, вы ведь не являетесь экспертом по подобным фокусам.
— Была проведена вполне научная серия опытов. Возможность обмана исключается.
— Вы могли бы проконсультироваться со мной, Туми, прежде чем посылать эти письма.
— Возможно, тут вы правы, доктор Мортон, но, откровенно говоря, меня беспокоило, что вы можете… не проявить особого энтузиазма.
— Ну, благодарю вас. Надеюсь, все обстоит именно так, как вы утверждаете. Однако писать на бланке нашего факультета… Вы меня удивили, Туми. Послушайте, вы вправе делать все, что хотите — ведь это ваша собственная жизнь. Если вы верите в левитацию — ради Бога, но только в свободное от работы время. Подобные вещи несовместимы с истинной наукой — по-моему, это любому ученому очевидно — и я бы хотел, чтобы ради благополучия факультета, да и всего колледжа, вы постарались это усвоить.
Кстати, Туми, в последнее время вы заметно похудели. Да и выглядите не лучшим образом. На вашем месте я бы обратился к врачу. К специалисту по нервным болезням.
— Может быть, лучше сразу к психиатру? — с горечью спросил Роджер.
— Ну, это уже ваше дело. В любом случае немного отдыха…
В этот момент зазвонил телефон, и секретарша взяла трубку. Она поймала взгляд своего босса, и доктору Мортону пришлось оторваться от разговора с Роджером.
— Да… доктор Смайзерс да… м-м-м… Да… Относительно кого?.. Ну, по правде говоря, он как раз сейчас сидит у меня… Да… Да, немедленно.
Он положил трубку и задумчиво посмотрел на Роджера.
— Ректор хочет видеть нас обоих.
— По какому вопросу, сэр?
— Он не сказал. — Доктор Мортон встал и направился к двери. — Вы идете, Туми?
— Да, сэр. — Роджер осторожно выпрямился, на всякий случай зацепившись ногой за край письменного стола.
Ректор Смайзерс был высоким, стройным человеком с удлиненным лицом аскета. Он слегка присвистывал, когда произносил шипящие звуки — похоже, дантист поленился как следует подогнать вставные зубы.
— Закройте дверь, мисс Брайс, — сказал ректор, — некоторое время я не буду отвечать на телефонные звонки. Садитесь, джентльмены. — Он важно посмотрел на посетителей и добавил: — Думаю, нам следует сразу перейти к делу. Не знаю, что именно выделывает доктор Туми, но он должен немедленно это прекратить.
Доктор Мортон удивленно взглянул на Роджера:
— А в чем, собственно, дело?
Роджер мрачно пожал плечами:
— В этом вопросе от меня ничего не зависит. — Похоже, он недооценил способность студентов распускать самые разнообразные слухи.
— Ну ладно, ладно, — в голосе ректора появилось нетерпение. — Я не знаю, в какой степени можно доверять дошедшим до меня слухам, но создается впечатление, что в вас проснулись таланты иллюзиониста; вы решили продемонстрировать несколько дурацких фокусов, забыв, вероятно, что такое поведение не соответствует духу нашего учебного заведения.
— Мне об этом ничего не известно, — заявил доктор Мортон.
Ректор нахмурился:
— Похоже, вы еще ничего не слышали. Просто поразительно, насколько часто руководство остается в неведении относительно вопросов, которые будоражат студенческие массы в нашем колледже. Раньше я этого не понимал. Мне и самому довелось услышать об этом совершенно случайно, только благодаря тому, что я перехватил репортера, который явился к нам, чтобы взять интервью у «доктора Туми, летающего профессора».
— Что? — воскликнул доктор Мортон.
Роджеру не оставалось ничего иного, как затравленно слушать.
— В газету позвонил один из наших студентов. Я тут же предложил репортеру покинуть территорию колледжа, а студента попросил зайти ко мне в кабинет. Если верить его словам, доктор Туми летал — я использую слово «летал», потому что студент упрямо стоял на своем — вниз, вдоль лестничного пролета, а потом обратно. Он утверждает, что тому было не менее дюжины свидетелей.
— Я только спустился вниз, — пробормотал Роджер.
Ректор Смайзерс нетерпеливо расхаживал взад и вперед по ковру своего кабинета. Он пришел в невероятное возбуждение от собственных слов.
— Вот что я вам скажу, Туми. Я не имею ничего против любительского театра. Мне часто приходится бороться с излишней серьезностью и чрезмерной чопорностью, царящими в нашем учебном заведении. Я всячески приветствую дружеские отношения между преподавателями и студентами, никогда не возражал против общения вне стен колледжа. Пожалуйста, устраивайте для них любые представления в своем собственном доме. Вы можете себе представить, что будет с нашим колледжем, если безответственная пресса начнет печатать подобные статьи? Болтовню о летающих тарелках заменят дурацкие бредни о летающем преподавателе. Не сомневаюсь, доктор Туми, что, если репортеры до вас доберутся, вы будете все категорически отрицать.
— Я понимаю, мистер Смайзерс.
— Надеюсь, нам удастся избежать неприятных последствий этого инцидента. Я должен попросить вас со всей строгостью, соответствующей моему положению, никогда не повторять вашего… э-э… спектакля. Если же это произойдет, вам придется подать в отставку. Вы меня понимаете, доктор Туми?
— Да, — сказал Роджер.
— В таком случае до свидания, джентльмены.
Доктор Мортон повел Роджера обратно в свой кабинет. На этот раз он выпроводил секретаршу и плотно закрыл за ней дверь.
— Боже мой, Туми, — прошептал он. — Неужели это безумие имеет какое-то отношение к вашему письму о левитации?
Роджер чувствовал, что еще немного, и нервы у него не выдержат.
— Разве это не очевидно? Я ведь о себе писал в письмах.
— Вы умеете летать? Я хотел сказать, вы обладаете способностью левитировать?
— Верно и то и другое.
— Я ничего подобного… никогда… черт возьми, Туми, значит, мисс Хэрроуэй действительно видела, как вы летали?
— Однажды. Это произошло случайно…
— Конечно. Теперь мне все ясно. Она впала в такое истерическое состояние, что я ничего не мог понять. И сказала, что вы на нее набросились. Получалось, что она обвиняет вас в… в… — Доктор Мортон слегка смутился. — Ну, я ей не поверил. Понимаете, она была хорошей секретаршей, но отнюдь не из тех, на кого мог бы обратить внимание молодой человек. По правде говоря, я даже испытал облегчение, когда она уволилась. В какой-то момент у меня появилось подозрение, что в следующий раз она возьмет в руки маленький пистолет или начнет обвинять меня. Так вы… вы умеете летать, правда?
— Да.
— А как вы это делаете?
Роджер покачал головой:
— В том-то и заключается моя проблема. Я и сам не знаю.
Доктор Мортон позволил себе улыбнуться:
— Надеюсь, вы не станете отрицать действие закона тяготения?
— Понимаете, получается так, что я вынужден отрицать закон тяготения. Это как-то связано с антигравитацией.
На лице доктора Мортона появилось справедливое возмущение — он понял, что его шутку восприняли всерьез, и решил, что Роджер Туми вздумал над ним поиздеваться.
— Послушайте, Туми, тут не над чем смеяться.
— Смеяться! Господи Боже, доктор Мортон, неужели я похож на человека, которому смешно?
— Ну… вам следует отдохнуть, это понятно… Вы немножко отвлечетесь и забудете об этих глупостях. Не сомневаюсь, что именно так все и будет.
— Никакие это не глупости. — Роджер опустил голову, а потом добавил, немного спокойнее: — Вот что я вам скажу, доктор Мортон: не хотите ли вы заняться изучением этой проблемы, вместе со мной? Речь ведь идет о новых горизонтах в физике. Я не знаю, как эта штука работает; мне не приходит в голову никакого разумного объяснения. Может быть, вдвоем…
На лице доктора Мортона был написан ужас.
— Я знаю, сама идея кажется вам совершенно дикой, — спокойно сказал Роджер. — Но я могу показать. Все абсолютно законно. Мне бы самому хотелось, чтобы это было не так.
— Ну, ну. — С этими словами доктор Мортон вскочил со стула. — Не нужно напрягаться. Вы нуждаетесь в отдыхе. Не думаю, что целесообразно ждать до июня. Отправляйтесь-ка домой, прямо сейчас. Я позабочусь о том, чтобы вы продолжали получать жалованье. Что касается вашего курса, полагаю, я с ним справлюсь — вы же знаете, когда-то мне уже приходилось его читать.
— Доктор Мортон, это важно!
— Я знаю. Знаю. — Доктор Мортон потрепал Роджера по плечу. — Тем не менее, мой мальчик, вы выглядите не лучшим образом. Откровенно говоря, у вас просто ужасный вид. Отдохните хорошенько.
— Я могу левитировать, — Роджер вновь повысил голос. — Вы просто-напросто пытаетесь от меня избавиться, потому что не верите ни одному моему слову. Вы думаете, я лгу? Посудите сами, зачем мне это?
— Мой мальчик, стоит ли так волноваться? Давайте я сделаю один телефонный звонок. Кто-нибудь отвезет вас домой.
— Повторяю, я могу левитировать! — заорал Роджер.
Доктор Мортон густо покраснел.
— Послушайте, Туми, давайте не будем больше об этом говорить. Меня совершенно не интересует, можете вы взлететь в воздух в данную минуту или нет.
— Вы хотите сказать, что не поверите своим глазам, даже если увидите, что я могу подняться в воздух?
— В левитацию? Конечно, нет! — взревел декан факультета. — Если я увижу, что вы летаете, то отправлюсь к окулисту или психиатру. Я скорее поверю в собственное безумие, чем в то, что законы физики…
Голос его пресекся, он громко фыркнул.
— Ну, как я уже говорил, давайте положим конец дискуссии. Подождите-ка, я сейчас позвоню…
— В этом нет никакой необходимости, сэр. Никакой необходимости, сказал Роджер. — Я ухожу. В отпуск. До свидания.
Он повернулся и быстро вышел — вот уже несколько дней он не позволял себе перемещаться так стремительно. Декан Мортон стоял, опираясь обеими руками о свой стол, и с облегчением смотрел на удаляющуюся спину доктора Роджера Туми.
Когда Роджер вернулся домой, он обнаружил, что в гостиной его поджидает Джеймс Сарль, доктор медицины. Доктор разжигал трубку, которая почти полностью скрывалась в его большом кулаке. Он потушил спичку, и его красное лицо расплылось в улыбке.
— Привет, Роджер. Ты что, теперь живешь затворником? Не звонил мне целый месяц!
Черные брови Джеймса Сарля срослись на переносице, придавая ему грозный вид, что каким-то необъяснимым образом помогало доктору легко находить нужный тон в общении с пациентами.
Роджер повернулся к Джейн, с ногами забравшейся в кресло. У нее на лице застыло выражение бесконечной усталости, которое стало характерным в последнее время.
— Зачем ты его вызвала? — спросил, обращаясь к ней, Роджер.
— Подожди минутку, не торопись, — вмешался Сарль. — Никто меня не вызывал. Я встретил Джейн утром в центре города и сам напросился в гости. Ты же видишь, я вешу на тридцать фунтов больше, чем она. Она просто не смогла мне отказать.
— И вы, конечно, встретились случайно? Ты что, всегда заранее договариваешься о своих случайных встречах?
— Ладно, не буду отпираться, — рассмеялся Сарль. — Она рассказала мне немного о том, что у вас здесь происходит.
— Мне очень жаль, если ты против, Роджер, — устало сказала Джейн, но впервые за все время у меня появилась возможность поговорить с человеком, который в состоянии понять.
— А с чего ты взяла, что он понимает? Скажи мне, Джим, ты ей поверил?
— Ну, поверить в такую историю совсем не просто, — ответил Сарль. Вряд ли ты станешь с этим спорить. Однако я пытаюсь.
— Ладно, предположим, я летаю. Предположим, я взлечу прямо сейчас. Что ты станешь делать?
— Может быть, в обморок упаду. Или скажу: «О Господи!» А может быть, стану хихикать, как дурачок. Почему бы тебе не попробовать? Тогда и узнаем.
Роджер пристально посмотрел на него:
— Ты и в самом деле этого хочешь?
— А почему бы и нет?
— Те, кто уже видели это, кричали, убегали или застывали на месте от ужаса. Ты уверен, что выдержишь, Джим?
— Думаю, да.
— Ну что ж. — Роджер медленно поднялся на два фута вверх и проделал в воздухе несколько замысловатых па. Он продолжал висеть над полом, оттянув носочки и изящно разведя руки в стороны, сотворив таким образом мрачноватую пародию на балетную фигуру.
— Лучше, чем Нижинский[12], не так ли, Джим?
Сарль не сделал ничего из того, что предполагал Роджер. Только едва успел подхватить трубку, которую выронил от удивления. Он вообще никак не отреагировал.
Джейн закрыла глаза. Из-под ее ресниц медленно потекли слезы.
— Спускайся, Роджер, — попросил Сарль.
Роджер послушно сел на стул и заявил:
— Я разослал письма нескольким знаменитым физикам, где подробно описал возникшую ситуацию. А еще в них говорится, что феномен следует самым тщательным образом изучить. Большинство просто не ответило на мои письма. А один написал старине Мортону письмо, в котором интересовался, мошенник я или сумасшедший.
— О, Роджер, — прошептала Джейн.
— Ты думаешь, это плохо? Ректор пригласил меня сегодня к себе в кабинет. И сказал, чтобы я прекратил свои дешевые трюки. Один раз, спускаясь по лестнице, я споткнулся и, чтобы не упасть, совершенно машинально пролетел над ступеньками на следующую площадку. Мортон заявил, что не поверит в мою способность левитировать, даже если я взлечу у него на глазах. Увидеть — еще не значит поверить, заявил он, а потом предложил мне отпуск. Я не собираюсь возвращаться в колледж.
— Роджер, — прошептала Джейн, широко открыв свои голубые глаза. Ты это серьезно?
— Я не могу вернуться. Меня от них тошнит. Ученые!
— А что ты станешь делать?
— Не знаю. — Роджер закрыл лицо руками, потом сдавленным голосом пробормотал: — Ты скажи мне, что делать, Джим. Ведь ты психиатр, Почему они мне не верят?
— Возможно, причина в самозащите, Роджер, — медленно проговорил Сарль. — Люди стараются не иметь дела с тем, чего не в состоянии понять. Даже несколько столетий назад, когда многие действительно верили в существование сверхъестественных сил — ну, скажем, в способность летать на помеле — считалось, что подобные штуки доступны лишь тем, кто продал душу дьяволу. И сейчас люди думают так же. Они могут не верить в дьявола, но всякую странность считают злом. И будут бороться против веры в левитацию — или испугаются до смерти, если им представят неоспоримые доказательства. Такова реальность, поэтому давай посмотрим правде в глаза.
— Ты говоришь об обычных людях, а я — об ученых, — покачав головой, сказал Роджер.
— Ученые тоже люди.
— Ты же понимаешь, о чем я. Я столкнулся с неким феноменом. Это не колдовство. И я не заключал сделки с дьяволом. Джим, должно же существовать естественное объяснение тому, что со мной происходит. Мы еще далеко не все знаем о сущности гравитации. Да и вообще мало что о ней знаем. Не кажется ли тебе, что с некоторой натяжкой можно предположить существование некоего биологического метода нейтрализации тяготения? Возможно, со мной произошла какая-то мутация. У меня есть… ну, назовем это мышцей… которая может уничтожить гравитацию. Во всяком случае, она в состоянии компенсировать воздействие силы тяготения на мою персону. Ну так исследуйте это явление! Зачем сидеть сложа руки? Если удастся открыть антигравитацию… Это же будет колоссальным достижением для всего человечества!
— Подожди-ка, Роджер, — перебил его Сарль. — Давай немного подумаем вместе. Почему ты так переживаешь из-за этого? Джейн утверждает, что ты чуть с ума не сошел в первый день, еще до того, как выяснилось, что ученые проигнорировав твои письма, а начальство тобой крайне недовольно.
— Именно так, — пробормотала Джейн.
— Ну почему же так произошло? — продолжал Сарль. — Ты стал обладателем новой, удивительной способности; теперь ты свободен от сил гравитации, которые притягивают каждого из нас к земле.
— Только не нужно прикидываться дураком, — проворчал Роджер. — Я был в ужасе. Не мог понять, как это происходит. И сейчас не понимаю.
— Именно, мой мальчик! Ты столкнулся с необъяснимым явлением поэтому оно и показалось тебе ужасным. Ты ведь ученый, физик. Ты знаешь, как устроена Вселенная. Или, если лично тебе известно не все, существуют другие люди, которые уж точно знают. Даже если какие-то детали до сих пор вызывают сомнения, ты уверен — настанет день, когда ученые найдут ответ на все. Здесь ключевое слово — «знать». Это часть твоей жизни. Сейчас ты столкнулся с явлением, которое, по твоему мнению, противоречит базовым законам Вселенной. Ученые говорят: две массы притягивают друг друга в соответствии с определенным правилом математики. Это неоспоримое свойство материи и пространства. Никаких исключений быть не может. А теперь оказалось, что ты как раз и есть такое исключение.
— Вот уж точно! — мрачно воскликнул Роджер.
— Видишь ли, Роджер, — продолжал Сарль, — впервые за всю свою историю человечество располагает неоспоримыми законами. Я говорю о законах, которые невозможно нарушить. В примитивных культурах шаман может использовать заклинание, чтобы вызвать дождь. И даже если дождь не пойдет, это вовсе не будет означать, что колдовство несостоятельно. Просто шаман неправильно воспроизвел заклинание, нарушил какое-нибудь табу или оскорбил своего бога. В современных теократических культурах заповеди верховного божества считаются нерушимыми. Однако, если человек нарушает заповеди и все равно преуспевает, из этого вовсе не следует, что данная религия плоха. Пути Господни неисповедимы: впереди грешника ждет кара.
На сегодняшний день, тем не менее, у нас есть законы, которые действительно не могут быть нарушены: один из них — гравитация. Эти законы действуют даже в том случае, если человек забывает произнести вслух формулу, в качестве заклинания.
Роджер криво улыбнулся:
— Ты ошибаешься, Джим. Нерушимые законы нарушаются постоянно. В тот момент когда открыли радиоактивность, казалось, что этого явления просто не может существовать в природе. Энергия возникает из пустоты, невероятное количество энергии! Звучало так же анекдотично, как и идеи о левитации.
— Радиоактивность есть объективное явление, которое можно изучать и воспроизводить. Уран засветит пленку у кого угодно. Трубка Крукса[13] может быть построена всяким, кто захочет получить поток электронов определенного вида. Ты…
— Я пытался связаться…
— Знаю. Но можешь ты, например, посоветовать мне, что я должен сделать, чтобы научиться летать? — спросил Сарль.
— Конечно, нет.
— Следовательно, остальным остается лишь наблюдать, не имея возможности поставить аналогичный эксперимент. Таким образом, твоя левитация попадает в один ряд с эволюцией звезд — о ней можно рассуждать теоретически, но невозможно доказать ее реальность экспериментальным путем.
— И тем не менее многие ученые посвящают всю свою жизнь астрофизике.
— Ученые — обычные люди. Они не могут добраться до звезд, поэтому довольствуются тем, что имеют. С тобой дело обстоит гораздо проще. Ты же здесь, у них под боком — но тот факт, что они не в состоянии разобраться с причинами, позволяющими тебе левитировать, будет приводить их в бешенство.
— Джим, они ведь даже не пытались. Ты говоришь так, словно меня уже изучали. Пойми, Джим, они и не собираются вникать в суть проблемы.
— А им это ни к чему. Твоя способность левитировать — лишь часть целого класса явлений, которые люди напрочь отметают. Телепатия, ясновидение, предсказание будущего и тысячи других сверхъестественных способностей практически никогда серьезно не изучались, хотя о них поступали сообщения, подтвержденные множеством свидетелей. Эксперименты Рейна с экстрасенсами не слишком заинтересовали других ученых — скорее его опыты вызвали раздражение. Несомненно, ученым вовсе не нужно тебя изучать, чтобы убедиться, что у них нет никакого желания заниматься этой проблемой. Они и так это знают.
— Тебе это кажется смешным, Джим? Физики отказываются исследовать факты, поворачиваются спиной к правде. А ты сидишь здесь, ухмыляешься и отпускаешь остроумные замечания.
— Нет, Роджер, я знаю, это очень серьезно. И не намерен выступать в роли адвоката. Я просто размышляю вслух. Неужели ты сам не понимаешь, что я пытаюсь заставить тебя посмотреть правде в глаза? Забудь о своих идеалах и теориях, о том, что люди должны делать. Хорошенько поразмысли над тем, что они делают. В тот самый момент, когда человек начинает принимать факты, перестает себя обманывать, все проблемы, как правило, исчезают. По меньшей мере удается посмотреть на них с правильной точки зрения, после чего задача становится разрешимой.
Роджер беспокойно заерзал на своем месте.
— Обычные психиатрические бредни! Все равно что положить руку пациенту на лоб и сказать: «Ты должен верить — и тогда исцелишься!» А если бедняга не исцелился, так это потому, что недостаточно верил. При такой постановке вопроса знахарь никогда не проигрывает.
— Может быть, ты и прав, но попробовать-то не грех. Так в чем заключается твоя проблема?
— Давай не будем заниматься ерундой. Тебе прекрасно известно, в чем заключается моя проблема.
— У тебя появилась способность к левитации. В этом дело?
— Ну, для начала неплохо. Сгодится в первом приближении.
— Роджер, постарайся быть посерьезнее. Впрочем, ты, вероятно, прав. Первое приближение. В конечном счете ты ведь имеешь дело именно с этой проблемой. Джейн рассказывала мне, что ты ставишь эксперименты.
— Эксперименты! Видит Бог, Джим, я не ставлю никаких экспериментов. Просто плыву по течению. Мне требуются первоклассные специалисты и оборудование, настоящая исследовательская группа, а у меня нет ни малейшей возможности все это получить.
— Значит, в этом заключается твоя проблема? Второе приближение.
— Я понимаю, к чему ты клонишь, — сказал Роджер. — Моя проблема состоит в том, чтобы создать исследовательскую группу. Но я же пытался! До тех пор, пока не устал от собственных попыток.
— А как ты пытался?
— Рассылал письма, просил. Да брось, Джим, у меня нет ни малейшего желания выступать в роли твоего пациента. Тебе и так хорошо известно, что я делал.
— Да, я знаю, ты говорил людям: «У меня возникла проблема. Помогите мне». А ты пробовал подойти к решению задачи по-другому?
— Послушай, Джим. Я ведь имею дело со зрелыми учеными.
— Конечно. Именно поэтому ты и считаешь, что прямо сформулированного запроса вполне достаточно. Однако все теории противоречат фактам, которые ты им изложил. Мы уже говорили о трудностях, возникающих в связи с твоими просьбами-сообщениями. Когда ты выходишь на улицу и поднимаешь вверх руку, сигнализируя о том, что просишь кого-нибудь тебя подвезти, ты делаешь прямой запрос, однако большинство машин проезжает мимо, не останавливаясь. Мораль в данном случае состоит в том, что прямой запрос не дал желаемого результата. Так в чем же твоя проблема? Третье приближение!
— Чтобы найти другой подход, который приведет к успеху? Ты хочешь услышать от меня именно это?
— И ведь услышал, не так ли?
— Иными словами, ты утверждаешь: я и без тебя знал, что нужно делать?
— А ты знал? Ты готов уйти из колледжа, бросить работу и свою науку. Куда подевалось твое упорство, Роджер? Ты что, всегда отказываешься от борьбы после того, как первый же эксперимент терпит неудачу? Когда первая теория, которая приходит тебе в голову, оказывается неверной? Тебе следует применить к отношениям с людьми тот метод, который принято использовать в экспериментальной физике.
— Хорошо. Что ты предлагаешь? Взятки? Угрозы? Слезы?
Джеймс Сарль встал:
— Ты в самом деле хочешь услышать совет?
— Давай, советуй.
— Сделай так, как тебе порекомендовал доктор Мортон. Возьми отпуск и пошли левитацию к дьяволу. Это проблема далекого будущего. Спи в своей постели и взлетай — или не взлетай, неважно. Забудь о левитации, смейся над ней или получай удовольствие. Делай все что угодно, только перестань беспокоиться, потому что это — не твоя забота. Вот что самое главное. Левитация не является твоей непосредственной проблемой. Посвяти свободное время размышлениям о том, как заставить ученых изучать то, что они изучать не хотят. Именно в этом и заключается твоя главная задача. Что ты сделал, чтобы ее решить?
Сарль подошел к вешалке и взял пальто. Роджер отправился его проводить. Они немного помолчали. Потом, не поднимая глаз, Роджер признался:
— Возможно, ты прав, Джим.
— Попробуй, а потом позвони мне. До свидания, Роджер.
Роджер Туми открыл глаза и, мигая, посмотрел на яркий утренний свет, заливавший спальню.
— Эй, Джейн, ты где? — позвал он.
— В кухне, — долетел до него приглушенный голос Джейн. — Где я еще могу быть?
— Иди сюда, пожалуйста.
Она вошла.
— Знаешь, бекон сам не поджарится.
— Послушай, а я прошлой ночью летал?
— Понятия не имею. Я спала.
— Да, много от тебя толку. — Он засунул ноги в тапочки и встал с постели. — Мне кажется, я не летал.
— Может, ты забыл, как это делается? — В голосе Джейн появилась неожиданная надежда.
— Ничего я не забыл. Смотри! — Он взлетел в воздух и медленно переместился в гостиную. — У меня просто возникло чувство, что я не летал. Мне кажется, это продолжается уже три ночи подряд.
— Ну хорошо, — сказала Джейн и вернулась к плите. — Месячный отпуск пошел тебе на пользу. Если бы я с самого начала позвонила Джиму….
— Пожалуйста, давай не будем начинать все заново. Боже мой, месячный отпуск!.. Только в прошлое воскресенье я понял, что нужно делать. С тех пор и перестал нервничать. Вот и все.
— А что ты собираешься делать?
— Каждый год, весной, Северо-западный технологический устраивает серию семинаров по физике. Я приму в них участие.
— Ты собираешься поехать в Сиэтл?
— Да.
— А что они там будут обсуждать?
— Не имеет значения. Я хочу повидаться с Линусом Дирингом.
— Но ведь именно он назвал тебя сумасшедшим, или я ошибаюсь?
— Верно. — С этими словами Роджер засунул себе в рот здоровенный кусок яичницы. — Тем не менее Линус Диринг лучше всех.
Он потянулся за солью, взлетев на несколько дюймов над стулом и не обратив на это никакого внимания.
— Мне кажется, я нашел к нему подход.
Весенние семинары в Северо-западном технологическом получили национальную известность с тех пор, как на физический факультет университета пришел работать Линус Диринг. Он был постоянным руководителем семинаров — благодаря Дирингу все происходящее становилось особенно значимым и интересным. Он представлял выступающих, вел дискуссии, подводил итог выступлениям и был душой общества на заключительном обеде в конце каждой рабочей недели.
Все это Роджер Туми знал по рассказам своих коллег. Сам он ни разу не участвовал в семинарах, но теперь мог увидеть знаменитого физика в деле. Профессор Диринг был смуглым человеком несколько ниже среднего роста, с роскошными, вьющимися каштановыми волосами. Когда профессор Диринг молчал, казалось, что его большой тонкогубый рот хитро улыбается. Выступая, он говорил свободно и быстро, без каких бы то ни было записей, а комментировал все с видом превосходства, который его слушатели принимали как должное.
По крайней мере так было утром первого дня семинара. Во время дневного заседания слушатели начали замечать в его манере некоторую неуверенность. Более того, в том, как профессор сидел на сцене, слушая доклады, включенные в повестку дня, была какая-то неловкость. Периодически он бросал косые взгляды в сторону последних рядов аудитории.
Роджер Туми устроился на самом последнем ряду и напряженно наблюдал за происходящим. Временный переход к нормальному состоянию, который начался, когда ему показалось, что он нашел выход из положения, подходил к концу. В поезде до Сиэтла поспать не удалось — все время мерещилось, как он поднимается в воздух, подчиняясь ритму стучащих по рельсам колес, медленно выплывает в коридор, а потом просыпается под отчаянные вопли проводника. Поэтому Роджер плотно задвинул занавески и застегнул их, но ничего этим не добился, чувство безопасности не приходило; он не мог заснуть как следует, только время от времени проваливался в тяжелое, не дающее отдыха забытье.
Роджер дремал днем, когда мимо окон проносились горы, и прибыл в Сиэтл вечером; у него ужасно затекла шея, болело все тело, а настроение было ужасным.
Он слишком поздно принял решение отправиться на семинар и не смог получить комнату в институтском общежитии. Жить с кем-то вместе — об этом и думать было нечего. Роджер снял номер в отеле, закрыл на замок дверь, потом окна, придвинул кровать к стене, а шкафчик — к другой стороне кровати и только после этого смог заснуть.
Наутро он не помнил, снились ли ему сны, а оглядевшись по сторонам, убедился, что по-прежнему лежит в своем убежище. Ему стало немного легче.
Семинары традиционно проводились во время пасхальных каникул, и студенты на них не присутствовали. Около пятидесяти физиков сидело в аудитории, рассчитанной на четыреста человек; они расположились по обе стороны главного прохода, поближе к кафедре. Роджер устроился в самом последнем ряду, где его не заметили бы случайные люди, которым взбрело бы в голову заглянуть в аудиторию сквозь застекленную дверь, а присутствующим пришлось бы развернуться на сто восемьдесят градусов, чтобы на него посмотреть. Кроме, естественно, того, кто находился за кафедрой — и профессора Диринга.
Роджер не слушал докладов. Он полностью сосредоточился на том, чтобы не пропустить те редкие моменты, когда Диринг находился на кафедре один; когда только Диринг мог его увидеть.
По мере того как Диринг все больше и больше нервничал, Роджер чувствовал себя увереннее. Во время подведения итогов дневного заседания он выступил на максимум.
Профессор Диринг вдруг замолчал посреди абсолютно бессмысленной и неправильно построенной фразы. Присутствующие, которые уже некоторое время смущенно ерзали на своих сиденьях, замерли и удивленно на него посмотрели.
Диринг поднял руку и, задыхаясь, выкрикнул:
— Вы! Вы, там!
Роджер Туми сидел совершенно спокойно — посреди прохода. Он удобно устроился, закинув ногу на ногу и использовав воздух вместо стула.
Когда Диринг замахал руками, Роджер быстро скользнул в сторону. К тому времени как к нему повернулись все пятьдесят голов, он мирно сидел на самой обычной деревянной скамейке.
Роджер огляделся по сторонам, затем посмотрел на указующий палец Диринга и встал на ноги.
— Вы обращаетесь ко мне, профессор Диринг? — спросил он, причем его голос дрогнул совсем незаметно, ему удалось скрыть волнение.
— Чем это вы там занимаетесь? — возмущенный Диринг явно не выдержал напряжения и взорвался.
Кое-кто из присутствующих встал, чтобы получше видеть происходящее. Ученые физики так же точно обожают, когда прерываются их любимые сборища, как и игроки в бейсбол.
— А я ничем таким не занимаюсь, — сказал Роджер. — Не понимаю, о чем вы говорите.
— Убирайтесь! Покиньте аудиторию!
Диринг оказался во власти разбушевавшихся эмоций, иначе он никогда бы такого не сказал. Роджер в ответ вздохнул и решил воспользоваться представившейся ему возможностью. Громко и отчетливо, стараясь перекричать нарастающий шум, он заявил:
— Я, профессор Роджер Туми из колледжа Карсон, являюсь членом Американской ассоциации физиков. Я попросил разрешения присутствовать на этих семинарах, получил положительный ответ и заплатил за регистрацию. Я нахожусь здесь потому, что имею на это право, и намерен присутствовать на всех заседаниях семинара.
— Убирайтесь! — только и мог выдавить из себя Диринг.
— И не подумаю, — ответил Роджер. Он заставил себя разозлиться, его трясло от возмущения. — Хотелось бы знать, по какой причине я должен покинуть аудиторию? Что я сделал?
Диринг, буквально лишившись дара речи, попытался пригладить дрожащей рукой волосы.
— Если вы попытаетесь выгнать меня с семинара без всякой на то причины, — не сдавался Роджер, — я подам на университет в суд.
— Объявляю заседание первого дня весеннего семинара, посвященного новым достижениям физики, закрытым, — быстро проговорил Диринг. Следующее заседание состоится здесь же, завтра, в девять часов.
Роджер поспешно покинул аудиторию.
Вечером в дверь его номера постучали. Роджер удивился, замер в кресле.
— Кто там?
Ему ответили тихим, быстрым шепотом:
— Могу я с вами поговорить?
Голос принадлежал Дирингу. Название гостиницы, в которой остановился Роджер, и номер его комнаты, естественно, имелись у секретаря семинара. Роджер совсем не ожидал, что события начнут разворачиваться так быстро.
Он открыл дверь и церемонно произнес:
— Добрый вечер, профессор Диринг.
Диринг вошел в номер и огляделся по сторонам. На нем было легкое пальто, но он явно не собирался его снимать, как не собирался расставаться и со шляпой, которую держал в руке.
— Профессор Роджер Туми из колледжа Карсон, — сказал он. Правильно?
— Да. Садитесь, профессор.
Диринг остался стоять.
— Ну и чего вы добиваетесь?
— Не понимаю, о чем вы.
— А я уверен, что вы все прекрасно понимаете. Вы не стали бы просто так устраивать свои дурацкие фокусы. Вы или желаете выставить меня на посмешище, или собираетесь втянуть в какую-то аферу. Так вот учтите: у вас ничего не выйдет. И не пытайтесь прибегнуть к силе — у меня есть друзья, которым известно, куда я направился. Советую вам во всем признаться, а после этого покинуть город.
— Профессор Диринг! Это моя комната. Если вы пришли, чтобы оскорблять меня, прошу вас удалиться.
— Вы собираетесь продолжать это… это преследование?
— Я вас вовсе не преследую, сэр.
— А не тот ли вы Роджер Туми, который написал мне письмо, где говорилось о левитации? Вы предлагали мне заняться исследованием этого феномена.
Роджер удивленно посмотрел на Диринга:
— О каком письме вы ведете речь?
— Вы что, отрицаете это?
— Конечно, отрицаю. Что вы от меня хотите? У вас есть письмо?
Профессор Диринг поджал губы:
— Ладно, об этом не будем. Вы отрицаете, что на сегодняшнем заседании семинара вы подвесили себя на невидимых проводах?
— На проводах? Что за чепуха?
— Вы левитировали!
— Не могли бы вы, профессор Диринг, оставить меня в покое? Похоже, вы немного не в себе.
— Значит, вы отрицаете, что левитировали на моих глазах сегодня утром? — Голос профессора сорвался.
— Вы, очевидно, сошли с ума. Хотите сказать, что я устроил фокус в вашей аудитории? Я никогда там раньше не был и вошел туда после вас. Вы нашли какие-нибудь провода или другие приспособления, когда я ушел?
— Я не знаю, как именно вы это проделали, и мне все равно. Вы продолжаете отрицать, что левитировали?
— Конечно, отрицаю.
— Я вас видел. Зачем вы лжете?
— Вы видели, как я левитировал? Профессор Диринг, не объясните ли вы мне, как такое может быть? Полагаю, вы достаточно знаете о природе сил тяготения, чтобы понимать, что левитация — полнейшая чушь, если только речь не идет об открытом космосе. Вы решили подшутить надо мной?
— Боже праведный! — визгливо закричал Диринг. — Почему вы не хотите сказать мне правду?
— А я не лгу. Вы что, полагаете, что я могу поднять руку, произнести магическое заклинание… а потом… взлечу? — С этими словами Роджер начал медленно подниматься в воздух и остановился только в тот момент, когда его голова коснулась потолка.
Голова Диринга дергалась.
— Вот! Вот… вот…
Роджер улыбаясь опустился на пол:
— Вряд ли о таком явлении можно говорить серьезно.
— Вы снова это сделали… Вы только что это сделали…
— Что сделал, сэр?
— Вы левитировали! Вы только что левитировали!
Лицо Роджера приняло озабоченное выражение.
— Похоже, вы больны, сэр.
— Я видел то, что я видел.
— Вам следует отдохнуть. Слишком много работы…
— Это не галлюцинация!
— Может быть, хотите чего-нибудь выпить? — Роджер направился к своему чемодану, а Диринг, выпучив глаза, неотрывно следил за его ногами. Носки туфель Роджера находились в двух дюймах от пола и ни разу не опустились ниже.
Диринг плюхнулся в кресло, которое освободил Роджер.
— Да, пожалуйста, — слабым голосом попросил он.
Роджер протянул ему бутылку виски. Диринг сделал пару больших глотков и слегка поперхнулся.
— Ну как, лучше?
— Послушайте, — сказал Диринг, — неужели вы нашли способ нейтрализовать тяготение?
Роджер пристально посмотрел на него:
— Возьмите себя в руки, профессор. Если бы я овладел антигравитацией, то не стал бы играть с вами в игры. И уже давно находился бы в Вашингтоне. Я представлял бы из себя страшно важный военный секрет. Я бы… в общем, здесь бы меня не было! Это же очевидно!
Диринг вскочил на ноги:
— И вы собираетесь сидеть на последнем ряду на всех оставшихся заседаниях семинара?
— Конечно.
Диринг кивнул, нахлобучил на голову шляпу и стремительно выскочил в дверь.
В течение трех последующих дней профессор Диринг не председательствовал на заседаниях семинара. Его отсутствия никто не объяснил. Роджер Туми, в котором надежда боролась с дурными предчувствиями, сидел среди других физиков и старался держаться незаметно. В этом, однако, он не слишком преуспел. Необъяснимые наскоки Диринга обратили на него внимание аудитории, а достойное и уверенное поведение принесло славу Давида, выступившего против Голиафа.
В четверг вечером после отвратительного обеда Роджер вернулся к себе в гостиницу и остановился в дверном проеме, поставив одну ногу на порог. Его поджидал профессор Диринг. С ним был еще один человек в серой, надвинутой на лоб шляпе, который расположился на кровати Роджера.
Неловкую тишину прервал незнакомец:
— Заходите, Туми.
Роджер вошел в номер и закрыл за собой дверь.
— Что здесь происходит?
Незнакомец вытащил бумажник и показал Роджеру удостоверение в пластиковом футляре.
— Меня зовут Кэннон, я работаю на ФБР.
— Я вижу, вы пользуетесь влиянием в правительстве, профессор Диринг, — усмехнулся Роджер.
— Немного, — не стал спорить Диринг.
— Ну что, я под арестом? В чем заключается мое преступление?
— Зачем же так волноваться? — успокоил его Кэннон. — Мы просто собираем о вас кое-какие данные, Туми. Это ваша подпись?
Он, протянул Роджеру письмо так, чтобы Роджер смог его разглядеть, но не вырвал из рук. Это было письмо, которое Роджер написал Дирингу, а тот, в свою очередь, отправил Мортону.
— Да.
— А как насчет этих? — Федеральный агент показал ему стопку других писем.
Роджер понял, что Кэннон собрал все письма, за исключением, естественно, тех, что Роджер не решился послать и разорвал.
— Да, письма написаны мной, — устало проговорил он.
Диринг фыркнул.
— Профессор Диринг сказал нам, что вы способны парить.
— Парить? Это еще, черт возьми, что значит?
— Парить в воздухе, — серьезно ответил Кэннон.
— И вы верите в подобную чушь?
— Я здесь вовсе не для того, чтобы верить или нет, доктор Туми, заявил Кэннон. — Я представляю правительство Соединенных Штатов. Выполняю задание. И на вашем месте я не стал бы упрямиться.
— А как я могу сотрудничать с вами в подобном деле? Если бы я пришел к вам и заявил, что профессор Диринг может парить в воздухе, вы бы моментально посадили меня в сумасшедший дом.
— Профессора Диринга по его собственной просьбе осмотрел психиатр. Кроме того, правительство уже достаточно давно прислушивается к мнению профессора Диринга. А еще могу добавить, что у нас есть свидетельства из независимых источников.
— И в чем же они заключаются?
— Несколько студентов из вашего колледжа видели, как вы парили. И еще одна женщина, которая раньше работала секретарем у декана вашего факультета. Мы собрали все показания.
— Ну и что же? — спросил Роджер. — По-вашему, эти показания можно предъявить конгрессменам?
— Доктор Туми, — вмешался профессор Диринг, — вы ничего не выигрываете, отрицая тот факт, что умеете левитировать. Ваш собственный декан признает, что вы в состоянии сделать нечто подобное. Он просил меня официально уведомить вас, что в конце учебного года ваш контракт будет аннулирован. Он не стал бы делать это просто так.
— Не имеет значения, — сказал Роджер.
— Почему вы не признаете, что я видел, как вы левитировали?
— А зачем мне это признавать?
— Я хочу обратить ваше внимание, доктор Туми, — снова вступил в разговор Кэннон, — что, если вам удалось создать устройство, способное компенсировать тяготение, это будет представлять колоссальный интерес для правительства.
— В самом деле? Я полагаю, вы уже достаточно покопались в моем прошлом, чтобы выяснить, нет ли у меня порочащих связей.
— Расследование, — холодно ответил агент, — еще только началось.
— Ладно, — не стал больше отпираться Роджер, — давайте сделаем гипотетическое предположение. Допустим, я признаю, что могу левитировать. Допустим, я не знаю, как мне это удается. Допустим, мне нечего предложить правительству, кроме собственного тела и неразрешимой проблемы.
— Откуда вы знаете, что она неразрешима? — нетерпеливо перебил его Диринг.
— Я уже однажды обращался к вам с предложением изучить этот феномен, — кротко заметил Роджер. — Вы отказались.
— Послушайте, — Диринг говорил быстро, настойчиво, — в данный момент у вас нет работы. Я могу предложить вам должность адъюнкт-профессора физики на моем факультете. Ваши лекционные часы будут минимальны. Мы посвятим все время исследованию левитации. Как вы к этому относитесь?
— Звучит привлекательно, — ответил Роджер.
— Я думаю, можно с уверенностью сказать, что правительство окажет нам неограниченную поддержку.
— И что я должен для этого сделать? Просто признать, что могу левитировать?
— Я знаю, что можете. Я вас видел. Покажите мистеру Кэннону.
Ноги Роджера поднялись вверх, а тело вытянулось в горизонтальной плоскости, на высоте головы Кэннона. Потом он повернулся — казалось, Роджер Туми прилег отдохнуть на правом боку.
Шляпа Кэннона свалилась на кровать.
— Он парит! — заорал федеральный агент.
— Ну вы видите? — от волнения Диринг заговорил неразборчиво.
— Да, не вызывает никакого сомнения…
— Тогда доложите об этом. Напишите о том, что вы видели, вы меня слышите? Сделайте полный доклад. Там, наверху, не посмеют сказать, что со мной что-то не в порядке. Я ни на минуту не сомневался, что видел это.
Но он не был бы сейчас так счастлив, если бы его слова полностью соответствовали истине.
— Я даже не знаю, какой климат в Сиэтле, — причитала Джейн, — мне нужно сделать миллион разных дел!
— Требуется моя помощь? — донесся голос Джима Сарля из глубин удобного мягкого кресла.
— Да какой от тебя прок?.. Боже мой! — Джейн вылетела из комнаты однако, в отличие от мужа, контакта с полом она не теряла.
Вскоре в комнату вошел Роджер Туми:
— Джейн, ящики для книг прибыли? А, привет, Джим. Ты давно пришел? Куда подевалась Джейн?
— Я пришел минуту назад, а Джейн выскочила в соседнюю комнату. Мне пришлось уговаривать полицейского, чтобы он впустил меня. Дружище, да твой дом просто окружен!
— М-м-м, — рассеянно промычал Роджер. — Я им про тебя рассказал.
— Знаю. Мне пришлось дать клятву о сохранении секретности. Я объяснил им, что все равно помалкивал бы, поскольку тут возникает вопрос профессиональной этики. Почему бы тебе не предоставить упаковку вещей грузчикам? Ведь платит-то правительство, не так ли?
— Грузчики все перепутают, — заявила Джейн, стремительно влетая в комнату и плюхаясь на диван. — Мне просто необходимо выкурить сигарету.
— Ладно, Роджер, кончай темнить, — сказал Сарль, — рассказывай, как у тебя все это получилось.
— Как ты и говорил, Джим, — смущенно улыбнулся Роджер, — я бросил переживать из-за пустяков и приложил все силы к решению ключевой проблемы. Сначала мне казалось, что у меня есть выбор между двумя возможностями. Все будут постоянно думать, что я либо мошенник, либо безумец — Диринг сформулировал эти варианты в своем первом письме к Мортону. Ректор колледжа пришел к выводу, что я мошенник, а Мортон заподозрил, что я спятил.
Предположим теперь, что я продемонстрировал бы им свои истинные возможности. Ну, Мортон рассказал мне, что произошло бы в этом случае: либо они сочли бы меня мошенником, либо решили бы, что сами спятили. Мортон так и сказал… Если бы он увидел, что я летаю, он скорее поверил бы в собственное безумие, чем тому, что видит. Конечно, наверное, это была всего лишь риторика. На самом деле человек не поверит в собственное сумасшествие до тех пор, пока существует хотя бы самая слабая надежда на то, что он ошибается. Именно на это я и рассчитывал.
Поэтому и изменил тактику. Я отправился на семинар Диринга. И не сказал ему, что могу парить; просто показал, а потом все время отрицал, что я это делал. Теперь альтернатива стала очевидной. Либо я лгал, либо он — не я, обрати внимание, а он — спятил. Совершенно очевидно, что он скорее поверил бы в левитацию, чем усомнился в собственной разумности, когда оказался перед реальным выбором. Отсюда вытекают и все его остальные действия: агрессивность на семинаре, поездка в Вашингтон, предложение работы — все это было направлено лишь на то, чтобы подтвердить, что он остается в здравом уме, а вовсе не для того, чтобы помочь мне.
— Иными словами, ты сделал так, что твоя левитации стала его проблемой, — сказал Сарль.
— Ты именно об этом думал, когда разговаривал со мной тогда, Джим? — с любопытством спросил Роджер.
Сарль покачал головой:
— У меня были кое-какие смутные предположения, но каждый человек должен сам решать свои проблемы, если рассчитывает на то, чтобы они были решены эффективно. Как тебе кажется, Роджер, смогут они теперь разобраться в принципах левитации?
— Не знаю, Джим. Я все равно не могу описать субъективные аспекты данного феномена. Однако это уже не имеет значения. Мы будем их исследовать — чего я и добивался. — Он стукнул правым кулаком по ладони левой руки. — Главное, я смог заставить их помочь мне.
— В самом деле? — негромко проговорил Сарль. — Я бы сказал, главное, что ты заставил их просить тебя им помочь, а это уже совсем другое дело.
Такой прекрасный день
Двенадцатого апреля *** года в двери, принадлежащей миссис Хэншоу, по неизвестным причинам поляризовался тормозной клапан модулятора поля. В результате день у миссис Хэншоу был напрочь испорчен, а у ее сына Ричарда возник странный невроз.
Это был не тот тип невроза, о котором можно прочитать в обычных учебниках, и, конечно, маленький Ричард в общем-то вел себя так, как и должен вести себя хорошо воспитанный двенадцатилетний мальчик в обычных обстоятельствах.
Однако с 12 апреля Ричард Хэншоу лишь с большим трудом мог заставить себя пройти через дверь.
Миссис Хэншоу проснулась утром, как обычно, когда ее домашний робот неслышно проскользнул в комнату, неся чашечку кофе на маленьком подносе.
Миссис Хэншоу планировала днем съездить в Нью-Йорк, а до этого ей нужно было сделать кое-что из того, что нельзя доверить роботу, поэтому, выпив несколько глотков, она встала с постели.
Робот отодвинулся назад, неслышно скользя по диамагнитному полю, которое удерживало его овальное тело в полудюйме от пола, и направился обратно в кухню, где нажал на соответствующие кнопки различных кухонных приборов, и вскоре был готов стандартный завтрак.
Миссис Хэншоу, одарив обычным сентиментальным взглядом кубографию своего покойного мужа, с обычным удовольствием прошла через все стадии обычного утреннего ритуала. Она слышала, как в конце залы ее сын совершает свой туалет, но знала, что ей нет нужды вмешиваться. робот сам присмотрит за тем, чтобы Ричард принял душ, сменил одежду и хорошо позавтракал. тергодуш, который она установила в прошлом году, делал умывание и сушку такими быстрыми и приятными, что она не сомневалась, дики умоется даже без уговоров.
Единственное, что ей предстояло сделать, — это чмокнуть мальчика в щеку перед его уходом. Она услышала, как робот издал мягкий звон, означавший, что приближается время начала занятий в школе, и опустилась в силовом лифте на нижний этаж, чтобы исполнить свой материнский долг.
Ричард, с карманным проектором и роликами учебных фильмов, болтавшимися на плече, стоял у двери. Вид у него был очень хмурый.
— Послушай, мам, — сказал он, — я набрал координаты школы, но ничего не получилось.
Почти автоматически она сказала:
— Чепуха, Дики. Я никогда не слышала ни о чем подобном.
— Тогда попробуй сама.
Миссис Хэншоу попробовала несколько раз. Странно. Дверь школы всегда была настроена на общий прием. Она стала набирать другие координаты — тоже безуспешно. Двери ее друзей, возможно, и не были настроены на прием, но в этом случае появился бы сигнал и все было бы понятно. Но в этот день, несмотря на все ее манипуляции, дверь оставалась безжизненным серым барьером. несомненно, дверь сломалась, а ведь прошло всего пять месяцев после ежегодного осеннего осмотра, проводимого фирмой.
Миссис Хэншоу не на шутку рассердилась.
И почему эта поломка произошла именно в тот день, на который она запланировала так много дел? Миссис Хэншоу с обидой вспомнила, как месяц назад отказалась от установки дополнительной двери, чтобы избежать лишних расходов. Откуда ей было знать, что двери стали такими ненадежными?
Она подошла к видеофону, все еще кипя от гнева, и сказала Ричарду:
— Дики, пройди по дороге и воспользуйся дверью Уильямсонов.
Как ни странно — если учесть последующие события, — Ричард воспротивился:
— Да, но, мам, я запачкаюсь. Может, я лучше останусь дома до тех пор, пока не починят дверь?
И тоже, как ни странно, миссис Хэншоу настояла на своем решении. Не отрывая пальца от наборного диска видеофона, она сказала:
— Ты не испачкаешься, если оденешь на ботинки галоши, и не забудь хорошенько почиститься перед тем, как войдешь в дом.
— Но…
— И никаких возражений, Дики. Ты должен быть в школе. Я посмотрю, как ты уходишь. Только побыстрее, а то опоздаешь.
Робот — это была очень сообразительная машина новейшей модели — уже стоял перед Ричардом, услужливо протягивая галоши.
Ричард натянул на ботинки прозрачные пластиковые щитки и с явной неохотой двинулся к выходу.
— Я даже не знаю, как открыть эту штуку, мам.
— Просто нажми вон на ту кнопку, — показала миссис Хэншоу. — Красную кнопку. На ней написано «аварийный выход». И не копайся. Ты не хочешь, чтобы робот пошел с тобой?
— Нет, черт возьми, — угрюмо ответил Ричард. — Кто я, по-твоему, ребенок? — его бормотание оборвал звук захлопнувшейся двери.
Едва качаясь пальцами диска видеофона, миссис Хэншоу набрала нужный номер и довольно громко высказала фирме свое мнение о ее продукции.
Джо Лум, скромный молодой человек, за плечами у которого были техникум и курсы повышения квалификации в области механики силовых полей, прибыл в резиденцию хэншоу меньше, чем через полчаса. он действительно был весьма компетентен, хотя у миссис Хэншоу его молодость вызвала инстинктивное недоверие.
Она открыла подвижную панель дома, как только Джо Блум посигналил, и увидела, что он энергично отряхивается, стараясь удалить уличную пыль. Галоши он уже сбросил. Миссис Хэншоу закрыла панель, избавившись таким образом от резкого солнечного света, проникавшего в дом.
— Я рада, что хоть кто-то явился, — резко ответила миссис Хэншоу на приветствие механика. — У меня весь день пропал.
— Мне очень жаль, мэм. Так что же случилось?
— Она просто не работает. Вообще ничего не происходит, когда набираешь координаты, — сказала миссис Хэншоу. — И это началось без всякого предупреждения. Мне пришлось отослать сына к соседям через эту… эту штуку.
Она указала на «аварийный выход», у которого встретила механика.
Он улыбнулся и заговорил тоном человека, получившего специальные знания о дверях.
— Это тоже дверь, мэм. Только это слово пишется не с заглавной буквы. Это нечто вроде механической двери. Раньше других-то и не было.
— Ну, по крайней мере она работает. Моему мальчику пришлось выйти в грязь и стать добычей микробов.
— На улице неплохая погода, мэм, — сказал механик с видом знатока человека, профессия которого вынуждает его бывать на свежем воздухе почти каждый день.
— А иногда погода бывает в самом деле неприятной. Но я думаю, вы желаете, чтобы я немедленно починил эту вашу дверь, мэм.
Он уселся на полу, раскрыл большой ящик с инструментами, который принес с собой, и за полминуты, используя точечный демагнетизатор, снял панель управления, обнажив сложнейшие детали.
Миссис Хэншоу наблюдала за ним, сложив руки на груди.
Наконец механик воскликнул:
— Ну вот он! — и ловким движением вытащил тормозной клапан.
— Этот клапан размагнитился, мэм. Вот и все. — Он пробежал пальцем по отделениям своего ящика и вынул точно такую же деталь. — Эти штуки любят внезапно выходить из строя. Никогда нельзя предвидеть.
Он поставил панель управления на место и встал.
— Сейчас все будет в порядке, мэм.
Затем он набрал контрольную комбинацию цифр, аннулировал ее, набрал еще одну. Каждый раз унылая серость двери переходила в глубокую бархатистую черноту.
— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, мэм, и будьте добры проставить номер своего счета.
Механик набрал новую комбинацию цифр, на этот раз координаты своей мастерской, и, вежливо прикоснувшись пальцем ко лбу, прошел в дверь. Когда его тело проникло в темноту, оно сразу потеряло свои очертания. Последним исчез кончик ящика с инструментами, и через мгновение дверь снова обрела свой унылый, серый цвет.
Спустя полчаса, когда миссис Хэншоу наконец закончила прерванные приготовления и все еще с негодованием думала об утреннем инциденте, надоедливо зазвонил видеофон, и с этого звонка начались ее истинные беды.
Мисс Элизабет Роббинс была в замешательстве. Маленький Дик Хэншоу всегда считался хорошим учеником. Ей отнюдь не хотелось жаловаться на него. И все же, говорила она себе, сегодня он вел себя очень странно. И она, разумеется, должна поговорить с его матерью, а не с директором школы.
Она отправилась к видеофону во время утреннего учебного периода, оставив вместо себя одного из учеников. Набрала нужный номер и поймала себя на том, что необычайно внимательно смотрит на красивую и, пожалуй, грозную голову чем-то недовольной миссис Хэншоу.
Мисс Роббинс немного струсила, но отступать было уже поздно. Она робко сказала:
— Миссис Хэншоу, я мисс Роббинс.
Миссис Хэншоу окинула ее ничего не выражающим взором, потом спросила:
— Учительница Ричарда? — ее голос звучал сухо и надменно.
— Совершенно верно. Я позвонила вам, миссис Хэншоу, — продолжала мисс Роббинс, — чтобы сказать, что сегодня утром Дик пришел в школу очень поздно.
— Неужели? Но этого не может быть. Я видела, как он уходил.
Мисс Роббинс изобразила вежливое удивление. Она спросила:
— Вы хотите сказать, что видели, как он воспользовался дверью?
Миссис Хэншоу быстро проговорила:
— Нет, нет. Наша дверь временно не работала. Я послала его к соседям, и он воспользовался их дверью.
— Вы уверены?
— Конечно, уверена. Неужели же я вам лгу?
— Ну что вы, миссис Хэншоу. Я совсем не это имею в виду. Я хотела сказать: уверены ли вы в том, что он нашел дорогу к соседям? Он, возможно, заблудился…
— Ерунда. У нас есть прекрасные карты, и я не сомневаюсь, что Ричард отлично знает, где находится каждый дом в районе А-3.
Потом со спокойной гордостью человека, который осознает свое заметное положение в обществе, она добавила:
— И вовсе не оттого, что ему это необходимо знать, конечно. Достаточно посмотреть в справочнике нужные координаты…
Мисс Роббинс, выросшую в семье, где всегда приходилось строго экономить на пользовании собственной дверью (из-за стоимости энергии, которую она поглощала), и потому еще до недавнего времени ходившую пешком, обидела эта гордость. Она сказала весьма отчетливо:
— Ну, я боюсь, миссис Хэншоу, что Дик не воспользовался дверью соседей. Он больше чем на час опоздал в школу, и состояние его галош не оставляет сомнений, что он бродил по улицам. Они в грязи.
— В грязи? — повторила миссис Хэншоу с той же интонацией. — Что вы сказали? Чем он это объясняет?
Мисс Роббинс не могла не почувствовать удовольствие при виде замешательства этой женщины. Она продолжала:
— Он ни за что не хотел рассказать об этом. Откровенно говоря, миссис Хэншоу, мне он кажется больным. Вот почему я позвонила вам. Возможно, вы пожелаете показать его врачу?
— У него температура? — в голосе матери появились звенящие нотки.
— О, нет. Я не хочу сказать, что он физически болен. Речь идет о его отношении к вещам и выражении глаз. — Она поколебалась, затем промолвила, стараясь быть как можно более деликатной:
— Мне кажется, что может быть, обычная проверка с помощью психозондирования…
Она не закончила. Миссис Хэншоу прервала ее ледяным голосом, которому только воспитание не давало перейти в звериный рык:
— Вы хотите сказать, что Ричард невротик?
— О, нет, миссис Хэншоу, но…
— Ну, конечно, вы хотели сказать именно это. Что за идея! Он всегда был совершенно здоров. Я разберусь во всем этом, когда он вернется домой. Я уверена, что найдется абсолютно нормальное объяснение, которое он даст мне.
Связь резко оборвалась, и мисс Роббинс почувствовала себя обиженной и почему-то глупой. В концов она только пыталась выполнить то, что считала одной из своих обязанностей.
Она поспешила обратно в свой класс, мельком взглянув на металлический циферблат настенных часов. Время самоподготовки подходило к концу. Следующим был урок литературы.
Но мисс Роббинс не была целиком поглощена мыслями о литературе. Чисто автоматически она вызывала учеников, предлагая им прочесть на выбор отрывок из их литературных творений. Столь же автоматически записывала один из этих отрывков на пленку и пропускала ее через маленький вокализатор, чтобы показать, как следует читать по-английски.
В механическом голосе вокализатора, как всегда, звучало совершенство, но тоже, как всегда, ему не хватало индивидуальности. Раньше мисс Роббинс иногда задумывалась над тем, разумно ли обучать детей речи, которая лишена индивидуальности и вырабатывает у всех одинаковую интонацию.
Сегодня, однако, она совсем не думала об этом. Она следила только за Ричардом Хэншоу. Он тихо сидел на своем месте, не обращая никакого внимания на окружающее. Он ушел глубоко в себя и был совсем не тем мальчиком, каким был прежде. Ей стало ясно, что с ним этим утром произошло нечто необычное, и, следовательно, она правильно сделала, позвонив его матери, хотя, возможно, не следовало бы упоминать о психозондировании. Но ведь это сейчас такой популярный метод… обследуют всех подряд. В этом нет ничего унизительного. или считается, что нет.
Наконец она вызвала Ричарда. Ей пришлось называть его фамилию дважды, прежде чем он услышал и встал.
Сочинение писали на тему «Если бы вам предложили выбрать для путешествия какое-либо древнее средство транспорта, то какое-бы вы выбрали и почему?». Мисс Роббинс использовала эту тему в каждом семестре. Тема была хорошая, потому что развивала чувство исторического. она побуждала молодежь думать об образе жизни людей в прошлые века.
Мисс Роббинс слушала, как Ричард читает тихим, монотонным голосом.
— Если бы у меня был выбор среди древних средствов транспорта, сказал он, произнеся вместо «средств» «средствов», — я бы выбрал стратолайнер. Он двигается тихо, как и все другие средства транспорта, но зато чистый. Потому что он двигается в стратосфере, он должен быть полностью герметичен, поэтому вы вряд ли заразитесь какой-нибудь болезнью. Вы можете видеть звезды, если это ночное время, почти так же, как в планетарии. если вы посмотрите вниз, вы сможете увидеть землю, как на карте, или, может быть, облака… — он прочитал еще несколько сотен слов.
Когда он закончил, мисс Роббинс оживленно сказала:
— Слово «средство» в родительном падеже произносится без окончания «ов». Ударение на первом слоге. И нельзя говорить «двигается тихо» или «видеть сильно». Как нужно сказать, дети?
Послышался нестройный хор ответов…
Так продолжались занятия. Прошел обед. Некоторые ученики обедали в школе, некоторые уходили домой. Ричард остался. Мисс Роббинс обратила на это внимание, потому что обычно он уходил домой.
Миновал полдень, затем раздался последний звонок, и двадцать пять мальчиков и девочек стали шумно выстраиваться в очередь.
Мисс Роббинс хлопнула в ладоши:
— Быстрее, дети. Зельда, займи свое место.
— Я обронила лентокол, мисс Роббинс, — оправдываясь, пискнула девочка.
— Ну подбери его, подбери его. Ну-ка, дети, живее, живее.
Она нажала кнопку, и часть стены ушла в нишу, открыв сероватую черноту большой двери. Это была не обычная дверь, которой пользовались ученики, отправляясь домой обедать, а усовершенствованная модель — ею очень гордилась эта процветающая частная школа.
Дверь была двойной ширины и снабжена большим и впечатляющим прибором под названием «автоматический номерной искатель», благодаря которому ее можно было устанавливать сразу на несколько различных координат, набиравшихся через определенные промежутки времени.
В начале семестра мисс Роббинс всегда приходилось проводить один день с механиком, настраивая дверь на координаты домов новых учеников. Но потом, слава богу, в течении всего семестра, как правило, к механику не нужно было обращаться.
Дети встали в очередь в алфавитном порядке, первыми девочки, потом мальчики. Дверь обрела бархатисто-черный цвет, и Эстер Адамс помахала рукой, входя в нее. — До сви-и-и…
Слова «до свидания» оборвались на середине, как это обычно и бывало.
Дверь посерела, затем снова почернела… очередь становилась все меньше по мере того, как дверь заглатывала девочек одну за другой, доставляя каждую прямо в дом. Конечно, кое-кто из матерей забывал переключить дверь своего дома в соответствующее время на специальный прием, и тогда школьная дверь оставалась серой. Автоматически, после минутного ожидания, дверь набирала координаты дома следующего по очереди, а ученику, чья дверь не была открыта, приходилось ждать до тех пор, пока все уйдут, после чего звонок к рассеянной мамаше исправлял создавшееся положение. Это всегда производило неприятное впечатление на детей, они очень переживали, думая, что о них мало заботятся дома. Мисс Роббинс обязательно старалась довести это до сведения родителей, когда наносила им визиты, но все равно подобные инциденты случались по крайней мере один раз в каждом семестре.
Еще одно осложнение, к тому же весьма частое, происходило, когда мальчик или девочка вставали не на свое место в очереди. это все же иногда случалось, несмотря на пристальное наблюдение учителей, особенно в начале семестра, когда порядок очереди был детям не так еще привычен.
Когда это случалось, до полдюжины детей оказывались не в своих домах и их приходилось отсылать обратно. На устранение неразберихи требовалось несколько минут, и родители очень сердились…
Вдруг мисс Роббинс увидела, что движение в очереди прекратилось. Она резко окликнула мальчика, стоявшего в начале очереди:
— Входи, Сэмюэль. Чего ты ждешь?
Сэмюэль обиженно скривился и сказал:
— Это координаты не моего дома, мисс Роббинс.
— Ну, а чьи же они? — она нетерпеливо окинула взглядом очередь, состоявшую из пяти мальчиков. — Кто стоит не на своем месте?
— Это координаты дома Дика Хэншоу, мисс Роббинс.
— Где он?
На этот вопрос ответил другой мальчик, произнося слова с той малоприятной интонацией самодовольства, которая автоматически появляется у всех детей, когда они сообщают взрослым о проступках своих товарищей:
— Он вышел через пожарную дверь, мисс Роббинс.
— Что?!
Школьная дверь включила следующую комбинацию координат, и Сэмюэль Джоунз отправился домой. Один за другим последовали другие.
Мисс Роббинс осталась одна в классе. Она подошла к пожарной двери. Это была совсем маленькая дверца, открывавшаяся вручную и спрятанная в нише стены.
Мисс Роббинс чуть-чуть приоткрыла дверь, путь спасения в случае пожара, она была навязана устаревшим законом, не учитывавшим современные методы автоматической борьбы с пожарами, применявшиеся во всех общественных зданиях. там, на улице, не было ничего, кроме… улицы. ярко светило солнце, и дул пыльный ветер.
Мисс Роббинс закрыла дверь. Она была рада, что позвонила утром миссис Хэншоу, исполнив тем свой долг. Теперь уж не приходилось сомневаться, что с Ричардом что-то случилось. Она подавила в себе желание позвонить еще раз.
В этот день миссис Хэншоу не поехала в Нью-Йорк. Она осталась дома, испытывая волнение, связанное с гневом, последний был вызван нахальством мисс Роббинс.
Минут за пятнадцать до окончания занятий в школе волнение привело ее к двери. В прошлом году она поставила на ней автоматическое устройство, которое переключало дверь на координаты школы без пяти три и держало ее в таком состоянии, исключая ручную регулировку, до тех пор, пока не приходил Ричард.
Ее глаза не отрывались от мрачной сероватости двери (и почему это неактивированное силовое поле не может быть какого-нибудь другого цвета, более живого и радостного…). Обхватив себя руками, она почувствовала, какие они холодные.
Дверь почернела точно в назначенное время, но мальчика не было. Шли минуты — Ричард опаздывал. Потом основательно опаздывал, наконец, возмутительно опаздывал.
В четверть четвертого миссис Хэншоу была уже в полном смятении. Раньше в подобном случае она позвонила бы в школу, но сейчас она не могла, просто не могла. Только не после того, как эта учительница усомнилась в состоянии психики Ричарда. Что за наглость!
Миссис Хэншоу беспокойно ходила по комнате, прикуривала сигарету за сигаретой и тут же гасила их. Но, может быть, она волнуется напрасно? Ведь мог же Ричард остаться после занятий по какой-либо причине? Но он сказал бы ей об этом заранее… догадка пронзила ее: он знал, что она собирается в Нью-Йорк и останется где-то до позднего вечера… нет, нет он наверняка сказал бы ей…
Гордость ее трещала по швам. Придется позвонить в школу или даже (она закрыла глаза, и слезинки просочились сквозь ресницы) в полицию.
А когда она открыла глаза, Ричард стоял перед ней, опустив голову, и всем видом своим напоминал человека, ждущего удара грома.
— Здравствуй, мам.
Волнение миссис Хэншоу мгновенно перешло (способом, известным только матерям) в гнев:
— Где ты был, Ричард?
И затем, прежде чем начать причитать о бессовестных, ветреных сыновьях и о матерях с разбитыми сердцами, она более внимательно оглядела его и охнула от ужаса.
Потом прошептала:
— Ты был на улице.
Ее сын посмотрел на свои запыленные ботинки (без галош), на пятнышки грязи на локтях, на чуть порванную рубашку. Он сказал:
— Черт возьми, мам, я просто подумал, что мне… — и умолк.
Миссис Хэншоу спросила:
— Что-нибудь случилось со школьной дверью?
— Нет, мам.
— Ты понимаешь, что я чуть не сошла с ума, волнуясь из-за тебя? — она тщетно ожидала ответа. — Ну что ж, поговорим после. Сейчас ты примешь ванну, а вся твоя одежда до последней ниточки будет выброшена. Робот!
Но робот уже отреагировал на фразу «примешь ванну» и приступил к необходимым действиям.
— Ботинки сними здесь, — сказала миссис Хэншоу, — и отправляйся за роботом.
Ричард выполнил приказание с таким обиженным видом, который был красноречивее любых многословных протестов.
Миссис Хэншоу подобрала двумя пальцами запачканные ботинки и бросила их в мусоропровод, который недовольно заурчал от этой неожиданной нагрузки. Она тщательно обтерла руки бумажным платком и отправила его вслед за ботинками.
Она не села ужинать с Ричардом, а позволила ему есть в компании робота. Это, думала она, будет свидетельством ее неудовольствия и окажет большее воздействие, чем любой упрек или наказание. Так он скорее поймет, что поступил неправильно. Ричард, говорила она часто себе, очень чувствительный мальчик.
Но перед сном миссис Хэншоу зашла к сыну. Она улыбнулась и заговорила нежным голосом. Ей казалось, что так будет лучше: в наказании необходим соблюдать меру.
Она спросила:
— Что произошло сегодня, мальчик Дики? — так она его называла еще в то время, когда он был малышом, и сейчас сама чуть не прослезилась от умиления.
Но Ричард отвернулся, а голос его был упрям и холоден.
— Мне просто не хочется проходить через эти проклятые двери, мам.
— Но почему?
Он пошевелил руками под тонкими простынями (дезинфицированными, конечно, менявшимися каждое утро) и сказал:
— Они мне не нравятся, вот и все.
— Но в таком случае как же ты собираешься ходить в школу, Дики?
— Буду рано вставать, — пробормотал он.
— Но в дверях нет ничего плохого.
— Не нравятся они мне. — Он так и не посмотрел на мать. В отчаянии она сказала:
— Ну, спи спокойно, а утром тебе будет лучше.
Она поцеловала его и вышла, на мгновение прервав фотоэлектрический луч: свет в комнате погас.
В эту ночь миссис Хэншоу никак не могла уснуть. И почему это Дики вдруг невзлюбил двери? Раньше они его никогда не беспокоили. Ну, конечно же, утром сломалась дверь, но это должно бы заставить его еще больше ценить это современное средство передвижения.
Дики вел себя так неразумно…
Неразумно? Это напомнило ей о мисс Роббинс и ее диагнозе, и миссис Хэншоу стиснула зубы в темноте и уединении своей спальни. Вздор! Мальчик расстроен, и сон — единственное лекарство, в котором он нуждается.
Однако на следующее утро, когда она поднялась, ее сына не было дома. Робот не умел говорить, но отвечал на вопросы жестами своих механических рук, показывая «да» или «нет», и миссис Хэншоу понадобилось не более полминуты, чтобы узнать: мальчик встал на тридцать минут раньше обычного, кое-как умылся и выскочил из дома.
Но не через дверь.
Другим путем — через дверь. Пишется не с прописной буквы.
В этот день видеофон миссис Хэншоу мелодично зазвонил в 3 часа 10 минут дня. Миссис Хэншоу интуитивно почувствовала, кто ее вызывает, и, включив экран, увидела, что не ошиблась. мельком взглянув в зеркало, желая убедиться, что ее лицо совершенно безмятежно после дня, полного тревоги и забот, она подключила передатчик своего видеофона.
— Да, мисс Роббинс, — холодно сказала она.
Учительница Ричарда была взволнованна. она быстро проговорила:
— Миссис Хэншоу, Ричард преднамеренно ушел через пожарную дверь, хотя я ему сказала, чтобы он воспользовался дверью. Я не знаю, куда он пошел.
Тщательно выбирая слова, миссис Хэншоу ответила:
— Он пошел домой.
Мисс Роббинс очень огорчилась:
— Вы это одобряете?
Бледнея от негодования, миссис Хэншоу решила поставить учительницу на место:
— Если мой сын не желает пользоваться дверью, то это его дело и мое. Насколько я знаю, не существует школьного правила, которое обязывало бы его непременно пользоваться дверью, — не так ли? — весь ее вид ясно давал понять, что если бы такое правило существовало, то она уж постаралась бы его отменить.
Мисс Роббинс вспыхнула, но успела выпалить, прежде чем связь оборвалась:
— Я бы проверила его психозондированием. Я бы непременно это сделала…
Миссис Хэншоу осталась стоять, уставясь невидящим взглядом в потухший экран. Голос крови на некоторое время заставил ее принять сторону Ричарда. Разве он обязан пользоваться дверью, если не хочет? И все же беспокойство не оставляло ее: ведь поведение Ричарда и в самом деле было не совсем нормальным…
Он пришел домой с вызывающим выражением лица, но мать, собрав всю свою волю, встретила его так, словно ничего не произошло.
В течении нескольких недель она придерживалась этой политики. ничего страшного, говорила она себе. Детские капризы. С возрастом пройдет…
Иногда, спускаясь к завтраку, миссис Хэншоу обнаруживала Ричарда, угрюмо ожидающего у двери, — он пользовался ею, когда наступало время идти в школу. Случалось, он три дня подряд уходил нормальным путем. Мать воздерживалась от комментариев.
Каждый раз, когда он делал это, и особенно если пользовался дверью дважды, то есть так же возвращался домой, ее сердце теплело, и она думала: «Ну, вот все и кончилось». Но спустя день, два или три он, подобно наркоману, стремящемуся к своему наркотику, опять тихонько ускользал через дверь с маленькой буквы.
После таких побегов миссис Хэншоу с отчаянием думала о психиатрах и психозондировании, но неизменно мысль о мисс Роббинс останавливала ее, хотя она едва ли отдавала себе отчет в том, что это и был истинный мотив.
Несмотря на душевные страдания, миссис Хэншоу сумела приспособиться к новому укладу жизни. Она дала указание роботу ждать у двери (с маленькой буквы) с набором «терго» и сменой белья. Ричард безропотно мылся и менял одежду. его нижнее белье, носки и галоши выбрасывались в любом случае, и миссис Хэншоу молча шла на эти расходы.
Однажды она предложила Ричарду сопровождать ее в поездке в Нью-Йорк. Это было скорее смутное желание видеть его рядом с собой, а не продуманный план. Ричард не возражал. Он был даже счастлив. Он смело вошел в дверь, не задумываясь. В его глазах не было и следа недовольства в отличие от тех случаев, когда он пользовался дверью, отправляясь в школу.
Миссис Хэншоу ликовала. это, возможно, и есть тот способ, которым удастся вновь приучить сына пользоваться дверью. Она ломала голову над тем, какие придумать предлоги для поездок с Ричардом. она даже довела свой счет за энергию до невиданных размеров, осуществив вместе с сыном однодневный визит на китайский фестиваль.
Это было в воскресенье, а на следующее утро Ричард направился прямо к той дыре в стене, которой он всегда пользовался. Миссис Хэншоу, проснувшаяся раньше обычного, сама была тому свидетелем. И тут, выведенная из терпения, со слезами на глазах, она крикнула ему вслед:
— Но почему не дверь, Дик?
Без лишних слов он пояснил:
— Она хороша для далеких поездок. — И вышел из дома.
Итак, ее план не привел к успеху. А однажды Ричард пришел домой насквозь промокший. Робот неуверенно засуетился вокруг него, а миссис Хэншоу, только что вернувшаяся от своей сестры в штате Айова, воскликнула:
— Ричард Хэншоу!
Он сказал мрачнейшим тоном:
— Пошел дождь. Вдруг пошел дождь.
Это слово не сразу дошло до ее сознания. Двадцать лет миновало с тех пор, когда она ходила в школу и изучала географию. но затем она вспомнила и представила себе, как бешено и бесконечно льется вода с неба сумасшедший каскад воды, который нельзя остановить, повернув кран, нажав кнопку, прервав контакт…
Она спросила:
— И ты остался под дождем?
Ричард ответил:
— Но, мам, я бросился домой со всех ног. Я не знал, что пойдет дождь.
Миссис Хэншоу молчала. Она была в ужасе, и это ощущение настолько заполнило ее, что не оставило место для слов.
Спустя два дня у Ричарда появился насморк, а горло пересохло и першило. Миссис Хэншоу пришлось признать, что вирус болезни нашел приют в ее доме, как будто это была жалкая лачуга железного века.
Ее гордости и упрямству пришел конец, и она с горечью сказала себе, что ничего не поделаешь: Ричард нуждается в помощи психиатра.
Миссис Хэншоу выбирала психиатра очень тщательно. Сначала она хотела найти его где-нибудь подальше. Она подумывала даже обратиться непосредственно в медицинский центр и выбрать врача наугад.
Но затем ей пришло в голову, что, поступив так, она станет просто одной из сотен никому не известных консультирующихся. Она привлечет к себе не больше почтительного внимания, чем любой обитатель любой из трущоб города, пользующийся общественной дверью. А вот если она обратится за помощью в своем районе, то ее слово будет иметь вес…
А почему бы и нет? Район А-3 был хорошо известен в мире, он являл собою символ аристократизма. Это была первая община, созданная на основе максимального использования дверей. Первый район, самый большой, самый богатый, самый известный. Он не нуждался ни в фабриках, ни в магазинах. ни даже в дорогах. Каждый дом был маленьким уединенным замком, дверь которого могла доставить хозяина в любую точку мира, где существовала такая же дверь.
Миссис Хэншоу старательно просмотрела список пяти тысяч семей, проживавших в районе А-3. Она знала, что он включает и несколько психиатров. Медицина была хорошо представлена в этом богатом районе.
Фамилия доктора Хэмилтона Слоуна попалась ей второй, и палец миссис Хэншоу застыл на карте. Его приемная находилась не более чем в двух милях от резиденции семьи Хэншоу. Ей понравилась фамилия доктора. А тот факт, что он жил в районе А-3, свидетельствовал о его профессиональном авторитете. К тому же он фактически был ее соседом. Он непременно поймет, что это срочное дело и конфиденциальное.
Не колеблясь, она позвонила в приемную и договорилась о встрече.
Доктор Хэмилтон Слоун был сравнительно молодым человеком, не старше сорока лет. Он, конечно же, слышал о миссис Хэншоу и встретил ее очень любезно.
Когда она закончила свой рассказ, Слоун спросил:
— И все это началось с того момента, когда сломалась дверь?
— Совершенно верно, доктор.
— Проявляет ли он какой-либо страх перед дверью?
— Конечно, нет. Что за нелепая мысль! — она была чрезвычайно удивлена.
— Но это бывает, миссис Хэншоу, это бывает. В конце концов, если задуматься над тем, как работает дверь, то это и в самом деле страшновато. Вы входите в дверь, и на какое-то мгновение ваши атомы превращаются в энергетические поля, перемещаемые в иную часть пространства и преобразуемые в другую материю. В это мгновение вы мертвы.
— Я уверена, что никто не думает о подобных вещах.
— Но не исключено, что об этом думает ваш сын. Он был свидетелем поломки двери. Возможно, он говорит себе: «А что если дверь сломается на полдороге?»
— Но это вздор. Он ведь пользуется дверью. Он даже был со мной за границей. И, как я уже сказала вам, он пользуется ею, отправляясь в школу, — раз или два в неделю…
— Не задумываясь? С хорошим настроением?
— Ну, — неохотно промолвила миссис Хэншоу, — создается впечатление, что она его несколько угнетает. Впрочем, доктор, что толку говорить об этом? Если бы вы сделали быстрое психозондирование, посмотрели бы, в чем дело… — и она закончила непринужденным тоном: — Этого было бы достаточно. Я уверена, что ничего опасного нет.
Доктор Слоун вздохнул. Он ненавидел слово «психозондирование», но вряд ли существовало какое-нибудь другое слово, которое он слышал бы чаще.
— Миссис Хэншоу, — сказал он, — нет такой вещи, как «быстрое психозондирование». Разумеется, я знаю, что видеогазеты полны этой чепухи, а в некоторых статьях ее превозносят до небес, но все это — чудовищное преувеличение.
— Вы говорите это серьезно?
— Вполне. Психозондирование — очень сложный процесс. Это процесс прослеживания мыслительных цепочек. Понимаете, клетки мозга взаимосвязаны множеством способов. некоторые из этих «дорожек» используются чаще, чем другие. Они представляют собой привычки мышления, как сознательного, так и подсознательного. Согласно теории, эти «дорожки» в любом конкретном мозге могут быть использованы для определения умственных заболеваний…
— Ну и что?
— Но подвергнуться психозондированию — это страшная вещь, особенно для ребенка. Психика неизбежно травмируется. На зондирование уходит больше часа. Кроме того, результаты необходимо отослать в центральное психоаналитическое бюро на анализ, а ответ придет через несколько недель. Помимо всего этого, миссис Хэншоу, многие психиатры считают, что зондирование психической структуры при помощи существующих приборов не дает достаточно надежных результатов.
Миссис Хэншоу поджала губы:
— Вы хотите сказать, что ничего нельзя сделать?
Доктор Слоун улыбнулся.
— Вовсе нет. Психиатры появились за много столетий до того, как изобрели психозондирование. Позвольте мне побеседовать с мальчиком.
— Побеседовать с ним и все?
— Я обращусь к вам за дополнительной информацией о его прошлом, если понадобится, но главное, я думаю, — это побеседовать с вашим Диком.
— Нет, доктор Слоун, я сомневаюсь, что он станет обсуждать этот вопрос с вами. Он со мной-то не говорит, а ведь я его мать.
— Так часто бывает, — уверил ее психиатр. — Ребенок иногда с большей готовностью заговорит с незнакомцем. Но если вы не согласны, я просто не возьмусь за лечение, так как не вижу другого пути.
Миссис Хэншоу встала, явно недовольная:
— Когда вы сможете прийти, доктор?
— Как насчет субботы? Мальчик не пойдет в школу. Вы не будете заняты?
— Мы ждем вас.
Она с достоинством вышла. Доктор Слоун проводил ее до двери и подождал пока она набрала координаты своего дома. он смотрел, как она входит в дверь. Миссис Хэншоу стала полуженщиной, четвертьженщиной. отдельными локтем и ногой, ничем…
Это действительно было страшно.
Ломалась ли дверь когда-нибудь во время перемещения, оставляя половину тела там, а половину здесь? Слоун никогда не слышал о подобном случае, но понимал, что это вполне может случиться.
Он вернулся к своему столу и посмотрел, на какое время у него назначен следующий прием. Миссис Хэншоу, думал он, явно обижена и разочарована тем, что ей не удалось договориться о лечении ее сына психозондированием.
Почему, черт возьми? Почему такой метод, как психозондирование, несомненное шарлатанство, по его мнению, столь привлекателен для сотен и тысяч людей? Это, должно быть, одно из проявлений растущего преклонения перед машинами. Все, что делает человек, машины могут сделать лучше. Машины! Больше машин! Машины на все случаи жизни! О времена, о нравы!
И вдруг собственное неодобрительное отношение к психозондированию начало беспокоить доктора. Не страх ли это перед безработицей, которую может вызвать растущая технизация медицины, чувство неуверенности к себе, машинофобия?..
Слоун решил обсудить это со своим собственным аналитиком.
Прошли первые десять минут, в течении которых все чувствовали себя неловко, и Слоун решил, что пора попытаться. Миссис Хэншоу весьма натянуто улыбалась, пристально взирая на него, словно ждала, что он сейчас совершит чудо. Ричард ерзал на своем стуле, не реагируя на робкие вопросы доктора Слоуна, он устал, скучал и не скрывал этого.
И вдруг Слоун сказал:
— Тебе бы не хотелось прогуляться со мной, Ричард?
Глаза мальчика округлились, он перестал ерзать и посмотрел доктору в глаза:
— Прогуляться, сэр?
— Я имею в виду — на улице.
— Вы ходите… по улице?
— Иногда. Когда у меня есть настроение.
Ричард вскочил на ноги, он весь дрожал от нетерпения.
— Я не думал, что кто-нибудь гуляет по улицам…
— А я гуляю иногда. И я не против компании.
Поколебавшись, мальчик сел.
— Мама?
Миссис Хэншоу окаменела от возмущения, но ей все же удалось выговорить:
— Ну, конечно, Дики. Но будь осторожен.
И она бросила быстрый, злобный взгляд на доктора Слоуна.
Доктор Слоун солгал. Он не выходил на открытый воздух с тех пор, как поступил в колледж. Правда, он любил спорт, но во время его учения уже были широко распространены закрытые плавательные бассейны и теннисные корты с ультрафиолетовым облучением. Спорт под крышей вполне устраивал тех, кто боялся капризов природы. Так что у Слоуна не было никаких поводов выходить на улицу.
А теперь… по его спине забегали мурашки, когда пронесся порыв ветра, а трава, казалось, колола ноги даже через ботинки с галошами…
— Эй, посмотрите-ка сюда. — Ричард сейчас был совершенно другим, его сдержанность улетучилась.
Но доктор Слоун едва успел заметить что-то синее, мелькнувшее на дереве, в гуще листвы.
— Что это было?
— Птица, — сказал Ричард. — Какая-то синяя птица.
Доктор Слоун с удивлением огляделся. Дом семьи Хэншоу стоял на возвышенности, и вид с нее открывался красивый. Негустой лес перемежался полянами с сочной зеленой травой.
Цветные пятна, обрамленные более темной зеленью, составляли красные и желтые рисунки. это были цветы. Слоун без особого труда узнавал все эти явления живой природы, он был с ними знаком по книгам и видеоконцертам.
Однако же трава была такой аккуратной, цветы такими упорядоченными… подсознательно Слоун ожидал чего-то более дикого. Он спросил:
— Кто за всем этим ухаживает?
Ричард пожал плечами:
— Не знаю. Возможно, это делают роботы.
— Роботы?
— Их здесь целая куча. Иногда у них есть что-то вроде атомного ножа, которым они проводят над землей. Этот нож режет траву. И они всегда возятся с цветами и со всем прочим. Вот там один из них.
Мальчик показал на какой-то загадочный маленький предмет — он медленно двигался над долиной, занятый чем-то совершенно непонятным, а его металлическая кожа отбрасывала яркие солнечные зайчики.
Доктор Слоун был поражен. Он и не знал, что существуют такие роботы.
— А это что? — вдруг спросил он.
Ричард повернул голову:
— Это принадлежит семье Фроуликс. Координаты А-3, 23, 461. А то маленькое остроконечное здание — публичная дверь.
Доктор Слоун внимательно смотрел на дом. Неужели снаружи он выглядит так? Прежде доктору казалось, что дом — это нечто кубическое и очень высокое.
— Идемте! — крикнул Ричард и побежал вперед.
Доктор Слоун последовал за ним, но более умеренным шагом.
— Ты знаешь тут все дома?
— Почти.
— Где находится дом с координатами А-23, 26, 475? — это был дом Слоуна, разумеется.
Ричард огляделся.
— Дайте подумать. О, конечно. Я знаю, где он… Видите вон там воду?
— Воду? — доктор Слоун разглядел серебристую линию, извивающуюся среди зелени.
— Конечно. Настоящая вода. Она течет не переставая, все время. Через нее можно перейти по камням.
Это скорее похоже на ручей, подумал доктор Слоун. Он изучал географию, естественно, но только экономическую и культурную. Физическая география была почти отмершей наукой, ею не интересовался никто, кроме нескольких специалистов. И все же Слоун знал, что такое реки и ручьи теоретически…
Ричард продолжал говорить:
— Как раз за рекой, вон за тем холмом, на котором большая роща, по другую сторону стоит дом А-23, 26, 475. Это светло-зеленый дом с белой крышей.
— Неужели? — доктор Слоун был искренне удивлен. Он не знал, что его дом выкрашен в зеленый цвет.
Какое-то мелкое животное пробежало по траве, спасаясь от приближающихся ног. Ричард посмотрел ему вслед и пожал плечами.
— Их невозможно поймать. Я пробовал.
Мимо пролетела бабочка, махая желтыми крылышками. Доктор Слоун проследил за ней глазами.
Отовсюду слышалось чириканье и щебетание, веселое и очень разноголосое. По мере того, как его слух обострялся, доктор Слоун начал различать тысячи звуков, и ни один из них не был искусственным.
На землю упала большая тень, быстро приблизившись, она накрыла Слоуна. Стало прохладнее, и он, вздрогнув, посмотрел вверх.
Ричард сказал:
— Это просто облако. Через минуту оно проплывет дальше. Посмотрите-ка лучше на эти цветы. Они пахнут.
Сейчас они были в нескольких сотнях ярдов от дома Хэншоу. Облако ушло, снова сияло солнце. Доктор Слоун посмотрел назад и ужаснулся, увидев, какое расстояние они прошли. Если они потеряют из виду дом, а Ричард убежит, сможет ли он, взрослый человек, найти дорогу обратно?
Он отогнал эту мысль и снова стал смотреть на полоску воду, и за нее, туда, где должен стоять его собственный дом. Слоун с удивлением думал: «Светло-зеленый?»
Через некоторое время он сказал:
— Ты, должно быть, настоящий исследователь.
Ричард ответил со сдержанной гордостью:
— Когда я иду в школу и возвращаюсь обратно, я всегда стараюсь идти другой дорогой и увидеть что-нибудь новое.
— Но ведь ты не идешь улицей каждое утро, верно? Иногда, я думаю, ты пользуешься дверью.
— О, конечно.
— Почему ты поступаешь именно так, Ричард? — доктор Слоун почему-то был уверен, что все это имело какой-то особый смысл.
Но Ричард разочаровал его. Удивленно подняв брови, он сказал:
— Ну, черт возьми, иногда по утрам идет дождь, и мне приходится пользоваться дверью. Я страшно не люблю этого, но что же делать? Недели две назад меня застиг дождь, и я… — он автоматически оглянулся, и голос его понизился до шепота: — простыл, и мама очень расстроилась.
Доктор Слоун вздохнул:
— Ну а сейчас, не вернуться ли нам назад?
На лице Ричарда мелькнуло разочарование:
— А зачем?
— Я подумал, что твоя мама, наверно, ждет нас.
— Наверно. — мальчик неохотно повернул обратно.
Они медленно возвращались к дому, Ричард непринужденно говорил:
— Недавно я написал в школе сочинение о том, как стал бы путешествовать на каком-нибудь древнем средстве транспорта (слово «средство» он произнес с величайшим старанием). «Я бы путешествовал на стратолайнере и смотрел на звезды и облака…» Каким же я был дураком!
— Теперь ты выбрал что-нибудь другое?
— Разумеется. Я бы поехал на автомобиле, и очень тихо. Тогда я увидел бы все вокруг…
Миссис Хэншоу казалась озабоченной, неуверенной.
— Так вы не думаете, что это ненормально, доктор?
— Необычно — да, но ничего ненормального я здесь не вижу. Ричарду нравится бывать на свежем воздухе.
— Но почему? Там так грязно, так неприятно.
— Это вопрос вкуса. Сто лет назад наши предки проводили на свежем воздухе большую часть времени. Даже сегодня, смею сказать, существуют миллионы африканцев, которые никогда не видели двери.
— Но Ричард всегда учили вести себя так, как подобает достойному жителю района А-3, — с гневом сказала миссис Хэншоу. Он ведь не африканец, боже упаси, и… и в конце концов не предок…
— В этом-то и заключается часть проблемы, миссис Хэншоу. Мальчик чувствует потребность выйти на свежий воздух, но знает, что этого нельзя делать. Он стыдится говорить об этом с вами или со своей учительницей. Он уходит в себя, а это опасно.
— Как же нам переубедить его?
Доктор Слоун уверенно сказал:
— И не пытайтесь. Лучше направьте его активность в определенное русло. В тот день, когда сломалась ваша дверь, он был вынужден выйти на улицу и обнаружил, что там ему нравится. Ричард использовал хождение в школу и обратно как предлог для того, чтобы повторить это первое волнующее впечатление. Теперь предположим, что вы согласитесь выпускать его из дома на два часа по субботам и по воскресеньям. Ричард поймет, что на улицу можно выходить и без определенной цели. Вам не кажется, что после этого он охотно будет пользоваться дверью, направляясь в школу и возвращаясь обратно? Я думаю, что это в корне решит проблему.
— Но тогда положение вещей остается таким же? Какой в этом смысл? Станет ли мой сын когда-нибудь снова нормальным?
Доктор Слоун поднялся:
— Миссис Хэншоу, он и сейчас абсолютно нормален. Но сейчас он вкушает радости запретного плода. Если вы ему поможете, покажете, что вы не против, это немедленно потеряет кое-что из своей привлекательности. затем, став старше, он начнет яснее понимать, чего от него ожидает и требует общество. Он научится подчиняться. В конце концов во всех нас дремлет бунтарь, но стремление к бунту, обычно, угасает по мере того, как мы стареем и устаем. Конечно, если это стремление неразумно подавляют, возможен психологический взрыв. Не делайте подобной ошибки. С Ричардом все будет в порядке.
Слоун пошел к двери.
Миссис Хэншоу спросила:
— А вам не кажется, доктор, что лучше сделать психозондирование?
Он повернулся и, не скрывая раздражения, воскликнул:
— Нет! Определенно нет! В мальчике нет ничего, что говорило бы о необходимости такого вмешательства. Понимаете? Ничего.
Пальцы Слоуна застыли в дюйме от наборного диска, а выражение лица стало быстро меняться.
— В чем дело, доктор Слоун? — спросила миссис Хэншоу.
Но он не слышал ее, потому что думал о двери, о психозондировании, об удушающем засильи технологии.
Потом сказал негромко, опуская руку:
— Знаете, сегодня такой прекрасный день, что, мне кажется, лучше пройтись пешком… — а ноги его уже несли прочь от двери…
Пауза
Порошок находился в тонкостенной прозрачной капсуле. Капсула, в свою очередь, была завернута в двойную изолирующую пленку. В этой пленке с интервалом в шесть дюймов укреплены были и другие капсулы.
Полоска двигалась. Каждая капсула застывала в металлическом зажиме прямо напротив слюдяного окошка. На табло радиационного счетчика появлялось число, оно регистрировалось на бумажном цилиндре. Капсула передвинулась; ее место заняла следующая.
В 1-45 отпечаталось 308. Минуту спустя 256. Минуту спустя 391. Еще минуту спустя 477. Минуту спустя 202. Еще минуту 251. Минутой позже 000. Минутой позже 000. Минутой позже 000. Минутой позже 000.
Вскоре после двух Александр Джоханнисон проходил мимо счетчика, краем глаза поглядывая на ряды чисел. Пройдя два шага, он остановился и вернулся.
Промотал бумажный цилиндр назад, вернул в прежнее положение и сказал:
— С ума сойти!
Он сказал это с яростью. Высокий, худой, с большими руками, песочного цвета волосами, светлыми бровями, он в тот момент выглядел усталым и недоумевающим.
Джин Дамелли двигался с обычной легкой небрежностью, которую вносил во все свои действия. Он смуглый, волосатый и низкорослый. Нос у него когда-то был сломан, и от этого Джин совсем не походил на физика-атомщика.
Дамелли сказал:
— Мой проклятый Гейгер не работает, и мне совсем не хочется проверять его. Есть сигарета?
Джоханнисон протянул пачку.
— А другие счетчики в здании?
— Я не пробовал, но, наверное, они в порядке.
— Мой счетчик тоже ничего не регистрирует.
— Не разыгрывай. Это ничего не значит. Пошли выпьем коки.
Джоханнисон сказал с большим напряжением, чем намеревался:
— Нет! Я иду к Джорджу Дьюку. Хочу взглянуть на его машину. Если и она…
Дамелли потащился за ним.
— Она будет в порядке, Алекс. Не будь глупцом.
Джордж Дьюк выслушал Джоханнисона, неодобрительно глядя на него поверх очков без оправы. Это лишенный возраста человек с малым количеством волос и еще меньшим — терпения.
Он сказал:
— Я занят.
— Слишком заняты, чтобы сказать, работает ли ваша машина?
Дьюк встал.
— О, дьявол, может ли человек поработать здесь? — Его линейка со стуком упала на пол.
Он подошел к уставленному лабораторному столу и снял тяжелую серую свинцовую крышку с еще более тяжелого серого свинцового контейнера. Длинными щипцами достал из контейнера маленький серебристый цилиндр.
Дьюк мрачно сказал:
— Не подходите.
Но Джоханнисон не нуждался в этом совете. Он держался на расстоянии. За прошлый месяц он не подвергался излучению, но не было смысла подходить ближе к «горячему» кобальту.
По-прежнему при помощи щипцов, держа руки как можно дальше от тела, Дьюк поднес блестящий цилиндр с концентрированной радиоактивностью к окошку счетчика. На расстоянии в два фута счетчик должен был застучать, как бешеный. Но он этого не сделал.
Дьюк сказал «Гм!» и выронил цилиндр. Пошарил в поисках, нашел и снова поднес к счетчику. Ближе.
Ни звука. Огоньки на шкале не вспыхнули. Никакие числа не показались.
Джоханнисон сказал:
— Нет даже фонового излучения
Дамелли сказал:
— Святой Юпитер!
Дьюк положил цилиндр обратно в свинцовый контейнер, так же осторожно, как и доставал, и остановился, глядя на них.
Джоханнисон ворвался в кабинет Билла Эверарда, Дамелли шел за ним. Джоханнисон несколько минут возбужденно говорил, костяшки его рук, которые он положил на стол Эверарда, побелели. Эверард слушал, его гладко выбритые щеки покраснели, жесткий воротничок впился в шею.
Эверард посмотрел на Дамелли и вопросительно ткнул пальцем в Джоханнисона. Дамелли пожал плечами, поднял руки ладонями вверх и наморщил лоб.
Эверард сказал:
— Не понимаю, как они могут все выйти из строя.
— Вышли, вот и все, — настаивал Джоханнисон. — Все вышли из строя около двух часов. Примерно час назад, и ни один не заработал снова. Даже Джордж Дьюк ничего не смог сделать. Говорю вам, дело не в счетчиках.
— Но ведь вы рассказываете о них.
— Я говорю, что они не работают. Но это не их вина. Им нечего показывать.
— Что это значит?
— Я хочу сказать, что здесь нет радиоактивности. Во всем здании. Нигде.
— Я вам не верю.
— Послушайте, если патрон с горячим кобальтом не регистрируется на счетчике, может быть, не в порядке счетчик. Но если тот же патрон не разряжает простой электроскоп, если он не отражается на фотопленке, то что-то не в порядке с патроном.
— Ну, ладно, — сказал Эверард, — патрон неисправен. Кто-то ошибся и не заполнил его.
— Этот патрон сегодня утром работал, но неважно. Может, патроны как-то подменили. Но я принес кусок урановой смолки с нашей витрины на четвертом этаже, и он тоже никак не регистрируется. Не скажете же, что кто-то забыл поместить в него уран.
Эверард потер ухо.
— А вы что думаете, Дамелли?
Дамелли покачал головой.
— Не знаю, босс. Хотел бы знать.
Джоханнисон сказал:
— Не время раздумывать. Время действовать. Звоните в Вашингтон.
— О чем? — спросил Эверард.
— О зарядах атомных бомб.
— Что?
— Возможно, в этом ответ, босс. Послушайте, кто-то нашел способ останавливать радиоактивность, всю сразу. И это накрывает всю страну, все Штаты. Но это делается только для того, чтобы вывести из строя атомные бомбы. Они не знают, где мы их держим, и потому накрывают всю страну. И если это так, неизбежно нападение. В любую минуту. Звоните, босс!
Рука Эверарда потянулась к трубке. Его глаза встретились с взглядом Джоханнисона.
Он сказал в трубку:
— Междугородный, пожалуйста.
Было пять минут четвертого. Эверард положил трубку.
— Это был член комиссии? — спросил Джоханнисон.
— Да, — ответил Эверард. Он хмурился.
— Ну, хорошо. Что он сказал?
— Сынок, — ответил Эверард, — он спросил у меня: «А что такое атомная бомба?»
Джоханнисон удивленно посмотрел на него.
— Какого дьявола это значит? «Что такое атомная бомба?» Я понял! Уже обнаружили выход их строя и не хотят об этом говорить. Даже с нами. Что теперь?
— Ничего, — ответил Эверард. Он снова сел в свое кресло и сердито посмотрел на физика. — Алекс, я знаю, у вас трудная работа, поэтому не стану реагировать. Но меня беспокоит, как вам удалось втянуть меня во весь этот вздор.
Джоханнисон побледнел.
— Это не вздор. Разве член комиссии так сказал?
— Он сказал, что я дурак, и он прав. Какого дьявола вы приходите сюда со своими выдумками об атомных бомбах? Что такое атомная бомба? Никогда о них не слышал.
— Вы никогда не слышали об атомных бомбах? Что это? Попытка закрыть информацию?
— Никогда не слышал. Похоже на комикс.
Джоханнисон повернулся к Дамелли, чье оливковое лицо стало еще смуглее от беспокойства.
— Скажи ему, Джин.
Дамелли покачал головой.
— Не впутывай меня в это.
— Ну, хорошо. — Джоханнисон наклонился вперед, глядя на ряд книг на полке над головой Эверарда. — Не знаю, к чему все это, но пора разобраться. Где Гласстоун?
— Здесь, — ответил Эверард.
— Нет. Не «Учебник физической химии». Мне нужен «Курс атомной энергии».
— Никогда о таком не слышал.
— О чем это вы говорите? Он всегда стоит здесь на полке.
— Никогда не слышал, — упрямо ответил Эверард.
— И о «Меченых атомах в биологии» Кеймена не слышали?
— Нет.
Джоханнисон закричал:
— Ну, ладно. Воспользуемся учебником Гласстоуна. Он тоже подойдет.
Он снял толстую книгу и пролистал страницы. Раз, потом вторично. Нахмурился, посмотрел на титул. Третье издание, 1956. Страница за страницей пролистал первые две главы. Все на месте: атомная структура, квантовые числа, электроны и их оболочки, перескоки электронов — но нет радиоактивности, ни слова о ней.
Он посмотрел на таблицу элементов на внутренней стороне переплета. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы увидеть, что перечислен только 81 элемент, восемьдесят один нерадиоактивный элемент.
У Джоханнисона пересохло в горле. Он хрипло спросил у Эверарда:
— Вы слышали об уране?
— А что это такое? — холодно ответил Эверард. — Торговая марка?
В отчаянии Джоханнисон уронил Гласстоуна и потянулся за «Справочником по химии и физике». Заглянул в указатель. Поискал радиоактивные ряды, уран, плутоний, изотопы. Нашел только изотопы. Дрожащими пальцами перелистывал страницы. Перечислены только устойчивые изотопы.
Он умоляюще сказал:
— Хорошо. Сдаюсь. Хватит. Вы подготовили фальшивые книги, чтобы разыграть меня. — И попытался улыбнуться.
Эверард застыл.
— Не будьте глупцом, Джоханнисон. Лучше отправляйтесь домой. Покажитесь врачу.
— Я здоров.
— Может, вам только кажется. Вам необходим отпуск, я вам его предоставляю. Дамелли, сделайте мне одолжение. Посадите его в такси и проследите, чтобы он уехал домой.
Джоханнисон стоял в нерешительности. Неожиданно он закричал:
— Тогда зачем здесь все эти счетчики? Зачем они?
— Не знаю, что вы называете счетчиками. Если вы имеете в виду компьютеры, то они помогают нам решать проблемы.
Джоханнисон указал на табличку на стене.
— Ну, ладно. Видите эти буквы? К! А! Э! Комиссия по атомной энергии! — Он отчетливо произнес каждое слово.
Эверард в свою очередь произнес:
— Комиссия по аэрокосмическим экспериментам. Отправьте его домой, Дамелли.
Когда они вышли на тротуар, Джоханнисон повернулся к Дамелли. Настойчиво произнес:
— Послушай, Джин, не действуй заодно с этим парнем. Эверард продался. Каким-то образом они до него добрались. Представь себе, как он размещает фальшивые книги, чтобы свести меня с ума.
Дамелли ровным голосом ответил:
— Успокойся, Алекс. Ты немного торопишься. С Эверардом все в порядке.
— Ты сам свидетель. Никогда не слышал об атомной бомбе. Уран торговая марка. Как он может быть в порядке?
— Что касается этого, то я тоже никогда не слышал ни об атомной бомбе, ни об уране.
Он поднял палец.
— Такси!
Машина пролетела мимо.
Джоханнисон с трудом избавлялся от головокружения.
— Джин! Ты был со мной, когда замолчали счетчики. Ты был здесь, когда смолкла урановая смола. Ты пошел со мной к Эверарду, чтобы прояснить ситуацию.
— Если хочешь правду, Алекс, то ты сказал, что тебе нужно кое-что выяснить у шефа, и попросил меня идти с тобой, вот и все. Насколько я знаю, ничего не выходило из строя, и какого дьявола ты возишься со смолой? Мы не используем здесь смолу… Такси!
Машина остановилась у обочины.
Дамелли открыл дверцу и поманил Джоханнисона. Джоханнисон сел, потом с покрасневшими от ярости глазами повернулся, вырвал дверцу из рук Дамелли, захлопнул ее и крикнул шоферу адрес. Высунулся из окна, глядя на стоящего на тротуаре Дамелли.
Джоханнисон закричал:
— Скажи Эверарду, что ничего у него не выйдет. Я нормальнее всех вас.
Он упал на обивку сидения. Дамелли слышал адрес. Неужели они опередят его, свяжутся с ФБР раньше и сообщат что-нибудь о нервном срыве? Кто поверит ему, если Эверард будет утверждать обратное? Но отказаться от замершей радиоактивности они не смогут. И от фальшивых книг тоже.
Но что это ему даст? Враг вот-вот нападет, а такие люди, как Эверард и Дамелли… Насколько предательство охватило страну?
Он неожиданно застыл.
— Шофер! — воскликнул он. Потом громче: — Шофер!
Человек за рулем не обернулся. Мимо спокойно двигались машины.
Джоханнисон попытался приподняться, голова его кружилась.
— Шофер! — прошептал он. Это не дорога в отделение ФБР. Его везут домой. Но откуда шофер знает его домашний адрес?
Шофер, конечно, подсажен. Джоханнисон почти ничего не видел, в ушах у него шумело.
Боже, какая организация! Сопротивляться бессмысленно. Он потерял сознание.
Он идет по тропе к небольшому двухэтажному дому с кирпичным фасадом, в котором живет с Мерседес. Как он выбрался из машины, не помнит.
Он обернулся. Никакого такси не видно. Автоматически он нащупал кошелек и ключи. Все на месте. Ничего не тронуто.
Мерседес ждала его у входа. Она не удивилась его возвращению. Он быстро взглянул на часы. Почти час до обычного времени его возвращения.
Он сказал:
— Мерси, надо убираться отсюда и…
Она хрипло ответила:
— Я все знаю, Алекс. Входи.
Она для небо как небо. Прямые волосы, светловатые, разделены посредине и собраны в конский хвост; широко расставленные голубые глаза, слегка по-восточному раскосые, полные губы, маленькие уши, прижатые к голове. ДжоХаннисон пожирал ее глазами.
Но он видел, что она сдерживает возбуждение.
Он спросил:
— Тебе звонил Эверард? Или Дамелли?
Она ответила:
— У нас гость.
Он подумал:
— Они до нее добрались.
Надо увести ее. Они убегут, попытаются скрыться. Но смогут ли? Гость будет стоять в тени у двери. Это зловещий человек, представил себе Джоханнисон, с низким грубым голосом и иностранным акцентом, рука у него в кармане пиджака, и бугор больше кулака.
Он осторожно вошел.
— В гостиной, — сказала Мерседес. По ее лицу скользнула улыбка. — Я думаю, все в порядке.
Гость стоял. У него какая-то нереальная, слишком совершенная внешность. Лицо и тело безупречны и тщательно лишены всякой индивидуальности. Он мог сойти с рекламного плаката.
Голос как у профессионального диктора. Ни малейшего акцента.
Он сказал:
— Было довольно трудно доставить вас домой, доктор Джоханнисон.
Джоханнисон ответил:
— Кто бы вы ни были, чего бы вам ни нужно, я с вами не имею дела.
Мерседес вмешалась:
— Нет, Алекс, ты не понимаешь. Мы уже разговаривали. Он сказал, что вся радиоактивность прекращена.
— Да, верно, и я хотел бы, чтобы этот манекен объяснил мне, как это сделано. Послушайте, вы американец?
— Ты все еще не понимаешь, Алекс, — сказала его жена. — Она прекратилась по всей Земле. И этот человек не с Земли. Не смотри на меня так, Алекс. Это правда. Я знаю, что это правда. Посмотри на него.
Гость улыбнулся. Улыбка его была совершенна. Он сказал:
— Тело, в котором я появился, тщательно изготовлено в соответствии со спецификациями, но это только материя. И находится под полным контролем. Он протянул руку, и кожа исчезла. Обнажились мышцы, сухожилия, кровеносные сосуды. Стены сосудов исчезли, и кровь текла без всякой поддержки. Все исчезло, и появилась гладкая серая кость. Потом и она исчезла.
Потом все появилось снова.
Джоханнисон прошептал:
— Гипноз!
— Вовсе нет, — спокойно ответил гость.
— Откуда вы? — спросил Джоханнисон.
— Трудно объяснить. И разве это важно?
— Мне нужно понять, что происходит! — воскликнул Джоханнисон. — Разве вы не понимаете?
— Да. Понимаю. Поэтому я и здесь. В данный момент я разговариваю более чем с сотней людей на вашей планете. В разных обличьях, конечно, потому что у разных частей вашего населения разные стандарты, касающиеся внешности.
У Джоханнисона появилась беглая мысль, а не сошел ли он все-таки с ума. Он сказал:
— Вы с… с Марса? Или еще откуда? Вы нас захватываете? Это война?
— Видите ли, — ответил гость, — именно такое отношение мы и хотим исправить. Люди больны, доктор Джоханнисон, очень больны. Уже десятки тысяч ваших лет мы знаем, что ваш вид обладает большими возможностями. И для нас было большим разочарованием, что ваше развитие пошло патологическим путем. Определенно патологическим! — Он покачал головой.
Мерседес прервала:
— Он сказал мне перед твоим приходом, что они пытаются нас вылечить.
— Кто их просил? — прошептал Джоханнисон.
Гость только улыбнулся. Он сказал:
— Мне эта работа поручена очень давно, но с такими болезнями всегда трудно бороться. Прежде всего, возникают трудности при коммуникации.
— Но мы способны к коммуникации, — упрямо сказал Джоханнисон.
— Да. До некоторой степени. Я использую ваши концепции, вашу кодовую систему. Она очень неадекватна. И я не могу объяснить подлинную природу болезни вашего вида. Приблизительно ее можно определить как болезнь духа.
— Хм.
— Это разновидность социальной болезни, с которой очень трудно справиться. Я долго колебался, прежде чем применить прямое средство. Было бы печально, если бы случайно такая потенциально одаренная раса, как ваша, погибла бы безвозвратно. В течение нескольких тысячелетий я пытался действовать непрямо, через отдельные индивидуальности. В каждом поколении рождаются люди с естественным иммунитетом к этой болезни. Философы, моралисты, военные, политики. Все те, кто верил во всемирное братство. И те, кто…
— Ну, хорошо. Вы потерпели неудачу. Пока оставим на этом. Не расскажете ли мне о своем народе, не о моем?
— Что я могу рассказать так, чтобы вы поняли?
— Откуда вы? Начните с этого.
— У вас нет соответствующей концепции. Я не со двора.
— С какого двора.
— Я имею в виду вселенную. Я из-за вселенной.
Снова вмешалась Маргарет, наклонившись вперед.
— Алекс, ты не понимаешь, что он имеет в виду? Предположим, ты будешь разговаривать с туземцами Новой Гвинеи по телевизору. С такими туземцами, которые никого, кроме своего племени, не видели. Можешь ли ты объяснить им, как работает телевидение или как ты можешь одновременно обращаться ко многим людям? Можешь объяснить, что это на самом деле не ты, а просто иллюзия, которая может исчезнуть и снова появиться? Ты даже не сможешь объяснить им, откуда появился, потому что для них их остров — вся вселенная.
— Значит, мы для него дикари. Так? — спросил Джоханнисон.
Гость ответил:
— Ваша жена говорит метафорически. Позвольте мне закончить. Я больше не могу направлять ваше общество на самоизлечение. Болезнь зашла слишком далеко. Я собираюсь изменить темперамент расы.
— Каким образом?
— У вас нет ни слов, ни концепций для объяснения этого. Вы видите, что наш контроль над материей совершенен. Остановить радиоактивность очень просто. Чуть труднее предусмотреть, чтобы все, включая книги, соответствовало миру с отсутствующей радиоактивностью. Еще труднее — и для этого потребовалось гораздо больше времени — стереть все мысли о радиоактивности из памяти людей. Сейчас уран на Земле не существует. И никто никогда о нем не слышал.
— Я слышал, — возразил Джоханнисон. — А ты, Мерси?
— Я тоже помню, — ответила Мерседес.
— Вы пропущены не без причины, — сказал гость, — и еще свыше сотни других, мужчин и женщин, по всему миру.
— Никакой радиоактивности, — прошептал Джоханнисон. — Навсегда?
— На пять ваших лет. Это пауза, и ничего больше. Просто пауза, назовем ее периодом анестезии, чтобы прооперировать расу без угрозы преждевременной атомной войны. Через пять лет феномен радиоактивности вернется, вместе со всем ураном и торием, которые ныне не существуют. Однако знания не вернутся. Вот для этого и нужны вы. Вы и остальные, подобные вам. Вы постепенно заново обучите мир.
— Работа немаленькая. Нам потребовалось пятьдесят лет, чтобы дойти до нынешнего состояния. Почему бы просто не восстановить знания? Вы ведь можете это?
— Операция, — ответил гость, — будет серьезной. Потребуются десятилетия, чтобы убедиться, что не возникли осложнения. Поэтому мы специально хотим, чтобы обучение заново шло медленно.
Джоханнисон сказал:
— Как мы узнаем, что время пришло? Когда операция кончится?
Гость улыбнулся.
— Когда время придет, узнаете. Будьте в этом уверены.
— Да, дьявольски трудная задача — ждать пять лет, пока у тебя в голове прозвенит гонг. А если это время так и не наступит? Если ваша операция не удастся?
Гость серьезно ответил:
— Будем надеяться на ее удачу.
— Но что если нет? Нельзя ли временно очистить и нашу память? Чтобы мы нормально прожили это время.
— Нет. Простите. Ваша память мне нужна нетронутой. Если операция не удастся, если лекарство не подействует, мне понадобится небольшой резервуар нормальных, нетронутых сознаний, чтобы вырастить на этой планете новое население, к которому можно будет применить другое средство. Любой ценой ваш вид должен быть сохранен. Вы слишком ценны для нас. Именно поэтому я трачу столько времени, объясняя вам ситуацию. Если бы я оставил вас в таком состоянии, в котором вы были час назад, пять дней, не говоря уже о пяти годах, полностью вас бы уничтожили.
И не говоря больше ни слова, он исчез.
Мерседес приготовила ужин, и они сидели за столом, как в самый обычный день.
Джоханнисон сказал:
— Это правда? На самом деле было?
— Я тоже видела, — ответила Мерседес. — И слышала.
— Я просмотрел свои книги. Все изменились. Когда эта… пауза кончится, нам придется работать по памяти, всем нам, кто остался. Потребуется немало времени, чтобы достучаться до тех, кто не помнит. Неожиданно он рассердился. — И чего ради, хотел бы я знать? Чего ради?
— Алекс, — робко сказала Мерседес, — может, он и раньше приходил на Землю и говорил с людьми. Он прожил тысячи и тысячи наших лет. Может, этот тот, кого так давно считают…
Джоханнисон посмотрел на нее.
— Богом? Это ты хочешь сказать? Откуда мне знать? Знаю только, что они гораздо развитее нас и что он лечит нас от болезни.
Мерседес сказала:
— Я думаю о нем как о враче или о том, что эквивалентно врачу в его обществе.
— Врач? Он все время повторял, что трудно установить коммуникацию. А какой врач не может общаться со своими пациентами? Ветеринар! Врач животных!
Он оттолкнул тарелку.
Его жена сказала:
— Даже и так. Если он положит конец войне…
— Зачем ему это? Что мы для него? Мы животные. Мы для него животные. Буквально. Он почти так и сказал. Когда я спросил его, откуда он, он сказал, что не со «двора». Поняла? Скотный двор. Потом он поправился на вселенную. Он не из вселенной. Трудности в коммуникации выдали его. Он использовал свою концепцию вселенной, привычную ему, а не нашу. Итак, вселенная — скотный двор, а мы лошади, цыплята, овцы. Выбирай сама.
Мерседес негромко сказала:
— Господь мой пастырь. Я не хочу…
— Прекрати, Мерси. Это метафора, а здесь реальность. Если он пастух, то мы овцы со странным неестественным желанием или способностью убивать друг друга. Зачем нас останавливать?
— Он сказал…
— Я знаю, что он сказал. Он сказал, что у нас большие возможности. Мы очень ценны. Верно?
— Да.
— Но каковы возможности, какова ценность овец для пастуха? Овцы этого не знают. Не могут знать. Может, если бы знали, предпочли бы жить сами по себе. Рискнули бы встречей с волками.
Мерседес беспомощно смотрела на него.
Джоханнисон воскликнул:
— Вот что я спрашиваю себя! Куда мы идем? Куда? Знают ли это овцы? Знаем ли мы? Можем ли знать?
Они сидели и смотрели на свои нетронутые тарелки.
Снаружи доносился шум машин и крики играющих детей. Приближалась ночь, постепенно совсем стемнело.
Бессмертный бард
— О да, — сказал доктор Финеас Уэлч, — я могу вызывать души знаменитых покойников.
Он был слегка «под мухой», иначе бы он этого не сказал. Конечно, в том, то он напился на рождественской вечеринке, ничего предосудительного не было.
Скотт Робертсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться — он не верил своим ушам.
— Вы серьезно, доктор Уэлч?
— Совершенно серьезно. И не только души, но и тела.
— Не думаю, чтобы это было возможно, — сказал Робертсон, поджав губы.
— Почему же? Простое перемещение во времени.
— Вы хотите сказать, путешествие по времени? Но это несколько… необычно.
— Все получается очень просто, если знаешь, как делать.
— Ну, тогда расскажите, доктор Уэлч, как вы это делаете.
— Так я вам и рассказал.
Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал.
— Я уже многих переносил к нам, — продолжал Уэлч. — Архимеда, Ньютона, Галилея. Бедняги!
— Разве им не понравилось у нас? Наверно, они были потрясены достижениями современной науки, — сказал Робертсон.
— Конечно, они были потрясены. Особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости, когда я объяснил ему кое-что на том греческом языке, который меня когда-то заставляли зубрить, но ничего хорошего из этого не вышло…
— А что случилось?
— Ничего. Только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими, им было страшно. Мне приходилось отсылать их обратно.
— Это очень жаль.
— Да. Умы великие, но плохо приспосабливающиеся. Не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира.
— Что! — вскричал Робертсон. Это было уже по его специальности.
— Не кричите, юноша, — сказал Уэлч. — Это неприлично.
— Вы сказали, что перенесли к нам Шекспира?
— Да, Шекспира. Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который так хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя на века от своего времени. Шекспир и был таким человеком. У меня есть его автограф. Я взял на память.
— А он у вас с собой? — спросил Робертсон. Глаза его блестели.
— С собой. — Уэлч пошарил по карманам. — Ага, вот он.
Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано: «Л, Кейн и сыновья. Оптовая торговля скобяными товарами». На другой стояла размашистая подпись: «Уилм Шекспр».
Ужасная догадка ошеломила Робертсона.
— А как он выглядел? — спросил преподаватель.
— Совсем не так, каким его изображают. Совершенно лысый, с безобразными усами. Он говорил на сочном диалекте. Конечно, я сделал все, чтобы наш век ему понравился. Я сказал ему, что мы высоко ценим его пьесы и до сих пор ставим их. Я сказал, что мы считаем их величайшими произведениями не только английской, но и мировой литературы.
— Хорошо, хорошо, — сказал Робертсон, слушавший затаив дыхание.
— Я сказал, что люди написали тома и тома комментариев к его пьесам. Естественно, он захотел посмотреть какую-нибудь книгу о себе, и мне пришлось взять ее в библиотеке.
— И?
— Он был потрясен. Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся после 1600 года, но я помог ему. Бедняга! Наверное, он не ожидал, что его так возвеличат. Он все говорил: «Господи! И что только не делали со словами эти пять веков! Дай человеку волю, и он, по моему разумению, даже из сырой тряпки выжмет целый потоп!»
— Он не мог этого сказать.
— Почему? Он писал свои пьесы очень быстро. Он говорил, что у него были сжатые сроки. Он написал «Гамлета» меньше чем за полгода. Сюжет был старый. Он только обработал его.
— Обработал! — с возмущением сказал преподаватель английского языка и литературы. — После обработки обыкновенное стекло становится линзой мощнейшего телескопа.
Физик не слушал. Он заметил нетронутый коктейль и стал бочком протискиваться к нему.
— Я сказал бессмертному барду, что в колледжах есть даже специальные курсы по Шекспиру.
— Я веду такой курс.
— Знаю. Я записал его на ваш дополнительный вечерний курс. Никогда не видел человека, который больше бедняги Билла стремился бы узнать, что о нем думают потомки. Он здорово поработал над этим.
— Вы записали Уильяма Шекспира на мой курс? — пробормотал Робертсон. Даже если это пьяный бред, все равно голова идет кругом. Но бред ли это? Робертсон начал припоминать лысого человека с необычным произношением…
— Конечно, я записал его под вымышленным именем, — сказал доктор Уэлч. Стоит ли рассказывать, что ему пришлось перенести. Это была ошибка. Большая ошибка. Бедняга!
Он, наконец, добрался до коктейля и погрозил Робертсону пальцем.
— Почему ошибка? Что случилось?
— Я отослал его обратно в 1600 год. — Уэлч от возмущения повысил голос. Как вы думаете, сколько унижений может вынести человек?
— О каких унижениях вы говорите?
Доктор Уэлч залпом выпил коктейль.
— О каких! Бедный простачок, вы провалили его.
Мечты — личное дело каждого
Джесс Уэйл оторвался от бумаг на своем письменном столе. Его сухощавая старческая фигура, орлиный нос, глубоко посаженные сумрачные глаза и буйная белоснежная шевелюра успели стать своего рода фирменной маркой всемирно известной акционерной компании «Грезы».
Он спросил:
— Мальчуган уже пришел, Джо?
Джо Дули был невысок ростом и коренаст. К его влажной губе ласково прилипла сигара. Теперь он вынул ее изо рта и кивнул:
— И родители тоже. Напугались, понятное дело.
— А вы не ошиблись, Джо? Я ведь занят, — Уэйл взглянул на часы. — В два часа у меня чиновник из министерства.
— Вернее верного, мистер Уэйл, — горячо заявил Джо, и его лицо выразило такую убежденность, что даже толстые щеки задергались. — Я же вам говорил, что высмотрел мальчишку, когда он играл в баскетбол на школьном дворе. Видели бы его! Мазила, одно слово. Чуть мяч попадал к нему, так свои же торопились его отобрать, а малыш все равно держался звезда звездой. Понимаете? Тут-то я и взял его на заметку.
— А вы с ним поговорили?
— Ну а как же! Я подошел к нему, когда они завтракали. Вы же меня знаете, мистер Уэйл. — Дули возбужденно взмахнул сигарой, но успел подхватить в ладонь слетевший пепел. — «Малыш», — сказал я…
— Так из него можно сделать мечтателя?
— Я сказал: «Малыш, я сейчас прямо из Африки и…»
— Хорошо, — Уэйл поднял ладонь. — Вашего мнения для меня достаточно. Не могу понять, как это у вас получается, но, если я знаю, что мальчик выбран вами, я всегда готов рискнуть. Позовите его.
Мальчик вошел в сопровождении родителей. Дули пододвинул им стулья, а Уэйл встал и обменялся с вошедшими любезным рукопожатием. Мальчику он улыбнулся так, что каждая его морщина начала лучиться добродушием.
— Ты ведь Томми Слуцкий?
Томми молча кивнул. Для своих десяти лет он выглядел, пожалуй, слишком щуплым. Темные волосы были прилизаны с неубедительной аккуратностью, а рожица сияла неестественной чистотой.
— Ты ведь послушный мальчик?
Мать Томми расплылась в улыбке и с материнской нежностью погладила сына по голове (выражение тревоги на лице мальчугана при этом нисколько не смягчилось).
— Он очень послушный и очень хороший мальчик, — сказала она.
Уэйл пропустил это сомнительное утверждение мимо ушей.
— Скажи мне, Томми, — начет он, протягивая леденец, который после некоторых колебаний был все-таки принят, — ты когда-нибудь слушал грезы?
— Случалось, — сказал Томми тонким фальцетом.
Мистер Слуцкий, один из тех широкоплечих, толстопалых чернорабочих, которые в посрамление евгеники оказываются порой отцами мечтателей, откашлялся и пояснил
— Мы иногда брали для малыша напрокат парочку-другую грез. Настоящих, старинных.
Уэйл кивнул и опять обратился к мальчику:
— А они тебе нравятся, Томми?
— Чепухи в них много.
— Ты ведь для себя придумываешь куда лучше, правда?
Ухмылка, расползшаяся по ребячьей рожице, смягчила неестественность прилизанных волос и чисто вымытых щек и носа.
Уэйл мягко продолжал:
— А ты не хочешь помечтать для меня?
— Да не-ет, — смущенно ответил Томми.
— Это же не трудно, это совсем легко… Джо!
Дули отодвинул ширму и подкатил к ним грезограф.
Мальчик в недоумении уставился на аппарат.
Уэйл взял шлем и поднес его к лицу мальчика:
— Ты знаешь, что это такое?
— Нет, — попятившись, ответил Томми.
— Это мысленница. Мы называем ее так потому, что люди в нее думают Надень ее на голову и думай, о чем хочешь.
— И что тогда будет?
— Ничего не будет. Это довольно приятно.
— Нет, — сказал Томми. — Лучше не надо.
Его мать поспешно нагнулась к нему:
— Это не больно, Томми. Делай, что тебе говорят, — истолковать ее тон было нетрудно.
Томми весь напрягся, и секунду казалось, что он вот-вот заплачет. Уэйл надел на него мысленницу.
Сделал он это очень бережно и осторожно и с полминуты молчал, давая мальчику время убедиться, что ничего страшного не произошло, и свыкнуться с ласкающим прикосновением фибрилл к швам его черепа (сквозь кожу они проникали совершенно безболезненно), а главное, с легким жужжанием меняющегося вихревого поля.
Наконец он сказал:
— А теперь ты для нас подумаешь?
— О чем? — из-под шлема были видны только нос и рот мальчика.
— О чем хочешь. Ну, скажем, уроки в школе окончились, и ты можешь делать все, что пожелаешь.
Мальчик немного подумал, а потом возбужденно спросил:
— Можно мне полетать на стратолете?
— Конечно! Сколько угодно. Значит, ты летишь на стратолете. Вот он стартует. — Уэйл сделал незаметный знак, и Дули включил замораживатель.
Сеанс продолжался только пять минут, а потом Дули проводил мальчика и его мать в приемную. Томми был несколько растерян, но в остальном перенесенное испытание никак на него не подействовало.
Когда они вышли, Уэйл повернулся к отцу семейства:
— Так вот, мистер Слуцкий, если проба окажется удачной, мы готовы выплачивать вам пятьсот долларов ежегодно, пока Томми не кончит школу. Взамен мы попросим только о следующем: чтобы он каждую неделю проводил один час в нашем специальном училище.
— Мне надо будет подписать какую-нибудь бумагу? — хриплым голосом спросил Слуцкий.
— Разумеется. Ведь это деловое соглашение, мистер Слуцкий.
— Уж и не знаю, что вам ответить. Я слыхал, что мечтателя отыскать не так-то просто.
— Безусловно, безусловно. Но ведь ваш сын, мистер Слуцкий, еще не мечтатель. И не известно, станет ли он мечтателем. Пятьсот долларов в год для нас — ставка в лотерее. А для вас они верный выигрыш Когда Томми окончит школу, может оказаться, что он вовсе не мечтатель, но вы на этом ничего не Потеряете. Наоборот, получите примерно четыре тысячи долларов. Ну а если он все-таки станет мечтателем, он будет неплохо зарабатывать, и уж тогда вы будете в полном выигрыше.
— Ему же надо будет пройти специальное обучение?
— Само собой разумеется, и оно крайне сложно! Но об этом мы поговорим, когда он кончит школу. Тогда в течение двух лет мы его окончательно вытренируем. Положитесь на меня, мистер Слуцкий.
— А вы гарантируете это специальное обучение?
Уэйл, который уже пододвинул контракт к Слуцкому и протянул ему ручку колпачком вперед, усмехнулся, положил ручку и сказал:
— Нет, не гарантируем. Это невозможно, так как мы не знаем, действительно ли у него есть талант. Однако ежегодные пятьсот долларов останутся у вас.
Слуцкий подумал и покачал головой:
— Я вам честно скажу, мистер Уэйл… Когда ваш агент договорился, что мы придем к вам, я позвонил в «Сны наяву». Они сказали, что у них обучение гарантируется.
Уэйл вздохнул:
— Мистер Слуцкий, не в моих правилах критиковать конкурента. Если они сказали, что гарантируют обучение, значит, они это условие выполнят, однако никакое обучение не сделает из вашего сына мечтателя, если у него нет настоящего таланта. А подвергнуть обыкновенного мальчика специальной тренировке— значит погубить его. Мечтателя из него сделать невозможно, даю вам слово. Но и нормальным человеком он тоже не останется. Не рискуйте так судьбой вашего сына. Компания «Грезы» будет с вами совершенно откровенна. Если он может стать мечтателем, мы сделаем его мечтателем. Если же нет, мы вернем его вам таким, каким он пришел к нам, и скажем: «Пусть он приобретет какую-нибудь обычную специальность». При этом здоровью вашего сына ничто не угрожает, и в конечном счете так будет лучше для него. Послушайте меня, мистер Слуцкий, — у меня есть сыновья, дочери, внуки, и я знаю, о чем говорю, — так вот: я за миллион долларов не позволил бы моему ребенку начать грезить, если бы он не был к этому подготовлен. И за миллион!
Слуцкий вытер рот ладонью и потянулся за ручкой.
— Что тут сказано-то?
— Это просто расписка. Мы выплачиваем вам немедленно сто долларов наличными. Без каких-либо обязательств для обеих сторон. Мы рассмотрим мечты мальчика. Если нам покажется, что у него есть задатки, мы дадим вам знать и приготовим контракт на пятьсот долларов в год. Положитесь на меня, мистер Слуцкий, и не беспокойтесь. Вы не пожалеете.
Слуцкий подписал.
Оставшись один, Уэйл надел на голову размораживатель и внимательно впитал мечты мальчика. Это была типичная детская фантазия. «Я» находилось в кабине управления, представлявшей собой смесь образов, почерпнутых из приключенческих кинокниг, которыми еще пользовались те, у кого не было времени, желания или денег, чтобы заменить их цилиндриками грез.
Когда мистер Уэйл снял размораживатель, он увидел перед совой Дули.
— Ну, как он, по-вашему, мистер Уэйл? — спросил Дули с Любопытством и гордостью первооткрывателя.
— Может быть, из него и выйдет толк, Джо. Может быть. У него есть обертоны, а для десятилетнего мальчишки, не знающего даже самых элементарных приемов, это уже немало. Когда самолет пробивался сквозь облака, возникло совершенно Четкое ощущение подушек. И пахло крахмальными простынями — забавная деталь. Им стоит заняться, Джо.
— Отлично!
— Но вот что, Джо: нам нужно бы отыскивать их еще раньше. А почему бы и нет? Придет день, Джо, когда каждого младенца будут испытывать в первый же день его жизни. Несомненно; в мозгу должно существовать какое-то отличие, необходимо только установить, в чем именно оно заключается. Тогда мы сможем отбирать мечтателей на самом раннем этапе.
— Черт побери, мистер Уэйл, — обиженно сказал Джо. — Значит, я-то останусь без работы?
— Вам еще рано об этом беспокоиться, Джо, — засмеялся Уэйл. — На вашем веку этого не случится. И уж во всяком случае, на моем. Нам еще много лет будут необходимы хорошие разведчики талантов вроде вас. Продолжайте искать на школьных площадках и на улицах, — узловатые пальцы Уэйла дружески легли на плечо Дули, — и отыщите нам еще парочку-другую Хиллари и Яновых. И тогда мы оставим «Сны наяву» далеко за флагом… Ну а теперь идите. Я хотел бы перекусить до двух часов. Министерство, Джо, министерство! — и он многозначительно подмигнул.
Посетитель, который явился к Джессу Уэйлу в два часа, оказался белобрысым молодым человеком в очках, с румяными щеками и проникновенным выражением лица, свидетельствовавшим о том, что он придает своей миссии огромное значение. Он предъявил удостоверение, из которого следовало, что перед Узйлом — Джон Дж. Бэрн, уполномоченный Министерства наук и искусств.
— Здравствуйте, мистер Бэрн, — сказал Уэйл. — Чем могу быть полезен?
— Мы здесь одни? — спросил уполномоченный неожиданно густым баритоном.
— Совершенно одни.
— В таком случае, с вашего разрешения, я хотел бы, чтобы вы впитали вот это, — он протянул Уэйлу потёртый цилиндрик, брезгливо держа его двумя пальцами.
Уэйл взял цилиндрик, осмотрел его со всех сторон, взвесил в руке и сказал с улыбкой, обнажившей все его фальшивые зубы:
— Во всяком случае, это не продукция компании «Грезы», мистер Бэрн.
— Я этого и не предполагал, — ответил уполномоченный. — Но все-таки мне хотелось бы, чтобы вы это впитали. Впрочем, на вашем месте я поставил бы аппарат на автоматическое отключение через минуту, не больше.
— Больше вытерпеть невозможно? — Уэйл подтянул приемник к своему столу и вставил цилиндрик в размораживатель, однако тут же вытащил его, протер оба конца носовым платком и попробовал еще раз. — Скверный контакт, — заметил он. — Любительская работа.
Уэйл нахлобучил мягкий размораживающий шлем, поправил височные контакты и установил стрелку автоматического отключателя. Затем откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и приступил к впитыванию. Пальцы его напряглись и впились в лацканы пиджака.
Едва автоматический выключатель прервал впитывание, Уэйл снял размораживатель и сказал с заметным раздражением:
— Грубоватая вещичка. К счастью, я уже стар и подобные вещи на меня не действуют.
Бэрн сухо ответил:.
— Это еще не самое худшее, что нам попадалось. А увлечение ими растет.
Уэйл пожал плечами:
— Порнографические грезы. Я полагаю, их появления следовало ожидать.
— Следовало или не следовало, но они представляют собой смертельную угрозу для нравственного духа нации, — возразил уполномоченный министерства.
— Нравственный дух, — заметил Уэйл, — шутка необыкновенно живучая. А эротика в той или иной форме существовала во все века.
— Но не в подобной, сэр! Непосредственная стимуляция от сознания к сознанию гораздо эффективнее грязных анекдотов или непристойных рисунков, воздействие которых несколько ослабляется в процессе восприятия через органы чувств.
Это было неоспоримо, и Уэйл только спросил:
— Так чего же вы Хотите от меня?
— Не могли бы вы подсказать нам, каково происхождение этого цилиндрика?
— Мистер Бэрн, я не полицейский!
— Что вы, что вы! Я вовсе не прошу вас делать за нас нашу работу. Министерство вполне способно проводить собственные расследования. Я только спрашиваю ваше мнение как специалиста. Вы сказали, что это не продукция вашей компании. Так чья же это продукция?
— Во всяком случае, не какой-либо солидной фирмы, изготовляющей грезы, за это я могу поручиться. Слишком скверно сделано.
— Возможно, нарочно. Для маскировки.
— И это не произведение профессионального мечтателя.
— Вы уверены, мистер Уэйл? А не могут профессиональные мечтатели работать и на какое-нибудь тайное предприятие — ради денег… или просто для собственного удовольствия?
— Отчего же? Но во всяком случае, этот цилиндрик — не их работа. Полное отсутствие обертонов. Никакой объемности. Правда, для такого произведения обертоны и не нужны.
— А что такое обертоны?
— Следовательно, вы не увлекаетесь грезами? — мягко усмехнулся Уэйл.
— Я предпочитаю музыку, — ответил Бэрн, тщетно пытаясь не выглядеть самодовольным снобом.
— Это тоже неплохо, — снисходительно заметил Уэйл. — Но в таком случае мне будет труднее объяснить вам сущность обертонов. Даже любители грез не смогли бы сказать вам толком, что это такое. И все-таки они сразу чувствуют, что греза никуда не годится, если ей не хватает обертонов. Видите ли, когда опытный мечтатель погружается в транс, он ведь не придумывает сюжетов, какие были в ходу в старом телевидении и кинокнигах. Его греза слагается из ряда отдельных видений, и каждое поддается нескольким толкованиям. Если исследовать их внимательно, можно найти пять-шесть таких толкований. При простом впитывании заметить их трудно, но они выявляются при тщательном анализе. Поверьте, мои психологи часами занимаются только этим. И все обертоны, все различные смыслы сливаются в единую массу управляемой эмоции. А без них греза была бы плоской и пресной. Скажем, сегодня утром я пробовал десятилетнего мальчика. У него, несомненно, есть задатки. Облако для него не просто облако, но и подушка. А наделенное сенсуальными свойствами обоих этих предметов, облако, становится чем-то большим. Конечно, греза этого мальчика еще крайне примитивна. Но когда он окончит школу, он пройдет специальный курс и тренировку. Он будет подвергнут ощущениям всех родов. Он накопит опыт. Он будет изучать и анализировать классические грезы прошлого. Он научится контролировать и направлять свои мечты, хотя я всегда утверждаю, что мечтатель хорош, когда он импровизирует.
Уэйл внезапно умолк и после паузы продолжал уже спокойнее:
— Простите, я несколько увлекся. Собственно говоря, я хотел объяснить вам, что у каждого профессионального мечтателя существует свой тип обертонов, который ему не удалось бы скрыть. Для специалиста это словно его подпись на грезе. И мне, мистер Бэрн, известны все эти подписи. Ну а порнография, которую вы мне принесли, вообще лишена обертонов. Это произведение обыкновенного человека. Может быть, он и не лишен способностей, но думать он умеет не больше, чем вы и я.
— Очень многие люди умеют думать, мистер Уэйл, — возразил Бэрн, краснея. — Даже если они и не создают грез.
— Ах, право же! — Уэйл взмахнул рукой. — Не сердитесь на старика. Я сказал «думать» не в смысле «мыслить», а в смысле «грезить». Мы все немножко умеем грезить, как все немножко умеем бегать. Но сумеем ли мы с вами пробежать милю за четыре минуты? Мы с вами умеем говорить, но ведь это же еще не делает нас составителями толковых словарей? Вот, например, когда я думаю о бифштексе, в моем сознании возникает просто слово. Разве что мелькнет образ сочного бифштекса на тарелке. Возможно, у вас образное восприятие развито больше и вы успеете увидеть и поджаристую корочку, и лук, и румяный картофель. Возможно. Ну а настоящий мечтатель… Он и видит бифштекс, и обоняет его, и ощущает его вкус и все, что с ним связано, — даже жаровню, даже приятное чувство в желудке, и то, как нож разрезает мясо, и еще сотни всяких подробностей, причем все сразу. Предельно сенсуальное восприятие. Предельно. Ни вы, ни я на это не способны.
— Ну, так! — сказал Бэрн. — Значит, тут мы имеем дело не с произведением профессионального мечтателя. Во всяком случае, это уже что-то, — он спрятал цилиндрик во внутренний карман пиджака. — Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу всемерную помощь, когда примем меры для прекращения подобного тайного производства?
— Разумеется, мистер Бэрн. От всей души.
— Будем надеяться, — сказал Бэрн тоном человека, сознающего свою власть. — Конечно, не мне решать, какие именно меры будут приняты, но подобные штучки, — он похлопал себя по карману, где лежал цилиндрик, — невольно наводят на мысль, что следовало бы ввести действительно строгую цензуру на грезы.
Бэрн встал;
— До свидания, мистер Уэйл.
— До свидания, мистер Бэрн. Я всегда надеюсь на лучшее.
Фрэнсис Беленджер влетел в кабинет Джесса Уэйла, как всегда, в страшном ажиотаже. Его рыжие волосы стояли дыбом, а лицо лоснилось от пота и волнения. Но он тут же замер на месте. Уэйл сидел, уткнувшись головой в сложенные на столе руки, так что виден был только его седой затылок.
Беленджер судорожно выговорил:
— Что с вами, шеф?
Уэйл поднял голову:
— Это вы, Фрэнк?
— Что случилось, шеф? Вы больны?
— В моем возрасте все больны, но я еще держусь на ногах. Пошатываюсь, но держусь. У меня был уполномоченный из министерства.
— Что ему понадобилось?
— Грозил цензурой. Он принес образчик того, что ходит по рукам. Дешевые грезы для пьяных оргий.
— Ах ты черт! — с чувством сказал Беленджер.
— Беда в том, что опасения за нравственность — отличный предлог для разворачивания широкой кампании. Они будут бить и правых и виноватых. А по правде говоря, Фрэнк, и наша позиция уязвима.
— Как же так? Уж наша продукция абсолютно целомудренна. Приключения и романтические страсти.
Уэйл выпятил нижнюю губу и наморщил лоб:
— Друг перед другом, Фрэнк, нам незачем притворяться. Целомудренна? Все зависит от точки зрения. Конечно, то, что я скажу, не для широкой публики, но мы-то с вами знаем, Фрэнк, что в каждой грезе есть свои фрейдистские ассоциации. От этого никуда не уйдешь.
— Ну конечно, если их специально выискивать! Скажем, психиатр…
— И средний человек тоже. Обычный потребитель не знает про эту подоплеку и, возможно, не сумеет отличить фаллический символ от символа материнства, даже если ему прямо на них указать. И все-таки его подсознание знает. Успех многих грез и объясняется именно этими подсознательными ассоциациями.
— Ну, допустим. И что же намерено предпринять правительство? Будет оздоровлять подсознание?
— То-то и плохо. Я не знаю, что они предпримут. У нас есть только один козырь, на который я в основном и возлагаю все надежды: публика любит грезы и не захочет их лишиться… Ну, оставим это. Зачем вы пришли? У вас ведь, вероятно, есть ко мне какое-то дело?
Беленджер бросил на стол перед Уэйлом маленький, похожий на трубочку предмет и заправил поглубже в брюки выбившуюся рубашку.
Уэйл снял блестящую пластмассовую обертку и вынул цилиндрик. На одном конце свивалась в вычурную спираль нежноголубая надпись: «По гималайской тропе». Рядом стоял фирменный знак «Снов наяву».
— Продукция конкурента. — Уэйл произнес эти слова так, словно каждое начиналось с большой буквы, и его губы иронически скривились. — Эта греза еще не поступала в широкую продажу. Где вы ее раздобыли, Фрэнк?
— Неважно. Мне нужно только, чтобы вы ее впитали.
— Сегодня всем почему-то нужно, чтобы я впитывал грезы, — вздохнул Уэйл. — Фрэнк, а это не порнография?
— Разумеется, в ней имеются ваши любимые фрейдистские символы, — язвительно сказал Беленджер. — Горные пики, например. Надеюсь, вам они не опасны.
— Я старик. Для меня они уже много лет не опасны, но та греза была выполнена до того скверно, что было просто мучительно… Ну ладно, посмотрим, что тут у вас.
Уэйл снова пододвинул к себе аппарат и надел размораживатель на виски. На этот раз он просидел, откинувшись в кресле, больше четверти часа, так что Фрэнсис Беленджер успел торопливо выкурить две сигареты.
Когда Уэйл наконец снял шлем и замигал, привыкая к дневному свету, Беленджер спросил:
— Ну, что скажете, шеф?
Уэйл наморщил лоб:
— Не для меня. Слишком много повторений. При такой конкуренции компания «Грезы» может еще долго жить спокойно.
— Вот тут-то вы и ошибаетесь, шеф. Такая продукция обеспечит «Снам наяву» победу. Нам необходимо что-то предпринять!
— Послушайте, Фрэнк…
— Нет, вы послушайте! За этим — будущее!
— За этим? — Уэйл с добродушно-недоверчивой усмешкой посмотрел на цилиндрик. — Сделано по-любительски. Множество повторений. Обертоны грубоваты. У снега — четкий привкус лимонного шербета! Ну, кто теперь чувствует в снегу лимонный шербет, Фрэнк? В старину — другое дело. Еще лет двадцать назад. Когда Лаймен Хэррисон создал свои «Снежные симфонии» для продажи на юге, это было великолепной находкой. Шербет, и леденцовые вершины гор, и катание на санках с утесов, глазированных шоколадом. Дешевка, Фрэнк. В наши дни это не годится.
— Все дело в том, шеф, — возразил Беленджер, — что вы отстали от времени. Я должен поговорить с вами откровенно. Когда вы основали грезовое предприятие, скупили основные патенты и начали производство грез, они были предметом роскоши. Сбыт был узкий и индивидуализированный. Вы могли позволить себе выпускать специализированные грезы и продавать их по высокой цене. _
— Знаю, — ответил Уэйл. — И мы продолжаем это делать. Но, кроме того, мы открыли прокат грез для широкого потребителя.
— Да, но этого мало. О, конечно, наши грезы сделаны тонко.
Их можно впитывать множество раз. И даже при десятом впитывании обнаруживаешь что-то новое и опять получаешь удовольствие. Но много ли есть подлинных знатоков? И еще одно. Наша продукция крайне индивидуализирована. Бее в первом лице.
— И что же?
— А то, что «Сны наяву» открывают грезотеатры. Они уже открыли один в Нашвилле на триста кабинок. Клиент входит, садится в кресло, надевает размораживатель и получает свою грезу. Ту же, что и все остальные вокруг.
— Я слышал об этом, Фрэнк. Ничего нового. Такие попытки уже не раз оканчивались неудачей. То же будет и теперь. Хотите знать почему? Потому что мечты — это личное дело каждого. Неужели вам будет приятно, если ваш сосед узнает, о чем вы грезите? Кроме того, в грезотеатре сеансы должны начинаться по расписанию, не так ли? И, значит, мечтающему придется грезить не тогда, когда он хочет, а когда назначит директор театра. Наконец, греза, которая нравится одному, не понравится другому. Я вам гарантирую, что из трехсот посетителей этих кабинок сто пятьдесят останутся недовольны. А в этом случае они больше туда не пойдут.
Беленджер медленно закатал рукава рубашки и расстегнул воротничок.
— Шеф! — сказал он. — Вы говорите наобум. Какой смысл доказывать, что они потерпят неудачу, когда они уже имеют успех? Я узнал сегодня, что «Сны наяву» нащупывают почву, чтобы открыть в Сент-Луисе театр на тысячу кабинок. Привыкнуть грезить на людях нетрудно, если все вокруг грезят о том же. И публика легко привыкает мечтать в указанном месте и в указанный час, если это дешево и удобно. Черт побери, шеф. Это же форма общения. Влюбленная парочка идет в грезотеатр и поглощает какую-нибудь романтическую пошлятину со стереотипными обертонами и избитыми положениями, и все-таки они выйдут из кабинок, шагая по звездам. Ведь они грезили одинаково. Они испытывали одинаковые слащавые сантименты. Они… они настроены на один лад, шеф. И, уж конечно, они Снова пойдут в грезотеатр и приведут своих друзей.
— А если греза им не понравится?
— В том-то и соль! В том-то все и дело! Она им не может не понравиться. Когда вы готовите утонченные грезы Хиллари с отражениями в отражениях отражений, с хитрейшими поворотами на третьем уровне обертонов, с тонким переходом значений и всеми прочими приемами, которыми мы так гордимся, конечно, подобная вещь оказывается рассчитанной на любителя. Утонченные грезы для утонченного вкуса. А «Сны наяву» выпускают простенькую продукцию в третьем лице, так что она годится и для мужчин и для женщин. Вроде той, которую вы только что впитали. Простенькие, повторяющиеся, пошловатые. Они рассчитаны на самое примитивное восприятие. Может быть, горячих поклонников у них не будет, но и отвращения они ни у кого не вызовут.
Уэйл долго молчал, и Белленджер не сводил с него испытующего взгляда. Затем Уэйл сказал:
— Фрэнк, я начал с качественной продукции и менять ничего не буду. Возможно, вы правы. Возможно, за грезотеатрами будущее. В таком случае мы их тоже откроем, но будем показывать хорошие вещи. Может быть, «Сны наяву» недооценивают широкую публику. Не будем торопиться и впадать в панику. Я всегда исходил из теории, что качественная продукция обязательно находит сбыт. И, как это ни удивительно, мальчик мой, иногда весьма широкий сбыт.
— Шеф… — начал Беленджер, но тут же умолк, так как раздалось жужжание внутреннего телефона.
— В чем дело, Рут? — спросил Уэйл.
— Мистер Хиллари, сэр, — раздался голос секретарши. — Он хочет немедленно увидеться с вами. Он говорит, что дело не терпит отлагательства.
— Хиллари? — В голосе Уэйла прозвучало испуганное недоумение. — Подождите пять минут, Рут, потом пошлите его сюда.
Уэйл повернулся к Беленджеру:
— Этот день, Фрэнк, я никак не могу назвать удачным. Место мечтателя — дома, у его мысленницы. А Хиллари — Наш лучший мечтатель, и, значит, ему больше чем кому-нибудь другому следует быть дома. Как по-вашему, что произошло?
Беленджер, все еще терзаемый мрачными мыслями о «Снах наяву» и грезотеатрах, в ответ буркнул только:
— Позовите его сюда и все узнаете.
— Немного погодя. Скажите, какова его последняя греза? Я не ознакомился с той, которая вышла на прошлой неделе.
Беленджер наконец очнулся. Он сморщил нос:
— Так себе.
— А почему?
— Слишком рваная. До бессвязности. Я ничего не имею против резких переходов, придающих остроту, но ведь должна же быть хоть какая-то связь, пусть и на самом глубоком уровне.
— Никуда не годится?
— У Хиллари таких не бывает. Но потребовался значительный монтаж. Мы довольно много выбросили и вставили старые куски — из тех, что он иногда нам присылает. Ну, из разобщенных образов. Получилась, конечно, не первоклассная греза, но вполне терпимая.
— И вы ему об этом сказали, Фрэнк?
— Да что я, псих, шеф? Что я, по-вашему, способен попрекнуть мечтателя качеством?
Но тут дверь открылась, и хорошенькая секретарша Уэйла с улыбкой впустила в кабинет Шермана Хиллари.
Шерману Хиллари был тридцать один год, и даже Самый наблюдательный человек сразу же распознал бы в нем мечтателя. Ой не носил очков, но взгляд его был растерянным, как у очень близоруких людей, когда они снимают очки, или у тех, кто не привык вглядываться в окружающий мир. Он был среднего роста, но очень худ, его черные волосы давно следовало бы подстричь, подбородок казался слишком узким, а кожа — чересчур бледной. Он был чем-то очень расстроен.
— Здравствуйте, мистер Уэйл — невнятно пробормотал Хиллари и неловко кивнул в сторону Беленджера.
— Шерман, мальчик мой, — приветливо заговорил Уэйл. — Вы прекрасно выглядите. Что случилось? Греза никак толком не стряпается? И вас это волнует? Ну садитесь, садитесь же!
Мечтатель сел — на краешек стула, крепко сжав колено, словно собирался вскочить по первому приказу. Он сказал:
— Я пришел сообщить вам, мистер Уэйл что я ухожу.
— Уходите?
— Я не хочу больше грезить, мистер Уэйл
Старое лицо Уэйла вдруг стало совсем дряхлым — впервые за Этот день.
— Почему же, Шерман?
Губы мечтателя задергались. Он заговорил торопливо:
— Потому что я не живу, мистер Уэйл. Все проходит мимо меня. Сначала было не так. Это было даже почти развлечением. Я грезил по вечерам или в свободные дни, когда мне хотелось. Ну, и в любое другое время. А когда не хотелось — не грезил. Но теперь-то, мистер Уэйл я уже старый профессионал. Вы мне говорили, что я один из лучших в нашем деле и грезопромышленность ждет от меня новых оттенков, новых вариантов прежних находок, вроде порхающих фантазий или двойной пародии.
— И лучше вас действительно нет никого, Шерман, — сказал Уэйл — Ваша миниатюрка, где вы дирижируете оркестром, продолжает расходиться вот уже десятый год.
— Ну и хорошо, мистер Уэйл. Я принес свою пользу. А теперь дошло до того, что я не могу выйти из дому Я совсем не вижу жены. Моя дочка даже не узнает меня. На той неделе мы пошли в гости — Сара меня заставила, и я совсем этого не помню. Сара говорит, что я целый вечер сидел на кушетке, глядел прямо перед собой и что-то бормотал. Она говорит, что все на меня косились. Она проплакала всю ночь. Я устал от этого, мистер Уэйл. Я хочу быть нормальным человеком и жить в реальном мире. Я обещал Саре, что уйду, и я уйду. И прощайте, мистер Уэйл. — Хиллари встал и неловким движением протянул руку Уэйлу.
Уэйл мягко отвел ее.
— Если вы хотите уйти, Шерман, вы, конечно, уйдете. Но окажите любезность старику, выслушайте меня.
— Я не передумаю, — сказал Хиллари.
— Я и не собираюсь вас уговаривать. Я только хочу вам кое-что объяснить. Я старик и занимался этим делом, когда вы еще не родились, и, естественно, люблю порассуждать о нем. Ну так доставьте мне это удовольствие, Шерман. Прошу вас.
Хиллари сел. Прикусив нижнюю губу, он упрямо рассматривал свои ногти.
Уэйл сказал:
— А вы знаете, что такое мечтатель, Шерман? Вы знаете, чем он является для обычных людей? Вы знаете, каково быть такими, как я, как Фрэнк, как ваша жена Сара? Жить с ущербным сознанием, которое не способно воображать, лепить мысли? У обычных людей, вроде меня, порой возникает потребность бежать от этой нашей жизни. Но мы не можем этого сделать. Нам нужна помощь. В старину для этого служили книги, спектакли, радио, кино, телевидение. Они давали нам иллюзии, но важно было даже не это. Важно было то, что на краткий срок стимулировалось наше собственное воображение. Мы начинали мечтать о сказочных принцах и прекрасных принцессах. Мы становились красивыми, остроумными, сильными, талантливыми — такими, какими мы на самом деле не были. Но тогда переход грезы от мечтателя к впитывающему не был совершенным. Ее приходилось тем или иным способом воплощать в слова. А самый лучший в мире мечтатель порой вообще бывает не способен выразить свои грезы словами. И самый лучший писатель бывал способен облечь в слова лишь жалкую часть своих грез. Вы понимаете это? Но теперь, когда мечты научились записывать, каждый человек получил возможность грезить. Вы, Шерман, и горстка вам подобных творите грезы непосредственно. Греза из вашего мозга сразу переходит в наш, не утрачивая силы. Когда вы грезите, вы грезите за сотни миллионов людей. Вы создаете разом сотни миллионов грез. Это чудесно, мальчик мой. Благодаря вам эти люди получают возможность испытать то, что самим им испытывать не дано.
— Я свое дело сделал, — пробормотал Хиллари. Он стремительно поднялся со стула. — Я покончил с этим. Мне все равно, что вы там говорите. А если вы намерены подать на меня в суд за нарушение контракта, то подавайте. Мне все равно.
Уэйл тоже встал.
— Намерен ли я подать на вас в суд?.. Рут, — сказал он в телефон, — принесите, пожалуйста, наш экземпляр контракта с мистером Хиллари.
Уэйл молча ждал. И Хиллари. И Беленджер. Уэйл чуть-чуть улыбался и барабанил по столу пергаментными пальцами.
— Секретарша принесла контракт.
Уэйл взял его, показал первую страницу Хиллари и сказал:
— Шерман, мальчик мой, раз вы не хотите оставаться у меня, то вы и не должны у меня оставаться.
Затем, прежде чем ужаснувшийся Беленджер успел хотя бы поднять руку, чтобы остановить его, он разорвал контракт пополам и еще раз пополам и бросил клочки в мусоропоглотитель.
— Вот и все.
Хиллари схватил руку Уэйла.
— Спасибо, мистер Уэйл, — сказал он прерывающимся голосом. — Вы всегда были очень добры ко мне, и я вам очень благодарен. Мне очень грустно, что все так получилось.
— Ладно, ладно, мальчик мой. Все хорошо.
Чуть не плача, продолжая бормотать слова благодарности, Шерман Хиллари вышел из кабинета.
— Ради всего святого, шеф, почему вы его отпустили? — в отчаянии воскликнул Беленджер. — Разве вы ничего не поняли? Он же отсюда пойдет прямо в «Сны наяву». Они его сманили, это ясно.
Уэйл поднял ладонь:
— Вы ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Я его знаю: он так поступить не способен. А кроме того, — добавил он сухо, — Рут — хорошая секретарша и знает, что нужно принести мне, когда я прошу контракт мечтателя. Я порвал поддельный контракт. А подлинный по-прежнему лежит в нашем сейфе, поверьте мне. Да, прекрасный у меня выдался день! Я с самого утра кого-то убеждаю: несговорчивого папашу — чтобы он дал мне возможность развить новый талант, уполномоченного министерства — чтобы они не ввели цензуру, вас — чтобы вы не втянули нас в гибельное предприятие, и, наконец, моего лучшего мечтателя — чтобы помешать ему уйти. Папашу я, возможно, уговорил. Уполномоченного и вас — не уверен. Может быть, да, а может быть, и нет. Но, во всяком случае, с Шерманом Хиллари все ясно. Он вернется.
— Откуда вы знаете?
Уэйл улыбнулся Беленджеру, и его щеки покрылись сеткой веселых морщин.
— Фрэнк, мальчик мой, вы умеете монтировать грезы, и вам уже кажется, что вы знаете все инструменты и аппараты нашей профессии. Но, разрешите, я вам кое что скажу. Самым важным инструментом в грезопромытленности является сам мечтатель. Именно его и нужно понимать в первую очередь. И я его понимаю. Слушайте: когда я был мальчишкой — в те времена еще не было грез, — я был знаком с одним телесценаристом. Он часто мне жаловался, что все люди при первом знакомстве непременно его спрашивают: «И как вам только все это в голову приходит?» Они искренне этого не понимали. Веда никто из них не был в состоянии придумать что-либо подобное. Так что же мог им ответить мой приятель? А со мной он разговаривал об этом и объяснял: «Как я им скажу, что не знаю? Когда я ложусь спать, я не могу уснуть, потому что у меня в голове теснятся идеи. Когда я бреюсь, я непременно где-нибудь порежусь, когда разговариваю, то забываю, о чем говорю, когда я сижу за рулем машины, я ежеминутно рискую жизнью. И все это потому, что у меня в мозгу непрерывна формируются идеи, ситуации, диалоги. Я не могу сказать тебе, откуда у меня все это берется. Может быть, наоборот, ты поделишься со мной, каким образом тебе удается этого избежать? И тогда я мог бы немного передохнуть». Видите, Фрэнк, как обстоит дело? Вы можете уйти отсюда в любое время. И я могу. Это наша работа, но не наша жизнь. Но для Шермана Хиллари все иначе. Куда бы он ни пошел, чем бы он ни занимался, он все равно будет грезить. Пока он живет, он не может не думать, пока он думает, он не может не грезить. Мы не удерживаем его насильно. Наш контракт не железная решетка. Его удерживает его собственный мозг, Фрэнк. Поэтому он вернется. Ничего другого ему не остается.
Беленджер пожал плечами:
— Если то, что вы говорите, — правда, мне его жаль.
— Мне жаль их всех, — Уэйл грустно кивнул. — За долгие годы своей жизни я понял одно. Их участь — делать счастливыми других, людей. Других.
Мёртвое прошлое
Арнольд Поттерли, доктор философии, преподавал древнюю историю. Занятие, казалось бы, самое безобидное. И мир претерпел неслыханные перемены именно потому, что Арнольд Поттерли выглядел совершенно так, как должен выглядеть профессор, преподающий древнюю историю.
Обладай профессор Поттерли массивным квадратным подбородком, сверкающими глазами, орлиным носом и широкими плечами, Тэддиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии, несомненно, принял бы надлежащие меры.
Но Тэддиус Эремен видел перед собой только тихого человечка с курносым носом-пуговкой между выцветшими голубыми глазами, грустно глядевшими на заведующего отделом хроноскопии, — короче говоря, он видел перед собой щуплого, аккуратно одетого историка, который от редеющих каштановых волос на макушке до тщательно вычищенных башмаков, довершавших респектабельный старомодный костюм, казалось, был помечен штампом «разбавленное молоко».
— Чем могу быть вам полезен, профессор Поттерли? — любезно осведомился Эремен.
И профессор Поттерли ответил негромким голосом, который отлично гармонировал с его наружностью:
— Мистер Эремен, я пришел к вам, потому что вы глава всей хроноскопии.
Эремен улыбнулся.
— Ну, это не совсем точно. Я ответствен перед Всемирным комиссаром научных исследований, а он в свою очередь — перед Генеральным секретарем ООН. А они оба, разумеется, ответственны перед суверенными народами Земли.
Профессор Поттерли покачал головой.
— Они не интересуются хроноскопией. Я пришел к вам, сэр, потому что вот уже два года я пытаюсь получить разрешение на обзор времени — то есть на хроноскопию — в связи с моими изысканиями по истории древнего Карфагена. Однако получить разрешение мне не удалось. Дотацию на исследования мне дали в самом законном порядке. Моя интеллектуальная работа протекает в полном соответствии с правилами, и все же…
— Разумеется, о нарушении правил и речи быть не может, — перебил его Эремен еще более любезным тоном, перебирая тонкие репродукционные листки в папке с фамилией Поттерли. Эти листки были получены с Мультивака, чей обширный аналогический мозг содержал весь архив отдела. После окончания беседы листки можно будет уничтожить, а в случае необходимости репродуцировать вновь за какие-нибудь две-три минуты.
Эремен просматривал листки, а в его ушах продолжал звучать тихий, монотонный голос профессора Поттерли:
— Мне следует объяснить, что проблема, над которой я работаю, имеет огромное значение. Карфаген знаменовал высший расцвет античной коммерции. Карфаген доримской эпохи во многом можно сравнить с доатомной Америкой. По крайней мере в том отношении, что он придавал огромное значение ремеслу, коммерции и вообще деловой деятельности. Карфагеняне были самыми отважными мореходами и открывателями новых земель до викингов и в этом отношении намного превосходили хваленых греков. Истинная история Карфагена была бы очень поучительной. Однако до сих пор все, что нам известно о нем, извлекалось из письменных памятников его злейших врагов — греков и римлян. Карфаген ничего не написал в собственную защиту или эти труды не сохранились. И вот карфагеняне вошли в историю как кучка архизлодеев, и, возможно, без всякого к тому основания. Обзор времени облегчил бы установление истины.
И так далее и тому подобное.
Продолжая проглядывать репродукционные листки, Эремен заметил:
— Поймите, профессор Поттерли, хроноскопия, или обзор времени, как вы предпочитаете ее называть, процесс весьма трудный.
Профессор Поттерли, недовольный, что его перебили, нахмурился и сказал:
— Я ведь прошу только сделать отдельный обзор определенных эпох и мест, которые я укажу.
Эремен вздохнул.
— Даже несколько обзоров, даже один… Это же невероятно тонкое искусство. Скажем, наводка на фокус, получение на экране искомой сцены, удержание ее на экране. А синхронизация звука, которая требует абсолютно независимой цепи!
— Но ведь проблема, над которой я работаю, достаточно важна, чтобы оправдать значительную затрату усилий.
— Разумеется, сэр! Несомненно, — сразу ответил Эремен (отрицать важность чьей-то темы было бы непростительной грубостью). — Но поймите, даже самый простой обзор требует длительной подготовки. Список тех, кому необходимо воспользоваться хроноскопом, огромен, а очередь к Мультиваку, снабжающему нас необходимыми предварительными данными, еще больше.
— Но неужели ничего нельзя сделать? — расстроенно спросил Поттерли. Ведь уже два года…
— Вопрос первоочередности, сэр. Мне очень жаль… Может быть, сигарету?
Историк вздрогнул, его глаза внезапно расширились, и он отпрянул от протянутой ему пачки. Эремен удивленно отодвинул ее, хотел было сам достать сигарету, но передумал.
Когда он убрал пачку, Поттерли вздохнул с откровенным облегчением и сказал:
— А нельзя ли как-нибудь пересмотреть список и поставить меня на самый ранний срок, какой только возможен? Право, не знаю, как объяснить…
Эремен улыбнулся. Некоторые его посетители на этой стадии предлагали деньги, что, конечно, тоже не приносило им никакой пользы.
— Первоочередность тем устанавливает счетно-вычислительная машина, объяснил он. — Самовольно менять ее решения я не имею права.
Поттерли встал. Он был очень небольшого роста — от силы пять с половиной футов.
— В таком случае всего хорошего, сэр, — сухо сказал он.
— Всего хорошего, профессор Поттерли, и, поверьте, я искренне сожалею.
Он протянул руку, и Поттерли вяло ее пожал.
Едва историк вышел, как Эремен позвонил секретарше и, когда она появилась, вручил ей папку.
— Это можно уничтожить, — сказал он.
Оставшись один, он с горечью улыбнулся. Еще одна услуга из тех, которые он уже четверть века оказывает человечеству. Услуга через отказ. Ну, во всяком случае, с этим чудаком затруднений не было. В иных случаях приходилось оказывать давление по месту работы, а иногда и отбирать дотации. Через пять минут Эремен уже забыл про профессора Поттерли, а когда он впоследствии вспоминал этот день, то неизменно приходил к выводу, что никакие дурные предчувствия его не томили.
В течение первого года после того, как его впервые постигло это разочарование, Арнольд Поттерли испытывал… только разочарование. Однако на втором году из этого разочарования родилась мысль, которая сперва напугала его, а потом увлекла. Воплотить эту мысль в дело ему мешали два обстоятельства, но к ним не относился тот несомненный факт, что такие действия были бы вопиющим нарушением этики.
Мешала ему, во-первых, еще не угасшая надежда, что власти в конце концов дадут необходимое разрешение. Но теперь, после беседы с Эременом, эта надежда окончательно угасла.
Вторым препятствием была даже не надежда, а горькое сознание собственной беспомощности. Он не был физиком и не знал ни одного физика, к которому мог бы обратиться за помощью. На физическом факультете его университета работали люди, избалованные дотациями и поглощенные своей специальностью. В лучшем случае они просто не стали бы его слушать, а в худшем доложили бы начальству о его интеллектуальной анархии, а тогда его, пожалуй, вообще лишили бы дотации на изучение Карфагена, от которой зависело все.
Пойти на такой риск он не мог. Но, с другой стороны, продолжать исследования он мог бы только с помощью хроноскопии. Без нее и дотация лишалась всякого смысла.
За неделю до свидания с Эременом перед Поттерли, хотя тогда он этого не осознал, открылась возможность преодолеть второе препятствие. Это произошло на одном из традиционных факультетских чаепитий. Поттерли неизменно являлся на такие официальные сборища, потому что видел в этом свою обязанность, а к своим обязанностям он относился серьезно. Однако, исполнив этот долг, он уже не считал нужным поддерживать светский разговор или знакомиться с новыми людьми. Всегда воздержанный, он выпивал не больше двух рюмок, обменивался двумя-тремя вежливыми фразами с деканом или заведующими кафедрами, сухо улыбался остальным и уходил домой как мог раньше.
И на этом последнем чаепитии он при обычных обстоятельствах не обратил бы ни малейшего внимания на молодого человека, который одиноко стоял в углу. Ему бы и в голову не пришло заговорить с этим молодым человеком. Но сложное стечение обстоятельств заставило его на этот раз поступить наперекор своим привычкам.
Утром за завтраком миссис Поттерли грустно сказала, что ей опять снилась Лорель, но на этот раз взрослая Лорель, хотя лицо ее оставалось лицом той трехлетней девочки, которая была их дочерью. Поттерли не перебивал жену. В давние времена он пытался бороться с этими ее настроениями, когда она бывала способна думать только о прошлом и о смерти. Ни сны, ни разговоры не вернут им Лорель. И все же, если Кэролайн Поттерли так легче, пусть она грезит и разговаривает.
Однако, отправившись на утреннюю лекцию, Поттерли вдруг обнаружил, что на этот раз нелепые мысли Кэролайн как-то подействовали на него. Взрослая Лорель! Прошло уже почти двадцать лет со дня ее смерти — смерти их единственного ребенка и тогда и во веки веков. И все это время, вспоминая ее, он вспоминал трехлетнюю девочку.
Но теперь он подумал: будь она жива сейчас, ей было бы не три года, а почти двадцать три!
И против своей воли он попытался вообразить, как Лорель постепенно становилась бы старше, пока наконец ей не исполнилось бы двадцать три года. Это ему не удалось.
И все же он пытался: Лорель красит губы, за Лорель ухаживают, Лорель… выходит замуж!
Вот почему, когда он увидел, как этот молодой человек застенчиво стоит в стороне от равнодушно снующей вокруг группы преподавателей, ему пришла в голову мысль, достойная Дон Кихота: ведь такой вот мальчишка мог жениться на Лорель! А может быть, даже и этот самый мальчишка…
Ведь Лорель могла бы познакомиться с ним — здесь, в университете, или как-нибудь вечером у себя дома, если бы они пригласили этого молодого человека в гости. Они могли бы понравиться друг другу. Лорель, несомненно, была бы хорошенькой, а этот юноша даже красив — смуглое, худое, сосредоточенное лицо, уверенные, легкие движения.
Эти сны наяву внезапно рассеялись. Однако Поттерли поймал себя на глупом ощущении, что молодой человек уже не посторонний ему, а как бы его возможный зять в стране того, что могло бы быть. И вдруг заметил, что уже подошел к юноше. Это был почти самогипноз. Он протянул руку.
— Я Арнольд Поттерли с исторического факультета. Если не ошибаюсь, вы здесь недавно?
Молодой человек, по-видимому, удивился и неловко перехватил рюмку левой рукой, чтобы освободить правую.
— Меня зовут Джонас Фостер, сэр, — сказал он, пожимая руку Поттерли, я преподаватель физики. Я в университете недавно — первый семестр.
Поттерли кивнул.
— Желаю вам здесь счастья и больших успехов!
На атом тогда все и кончилось. Поттерли опомнился, смутился и отошел. Он было оглянулся, но иллюзия родственной связи полностью рассеялась. Действительность вновь вступила в свои права, и он рассердился на себя за то, что поддался нелепым рассказам жены про Лорель.
Однако неделю спустя, в тот момент, когда Эремен что-то втолковывал ему, Поттерли вдруг вспомнил про молодого человека. Преподаватель физики! Молодой преподаватель! Неужели в ту минуту он оглох? Неужели произошло короткое замыкание где-то между ухом и мозгом? Или сработала подсознательная самоцензура, так как в ближайшем будущем ему предстояло свидание с заведующим отделом хроноскопии?
Свидание это оказалось бесполезным, но воспоминание о молодом человеке, с которым он обменялся парой ничего не значащих фраз, помешало Поттерли настаивать на своей просьбе. Ему даже захотелось поскорее уйти.
И, возвращаясь в скоростном вертолете в университет, Поттерли чуть не пожалел, что никогда не был суеверным человеком. Ведь тогда он мог бы утешиться мыслью, что это случайное, ненужное знакомство в действительности было делом рук всеведущей и целеустремленной Судьбы.
Джонас Фостер неплохо знал академическую жизнь. Одна только долгая изнурительная борьба за первую ученую степень сделала бы ветераном кого угодно, а ему ведь потом был поручен курс лекций, и это окончательно его отполировало.
Однако теперь он стал «преподавателем Джонасом Фостером». Впереди его ждало профессорское звание. И поэтому его отношение к университетским профессорам стало иным.
Во-первых, его дальнейшее повышение зависело от того, отдадут ли они ему свои голоса, а во-вторых, он пробыл на кафедре так недолго, что еще не знал, кто именно из ее членов близок с деканом или даже с ректором. Роль искушенного университетского политика его не привлекала, и он был даже убежден, что интриган из него получится самый посредственный, но какой смысл лягать самого себя, чтобы доказать себе же эту истину?
Вот почему Фостер согласился выслушать этого тихого историка, в котором тем не менее чувствовалось какое-то непонятное напряжение, вместо того чтобы тут же оборвать его и указать ему на дверь. Во всяком случае, именно таково было его первое намерение.
Он хорошо помнил Поттерли. Ведь это Поттерли подошел к нему на факультетском чаепитии (жуткая процедура!). Старичок посмотрел на него остекленевшими глазами, выдавил из себя две неловкие фразы, а потом как-то сразу опомнился и быстро отошел.
Тогда Фостера это позабавило, но теперь…
А вдруг Поттерли подошел к нему не случайно, вдруг он искал этого знакомства, а вернее, старался внушить ему мысль, что он, Поттерли, чудак, эксцентричный старик, но вполне безобидный? И вот теперь пришел проверить лояльность Фостера, нащупать неортодоксальные убеждения. Разумеется, его проверяли, прежде чем назначить на это место. И все же…
Возможно, конечно, что Поттерли вполне искренен, возможно, он действительно не понимает, что делает. А может быть, превосходно понимает; может быть, он попросту опасный провокатор. Пробормотав: «Ну, что ж…», Фостер, чтобы выиграть время, вытащил пачку сигарет: сейчас он предложит сигарету Поттерли, даст ему огонька, закурит сам — и проделает все это очень медленно, чтобы выиграть время.
Однако Поттерли воскликнул:
— Ради бога, доктор Фостер, уберите сигареты!
— Простите, сэр, — с недоумением сказал Фостер.
— Что вы! Просить извинения следует мне. Но я не выношу запаха табачного дыма. Идиосинкразия. Еще раз прошу извинения.
Он заметно побледнел, и Фостер поспешил убрать сигареты.
Страдая от невозможности закурить, Фостер решил выйти из положения самым простым образом.
— Я очень польщен, что вы обратились ко мне за советом, профессор Поттерли, но дело в том, что я не занимаюсь нейтриникой. В этой области я не профессионал. С моей стороны неуместно даже высказать какое-либо мнение, и, откровенно говоря, я предпочел бы, чтобы вы не расспрашивали меня об этом.
Чопорное лицо историка стало суровым.
— Я не понял ваших слов о том, что вы не занимаетесь нейтриникой. Вы ведь пока ничем не занимаетесь. Вам еще не дали никакой дотации, не так ли?
— Это же мой первый семестр.
— Я знаю. Вероятно, вы даже еще не подали заявку на дотацию?
Фостер слегка улыбнулся. За три месяца, проведенных в университете, он так и не сумел привести свою заявку о дотации на научно-исследовательскую работу в мало-мальски приличный вид — ее нельзя было даже вручить для доработки профессиональному писателю при науке, не говоря уже о том, чтобы прямо подать в Комиссию по делам науки.
(К счастью, заведующий его кафедрой отнесся к этому вполне терпимо. «Не торопитесь, Фостер, — сказал он, — поразмыслите над темой, убедитесь, что хорошо знаете свой путь и то, куда он приведет. Ведь едва вы получите дотацию, как тем самым официально закрепите за собой область вашей специализации, и, на радость или на горе, не расстанетесь с ней до конца вашей академической карьеры». Этот совет был достаточно банален, однако банальность нередко обладает достоинством истины, и Фостеру это было известно.)
— По образованию и по склонности, доктор Поттерли, я гипероптик с уклоном в малую гравитику. Так я охарактеризовал себя, когда подавал заявление на факультет. Официально это пока еще не моя область специализации, но именно ее я собираюсь выбрать. Только ее! А нейтриникой я вообще не занимался.
— Почему? — немедленно спросил Поттерли.
Фостер с недоумением посмотрел на него. Такие бесцеремонные расспросы о чужом профессиональном статусе, естественно, вызывали раздражение. И он ответил уже менее любезным тоном:
— Там, где я учился, курса нейтриники не читали.
— Бог мой, где же вы учились?
— В Массачусетском технологическом институте, — невозмутимо ответил Фостер.
— И там не преподают нейтринику?
— Нет. — Фостер почувствовал, что краснеет, и начал оправдываться: Это же очень узкая тема, не имеющая особого значения. Хроноскопия, пожалуй, обладает некоторой ценностью, но другого практического применения у нейтриники нет, а сама по себе хроноскопия — это тупик.
Историк бросил на него возбужденный взгляд.
— Скажите мне только одно: вы можете назвать специалиста по нейтринике?
— Нет, не могу, — грубо ответил Фостер.
— Ну, в таком случае вы, может быть, знаете учебное заведение, где преподают нейтринику?
— Нет, не знаю.
Поттерли улыбнулся кривой невеселой улыбкой.
Фостеру эта улыбка не понравилась, она показалась ему оскорбительной, и он настолько рассердился, что даже сказал:
— Позволю себе заметить, сэр, что вы переступаете границы.
— Что?
— Я говорю, что вам, историку, интересоваться какой-либо областью физики, интересоваться профессионально, — это… — он умолк, не решаясь все-таки произнести последнее слово вслух.
— Неэтично?
— Вот именно, профессор Поттерли.
— Меня толкают на это результаты моих исследований, — сказал Поттерли напряженным шепотом.
— В таком случае вам следует обратиться в Комиссию по делам науки. Если Комиссия разрешит…
— Я уже обращался туда, но безрезультатно.
— Тогда вы, разумеется, должны прекратить эти исследования.
Фостер чувствовал, что говорит, как самодовольный педант, гордящийся своей добропорядочностью, но не мог же он допустить, чтобы этот человек спровоцировал его на проявление интеллектуальной анархии! Он ведь только начинает свою научную карьеру и не имеет права рисковать по-глупому.
Но, очевидно, его слова задели Поттерли. Без всякого предупреждения историк разразился бурей слов, каждое из которых свидетельствовало о полной безответственности.
— Ученые, — сказал он, — могут считаться свободными только в том случае, если они свободно следуют своему свободному любопытству. Наука, сказал он, — силой загнанная в заранее определенную колею теми, в чьих руках сосредоточены деньги и власть, становится рабской и неминуемо загнивает. Никто, — сказал он, — не имеет права распоряжаться интеллектуальными интересами других.
Фостер слушал его с большим недоверием. Ничего нового в этом потоке слов для него не было: студенты любили шокировать своих преподавателей подобными рассуждениями, да и он сам раза два позволил себе поразвлечься таким способом. Вообще каждый человек, изучавший историю науки, прекрасно знал, что в старину многие придерживались подобных взглядов. И все же Фостеру казалось странным, почти противоестественным, что современный ученый может проповедовать столь дикую чепуху! Никому бы и в голову не пришло организовать производственный процесс так, чтобы каждый рабочий занимался чем хотел и когда хотел, и никто не осмелится повести корабль, руководствуясь противоречивыми мнениями каждого отдельного члена команды. Все считают бесспорным, что и на заводе, и на корабле должно существовать какое-то одно центральное руководство. Так почему же то, что идет на пользу заводу и кораблю, вдруг может оказаться вредным для науки?
Можно, конечно, возразить, что человеческий интеллект обладает качественным отличием от корабля или завода, однако история научно-исследовательских изысканий доказывала обратное.
Быть может, в дни, когда наука была юной и вся или почти вся совокупность человеческих знаний оказывалась доступной индивидуальному человеческому уму, — быть может, в те дни она и не нуждалась в руководстве. Слепое блуждание по обширнейшим областям неведомого порой случайно приводило к удивительным открытиям.
Однако по мере накопления знаний приходилось изучать и суммировать все больше и больше уже известных фактов, для того чтобы путешествие в неведомое оказалось плодотворным. Ученым пришлось специализироваться. Исследователь уже нуждался в услугах библиотеки, которую сам собрать не мог, а также в приборах, которые сам купить был не в состоянии. Индивидуальный исследователь все больше и больше уступал место группе исследователей, а потом и научно-исследовательскому институту.
Фонды, необходимые для научных исследований, с каждым годом увеличивались, а приборы и инструменты становились все более многочисленными. Где сейчас найдется на Земле настолько захудалый колледж, что в нем не окажется хотя бы одного ядерного микрореактора или хотя бы одной трехступенчатой счетно-вычислительной машины?
Субсидирование научных исследований оказалось не по плечу отдельным частным лицам уже много веков назад. К 1940 году только государство, ведущие отрасли промышленности и наиболее крупные университеты и научные центры имели возможность выделять достаточные средства на научную работу в широких масштабах.
К 1960 году даже крупнейшие университеты уже полностью существовали лишь на государственные дотации, а научные центры держались только на налоговых льготах и средствах, собиравшихся по подписке. К 2000 году промышленные объединения стали частью всемирного правительства, и с тех пор финансирование научно-исследовательской работы, а значит, и общее руководство ею, естественно, сосредоточились в руках специального государственного органа.
Все сложилось само собой и очень удачно. Каждая отрасль науки была точно приспособлена к нуждам общества, а работы, проводившиеся в различных ее областях, умело координировались. Материальный прогресс, которым была ознаменована последняя половина века, достаточно убедительно свидетельствовал о том, что наука отнюдь не загнивает.
Фостер попытался изложить хоть малую часть этих соображений своему собеседнику, но Поттерли нетерпеливо перебил его:
— Вы, как попугай, повторяете измышления официальной пропаганды. У вас же под самым носом пример, начисто опровергающий официальную точку зрения. Вы верите мне?
— Откровенно говоря, нет.
— Ну, а почему же вы утверждаете, что обзор времени — это тупик? Почему нейтриника не имеет никакого значения? Вы это утверждаете. Вы утверждаете это категорически. А ведь вы ее не изучали. По вашим же словам, вы не имеете о ней ни малейшего представления. Ее даже не преподавали в вашем учебном заведении…
— Но разве это не является прямым доказательством ее бесполезности?
— А, понимаю! Ее не преподают, потому что она бесполезна. А бесполезна она потому, что ее не преподают. Вам нравится такая логика?
Фостер растерялся.
— Но так говорится в книгах…
— Вот именно. В книгах говорится, что нейтриника не имеет никакого значения. Ваши профессора говорят вам это, почерпнув свои сведения из книг. А в книгах это утверждается потому, что их пишут профессора. Но кто утверждал это, опираясь на собственные знания и опыт? Кто ведет исследовательскую работу в этой области? Вам это известно?
— По-моему, этот спор бесплоден, профессор Поттерли, — сказал Фостер. А мне необходимо закончить работу…
— Еще минутку! Я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Как она вам покажется? Я утверждаю, что правительство активно препятствует работам в области нейтриники и хроноскопии. Оно препятствует практическому применению хроноскопии.
— Не может быть!
— Почему же? Это вполне в его силах. То самое централизованное руководство наукой, о котором вы говорили. Если правительство отказывает в фондах какой-либо отрасли науки, эта отрасль гибнет. Так оно уничтожило нейтринику. Оно имело возможность это сделать, и оно это сделало.
— Но зачем?
— Не знаю. И хочу, чтобы вы это выяснили. Я бы и сам попробовал, но у меня нет специальных знаний. Я пришел к вам потому, что вы молоды и только что завершили свое образование. Неужели артерии вашего интеллекта уже поддались склерозу? Неужели в вас не осталось ни любознательности, ни любопытства? Неужели вам не хочется просто _знать_? Находить ответы на загадки?
Говоря это, историк впивался взглядом в лицо Фостера. Их носы почти соприкасались, но Фостер до того растерялся, что даже не догадался отступить на шаг.
Ему, разумеется, следовало бы попросту указать Поттерли на дверь. Или даже самому вышвырнуть его.
Удерживало его отнюдь не уважение к возрасту и положению историка. И, уж конечно, Поттерли его ни в чем не убедил. Нет, в нем вдруг заговорила былая студенческая гордость.
В самом деле, почему в МТИ не читался курс нейтриники? И, кстати, насколько он помнил, в институтской библиотеке не было ни единой книги по нейтринике. Во всяком случае, он ни разу не видел там ничего подобного.
Фостер невольно задумался.
И это его погубило.
Кэролайн Поттерли когда-то была очень привлекательна. И даже теперь в отдельных случаях — на званых обедах, например, или на университетских приемах — ей удавалось отчаянным усилием воли возродить частицу этой привлекательности.
В обычной же обстановке она «обмякала». Именно это слово она употребляла, когда ее охватывало отвращение к себе. С возрастом она располнела, но не только этим объяснялась ее дряблость. Казалось, будто ее мускулы совсем расслабли, так что она еле волочила ноги, когда шла, под глазами набухли мешки, а щеки обвисали тяжелыми складками. Даже ее седеющие волосы казались не просто прямыми, но бесконечно усталыми. Они не вились как будто только потому, что тупо подчинились силе земного тяготения.
Кэролайн Поттерли поглядела в зеркало и решила, что сегодня она выглядит особенно скверно, — и ей не нужно было догадываться о причине.
Все тот же сон про Лорель. Такой странный — Лорель вдруг стала взрослой. С тех пор Кэролайн не находила себе места. И все-таки напрасно она рассказала об этом Арнольду. Он ничего не сказал — он давно уже ничего не говорит в подобных случаях, — но все-таки это дурно на него повлияло. Несколько дней после ее рассказа он был особенно сдержан. Возможно, он действительно готовился к этому важному разговору с высокопоставленным чиновником (он все время твердил, что не ждет от их беседы ничего хорошего), но возможно также, что все дело было в ее сне.
Уж лучше бы он, как раньше, резко прикрикнул на нее: «Перестань думать о прошлом, Кэролайн! Разговорами ее не вернешь, да и сны помогут не больше».
Им обоим было тяжело тогда. Невыносимо тяжело. Ее постоянно терзало ощущение неискупимой вины: в тот вечер ее не было дома! Если бы она не ушла, если бы она не отправилась за совершенно ненужными покупками, их было бы тогда двое. И вдвоем они спасли бы Лорель.
А бедному Арнольду это не удалось. Он сделал все, что мог, и чуть было сам не погиб. Из горящего дома он выбежал, шатаясь, обнаженный, задыхающийся, полуослепший от жара и дыма — с мертвой Лорель на руках.
И с тех пор длится этот кошмар, никогда до конца не рассеиваясь.
Арнольд постепенно замкнулся в себе. Он говорил теперь тихим голосом, держался мягко и спокойно — и сквозь эту оболочку ничто не вырывалось наружу, ни одной вспышки молнии. Он стал педантичным и поборол свои дурные привычки: бросил курить и перестал ругаться в минуты волнения. Он добился дотации на составление новой истории Карфагена и все подчинил этой цели.
Сначала она пыталась помогать ему: подбирала литературу, перепечатывала его заметки, микрофильмировала их. А потом вдруг все оборвалось.
Как-то вечером она внезапно вскочила из-за письменного стола и едва успела добежать, до ванной, как у нее началась мучительная рвота. Муж бросился за ней, растерянный и перепуганный.
— Кэролайн, что с тобой?
Он дал ей выпить коньяку, и она постепенно пришла в себя.
— Это правда? То, что они делали?
— Кто?
— Карфагеняне.
Он с недоумением посмотрел на нее, и она кое-как, обиняком, попыталась объяснить ему, в чем дело. Говорить об этом прямо у нее не было сил.
Карфагеняне, по-видимому, поклонялись Молоху — медному, полому внутри идолу, в животе которого была устроена печь. Когда городу грозила опасность, перед идолом собирались жрецы и народ, и после надлежащих церемоний и песнопений опытные руки умело швыряли в печь живых младенцев.
Перед жертвоприношением им давали сласти, чтобы действенность его не ослабела из-за испуганных воплей, оскорбляющих слух бога. Затем раздавался грохот барабанов, заглушавший предсмертные крики детей, — на это требовалось несколько секунд. При церемонии присутствовали родители, которым было положено радоваться: ведь такая жертва угодна богам…
Арнольд Поттерли угрюмо нахмурился. Все это гнуснейшая ложь, сказал он, выдуманная врагами Карфагена. Ему следовало бы предупредить ее заранее. История знает немало примеров такой пропагандистской лжи. Греки утверждали, будто древние евреи в своей святая святых поклонялись ослиной голове. Римляне говорили, будто первые христиане были человеконенавистниками и приносили в катакомбах в жертву детей язычников.
— Так, значит, они этого не делали? — спросила Кэролайн.
— Я убежден, что нет. Хотя у первобытных финикийцев и могло быть что-нибудь подобное. Человеческие жертвоприношения не редкость в первобытных культурах. Но культуру Карфагена в дни его расцвета никак нельзя назвать первобытной. Человеческие жертвоприношения часто перерождаются в определенные символические ритуалы, вроде обрезания. Греки и римляне по невежеству или по злобе могли истолковать символическую карфагенскую церемонию как подлинное жертвоприношение.
— Ты в этом уверен?
— Пока еще нет, Кэролайн. Но когда у меня накопится достаточно материала, я попрошу разрешения применить хроноскопию, и это даст возможность разрешить вопрос раз и навсегда.
— Хроноскопию?
— Обзор времени. Можно будет настроиться на древний Карфаген в период серьезного национального кризиса, например на 202 год до нашей эры, год высадки Сципиона Африканского, и посмотреть собственными глазами, что происходило. И ты увидишь, что я был прав.
Он ласково погладил ее по руке и ободряюще улыбнулся, но ей вот уже две недели каждую ночь снилась Лорель, и она больше не помогала мужу в его работе над историей Карфагена. И он не обращался к ней за помощью.
А теперь она собиралась с силами, готовясь к его возвращению. Он позвонил ей днем, как только вернулся в город, сказал, что видел главу отдела и что все кончилось, как он и ожидал. Значит — неудачей… И все же в его голосе не проскользнула так много говорящая ей нота отчаяния, а его лицо на телеэкране казалось совсем спокойным. Ему нужно побывать еще в одном месте, объяснил он.
Значит, Арнольд вернется домой поздно. Но это не имело ни малейшего значения. Оба они не придерживались определенных часов еды и были совершенно равнодушны к тому, когда именно банки извлекались из морозильника, и даже — какие именно банки, и когда приводился в действие саморазогреватель.
Однако когда Поттерли вернулся домой, Кэролайн невольно удивилась. Вел он себя как будто совершенно нормально: поцеловал ее и улыбнулся, снял шляпу и спросил, не случилось ли чего-нибудь за время его отсутствия. Все было почти так же, как всегда. Почти.
Однако Кэролайн научилась подмечать мелочи, а он выполнял привычный ритуал с какой-то торопливостью. И этого оказалось достаточно для ее тренированного глаза: Арнольд был чем-то взволнован.
— Что произошло? — спросила она.
Поттерли сказал:
— Послезавтра у нас к обеду будет гость, Кэролайн. Ты не против?
— Не-ет. Кто-нибудь из знакомых?
— Ты его не знаешь. Молодой преподаватель. Он тут недавно. Я с ним разговаривал сегодня.
Внезапно он повернулся к жене, подхватил ее за локти и несколько секунд продержал так, а потом вдруг смущенно отпустил, словно стыдясь проявления своих чувств.
— С каким трудом я пробился сквозь его скорлупу, — сказал он. Подумать только! Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе.
Миссис Поттерли не совсем поняла, что он имел в в виду, но она не зря в течение года наблюдала, как под его спокойствием нарастал бунт, как мало-помалу он начинал все смелее критиковать правительство. И она сказала:
— Надеюсь, ты был с ним осмотрителен?
— Как так — осмотрителен? Он обещал заняться для меня нейтриникой.
«Нейтриника» была для миссис Поттерли всего лишь звонкой бессмыслицей, однако она не сомневалась, что к истории это, во всяком случае, никакого касательства не имеет.
— Арнольд, — тихо произнесла она. — Зачем ты это делаешь? Ты лишишься своего места. Это же…
— Это же интеллектуальный анархизм, дорогая моя, — перебил он. — Вот выражение, которое ты искала. Прекрасно, значит, я анархист. Если государство не позволяет мне продолжать мои исследования, я продолжу их на собственный страх и риск. А когда я проложу путь, за мной последуют другие… А если и не последуют, какая разница? Карфаген — вот что важно! И расширение человеческих познаний, а не ты и не я.
— Но ты же не знаешь этого молодого человека! Что, если он агент комиссара по делам науки?
— Вряд ли. И я готов рискнуть. — Сжав правую руку в кулак, Поттерли легонько потер им левую ладонь. — Он теперь на моей стороне. В этом я уверен. Хочет он того или не хочет, но это так. Я умею распознавать интеллектуальное любопытство в глазах, в лице, в поведении, а это смертельное заболевание для прирученного ученого. Даже в наше время выбить такое любопытство из индивида оказывается не так-то просто, а молодежь особенно легко заражается… И почему, черт возьми, мы должны перед чем-то останавливаться? Нет, мы построим собственный хроноскоп, и пусть государство отправляется к…
Он внезапно умолк, покачал головой и отвернулся.
— Будем надеяться, что все кончится хорошо, — сказала миссис Поттерли, в беспомощном ужасе чувствуя, что все кончится очень плохо и придется забыть о дальнейшей карьере мужа и об обеспеченной старости.
Только она из них всех томилась предчувствием беды. И, конечно, совсем не той беды.
Джонас Фостер явился в дом Поттерли, расположенный за пределами университетского городка, с опозданием на полчаса. До самого конца он не был уверен, что пойдет. Затем в последний момент он почувствовал, что не может нарушить правила вежливости, не явившись на обед, как обещал, и даже не предупредив хозяев заранее. А кроме того, его разбирало любопытство.
Обед тянулся бесконечно. Фостер ел без всякого аппетита. Миссис Поттерли была рассеянна и молчалива — она только однажды вышла из своего транса, чтобы спросить, женат ли он, и, узнав, что нет, неодобрительно хмыкнула. Профессор Поттерли задавал ему нейтральные вопросы о его академической карьере и чопорно кивал головой.
Трудно было придумать что-нибудь более пресное, тягучее и нудное.
Фостер подумал:
«Он кажется таким безвредным…»
Последние два дня Фостер изучал труды профессора Поттерли. Разумеется, между делом, почти исподтишка. Ему не слишком-то хотелось показываться в Библиотеке социальных наук. Правда, история принадлежала к числу смежных дисциплин, а широкая публика нередко развлекалась чтением исторических трудов — иногда даже в образовательных целях.
Однако физик — это все-таки не «широкая публика». Стоит Фостеру заняться чтением исторической литературы, и его сочтут чудаком — это ясно, как закон относительности, а там заведующий кафедрой, пожалуй, задумается, насколько его новый преподаватель «подходит для них».
Вот почему Фостер действовал крайне осторожно. Он сидел в самых уединенных нишах, а входя и выходя, старался низко опускать голову.
Он выяснил, что профессор Поттерли написал три книги и несколько десятков статей о государствах древнего Средиземноморья, причем все статьи последних лет (напечатанные в «Историческом вестнике») были посвящены доримскому Карфагену и написаны в весьма сочувственном тоне.
Это, во всяком случае, подтверждало объяснения историка, и подозрения Фостера несколько рассеялись… И все же он чувствовал, что правильнее и благоразумнее всего было бы отказаться наотрез с самого начала.
Ученому вредно излишнее любопытство, думал он, сердясь на себя. Оно чревато опасностями.
Когда обед закончился, Поттерли провел гостя к себе в кабинет, и Фостер в изумлении остановился на пороге: стены были буквально скрыты книгами.
И не только микропленочными! Разумеется, здесь были и такие, но их число значительно уступало печатным книгам — книгам, напечатанным на бумаге! Просто не верилось, что существует столько старинных книг, еще годных для употребления.
И Фостеру стало не по себе. С какой стати человеку вдруг понадобилось держать дома столько книг? Ведь все они наверняка есть в университетской библиотеке или, на худой конец, в Библиотеке конгресса — нужно только побеспокоиться и заказать микрофильм.
Домашняя библиотека отдавала чем-то недозволенным. Она была пропитана духом интеллектуальной анархии. Но, как ни странно, именно это последнее соображение успокоило Фостера. Уж лучше пусть Поттерли будет подлинным анархистом, чем провокатором.
И с этой минуты время помчалось на всех парах, принося с собой много удивительного.
— Видите ли, — начал Поттерли ясным, невозмутимым голосом, — я попробовал отыскать кого-нибудь, кто пользовался бы в своей работе хроноскопией. Разумеется, задавать такой вопрос прямо я не мог — это значило бы предпринять самочинные изыскания.
— Конечно, — сухо заметил Фостер, удивляясь про себя, что подобное пустячное соображение могло остановить его собеседника.
— Я наводил справки косвенно…
И он их наводил! Фостер был потрясен объемом переписки, посвященной мелким спорным вопросам культуры древнего Средиземноморья, в процессе которой профессору Поттерли удавалось добиться от своих корреспондентов случайных упоминаний, вроде: «Разумеется, ни разу не воспользовавшись хроноскопией…» или «Ожидая ответа на мою просьбу применить хроноскоп, на что в настоящий момент вряд ли можно рассчитывать…»
— И я адресовал эти вопросы отнюдь не наугад, — объяснил Поттерли. Институт хроноскопии издает ежемесячный бюллетень, в котором печатаются исторические сведения, полученные путем обзора времени. Обычно бюллетень включает одно-два таких сообщения. Меня сразу поразила тривиальность сведений, добытых таким образом, их незначительность. Так почему же подобные изыскания считаются первоочередными, а мое исследование нет? Тогда я начал писать тем, кто, скорее всего, мог заниматься работами, упоминавшимися в бюллетене. И, как я вам только что показал, никто из этих ученых не пользовался хроноскопом. Ну, а теперь давайте рассмотрим все по пунктам…
Наконец Фостер, у которого голова шла кругом от множества свидетельств, трудолюбиво собранных Поттерли, растерянно спросил:
— Но для чего же все это делается?
— Не знаю, — ответил Поттерли. — Но у меня есть своя теория. Когда Стербинский изобрел хроноскоп, — как видите, это мне известно, — о его изобретении много писали. Затем правительство конфисковало аппарат и решило прекратить дальнейшие исследования в этой области и воспрепятствовать дальнейшему использованию уже готового хроноскопа. Но в этом случае людям непременно захотелось бы узнать, почему он не используется. Любопытство — ужасный порок, доктор Фостер.
Физик внутренне согласился с ним.
— Так вообразите, — продолжал Поттерли, — насколько умнее было бы сделать вид, будто хроноскоп используется. Прибор потерял бы всякий элемент таинственности и перестал бы служить предлогом для законного любопытства или приманкой для любопытства противозаконного.
— Но вы-то полюбопытствовали, — заметил Фостер.
Поттерли, казалось, смутился.
— Со мной дело обстоит иначе, — сердито сказал он. — Моя работа действительно важна, а их проволочки и отказы граничат с издевательством, и я не намерен с этим мириться.
«Почти мания преследования, помимо всего прочего», — уныло подумал Фостер.
И тем не менее историк, страдал он манией преследования или нет, сумел кое-что обнаружить: Фостер не мог уже больше отрицать, что с нейтриникой дело обстоит действительно как-то странно.
Но чего добивается Поттерли? Это по-прежнему тревожило Фостера. Если Поттерли затеял все это не для того, чтобы проверить этические принципы Фостера, так чего же он все-таки добивается?
Фостер старался рассуждать логично. Если интеллектуальный анархист, страдающий легкой формой мании преследования, хочет воспользоваться хроноскопом и твердо верит, что власти предержащие сознательно ему препятствуют, что он предпримет?
«Будь я на его месте, — подумал он, — что сделал бы я?»
Он сказал размеренным голосом:
— Но, может быть, хроноскопа вообще не существует.
Поттерли вздрогнул. Его неизменное спокойствие чуть не разлетелось вдребезги. На мгновение Фостер уловил в его взгляде нечто менее всего похожее на спокойствие.
Однако историк все же не утратил власти над собой. Он сказал:
— О нет! Хроноскоп, несомненно, должен существовать.
— Но почему? Вы видели его? А я? Может быть, именно этим все и объясняется? Может быть, они вовсе не прячут имеющийся у них хроноскоп, а его у них вовсе нет?
— Но ведь Стербинский действительно жил! Он же построил хроноскоп! Это факты.
— Так говорится в книгах, — холодно возразил Фостер.
— Послушайте! — Поттерли забылся настолько, что схватил Фостера за рукав. — Мне необходим хроноскоп. Я должен его получить. И не говорите мне, что его вообще нет. Нам просто нужно разобраться в нейтринике настолько, чтобы…
Поттерли вдруг умолк.
Фостер выдернул свой рукав из его пальцев. Он знал, как собирался историк докончить эту фразу, и докончил ее сам:
— …чтобы самим его построить?
Поттерли насупился, словно ему не хотелось говорить об этом прямо, но все же отозвался:
— А почему бы и нет?
— Потому что об этом не может быть и речи, — отрезал Фостер. — Если то, что я читал, соответствует истине, значит, Стербинскому потребовалось двадцать лет, чтобы построить свой аппарат, и двадцать миллионов в разного рода дотациях. И вы полагаете, что нам с вами удастся проделать то же нелегально? Предположим даже, у нас было бы время (а его у нас нет) и я мог бы почерпнуть достаточно сведений из книг (в чем я сомневаюсь), — где мы раздобыли бы оборудование и деньги? Ведь хроноскоп, как утверждают, занимает пятиэтажное здание! Поймите же это наконец!
— Так вы отказываетесь помочь мне?
— Ну, вот что: у меня есть возможность кое-что выяснить…
— Какая возможность? — тотчас осведомился Поттерли.
— Неважно. Но мне, может быть, удастся узнать достаточно, чтобы сказать вам, правда ли, что правительство сознательно не допускает работы с хроноскопом. Я могу либо подтвердить собранные вами данные, либо доказать их ошибочность. Не берусь судить, что это вам даст как в том, так и в другом случае, но это все, что я могу сделать. Это мой предел.
И вот наконец Поттерли проводил своего гостя. Он досадовал на самого себя. Проявить такую неосторожность — позволить мальчишке догадаться, что он думает именно о собственном хроноскопе! Это было преждевременно.
Но как смел этот молокосос предположить, что хроноскопа вовсе не существует?
Он должен существовать! Должен! Какой же смысл отрицать это?
И почему нельзя построить еще один? За пятьдесят лет, истекших со смерти Стербинского, наука ушла далеко вперед. Нужно только узнать основные принципы.
И пусть этим займется Фостер. Пусть он думает, что ограничится какими-то крохами. Если он не увлечется, то даже этот шаг явится достаточно серьезным проступком, который вынудит его продолжать. В крайнем случае придется прибегнуть к шантажу.
Поттерли помахал уходящему гостю и посмотрел на небо. Начинал накрапывать дождь.
Да-да! Пусть шантаж, если другого способа не будет, но он добьется своего!
Фостер вел машину по угрюмой городской окраине, не замечая дождя.
Конечно, он дурак, но остановиться теперь он уже не в состоянии. Ему необходимо узнать, в чем же тут дело. Проклятое любопытство, ругал он себя. И все-таки он должен узнать!
Однако в своих розысках он ограничится дядей Ральфом. И Фостер дал себе страшную клятву, что больше ничего предпринимать не станет. Таким образом, против него нельзя будет найти явных улик. Дядя Ральф — сама осмотрительность.
В глубине души он немного стыдился дяди Ральфа. И не сказал про него Поттерли отчасти из осторожности, а отчасти и потому, что опасался увидеть поднятые брови и неизбежную ироническую улыбочку. Профессиональные писатели при науке считались людьми не слишком солидными, достойными лишь снисходительного презрения, хотя никто не отрицал пользы их занятия. Тот факт, что в среднем они зарабатывали больше настоящих ученых, разумеется, ничуть не улучшал положения.
И все-таки в определенных ситуациях иметь такого родственника весьма полезно. Ведь писатели не получали настоящего образования и не были обязаны специализироваться. В результате хороший писатель при науке был сведущ практически во всех вопросах… А дядя Ральф, подумал Фостер, безусловно, принадлежит к одним из лучших.
Ральф Ниммо не имел специализированного университетского диплома и гордился этим.
«Специализированный диплом, — объяснил он как-то Джонасу Фостеру, в дни, когда оба они были значительно моложе, — это первый шаг по пути к гибели. Человеку жалко не воспользоваться полученной привилегией, и вот он уже готовит магистерскую, а затем и докторскую диссертацию. И в конце концов ты оказываешься глубочайшим невеждой во всех областях знания, кроме крохотного кусочка выеденного яйца.
С другой стороны, если ты будешь оберегать свой ум и не загромождать его единообразными сведениями, пока не достигнешь зрелости, а вместо этого тренировать его в логическом мышлении и снабжать широкими представлениями, то ты получишь в свое распоряжение могучее орудие и сможешь стать писателем при науке».
Первое задание Ниммо выполнил в двадцатипятилетнем возрасте, всего лишь через три месяца после того, как получил право на самостоятельную работу. Ему была поручена пухлая рукопись, язык которой даже самый квалифицированный читатель мог бы постигнуть только после тщательнейшего изучения и вдохновенных догадок. Ниммо разъял ее на составные части и воссоздал заново (после пяти длительных и выматывающих душу бесед с авторами — биофизиками по специальности), придав ее языку емкость и точность, а также до блеска отполировав стиль.
«И что тут такого? — снисходительно спрашивал он племянника, который парировал его нападки на специализацию насмешками в адрес тех, кто предпочитает цепляться за бахрому науки. — Бахрома тоже важна. Твои ученые писать не умеют. И не обязаны уметь. Никто же не требует, чтобы они были шахматистами-гроссмейстерами или скрипачами-виртуозами, так с какой стати требовать, чтобы они владели, даром слова? Почему бы не предоставить эту область специалистам? Бог мой, Джонас! Почитай, что писали твои собратья сто лет назад. Не обращай внимания на то, что научная сторона устарела, а некоторые выражения больше не употребляются. Просто почитай и попробуй понять, о чем там говорится. И ты убедишься, что это безнадежно дилетантское зубодробительное крошево. Целые страницы печатались зря, и многие статьи поражают своей ненужностью или неудобопонятностью, а то и тем и другим».
«Но вы же не добьетесь признания, дядя Ральф, — спорил юный Фостер (на пороге своей университетской карьеры он был полон самых радужных надежд и иллюзий). — А ведь из вас мог бы выйти потрясающий ученый!»
«Ну, признания мне более чем достаточно, — ответил Ниммо, — можешь мне поверить. Конечно, какой-нибудь биохимик или стратометеоролог смотрят на меня сверху вниз, но зато прекрасно мне платят. Знаешь, что происходит, когда какой-нибудь ведущий химик узнает, что комиссия урезала его ежегодную дотацию на обработку материала? Да он будет драться за то, чтобы иметь средства платить мне или кому-нибудь вроде меня куда яростнее, чем добиваться нового ионографа».
Он ухмыльнулся, и Фостер улыбнулся ему в ответ. По правде говоря, он гордился своим круглолицым толстеющим дядюшкой с короткими толстыми пальцами и оголенной макушкой, которую тот, движимый тщеславием, тщетно старался скрыть под жиденькими прядями волос, зачесанных с висков. И то же тщеславие заставляло его одеваться так, что он вечно вызывал мысль о неплотно уложенном стоге, так как неряшество было его фирменной маркой. Да, Фостер, хоть и стыдился своего дяди, очень гордился им.
Но на этот раз, войдя в захламленную квартиру дядюшки, Фостер менее всего был склонен обмениваться улыбками. С того времени он постарел на девять лет, как, впрочем, и дядя Ральф. И в течение этих девяти лет дядя Ральф продолжал полировать статьи и книги, посвященные самым различным вопросам науки, и каждая из них оставила что-то в его обширной памяти.
Ниммо с наслаждением ел виноград без косточек, бросая в рот ягоду за ягодой. Он тут же кинул гроздь Фостеру, который в последнюю секунду успел-таки ее поймать, а затем наклонился и принялся подбирать с пола упавшие виноградинки.
— Пусть их валяются. Не хлопочи, — равнодушно заметил Ниммо. — Раз в неделю кто-то является сюда для уборки. Что случилось? Не получается заявка на дотацию?
— У меня до этого никак не доходят руки.
— Да? Поторопись, мой милый. Может быть, ты ждешь, чтобы за нее взялся я?
— Вы мне не по карману, дядя Ральф.
— Ну, брось! Это же дело семейное. Предоставь мне исключительное право на популярное издание, и мы обойдемся без денег.
Фостер кивнул.
— Идет! Если, конечно, вы не шутите.
— Договорились.
Разумеется, в этом был известный риск, но Фостер достаточно хорошо знал, как высока квалификация Ниммо, и понимал, что сделка может оказаться выгодной. Умело сыграв на интересе широкой публики к первобытному человеку, или к новой хирургической методике, или к любой отрасли космонавтики, можно было весьма выгодно продать статью любому массовому издательству или студии.
Например, именно Ниммо написал рассчитанную на сугубо научные круги серию статей Брайса и сотрудников, которая детально освещала вопрос об особенностях структуры двух вирусов рака, причем потребовал за эти статьи предельно мизерную плату — всего полторы тысячи долларов при условии, что ему будет предоставлено исключительное право на популярные издания. Затем он обработал ту же тему, придав ей более драматическую форму, для стереовидения, и получил единовременно двадцать тысяч долларов плюс проценты с каждой передачи, которые продолжали поступать еще и теперь, пять лет спустя.
Фостер без обиняков приступил к делу:
— Что вы знаете о нейтринике, дядя Ральф?
— О нейтринике? — Ниммо изумленно вытаращил маленькие глазки. — С каких пор ты занимаешься нейтриникой? Мне почему-то казалось, что ты выбрал псевдогравитационную оптику.
— Правильно. А про нейтринику я просто навожу справки.
— Опасное занятие! Ты переходишь демаркационную линию. Это тебе известно?
— Ну, не думаю, чтобы вы сообщили в комиссию, что я интересуюсь чем-то посторонним.
— Может быть, и следует сообщить, пока ты еще не натворил серьезных бед. Любопытство — профессиональная болезнь ученых, нередко приводящая к роковому исходу. Я-то видел, как она протекает. Какой-нибудь ученый работает себе тихонько над своей проблемой, но вот любопытство уводит его далеко в сторону, и, глядишь, собственная работа уже настолько запущена, что на следующий год его дотация не возобновляется. Я мог бы назвать столько…
— Меня интересует только одно, — перебил Фостер. — Много ли материалов по нейтринике проходило через ваши руки за последнее время?
Ниммо откинулся на спинку кресла, задумчиво посасывая виноградину.
— Никаких. И не только за последнее время, но и вообще. Насколько я помню, мне ни разу не приходилось обрабатывать материалы, связанные с нейтриникой.
— Как же так? — Фостер искренне изумился. — Кому в таком случае их поручают?
— Право, не знаю, — задумчиво ответил Ниммо. — На наших ежегодных конференциях, насколько помнится, об этом никогда не говорилось. По-моему, в области нейтриники фундаментальных работ не ведется.
— А почему?
— Ну-ну, не рычи на меня. Я же ни в чем не виноват. Я бы сказал…
— Следовательно, вы твердо не знаете? — нетерпеливо перебил его Фостер.
— Ну-у-у… Я могу сказать тебе, что именно я знаю о нейтринике. Нейтриника — это наука об использовании движения нейтрино и связанных с этим сил…
— Ну, разумеется. А электроника — наука о применении движения электронов и связанных с этим сил, а псевдогравитика — наука о применении полей искусственной гравитации. Я пришел к вам не для этого. Больше вам ничего не известно?
— А кроме того, — невозмутимо докончил дядюшка, — нейтриника лежит в основе обзора времени. Но больше мне действительно ничего не известно.
Фостер откинулся на спинку стула и принялся с ожесточением массировать худую щеку. Он испытывал злость и разочарование. Сам того не сознавая, он пришел сюда в надежде, что Ниммо сообщит ему самые последние данные, укажет на наиболее интересные аспекты современной нейтриники, и он получит возможность вернуться к Поттерли и доказать историку, что тот ошибся, что его факты — чистейшее недоразумение, а выводы из них неверны.
И тогда он мог бы спокойно вернуться к своей работе.
Но теперь…
Он сердито убеждал себя: «Хорошо, пусть в этой области не ведется больших исследований. Это же еще не означает сознательной обструкции. А что, если нейтриника — бесплодная наука? Может быть, так оно и есть. Я же не знаю. И Поттерли не знает. Зачем расходовать интеллектуальные ресурсы человечества на погоню за пустотой? А возможно, работа засекречена по какой-то вполне законной причине. Может быть…»
Беда заключалась в том, что он хотел знать правду, и теперь уже не может махнуть на все рукой. Не может — и конец!
— Существует ли какое-нибудь пособие по нейтринике, дядя Ральф? Что-нибудь простое и ясное? Какой-нибудь элементарный курс?
Ниммо задумался, тяжко вздыхая, так что его толстые щеки задергались.
— Ты задаешь сумасшедшие вопросы. Единственное пособие, о котором я слышал, было написано Стербинским и еще кем-то. Сам я его не видел, но один раз мне попалось упоминание о нем… Да, да, Стербинский и Ламарр. Теперь я вспомнил.
— Тот самый Стербинский, который изобрел хроноскоп?
— По-моему, да. Значит, книга должна быть хорошей.
— Существует ли какое-нибудь переиздание?.. Ведь Стербинский умер пятьдесят лет назад.
Ниммо только пожал плечами.
— Вы не могли бы узнать?
Несколько минут длилась тишина, и только кресло Ниммо ритмически поскрипывало — писатель беспокойно ерзал на сиденье. Затем он медленно произнес:
— Может быть, ты все-таки объяснишь мне, в чем дело?
— Не могу. Но вы мне поможете, дядя Ральф? Достанете экземпляр этой книги?
— Разумеется, все, что я знаю о псевдогравитике, я знаю от тебя и должен как-то доказать свою благодарность. Вот что: я помогу тебе, но с одним условием.
— С каким же?
Лицо писателя вдруг стало очень серьезным.
— С условием, что ты будешь осторожен, Джонас. Чем бы ты ни занимался, ясно одно — это не имеет никакого отношения к твоей работе. Не губи свою карьеру только потому, что тебя заинтересовала проблема, которая тебе не была поручена, которая тебя вообще не касается. Договорились?
Фостер кивнул, но он не слышал, что говорил ему дядя. Его мысль бешено работала.
Ровно через неделю кругленькая фигура Ральфа Ниммо осторожно проскользнула в двухкомнатную квартиру Джонаса Фостера в университетском городке.
— Я кое-что достал, — хриплым шепотом сказал писатель.
— Что? — Фостер сразу оживился.
— Экземпляр Стербинского и Ламарра. — И Ниммо извлек книгу из-под своего широкого пальто, вернее, показал ее уголок.
Фостер почти машинально оглянулся, проверяя, хорошо ли закрыта дверь и плотно ли занавешены окна, а затем протянул руку.
Футляр потрескался от старости, а когда Фостер извлек пленку, он увидел, что она выцвела и стала очень хрупкой.
— И это все? — довольно грубо спросил он.
— В таких случаях следует говорить спасибо, мой милый. — Ниммо, крякнув, опустился в кресло и извлек из кармана яблоко.
— Спасибо, спасибо. Только пленка такая старая…
— И тебе еще очень повезло, что ты можешь получить хотя бы такую. Я пробовал заказать микрокопию в Библиотеке конгресса. Ничего не получилось. Эта книга выдается только по особому разрешению.
— Как же вам удалось ее достать?
— Я ее украл. — Ниммо сочно захрустел яблоком. — Из нью-йоркской публички.
— Как?
— А очень просто. Как ты понимаешь, у меня есть доступ к полкам. Ну, я и улучил минуту, когда никто на меня не смотрел, перешагнул через барьер, отыскал ее и унес. Персонал там очень доверчив. Да и хватятся-то они пропажи разве что через несколько лет… Только ты уж лучше никому не показывай ее, племянничек.
Фостер смотрел на катушку с пленкой так, словно она могла сию минуту взорваться.
Ниммо бросил огрызок в пепельницу и вытащил второе яблоко.
— А знаешь, странно: ничего новее этого в нейтринике не появлялось. Ни единой монографии, ни единой статьи или хотя бы краткого отчета. Абсолютно ничего со времени изобретения хроноскопа.
— Угу, — рассеянно ответил Фостер.
Теперь Фостер по вечерам работал в подвале у Поттерли. Его собственная квартира в университетском городке была слишком опасна. И эта вечерняя работа настолько его захватила, что он совсем махнул рукой на свою заявку для получения дотации. Сначала это его тревожило, но вскоре он перестал даже тревожиться.
Первое время он просто вновь и вновь читал в аппарате пленку. Потом начал думать, и тогда случалось, что пленка, заложенная в карманный проектор, долгое время прокручивалась впустую.
Иногда к нему в подвал спускался Поттерли и долго сидел, внимательно глядя на него, словно ожидая, что мыслительные процессы овеществятся и он сможет зримо наблюдать весь их сложный ход. Он не мешал бы Фостеру, если бы только позволил ему курить и не говорил так много.
Правда, говоря сам, он не требовал ответа. Он, казалось, тихо произносил монолог и даже не ждал, что его будут слушать. Скорее всего, это было для него разрядкой.
Карфаген, вечно Карфаген!
Карфаген, Нью-Йорк древнего Средиземноморья. Карфаген, коммерческая империя и властелин морей. Карфаген, бывший всем тем, на что Сиракузы и Александрия только претендовали. Карфаген, оклеветанный своими врагами и не сказавший ни слова в свою защиту.
Рим нанес ему поражение и вытеснил его из Сицилии и Сардинии. Но Карфаген с лихвой возместил свои потери, покорив Испанию и взрастив Ганнибала, шестнадцать лет державшего Рим в страхе.
В конце концов Карфаген потерпел второе поражение, смирился с судьбой и кое-как наладил жизнь на жалких остатках былой территории — и так преуспел в этом, что завистливый Рим поспешил навязать ему третью войну. И тогда Карфаген, у которого не оставалось ничего, кроме упорства и рук его граждан, начал ковать оружие и два года отчаянно сопротивлялся Риму, пока наконец война не кончилась полным разрушением города, — и жители предпочитали бросаться в пламя, пожиравшее их дома, лишь бы не попасть в плен.
— Неужели люди стали бы так отчаянно защищать город и образ жизни, действительно настолько скверные, какими рисовали их античные писатели? Ни один римский полководец не мог сравниться с Ганнибалом, и его солдаты были абсолютно ему преданны. Даже самые ожесточенные враги хвалили Ганнибала. А ведь он был карфагенянином! Очень модно утверждать, будто он был нетипичным карфагенянином, неизмеримо превосходившим своих сограждан, бриллиантом, брошенным в мусорную кучу. Но почему же в таком случае он хранил столь нерушимую верность Карфагену до самой своей смерти после долголетнего изгнания? Ну, конечно, все эти россказни о Молохе…
Фостер не всегда прислушивался к бормотанию историка, но порой голос Поттерли все же проникал в его сознание, и страшный рассказ о принесении детей в жертву вызывал у него физическую тошноту.
Однако Поттерли продолжал с неколебимым убеждением:
— И все-таки это ложь. Утка, пущенная греками и римлянами свыше двух с половиной тысяч лет назад. У них у самих были рабы, казни на кресте, пытки и гладиаторские бои. Их никак не назовешь святыми. Эта басня про Молоха в более позднюю эпоху получила бы название военной пропаганды, беспардонной лжи. Я могу доказать, что это была ложь. Я могу доказать это, и богом клянусь, что докажу… Докажу… — И он увлеченно повторял и повторял это обещание.
Миссис Поттерли также спускалась в подвал, но гораздо реже, обычно по вторникам и четвергам, когда профессор читал лекции вечером и возвращался домой поздно.
Она тихонько сидела в углу, не произнося ни слова. Ее глаза ничего не выражали, лицо как-то все обвисало, и вид у нее был рассеянный и отсутствующий.
Когда она пришла в первый раз, Фостер неловко намекнул, что ей лучше было бы уйти.
— Я вам мешаю? — спросила она глухо.
— Нет, что вы, — раздраженно солгал Фостер. — Я только потому… потому… — И он не сумел закончить фразы.
Миссис Поттерли кивнула, словно принимая приглашение остаться. Затем она открыла рабочий мешочек, который принесла с собой, вынула моток витроновых полосок и принялась сплетать их с помощью пары изящно мелькающих тонких четырехгранных деполяризаторов, подсоединенных тонкими проволочками к батарейке, так что казалось, будто она держит в руке большого паука.
Как-то вечером она сказала негромко:
— Моя дочь Лорель — ваша ровесница.
Фостер вздрогнул — так неожиданно она заговорила. Он пробормотал:
— Я и не знал, что у вас есть дочь, миссис Поттерли.
— Она умерла много лет назад.
Ее умелые движения превращали витрон в рукав какой-то одежды — какой именно, Фостер еще не мог отгадать. Ему оставалось только глупо пробормотать:
— Я очень сожалею.
— Она мне часто снится, — со вздохом сказала миссис Поттерли и подняла на него рассеянные голубые глаза.
Фостер вздрогнул и отвел взгляд.
В следующий раз она спросила, осторожно отклеивая полоску витрона, прилипшую к ее платью:
— А что, собственно, это означает — обзор времени?
Ее слова нарушили чрезвычайно сложный ход мысли, и Фостер почти огрызнулся:
— Спросите у профессора Поттерли.
— Я пробовала. Да, да, пробовала. Но, по-моему, его раздражает моя непонятливость. И он почти все время называет это хроноскопией. Что, действительно можно видеть образы прошлого, как в стереовизоре? Или аппарат пробивает маленькие дырочки, как эта ваша счетная машинка?
Фостер с отвращением посмотрел на свою портативную счетную машинку. Работала она неплохо, но каждую операцию приходилось проводить вручную, и ответы выдавались в закодированном виде. Эх, если бы он мог воспользоваться университетскими машинами… Пустые мечты! И так уж, наверное, окружающие недоумевают, почему он теперь каждый вечер уносит свою машинку из кабинета домой. Он ответил:
— Я лично никогда не видел хроноскопа, но, кажется, он дает возможность видеть образы и слышать звуки.
— Можно услышать, как люди разговаривают?
— Кажется, да… — И, не выдержав, он продолжал в отчаянии: Послушайте, миссис Поттерли, вам же здесь, должно быть, невероятно скучно! Я понимаю, вам неприятно бросать гостя в одиночестве, но, право же, миссис Поттерли, не считайте себя обязанной…
— Я и не считаю себя обязанной, — сказала она. — Я сижу здесь и жду.
— Ждете? Чего?
— Я подслушала, о чем вы говорили в тот первый вечер, — невозмутимо ответила она, — когда вы в первый раз разговаривали с Арнольдом. Я подслушивала у дверей.
— Да? — сказал он.
— Я знаю, что так поступать не следовало бы, но меня очень тревожил Арнольд. Я подозревала, что он намерен заняться чем-то, чем он не имеет права заниматься. И я хотела все узнать. А потом, когда я услышала… Она умолкла и, наклонив голову, стала внимательно рассматривать нитроновое плетение.
— Услышали что, миссис Поттерли?
— Что вы не хотите строить хроноскоп.
— Конечно, не хочу.
— Я подумала, что вы, может быть, передумаете.
Фостер бросил на нее свирепый взгляд.
— Так, значит, вы приходите сюда, надеясь, что я построю хроноскоп, рассчитывая, что я его построю?
— Да, да, доктор Фостер. Я так хочу, чтобы вы его построили!
С ее лица словно упало мохнатое покрывало — оно вдруг приобрело мягкую четкость очертаний, щеки порозовели, глаза оживились, а голос почти зазвенел от волнения.
— Как это было бы чудесно! — шепнула она. — Вновь ожили бы люди из прошлого — фараоны, короли и… и просто люди. Я очень надеюсь, что вы построите хроноскоп, доктор Фостер. Очень…
Миссис Поттерли умолкла, словно не выдержав напряжения собственных слов, и даже не заметила, что витроновые полоски соскользнули с ее колен на пол. Она вскочила и бросилась вверх по лестнице, а Фостер следил за неуклюже движущейся фигурой в полной растерянности.
Теперь Фостер почти не спал по ночам, напряженно и мучительно думая. Это напоминало какое-то несварение мысли.
Его заявка на дотацию в конце концов отправилась к Ральфу Ниммо. Он больше на нее не рассчитывал и только подумал тупо: «Одобрения я не получу».
В таком случае не миновать скандала на кафедре и, возможно, в конце академического года его не утвердят в занимаемой должности.
Но Фостера это почти не трогало. Сейчас для него существовал нейтрино, нейтрино, только нейтрино! След частицы прихотливо извивался и уводил его все дальше по неведомым путям, неизвестным даже Стербинскому и Ламарру. Он позвонил Ниммо.
— Дядя Ральф, мне кое-что нужно. Я звоню не из городка.
Лицо Ниммо на экране, как всегда, излучало добродушие, но голос был отрывист.
— Я знаю, что тебе нужно: пройти курс по ясному формулированию собственных мыслей. Я совсем измотался, пытаясь привести твою заявку в божеский вид. Если ты звонишь из-за нее…
— Нет, не из-за нее, — нетерпеливо замотал головой Фостер. — Мне нужно вот что… — Он быстро нацарапал на листке бумаги несколько слов и поднес листок к приемнику.
Ниммо испустил короткий вопль.
— Ты что, думаешь, мои возможности ничем не ограничены?
— Это вы можете достать, дядя, можете!
Ниммо еще раз прочел список, беззвучно шевеля пухлыми губами и все больше хмурясь.
— И что получится, когда ты соберешь все это воедино? — спросил он.
Фостер только покачал головой.
— Что бы из этого ни получилось, исключительное право на популярное издание будет принадлежать вам, как всегда. Только, пожалуйста, пока больше меня ни о чем не расспрашивайте.
— Видишь ли, я не умею творить чудеса.
— Ну, а на этот раз сотворите! Обязательно! Вы же писатель, а не ученый. Вам не приходится ни перед кем отчитываться. У вас есть связи, друзья. Наверно, они согласятся на минутку отвернуться, чтобы ваш следующий публикационный срок мог сослужить им службу?
— Твоя вера, племянничек, меня умиляет. Я попытаюсь.
Попытка Ниммо увенчалась полным успехом. Как-то вечером, заняв у приятеля машину, он привез материалы и оборудование. Вместе с Фостером они втащили их в дом, громко пыхтя, как люди, не привыкшие к физическому труду.
Когда Ниммо ушел, в подвал спустился Поттерли и вполголоса спросил:
— Для чего все это?
Фостер откинул прядь со лба и принялся осторожно растирать ушибленную руку.
— Мне нужно провести несколько простых экспериментов, — ответил он.
— Правда? — Глаза историка вспыхнули от волнения.
Фостер почувствовал, что его безбожно эксплуатируют. Словно кто-то ухватил его за нос и повел по опасной тропинке, а он, хоть и ясно видел зиявшую впереди пропасть, продвигался охотно и решительно. И хуже всего было то, что его нос сжимали его же собственные пальцы!
И все это заварил Поттерли. А сейчас Поттерли стоит в дверях и торжествует. Но принудил себя идти по этой дорожке он сам.
Фостер сказал злобно:
— С этих пор, Поттерли, я хотел бы, чтобы сюда никто не входил. Я не могу работать, когда вы и ваша жена то и дело врываетесь сюда и мешаете мне.
Он подумал: «Пусть-ка обидится и выгонит меня отсюда. Пусть сам все и кончает».
Однако в глубине души он отлично понимал, что с его изгнанием не кончится ровно ничего.
Но до этого не дошло. Поттерли, казалось, вовсе не обиделся. Кроткое выражение его лица не изменилось.
— Ну, конечно, доктор Фостер, конечно, вам никто не будет мешать.
Фостер угрюмо посмотрел ему вслед. Значит, он и дальше пойдет по тропе, самым гнусным образом радуясь этому и ненавидя себя за свою радость.
Теперь он ночевал у Поттерли на раскладушке все в том же подвале и проводил там все свое свободное время.
Примерно в это время ему сообщили, что его заявка (отшлифованная Ниммо) получила одобрение. Об этом ему сказал сам заведующий кафедрой и поздравил его.
Фостер посмотрел на него невидящими глазами и промямлил:
— Прекрасно… Я очень рад.
Но эти слова прозвучали так неубедительно, что профессор нахмурился и молча повернулся к нему спиной.
А Фостер тут же забыл об этом эпизоде. Это был пустяк, не заслуживавший внимания. Ему надо было думать о другом, о самом важном: в этот вечер предстояло решающее испытание.
Вечер, и еще вечер, и еще — и вот, измученный, вне себя от волнения, он позвал Поттерли. Поттерли спустился по лестнице и взглянул на самодельные приборы. Он сказал обычным мягким тоном:
— Расход электричества очень повысился. Меня смущает не денежная сторона вопроса, а то, что городские власти могут заинтересоваться причиной. Нельзя ли что-нибудь сделать?
Вечер был жаркий, но на Поттерли была рубашка с крахмальным воротничком и пиджак. Фостер, работавший в одной рубашке, поднял на него покрасневшие глаза и хрипло сказал:
— Об этом можно больше не беспокоиться, профессор Поттерли. Но я позвал вас сюда, чтобы сказать вам кое-что. Хроноскоп построить можно. Небольшой, правда, но можно.
Поттерли ухватился за перила. Его ноги подкосились, и он с трудом прошептал:
— Его можно построить здесь?
— Да, здесь, в вашем подвале, — устало ответил Фостер.
— Боже мой, но вы же говорили…
— Я знаю, что я говорил! — раздраженно крикнул Фостер. — Я сказал, что это сделать невозможно. Но тогда я ничего не знал. Даже Стербинский ничего не знал.
Поттерли покачал головой.
— Вы уверены? Вы не ошибаетесь, доктор Фостер? Я не вынесу, если…
— Я не ошибаюсь, — ответил Фостер. — Черт побери, сэр! Если бы можно было обойтись одной теорией, то обозреватель времени был бы построен более ста лет назад, когда только открыли нейтрино. Беда заключалась в том, что первые его исследователи видели в нем только таинственную частицу без массы и заряда, которую невозможно обнаружить. Она служила только для бухгалтерии — для того чтобы спасти уравнение энергия — масса.
Он подумал, что Поттерли, пожалуй, его не понимает, но ему было все равно. Он должен высказаться, должен как-то привести в порядок свои непослушные мысли… А кроме того, ему нужно было подготовиться к тому, что он скажет Поттерли после. И Фостер продолжал:
— Стербинский первым открыл, что нейтрино прорывается сквозь барьер, разделяющий пространство и время, что эта частица движется не только в пространстве, но и во времени, и Стербинский первым разработал методику остановки нейтрино. Он изобрел аппарат, записывающий движение нейтрино, и научился интерпретировать след, оставляемый потоком нейтрино. Естественно, что этот поток отклонялся и менял направление под влиянием всех тех материальных тел, через которые он проходил в своем движении во времени. И эти отклонения можно было проанализировать и превратить в образы того, что послужило причиной отклонения. Так стал возможен обзор времени. Этот способ дает возможность улавливать даже вибрацию воздуха и превращать ее в звук.
Но Поттерли его не слушал.
— Да, да, — сказал он. — Но когда вы сможете построить хроноскоп?
— Погодите! — потребовал Фостер. — Все зависит от того, как улавливать и анализировать поток нейтрино. Метод Стербинского был крайне сложным и окольным. Он требовал чудовищного количества энергии. Но я изучал псевдогравитацию, профессор Поттерли, науку об искусственных гравитационных полях. Я специализировался на изучении поведения света в подобных полях. Это новая наука. Стербинский о ней ничего не знал. Иначе он — как и любой другой человек — легко нашел бы гораздо более надежный и эффективный метод улавливания нейтрино с помощью псевдогравитационного поля. Если бы я прежде хоть немного сталкивался с нейтриникой, я сразу это понял бы.
Поттерли заметно приободрился.
— Я так и знал, — сказал он. — Хотя правительство и прекратило дальнейшие работы в области нейтриники, оно не могло воспрепятствовать тому, чтобы в других областях науки совершались открытия, как-то связанные с нейтриникой. Вот оно — централизованное руководство наукой! Я сообразил это давным-давно, доктор Фостер, задолго до того, как вы появились в университете.
— С чем вас и поздравляю, — огрызнулся Фостер. — Но надо учитывать одно…
— Ах, все это неважно! Ответьте же мне, будьте так добры, когда вы можете изготовить хроноскоп?
— Я же и стараюсь вам объяснить, профессор Поттерли: хроноскоп вам совершенно не нужен.
(«Ну, вот это и сказано», — подумал Фостер.)
Поттерли медленно спустился со ступенек и остановился в двух шагах от Фостера.
— То есть как? Почему он мне не нужен?
— Вы не увидите Карфагена. Я обязан вас предупредить. Именно потому я и позвал вас. Карфагена вы никогда не увидите.
Поттерли покачал головой.
— О нет, вы ошибаетесь. Когда у нас будет хроноскоп, его надо будет настроить как следует…
— Нет, профессор, дело не в настройке. На поток нейтрино, как и на все элементарные частицы, влияет фактор случайности, то, что мы называем принципом неопределенности. При записи и интерпретации потока фактор случайности проявляется как затуманивание, или шум, по выражению радиоспециалистов. Чем дальше в прошлое вы проникаете, тем сильнее затуманивание, тем выше уровень помех. Через некоторое время помехи забивают изображение. Вам понятно?
— Надо увеличить мощность, — сказал Поттерли безжизненным голосом.
— Это не поможет. Когда помехи смазывают детали, увеличение этих деталей увеличивает и помехи. Ведь, как ни увеличивай засвеченную пленку, ничего увидеть не удастся. Не так ли? Постарайтесь это понять. Физическая природа Вселенной ставит на пути исследователей непреодолимые барьеры. Хаотическое тепловое движение молекул воздуха определяет порог звуковой чувствительности любого прибора. Длина световой или электронной волны определяет минимальные размеры предмета, который мы можем увидеть посредством приборов. То же наблюдается и в хроноскопии. Обозревать время можно только до определенного предела.
— До какого же? До какого?
Фостер перевел дух и ответил:
— Максимально — сто двадцать пять лет.
— Но ведь в ежемесячном бюллетене Института хроноскопии указываются события, относящиеся почти исключительно к древней истории! — Профессор хрипло засмеялся. — Значит, вы ошибаетесь. Правительство располагает сведениями, восходящими к трехтысячному году до нашей эры.
— С каких это пор вы стали верить сообщениям правительства? презрительно спросил Фостер. — Не вы ли доказывали, что правительство лжет и еще ни один историк не пользовался хроноскопом? Так неужели вы теперь не понимаете, в чем здесь причина? Хроноскоп мог бы пригодиться только ученому, занимающемуся новейшей историей. Ни один хроноскоп ни при каких условиях не в состоянии заглянуть дальше 1920 года.
— Вы ошибаетесь. Вы не можете знать всего, — упрямо твердил Поттерли.
— Однако истина не станет приспосабливаться к вашим желаниям! Взгляните правде в глаза: правительство стремится только к одному — продолжить обман.
— Но зачем?
— Этого я не знаю.
Курносый нос Поттерли дернулся, глаза налились кровью. Он сказал умоляюще:
— Это же только теория, доктор Фостер. Попробуйте построить хроноскоп. Постройте и испытайте его.
Неожиданно Фостер злобно схватил Поттерли за плечи.
— А вы думаете, что я его не построил? Вы думаете, что я сказал бы вам подобную вещь, не проверив своего вывода всеми возможными способами? Я построил хроноскоп! Он вокруг вас. Глядите!
Фостер бросился к выключателям и по очереди включил их. Он сдвинул ручку реостата, нажал какие-то кнопки и погасил свет.
— Погодите, дайте ему прогреться.
В центре одной из стен засветилось небольшое пятно. Поттерли, захлебываясь, что-то бормотал, но Фостер не слушал его и только повторил:
— Глядите!
Пятно стало более четким и распалось на черно-белый узор. Люди! Как в тумане. Лица смазаны. Вместо рук и ног — дрожащие полоски. Промелькнул старинный наземный автомобиль, очень нечеткий, — и все же, несомненно, одна из тех машин, в которых применялись двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине.
— Примерно середина двадцатого века, — сказал Фостер. — Сконструировать звукоприемник я пока еще не могу. Со временем можно будет получить и звук. Но, как бы то ни было, середина двадцатого века — это практически предел. Поверьте мне, лучшей фокусировки добиться невозможно.
— Постройте большой аппарат, более мощный, — сказал Поттерли. Усовершенствуйте его питание.
— Да послушайте же! Принцип неопределенности обойти невозможно, так же как невозможно поселиться на Солнце. Всему есть свой физический предел.
— Вы лжете, я вам не верю! Я…
Его перебил новый голос, пронзительный и настойчивый:
— Арнольд! Доктор Фостер!
Физик сразу обернулся. Поттерли замер и через несколько секунд сказал, не повернув головы:
— В чем дело, Кэролайн? Пожалуйста, не мешай нам.
— Нет! — Миссис Поттерли торопливо спускалась по лестнице. — Я все слышала. Вы так кричали. У вас правда есть обозреватель времени, доктор Фостер, здесь, в нашем подвале?
— Да, миссис Поттерли. Примерно. Хотя аппарат и не очень хорош. Я еще не могу получить звука, а изображение чертовски смазанное. Но аппарат все-таки работает.
Миссис Поттерли прижала к груди стиснутые руки.
— Замечательно! Как замечательно!
— Ничего замечательного, — рявкнул Поттерли. — Этот молокосос не может заглянуть дальше чем…
— Послушайте… — начал Фостер, выйдя из себя.
— Погодите! — воскликнула миссис Поттерли. — Послушайте меня. Арнольд, разве ты не понимаешь, что аппарат работает на двадцать лет назад и, значит, мы можем вновь увидеть Лорель? К чему нам Карфаген и всякая древность? Мы же можем увидеть Лорель! Она оживет для нас! Оставьте аппарат здесь, доктор Фостер. Покажите нам, как с ним обращаться.
Фостер переводил взгляд с миссис Поттерли на ее мужа. Лицо профессора побелело, и его голос, по-прежнему тихий и ровный, утратил обычную невозмутимость.
— Идиотка!
Кэролайн растерянно ахнула.
— Арнольд, как ты можешь!
— Я сказал, что ты идиотка. Что ты увидишь? Прошлое. Мертвое прошлое. Лорель будет повторять только то, что она делала прежде. Ты не увидишь ничего, кроме того, что ты уже видела. Значит, ты хочешь вновь и вновь переживать одни и те же три года, следя за младенцем, который никогда не вырастет, сколько бы ты ни смотрела?
Казалось, его голос вот-вот сорвется. Профессор подошел к жене, схватил ее за плечо и грубо дернул.
— Ты понимаешь, чем это может тебе грозить, если ты попробуешь сделать это? Тебя заберут, потому что ты сойдешь с ума. Да, сойдешь с ума. Неужели ты хочешь попасть в приют для душевнобольных? Чтобы тебя заперли, подвергли психической проверке?
Миссис Поттерли вырвалась из его рук. От прежней кроткой рассеянности не осталось и следа. Она мгновенно превратилась в разъяренную фурию.
— Я хочу увидеть мою девочку, Арнольд! Она спрятана в этой машине, и она мне нужна!
— Ее нет в машине. Только образ. Пойми же наконец! Образ! Иллюзия, а не реальность.
— Мне нужна моя дочь! Слышишь? — Она набросилась на мужа с кулаками, и ее голос перешел в визг. — Мне нужна моя дочь!
Историк, вскрикнув, отступил перед обезумевшей женщиной. Фостер кинулся между ними, но тут миссис Поттерли, бурно зарыдав, упала на пол.
Поттерли обернулся, озираясь, как затравленный зверь. Внезапно резким движением он вырвал из подставки какой-то стержень и отскочил, прежде чем Фостер, оглушенный всем происходящим, успел его остановить.
— Назад, — прохрипел Поттерли, — или я вас убью! Слышите?
Он размахнулся, и Фостер отступил.
Поттерли с яростью набросился на аппаратуру. Раздался звон бьющегося стекла, и Фостер замер на месте, тупо наблюдая за историком.
Наконец ярость Поттерли угасла, и он остановился среди хаоса обломков и осколков, сжимая в руке согнувшийся стержень.
— Убирайтесь, — сказал он Фостеру сдавленным шепотом, — и не смейте возвращаться. Если вы потратили на это свои деньги, пришлите мне счет, и я заплачу. Я заплачу вдвойне.
Фостер пожал плечами, взял свою куртку и направился к лестнице. До него доносились громкие рыдания миссис Поттерли. На площадке он оглянулся и увидел, что доктор Поттерли склонился над женой и на его лице написано мучительное страдание.
Два дня спустя, когда занятия кончились и Фостер устало осматривал свой кабинет, проверяя, не забыл ли он еще каких-нибудь материалов, относящихся к его одобренной теме, на пороге открытой двери вновь появился профессор Поттерли.
Историк был одет с обычной тщательностью. Он поднял руку — этот жест был слишком неопределенным для приветствия и слишком кратким для просьбы. Фостер смотрел на своего нежданного гостя ледяным взглядом.
— Я подождал пяти часов, чтобы вы… — сказал Поттерли. — Разрешите войти?
Фостер кивнул.
Поттерли продолжал:
— Мне, конечно, следует извиниться за мое поведение. Меня постигло страшное разочарование, я не владел собой, но тем не менее оно было непростительным.
— Я принимаю ваши извинения, — отозвался Фостер. — Это все?
— Если не ошибаюсь, вам звонила моя жена?
— Да.
— У нее непрерывная истерика. Она сказала мне, что звонила вам, но я не знал, можно ли поверить…
— Да, она мне звонила.
— Не могли бы вы сказать мне… Будьте так добры, скажите, что ей было нужно.
— Ей был нужен хроноскоп. Она сказала, что у нее есть собственные деньги и она готова заплатить.
— А вы… что-нибудь обещали?
— Я сказал, что я не приборостроитель.
— Прекрасно. — Поттерли с облегчением вздохнул. — Будьте добры, не отвечайте на ее звонки. Она не… не вполне…
— Послушайте, профессор Поттерли, — сказал Фостер, — я не намерен вмешиваться в супружеские споры, но вы должны твердо усвоить: хроноскоп может построить любой человек. Стоит только приобрести несколько простых деталей, которые продаются в магазинах оборудования, и его можно построить в любой домашней мастерской. Во всяком случае, ту его часть, которая связана с телевидением.
— Но ведь об этом же никто не знает, кроме вас. Ведь никто же еще до этого не додумался!
— Я не собираюсь держать это в секрете.
— Но вы не можете опубликовать свое открытие. Вы сделали его нелегально.
— Это больше не имеет значения, профессор Поттерли. Если я потеряю мою дотацию, значит, я ее потеряю. Если университет будет недоволен, я уйду. Все это просто не имеет значения.
— Нет, нет, вы не должны!
— До сих пор, — заметил Фостер, — вас не слишком заботило, что я рискую лишиться дотации и места. Так почему же вы вдруг принимаете это так близко к сердцу? А теперь разрешите, я вам кое-что объясню. Когда вы пришли ко мне впервые, я верил в строго централизованную научную работу, другими словами, в существующее положение вещей. Вас, профессор Поттерли, я считал интеллектуальным анархистом, и притом весьма опасным. Однако случилось так, что я сам за последние месяцы превратился в анархиста и при этом сумел добиться великолепных результатов. Добился я их не потому, что я блестящий ученый. Вовсе нет. Просто научной работой руководили сверху, и остались пробелы, которые может восполнить кто угодно, лишь бы он догадался взглянуть в правильном направлении. И это случилось бы уже давно, если бы государство активно этому не препятствовало. Поймите меня правильно: я по-прежнему убежден, что организованная научная работа полезна. Я вовсе не сторонник возвращения к полной анархии. Но должен существовать какой-то средний путь, научные исследования должны сохранять определенную гибкость. Ученым следует разрешить удовлетворять свою любознательность, хотя бы в свободное время.
Поттерли сел и сказал вкрадчиво:
— Давайте обсудим это, Фостер. Я понимаю ваш идеализм. Вы молоды, вам хочется получить луну с неба. Но вы не должны губить себя из-за каких-то фантастических представлений о том, как следует вести научную работу. Я втянул вас в это. Вся ответственность лежит на мне. Я горько упрекаю себя за собственную неосторожность. Я слишком поддался своим эмоциям. Интерес к Карфагену настолько меня ослепил, что я поступил, как последний идиот.
— Вы хотите сказать, что полностью отказались от своих убеждений за последние два дня? — перебил его Фостер. — Карфаген — это пустяк? Как и то, что правительство препятствует научной работе?
— Даже последний идиот, вроде меня, может кое-что уразуметь, Фостер. Жена кое-чему меня научила. Теперь я знаю, почему правительство практически запретило нейтринику. Два дня назад я этого не понимал, а теперь понимаю и одобряю. Вы же сами видели, как подействовало на мою жену известие, что у нас в подвале стоит хроноскоп. Я мечтал о хроноскопе как о приборе для научных исследований. Для нее же он стал бы только средством истерического наслаждения, возможностью вновь пережить собственное, давно исчезнувшее прошлое. А настоящих исследователей, Фостер, слишком мало. Мы затеряемся среди таких людей, как моя жена. Если бы государство разрешило хроноскопию, оно тем самым сделало бы явным прошлое всех нас до единого. Лица, занимающие ответственные должности, стали бы жертвой шантажа и незаконного нажима — ведь кто на Земле может похвастаться абсолютно незапятнанным прошлым? Таким образом, вся государственная система рассыпалась бы в прах.
Фостер облизнул губы и ответил:
— Возможно, что и так. Возможно, что в глазах правительства его действия оправданны. Но, как бы то ни было, здесь задет важнейший принцип. Кто знает, какие еще достижения науки остались неосуществленными только потому, что ученых силой загоняют на узенькие тропки? Если хроноскоп станет кошмаром для кучки политиканов, то эту цену им придется заплатить. Люди должны понять, что науку нельзя обрекать на рабство, и трудно придумать более эффективный способ открыть им глаза, чем сделать мое изобретение достоянием гласности, легальным или нелегальным путем — все равно.
На лбу Поттерли блестели капельки пота, но голос его был по-прежнему ровен.
— О нет, речь идет не просто о кучке политиканов, доктор Фостер. Не думайте этого. Хроноскоп станет и моим кошмаром. Моя жена с этих пор будет жить только нашей умершей дочерью. Она совершенно утратит ощущение действительности и сойдет с ума, вновь и вновь переживая одни и те же сцены. И таким кошмаром хроноскоп станет не только для меня. Разве мало людей, подобных ей? Люди будут искать своих умерших родителей или собственную юность. Весь мир станет жить в прошлом. Это будет повальное безумие.
— Соображения нравственного порядка ничего не решают, — ответил Фостер. — Человечество умудрялось искажать практически каждое научное достижение, какие только знала история. Человечеству пора научиться предохранять себя от этого. Что же касается хроноскопа, то любителям возвращаться к мертвому прошлому вскоре надоест это занятие. Они застигнут своих возлюбленных родителей за какими-нибудь неблаговидными делишками, и это поубавит их энтузиазм. Впрочем, все это мелочи. Меня же интересует важнейший принцип.
— К черту ваш принцип! — воскликнул Поттерли. — Попробуйте подумать не только о принципах, но и о людях. Как вы не понимаете, что моя жена захочет увидеть пожар, который убил нашу девочку! Это неизбежно, я ее знаю. Она будет впивать каждую подробность, пытаясь помешать ему. Она будет вновь и вновь переживать этот пожар, каждый раз надеясь, что он не вспыхнет. Сколько раз вы хотите убить Лорель? — голос историка внезапно осип.
И Фостер вдруг понял.
— Чего вы на самом деле боитесь, профессор Поттерли? Что может узнать ваша жена? Что произошло в ночь пожара?
Историк закрыл лицо руками, и его плечи задергались от беззвучных рыданий. Фостер смущенно отвернулся и уставился в окно.
Через несколько минут Поттерли произнес:
— Я давно отучил себя вспоминать об этом. Кэролайн отправилась за покупками, а я остался с Лорель. Вечером я заглянул в детскую проверить, не сползло ли — с девочки одеяло. У меня в руках была сигарета. В те дин я курил. Я, несомненно, погасил ее, прежде чем бросить в пепельницу на комоде, — я всегда следил за этим. Девочка спокойно спала. Я вернулся в гостиную и задремал перед телевизором. Я проснулся, задыхаясь от дыма, среди пламени. Как начался пожар, я не знаю.
— Но вы подозреваете, что причиной его была сигарета, не так ли? спросил Фостер. — Сигарета, которую на этот раз вы забыли погасить?
— Не знаю. Я пытался спасти девочку, но она умерла, прежде чем я успел вынести ее из дому.
— И, наверное, вы никогда не рассказывали своей жене об этой сигарете?
Поттерли покачал головой.
— Но все это время я помнил о ней.
— А теперь с помощью хроноскопа ваша жена узнает все. Но вдруг дело было не в сигарете? Может быть, вы ее все-таки погасили? Разве это невозможно?
Редкие слезы уже высохли на лице Поттерли. Покрасневшие глаза стали почти нормальными.
— Яне имею права рисковать, — сказал он. — Но ведь дело не только во мне, Фостер. Для большинства людей прошлое таит в себе ужасы. Спасите же от них человечество.
Фостер молча расхаживал по комнате. Теперь он понял, чем объяснялось страстное, иррациональное желание Поттерли во что бы то ни стало возвеличить карфагенян, обожествить их, а главное, опровергнуть рассказ об огненных жертвоприношениях Молоху. Снимая с них жуткое обвинение в детоубийстве посредством огня, он тем самым символически очищал себя от той же вины.
И вот пожар, благодаря которому историк стал причиной создания хроноскопа, теперь обрекал его же на гибель. Фостер грустно поглядел на старика.
— Я понимаю вас, профессор Поттерли, но это важнее личных чувств. Я обязан сорвать удавку с горла науки.
— Другими словами, вам нужны слава и деньги, которые обещает такое открытие! — в бешенстве крикнул Поттерли.
— Оно может и не принести никакого богатства. Однако и это соображение, вероятно, играет не последнюю роль. Я ведь всего только человек.
— Значит, вы отказываетесь утаить свое открытие?
— Наотрез.
— Ну, в таком случае… — Историк вскочил и свирепо уставился на Фостера, и тот на мгновение испугался.
Поттерли был старше его, меньше ростом, слабее и, по-видимому, безоружен, но все же…
Фостер сказал:
— Если вы намерены убить меня или совершить еще какую-нибудь глупость в том же роде, то учтите, что все мои материалы находятся в сейфе и в случае моего исчезновения или смерти попадут в надлежащие руки.
— Не говорите ерунды, — сказал Поттерли и выбежал из комнаты.
Фостер поспешно закрыл за ним дверь, сел и задумался. Глупейшая ситуация. Конечно, никаких материалов в сейфе у него не было. При обычных обстоятельствах подобная мелодраматичная ерунда никогда не пришла бы ему в голову. Но обстоятельства были необычными.
И, чувствуя себя еще более глупо, он целый час записывал формулы применения псевдогравитационной оптики к хроноскопии и набрасывал общую схему приборов. Кончив, он запечатал все в конверт, на котором написал адрес Ральфа Ниммо.
Всю ночь он проворочался с боку на бок, а утром, по дороге в университет, занес конверт в банк и отдал соответствующее распоряжение контролеру, который предложил ему подписать разрешение на вскрытие сейфа в случае его смерти.
После этого Фостер позвонил дяде и сообщил ему про конверт, сердито отказавшись объяснить, что именно в нем содержится.
Никогда в жизни он еще не чувствовал себя в таком глупом положении.
Следующие две ночи Фостер почти не спал, пытаясь найти решение весьма практической задачи — каким способом опубликовать материал, полученный благодаря вопиющему нарушению этики.
Журнал «Сообщения псевдогравитационного общества», который был знаком ему лучше других, разумеется, отвергнет любую статью, лишенную магического примечания: «Исследование, изложенное в этой статье, оказалось возможным благодаря дотации N… Комиссии по делам науки при ООН». И, несомненно, так же поступит «Физический журнал».
Конечно, всегда имеется возможность обратиться к второстепенным журналам, которые в погоне за сенсацией не стали бы слишком придираться к источнику статьи, но для этого требовалось совершить небольшую финансовую операцию, крайне для него неприятную. В конце концов он решил оплатить издание небольшой брошюры, предназначенной для распространения среди ученых. В этом случае можно будет даже пожертвовать тонкостями стиля ради быстроты и обойтись без услуг писателя. Придется поискать надежного типографа. Впрочем, дядя Ральф, наверное, сможет ему кого-нибудь порекомендовать.
Он направлялся к своему кабинету, тревожно раздумывая, стоит ли медлить, и собираясь с духом, чтобы позвонить Ральфу по служебному телефону и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Он был так поглощен этими мрачными размышлениями, что, только сняв пальто и подойдя к своему письменному столу, заметил наконец, что в кабинете он не один.
На него смотрели профессор Поттерли и какой-то незнакомец.
Фостер смерил их удивленным взглядом.
— В чем дело?
— Мне очень жаль, — сказал Поттерли, — но я вынужден был найти способ остановить вас.
Фостер продолжал недоуменно смотреть на него.
— О чем вы говорите?
Неизвестный человек сказал:
— По-видимому, я должен представиться. — И улыбнулся, показав крупные, слегка неровные зубы. — Мое имя Тэддиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии. Я пришел побеседовать с вами относительно сведений, которые мне сообщил профессор Арнольд Поттерли и которые подтверждены нашими собственными источниками…
— Я взял всю вину на себя, доктор Фостер, — поспешно сказал Поттерли. Я рассказал, что именно я толкнул вас против вашей воли на неэтичный поступок. Я готов принять на себя всю полноту ответственности и понести наказание. Мне бы не хотелось ничем вам повредить, но появления хроноскопии допускать нельзя.
Эремен кивнул.
— Он действительно взял всю вину на себя, доктор Фостер. Но дальнейшее от него не зависит.
— Ах, вот как! — сказал Фостер. — Так что ж вы собираетесь предпринять? Внести меня в черный список и лишить права на получение дотации?
— Я могу это сделать, — ответил Эремен.
— Приказать университету уволить меня?
— И это я тоже могу.
— Ну ладно, валяйте! Считайте, что это уже сделано. Я уйду из кабинета теперь же, вместе с вами, а за книгами пришлю позднее. Если вы требуете, я вообще могу оставить книги здесь. Теперь все?
— Не совсем, — ответил Эремен. — Вы должны дать обязательство прекратить дальнейшие работы в области хроноскопии, не публиковать сведений о ваших открытиях в этом направлении и, разумеется, не собирать хроноскопов. Вы навсегда останетесь под наблюдением, которое помешает вам нарушить это обещание.
— Ну, а если я откажусь дать такое обещание? Как вы меня заставите? Занимаясь не тем, чем я должен заниматься, я, возможно, нарушаю этику, но это же не преступление.
— Когда речь идет о хроноскопе, мой юный друг, — терпеливо объяснил Эремен, — это именно преступление. Если понадобится, вас посадят в тюрьму, и навсегда.
— Но почему? — вскричал Фостер. — Чем хроноскопия так замечательна?
— Как бы то ни было, — продолжал Эремен, — мы не можем допустить дальнейших исследований в этой области. Моя работа в основном сводится именно к тому, чтобы препятствовать им. И я намерен выполнить мой служебный долг. К несчастью, ни я, ни сотрудники моего отдела не подозревали, что оптические свойства псевдогравитационных полей имеют столь прямое отношение к хроноскопии. Одно очко в пользу всеобщего невежества, но с этих пор научная работа будет регулироваться соответствующим образом и в этом направлении.
— Ничего не выйдет, — ответил Фостер. — Найдется еще какой-нибудь смежный принцип, не известный ни вам, ни мне. Все области в науке тесно связаны между собой. Это единое целое. Если вам нужно остановить какой-то один ее процесс, вы вынуждены будете остановить их все.
— Несомненно, это справедливо, — сказал Эремен, — но только теоретически. На практике же нам прекрасно удавалось в течение пятидесяти лет удерживать хроноскопию на уровне первых открытий Стербинского. И, вовремя остановив вас, доктор Фостер, мы надеемся и впредь справляться с этой проблемой не менее успешно. Должен вам заметить, что на грани катастрофы мы сейчас оказались только потому, что я имел неосторожность судить о профессоре Поттерли по его внешности.
Он повернулся к историку и поднял брови, словно посмеиваясь над собой.
— Боюсь, сэр, во время нашей первой беседы я счел вас всего лишь обыкновенным профессором истории. Будь я более добросовестным и проверь вас повнимательнее, этого не случилось бы.
— Но кому-то разрешается пользоваться государственным хроноскопом? отрывисто спросил Фостер.
— Вне нашего отдела — никому и ни под каким предлогом. Я говорю об этом только потому, что вы, как я вижу, уже сами об этом догадались. Но должен предостеречь вас, что оглашение этого факта будет уже не нарушением этики, а уголовным преступлением.
— И ваш хроноскоп проникает не дальше ста двадцати пяти лет, не так ли?
— Вот именно.
— Значит, ваш бюллетень и сообщения о хроноскопировании античности сплошное надувательство?
Эремен невозмутимо ответил:
— Собранные вами данные доказывают это с достаточной неопровержимостью. Тем не менее я готов подтвердить ваши слова. Этот ежемесячник надувательство.
— В таком случае, — заявил Фостер, — я не намерен давать обещания скрывать то, что мне известно о хроноскопии. Если вы решили меня арестовать, — что ж, это ваше право. Моей защитительной речи на суде будет достаточно, чтобы раз и навсегда сокрушить вредоносный карточный домик руководства наукой. Руководить наукой — это одно, а тормозить ее и лишать человечество ее достижений — это совсем другое.
— Боюсь, вы не вполне понимаете положение, доктор Фостер, — сказал Эремен. — В случае отказа сотрудничать с нами вы отправитесь в тюрьму немедленно. И к вам не будет допущен адвокат. Вам не будет предъявлено обвинение. Вас не будут судить. Вы просто останетесь в тюрьме.
— Ну, нет, — ответил Фостер. — Вы стараетесь меня запугать. Сейчас ведь не двадцатый век.
За дверью кабинета раздался шум, послышался топот и визгливый вопль, который показался Фостеру знакомым. Заскрежетал замок, дверь распахнулась, и в комнату влетел клубок из трех тел.
В тот же момент один из боровшихся поднял свой бластер и изо всех сил ударил противника по голове. Послышался глухой стон, и тот, кого ударили, весь обмяк.
— Дядя Ральф! — крикнул Фостер.
— Посадите его в это кресло, — нахмурившись, приказал Эремен, — и принесите воды.
Ральф Ниммо, осторожно потирая затылок, заметил с легкой брезгливостью:
— Право же, Эремен, прибегать к физическому насилию не было никакой надобности.
— Жаль, что охрана прибегла к физическому насилию слишком поздно и вы все-таки ворвались сюда, Ниммо, — ответил Эремен. — Ну, тем хуже для вас.
— Вы знакомы? — спросил Фостер.
— Я уже имел дело с этим человеком, — вздохнул Ниммо, продолжая потирать затылок. — Уж если он явился к тебе собственной персоной, племянничек, значит, беды тебе не миновать.
— И вам тоже, — сердито сказал Эремен. — Мне известно, что доктор Фостер консультировался у вас относительно литературы по нейтринике.
Ниммо было нахмурился, но тут же вздрогнул от боли и поспешил разгладить морщины на лбу.
— Вот как? — сказал он. — А что еще вам про меня известно?
— В ближайшее время мы узнаем о вас все. А пока достаточно и этого. Зачем вы сюда явились?
— Дражайший доктор Эремен, — сказал Ниммо, к которому отчасти вернулась его обычная легкомысленная манера держаться. — Позавчера мой осел племянник позвонил мне. Он поместил какие-то таинственные документы…
— Молчите, не говорите ему ничего! — воскликнул Фостер.
Эремен холодно взглянул на молодого физика.
— Нам все известно, доктор Фостер. Ваш сейф вскрыт, и его содержимое конфисковано.
— Но откуда вы узнали… — Фостер умолк, задохнувшись от ярости и разочарования.
— Как бы то ни было, — продолжал Ниммо, — я решил, что кольцо вокруг него уже замыкается и, приняв кое-какие меры, явился сюда, намереваясь убедить его бросить заниматься тем, чем он занимается. Ради этого ему не стоило губить свою карьеру.
— Из этого следует, что вы знали, чем он занимается? — спросил Эремен.
— Он мне ничего не рассказывал, — ответил Ниммо, — но я же писатель при науке с чертовски большим опытом! Я ведь знаю, почем фунт электронов. Мой племянничек специализируется по псевдогравитационной оптике и сам же втолковал мне ее основные принципы. Он уговорил меня достать ему учебник по нейтринике, и, прежде чем отдать ему пленку, я сам быстренько ее просмотрел. А помножить два на два я умею. Он попросил меня достать ему определенное физическое оборудование, что также о многом говорило. Думаю, я не ошибусь, сказав, что мой племянник построил полупортативный хроноскоп малой мощности. Да или… Да?
— Да. — Эремен задумчиво достал сигарету, не обратив ни малейшего внимания на то, что профессор Поттерли, который наблюдал за происходящим как во сне, со стоном отшатнулся от белой трубочки. — Еще одна моя ошибка. Мне следует подать в отставку. Я должен был бы присматривать и за вами, Ниммо, а не заниматься исключительно Поттерли и Фостером. Правда, у меня было мало времени. Вы сами благополучно сюда явились. Но это не может служить мне оправданием. Вы арестованы, Ниммо.
— За что? — возмущенно спросил писатель.
— За нелегальные научные исследования.
— Я их не вел. И к тому же я не принадлежу к категории зарегистрированных ученых, и значит, подобное определение ко мне не подходит. Да и в любом случае — это не уголовное преступление.
— Бесполезно, дядя Ральф, — свирепо перебил его Фостер. — Этот бюрократ вводит собственные законы.
— Например? — спросил Ниммо.
— Например, пожизненное заключение без суда.
— Чушь! — воскликнул Ниммо. — Сейчас же не двадца…
— Я уже это говорил, — пояснил Фостер. — Ему все равно.
— И все-таки это чушь, — Ниммо уже кричал. — Слушайте, Эремен! К вашему сведению, у меня и моего племянника есть родственники, которые поддерживают с нами связь. Да и у профессора, наверное, тоже. Вам не удастся убрать нас без шума. Начнется расследование, и разразится скандал. Сейчас не двадцатый век, что бы вы ни говорили. Так что не пробуйте нас запугать.
Сигарета в пальцах Эремена лопнула, и он с яростью отшвырнул ее в сторону.
— Черт возьми! Не знаю, что и делать, — сказал он. — Впервые встречаюсь с подобным случаем… Ну, вот что: вы, трое идиотов, не имеете ни малейшего представления, что именно вы затеяли. Вы ничего не понимаете. Будете вы меня слушать?
— Отчего же, — мрачно сказал Ниммо.
(Фостер молчал, крепко сжав губы. Глаза его сердито сверкали. Руки Поттерли извивались, как две змеи.)
— Для вас прошлое — мертвое прошлое, — сказал Эремен. — Если вы обсуждали этот вопрос, так уж, наверное, пустили в ход это выражение. Мертвое прошлое! Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти два слова, то вам бы они тоже стали поперек глотки. Когда люди думают о прошлом, они считают его мертвым, давно прошедшим, исчезнувшим навсегда. И мы стараемся укрепить их в этом мнении. Сообщая об обзоре времени, мы каждый раз называли давно прошедшее столетие, хотя вам, господа, известно, что заглянуть в прошлое больше чем на сто лет вообще невозможно. И всем это кажется естественным. Прошлое для широкой публики означает Грецию, Рим, Карфаген, Египет, каменный век. Чем мертвее, тем лучше. Но вы-то знаете, что пределом является столетие. Так что же в таком случае для вас прошлое? Ваша юность. Ваша первая любовь. Ваша покойная мать. Двадцать лет назад. Тридцать лет назад. Пятьдесят лет назад. Чем мертвее, тем лучше… Но когда же все-таки начинается прошлое?
Он задохнулся от гнева. Его слушатели не сводили с него завороженных глаз, а Ниммо беспокойно заерзал в кресле.
— Ну, так когда же оно начинается? — сказал Эремен. — Год назад, пять минут назад? Секунду назад? Разве не очевидно, что прошлое начинается сразу за настоящим? Мертвое прошлое — это лишь другое название живого настоящего. Если вы наведете хроноскоп на одну сотую секунды тому назад? Ведь вы же будете наблюдать прошлое! Ну, как, проясняется?
— Черт побери! — сказал Ниммо.
— Черт побери! — передразнил Эремен. — После того как Поттерли пришел ко мне позавчера вечером, каким образом, по-вашему, я собрал сведения о вас обоих? Да с помощью хроноскопа! Просмотрев все важнейшие моменты по самую последнюю секунду.
— И таким образом вы узнали про сейф? — спросил Фостер.
— И про все остальное. А теперь скажите, что, по-вашему, произойдет, если мы допустим, чтобы про домашний хроноскоп узнала широкая публика? Разумеется, сперва люди начнут с обзора своей юности, захотят увидеть вновь своих родителей и прочее, но вскоре они сообразят, какие потенциальные возможности таятся в этом аппарате. Домашняя хозяйка забудет про свою бедную покойную мамочку и примется следить, что делает ее соседка дома, а ее супруг у себя в конторе. Делец будет шпионить за своим конкурентом, хозяин — за своими служащими. Личная жизнь станет невозможной. Подслушивание по телефону, наблюдение через замочную скважину покажутся детскими игрушками по сравнению с этим. Публика будет любоваться каждой минутой жизни кинозвезд, и никому не удастся укрыться от любопытных глаз. Даже темнота не явится спасением, потому что хроноскоп можно настроить на инфракрасные лучи и человеческие тела будут видны благодаря излучаемому ими теплу. Разумеется, это будут только смутные силуэты на черном фоне. Но пикантность от этого только возрастет… Техники, обслуживающие хроноскоп, проделывают подобные эксперименты, несмотря на все запрещения.
Ниммо сказал, словно борясь с тошнотой:
— Но ведь можно же запретить частное пользование…
— Конечно, можно. Но что толку? — яростно набросился на него Эремен. Удастся ли вам с помощью законов уничтожить пьянство, курение, разврат или сплетни? А такая смесь грязного любопытства и щекотания нервов окажется куда более сильной приманкой, чем все это. Да ведь за тысячу лет нам не удалось покончить даже с употреблением наркотиков! А вы говорите о том, чтобы в законодательном порядке запретить аппарат, который позволит наблюдать за кем угодно и когда угодно, аппарат, который можно построить у себя дома!
— Я ничего не опубликую! — внезапно воскликнул Фостер.
Поттерли сказал с рыданием в голосе:
— Мы все будем молчать. Я глубоко сожалею…
Но тут его перебил Ниммо:
— Вы сказали, что не проверили меня хроноскопом, Эремен?
— У меня не было времени, — устало ответил Эремен. — События в хроноскопе занимают столько же времени, сколько в реальной жизни. Этот процесс нельзя ускорить, как, например, прокручивание пленки в микрофильме. Нам понадобились целые сутки, чтобы установить наиболее важные моменты в деятельности Поттерли и Фостера за последние шесть месяцев. Ни на что другое у нас не хватило времени. Но и этого было достаточно.
— Нет, — сказал Ниммо.
— Что вы хотите этим сказать? — лицо Эремена исказилось от мучительной тревоги.
— Я же объяснил вам, что мой племянник Джонас позвонил мне и сообщил, что спрятал в сейф важнейшие материалы. Он вел себя так, словно ему грозила опасность. Он же мой племянник, черт побери! Я должен был как-то ему помочь. На это потребовалось время. А потом я пришел сюда, чтобы рассказать ему о том, что сделал. Я же сказал вам, когда ваш охранник хлопнул меня по голове, что принял кое-какие меры.
— Что?! Ради бога…
— Я всего только послал подробное сообщение о портативном хроноскопе в десяток периодических изданий, которые меня печатают.
Ни слова. Ни звука. Ни вздоха. У них уже не осталось сил.
— Да не глядите на меня так! — воскликнул Ниммо. — Неужели вы не можете понять, как обстояло дело! Право популярного издания принадлежало мне. Джонас не будет этого отрицать. Я знал, что легальным путем он не сможет опубликовать свои материалы ни в одном научном журнале. Мне было ясно, что он собирается издать свои материалы нелегально и для этого поместил их в сейф. Я решил сразу опубликовать детали, чтобы вся ответственность пала на меня. Его карьера была бы спасена. А если бы меня лишили права обрабатывать научные материалы, я все равно был бы обеспечен до конца своих дней, так как только я мог бы писать о хроноскопии. Я знал, что Джонас рассердится, но собирался все ему объяснить, а доходы поделить пополам… Да не глядите же на меня так! Откуда я знал…
— Никто ничего не знал, — с горечью сказал Эремен, — однако вы все считали само собой разумеющимся, что правительство состоит из глупых бюрократов, злобных тиранов, запрещающих научные изыскания ради собственного удовольствия. Вам и в голову не пришло, что мы по мере наших сил старались оградить человечество от катастрофы.
— Да не тратьте же время на пустые разговоры! — вскричал Поттерли. Пусть он назовет тех, кому сообщил…
— Слишком поздно, — ответил Ниммо, пожимая плечами. — В их распоряжении было больше суток. За это время новость успела распространиться. Мои издатели, несомненно, обратились к различным физикам, чтобы проверить материалы, прежде чем подписать их в печать, ну, а те, конечно, сообщили об этом открытии всем остальным. А стоит физику соединить нейтринику и псевдогравитику, как создание домашнего хроноскопа станет очевидным. До конца недели по меньшей мере пятьсот человек будут знать, как собрать портативный хроноскоп, и проверить их всех невозможно. — Пухлые щеки Ниммо вдруг обвисли. — По-моему, не существует способа загнать грибовидное облако в симпатичный блестящий шар из урана.
Эремен встал.
— Конечно, мы попробуем, Поттерли, но я согласен с Ниммо. Слишком поздно. Я не знаю, в каком мире мы будем жить с этих пор, но наш прежний мир уничтожен безвозвратно. До сих пор каждый обычай, каждая привычка, каждая крохотная деталь жизни всегда опиралась на тот факт, что человек может остаться наедине с собой, но теперь это кончилось.
Он поклонился им с изысканной любезностью.
— Вы втроем создали новый мир. Поздравляю вас. Счастливо плескаться в аквариуме! И вам, и мне, и всем. И пусть каждый из вас во веки веков горит в адском огне! Арест отменяется.
Жизненное пространство
Кларенс Римбро не имел ничего против проживания в единственном доме, имевшемся на необитаемой планете, — не больше, чем любой другой из триллиона жителей Земли.
Если бы его спросили насчет возможных возражений с его стороны, он, вне всяких сомнений, не понял бы спрашивающего и только тупо смотрел бы на него. Его дом был намного больше любого из тех домов, которые только возможны на собственно Земле, и намного современнее. При доме имелась система автономного снабжения воздухом и водой; в морозильных камерах не переводилась еда. Силовым полем здание было надежно изолировано от безжизненной планеты, приютившей его, однако комнаты располагались по соседству с фермой (застекленной, разумеется) площадью в пять акров. На ферме под благотворными лучами здешнего солнца выращивались цветы — для удовольствия и овощи — для здоровья. Здесь даже содержалось несколько цыплят. Хозяйство давало возможность миссис Римбро как-то занять себя в течение дня, а для двух маленьких Римбро оно было идеальным местом для игр, когда им надоедало сидеть дома.
Более того, если кому-то захотелось бы вдруг очутиться на собственно Земле, очень бы захотелось; если у кого-то возникла бы потребность в обществе людей или в воздухе, чтобы свободно подышать, или в воде, чтобы искупаться, — ему достаточно было лишь шагнуть за порог дома.
Так о каких трудностях могла еще идти речь?
Следует также не забывать, что на этой безжизненной планете, где располагался дом Римбро, царила мертвая тишина, лишь время от времени нарушаемая монотонными звуками ветра с дождем. Здесь возникало чувство полной уединенности и полного, безраздельного обладания двумястами миллионами квадратных миль поверхности планеты.
Кларенс Римбро умел сдержанно, но по достоинству оценить все это. Он был бухгалтером, умеющим искусно обращаться с самыми современными моделями компьютеров и ясно осознающим свою собственную значимость. Манеры его были всегда безупречны, а одежда аккуратна; улыбка редко мелькала под его жидкими, но тщательно ухоженными усами. Когда он ехал с работы домой, то на его пути иногда попадались жилые дома на собственно Земле, и он неизменно разглядывал их с чувством некоторого самодовольства.
Что ж, определенная часть населения была попросту вынуждена жить на собственно Земле — кто-то из деловых соображений, а кто-то по причине отклонений в умственном развитии. Тем хуже для них. В конце концов, почва собственно Земли вынужденно снабжала минералами и основными запасами пищи целый триллион жителей (а через пятьдесят лет их будет два триллиона), и жизненное пространство ценилось здесь выше номинала. Поэтому дома на собственно Земле и не могли строиться более внушительных размеров, а людям, которые вынужденно проживали в них, приходилось мириться с этим фактом.
Даже сам процесс того, как Римбро входил в свой дом, доставлял ему удовольствие. Каждый раз, когда он входил в здание общественного преобразователя, абонентом которого являлся (по внешнему виду сооружение напоминало усеянный пнями обелиск — впрочем, как и все подобные сооружения), то там он неизменно встречал других людей, ожидающих своей очереди воспользоваться преобразователем. И пока подходила его очередь, прибывали все новые и новые люди. Это было время дружеских общений.
«Как там на твоей планете?» — «А на твоей?» Обычная легкая беседа. Иногда с кем-либо случалась неприятность: поломка механизма или взбесившаяся погода, что вело к неблагоприятному изменению рельефа. Правда, не так часто.
Но это помогало скрашивать время ожидания. Затем подходила очередь Римбро. Он вставлял в паз свой ключ. Перфорировалась нужная комбинация. И преобразователь выталкивал его в новую вероятностную модель мира. В ту, что была предназначена ему, когда он женился и стал продуктивным гражданином. В ту вероятностную модель, в которой жизнь на Земле не получила развития. И, пройдя через преобразователь на эту единственную в своем роде безжизненную Землю, он входил прямо в вестибюль собственного дома.
Таким вот образом.
Его никогда не волновало то, что он живет в другой вероятности. Да и зачем ему волноваться? Он никогда не задумывался над этим. Существовало бесконечное число потенциальных планет Земля. Каждая занимала свою нишу и представляла из себя свою вероятностную модель. По подсчетам выходило, что вероятность зарождения жизни на таких планетах, как Земля, составляла пятьдесят случаев из ста. Отсюда следовало, что половина из возможных Земель (а значит, бесконечное их количество, поскольку половина бесконечности равна бесконечности) обладает жизнью и половина (такое же бесконечное количество) не обладает. А проживание на почти трехстах миллиардах неосвоенных Земель означало триста миллиардов семей, каждая из которых владела собственным красивым домом, использующим энергию солнца той вероятности, в которой они жили; означало покой, в котором пребывала каждая семья. К числу Земель, обживаемых таким образом, каждый день прибавлялись миллионы новых.
Однажды, когда Римбро вернулся с работы и только-только переступил порог дома, Сандра (его жена) сказала ему:
— Я слышала какой-то очень странный шум.
Брови Римбро удивленно взметнулись, и он пристально посмотрел на жену. Она выглядела вполне обычно, если не считать легкой дрожи тонких пальцев и бледности, разлившейся в уголках плотно сжатого рта.
— Шум? Какой шум? — спросил Римбро, продолжая держать свое пальто в руках, позабыв, что хотел отдать его сервороботу, который застыл в терпеливом ожидании. — Я ничего не слышу.
— Сейчас он уже прекратился, — сказала Сандра. — Я действительно слышала. Звуки были какие-то бухающие, громыхающие. Немного вот так пошумит, потом прекращается. Потом снова немного пошумит, и так все время. Ничего подобного я никогда не слышала.
Римбро отдал пальто.
— Но это совершенно невозможно.
— Однако я слышала этот шум.
— Пойду осмотрю механизмы, — пробормотал он. — Возможно, что-то вышло из строя.
На его, бухгалтера, взгляд, все было в норме, и, пожав плечами, он отправился ужинать. Он прислушался к гудению деловито суетившихся сервороботов, занятых своей работой по хозяйству, понаблюдал за одним из них, убирающим со стола посуду и столовые приборы для отправки их в утилизатор и регенератор, и, поджав губы, проговорил:
— Скорее всего разладился один из сервороботов. Надо будет проверить их.
— Нет, Кларенс, шум был совсем иного характера.
Римбро отправился спать, выбросив из головы всякие мысли о шуме.
Он проснулся оттого, что рука жены вдруг стиснула его плечо. Он автоматически потянулся к выключателю — и стены налились ровным светом.
— Что случилось? Сколько сейчас времени?
Она покачала головой:
— Слушай! Слушай!
О боже, подумал Римбро, действительно что-то шумит. Можно сказать, даже грохочет, причем довольно отчетливо. Начавшись, грохот не прекращался.
— Землетрясение? — прошептал он.
На Земле, конечно же, не без этого, но, имея возможность выбирать из целой планеты любое место для жилья, они были вправе рассчитывать на более удачный выбор, чтобы избежать поселения на местности с какими-либо дефектами.
— Весь день напролет? — с раздражением спросила Сандра. — Думается мне, что это нечто иное. — А затем она облекла в слова скрытый страх всех боязливых домовладельцев: — Мне кажется, что мы не одни на этой планете. Эта Земля обитаема.
Римбро поступил разумно. С наступлением утра он отвел жену и детей к теще. А сам взял на работе отгул и поспешил в Жилищное бюро отдела.
Он был крайне раздосадован всем этим.
Билл Чинг был веселым, жизнерадостным человеком маленького роста, который гордился тем, что в его жилах текла толика крови монгольских предков. Он считал, что вероятностные модели разрешили все насущные проблемы человечества. Алек Мишнофф, тоже из Жилищного бюро, думал иначе: он не сомневался, что вероятностные модели служат ловушкой, в которую безнадежно попалось введенное в соблазн человечество. Поначалу он специализировался в археологии и изучил множество древних предметов, которыми все еще была забита его изящно посаженная голова. Несмотря на властные брови, его лицу удавалось сохранить нежное выражение. В его душе вынашивалась мысль, о которой он до сих пор не осмеливался рассказать никому, хотя увлеченность ею увела его когда-то из археологии в область жилищных вопросов.
Чинг любил повторять: «К черту Мальтуса[14]», и это его выражение стало своего рода словесным клеймом, его отличительным знаком.
— К черту Мальтуса! Мы теперь никогда не дойдем до состояния перенаселенности. С какой бы скоростью мы ни множились, число Homo Sapiens всегда будет конечно, в то время как количество необитаемых Земель останется бесконечным. И нам вовсе не обязательно на каждой планете размещать по одному дому. Мы можем разместить там сотню, тысячу, миллион домов. Места вдоволь, как вдоволь и энергии вероятностного солнца.
— Больше одного дома на планету? — с кислым видом вопрошал Мишнофф.
Чинг знал, о чем тот говорит. Когда вероятностные модели стали только-только входить в употребление, то для ранних поселенцев мощным стимулом являлось единоличное владение планетой. Ведь это как нельзя лучше отвечало запросам мещанина и деспота, которые живут в душе каждого. «Кто из людей настолько беден, — гласил рекламный призыв, — чтобы не стать обладателем империи, по размерам превосходящей империю Чингисхана?» Внедрить сейчас принцип множественности поселений означало бы бросить всем вызов.
— Ну хорошо, — говорил Чинг, пожимая плечами. — Может статься и так, что потребуется психологическая подготовка. И что? Именно с этого вообще и надо было все начинать.
— А пища? — спрашивал Мишнофф.
— Тебе известно, что в некоторых вероятностных моделях мы возводим гидропонные сооружения и разводим дрожжевые клетки. И если придется, мы сумели бы культивировать почву этих планет.
— Облачаясь в скафандры и дыша ввозимым кислородом.
— Кислород мы могли бы получать путем разложения двуокиси углерода — пока растения не пойдут в рост, а там уж они сами сделают всю работу.
— За миллион лет.
— Мишнофф, твой недостаток в том, что ты прочитал слишком много книг по древней истории, — замечал Чинг. — Ты — обструкционист.
Впрочем, Чинг был слишком добродушен, чтобы действительно думать такое про Мишноффа, и тот продолжал читать книги и проявлять беспокойство. Мишнофф страстно мечтал о том дне, когда он смог бы набраться храбрости, чтобы пойти к руководителю отдела и выложить как на духу все, что тревожит его, — вот так: бац, и готово!
Ну а сейчас перед ними находился некий мистер Кларенс Римбро, слегка потеющий и имеющий крайне сердитый вид оттого, что ему пришлось потратить чуть ли не два дня, чтобы добраться в такую даль до этого бюро.
Он достиг кульминационного пункта в своем изложении, сообщив: «А я говорю, что планета обитаема, и я не собираюсь мириться с этим».
Выслушав его рассказ до конца, Чинг сделал попытку как-то успокоить его.
— Возможно, подобный шум связан с каким-либо природным явлением, — сказал он.
— Что еще за природное явление? — ринулся в атаку Римбро. — Я требую расследования. Если это природное явление, то я хочу знать, какого оно рода. Я настаиваю, что моя планета обитаема. Богом клянусь, на ней существует жизнь, а я выплачиваю арендную плату не для того, чтобы делиться с кем-то моей планетой. Даже с динозаврами, если судить по звукам.
— Успокойтесь, мистер Римбро. Как долго вы проживаете на вашей Земле?
— Пятнадцать с половиной лет.
— Встречались ли вам за это время хоть какие-то признаки жизни?
— Они сейчас встречаются, и я как гражданин с высокой степенью продуктивности, классифицированной по категории А-I, настоятельно требую расследования.
— Конечно же, мы все расследуем, сэр. А сейчас мы хотим просто уверить вас, что все в порядке. Вы знаете, как тщательно мы подбираем свои вероятностные модели?
— Я — бухгалтер. Так что имею довольно неплохое представление об этом, — выпалил Римбро.
— В таком случае для вас, вероятно, не секрет, что наш компьютер не может подвести. Выбор никогда не остановится на той вероятности, которая избиралась прежде. Это просто невозможно. По этой причине выбор падает только на те вероятностные модели, в которых Земля обладает атмосферой из двуокиси углерода и где растительная жизнь, а следовательно, и животная никогда не получали развития. Потому что с появлением растительности двуокись углерода стала бы разлагаться, а при его разложении активно выделяется кислород. Вы понимаете?
— Я прекрасно все понимаю, однако я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лекции, — отрезал Мишнофф. — От вас мне нужно только расследование, и больше ничего. Мне оскорбительна сама мысль, что я могу разделять свой мир, свой собственный мир, еще с кем-то или чем-то, и я не потерплю этого.
— Нет, конечно же, нет, — пробормотал Чинг, избегая сардонического взгляда Мишноффа. — Мы будем у вас еще засветло…
Нагруженные всем необходимым оборудованием, они держали путь к зданию, где располагался преобразователь.
— Хочу тебя спросить кое о чем, — произнес Мишнофф. — К чему ты соблюдаешь эти формальности типа: «Не стоит беспокоиться, сэр»? Они все равно всегда беспокоятся. Чего ты этим добиваешься?
— Мне нужно было попробовать. Они не должны беспокоиться, — нетерпеливо ответил Чинг. — Разве ты когда-либо слышал о двууглекислоуглеродной планете, которая была бы обитаемой? Кроме того, Римбро относится к тому типу людей, которые распространяют слухи. Таких я сразу распознаю. К тому времени как он справится со своими нынешними волнениями, он, если потворствовать ему, заявит, что его солнце выродилось в новую звезду.
— Иногда случается и такое, — заметил Мишнофф.
— И что с того? С лица Земли исчезает один дом, и одна семья погибает. Видишь, ты действительно обструкционист. В древние времена — те, которые тебе нравятся, — случись в
Китае или каком-либо другом месте наводнение, погибли бы тысячи людей. И это при населении в жалкий миллиард или два.
— Откуда тебе известно, что на планете Римбро нет жизни? — проворчал Мишнофф.
— Двууглекислоуглеродная атмосфера.
— Но предположим… — Бесполезно. Мишнофф так и не осмелился высказать свою мысль и, запинаясь, закончил: — Предположим, что растительная и животная жизнь каким-то образом все-таки получают свое развитие в двууглекислоуглеродной атмосфере.
— Такого пока нигде не наблюдалось.
— В бесконечности миров… всякое может случиться. — Он закончил шепотом: — Должно случиться.
— Раз на дуодециллион[15], — обронил Чинг, пожимая плечами.
Прибыв наконец в преобразовательный пункт и воспользовавшись грузовым преобразователем, они отослали свою машину (прямо на стоянку Римбро). А вслед за машиной и сами вошли в вероятностную модель Римбро. Сначала Чинг, затем Мишнофф.
— Красивый дом, — с удовлетворением заметил Чинг. — Очень красивый образец. Хороший вкус.
— Слышишь что-нибудь? — спросил Мишнофф.
— Нет.
Чинг неторопливо прошел в сад.
— Эй! — крикнул он. — Краснокожие Род-Айленда.
Поглядывая на стеклянную крышу, Мишнофф последовал за ним. Солнце выглядело точно так же, как и на триллионе других Земель.
— Здесь была бы вполне вероятна растительная жизнь на стадии зарождения, — рассеянно произнес он. — Возможно, сейчас происходит постепенное выпаривание двууглекислого углерода. Компьютер вряд ли узнает об этом.
— А чтобы зародилась животная жизнь, понадобится, по-видимому, миллион лет, и еще миллион лет, чтобы она вышла из океана.
— Не обязательно. Эта модель может развиваться своим путем.
Чинг положил руку на плечо компаньона.
— Все это пустые измышления. Когда-нибудь ты мне расскажешь, что тебя беспокоит на самом деле, вместо того чтобы просто намекать. Тогда мы сможем помочь тебе разобраться в собственных мыслях.
Досадливо хмурясь, Мишнофф увернулся от обнимавшей его руки. Терпимость Чинга всегда действовала ему на нервы.
— Давай обойдемся без психотерапии… — начал было он, но внезапно замолчал. — Слушай! — прошептал он затем.
До них донесся отдаленный рокочущий звук. Звук повторился.
Они установили в центре помещения сейсмограф и активировали силовое поле, которое проникало глубоко вниз и было накрепко связано со скальным основанием. Оба наблюдали за дрожащей стрелкой, регистрирующей толчки.
— Одни поверхностные волны, — проговорил Мишнофф. — Очень неглубокие. Источник колебаний явно не подземный.
Чинг заметно приуныл.
— Тогда что же это может быть?
— Думаю, — сказал Мишнофф, — что хорошо бы нам выяснить это. — От дурных предчувствий его лицо посерело. — Нам придется взять еще один сейсмограф и разместить его в другом месте. Тогда мы сможем определить очаг возмущения.
— Разумеется, — отозвался Чинг. — Я выйду наружу с другим сейсмографом, а ты оставайся здесь.
— Нет, — решительно произнес Мишнофф. — Наружу пойду я.
Мишноффом владел страх, но у него не было выбора. Если шум связан с тем самым, то он психологически готов к этому. Он бы сумел передать предупреждение. Появление снаружи ни о чем не подозревающего Чинга имело бы гибельные последствия. Предупредить Чин-га он тоже не мог, потому что тот, несомненно, никогда не поверит ему.
Поскольку Мишнофф был человеком вовсе не героического склада, его охватила дрожь. Он дрожал, когда забирался в кислородный скафандр и неловко возился с дезинтегратором, пытаясь локально разрушить силовое поле, чтобы освободить себе запасной выход.
— Почему ты так хочешь выйти? У тебя есть какая-либо веская причина? — спросил Чинг, наблюдая за неловкими действиями напарника. — А то я бы с удовольствием.
— Все в порядке. Я выхожу, — произнес Мишнофф, выталкивая слова из пересохшего горла, и шагнул в тамбур, из которого лежал путь на пустынную поверхность безжизненной Земли. Предположительно безжизненной Земли.
Пейзаж, представший перед глазами Мишноффа, был ему не в диковину. Такое он видел уже сотню раз. Голые скалы в лощинах, выветрившиеся под воздействием ветра и дождя, покрытые коркой и припудренные песком. Маленький звонкий ручеек, бьющийся о каменистое дно своего русла. Пейзаж выдержан в коричневых и серых тонах, зеленого нет и в помине. И ни единого звука, издаваемого живым существом.
Тем не менее солнце было тем же, и теми же, вероятно, были созвездия, когда наступала ночь.
Место поселения располагалось в том районе, который на собственно Земле назывался бы Лабрадором. (И здесь тоже был Лабрадор, самый настоящий. По подсчетам, значительные изменения в геологическом развитии Земель наблюдались крайне редко — один случай из квадрильона или около того. Континенты вплоть до мельчайших деталей были повсюду вполне узнаваемы.)
Несмотря на местоположение и время года — октябрь, погода была жаркой и влажной. Чувствовалось, что на мертвой атмосфере этой Земли сказывался тепличный эффект двууглекислого углерода.
Мишнофф подавленно смотрел на все это сквозь прозрачное стекло шлема. Если эпицентр шума находился бы где-то поблизости, то для его определения было бы достаточно установить второй сейсмограф примерно в миле отсюда. Если же нет, то придется воспользоваться воздушным скутером. Итак, для начала разберемся с менее сложным вариантом.
Тщательно выверяя каждое движение, он стал подниматься по каменистому склону горы. На вершине он бы сумел выбрать нужное место.
Мишнофф поднялся на вершину, пыхтя и страдая от мучительной липкой жары, и обнаружил, что ему не придется что-либо выбирать.
Его сердце колотилось так громко, что когда он крикнул в радиомикрофон, то едва расслышал свой голос:
— Эй, Чинг, здесь вовсю идет какое-то строительство!
— Что? — ударил по барабанным перепонкам вернувшийся изумленный возглас, полный смятения.
Ошибки не было. Разравнивалась земля. Работали механизмы. Взрывались скалы.
— Ведутся взрывные работы! — вскричал Мишнофф. — Отсюда и шум.
— Но это невозможно! — закричал в ответ Чинг. — Компьютер никогда бы не выбрал дважды одну и ту же вероятностную модель. Он бы не смог.
— Ты не понимаешь… — начал Мишнофф.
Но Чинг следовал фарватером лишь собственных мыслей:
— Давай закругляйся там, Мишнофф. Я иду к тебе.
— Нет, черт возьми! Оставайся там! — встревоженно закричал Мишнофф. — Держи со мной связь по радио и, бога ради, будь готов срочно вернуться на собственно Землю, как только я скажу.
— Почему? — спросил Чинг. — Что происходит?
— Пока не знаю, — признался Мишнофф. — Предоставь мне возможность выяснить это.
К своему удивлению, он заметил, что зубы его стучат.
Шепотом посылая проклятия по адресу компьютера, вероятностных моделей и ненасытной потребности триллиона человеческих существ в жизненном пространстве, размножающихся словно на дрожжах, Мишнофф поскользнулся и покатился вниз по противоположному склону. Перестук сорвавшихся следом камешков создавал своеобразное эхо.
Навстречу ему вышел человек, одетый в газонепроницаемый скафандр, который хотя во многом и отличался от скафандра Мишноффа, но явно предназначался для той же цели — обеспечивать легкие кислородом.
— Постой, Чинг, — напряженно выдохнул в микрофон Мишнофф. — Ко мне направляется какой-то человек. Держи связь. — Мишнофф почувствовал, как утихает бешеный стук его сердца, а мехи легких начинают работать в более спокойном ритме.
Оба смотрели друг на друга. Стоявший напротив человек был светловолос. Удивление, написанное на грубоватом лице, было слишком велико, чтобы счесть его за притворство.
— Wer sind Sie? (Кто вы?) — спросил тот резким голосом. — Was machen Sie hier? (Что вы здесь делаете?)
Мишнофф стоял словно громом пораженный. Когда он еще собирался стать археологом, то целых два года изучал древний немецкий язык, и поэтому сейчас легко уловил смысл сказанного, хотя произношение было не таким, какому его учили. Незнакомец интересовался его личностью и его здешними делами.
Ошеломленный, Мишнофф с трудом выговорил: «Sprechen Sie Deutsch?» (Говорите ли вы по-немецки?) и тут же ему пришлось шепотом успокаивать Чинга, чей взволнованный голос, сотрясая наушники, требовал разъяснить всю эту тарабарщину.
Германоязычный, не ответив на вопрос прямо, повторил:
— Wer sind Sie? (Кто вы?) — и нетерпеливо добавил: — Hier ist fur ein verruckten Spass keine Zeit. (Здесь не время для всяких дурацких шуток)
Мишнофф тоже был не расположен к шуткам, особенно глупым, но продолжал:
— Sprechen Sie Planetisch? (Говорите ли вы по-планетянски?)
Он не знал, как сказать по-немецки «литературный планетарный язык», поэтому был вынужден прибегнуть к приблизительному переводу. Ему на ум пришла запоздалая мысль, что следовало бы, наверное, назвать этот язык прямо по-английски.
Незнакомец смотрел на него округлившимися глазами:
— Sind Sie wahnsinnig? (Вы — сумасшедший?)
Мишнофф уже почти согласился было с этим определением, но в робкой попытке самозащиты произнес:
— Я не сумасшедший, черт возьми. Я хочу сказать: Auf der Erde woher Sie gekom… (На эту Землю откуда вы при…)
Знания немецкого явно не хватало, и он сдался. Но мысль, которая недавно пришла ему в голову и не давала ему покоя, продолжала мучить его. Ему было просто необходимо найти какой-то способ, чтобы проверить свою догадку.
— Welches Jahr ist es jetzt? (Какой сейчас год?)
Незнакомец уже интересовался состоянием его психического здоровья и теперь, когда ему задали вопрос о годе, наверняка убедится в явном нездоровье пришельца. Но это был единственный вопрос, на который Мишноффу хватило его немецкого.
Его собеседник пробормотал какую-то фразу, подозрительно смахивающую на крепкое немецкое ругательство, а затем довольно внятно произнес:
— Es ist doch zwei tausend drei hundert vier-und-sechzig, und warum… (Разумеется, две тысячи триста шестьдесят четвертый год, но почему…)
За этим последовал стремительный поток немецких фраз, из которых Мишнофф не смог понять ни единой. Но ему было достаточно и того, что он услышал.
Если он правильно перевел с немецкого, то незнакомец упомянул 2364 год, который остался в прошлом почти две тысячи лет тому назад. Как такое могло произойти?
— Zwei tausend drei hundert vier-und-sechzig? (Две тысячи триста шестьдесят четвертый?) — глухо переспросил он.
— Ja, ja, (Да, да.) — саркастически ответили ему. — Zwei tausend drei hundert vier-und-sechzig. Der ganze Jahr lang ist es so gewesen. (Две тысячи триста шестьдесят четвертый. И так было целый год)
Мишнофф пожал плечами. Утверждение, что так было весь год подряд, вовсе не показалось ему смешной остротой даже на немецком, а уж о переводе и говорить нечего. Он погрузился в размышления.
Германоязычный продолжал говорить, и в его голосе усиливались иронические нотки:
— Zwei tausend drei humdert vier-und-sechzig nach Hitler. Hilft das Ihnen vielleicht? Nach Hitler (Две тысячи триста шестьдесят четвертый год гитлеровской эры. Быть может, это вам поможет? Гитлеровской эры!)
— Еще как поможет! — радостно вскрикнул Мишнофф. — Es hilft! Horen Sie, bitte… (Помогает! Послушайте, пожалуйста…) — Он продолжал говорить на ломаном немецком, вкрапляя в него обрывки планетарного: — Бога ради, um Gottes willen… (Ради бога…)
Если отсчитать 2364 года от Гитлера, все равно получался другой год.
Безнадежно путаясь, он мучительно складывал немецкие слова, пытаясь объясниться.
Нахмурясь, незнакомец задумался. Он машинально поднес к подбородку руку в перчатке, чтобы по привычке погладить его или сделать похожий жест, но, наткнувшись на прозрачное стекло шлема, закрывавшее лицо, так же машинально опустил ее.
— Ich heiss George Fallenby (Меня зовут Георг Фалленби), — сказал он внезапно.
Имя, как показалось Мишноффу, было англосаксонского происхождения — даже несмотря на то что незнакомец своим произношением сильно изменил его, придав ему вид тевтонского имени.
— Guten Tag, (Добрый день.) — неловко поздоровался Мишнофф. — Ich heiss Alec Mishnoff (Меня зовут Алек Мишнофф). — Только сейчас ему вдруг открылось, что его собственное имя — славянского происхождения.
— Kommen Sie mit mir, Herr Mishnoff (Пойдемте со мной, господин Мишнофф), — проговорил Фалленби.
Вымученно улыбаясь, Мишнофф последовал за ним и негромко передал по радио:
— Все в порядке, Чинг. Все в порядке.
Вернувшись на собственно Землю, Мишнофф встретился с руководителем бюро отдела, который, можно сказать, буквально состарился на службе. Каждый его седой волосок означал успешно разрешенную проблему, которая когда-либо встречалась на его пути; а каждый выпавший волосок — предотвращенную драму. Он был осторожным человеком и никогда не поступал опрометчиво. Его глаза были все еще по-юношески ярки, а зубы — до сих пор собственные. Звали его Берг.
Он покачал головой:
— Значит, они разговаривали по-немецки. Но на немецком, который ты изучал, изъяснялись две тысячи лет тому назад.
— Верно, — согласился Мишнофф. — Но тому английскому, на котором говорил Хемингуэй, тоже две тысячи лет, и тем не менее все могут читать на нем, поскольку планетарный язык весьма схож с английским.
— Хм-м. А кто такой этот Гитлер?
— В древности он был кем-то вроде вождя племени. Он вверг свое германское племя в одну из войн двадцатого столетия — как раз незадолго до начала Атомной эры и подлинной истории.
— Ты имеешь в виду — до Опустошения?
— Точно. Потом последовала целая серия войн. Англосаксонские страны одержали победу, и в ней я вижу причину того, почему языком Земли является планетарный.
— Значит, если бы выиграл Гитлер со своими германцами, то весь мир говорил бы вместо планетарного на немецком?
— Они и победили на Земле Фалленби, сэр, и язык, на котором говорит их мир, — немецкий.
— И время свое они отсчитывают «от Гитлера» вместо A.D.[16]?
— Ну да. А еще, я полагаю, существует Земля, где победили славянские племена и все говорят по-русски.
— Так или иначе, — произнес Берг, — мы, очевидно, должны были предвидеть это, однако никто, насколько мне известно, об этом даже не подумал. В конце концов, существует бесконечное множество обитаемых Земель, и мы не можем быть единственными, кто видит разрешение проблемы безграничного роста населения в освоении вероятностных миров.
— Все верно, — серьезно сказал Мишнофф, — а еще мне кажется, что если об этом думаете вы, то тем самым занимаются и в бесконечном множестве обитаемых Земель. Я подозреваю, что освоенные нами триста миллиардов Земель уже освоены многократно. Мы по чистой случайности стали свидетелями одного из таких повторных освоений и то только потому, что те решили начать стройку меньше чем в миле от дома, который мы уже возвели там. Так вот именно это мы и должны проконтролировать.
— Ты намекаешь на то, что нам следует обследовать все наши Земли?
— Именно так, сэр. Нам придется заселять новые Земли не единолично, но совместно с другими обитаемыми Землями. В конце концов, места хватит всем, а освоение без соглашения чревато разного рода неприятностями и конфликтами.
— Да, — задумчиво произнес Берг. — Я согласен с тобой.
Кларенс Римбро с подозрением уставился на морщинистое лицо старого Берга, лучившееся всеми оттенками благожелательности.
— Вы теперь точно знаете?
— Абсолютно, — подтвердил руководитель Бюро. — Приносим свои извинения за то, что вам пришлось принимать временных постояльцев в течение последних двух недель…
— Больше трех.
— … трех недель, но вы получите компенсацию.
— Что это был за шум?
— Чисто геологического происхождения, сэр. Один из камней слегка раскачивался и, когда дул ветер, иногда касался других камней на склоне горы. Мы убрали его и тщательно осмотрели местность, чтобы удостовериться, что впредь ничего подобного не произойдет.
Римбро взялся за шляпу.
— Ну что ж, спасибо за ваши заботы.
— Не стоит благодарности, уверяю вас, мистер Римбро. Это наша работа.
Кларенса Римбро проводили до выхода, и Берг повернулся к Мишноффу, который молча наблюдал за завершением дела Римбро.
— Во всяком случае, — произнес Берг, — немцы проявили большой такт в этом деле. Они признали наш приоритет и отбыли к себе. Мест предостаточно — были их слова. Еще бы! Как выяснилось, в любом из неосвоенных миров они возводят не одно жилье, а столько, сколько понадобится… Вот план обследования остальных наших миров и заключения соглашения с теми, кого мы там обнаружим. Все это, конечно, тоже строго конфиденциально. Совершенно недопустимо, чтобы широкие массы населения узнали об этом, не будучи как следует подготовленными… Однако я бы хотел поговорить с тобой не на эту тему.
— Вот как? — произнес Мишнофф.
Смена темы разговора, похоже, не доставила ему особого удовольствия. Ему все еще не давала покоя одна мысль, ворочавшаяся в мозгу тяжелым комком нехорошего предчувствия.
Берг улыбнулся молодому человеку:
— Понимаешь, Мишнофф, мы в Бюро — как, впрочем, и в Планетарном правительстве — по достоинству оценили быстроту твоего мышления и понимание ситуации. Если бы не ты, все могло окончиться очень трагично. Наша признательность вскоре обретет и вполне материальную форму.
— Благодарю вас, сэр.
— Но, как я уже сказал, об этом следовало бы задуматься в первую очередь многим из нас. Как получилось, что именно тебе пришли в голову такие мысли?.. Давай немного вернемся к истории событий. Твой коллега Чинг рассказал нам, что ты ему еще раньше намекал на некую серьезную опасность, связанную с нашей системой вероятностных моделей, и что ты настаивал на том, чтобы самому выйти наружу навстречу немцам, хотя и был явно напуган. Ты ведь ожидал увидеть там то, что действительно увидел, не так ли? Но почему?
— Нет, нет, — смутился Мишнофф. — Мне и в голову не приходило. Все случилось так внезапно. Я…
Неожиданно он исполнился решимости. Почему бы не сейчас? Они ведь выразили ему свою благодарность. Он доказал, что заслуживает их внимания. Одно из непредвиденных событий уже произошло.
— Есть еще нечто, — решительно произнес он.
— Да?
(С чего же все началось?)
— Во всей Солнечной системе жизнь существует только на Земле.
— Все верно, — благосклонно заметил Берг.
— Расчеты показывают, что вероятность развития любых форм межзвездных перелетов настолько мала, что ее можно приравнять к нулю.
— К чему ты клонишь?
— Все сказанное относится лишь к этой вероятности! Но должны же быть и другие вероятностные модели, где в Солнечной системе все же существуют иные формы жизни — так же, впрочем, как и в других звездных системах, обитатели которых пролагают все новые и новые маршруты между звездами.
Берг нахмурился:
— Теоретически.
— В одной из этих вероятностей их разведчики могут посетить Землю. Если они попадут в ту вероятностную модель, где Земля обитаема, то нас это не затронет и собственно Земля окажется вне сферы их зрения. Но если они попадут в ту вероятностную модель, где Земля необитаема, и развернут на ней свою базу или что-то вроде этого, то они могут случайно обнаружить одно из наших поселений.
— Почему наших? — сухо спросил Берг. — Почему не поселение немцев, к примеру?
— Потому что на один мир у нас приходится по одному поселению. А вот немцы так не поступают — их Земля иная. Возможно, очень немногие делают так, как мы. Так что можно ставить миллиарды против одного, что инопланетяне первыми обнаружат именно нас. И если это все же произойдет, они так или иначе найдут дорогу, по которой можно попасть на собственно Землю — в высокоразвитый богатый мир.
— Не попадут, если мы отключим преобразователь, — заметил Берг.
— Стоит им узнать о существовании преобразователей, и они постараются сконструировать свои собственные, — сказал Мишнофф. — Цивилизация, которая настолько разумна, что способна совершать перелеты в космосе, сумеет сделать это, а аппаратура в захваченном ими доме поможет им легко выйти на нашу собственную вероятность… И как нам потом договариваться с инопланетянами? Они — не немцы и не обитатели других Земель. У них, очевидно, совсем иные, чужие психология и мотивация поступков. А мы даже не принимаем никаких мер предосторожности. Мы спокойно продолжаем включать в свою систему все новые и новые миры, с каждым днем увеличивая шансы на…
От волнения его голос сорвался на крик, и Берг тоже закричал, обращаясь к нему:
— Чепуха! Это же просто смехотворно…
Раздался сигнал зуммера. На засветившемся экране передатчика появилось лицо Чинга.
— Извините, что прерываю вас, но… — послышался его голос.
— В чем дело? — вне себя рявкнул Берг.
— Здесь какой-то человек, и я не знаю, что с ним делать. Он пьян или сумасшедший. Он жалуется, что его дом окружен и какие-то существа заглядывают через стеклянную крышу его сада.
— Существа? — вскричал Мишнофф.
— Фиолетовые существа с большими красными венами, тремя глазами, а вместо волос у них что-то вроде щупалец. А еще у них есть…
Но Мишнофф и Берг уже не слышали остального. Они смотрели друг на друга, объятые смертельным ужасом.
Паштет из гусиной печенки
Я не имею права сообщить вам свое настоящее имя, даже если я бы этого захотел; к тому же, при существующих обстоятельствах, я и сам этого не хочу.
Писатель я не ахти какой, если не считать научных статей, так что это пишет за меня Айзек Азимов.
Есть несколько причин, почему я выбрал именно его. Во-первых, он биохимик и понимает, о чем идет речь — во всяком случае, отчасти. Во-вторых, он неплохо пишет; по крайней мере, он опубликовал довольно много книжек, хотя, конечно, это не обязательно одно и то же. Но что самое важное — он может добиться, чтобы его опубликовали в каком-нибудь журнале. А это именно то, что мне нужно.
Почему это мне нужно, станет вам ясно из дальнейшего.
Я не первый, кому довелось увидеть Гусыню. Эта честь выпала на долю техасского фермера — хлопковода по имени Айен Ангус Мак-Грегор, которому Гусыня принадлежала до того, как стала казенной собственностью. (Имена, названия мест и даты, которые я привожу, сознательно мной вымышлены. Напасть по ним на какой-нибудь след никому не удастся. Можете и не пытаться.)
Мак-Грегор разводил гусей, видимо, потому, что они поедали сорняки, не трогая побегов хлопка. Гуси заменяли ему машины для прополки, а к тому же давали ему яйца, пух и, время от времени, жареную гусятину.
Летом 1955 года этот фермер прислал в Департамент сельского хозяйства с дюжину писем, в которых требовал информации о насиживании гусиных яиц. Департамент выслал ему все брошюры, которые оказались под рукой и имели хоть какое-то отношение к этому предмету. Но его письма становились все более и более настойчивыми, и в них все чаще упоминался его «друг», конгрессмен из тех мест.
Я оказался втянутым в эту историю только потому что работал в Департаменте. Я получил приличное агрохимическое образование и к тому же немного разбираюсь в физиологии позвоночных. (Это вам не поможет. Если вы думаете, что сумеете из этого извлечь сведения о том, кто я такой, те вы ошибаетесь.)
В июле 1955 года я собирался поехать на одно совещание в Сан-Антонио и мой шеф попросил меня заехать на ферму Мак-Грегора и посмотреть, что можно для него сделать. Ведь мы — слуги общества, а кроме того мы в конце концов получили письмо от того конгрессмена, о котором писал Мак-Грегор.
17 июля 1955 года я встретился с Гусыней.
Сначала, конечно, я встретился с Мак-Грегором. Это был высокий человек, лет за пятьдесят, с морщинистым недоверчивым лицом. Я повторил всю информацию, которую мы ему сообщили раньше, рассказал про инкубаторы, про важность микроэлементов в питании, добавил кое-какие последние новости о витамине Е, о кобаламинах и о пользе антибиотиков.
Он покачал головой. Все это он пробовал, и все равно из яиц ничего не выводилось. Он привлек к сотрудничеству в этом деле всех гусаков, каких только мог заполучить, но и это не помогло.
Что мне было делать? Я государственный служащий, а не архангел Гавриил. Все, что мог, я ему рассказал, и если яйца все равно не насиживаются, значит, они для этого не годятся. Вот и все. Я вежливо спросил, могу ли я посмотреть его гусей, просто чтобы потом никто не сказал, будто я не сделал все, что мог. Он ответил:
— Не гусей, мистер. Это одна гусыня.
Я сказал:
— А можно посмотреть эту одну гусыню?
— Пожалуй, что нет.
— Ну, тогда я больше ничем не смогу вам помочь. Если это всего одна гусыня, то с ней просто что-то неладно. Зачем беспокоиться из-за одной гусыни? Съешьте ее.
Я встал и протянул руку за шляпой. Он сказал: «Подождите», и я остановился. Губы его сжались, глаза сощурились — он молча боролся с собой. Потом он спросил:
— Если я вам кое-что покажу, вы никому не расскажете?
Он не был похож на человека, способного поверить чьему-либо клятвенному обещанию хранить тайну, но он как будто уже так отчаялся, что другого выхода не видел.
Я начал:
— Если это что-нибудь противозаконное…
— Ничего подобного, — огрызнулся он.
И тогда я пошел за ним в загон около дома, который был обнесен колючей проволокой, заперт на замок и содержал одну гусыню. Ту Самую Гусыню.
— Вот Гусыня, — сказал он. Это было произнесено так, что прописная буква слышалась вполне явственно.
Я уставился на нее. Это была гусыня как гусыня, ей-богу — толстая, самодовольная — и раздражительная. Я произнес «гм» в наилучшей профессиональной манере.
Мак-Грегор сказал:
— А вот одно из ее яиц. Оно было в инкубаторе. Ничего не получается.
Он достал яйцо из обширного кармана комбинезона. Держал он его с каким-то странным напряжением.
Я нахмурился. С яйцом было что-то не ладно. Оно было меньше и круглее обычных.
Мак-Грегор сказал:
— Возьмите.
Я протянул руку и взял его. Вернее, попытался взять. Я приложил в точности такое усилие, какого должно было заслуживать подобное яйцо, но оно попросту выскользнуло у меня из пальцев. Пришлось взять его покрепче.
Теперь я понял, почему Мак-Грегор так странно держал яйцо. Оно весило граммов восемьсот. (Говоря точнее, когда мы потом его взвесили, масса его оказалась равной 852,6 грамма.)
Я уставился на яйцо, которое лежало у меня на руке и давило на нее, а Мак-Грегор кисло усмехнулся:
— Бросьте его, — сказал он.
Я только взглянул на него, а он взял яйцо у меня из руки и уронил его сам.
Яйцо тяжело шлепнулось на землю. Оно не разбилось. Не разбрызгалось каплями белка и желтка. Оно просто лежало на том месте, куда упало.
Я снова поднял его. Белая скорлупа раскололась в том месте, где яйцо ударилось о землю. Осколки отлетели, и изнутри светилось что-то тускло-желтое.
У меня задрожали руки. Непослушными пальцами я все же облупил еще немного скорлупы и уставился на это желтое.
Никаких анализов не требовалось. Я и так понял, что это такое.
Передо мной была Гусыня!
Гусыня, Которая Несла Золотые Яйца!
Вы мне не верите. Я знаю. Вы решили, что это очередная мистификация.
Очень хорошо! Я и рассчитывал, что вы так подумаете. Позже я объясню, почему.
Пока что первой моей задачей было уговорить Мак-Грегора расстаться с этим золотым яйцом. Я был близок к истерике. Если бы понадобилось, я был почти готов оглушить его, отнять яйцо и удрать.
Я сказал:
— Я дам вам расписку. Я гарантирую вам оплату. Я сделаю все, что можно. Послушайте, мистер Мак-Грегор, вам от этих яиц все равно нет никакой пользы. Продать золото вы не сможете, пока не объясните, откуда оно у вас. Хранить его у себя запрещено законом. А как вы сможете это объяснить? Если правительство…
— Я не хочу, чтобы правительство совало нос в мои дела, — упрямо заявил он.
Но я был вдвое упрямее. Я не отставал от него. Я молил, кричал. Я угрожал. Это продолжалось не один час. Буквально. В конце концов я написал расписку, и Мак-Грегор проводил меня до машины. Когда я отъехал, он стоял посреди дороги, глядя мне вслед.
Больше он этого яйца не видел. Конечно, стоимость золота (656 долларов 47 центов после удержания налогов) была ему возвращена, но правительство тут не прогадало.
Если подумать о потенциальной ценности этого яйца…
О потенциальной ценности! В этом-то и заключена вся ирония положения. Поэтому я и печатаю эту статью.
Отдел Департамента сельского хозяйства, в котором я служу, возглавляет Луис П. Бронстейн. (Можете не пытаться его разыскать. Если вам угодно получить дополнительную дезинформацию, то «П» — значит «Питтсфилд».) Мы с ним в хороших отношениях, и я чувствовал, что могу все ему рассказать, не рискуя после этого оказаться под строгим врачебным надзором. И все-таки я не стал искушать судьбу. Я взял яйцо с собой и, добравшись до самого скользкого места, просто положил его на стол.
Поколебавшись, Луис дотронулся до яйца пальцем, как будто оно было раскаленное.
Я сказал:
— Поднимите.
Он поднял его, как и я, со второй попытки.
Я сказал:
— Это желтый металл, и это могла бы быть латунь, только это не латунь, потому что в концентрированной азотной кислоте он не растворяется. Я уже пробовал. Золотая там только оболочка, потому что яйцо можно сплющить под небольшим давлением. Кроме того, если бы оно было сплошь золотым, то весило бы больше четырех килограммов.
Бронстейн произнес:
— Может это мистификация?
— Мистификация с настоящим золотом? Вспомните — когда я впервые увидел эту штуку, она была вся покрыта настоящей скорлупой. Кусочек скорлупы было легко исследовать. Карбонат кальция. Это подделать трудно. А если мы заглянем внутрь яйца (я не хотел делать это сам) и найдем настоящий белок и настоящий желток, то вопрос будет решен, потому что это подделать вообще невозможно. Конечно, дело заслуживает официального расследования.
— Но как же я пойду к начальству…
Он уставился на яйцо.
Но в конце концов он все-таки пошел. Почти целый день он звонил по телефону и потел. Взглянуть на яйцо пришли один или два больших начальника из нашего Департамента.
Так начался проект «Гусыня». Это было 20 июля 1955 года.
С самого начала я был уполномоченным по расследованию и номинально руководил им до конца, хотя вскоре дело вышло за пределы моей компетенции.
Мы начали с одного яйца. Его средний радиус составлял 35 мм (длинная ось — 72 мм, короткая ось — 68 мм). Золотая оболочка была толщиной 2,45 мм. Позже, исследовав другие яйца, мы обнаружили, что эта цифра довольно высока. Средняя толщина оболочки оказалась 2,1 мм.
Внутри было настоящее яйцо. Оно выглядело, как яйцо, и пахло, как яйцо.
Содержимое яйца было проанализировано. Органические компоненты оказались близки к норме. Белок на 9,7 процентов состоял из альбумина. Желток имел в общем нормальный состав. У нас не хватило материала, чтобы определить содержание микросоставляющих; позже, когда в нашем распоряжении оказалось больше яиц, мы это сделали, но не нашли ничего необычного в содержании витаминов, коферментов, нуклеотидов, сульфгидрильных групп и тому подобного.
Одним из самых важных грубых отклонений от нормы, какие мы обнаружили, было поведение яйца при нагревании. Когда нагрели небольшую часть желтка, он сварился вкрутую почти мгновенно. Мы дали кусочек этого крутого яйца мыши. Она съела его и осталась жива.
Еще кусочек отщипнул я. Этого было слишком мало, чтобы по-настоящему почувствовать вкус, но тем не менее меня затошнило. Самовнушение, вероятно.
Этими опытами руководил Борис В. Финли, консультант нашего Департамента и сотрудник биохимического факультета Темплского университета. По поводу варки яйца он заявил:
— Легкость, с которой белки яйца денатурируют под действием тепла, говорит о том, что они уже частично денатурированы. А если иметь в виду состав оболочки, то нужно признать, что в этом повинно золото.
Часть желтка была исследована на присутствие неорганических веществ, и оказалось, что яйцо богато ионами хлораурата — одновалентными ионами, содержащими атом золота и четыре атома хлора; химическая формула их AuCl4. (Символ «Au», обозначающий золото, происходит от латинского названия золота — «аурум».) Когда я говорю, что содержание хлораурата было высоким, имею в виду, что его было 3,2 части на тысячу, то есть 0,32 процента. Этого достаточно, чтобы образовалось нерастворимое комплексное соединение золота с белком, которое легко свертывается.
Финли сказал:
— Ясно, что это яйцо не может насидеться. Так же, как и любое другое подобное яйцо. Оно отравлено тяжелым металлом. Может быть, золото и красивее свинца, но для белков оно столь же ядовито.
Я мрачно добавил:
— По крайней мере, можно не опасаться, что эта штука протухнет.
— Совершенно верно. В этом хлорно-золотоносном супе не станет жить ни одна уважающая себя бактерия.
Наконец был готов спектрографический анализ золота из оболочки яйца. Оно было фактически чистым. Единственной примесью, которую удалось обнаружить, было — железо в количестве до 0,23 процента. В желтке содержание железа тоже было вдвое выше нормы. Однако тогда мы не обратили на это внимания.
Через неделю после того, как был основан проект «Гусыня», в Техас отправилась целая экспедиция. Туда поехали пять биохимиков (тогда еще, как видите, главный упор делался на биохимию), три грузовика оборудования и воинское подразделение. Я, конечно, поехал тоже.
Сразу по прибытии мы изолировали ферму Мак-Грегора от всего мира.
Это была, знаете, счастливая идея — все эти меры безопасности, которые мы приняли с самого начала. Рассуждали мы тогда неверно, но результат оказался удачным.
Департамент хотел, чтобы проект «Гусыня» держали в секрете — на первых порах просто из-за не покидавшего нас опасения, что это все-таки окажется грандиозной мистификацией, а мы не могли себе позволить такую неудачную рекламу. А если это не было мистификацией, то мы не хотели навлечь на себя нашествие репортеров.
Подлинное значение всей этой истории стало вырисовываться лишь значительно позже, спустя много времени после того, как мы приехали на ферму Мак-Грегора.
Мак-Грегор, естественно, был недоволен тем, что вокруг него расположилось столько людей и оборудования. Он был недоволен тем, что Гусыню объявили казенным имуществом. Он был недоволен тем, что конфисковали ее яйца.
Все это ему не нравилось, но он дал свое согласие, если можно назвать это согласием, когда в момент переговоров на заднем дворе вашей усадьбы собирают пулемет, а в самый разгар спора под окнами маршируют десять солдат с примкнутыми штыками.
Конечно, он получил компенсацию. Что для правительства значат деньги?
Гусыне тоже кое-что не нравилось. Например, когда у нее брали кровь на анализ. Делать это под наркозом мы не решались, чтобы ненароком не нарушить ее обмен веществ, и каждый раз двоим приходилось ее держать. Вы когда-нибудь пробовали держать рассерженную гусыню?
Гусыня находилась под круглосуточной охраной, и любому, кто допустил бы, чтобы с ней что-нибудь случилось, грозил трибунал. Если кто-нибудь из тех солдат прочтет эту статью, он может догадаться, в чем было тогда дело. При этом у него должно хватить ума, чтобы держать язык за зубами. По крайней мере, если он соображает, что для него хорошо и что плохо, он будет помалкивать.
Кровь Гусыни подвергли всем возможным исследованиям. Она содержала 2 части на 100 000 хлораурата. Кровь, взятая из печеночной вены, была им еще богаче почти 4 части на 100 000.
— Печень, — проворчал Финли.
Мы сделали рентгеновские снимки. На негативе печень выглядела как светло-серая туманная масса, более светлая, чем окружающие органы, так как она поглощала больше рентгеновских лучей, потому что содержала больше золота. Кровеносные сосуды казались светлее, чем сама печень, а яичники были чисто белыми. Сквозь них рентгеновские лучи не проходили вовсе.
В этом был какой-то смысл, и в своем первом докладе Финли изложил его с наибольшей возможной прямотой.
Доклад содержал, в неполном пересказе, следующее:
«Хлораурат выделяется печенью в ток крови. Яичники действуют в качестве ловушки для этого иона, который здесь восстанавливается до металлического золота и отлагается в оболочке развивающегося яйца. Невосстановленный хлораурат в относительно высокой концентрации содержится в развивающемся яйце.
Почти не вызывает сомнения, что Гусыня использует этот процесс, чтобы избавиться от атомов золота, которые несомненно отравили бы ее, если бы им позволить накопиться. Выделение отбросов через содержимое яйца — вероятно, редкость в животном мире, даже уникальный случай, но нельзя отрицать, что благодаря этому Гусыня остается в живых.
Однако, к несчастью, яичники локально отравлены до такой степени, что яиц кладется мало, вероятно, не больше, чем нужно, чтобы избавиться от накапливающегося золота, и эти немногие яйца определенно не могут насиживаться».
Вот и все, что он написал. Но нам, остальным, он сказал:
— Остается еще один вопрос…
Я знал, что это за вопрос. Все мы это знали.
Откуда берется золото?
На этот вопрос пока не было ответа, если не считать некоторых негативных результатов. В пище Гусыни золота не обнаруживалось, никаких золотоносных камешков, которые она могла бы глотать, поблизости не было. Нигде в округе в почве не было следов золота, а обыск дома и усадьбы ничего не дал. Там не было ни золотых монет, ни золотых украшений, ни золотой посуды, ни часов, и вообще ничего золотого. Ни у кого на ферме не было даже золотых зубов.
Конечно, было обручальное кольцо миссис Мак-Грегор, но оно было всего одно за всю ее жизнь, и его она носила на пальце.
Откуда же берется золото?
Первые намеки на ответ мы получили 16 августа 1955 года.
Альберт Невис, из университета имени Пэрдью, ввел Гусыне желудочный зонд (еще одна процедура, против которой она энергично возражала), собираясь исследовать содержимое ее пищеварительного тракта. Это были все те же наши поиски внешнего источника золота.
Золото было найдено, но лишь в виде следов, и были все основания предположить, что эти следы сопровождают выделение пищеварительных соков и поэтому имеют внутреннее происхождение.
Тем не менее обнаружилось еще кое-что. Во всяком случае, отсутствие кое-чего.
Невис при мне пришел в кабинет Финли, расположенный во временной постройке, которую мы соорудили почти за одну ночь поблизости от гусятника. Он сказал:
— У Гусыни мало желчного пигмента. В содержимом двенадцатиперстной кишки его почти нет.
Финли нахмурился и произнес:
— Возможно, функции печени совершенно расстроены из-за концентрации золота. Может быть, она вовсе не выделяет желчи.
— Выделяет, — сказал Невис. — Желчные соли присутствуют в нормальном количестве. По крайней мере, близко к норме. Не хватает именно желчного пигмента. Я сделал анализ кала, и это подтвердилось. Желчного пигмента нет.
Здесь позвольте мне кое-что объяснить. Желчные соли — это вещества, которые печень выделяет в желчь, и в ее составе они изливаются в верхнюю часть тонкого кишечника. Эти вещества похожи на моющие средства: они помогают превращать жиры нашей пищи (и пищи Гусыни) в эмульсию и в виде мелких капелек распределить их в водном содержимом кишечника. Такое распределение, или, если хотите, гомогенизация, облегчает переваривание жиров.
Но желчные пигменты — вещества, которых не оказалось у Гусыни — это нечто совершенно другое. Печень производит их из гемоглобина — красного белка крови, переносящего кислород. Использованный гемоглобин расщепляется в печени. Отщепленная часть — гем — представляет собой кольцеобразную молекулу (ее называют порфирином) с атомом железа в центре. Печень извлекает из нее железо и запасает для будущего употребления, а потом расщепляет и оставшуюся кольцеобразную молекулу. Этот расщепленный порфирин и образует желчный пигмент. Он окрашивается в коричневатый или зеленоватый цвет (в зависимости от дальнейших химических превращений) и выделяется в желчь.
Организму желчный пигмент не нужен. Он изливается в желчь как отброс, проходит сквозь кишечник и выделяется с экскрементами. Именно он определяет их цвет.
У Финли заблестели глаза.
— Похоже на то, — сказал Невис, — что порфирины расщепляются у нее в печени не так, как полагается. Вам это не кажется?
Конечно, казалось.
После этого всех охватило лихорадочное возбуждение. Это было первое обнаруженное у Гусыни отклонение в обмене веществ, не имеющее прямой связи с золотом.
Мы сделали биопсию печени (это значит, что из печени Гусыни был взят цилиндрический кусочек ткани). Гусыне было больно, но вреда ей это не причинило. Кроме того, мы сделали новые анализы крови.
На этот раз мы выделили из крови гемоглобин, а из нашего образца печени — немного цитохромов (цитохромы — это окисляющие ферменты, которые тоже содержат гем). Мы выделили гем, и в кислом растворе часть его выпала в осадок в виде ярко-оранжевого вещества. К 22 августа 1955 года мы получили 5 микрограммов этого соединения.
Оранжевое вещество было подобно гему, но это не был гем. В геме железо может находиться в виде двухвалентного или трехвалентного иона. У оранжевого вещества, которое мы отделили от гема, с порфириновой частью молекулы все было в порядке. Но металл в центре кольца был золотым — точнее, трехвалентным ионом золота. Мы назвали это соединение ауремом — простое сокращение слов «золотой гем».
Аурем оказался первым содержащим золото органическим соединением, когда-либо обнаруженным в природе. При обычных условиях это вызвало бы сенсацию в биохимическом мире. Но теперь это были пустяки — сущие пустяки в сравнении с новыми горизонтами, которые открывало само существование аурема.
Оказывается, печень Гусыни не расщепляла гем до желчного пигмента. Вместо этого она превращала его в аурем, заменяя железо золотом. Аурем, в равновесии с хлорауратом, попадал в ток крови и переносился в яичники, где золото выделялось, а порфириновая часть молекулы удалялась посредством какого-то еще неизвестного механизма.
Дальнейшие анализы показали, что 29 процентов содержавшегося в крови Гусыни золота переносилось в составе плазмы в виде хлораурата. Остальные 71 процент содержались в красных кровяных тельцах в виде «ауремоглобина»
Была сделана попытка ввести в кровь Гусыни метку из радиоактивного золота, чтобы проследить за радиоактивностью плазмы крови и красных кровяных телец и узнать, с какой скоростью молекулы ауремоглобина перерабатываются в яичниках. Нам казалось, что ауремоглобин должен был удаляться гораздо медленнее, чем растворенный в плазме хлораурат. Однако эксперимент не удался: мы вообще не смогли зарегистрировать радиоактивность. Мы сочли это результатом своей неопытности — никто из нас не был специалистом по изотопам. Это было большой ошибкой, потому что неудача эксперимента на самом деле имела огромное значение, и, не осознав этого, мы потеряли несколько дней.
Конечно, с точки зрения переноса кислорода ауремоглобин бесполезен, но на его долю приходилось всего около 0,1 процента от общего количества гемоглобина красных кровяных телец, так что на газообмене в организме Гусыни это не сказывалось.
В результате вопрос о том, откуда же берется золото, оставался открытым. Первым сделал решающее предположение Невис. На совещании нашей группы вечером 25 августа 1955 года он сказал:
— А может быть, Гусыня не замещает железо на золото? Может быть, она превращает железо в золото?
До того как я лично познакомился с Невисом в то лето, я знал его по публикациям (его темой была химия желчи и работа печени) и всегда считал его осторожным и здравомыслящим человеком. Пожалуй, даже слишком осторожным. Никто не мог бы и подумать, что он способен сделать такое совершенно нелепое заявление.
Это свидетельствовало о той атмосфере отчаяния и морального разложения, которая окружила проект «Гусыня».
Отчаяние вызывал тот факт, что золоту было просто неоткуда взяться буквально неоткуда. Гусыня выделяла по 38,9 г золота в день на протяжении многих месяцев. Это золото должно было откуда-то поступать, а если этого не происходило — а этого абсолютно не происходило — то, значит, оно должно было из чего-то вырабатываться.
Моральное разложение, из-за которого мы всерьез отнеслись к этой второй альтернативе, объяснялось попросту тем, что перед нами была Гусыня, Которая Несла Золотые Яйца; отрицать это было нельзя. А раз так, то все было возможно. Мы оказались в каком-то сказочном мире и потеряли чувство реальности.
Финли всерьез начал обсуждение этого варианта.
— В печень, — сказал он, — поступает гемоглобин, а выходит оттуда немного ауремоглобина. В золотой оболочке яиц содержится единственная примесь — железо. В желтке яиц в повышенном количестве содержатся то же золото и отчасти железо. Во всем этом есть какой-то смысл. Ребята, нам нужна помощь.
Помощь нам, действительно, была необходима. Так начался последний этап нашей работы. Этот этап, величайший и самый важный из всех, потребовал участия физиков-ядерщиков.
5 сентября 1955 года из Калифорнийского университета прибыл Джон Л. Биллингс. Кое-какое оборудование он привез с собой, остальное было доставлено в течение ближайших недель. Выросли новые временные постройки. Я уже мог предвидеть, что не пройдет и года, как вокруг Гусыни образуется целый научно-исследовательский институт…
Вечером пятого числа Биллингс принял участие в нашем совещании. Финли ввел его в курс дела и сказал:
— С этой идеей о превращении железа в золото связано великое множество серьезных проблем. Во-первых, общее количество железа в Гусыне может быть всего порядка половины грамма, а золота производится около сорока граммов в день.
У Биллингса оказался чистый, высокий голос. Он сказал:
— Самая трудная проблема не в этом. Железо находится в самом низу энергетической кривой, а золото — гораздо выше. Чтобы грамм железа превратить в грамм золота, нужно примерно столько же энергии, сколько дает распад грамма урана-235.
Финли пожал плечами:
— Эту проблему я оставляю вам.
— Дайте мне подумать, — сказал Биллингс.
Он не ограничился размышлениями. В частности, он взял у Гусыни свежие образцы гема, сжег их и послал получившуюся окись железа в Брукхейвен на изотопное исследование.
Когда пришел анализ, у Биллингса захватило дыхание. Он сказал:
— Здесь нет железа-56.
— А как остальные изотопы? — сразу же спросил Финли.
— Все тут, — ответил Биллингс, — в соответствующих соотношениях, но никаких следов железа-56.
Здесь мне снова придется кое-что объяснить. Обычное железо состоит из четырех изотопов. Это разновидности атомов, которые различаются атомным весом. Атомы железа с атомным весом 56, или железо-56, составляют 91,6 процента всех атомов железа. Остальные атомы имеют атомные веса 54, 57 и 58.
Железо, содержавшееся в геме Гусыни, состояло только из железа-54, железа-57 и железа-58. Вывод напрашивался сам собой. Железо-56 исчезло, остальные изотопы нет; а это означало, что происходит ядерная реакция. Только ядерная реакция может затронуть один изотоп и оставить в покое остальные. Любая обычная химическая реакция должна была вовлекать в себя все изотопы в равной мере.
— Но это энергетически невозможно, — воскликнул Финли.
Говоря это, он хотел всего-навсего слегка съязвить по поводу самой первой реплики Биллингса. Мы, биохимики, хорошо знаем, что в организме идет множество реакций, требующих затраты энергии, и что проблема решается так: реакция, потребляющая энергию, сопрягается с реакцией, выделяющей энергию.
Но химические реакции выделяют или поглощают лишь несколько килокалорий на моль. Ядерные же реакции выделяют или поглощают миллионы килокалорий. Значит, чтобы обеспечить энергией ядерную реакцию, нужна другая ядерная реакция, в ходе которой энергия выделяется.
Два дня мы не видели Биллингса.
Когда он вновь появился, то сказал:
— Послушайте! В ходе реакции, служащей источником энергии, должно выделяться ровно столько же энергии на участвующее в ней ядро, сколько требуется, чтобы шла реакция, поглощающая энергию. Если энергии поступает хотя бы чуть меньше, то реакция не пойдет. Если ее поступает хотя бы чуть больше и если учесть астрономическое число участвующих в реакции ядер, то лишняя энергия в доли секунды превратила бы Гусыню в пар.
— Ну и что? — спросил Финли.
— Так вот, количество возможных реакций очень ограничено. Я смог найти только одну подходящую систему. Если кислород-18 превращается в железо-56, то при этом выделяется достаточно энергии, чтобы превратить железо-56 дальше в золото-197. Это похоже на катанье с гор, когда санки спускаются с одной горки и тут же въезжают на другую. Придется это проверить.
— Каким образом?
— Во-первых, давайте установим изотопный состав кислорода в крови Гусыни.
Кислород воздуха содержит три стабильных изотопа, главным образом кислород-16. На кислород-18 приходится только один атом из 250.
Еще один анализ крови. Содержащаяся в ней вода была подвергнута перегонке в вакууме, и часть ее пошла в масс-спектрограф. Кислород-18 в ней был, но только один атом из 1300. Почти 80 процентов ожидаемого количества кислорода-18 в крови не оказалось.
Биллингс сказал:
— Это косвенное доказательство. Кислород-18 расходуется. Он постоянно поступает в организм Гусыни с кормом и водой, но он все-таки расходуется. Вырабатывается золото-197. Железо-56 является промежуточным продуктом, и так как реакция, в которой оно расходуется, идет быстрее, чем реакция, в которой оно образуется, то оно не может достигнуть заметной концентрации, и изотопный анализ показывает его отсутствие.
Мы этим не удовлетворились и попробовали еще один эксперимент. Целую неделю Гусыню поили водой, обогащенной кислородом-18. Выделение золота почти немедленно повысилось. К концу недели она вырабатывала его по 45,8 г в день, в то время как содержание кислорода-18 в тканях ее тела осталось не выше, чем прежде.
— Сомнений нет, — произнес Биллингс. Он переломил карандаш и встал. Эта Гусыня — живой ядерный реактор.
Очевидно, Гусыня представляла собой результат мутации.
Для того, чтобы произошла мутация, требовалось, помимо всего прочего, радиоактивное облучение, а это наводило на мысль о ядерных испытаниях, которые проводились в 1952–1953 годах в нескольких сотнях миль от фермы Мак-Грегора. (Если вам придет в голову, что в Техасе ядерные испытания никогда не проводились, то это свидетельствует о двух вещах: во-первых, я вам не сообщаю всего, что знаю, и во-вторых, вы сами много чего не знаете.)
Вряд ли когда-либо за всю историю атомного века так тщательно изучался радиоактивный фон и так скрупулезно анализировались радиоактивные составляющие почвы. Были подняты архивы. Неважно, что они оказались совершенно секретными. К этому времени проекту «Гусыня» придавалось самое первостепенное значение, какое только было возможно.
Изучались даже метеорологические данные, чтобы проследить за поведением ветров во время испытаний.
Выяснились два обстоятельства.
Первое. Радиоактивный фон на ферме был чуть выше нормы. Спешу добавить — не настолько, чтобы причинить какой-нибудь вред. Однако были сведения о том, что в то время, когда родилась на свет Гусыня, ферма была задета краем по меньшей мере двух радиоактивных облаков. Снова спешу добавить, что никакой реальной опасности они не представляли.
Второе, Гусыня, единственная из всех гусей на ферме, по сути дела единственное из всех живых существ на ферме, которых мы смогли исследовать, включая людей, не обнаруживала вообще никакой радиоактивности. Только подумайте: все что угодно обнаруживает следы радиоактивности (это и имеют в виду, когда говорят о радиоактивном фоне). Но Гусыня не обнаруживала никакой радиоактивности.
В декабре 1955 года Финли представил доклад, который можно пересказать следующим образом:
«Гусыня представляет собой результат в высшей степени необычной мутации и родилась в обстановке высокой радиоактивности, которая способствовала мутациям вообще и сделала данную мутацию особенно благоприятной.
Гусыня обладает ферментными системами, способными катализировать различные ядерные реакции. Состоят ли эти системы из одного или нескольких ферментов, неизвестно. О природе этих ферментов тоже ничего неизвестно. Теоретически невозможно объяснить, как могут ферменты катализировать ядерные реакции, поскольку последние связаны с взаимодействиями частиц, на пять порядков более сильными, чем в обычных химических реакциях, которые обычно катализируют ферменты.
Сущность происходящего ядерного процесса состоит в превращении кислорода-18 в золото-197. Кислород-18 изобилует в окружающей среде, присутствует в значительных количествах в воде и во всех органических кормах. Золото-197 выделяется из организма через яичники. Известен один промежуточный продукт реакции — железо-56, а тот факт, что в этом процессе образуется ауремоглобин, позволяет предположить, что в состав участвующего в нем фермента или ферментов входит гем в качестве активной группы.
Значительные усилия были направлены на то, чтобы оценить возможное значение этого процесса для Гусыни. Кислород-18 для нее безвреден, а удаление золота-197 представляет значительные трудности, само оно потенциально ядовито и является причиной ее бесплодия. Синтез золота мог понадобиться для того, чтобы избежать какой-то более серьезной опасности. Такая опасность…»
Когда вы просто читаете об этом в докладе, все это кажется вам таким спокойным и логичным. На самом деле я никогда еще не видел, чтобы человек был так близок к апоплексическому удару и после этого остался в живых, как это удалось Биллингсу, когда он узнал о нашем эксперименте с радиоактивным золотом, о котором я вам уже рассказал — когда мы не обнаружили в Гусыне радиоактивности и отбросили результаты как бессмысленные. Он снова и снова спрашивал, как же это мы могли счесть неважным исчезновение радиоактивности.
— Вы, — кричал он, — ничем не отличаетесь от того новичка-репортера, которого послали дать отчет о великосветском венчании и который, вернувшись, заявил, что писать ему не о чем, потому что жених не явился. Вы скормили Гусыне радиоактивное золото и потеряли его. Мало того, вы не обнаружили в Гусыне никакой естественной радиоактивности. Никакого углерода-14. Никакого калия-40. И вы решили, что это неудача!
Мы начали кормить Гусыню радиоактивными изотопами. Сначала осторожно, но к концу января 1956 года она получала их просто в лошадиных дозах.
Гусыня оставалась нерадиоактивной.
— Все это означает не что иное, — сказал Биллингс, — как то, что этот ядерный процесс в Гусыне, катализируемый ферментами, ухитряется превращать любой нестабильный изотоп в стабильный.
— Это полезно, — заметил я.
— Полезно? Но это же замечательно! Это великолепное защитное средство от опасностей века! Послушайте, при превращении кислорода-18 в золото-197 должно высвобождаться по восемь с чем-то позитронов на атом кислорода. А как только каждый позитрон соединится с электроном, должны испускаться гамма-лучи. Но и гамма-лучи не наблюдаются! Гусыня должна обладать способностью поглощать гамма-излучение без вреда для организма.
Мы облучили Гусыню гамма-лучами. С увеличением дозы у нее было повысилась температура, и мы в панике прекратили опыт. Но это была не лучевая болезнь, а простая лихорадка. Прошел день, температура упала, и Гусыня снова была как новенькая.
— Вы понимаете, что это такое? — вопрошал Биллингс.
— Научное диво, — сказал Финли.
— Боже мой, неужели вы не видите здесь возможности практического применения? Если бы мы могли выяснить механизм этого процесса и воспроизвести его в пробирке, мы получили бы прекрасный метод уничтожения радиоактивных отходов! Самое важное, что не позволяет нам перевести всю экономику на атомную энергию — это мысль о том, что же делать с радиоактивными изотопами, образующимися в ходе реакции. Пропустить их через бассейны с препаратами этого фермента — и все! Стоит нам найти механизм, джентльмены, и можно не беспокоиться о радиоактивных осадках. Мы нашли бы и средство от лучевой болезни. Стоит слегка изменить механизм, и Гусыня сможет вырабатывать любой нужный нам элемент. Как насчет яичной скорлупы из урана-235? Механизм! Механизм!
Он, конечно, мог кричать «Механизм!» сколько угодно. Толку от этого не было.
Все мы сидели сложа руки и уставившись на Гусыню.
Если бы яйца хоть насиживались. Если бы мы могли получить выводок гусей — ядерных реакторов…
— Это должно было случаться и раньше, — сказал Финли. — Легенды о таких птицах должны были на чем-то основываться.
— Может быть, подождем? — предложил Биллингс.
Если бы у нас было стадо таких гусей, мы могли бы разобрать несколько штук на части. Мы могли бы изучить их яичники. Мы могли бы взять срезы тканей и приготовить гомогенаты.
Из этого могло бы ничего не выйти. Ткани биопсии печени не реагировали на кислород-18, в какие бы условия мы их ни помещали.
Но мы могли бы извлечь печень целиком. Мы могли бы исследовать неповрежденных зародышей, проследить, как у зародыша развивается этот механизм.
Но у нас была только одна Гусыня и мы не могли сделать ничего подобного.
Мы не осмеливались зарезать Гусыню, Которая Несла Золотые Яйца.
Тайна была заключена в печенке этой толстой Гусыни.
Печенка толстой Гусыни! Для нас это было не просто сырье для приготовления знаменитого паштета из гусиной печенки — дело было куда серьезнее.
Невис задумчиво произнес:
— Нужна идея. Какой-нибудь радикальный выход из положения. Какая-нибудь решающая мысль.
— Легко сказать, — уныло отозвался Биллингс.
Сделав жалкую попытку пошутить, я предложил:
— Может быть, дать объявление в газетах?
И тут мне пришла в голову идея.
— Научная фантастика! — воскликнул я.
— Что? — переспросил Финли.
— Послушайте, научно-фантастические журналы печатают статьи-мистификации. Читатели воспринимают их как шутку, но их это заинтересовывает.
Я рассказал об одной такой статье, которую написал Азимов и которую я когда-то читал.
Это было встречено с холодным неодобрением.
— Мы даже не нарушим секретности, — продолжал я, — потому что этому никто не поверит.
Я рассказал им, как в 1944 году Клив Картмилл написал рассказ об атомной бомбе на год раньше, чем было можно, и как ФБР посмотрело на это сквозь пальцы.
Они уставились на меня.
— А у читателей научной фантастики бывают идеи. Не надо их недооценивать. Даже если они сочтут это мистификацией, они напишут издателю и выскажут ему свое мнение. Ведь у нас нет своих идей, мы зашли в тупик, так что мы теряем?
Их все еще не проняло.
Тогда я сказал:
— А знаете, Гусыня не будет жить вечно…
Это подействовало.
Нам пришлось уломать Вашингтон; потом я связался с Джоном Кэмпбеллом, издателем научной фантастики, а он связался с Азимовым.
И вот статья написана. Я ее прочел, одобрил и прошу вас всех ей не верить. Пожалуйста.
Вот только…
Нет ли у вас какой-нибудь идеи?
По-своему исследователь
Херман Чаунс верил в предчувствия. Иногда они сбывались, иногда — нет. Примерно пятьдесят на пятьдесят. Однако, учитывая, что верный ответ приходилось выуживать из целой вселенной разных возможностей, пятьдесят на пятьдесят — очень даже неплохо.
Чаунс не всегда радовался своей способности так, как, казалось, следовало бы ожидать. Слишком дорого она ему обходилась. Люди ломали голову над проблемой, никак не могли с ней справиться и обращались к нему: «А как, по-вашему, Чаунс? Включите-ка свою старушку-интуицию!» А если он предлагал пустышку, ответственность возлагалась на него без всякой пощады.
Его обязанности полевого исследователя только ухудшали положение. «Думаете, эта планета заслуживает внимания? Как вы считаете, Чаунс?» А потому он почувствовал только облегчение, когда против обычного получил двухместное назначение (то есть в экспедицию без приоритетности, когда никто на тебя не давит), а в партнеры — Аллена Смита.
Смит был таким же практично-прозаичным, как его фамилия. В первый же день после отлета он сказал Чаунсу:
— Дело в том, что блоки памяти у вас в мозгу всегда в полной готовности. Столкнувшись с проблемой, вы в поисках решения вспоминаете куда больше мелочей, чем мы, остальные. Называть это предчувствием — значит ссылаться На нечто мистическое, чего на самом деле и в помине нет. — Смит провел ладонью по своим зализанным кверху волосам. Волосы у него были тонкие и прилегали к голове плотной шапочкой.
Чаунс, волосы которого отличались буйностью, а курносый нос был чуть сдвинут в сторону, ответил мягко (его обычный тон):
— Я думаю, не телепатия ли это?
— Что?!
— Ну, какое-то подобие…
— Чушь! — объявил Смит с безапелляционной насмешкой (его обычный тон). — Ученые разыскивали фактор пси больше тысячи лет и ничего не нашли. Его просто не существует — ни прекогниции, ни телекинеза, ни ясновидения, ни телепатии.
— Не спорю, но подумайте вот о чем. Если я получаю картину того, о чем думает каждый в данной группе людей — даже сам того не сознавая, — то интегрирую всю информацию и делаю вывод. Таким образом я знаю больше любого члена группы, а потому могу судить о проблеме яснее остальных… иногда.
— У вас есть хоть какое-нибудь доказательство этому?
Чаунс посмотрел на него кроткими карими глазами и ответил:
— Только предчувствие.
Они хорошо ладили друг с другом. Чаунса устраивала бодрая практичность Смита, а тот снисходительно принимал логические построения своего партнера. Они часто расходились во мнении, но не ссорились.
Даже когда они достигли своей цели — шарового звездного скопления, которое никогда прежде не знало выбросов энергии ядерного реактора, созданного людьми, нарастающее напряжение не вызвало разлада.
— Любопытно, — сказал Смит, — что они делают со всеми этими данными там, на Земле? Иногда все это кажется пустой тратой времени.
— Земля только-только начинает выходить в космос, — ответил Чаунс. — Невозможно предсказать, насколько далеко распространится человечество по Галактике за, например, миллион лет. Все данные, которые мы получим о любом мире, когда-нибудь могут оказаться критически-важными.
— Ну, просто реклама, предлагающая поступить в Бригады Исследователей! По-вашему, тут может найтись что-то интересное? — Смит кивнул в сторону видеотабло, в центре которого уже довольно близкое скопление смахивало на крупицы рассыпанного талька.
— Может быть. У меня есть предчувствие… — Чаунс умолк, сглотнул, поморгал и смущенно улыбнулся.
Смит раздраженно фыркнул:
— Давайте запеленгуем ближайшую звездную группу и пройдем наугад сквозь наиболее плотную ее часть. Десять против одного, что отношение Маккомина будет ниже двух десятых.
— Проиграете, — пробормотал Чаунс. Его охватило волнение, которое всегда возникало в тот момент, когда перед ними должны были раскинуться новые миры, — чувство очень заразительное и каждый год одурманивавшее сотни юнцов. Юнцы — и он когда-то был таким — рвались в Бригады, торопясь увидеть миры, которые их потомки когда-нибудь назовут своими. Каждый по-своему исследователь.
Они взяли пеленг, осуществили свой первый ближний гиперпространственный прыжок в шаровое скопление и начали сканировать звезды, выявляя планетные системы. Компьютеры выполняли свою работу, информация непрерывно накапливалась, и все шло привычным удовлетворительным образом, пока в системе 23, вскоре после завершения прыжка, гиператомные двигатели корабля не отключились.
— Странно, — пробормотал Чаунс. — Анализаторы не показывают, что произошло.
Он был совершенно прав: стрелки прихотливо плясали, ни разу не остановившись на значимый момент, так что определить причину отказа двигателей было невозможно. А следовательно, и произвести ремонт.
— Никогда не видел ничего подобного, — проворчал Смит. — Придется все выключить и произвести проверку вручную.
— Почему бы не заняться этим с удобствами? — заметил Чаунс, уже наводя телескопы. — Обычный двигатель в порядке, а в системе имеются две вполне приличные планеты.
— А! Насколько приличные и которые из всех?
— Первая и вторая из четырех. Обе имеют воду и кислород. Первая чуть теплее и больше Земли; вторая чуть холоднее и меньше Земли. Подходит?
— Жизнь?
— И на той, и на другой. Во всяком случае флора.
Смит что-то буркнул себе под нос. Все, впрочем, было достаточно обычным — растительность, как правило, имелась на планетах с водой и кислородом.
И, в отличие от животных, растительность можно было рассмотреть в телескоп — а вернее, засечь спектроскопически. В растительных организмах за все время были обнаружены только четыре фотохимических пигмента, и каждый легко определялся по характеру отражаемого им света.
— Растительность на обеих планетах принадлежит к хлорофильному типу, не более и не менее! — сказал Чаунс. — Совсем как Земля. Там нам будет уютно.
— Какая ближе? — спросил Смит.
— Вторая, и мы уже летим к ней. У меня предчувствие, что она окажется очень приятным миром.
— С вашего разрешения, я положусь на показания приборов, — сказал Смит.
Однако, по всей видимости, предчувствие в очередной раз не обмануло Чаунса. Планета оказалась приветливой — сложная система океанов и морей обеспечивала климат без значительных температурных перепадов; горные хребты были невысокими и пологими, а распределение растительности указывало на плодородие почв почти повсеместное.
Перед приземлением Чаунс встал у пульта. Вскоре Смит потерял терпение;
— Ну что вы выбираете? Чем одно место хуже другого?
— Я ищу какую-нибудь голую площадку. Для чего выжигать акры растений?
— Ну и сожжете, так что?
— А если не сожгу, так что?
В конце концов Чаунс отыскал голую площадку. И только приземлившись, они обнаружили первые признаки того, на что наткнулись.
— Космос меня побери! — пробормотал Смит.
Чаунс был совсем ошеломлен. Фауна встречалась гораздо реже флоры, и даже проблески разума среди животных казались огромной редкостью. А здесь всего в полумиле от корабля виднелись низкие крытые листьями хижины — явно плод первобытного разума.
— Надо соблюдать осторожность, — растерянно пробормотал Смит.
— Не думаю, что есть хоть малейшая опасность, — заметил Чаунс и спокойно ступил на поверхность планеты. Смит последовал за ним.
Чаунс с трудом подавлял волнение.
— Потрясающе! До сих пор в лучшем случае сообщали о пещерах или о ветках, сплетенных в подобие шалаша.
— Надеюсь, аборигены безобидны.
— В такой мирной обстановке иначе и быть не может. Вдохните этот воздух!
Всюду вокруг корабля и до самого горизонта, не считая места, где гряда холмов нарушала его ровную линию, простиралась хлорофилловая зелень с ласкающими взгляд бледнорозовыми полосами там и сям. При ближайшем рассмотрении бледно-розовые полосы разделялись на отдельные цветки, изящные и душистые. Только участки непосредственно возле хижин отливали янтарем, напоминающим спелую пшеницу.
Из хижин вышли странные существа и направились к кораблю с какой-то робкой доверчивостью. У них было четыре ноги, скошенное туловище высотой около трех футов, голова с выпуклыми глазами (Чаунс насчитал их шесть), расположенными по ее периметру и способных двигаться одновременно в разные стороны. («Видимо, компенсация неподвижности головы», — подумал Чаунс.)
У каждого животного был раздвоенный на конце хвост, словно разделявшийся на две жилки, которые походили на две натянутые вертикально струны. Жилки непрерывно вибрировали, отчего их трудно было разглядеть.
— Идемте, — сказал Чаунс. — Они нам вреда не причинят, я в этом твердо уверен.
Животные, держась на почтительном расстоянии от людей, окружили их кольцом. Хвосты словно бы жужжали в разных тональностях.
— Возможно, так они общаются друг с другом, — заметил Чаунс. — И по-моему, они явные вегетарианцы. — Он указал на хижину, перед которым маленькая особь, присев на задние конечности, обрывала раздвоенным хвостом колосья и протаскивало каждый через рот, словно человек — кисть смородины.
— Люди едят салат, — возразил Смит, — это ничего не доказывает.
Из хижин появлялись все новые хвостатые существа: несколько секунд стояли, поглядывая на людей, а затем исчезали среди розового и зеленого.
— Вегетарианцы, — твердо сказал Чаунс. — Поглядите, с каким тщанием они ухаживают за главной своей культурой!
Главная культура, как обозначил ее Чаунс, представляла собой кольцо нежно-зеленых узких листьев у самой почвы. Из центра кольца поднимался мохнатый стебель, на котором через двухдюймовые промежутки сидели мясистые бутоны, все в прожилках и словно пульсирующие — такой жизни они были исполнены. Стебель завершался бледно-розовыми цветками, которые, если не считать окраски, даже походили на земные.
Располагались растения рядами и шпалерами с геометрической точностью. Почва возле каждого была аккуратно разрыхлена и присыпана каким-то веществом, которое могло быть только удобрением. Поле исчерчивали продольные и поперечные проходы такой ширины, чтобы по ним могло проходить животное, а по сторонам проходов тянулись узенькие канавки, явно предназначенные для стока воды.
Животные тем временем разошлись по полю и усердно трудились, почти припадая головой к земле. Возле людей их осталось совсем мало.
— Отличные земледельцы, — одобрительно заметил Чаунс.
— Да, недурно, — кивнул Смит и энергичной походкой направился к ближайшему цветку. Он уже протянул руку к бледно-розовым лепесткам, но тут его остановило жужжание жилок, ставшее невыносимо пронзительным, а к его запястью прикоснулся хвост. Прикоснулся мягко, но загораживая растение от Смита.
— Какого космоса… — Смит попятился и уже потянулся за бластером, но тут Чаунс сказал:
— Легче, легче! Причин волноваться нет никаких.
Теперь перед ними собрались шестеро животных, кротко предлагая гостям колосья — кто обвив колос хвостом, кто толкая его мордой.
— Они держатся вполне дружелюбно, — продолжил Чаунс. — Возможно, их обычаи запрещают срывать цветки. Вполне вероятно, что уход за растениями регулируется жесткими правилами. Культура, опирающаяся на земледелие, скорее всего выработала ритуалы и обряды, обеспечивающие плодородие, и только Богу известно, в чем они заключаются. Уход за растениями явно подчинен строгому распорядку — взгляните хотя бы на точно вымеренные ряды… Космос! Какой эффект это произведет дома!
Жужжание жилок вновь стало пронзительным, и существа попятились, а из самой большой хижины в центре появилось еще одно.
— Наверное, вождь, — шепнул Чаунс.
Тот медленно приближался к ним, держа хвост высоко. Каждая жилка обвивала по небольшому черному предмету В двух шагах от гостей хвост изогнулся в их сторону.
— Это подарок! — изумленно воскликнул Смит. — Чаунс, вы только поглядите!
Но Чаунс уже глядел во все глаза. И еле выговорил:
— Гиперпространственные визиры Гамова! Приборы, стоящие по десять тысяч долларов каждый!
Примерно через час Смит снова вышел из корабля. Еще в дверях он возбужденно закричал:
— Они работают! Безупречно. Мы богаты!
— Я осматривал их хижины, — крикнул в ответ Чаунс, — но больше ни одного не нашел.
— Два — это тоже не кот наплакал. Господи, они же ничем не хуже пачки банкнот!
Однако Чаунс все еще раздраженно посматривал по сторонам, уперев руки в бока. Трое хвостатых следовали за ним из хижины в хижину терпеливо, ни в чем не препятствуя, но неизменно держась между ним и геометрическими рядами бледно-розовых цветков. А теперь они многоглазно уставились на него. Смит сказал:
— К тому же это новейшая модель. Вот посмотрите!
Он указал на выпуклую надпись: «Модель Х-20, производство Гамова, Варшава, европейский сектор».
Чаунс ответил с досадой:
— Меня интересует, как раздобыть еще. Я знаю, они здесь есть. И они мне нужны! — Щеки у него побагровели, он тяжело дышал.
Солнце заходило, температура заметно упала. Смит чихнул, потом чихнул Чаунс.
— Мы простудимся, — прогнусавил Смит…
— Я должен им растолковать! — сказал упрямо Чаунс. Он торопливо проглотил банку свиных сосисок, запил банкой кофе и был готов снова приступить к поискам.
— Еще! — обратился Чаунс к аборигенам, подняв визир и широко разводя руки. Указал на один визир, потом на другой, а потом на разложенные перед ним воображаемые визиры. — Еще!
Затем, когда верхний краешек солнца закатился за горизонт, над полем разнеслось громкое жужжание — все находящиеся там существа наклонили головы, задрали раздвоенные хвосты и завибрировали ими так, что они стали совсем невидимыми в сумеречном свете.
— Какого космоса… — с тревогой пробормотал Смит. — Эй! Поглядите-ка на цветки! — Он снова чихнул.
Бледно-розовые цветки съеживались на глазах. Чаунс повысил голос, перекрикивая шум:
— Возможно, реакция на закат. Вы же знаете, многие цветы на ночь закрываются. А жужжание, вполне возможно, ритуальное прощание с ними на ночь.
Но Чаунса тут же отвлек легкий удар хвоста по запястью. Хвост этот принадлежал существу, подошедшему совсем близко, и теперь задрался, указывая на сверкающую точку в небе над западным горизонтом. Хвост изогнулся, указал на визир, затем вновь нацелился на звезду.
— Ну конечно же! — возбужденно заявил Чаунс. — Другая обитаемая планета. Визиры, наверное, попали сюда оттуда. — И тут, внезапно вспомнив, он вскричал: — Смит! Гиператомные двигатели ведь не работают!
Смит растерянно взглянул на него, будто тоже совсем забыл, потом промямлил:
— Как раз собирался сказать вам. Они в полном порядке.
— Вы их наладили?
— И пальцем к ним не прикасался. Но, проверяя визиры, я включил двигатели, и они заработали. В тот момент я даже внимания не обратил. Совсем из головы вылетело, что они забарахлили. Так или иначе сейчас они работают.
— Так полетели! — сказал Чаунс, не задумываясь о том, что им следовало бы выспаться.
Полет продолжался шесть часов, и оба не сомкнули глаз. Они не отходили от пультов управления словно в каком-то наркотическом одурении. И вновь для посадки они подыскали голую площадку.
Снаружи стояла дневная субтропическая жара. Почти рядом мирно струила воды широкая мутная река. Ближний берег представлял собой откос из спекшейся глины весь в темных провалах.
Люди спустились на поверхность планеты, и Смит хрипло вскрикнул:
— Чаунс! Вы только поглядите!
Чаунс сбросил с плеча его руку и ахнул:
— Те же самые растения. Чтоб мне провалиться! Да, те же бледно-розовые цветки, стебель в бутонах с прожилками, венчик бледно-зеленых листьев внизу. И располагаются в строго геометрическом порядке, почва удобрена, проведены оросительные канавки.
— А мы не ошиблись? — пробормотал Смит. — Описали круг и…
— Поглядите на солнце! Его диаметр вдвое больше. И взгляните вон туда.
Из ближайших провалов в откосе выползали длинные существа ровного светло-коричневого цвета, гибкие и лишенные конечностей как змеи, диаметром в фут и десяти футов в длину. Оба конца тварей были одинаково тупыми и безликими. Примерно посередине туловища виднелось вздутие. И словно по сигналу, на глазах у исследователей все вздутия расплющились в плоские овалы и как бы треснули, образовав безгубые зияющие пасти, которые открывались и закрывались со звуком, напоминавшим скрежет сухой ветки о сухую ветку в лесу.
Затем, как и на первой планете, видимо, удовлетворив любопытство и успокоив страхи, почти все змееподобные существа заскользили по земле к тщательно обработанному полю с растениями.
Смит чихнул с такой силой, что с рукава его куртки поднялось облачко пыли. Он уставился на него с изумлением и принялся хлопать себя ладонями по груди и бокам.
— Черт, я весь пропылился! — Пыль обволакивала его, точно бледно-розовый туман. — И вы тоже, — добавил он, хлопнув Чаунса по спине.
Оба расчихались.
— Набрались ее на той планете, мне кажется, — сказал Чаунс.
— Того и гляди заработаем аллергию.
— Ни в коем случае! — Чаунс протянул визир в сторону змеев и крикнул: — У вас такие есть?
Некоторое время ничего не происходило. Только пара-другая змеев соскользнули в реку, вынырнули с серебристыми пучками чего-то и подсунули их под себя — видимо, в укрытый там рот.
Все же один змей, более длинный, чем остальные, заскользил по земле к людям, вопросительно приподняв один тупой конец своего туловища и помахивая им из стороны в сторону. Бугор на середине начал вздуваться — сначала медленно, затем стремительно и лопнул пополам с довольно громким хлопком. Там между раздвинувшимися краями виднелись два визира, точные копии первых двух.
— Господи Боже ты мой! — ахнул Чаунс. — Просто чудо, верно?
Он торопливо шагнул вперед и протянул руку. Складки, в которых лежали визиры, вспучились, удлинились, превратились в подобие щупалец и потянулись навстречу ему.
Чаунс захохотал. Визиры Гамова! Точь-в-точь, как те два!..
— Чаунс, вы меня слышите? — кричал Смит. — Черт подери! Да опомнитесь же!
— Что? — пробормотал Чаунс, вдруг осознав, что Смит докрикивается до него уже больше минуты.
— Да поглядите же на цветы, Чаунс!
Цветки закрывались, как и на первой планете, а змеиные тела поднимались вертикально, балансируя на одном конце и раскачиваясь в прихотливом неровном ритме. Над розовой дымкой видны были только тупые концы.
— Тут уж вы не станете утверждать, что они закрываются из-за приближения ночи. День еще в разгаре.
— Разные планеты, разная флора. — Чаунс пожал плечами. — Пошли! Мы ведь получили тут только два визира. Их должно быть больше!
— Чаунс, пора возвращаться. — Смит встал как вкопанный и крепко ухватил Чаунса за воротник.
Чаунс негодующе повернул к нему побагровевшее лицо:
— Что вы делаете?
— Готовлюсь оглушить вас, если вы сейчас же не вернетесь со мной на корабль.
Чаунс на мгновение застыл в нерешительности, а потом дикое возбуждение в нем поугасло, сменилось апатичностью.
— Ладно, — кивнул он.
Они уже почти выбрались из звездного скопления, когда Смит сказал:
— Ну, как вы?
Чаунс сел на койку и запустил пятерню в волосы.
— Пожалуй, нормально. Во всяком случае, в голове у меня прояснилось. Долго я спал?
— Двенадцать часов.
— А вы?
— Вздремнул немного. — Смит демонстративно обернулся к приборам и что-то настроил, потом добавил неловко: — Вы знаете, что произошло на тех планетах?
— Не поделитесь со мной?
— На обеих планетах, — сказал Смит, — растения были одинаковые. Согласны?
— Безусловно.
— Каким-то образом их пересадили с одной планеты на другую. На обеих они растут одинаково хорошо. Но время от времени — для поддержания жизнедеятельности, думается мне, — должно происходить перекрестное опыление между двумя разновидностями. На Земле такое происходит постоянно.
— Перекрестное опыление?..
— И для его осуществления использовали нас. Мы высадились на одной планете, и нас засыпало пыльцой. Помните, как закрывались цветки? Видимо, после того как выбросили пыльцу, а мы из-за этого расчихались. Затем мы высадились на другой планете и стряхнули пыльцу с одежды. Возникнет новая гибридная разновидность. А мы были просто двумя двуногими пчелами, Чаунс, и исполняли свою обязанность, как опылители.
Чаунс улыбнулся:
— Не слишком завидная роль, если подумать.
— Черт, не в этом дело! Разве вы не видите опасности? Не понимаете, почему мы должны побыстрее добраться домой?
— Почему?
— Потому что организмы не адаптируются, если адаптироваться не к чему. А эти растения, очевидно, адаптировались к межпланетному перекрестному опылению. Нам даже заплатили, как платят пчелам — правда, не нектаром, а визирами Гамова.
— Ну и что?
— А то, что межпланетное опыление невозможно без помощи кого-то или чего-то. На этот раз роль опылителей досталась нам, но мы же первые люди, побывавшие в этом скоплении. Следовательно, прежде это делали какие-то другие существа, которые и пересадили растения с первой планеты на вторую. Значит, где-то в этом скоплении существует разумная раса, уже достигшая уровня космических полетов. И Земля должна об этом знать!
Чаунс медленно покачал головой. Смит нахмурился:
— Какие-нибудь нелогичности в ходе моих рассуждений?
Чаунс зажал голову в ладонях. Вид у него был глубоко
несчастный.
— Скажем, вы почти все упустили.
— Что же я упустил? — сердито спросил Смит.
— Ваша теория перекрестного опыления сама по себе логична, но вы кое-чего не учли. Когда мы приблизились к этой солнечной системе, наши гиператомные двигатели отказали, причем приборы не смогли ни определить причины, ни, тем более, ее устранить. После приземления мы к ним не прикасались. Просто забыли о них. А затем вы включили двигатели, и выяснилось, что они в полном порядке, однако на вас это не произвело никакого впечатления — настолько, что мне вы рассказали об этом лишь несколько часов спустя. Далее: как удачно мы выбрали на обеих планетах место для приземления — возле места обитания группы животных. Счастливый случай? А наша ничем не оправданная уверенность в их дружелюбии? И мы даже вышли на поверхность, не озаботившись проверить, не ядовита ли атмосфера. Но больше всего меня пугает, что я прямо-таки обезумел из-за визиров Гамова. Почему? Конечно, это ценные приборы, но не настолько же! И обычно возможность заработать быстро доллар-другой не приводит меня в исступление.
Смит слушал в тревожном молчании, а теперь сказал:
— Не вижу, как все это увязывается между собой.
— Бросьте, Смит! Вы все прекрасно понимаете. Разве вам не ясно, что нашей психикой кто-то манипулировал?
Губы Смита изогнулись в презрительной усмешке, но на его лице мелькнула тень сомнения.
— Вы опять оседлали своего парапсихологического конька?
— Да факты — упрямая вещь. Я ведь говорил вам, что мои предчувствия могут быть своего рода зачатками телепатии.
— И это тоже факт? Пару дней назад вы так не считали.
— А теперь считаю. Послушайте, я более восприимчив, чем вы, и поэтому все это подействовало на меня сильнее. Теперь, когда все позади, я лучше понимаю, что произошло, потому что воспринял больше. Ясно?
— Нет, — резко ответил Смит.
— Вы сами сказали, что визиры Гамова послужили нектаром, который подтолкнул нас произвести опыление. Так?
— Ну да.
— В таком случае, откуда они там взялись? Земные приборы, и мы даже прочли на них название фирмы и номер модели. Букву за буквой. Но если до нас люди ни разу не побывали в этом скоплении, откуда взялись там визиры? Ни я, ни вы тогда себя об этом не спросили, а вас и сейчас это вроде не беспокоит.
— Ну-у…
— Что вы сделали с визирами, Смит, когда мы вернулись на корабль? Вы забрали их у меня, это я помню.
— Положил их в сейф, — ответил Смит, словно оправдываясь.
— И больше их не вынимали?
— Нет.
— А я?
— Нет, насколько мне известно.
— Даю вам слово, что я к ним не прикасался. Так почему бы не открыть сейф сейчас?
Смит медленно подошел к сейфу, настроенный на отпечатки его пальцев, и, не глядя, засунул руку внутрь. Выражение на его лице мгновенно изменилось. Вскрикнув, он заглянул в сейф, а затем выгреб его содержимое.
В руках у него были четыре разноцветных камня, более или менее прямоугольной формы.
— Они использовали наши эмоции, чтобы управлять нами, — негромко сказал Чаунс, словно вгоняя слово за словом в упрямый мозг своего собеседника. — Они заставили нас поверить, что атомные двигатели вышли из строя, чтобы мы приземлились на одной из их планет — какой именно, значения не имело, думается мне. Они внушили нам, будто мы держим в руках ценнейшие приборы, чтобы мы обязательно помчались на вторую планету.
— Кто эти «они»? — простонал Смит. — Хвосты или змеюки? Или и те и другие?
— Не те и не другие, — ответил Чаунс. — А растения.
— Растения? Цветки?!
— Разумеется. Мы видели, что два разных вида животных ухаживают за растениями одного вида. Поскольку мы сами животные, то и предположили, что хозяева планет — животные. Но, собственно, с какой стати? Ведь всю выгоду получают растения.
— Мы тоже ухаживаем за растениями на Земле, Чаунс.
— Но мы эти растения едим.
— А может, эти животные тоже их едят?
— Скажем, я знаю, что они их не едят, — возразил Чаунс. — Нами они управляли очень умело. Вспомните, как я искал для посадки бесплодную площадку.
— Я такой потребности не испытывал.
— У пульта стояли не вы, а потому они вами не интересовались. И вспомните, мы не заметили пыльцы, хотя были обсыпаны ею, и продолжали не замечать, пока не высадились на второй планете. А тогда по приказу стряхнули ее.
— Ничего более невозможного я и представить себе не могу.
— Почему невозможного? Мы не связываем интеллект с растениями, потому что у них нет нервной системы. Но у этих она, вероятно, есть. Вспомните бутоны на стеблях. Ну, и растения неподвижны. Но это им не мешает, если у них развились парапсихологические способности и они подчиняют себе животных, обладающих способностью двигаться. Их окружают заботой, удобряют, поливают, опыляют и так далее. Животные преданно ухаживают за растениями и счастливы, потому что им внушают ощущение счастья.
— Мне вас жаль, — глухо произнес Смит. — Если вы попробуете рассказать эту сказочку на Земле, то… Мне вас жаль.
— У меня нет никаких иллюзий, — пробормотал Чаунс. — И все же… Я обязан предупредить Землю. Вы видели, что они делают с животными.
— По-вашему, превращают в рабов?
— Хуже того. Либо хвостатые, либо змееподобные, либо и те и другие наверняка когда-то находились на достаточно высоком уровне развития и совершали космические полеты. Иначе растения не могли бы оказаться на обеих планетах. Но стоило растениям развить пси-фактор, как всему этому пришел конец. Возможно, эти растения были мутантами. Животные на стадии овладевания атомом становятся опасными. А потому их заставили забыть и превратили в то, что мы видели. Черт побери, Смит! Эти растения — самое опасное, что только есть во Вселенной. Землю необходимо предупредить о них, ведь и другие земляне могут посетить это скопление.
Смит засмеялся:
— Знаете, вы попали пальцем в небо. Если эти растения действительно подчинили нас себе, почему они отпустили нас, не воспрепятствовали нам предупредить других?
Чаунс запнулся.
— Не знаю, — наконец выдавил он.
Смит успокоился.
— На минуту, готов признаться, я было вам поверил.
Чаунс энергично потер затылок. Почему их отпустили?
И, если на то пошло, почему он испытывает такое непреодолимое стремление как можно скорее предупредить Землю об опасности, с которой земляне вряд ли соприкоснутся раньше чем через тысячу лет?
Он отчаянно напрягал мысли, и что-то забрезжило. Чаунс попытался нащупать смутную идею, но она ускользнула. На мгновение он с отчаянием подумал, что ее словно вытолкнули из его мозга, но затем и это ощущение пропало.
Он знал только, что корабль должен двигаться с предельной скоростью, что им необходимо торопиться.
И вот после неисчислимых лет вновь сложились необходимые условия. Протоспоры двух разнопланетных разновидностей материнского растения встретились, смешались, вместе проникли в одежду, волосы и корабль новых животных. И почти сразу же образовались гибридные споры. Только им была дана способность потенциально приспособиться к условиям новой планеты.
Теперь споры тихо ждали на корабле, который вместе с существами, чье сознание находилось в плену последнего импульса материнского растения, мчал их на предельной скорости к новому спелому миру, где свободно движущиеся твари будут заботливо предупреждать все их нужды.
Споры ждали с растительным терпением (всепобеждающим терпением, о каком понятия не имеет ни одно животное), ждали прибытия на новый мир — каждая по-своему исследователь.
Профессия
Джордж Плейтен сказал с плохо скрытой тоской в голосе:
— Завтра первое мая. Начало Олимпиады!
Он перевернулся на живот и через спинку кровати пристально посмотрел на своего товарища по комнате. Неужели он не чувствует того же? Неужели мысль об Олимпиаде совсем его не трогает?
У Джорджа было худое лицо, черты которого еще более обострились за те полтора года, которые он провел в приюте. Он был худощав, но в его синих глазах горел прежний неуемный огонь, а в том, как он сейчас вцепился пальцами в одеяло, было что-то от затравленного зверя.
Его сосед по комнате на мгновение оторвался от книги и заодно отрегулировал силу свечения стены, у которой сидел. Его звали Хали Омани, он был нигерийцем. Темно-коричневая кожа и крупные черты лица Хали Омани, казалось, были созданы для того, чтобы выражать только одно спокойствие, и упоминание об Олимпиаде нисколько его не взволновало.
— Я знаю, Джордж, — произнес он.
Джордж многим был обязан терпению и доброте Хали; бывали минуты, когда он очень в них нуждался, но даже доброта и терпение могут стать поперек глотки. Разве сейчас можно сидеть с невозмутимым видом идола, вырезанного из дерева теплого, сочного цвета?
Джордж подумал, не станет ли он сам таким же через десять лет жизни в этом месте, и с негодованием отогнал эту мысль. Нет!
— По-моему, ты забыл, что значит май, — вызывающе сказал он.
— Я очень хорошо помню, что он значит, — отозвался его собеседник. Ровным счетом ничего! Ты забыл об этом, а не я. Май ничего не значит для тебя, Джорджа Плейтена… и для меня, Хали Омани, — негромко добавил он.
— Сейчас на Землю за новыми специалистами прилетают космические корабли, — произнес Джордж. — К июню тысячи и тысячи этих кораблей, неся на борту миллионы мужчин и женщин, отправятся к другим мирам, и все это, по-твоему, ничего не значит?
— Абсолютно ничего. И вообще, какое мне дело до того, что завтра первое мая?
Беззвучно шевеля губами. Омани стал водить пальцем по строчкам книги, которую он читал, — видимо, ему попалось трудное место.
Джордж молча наблюдал за ним. «К черту! — подумал он. — Закричи, завизжи! Это-то ты можешь? Ударь меня, ну, сделай хоть что-нибудь!»
Лишь бы не быть одиноким в своем гневе. Лишь бы разделить с кем-нибудь переполнявшее его возмущение, отделаться от мучительного чувства, что только он, он один умирает медленной смертью!
В те первые недели, когда весь мир представлялся ему тесной оболочкой, сотканной из какого-то смутного света и неясных звуков, — тогда было лучше. А потом появился Омани и вернул его к жизни, которая того не стоила.
Омани! Он-то стар! Ему уже по крайней мере тридцать. «Неужели и я в этом возрасте буду таким же? — подумал Джордж. — Стану таким, как он, через каких-нибудь двенадцать лет?»
И оттого, что эта мысль вселила в него панический страх, он заорал на Омани:
— Брось читать эту идиотскую книгу!
Омани перевернул страницу и, прочитав еще несколько слов, поднял голову, покрытую шапкой жестких курчавых волос.
— А? — спросил он.
— Какой толк от твоего чтения? — Джордж решительно шагнул к Омани, презрительно фыркнул: — Опять электроника! — и вышиб книгу из его рук.
Омани неторопливо встал и поднял книгу. Без всякого раздражения он разгладил смятую страницу.
— Можешь считать, что я удовлетворяю свое любопытство, — произнес он. — Сегодня я пойму кое-что, а завтра, быть может, пойму немного больше. Это тоже своего рода победа.
— Победа! Какая там победа? И больше тебе ничего не нужно от жизни? К шестидесяти пяти годам приобрести четверть знаний, которыми располагает дипломированный инженер-электронщик?
— А может быть, не к шестидесяти пяти годам, а к тридцати пяти?
— Кому ты будешь нужен? Кто тебя возьмет? Куда ты пойдешь с этими знаниями?
— Никому. Никто. Никуда. Я останусь здесь и буду читать другие книги.
— И этого тебе достаточно? Рассказывай! Ты заманил меня на занятия. Ты заставил меня читать и заучивать прочитанное. А зачем? Это не приносит мне никакого удовлетворения.
— Что толку в том, что ты лишаешь себя возможности получать удовлетворение?
— Я решил наконец покончить с этим фарсом. Я сделаю то, что собирался сделать с самого начала, до того как ты умаслил меня и лишил воли к сопротивлению. Я заставлю их… заставлю…
Омани отложил книгу, а когда Джордж, не договорив, умолк, задал вопрос:
— Заставишь, Джордж?
— Заставлю исправить эту вопиющую несправедливость. Все было подстроено. Я доберусь до этого Антонелли и заставлю его признаться, что он… он…
Омани покачал головой.
— Каждый, кто попадает сюда, настаивает на том, что произошла ошибка. Мне казалось, что у тебя этот период уже позади.
— Не называй это периодом, — злобно сказал Джордж. — В отношении меня действительно была допущена ошибка. Я ведь говорил тебе…
— Да, ты говорил, но в глубине души ты прекрасно сознаешь, что в отношении тебя никто не совершил никакой ошибки.
— Не потому ли, что никто не желает в этом сознаваться? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из них добровольно признает свою ошибку?.. Но я заставлю их сделать это.
Во всем виноват был май, месяц Олимпиады. Это он возродил в Джордже былую ярость, и он ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел: ведь ему грозила опасность все забыть.
— Я собирался стать программистом вычислительных машин, и я действительно могу им быть, что бы они там ни говорили, ссылаясь на результаты анализа. — Он стукнул кулаком по матрасу. — Они не правы. И не могут они быть правы.
— В анализах ошибки исключены.
— Значит, не исключены. Ведь ты же не сомневаешься в моих способностях?
— Способности не имеют к этому ровно никакого отношения. Мне кажется, что тебе достаточно часто это объясняли. Почему ты никак не можешь понять?
Джордж отодвинулся от него, лег на спину и угрюмо уставился в потолок.
— А кем ты хотел стать, Хали?
— У меня не было определенных планов. Думаю, что меня вполне устроила бы профессия гидропониста.
— И ты считал, что тебе это удастся?
— Я не был в этом уверен.
Никогда раньше Джордж не расспрашивал Омани о его жизни. Мысль о том, что у других обитателей приюта тоже были свои стремления и надежды, показалась ему не только странной, но даже почти противоестественной. Он был потрясен. Подумать только — гидропонист!
— А тебе не приходило в голову, что ты попадешь сюда?
— Нет, но, как видишь, я все-таки здесь.
— И тебя это удовлетворяет. Ты на самом деле всем доволен. Ты счастлив. Тебе здесь нравится, и ничего другого ты не хочешь.
Омани медленно встал и аккуратно начал разбирать постель.
— Джордж, ты неисправим, — произнес он. — Ты терзаешь себя, потому что отказываешься признать очевидные факты. Ты находишься в заведении, которое называешь приютом, но я ни разу не слышал, чтобы ты произнес его название полностью. Так сделай это теперь, Джордж, сделай! А потом ложись в кровать и проспись.
Джордж скрипнул зубами и ощерился.
— Нет! — сказал он сдавленно.
— Тогда это сделаю я, — сказал Омани, и, отчеканивая каждый слог, он произнес роковые слова.
Джордж слушал, испытывая глубочайший стыд и горечь. Он отвернулся.
В восемнадцать лет Джордж Плейтен твердо знал, что станет дипломированным программистом, — он стремился к этому с тех пор, как себя помнил. Среди его приятелей одни отстаивали космонавтику, другие холодильную технику, третьи — организацию перевозок и даже административную деятельность. Но Джордж не колебался.
Он с таким же жаром, как и все остальные, обсуждал преимущества облюбованной профессии. Это было вполне естественно. Впереди их всех ждал День образования — поворотный день их жизни. Он приближался, неизбежный и неотвратимый, — первое ноября того года, когда им исполнится восемнадцать лет.
Когда День образования оставался позади, появлялись новые темы для разговоров: можно было обсуждать различные профессиональные вопросы, хвалить свою жену и детей, рассуждать о шансах любимой космобольной команды или вспоминать Олимпиаду. Но до наступления Дня образования лишь одна тема неизменно вызывала всеобщий интерес — и это был День образования.
«Кем ты хочешь быть? Думаешь, тебе это удастся? Ничегошеньки у тебя не выйдет. Справься в ведомостях — квоту же урезали. А вот логистика…»
Или «а вот гипермеханика…», или «а вот связь…», или «а вот гравитика…»
Гравитика была тогда самой модной профессией. За несколько лет до того, как Джорджу исполнилось восемнадцать лет, появился гравитационный двигатель, и все только и говорили, что о гравитике. Любая планета в радиусе десяти световых лет от звезды-карлика отдала бы правую руку, лишь бы заполучить хоть одного дипломированного инженера-гравитационника.
Но Джорджа это не прельщало. Да, конечно, такая планета отдаст все свои правые руки, какие только сумеет наскрести. Однако Джордж слышал и о том, что случалось в других, только что возникших областях техники. Немедленно начнутся рационализация и упрощение. Каждый год будут появляться новые модели, новые типы гравитационных двигателей, новые принципы. А потом все эти баловни судьбы в один прекрасный день обнаружат, что они устарели, их заменят новые специалисты, получившие образование позже, и им придется заняться неквалифицированным трудом или отправиться на какую-нибудь захудалую планету, которая пока еще не догнала другие миры.
Между тем спрос на программистов оставался неизменным из года в год, из столетия в столетие. Он никогда не возрастал стремительно, не взвинчивался до небес, а просто медленно и неуклонно увеличивался в связи с освоением новых миров и усложнением старых.
Эта тема была постоянным предметом споров между Джорджем и Коротышкой Тревельяном. Как все закадычные друзья, они спорили до бесконечности, не скупясь на язвительные насмешки, и в результате оба оставались при своем мнении.
Дело в том, что отец Тревельяна, дипломированный металлург, в свое время работал на одной из дальних планет, а его дед тоже был дипломированным металлургом. Естественно, что сам Коротышка не колеблясь остановил свой выбор на этой профессии, которую считал чуть ли не неотъемлемым правом своей семьи, и был твердо убежден, что все другие специальности не слишком-то респектабельны.
— Металл будет существовать всегда, — заявил он, — и когда ты создаешь сплав с заданными свойствами и наблюдаешь, как слагается его кристаллическая решетка, ты видишь результат своего труда. А что делает программист? Целый день сидит за кодирующим устройством, пичкая информацией какую-нибудь дурацкую электронную машину длиной в милю.
Но Джордж уже в шестнадцать лет отличался практичностью.
— Между прочим, вместе с тобой будет выпущен еще миллион металлургов, — спокойно указал он.
— Потому что это прекрасная профессия. Самая лучшая.
— Но ведь ты попросту затеряешься в их массе, Коротышка, и можешь оказаться где-то в хвосте. Каждая планета может сама зарядить нужных ей металлургов, а спрос на усовершенствованные земные модели не так уж велик, да и нуждаются в них главным образом малые планеты. Ты ведь знаешь, какой процент общего выпуска дипломированных металлургов получает направление на планеты класса А. Я поинтересовался — всего лишь 13,3 процента. А это означает семь шансов из восьми, что тебя засунут на какую-нибудь третьесортную планету, где в лучшем случае есть водопровод. А то и вовсе можешь застрять на Земле — такие составляют 2,3 процента.
— Не вижу в этом ничего позорного, — вызывающе заявил Тревельян. Земле тоже нужны специалисты. И хорошие. Мой дед был земным металлургом. Подняв руку, Тревельян небрежно провел пальцем по еще не существующим усам.
Джордж знал про дедушку Тревельяна, и, памятуя, что его собственные предки тоже работали на Земле, не стал ехидничать, а, наоборот, дипломатично согласился:
— В этом, безусловно, нет ничего позорного. Конечно, нет. Однако попасть на планету класса А — это вещь, скажешь нет? Теперь возьмем программиста. Только на планетах класса А есть такие вычислительные машины, для которых действительно нужны высококвалифицированные программисты, и поэтому только эти планеты и берут их. К тому же ленты по программированию очень сложны и для них годится далеко не всякий. Планетам класса А нужно больше программистов, чем может дать их собственное население. Это же чистая статистика. На миллион человек приходится в среднем, скажем, один первоклассный программист. И если на планете живет десять миллионов, а им там требуется двадцать программистов, они вынуждены обращаться к Земле, чтобы получить еще пять, а то и пятнадцать специалистов. Верно? А знаешь, сколько дипломированных программистов отправилось в прошлом году на планеты класса А? Не знаешь? Могу тебе сказать. Все до единого! Если ты программист, можешь считать, что ты уже там. Так-то!
Тревельян нахмурился.
— Если только один человек из миллиона годится в программисты, почему ты думаешь, что у тебя это выйдет?
— Выйдет, можешь быть спокоен, — сдержанно ответил Джордж. Он никогда не осмелился бы рассказать ни Тревельяну, ни даже своим родителям, чти именно он делает и почему так уверен в себе. Он был абсолютно спокоен за свое будущее. (Впоследствии, в дни безнадежности и отчаяния, именно это воспоминание стало самым мучительным.) Он был так же непоколебимо уверен в себе, как любой восьмилетний ребенок накануне Дня чтения, этого преддверия следующего за ним через десять лет Дня образования.
Ну, конечно, День чтения во многом отличался от Дня образования. Во-первых, следует учитывать особенности детской психологии. Ведь восьмилетний ребенок легко воспринимает многие самые необычные явления. И то, что вчера он не умел читать, а сегодня уже умеет, кажется ему само собой разумеющимся. Как солнечный свет, например.
А во-вторых, от этого дня зависело не так уж много. После него толпы вербовщиков не теснились перед списками, с нетерпением ожидая, когда будут объявлены результаты ближайшей Олимпиады. День чтения практически ничего не менял в жизни детей, и они еще десять лет оставались под родительской кровлей, как и все их сверстники. Просто после этого дня они уже умели читать.
И Джордж, готовясь к Дню образования, почти не помнил подробностей того, что произошло с ним в День чтения, десять лет назад.
Он, правда, не забыл, что день выдался пасмурный и моросил сентябрьский дождь. (День чтения — в сентябре. День образования — в ноябре, Олимпиада — в мае. На эту тему сочиняли даже детские стишки.) Было еще темно, и Джордж одевался при стенном свете. Родители его волновались гораздо больше, чем он сам. Отец Джорджа был дипломированным трубопрокладчиком и работал на Земле, чего втайне стыдился, хотя все понимали, что большая часть каждого поколения неизбежно должна остаться на Земле.
Сама Земля нуждалась в фермерах, шахтерах и даже в инженерах. Для работы на других планетах требовались только самые последние модели высококвалифицированных специалистов, и из восьми миллиардов земного населения туда ежегодно отправлялось всего лишь несколько миллионов человек. Естественно, не каждый житель Земли мог попасть в их число.
Но каждый мог надеяться, что по крайней мере кому-нибудь из его детей доведется работать на другой планете, и Плейтен старший, конечно, не был исключением. Он видел (как, впрочем, видели и совершенно посторонние люди), что Джордж отличается незаурядными способностями и большой сообразительностью. Значит, его ждет блестящая будущность, тем более, что он единственный ребенок в семье. Если Джордж не попадет на другую планету, то его родителям придется возложить все надежды на внуков, а когда-то еще у них появятся внуки!
Сам по себе День чтения, конечно, мало что значил, но в то же время только он мог показать хоть что-нибудь до наступления того, другого, знаменательного дня. Когда дети возвращались домой, все родители Земли внимательно слушали, как они читают, стараясь уловить особенную беглость, чтобы истолковать ее как счастливое предзнаменование. Почти в любой семье подрастал такой многообещающий ребенок, на которого со Дня чтения возлагались огромные надежды только потому, что он легко справлялся с трехсложными словами.
Джордж смутно сознавал, отчего так волнуются его родители, и в то дождливое утро его безмятежный детский покой смущал только страх, что радостное выражение на лице отца может угаснуть, когда он вернется домой и покажет, как он научился читать.
Детей собрали в просторном зале городского Дома образования. В этот месяц во всех уголках Земли в миллионах местных Домов образования собирались такие же группы детей. Серые стены и напряженность, с которой держались дети, стеснявшиеся непривычной нарядной одежды, нагнали на Джорджа тоску.
Он инстинктивно поступил так же, как другие: отыскав кучку ребят, живших с ним на одном этаже, он присоединился к ним.
Тревельян, мальчик из соседней квартиры, все еще разгуливал в длинных локонах, а от маленьких бачков и жидких рыжеватых усов, которые ему предстояло отрастить, едва он станет к этому физиологически способен, его отделяли еще многие годы.
Тревельян (для которого Джордж тогда был еще Джорджи) воскликнул:
— Ага! Струсил, струсил!
— Вот и нет! — возразил Джордж и затем доверительно сообщил: — А папа с мамой положили печатный лист на мою тумбочку и, когда я вернусь домой, я прочту им все до последнего словечка. Вот! (В тот момент наибольшее мучение Джорджу причиняли его собственные руки, которые он не знал куда девать. Ему строго-настрого приказали не чесать голову, не тереть уши, не ковырять в носу и не засовывать руки в карманы. Так что же ему было с ними делать?)
Зато Тревельян как ни в чем не бывало сунул руки в карманы и заявил:
— А вот мой папа ничуточки не беспокоится.
Тревельян старший почти семь лет работал металлургом на Динарии, и, хотя теперь он вышел на пенсию и жил опять на Земле, соседи смотрели на него снизу вверх.
Возвращение на Землю не очень поощрялось из-за проблемы перенаселенности, но все же кое-кому удавалось вернуться. Прежде всего, жизнь на Земле была дешевле, и пенсия, мизерная в условиях Дипории, на Земле выглядела весьма солидно. Кроме того, некоторым людям особенно приятно демонстрировать свои успехи именно перед друзьями детства и знакомыми, а не перед всей остальной Вселенной.
Свое возвращение Тревельян старший объяснил еще и тем, что, останься он на Дипории, там пришлось бы остаться и его детям, а Дипория имела сообщение только с Землей. Живя же на Земле, его дети смогут в будущем попасть на любой из миров, даже на Новию.
Коротышка Тревельян рано усвоил эту истину. Еще до Дня чтения он беззаботно верил, что в конце концов будет жить на Новия, и говорил об этом как о деле решенном.
Джордж, подавленный мыслью о будущем величии Тревельяна и сознанием собственного ничтожества, немедленно в целях самозащиты перешел в наступление.
— Мой папа тоже не беспокоится. Ему просто хочется послушать, как я читаю! Ведь он знает, что читать я буду очень хорошо. А твой отец просто не хочет тебя слушать: он знает, что у тебя ничего не выйдет.
— Нет, выйдет! А чтение — это ерунда. Когда я буду жить на Новии, я найму людей, чтобы они мне читали.
— Потому что сам ты читать не научишься! Потому что ты дурак!
— А как же я тогда попаду на Новию?
И Джордж, окончательно выведенный из себя, посягнул на основу основ:
— А кто это тебе сказал, что ты попадешь на Новию?! Никуда ты не попадешь. Вот!
Коротышка Тревельян покраснел.
— Ну, уж трубопрокладчиком, как твой папаша, я не буду!
— Возьми назад, что сказал, дурак!
— Сам возьми!
Они были готовы броситься друг на друга. Драться им, правда, совсем не хотелось, но возможность заняться чем-то привычным в этом чужом месте сама по себе была уже облегчением. А к тому же Джордж сжал кулаки и встал в боксерскую стойку, так что мучительная проблема — куда девать руки временно разрешилась. Остальные дети возбужденно обступили их.
Но тут же все кончилось: по залу внезапно разнесся усиленный громкоговорителями женский голос — и сразу наступила тишина. Джордж разжал кулаки и забыл о Тревельяне.
— Дети, — произнес голос, — сейчас мы будем называть ваши фамилии. Тот, кто услышит свою фамилию, должен тут же подойти к одному из служителей, которые стоят у стен. Вы видите их? Они одеты в красную форму, и вы легко их заметите. Девочки пойдут направо, мальчики — налево. А теперь посмотрите, какой человек в красном стоит к вам ближе всего…
Джордж сразу же увидел своего служителя и стал ждать, когда его вызовут. Он еще побыл посвящен в тайну алфавита, и к тому времени, когда дошла очередь до его фамилии, уже начал волноваться.
Толпа детей редела, ручейками растекаясь к красным фигурам.
Когда наконец было произнесено имя «Джордж Плейтен», он испытал невыразимое облегчение и упоительную радость: его уже вызвали, а Коротышку — нет!
Уходя, Джордж бросил ему через плечо:
— Ага, Коротышка! А может, ты им вовсе и не нужен?
Но его приподнятое настроение быстро улетучилось. Его поставили рядом с незнакомыми детьми и всех повели по коридорам. Они испуганно переглядывались, но заговорить никто не осмеливался, и слышалось только сопение да иногда сдавленный шепот: «Не толкайся!» и «Эй, ты, поосторожней!»
Им раздали картонные карточки и велели их не терять. Джордж стал с любопытством рассматривать свою карточку. Он увидел маленькие черные значки разной формы. Он знал, что это называется печатными буквами, но был не в состоянии представить себе, как из них получаются слова.
Его и еще четверых мальчиков отвели в отдельную комнату и велели им раздеться. Они быстро сбросили свою новую одежду и стояли теперь голые и маленькие, дрожа скорее от волнения, чем от холода. Лаборанты быстро, по очереди ощупывали и исследовали их с помощью каких-то странных инструментов, кололи им пальцы, чтобы взять кровь для анализа, а потом каждый брал карточки и черной палочкой торопливо выводил на них аккуратные ряды каких-то значков. Джордж Пристально вглядывался в эти новые значки, но они оставались такими же непонятными, как и старые. Затем детям велели одеться.
Они сели на маленькие стулья и снова стали ждать. Их опять начали вызывать по фамилиям, и Джорджа Плейтена вызвали третьим.
Он вошел в большую комнату, заполненную страшными аппаратами с множеством кнопок и прозрачных панелей. В самом Центре комнаты стоял письменный стол, за которым, устремив взгляд на кипу лежавших перед ним бумаг, сидел какой-то мужчина.
— Джордж Плейтен? — спросил он.
— Да, сэр, — дрожащим шепотом ответил Джордж, который в результате длительного ожидания и бесконечных переходов из комнаты в комнату начал волноваться. Он уже мечтал о том, чтобы все это поскорее кончилось.
Человек за письменным столом сказал:
— Меня зовут доктор Ллойд. Как ты себя чувствуешь, Джордж?
Произнося эту фразу, доктор не поднял головы. Казалось, он повторял эти слова так часто, что ему уже не нужно было смотреть на того, к кому он обращался.
— Хорошо.
— Ты боишься, Джордж?
— Н-нет, сэр, — ответил Джордж, и даже от него самого не укрылось, как испуганно прозвучал его голос.
— Вот и прекрасно, — произнес доктор. — Ты же знаешь, что бояться нечего. Ну-ка, Джордж, посмотрим! На твоей карточке написано, что твоего отца зовут Питер и что по профессии он дипломированный трубопрокладчик. Имя твоей матери Эми, и она дипломированный специалист по домоведению. Правильно?
— Д-да, сэр.
— А ты родился 13 февраля и год назад перенес инфекционное заболевание уха. Так?
— Да, сэр.
— А ты знаешь, откуда мне это известно?
— Я думаю, все это есть на карточке.
— Совершенно верно, — доктор в первый раз взглянул на Джорджа и улыбнулся, показав ровные зубы. На вид он был гораздо моложе отца Джорджа — и Джордж несколько успокоился.
Доктор протянул ему карточку.
— Ты знаешь, что означают эти значки?
И хотя Джорджу было отлично известно, что этого он не знает, от неожиданности он взглянул на карточку с таким вниманием, словно по велению судьбы внезапно научился читать. Но значки по-прежнему оставались непонятными, и он вернул карточку доктору.
— Нет, сэр.
— А почему?
У Джорджа вдруг мелькнуло подозрение: а не сошел ли с ума этот доктор? Разве он этого не знает сам?
— Потому что я не умею читать, сэр.
— А тебе хотелось бы научиться читать?
— Да, сэр.
— А зачем, Джордж?!
Джордж в недоумении вытаращил глаза. Никто никогда не задавал ему такого вопроса, и он растерялся.
— Я не знаю, сэр, — запинаясь, произнес он.
— Печатная информация будет руководить тобой всю твою жизнь. Даже после Дня образования тебе предстоит узнать еще очень многое. И эти знания ты будешь получать из таких вот карточек, из книг, с телевизионных экранов. Печатные тексты расскажут тебе столько полезного и интересного, что не уметь читать было бы так же ужасно, как быть слепым. Тебе это понятно?
— Да, сэр.
— Ты боишься, Джордж?
— Нет, сэр.
— Отлично. Теперь я объясню тебе, с чего мы начнем. Я приложу вот эти провода к твоему лбу над уголками глаз. Они приклеятся к коже, но не причинят тебе никакой боли. Потом я включу аппарат и раздастся жужжание. Оно покажется тебе непривычным, и, возможно, тебе будет немного щекотно, но это тоже совершенно безболезненно. Впрочем, если тебе все-таки станет больно, ты мне скажешь, и я тут же выключу аппарат. Но больно не будет. Ну, как, договорились?
Судорожно глотнув, Джордж кивнул.
— Ты готов?
Джордж снова кивнул. С закрытыми глазами он ждал, пока доктор готовил аппаратуру. Родители не раз рассказывали ему про все это. Они тоже говорили, что ему не будет больно. Но зато ребята постарше, которым исполнилось десять, а то и двенадцать лет, всегда дразнили ожидавших своего Дня чтения восьмилеток и кричали: «Берегитесь иглы!» А другие, отозвав малыша в какой-нибудь укромный уголок, по секрету сообщали: «Они разрежут тебе голову вот таким большущим ножом с крючком на конце», — и добавляли множество жутких подробностей.
Джордж никогда не принимал это за чистую монету, но тем не менее по ночам его мучили кошмары. И теперь, испытывая непередаваемый ужас, он закрыл глаза.
Он не почувствовал прикосновения проводов к вискам. Жужжание доносилось откуда-то издалека, и его заглушал звук стучавшей в ушах крови, такой гулкий, словно все происходило в большой пустой пещере. Джордж рискнул медленно открыть глаза.
Доктор стоял к нему спиной. Из одного аппарата ползла узкая лента бумаги, на которой виднелась волнистая фиолетовая линия. Доктор отрывал кусочки этой ленты и вкладывал их в прорезь другой машины. Он снова и снова повторял это, и каждый раз машина выбрасывала небольшой кусочек пленки, который доктор внимательно рассматривал. Наконец, он повернулся к Джорджу, как-то странно нахмурив брови.
Жужжание прекратилось.
— Уже все? — прошептал Джордж.
— Да, — не переставая хмуриться, произнес доктор.
— И я уже умею читать? — Джордж не чувствовал в себе никаких изменений.
— Что? — переспросил доктор, и на его губах мелькнула неожиданная улыбка. — Все идет, как надо, Джордж. Читать ты будешь через пятнадцать минут. А теперь мы воспользуемся другой машиной, и это уже будет немного дольше. Я закрою тебе всю голову, и, когда я включу аппарат, ты на некоторое время перестанешь видеть и слышать, но тебе не будет больно. На всякий случай я дам тебе в руку выключатель. Если ты все-таки почувствуешь боль, нажми вот эту маленькую кнопку, и все прекратится. Хорошо?
Позже Джорджу довелось услышать, что это был не настоящий выключатель и его давали ребенку только для того, чтобы он чувствовал себя спокойнее. Однако он не знал твердо, так ли это, поскольку сам кнопки не нажимал.
Ему надели на голову большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резиной. Три-четыре небольшие выпуклости присосались к его черепу, но он ощутил лишь легкое давление, которое тут же исчезло. Боли не было.
Откуда-то глухо донесся голос доктора:
— Ну, как, Джордж, все в порядке?
И тогда, без всякого предупреждения, его как будто окутал толстый слой войлока. Он перестал ощущать собственное тело, исчезли чувства, весь мир, вся Вселенная. Остался лишь он сам и доносившийся из бездонных глубин небытия голос, который что-то шептал ему… шептал… шептал…
Он напряженно старался услышать и понять хоть что-нибудь, но между ним и шепотом лежал толстый войлок.
Потом с него сняли шлем. Яркий свет ударил ему в глаза, а голос доктора отдавался в ушах барабанной дробью.
— Вот твоя карточка, Джордж. Скажи, что на ней написано?
Джордж снова взглянул на карточку — и вскрикнул. Значки обрели смысл! Они слагались в слова, которые он понимал так отчетливо, будто кто-то подсказывал их ему на ухо. Он был уверен, что именно слышал их.
— Так что же на ней написано, Джордж?
— На ней написано… написано… «Плейтен Джордж. Родился 13 февраля 6492 года, родители Питер и Эми Плейтен, место…» — от волнения он не мог продолжать.
— Ты умеешь читать, Джордж, — сказал доктор. — Все уже позади.
— И я никогда не разучусь? Никогда?
— Ну конечно же, нет. — Доктор наклонился и серьезно пожал ему руку. — А сейчас тебя отправят домой.
Прошел не один день, прежде чем Джордж освоился со своей новой, замечательной способностью. Он так бегло читал отцу вслух, что Плейтен старший не смог сдержать слез умиления и поспешил поделиться этой радостной новостью с родственниками.
Джордж бродил по городу, читая все попадавшиеся ему по пути надписи, и не переставал удивляться тому, что было время, когда он их не понимал.
Он пытался вспомнить, что это такое — не уметь читать, и не мог. Ему казалось, будто он всегда умел читать. Всегда.
К восемнадцати годам Джордж превратился в смуглого юношу среднего роста, но благодаря худобе он выглядел выше, чем был на самом деле. А коренастый, широкоплечий Тревельян, который был ниже его разве что на дюйм, по-прежнему выглядел настоящим коротышкой. Однако за последний год он стал очень самолюбив и никому не позволял безнаказанно употреблять это прозвище. Впрочем, настоящее имя нравилось ему еще меньше, и его называли просто Тревельяном или каким-нибудь прилично звучавшим сокращением фамилии. А чтобы еще более подчеркнуть свое возмужание, он упорно отращивал баки и жесткие, как щетина, усики.
Сейчас он вспотел от волнения, и Джордж, к тому времени тоже сменивший картавое «Джооджи» на односложное гортанное «Джордж», глядел на него, посмеиваясь.
Они находились в том же огромном зале, где их однажды уже собирали десять лет назад (и куда они с тех пор ни разу не заходили). Казалось, внезапно воплотилось в действительность туманное сновидение из далекого прошлого. В первые минуты Джордж был очень удивлен, обнаружив, что все здесь как будто стало меньше и теснее, но потом он сообразил, что это вырос он сам.
Собралось их здесь меньше, чем в тот, первый раз, и одни юноши. Для девушек был назначен другой день.
— Не понимаю, почему нас заставляют ждать так долго, — вполголоса сказал Тревельян.
— Обычная волокита, — заметил Джордж. — Вез нее не обойдешься.
— И откуда в тебе это идиотское спокойствие? — раздраженно поинтересовался Тревельян.
— А мне не из-за чего волноваться.
— Послушать тебя, так уши вянут! Надеюсь, ты станешь дипломированным возчиком навоза, вот тогда-то я на тебя погляжу. — Он окинул толпу угрюмым, тревожным взглядом.
Джордж тоже посмотрел по сторонам. На этот раз система была иной, чем в День чтения. Все шло гораздо медленнее, а инструкции были розданы сразу в печатном виде — значительное преимущество перед устными инструкциями еще не умеющим читать детям. Фамилии «Плейтен» и «Тревельян» по-прежнему стояли в конце списка, но теперь они уже знали, в чем дело.
Юноши один за другим выходили из проверочных комнат. Нахмурившись и явно испытывая неловкость, они забирали свою одежду и вещи и отправлялись узнавать результаты.
Каждого окружала с каждым разом все более редевшая кучка тех, кто еще ждал своей очереди. «Ну, как?», «Очень трудно было?», «Как по-твоему, что тебе дали?», «Чувствуешь разницу?» — раздавалось со всех сторон.
Ответы были туманными и уклончивыми.
Джордж, напрягая всю волю, держался в стороне. Такие разговоры лучший способ вывести человека из равновесия. Все единогласно утверждали, что больше всего шансов у тех, кто сохраняет спокойствие. Но, несмотря ни на что, он чувствовал, как у него постепенно холодеют руки.
Забавно, как с годами приходят новые заботы. Например, высококвалифицированные специалисты отправляются работать на другие планеты только с женами (или мужьями). Ведь на всех планетах необходимо поддерживать правильное соотношение числа мужчин и женщин. А какая девушка откажется выйти за человека, которого посылают на планету класса А? У Джорджа не было на примете никакой определенной девушки, да он и не интересовался ими. Еще не время. Вот когда его мечта осуществится и он получит право добавлять к своему имени слова «дипломированный программист», вот тогда он, как султан в гареме, сможет выбрать любую. Эта мысль взволновала его, и он постарался тут же выкинуть ее из головы. Необходимо сохранять спокойствие.
— Что же это все-таки может значить? — пробормотал Тревельян. Сначала тебе советуют сохранять спокойствие и хладнокровие, а потом тебя ставят в такое вот положение — тут только и сохранять спокойствие!
— Может быть, это нарочно? Чтобы с самого начала отделить мужчин от мальчиков? Легче, легче, Трев!
— Заткнись!
Наконец вызвали Джорджа, но не по радио, как в тот раз, — его фамилия вспыхнула на световом табло.
Джордж помахал Тревельяну рукой.
— Держись, Трев! Не волнуйся.
Когда он входил в проверочную комнату, он был счастлив. Да, счастлив!
— Джордж Плейтен? — спросил человек, сидевший за столом.
На миг в сознании Джорджа с необыкновенной четкостью возник образ другого человека, который десять лет назад задал такой же вопрос, и ему вдруг показалось, что перед ним тот же доктор, а он, Джордж, переступив порог, снова превратился в восьмилетнего мальчугана.
Сидевший за столом поднял голову — его лицо конечно, не имело ничего общего с образом, всплывшим из глубин памяти Джорджа. У этого нос был картошкой, волосы жидкие и спутанные, а под подбородком висела складка, словно прежде он был очень толстым, а потом вдруг сразу похудел.
— Ну? — раздраженно произнес он.
Джордж очнулся.
— Да, я Джордж Плейтен, сэр.
— Так и говорите. Я — доктор Зэкери Антонелли. Сейчас мы с вами познакомимся поближе.
Он пристально, по-совиному, разглядывал на свет маленькие кусочки пленки.
Джордж внутренне содрогнулся. Он смутно вспомнил, что тот, другой доктор (он забыл, как его звали) тоже рассматривал такую же пленку. Неужели это та самая? Тот хмурился, а этот взглянул на него сейчас так, как будто его что-то рассердило.
Джордж уже не чувствовал себя счастливым.
Доктор Антонелли раскрыл довольно пухлую папку и осторожно отложил в сторону пленки.
— Тут сказано, что вы хотите стать программистом вычислительных машин.
— Да, доктор.
— Вы не передумали?
— Нет, сэр.
— Это очень ответственная и сложная профессия. Вы уверены, что она вам по силам?
— Да, сэр.
— Большинство людей, еще не получивших образования, не называют никакой конкретной профессии. Видимо, они боятся повредить себе.
— Наверное так, сэр.
— А вас это не пугает?
— Я полагаю, что лучше быть откровенным, сэр.
Доктор Антонелли кивнул, но выражение его лица осталось прежним.
— Почему вы хотите стать программистом?
— Как вы только что сказали, сэр, это ответственная и сложная профессия. Программисты выполняют важную и интересную работу. Мне она нравится, и я думаю, что справлюсь с ней.
Доктор Антонелли отодвинул папку и кисло взглянул на Джорджа.
— Откуда вы знаете, что она вам понравится? Вы, наверное, думаете, что вас тут же подхватит какая-нибудь планета класса А?
«Он пробует запугать меня, — с тревогой подумал Джордж. — Спокойно, Джордж, говори правду».
— Мне кажется, что у программиста на это большие шансы, — произнес он, — но, даже если бы меня оставили на Земле, работа эта мне все равно нравилась бы, я знаю. («Во всяком случае, это так и я не лгу», — подумал Джордж.)
— Пусть так, но откуда вы это знаете?
Вопрос был задан таким тоном, словно на него нельзя было ответить разумно, и Джордж еле сдержал улыбку. У него-то имелся ответ!
— Я читал о программировании, сэр, — сказал он.
— Что?
На лице доктора отразилось неподдельное изумление, и это доставило Джорджу удовольствие.
— Я читал о программировании, сэр, — повторил он. — Я купил книгу на эту тему и изучал ее.
— Книгу, предназначенную для дипломированных программистов?
— Да, сэр.
— Но ведь вы могли не понять то, что там написано.
— Да, вначале. Но я достал другие книги по математике и электронике и разобрался в них, насколько мог. Я, конечно, знаю не так уж много, но все-таки достаточно, чтобы понять, что мне нравится эта профессия и что я могу быть программистом. (Даже его родители ничего не знали о тайнике, где он хранил эти книги, и не догадывались, почему он проводит так много времени в своей комнате и почему не высыпается.)
Доктор оттянул пальцами дряблую складку под подбородком.
— А зачем вы это делали, друг мой?
— Мне хотелось проверить, действительно ли эта профессия интересна.
— Но ведь вам известно, что это не имеет ни малейшего значения. Как бы вас ни привлекала та или иная профессия, вы не получите ее, если физическое устройство вашего мозга делает вас более пригодным для занятий иного рода. Вам ведь это известно?
— Мне говорили об этом, — осторожно ответил Джордж.
— Так поверьте, что это правда.
Джордж промолчал.
— Или вы думаете, что изучение какого-нибудь предмета перестроит мозговые клетки в нужном направлении? А еще одна теорийка рекомендует беременной женщине чаще слушать прекрасную музыку, если она хочет, чтобы ребенок стал композитором. Вы, значит, верите в это?
Джордж покраснел. Конечно, он думал и об этом. Он полагал, что, постоянно упражняя свой интеллект в избранной области, он получит таким образом дополнительное преимущество. Его уверенность в значительной мере объяснялась именно этим.
— Я никогда… — начал было он, но не нашел, что сказать.
— Ну, так это неверно, молодой человек! К моменту рождения ваш мозг уже окончательно сформирован. Он может быть изменен ударом, достаточно сильным, чтобы повредить его клетки, или разрывом кровеносного сосуда, или опухолью, или тяжелым инфекционным заболеванием — в любом случае обязательно к худшему. Но повлиять на строение мозга, упорно о чем-то думая, попросту невозможно. — Он задумчиво посмотрел на Джорджа и добавил: — Кто вам посоветовал делать это?
Окончательно расстроившись, Джордж судорожно глотнул и ответил:
— Никто, доктор. Это моя собственная идея.
— А кто знал об этих ваших занятиях?
— Никто. Доктор, я не хотел ничего плохого.
— Кто сказал, что это плохо? Бесполезно, только и всего. А почему вы скрывали свои занятия?
— Я… я думал, что надо мной будут смеяться. (Он вдруг вспомнил о недавнем споре с Тревельяном. Очень осторожно, как будто эта мысль только зародилась в самом отдаленном уголке его сознания, Джордж высказал предположение, что, пожалуй, можно кое-чему научиться, черпая знания, так сказать, вручную, постепенно и понемногу. Тревельян оглушительно расхохотался: «Джордж, не хватает еще, чтобы ты начал дубить кожу для своих башмаков и сам ткать материю для своих рубашек». И тогда он обрадовался, что сумел хорошо сохранить свою тайну.)
Погрузившись в мрачное раздумье, доктор Антонелли перекладывал с места на место кусочки пленки, которые рассматривал в начале их разговора. Наконец он произнес:
— Займемся-ка вашим анализом. Так мы ничего не добьемся.
К вискам Джорджа приложили провода. Раздалось жужжание, и снова в его мозгу возникло ясное воспоминание о том, что происходило с ним в этом здании десять лет назад.
Руки Джорджа были липкими от пота, его сердце отчаянно колотилось. Зачем, зачем он сказал доктору, что тайком читает книги?
Всему виной было его проклятое тщеславие. Ему захотелось щегольнуть своей предприимчивостью и самостоятельностью, а вместо этого он продемонстрировал свое суеверие и невежество и восстановил доктора против себя. (Он чувствовал, что Антонелли возненавидел его за самодовольную развязность.)
А теперь он довел себя до такого возбуждения, что анализатор, конечно, покажет полную бессмыслицу.
Он не заметил, когда именно с его висков сняли провода. Он только вдруг осознал, что доктор стоит перед ним и задумчиво смотрит на него. А проводов уже не было. Отчаянным усилием воли Джордж взял себя в руки. Он полностью распростился с мечтой стать программистом. За каких-нибудь десять минут она окончательно рассеялась.
— Наверно, нет? — уныло спросил он.
— Что нет?
— Из меня не выйдет программиста?
Доктор потер нос и сказал:
— Одевайтесь, заберите свои вещи и идите в комнату 15-С. Там вас будут ждать ваши бумаги и мое заключение.
— Разве я уже получил образование? — изумленно спросил Джордж. — Мне казалось, что это только…
Доктор Антонелли внимательно посмотрел на письменный стол.
— Вам все объяснят. Делайте, как я сказал.
Джордж почувствовал смятение. Что от него утаивают? Он годится только для профессии дипломированного чернорабочего, и его хотят подготовить, заставить смириться с этой судьбой?
Он сразу полностью уверовал в правильность своей догадки, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы не закричать.
Спотыкаясь, он побрел к своему месту в зале. Тревельяна там не было, и, если бы Джордж в тот момент был способен осмысленно воспринимать окружающее, он обрадовался бы этому обстоятельству. В зале вообще уже почти никого не осталось, а те немногие, которые, судя по их виду, как будто намеревались его порасспросить, были слишком измучены ожиданием своей очереди в конце алфавита, чтобы выдержать его свирепый, полный злобной ненависти взгляд.
По какому праву они будут квалифицированными специалистами, а он чернорабочим? Чернорабочим! Он был в этом уверен.
Служитель в красной форме повел его по коридорам, полным деловой суеты, мимо комнат, в каждой из которых помещалась та или иная группа специалистов — где два, а где пять человек: механики-мотористы, инженеры-строители, агрономы… Существовали сотни различных профессий, и значительная их часть будет представлена в этом году по крайней мере одним или двумя жителями его родного городка.
В эту минуту Джордж ненавидел их всех: статистиков, бухгалтеров, тех, кто поважнее, и тех, кто помельче. Он ненавидел их за то, что они уже получили свои знания и им была ясна их дальнейшая судьба, а его самого, все еще не обученного, ждала какая-то новая волокита.
Наконец он добрался до двери с номером 15-С. Его ввели в пустую комнату и оставили одного. На какой-то миг он воспрянул духом. Ведь, если бы эта комната предназначалась для чернорабочих, тут уже сидело бы много его сверстников.
Дверь в невысокой, в половину человеческого роста, перегородке скользнула в паз, и в комнату вошел пожилой седовласый мужчина. Он улыбнулся, показав ровные, явно фальшивые зубы, однако на его румяном лице не было морщин, а голос сохранил звучность.
— Добрый вечер, Джордж, — сказал он. — Я вижу, что на этот раз к нам в сектор попал только один из вас.
— Только один? — с недоумением повторил Джордж.
— Ну, по всей Земле таких, как вы, наберется несколько тысяч. Да, тысяч. Вы не одиноки.
Джордж почувствовал раздражение.
— Я ничего не понимаю, сэр, — сказал он. — Какова моя классификация? Что происходит?
— Полегче, друг мой. Ничего страшного. Это могло бы случиться с кем угодно. — Он протянул руку, и Джордж, машинально взяв ее, почувствовал крепкое пожатие. — Садитесь. Меня зовут Сэм Элленфорд.
Джордж нетерпеливо кивнул.
— Я хочу знать, в чем дело, сэр.
— Естественно. Во-первых, Джордж, вы не можете быть программистом. Я думаю, что вы и сами об этом догадались.
— Да, — с горечью согласился Джордж. — Но кем же я тогда буду?
— Это очень трудно объяснить, Джордж. — Он помолчал и затем отчетливо произнес: — Никем.
— Что?!
— Никем!
— Что это значит? Почему вы не можете дать мне профессию?
— Мы тут бессильны, Джордж, у нас нет выбора. За нас решает устройство вашего мозга.
Лицо Джорджа стало землистым, глаза выпучились.
— Мой мозг никуда не годится?
— Да как сказать. Но в отношении профессиональной классификации можете считать, что он действительно не годится.
— Но почему?
Элленфорд пожал плечами.
— Вам, конечно, известно, как осуществляется на Земле программа образования. Практически любой человек может усвоить любые знания, но каждый индивидуальный мозг лучше подходит для одних видов знаний, чем для других. Мы стараемся по возможности сочетать устройство мозга с соответствующими знаниями в пределах квоты на специалистов каждой профессии.
Джордж кивнул.
— Да, я знаю.
— Но иногда, Джордж, нам попадается молодой человек, чей интеллект не подходит для наложения на него каких бы то ни было знаний.
— Другими словами, я не способен получить образование?
— Вот именно.
— Но это безумие. Ведь я умен. Я могу понять… — Он беспомощно оглянулся, как бы отыскивая какую-нибудь возможность доказать, что его мозг работает нормально.
— Вы неправильно меня поняли, — очень серьезно произнес Элленфорд. Вы умны. Об этом вопроса не встает. Более того, ваш интеллект даже выше среднего. К сожалению, это не имеет никакого отношения к тому, подходит ли он для наложения знаний. Вообще сюда почти всегда попадают умные люди.
— Вы хотите сказать, что я не могу стать даже дипломированным чернорабочим? — пролепетал Джордж. Внезапно ему показалось, что даже это лучше, чем открывшаяся перед ним пустота. — Что особенного нужно знать, чтобы быть чернорабочим?
— Вы недооцениваете чернорабочих, молодой человек. Существует множество разновидностей этой профессии, и каждая из этих разновидностей имеет свой комплекс довольно сложных знаний. Вы думаете, не требуется никакого искусства, чтобы правильно поднимать тяжести? Кроме того, для профессии чернорабочего мы должны отбирать не только подходящий тип мозга, но и подходящий тип тела. Вы не годитесь для этого, Джордж. Если бы вы стали чернорабочим, вас хватило бы ненадолго.
Джордж знал, что не обладает крепким телосложением.
— Но я никогда не слышал ни об одном человеке без профессии, возразил он.
— Таких людей немного, — ответил Элленфорд. — И мы оберегаем их.
— Оберегаете? — Джордж почувствовал, как в его душе растут смятение и страх.
— Вы находитесь под опекой планеты, Джордж. С того момента, как вы вошли в эту дверь, мы приступили к своим обязанностям. — И он улыбнулся.
Это была добрая улыбка. Джорджу она показалась улыбкой собственника, улыбкой взрослого, обращенной к беспомощному ребенку.
— Значит, я попаду в тюрьму? — спросил он.
— Ни в коем случае. Вы просто будете жить с себе подобными.
«С себе подобными!» Эти слова громом отдались в ушах Джорджа.
— Вам нужны особые условия. Мы позаботимся о вас, — сказал Элленфорд.
К своему ужасу, Джордж вдруг залился слезами. Элленфорд отошел в другой конец комнаты и, как бы задумавшись о чем-то, отвернулся.
Джордж напрягал все силы, и судорожные рыдания сменились всхлипываниями, а потом ему удалось подавить и их. Он думал о своем отце, о матери, о друзьях, о Тревельяне, о своем позоре…
— Я же научился читать! — возмущенно сказал он.
— Каждый нормальный человек может научиться этому. Нам никогда не приходилось сталкиваться с исключениями. Но именно на этом этапе мы обнаруживаем… э… э… исключения. Когда вы научились читать, Джордж, мы узнали об особенностях вашего мышления. Дежурный врач уже тогда сообщил о некотором его своеобразии.
— Неужели вы не можете попробовать дать мне образование? Ведь вы даже не пытались сделать это. Весь риск я возьму на себя.
— Закон запрещает нам это, Джордж. Но, послушайте, все будет хорошо. Вашим родителям мы представим дело в таком свете, что это не огорчит их. А там, куда вас поместят, вы будете пользоваться некоторыми привилегиями. Мы дадим вам книги, и вы сможете изучать все, что пожелаете.
— Собирать знания по зернышку, — горько произнес Джордж. — И к концу жизни я буду знать как раз достаточно, чтобы стать дипломированным младшим клерком в отделе скрепок.
— Однако, если не ошибаюсь, вы уже пробовали учиться по книгам.
Джордж замер. Его мозг пронзила страшная догадка.
— Так вот оно что…
— Что?
— Этот ваш Антонелли! Он хочет погубить меня!
— Нет, Джордж, вы ошибаетесь.
— Не разуверяйте меня. — Джорджа охватила безумная ярость. — Этот поганый ублюдок решил расквитаться со мной за то, что я оказался для него слишком умным. Я читал книги и пытался подготовиться к профессии программиста. Ладно, какого отступного вы хотите? Деньги? Так вы их не получите. Я ухожу, и когда я объявлю об этом…
Он перешел на крик.
Элленфорд покачал головой и нажал кнопку.
В комнату на цыпочках вошли двое мужчин и с двух сторон приблизились к Джорджу. Они прижали его руки к бокам, и один из них поднес к локтевой впадине его правой руки воздушный шприц. Снотворное проникло в вену и подействовало почти мгновенно.
Крики Джорджа тут же оборвались, голова поникла, колени подогнулись, и только служители, поддерживавшие его с обеих сторон, не дали ему, спящему, рухнуть на пол.
Как и было обещано, о Джордже позаботились. Его окружили вниманием и были к нему неизменно добры — Джорджу казалось, что он сам точно так же обращался бы с больным котенком.
Ему сказали, что он должен взять себя в руки и найти для себя какой-нибудь интерес в жизни. Потом ему объяснили, что большинство тех, кто попадает сюда, вначале всегда предается отчаянию и что со временем у него это пройдет. Но он даже не слышал их.
Джорджа посетил сам доктор Элленфорд и рассказал, что его родителям сообщили, будто он получил особое назначение.
— А они знают?.. — пробормотал Джордж.
Элленфорд поспешил успокоить его:
— Мы не вдавались в подробности.
Первое время Джордж отказывался есть и ему вводили питание внутривенно. От него спрятали острые предметы и приставили к нему охрану. В его комнате поселился Хали Омани, и флегматичность нигерийца подействовала на Джорджа успокаивающе.
Однажды, снедаемый отчаянной скукой, Джордж попросил какую-нибудь книгу. Омани, который сам постоянно что-то читал, поднял голову и широко улыбнулся. Не желая доставлять им удовольствия, Джордж чуть было не взял назад свою просьбу, но потом подумал: «А не все ли равно?»
Он не уточнил, о чем именно хочет читать, и Омани принес ему книгу по химии. Текст был напечатан крупными буквами, составлен из коротких слов и пояснялся множеством картинок. Это была книга для подростков, и Джордж с яростью швырнул ее об стену.
Таким он будет всегда. На всю жизнь он останется подростком, человеком, не получившим образования, и для него будут писать специальные книги. Изнывая от ненависти, он лежал в кровати и глядел в потолок, однако через час, угрюмо насупившись, встал, поднял книгу и принялся за чтение.
Через неделю он кончил ее и попросил другую.
— А первую отнести обратно? — спросил Омани.
Джордж нахмурился. Кое-чего он не понял, но он еще не настолько потерял чувство собственного достоинства, чтобы сознаться в этом.
— Впрочем, пусть остается, — сказал Омани. — Книги предназначены для того, чтобы их читали и перечитывали.
Это произошло в тот самый день, когда он наконец принял приглашение Омани посмотреть заведение, в котором они находились. Он плелся за нигерийцем, бросая вокруг быстрые злобные взгляды.
О да, это место не было тюрьмой! Ни запертых дверей, ни стен, ни охраны. Оно напоминало тюрьму только тем, что его обитатели не могли его покинуть.
И все-таки было приятно увидеть десятки подобных себе людей. Ведь слишком легко могло показаться, что во всем мире только ты один так… искалечен.
— А сколько здесь живет человек? — пробормотал он.
— Двести пять, Джордж, и это не единственное в мире заведение такого рода. Их тысячи.
Где бы он ни проходил, люди поворачивались в его сторону и провожали его глазами — и в гимнастическом зале, и на теннисных кортах, и в библиотеке. (Никогда в жизни он не представлял себе, что может существовать такое количество книг; ими были битком — именно битком набиты длинные полки.) Все с любопытством рассматривали его, а он бросал в ответ яростные взгляды. Уж они-то ничем не лучше его, как же они смеют глазеть на него, словно на какую-нибудь диковинку!
Всем им, по-видимому, было лет двадцать — двадцать пять.
— А что происходит с теми, кто постарше? — неожиданно спросил Джордж.
— Здесь живут только более молодые, — ответил Омани, а затем, словно вдруг поняв скрытый смысл вопроса Джорджа, укоризненно покачал головой и добавил: — Их не уничтожают, если ты это имеешь в виду. Для старшего возраста существуют другие приюты.
— А впрочем, мне наплевать… — пробормотал Джордж, почувствовав, что проявил к этому слишком большой интерес и ему угрожает опасность сдаться.
— Но почему? Когда ты станешь старше, тебя переведут в приют, предназначенный для лиц обоего пола.
Это почему-то удивило Джорджа.
— И женщин тоже?
— Конечно. Неужели ты считаешь, что женщины не подвержены этому?
И Джордж поймал себя на том, что испытывает такой интерес и волнение, каких не замечал в себе с того дня, когда… Он заставил себя не думать об этом.
Омани остановился на пороге комнаты, где стояли небольшая телевизионная установка и настольная счетная машина. Перед экраном сидели пять-шесть человек.
— Классная комната, — пояснил. Омани.
— А что это такое? — спросил Джордж.
— Эти юноши получают образование, — ответил Омани. — Но не обычным способом, — быстро добавил он.
— То есть они получают знания по капле?
— Да. Именно так учились в старину.
С тех пор как он появился в приюте, ему все время твердили об этом. Но что толку? Предположим, было время, когда человечество не знало диатермической печи. Разве из этого следует, что он должен довольствоваться сырым мясом в мире, где все остальные едят его вареным или жареным?
— Что толку от этого крохоборства? — спросил он.
— Нужно же чем-то занять время, Джордж, а кроме того, им интересно.
— А какая им от этого польза?
— Они чувствуют себя счастливее.
Джордж размышлял над этим, даже ложась спать.
На другой день он буркнул, обращаясь к Омани:
— Ты покажешь мне класс, где я смогу узнать что-нибудь о программировании?
— Ну конечно, — охотно согласился Омани.
Дело продвигалось медленно, и это возмущало Джорджа. Почему кто-то снова и снова объясняет одно и то же? Почему он читает и перечитывает какой-нибудь абзац, а потом, глядя на математическую формулу, не сразу ее понимает? Ведь людям за стенами приюта все это дается в один присест.
Несколько раз он бросал занятия. Однажды он не посещал классов целую неделю. Но всегда возвращался обратно. Дежурный наставник, который советовал им, что читать, вел телевизионные сеансы и даже объяснял трудные места и понятия, казалось, не замечал его поведения.
В конце концов Джорджу поручили постоянную работу в парке, а кроме того, когда наступала его очередь, он занимался уборкой и помогал на кухне. Ему представили это как шаг вперед, но им не удалось его провести. Ведь тут можно было бы завести куда больше всяческих бытовых приборов, но юношам нарочно давали работу, чтобы создать для них иллюзию полезного существования. Только его, Джорджа, им провести не удалось.
Им даже платили небольшое жалованье. Эти деньги они могли тратить на кое-какие дополнительные блага из числа указанных в списке либо откладывать их для сомнительного использования в столь же сомнительной старости. Джордж держал свои деньги в открытой жестянке, стоявшей на полке стенного шкафа. Он не имел ни малейшего представления, сколько там накопилось. Ему это было совершенно безразлично.
Он ни с кем по-настоящему не подружился, хотя к этому времени уже вежливо здоровался с обитателями приюта. Он даже перестал (вернее, почти перестал) терзать себя мыслями о роковой ошибке, из-за которой попал сюда. По целым неделям ему уже не снился Антонелли, его толстый нос и дряблая шея, его злобная усмешка, с которой он заталкивал Джорджа в раскаленный зыбучий песок и держал его там до тех пор, пока тот не просыпался с криком, встречая участливый взгляд склонившегося над ним Омани.
Как-то раз в снежный февральский день Омани сказал ему:
— Просто удивительно, как ты приспособился.
Но это было в феврале, точнее, тринадцатого февраля, в день его рождения. Пришел март, за ним апрель, а когда уже не за горами был май, Джордж понял, что ничуть не приспособился.
Год назад он не заметил мая. Тогда, впав в апатию и, потеряв цель в жизни, он целыми днями валялся в постели. Но этот май был иным.
Джордж знал, что повсюду на Земле вскоре начнется Олимпиада и молодые люди будут состязаться друг с другом в профессиональном искусстве, борясь за места на новых планетах. На всей Земле будет праздничная атмосфера, волнение, нетерпеливое ожидание последних новостей о результатах состязаний. Прибудут важные агенты-вербовщики с далеких планет. Победители будут увенчаны славой, но и потерпевшие поражение найдут чем утешиться.
Сколько было об этом написано книг! Как он сам мальчишкой из года в год увлеченно следил за олимпийскими состязаниями! И сколько с этим было связано его личных планов…
Джордж Плейтен сказал с плохо скрытой тоской в голосе:
— Завтра первое мая. Начало Олимпиады!
И это вызвало его первую ссору с Омани, так что тот, сурово отчеканивая каждое слово, произнес полное название заведения, где находился Джордж.
Пристально глядя на Джорджа, Омани сказал раздельно:
— Приют для слабоумных.
Джордж Плейтен покраснел. Для слабоумных!
Он в отчаянии отогнал эту мысль и глухо сказал:
— Я ухожу.
Он сказал это не думая, и смысл этих слов достиг его сознания, лишь когда они уже сорвались с языка.
Омани, который снова принялся за чтение, поднял голову.
— Что ты сказал?
Но теперь Джордж понимал, что говорит.
— Я ухожу! — яростно повторил он.
— Что за нелепость! Садись, Джордж, и успокойся.
— Ну, нет! Сколько раз повторять тебе, что со мной попросту расправились. Я не понравился этому доктору, Антонелли, а все эти мелкие бюрократишки любят покуражиться. Стоит только с ними не поладить, и они одним росчерком пера на какой-нибудь карточке стирают тебя в порошок.
— Ты опять за старое?
— Да, и не отступлю, пока все не выяснится. Я доберусь до Антонелли и выжму из него правду. — Джордж тяжело дышал, его била нервная дрожь. Наступал месяц Олимпиады, и он не мог допустить, чтобы этот месяц прошел для него безрезультатно. Если он сейчас ничего не предпримет, он окончательно капитулирует и погибнет навсегда.
Омани спустил ноги с кровати и встал. Он был почти шести футов ростом, и выражение лица придавало ему сходство с озабоченным сенбернаром. Он обнял Джорджа за плечи.
— Если я обидел тебя…
Джордж сбросил его руку.
— Ты просто сказал то, что считаешь правдой, а я докажу, что это ложь, вот и все. А почему бы мне не уйти? Дверь открыта, замков здесь никаких нет. Никто никогда не говорил, что мне запрещено выходить. Я просто возьму и уйду.
— Допустим. Но куда ты отправишься?
— В ближайший аэропорт, а оттуда — в ближайший большой город, где проводится какая-нибудь Олимпиада. У меня есть деньги. — Он схватил жестянку, в которую складывал свой заработок. Несколько монет со звоном упало на пол.
— Этого тебе, возможно, хватит на неделю. А потом?
— К этому времени я все улажу.
— К этому времени ты приползешь обратно, — сказал Омани с силой, — и тебе придется начинать все сначала. Ты сошел с ума, Джордж.
— Только что ты назвал меня слабоумным.
— Ну, извини меня. Останься, хорошо?
— Ты что, попытаешься удержать меня?
Омани сжал толстые губы.
— Нет, не попытаюсь. Это твое личное дело. Если ты образумишься только после того, как столкнешься с внешним миром и вернешься сюда с окровавленной физиономией, так уходи… Да, уходи!
Джордж уже стоял в дверях. Он оглянулся через плечо.
— Я ухожу.
Он вернулся, чтобы взять свой карманный несессер.
— Надеюсь, ты ничего не имеешь против, если я заберу кое-что из моих вещей?
Омани пожал плечами. Он опять улегся в постель и с безразличным видом погрузился в чтение.
Джордж снова помедлил на пороге, но Омани даже не взглянул в его сторону. Скрипнув зубами, Джордж повернулся, быстро зашагал по безлюдному коридору и вышел в окутанный ночной мглой парк.
Он ждал, что его задержат еще в парке, но его никто не остановил. Он зашел в ночную закусочную, чтобы спросить дорогу к аэропорту, и думал, что хозяин тут же вызовет полицию, но этого не случилось. Джордж вызвал скиммер, и водитель повез его в аэропорт, не задав ни одного вопроса.
Однако все это его не радовало. Когда он прибыл в аэропорт, на душе у него было на редкость скверно. Прежде он как-то не задумывался над тем, что его ожидает во внешнем мире. И вот он оказался среди людей, обладающих профессиями. В закусочной над кассой была укреплена пластмассовая пластинка с именем хозяина. Такой-то, дипломированный повар. У человека, управляющего скиммером, были права дипломированного водителя. Джордж остро почувствовал незаконченность своей фамилии и из-за этого ощущал себя как будто голым, даже хуже — ему казалось, что с него содрали кожу. Но он не поймал на себе ни одного подозрительного взгляда. Никто не остановил его, не потребовал у него профессионального удостоверения.
«Кому придет в голову, что есть люди без профессии?» — с горечью подумал Джордж.
Он купил билет до Сан-Франциско на стратоплан, улетавший в 3 часа ночи. Другие стратопланы в крупные центры Олимпиады вылетали только утром, а Джордж боялся ждать. Даже и теперь он устроился в самом укромном уголке зала ожидания и стал высматривать полицейских. Но они не явились.
В Сан-Франциско он прилетел еще до полудня, и городской шум обрушился на него, подобно удару. Он никогда еще не видел такого большого города, а за последние полтора года привык к тишине и спокойствию.
Да и к тому же это был месяц Олимпиады. Когда Джордж вдруг сообразил, что именно этим объясняются особый шум, возбуждение и суматоха, он почти забыл о собственном отчаянном положении.
Для удобства приезжающих пассажиров в аэропорту были установлены Олимпийские стенды, перед которыми собирались большие толпы. Для каждой основной профессии был отведен особый стенд, на котором значился адрес того Олимпийского зала, где в данный день проводилось состязание по этой профессии, затем перечислялись его участники с указанием места их рождения и называлась планета-заказчик (если таковая была).
Все полностью соответствовало традициям. Джордж достаточно часто читал в газетах описания Олимпийских состязаний, видел их по телевизору и даже однажды присутствовал на небольшой Олимпиаде дипломированных мясников в главном городе своего округа. Даже это состязание, не имевшее никакого отношения к другим мирам (на нем, конечно, не присутствовало ни одного представителя иной планеты), привлекло множество зрителей.
Отчасти это объяснялось просто самим фактом состязания, отчасти местным патриотизмом (о, что творилось, когда среди участников оказывался земляк, пусть даже совершенно незнакомый, но за которого можно было болеть!) и, конечно, до некоторой степени — возможностью заключать пари. Бороться с этим было невозможно.
Джордж убедился, что подойти поближе к стенду не так-то просто. Он поймал себя на том, что как-то по-новому смотрит на оживленные лица вокруг.
Ведь было же время, когда эти люди сами участвовали в Олимпиадах. А чего они достигли? Ничего!
Если бы они были победителями, то не сидели бы на Земле, а находились бы где-нибудь далеко в глубинах Галактики. Кем бы они ни были, их профессии с самого начала сделали их добычей Земли. Или, если у них были высокоспециализированные профессии, они стали добычей Земли из-за собственной бездарности.
Теперь эти неудачники, собравшись здесь, взвешивали шансы новых, молодых участников состязаний. Стервятники!
Как страстно он желал, чтобы они прикидывали сейчас его шансы!
Он машинально шел мимо стендов, держась у самого края толпы. В стратоплане он позавтракал, и ему не хотелось есть. Зато ему было страшно. Он находился в большом городе в самый разгар суматохи, которая сопутствует началу Олимпийских состязаний. Это, конечно, для него выгодно. Город наводнен приезжими. Никто не станет расспрашивать Джорджа. Никому не будет до него никакого дела.
«Никому, даже приюту», — с болью подумал Джордж.
Там за ним ухаживали, как за больным котенком, но если больной котенок возьмет да убежит? Что поделаешь — тем хуже для него!
А теперь, добравшись до Сан-Франциско, что он предпримет? На этот вопрос у него не было ответа. Обратиться к кому-нибудь? К кому именно? Как? Он не знал даже, где ему остановиться. Деньги, которые у него остались, казались жалкими грошами.
Он вдруг со стыдом прикинул, не лучше ли будет вернуться в приют. Ведь можно пойти в полицию… Но тут же яростно замотал головой, словно споря с реальным противником.
Его взгляд упал на слово «Металлурги», которое ярко светилось на одном из стендов. Рядом, помельче — «Цветные металлы». А под длинным списком фамилий завивались прихотливые буквы: «Заказчик — Новия».
На Джорджа нахлынули мучительные воспоминания: его спор с Тревельяном, когда он был так уверен, что станет программистом, так уверен, что программист намного выше металлурга, так уверен, что идет по правильному пути, так уверен в своих способностях…
Как он расхвастался перед этим мелочным, мстительным Антонелли! Он же был так уверен в себе, когда его вызвали, и он еще постарался ободрить нервничавшего Тревельяна. В себе-то он был уверен!
У Джорджа вырвался всхлипывающий вздох. Какой-то человек обернулся и, взглянув на него, поспешил дальше. Мимо торопливо проходили люди, поминутно толкая его то в одну, то в другую сторону, а он не мог оторвать изумленных глаз от стенда.
Ведь стенд словно откликнулся на его мысли! Он настойчиво думал о Тревельяне, и на мгновение ему показалось, что на стенде в ответ обязательно возникнет слово «Тревельян».
Но там и в самом деле значился Тревельян. Арманд Тревельян (имя, которое так ненавидел Коротышка, ярко светилось на стенде для всеобщего обозрения), а рядом — название их родного города. Да и к тому же Трев всегда мечтал о Новии, стремился на Новию, ни о чем не думал, кроме Новии. А заказчиком этого состязания была Новия.
Значит, это действительно Трев, старина Трев! Почти машинально он запомнил адрес зала, где проводилось состязание, и стал в очередь на скиммер.
«Трев-таки добился своего! — вдруг угрюмо подумал он. — Он хотел стать металлургом и стал!»
Джорджу стало холодно и одиноко, как никогда.
У входа в зал стояла очередь. Очевидно, Олимпиада металлургов обещала захватывающую и напряженную борьбу. По крайней мере так утверждала горевшая высоко в небе надпись, и так же, казалось, думали теснившиеся у входа люди.
Джордж решил, что, судя по цвету неба, день выдался дождливый, но над всем Сан-Франциско, от залива до океана, натянули прозрачный защитный купол. Это, конечно, стоило немалых денег, но, когда дело касается удобства представителей других миров, все расходы оправдываются. А на Олимпиаду их съедется сюда немало. Они швыряют деньги направо и налево, а за каждого нанятого специалиста планета-заказчик платила не только Земле, но и местным властям. Так что город, в котором представители других планет проводили месяц Олимпиады с удовольствием, внакладе не оставался. Сан-Франциско знал, что делает.
Джордж так глубоко задумался, что вздрогнул, когда его плеча мягко коснулась чья-то рука и вежливый голос произнес:
— Вы стоите в очереди, молодой человек?
Очередь продвинулась, и теперь Джордж наконец обнаружил, что перед ним образовалось пустое пространство. Он поспешно шагнул вперед и пробормотал:
— Извините, сэр.
Два пальца осторожно взяли его за локоть. Он испуганно оглянулся.
Стоявший за ним человек весело кивнул. В его волосах пробивалась обильная седина, а под пиджаком он носил старомодный свитер, застегивавшийся спереди на пуговицы.
— Я не хотел вас обидеть, — сказал он.
— Ничего.
— Вот и хорошо! — Он, казалось, был расположен благодушно поболтать. — Я подумал, что вы, может быть, случайно остановились тут, задержавшись из-за очереди, и что вы, может быть…
— Кто? — резко спросил Джордж.
— Участник состязания, конечно. Вы же очень молоды.
Джордж отвернулся. Он был не в настроении для благодушной болтовни и испытывал злость ко всем любителям совать нос в чужие дела.
Его внезапно осенила новая мысль. Не разыскивают ли его? Вдруг сюда уже сообщили его приметы или прислали фотографию? Вдруг этот Седой позади него ищет предлога получше рассмотреть его лицо?
Надо бы все-таки узнать последние известия. Задрав голову, Джордж взглянул на движущуюся полосу заголовков и кратких сообщений, которые бежали по одной из секций прозрачного купола, непривычно тусклые на сером фоне затянутого облаками предвечернего неба. Но тут же решил, что это бесполезно, и отвернулся. Для этих сообщений его персона слишком ничтожна. Во время Олимпиады только одни новости заслуживают упоминания: количество очков, набранных победителями, и призы, завоеванные континентами, нациями и городами.
И так будет продолжаться до конца месяца. Очки будут подсчитываться на душу населения, и каждый город будет изыскивать способ подсчета, который дал бы ему возможность занять почетное место.
Его собственный город однажды занял третье место на Олимпиаде электротехников, третье место во всем штате! В ратуше до сих пор висит мемориальная доска, увековечившая это событие.
Джордж втянул голову в плечи и засунул руки в карманы, но тут же решил, что так скорее привлечет к себе внимание. Он расслабил мышцы и попытался принять безразличный вид, но от страха не избавился. Теперь он находился уже в вестибюле, и до сих пор на его плечо не опустилась властная рука. Наконец он вошел в зал и постарался пробраться как можно дальше вперед.
Вдруг он заметил рядом Седого и опять почувствовал страх. Он быстро отвел взгляд и попытался внушить себе, что это вполне естественно. В конце концов. Седой стоял в очереди прямо за ним.
К тому же Седой, поглядев на него с приветливой вопросительной улыбкой, отвернулся. Олимпиада вот-вот должна была начаться. Джордж приподнялся, высматривая Тревельяна, и на время забыл обо всем остальном.
Зал был не очень велик и имел форму классического вытянутого овала. Зрители располагались на двух галереях, опоясывавших зал, а участники состязания — внизу, в длинном и узком углублении. Приборы были уже установлены, а на табло над каждым рабочим местом пока светились только фамилии и номера состязающихся. Сами участники были на сцене. Одни читали, другие разговаривали. Кто-то внимательно разглядывал свои ногти. (Хороший тон требовал, чтобы они проявляли полное равнодушие к предстоящему испытанию, пока не будет подан сигнал к началу состязания.)
Джордж просмотрел программу, которая появилась из ручки его кресла, когда он нажал кнопку, и отыскал фамилию Тревельяна. Она значилась под номером двенадцать, и, к огорчению Джорджа, место его приятеля находилось в другом конце зала. Он нашел участника под двенадцатым номером: тот, засунув руки в карманы, стоял спиной к своему прибору и смотрел на галереи, словно пересчитывал зрителей, но лица его Джордж не видел.
И все-таки он сразу узнал Трева.
Джордж откинулся в кресле. Добьется ли Трев успеха? Из чувства долга он желал ему самых лучших результатов, однако в глубине его души нарастал бунт. Он, Джордж, человек без профессии, сидит здесь простым зрителем, а Тревельян, дипломированный металлург, специалист по цветным металлам, участвует в Олимпиаде.
Джордж не знал, выступал ли Тревельян олимпийским соискателем в первый год после получения профессии. Такие смельчаки находились: либо человек был очень уверен в себе, либо очень торопился. В этом крылся определенный риск. Как ни эффективен был процесс обучения, год, проведенный на Земле после получения образования («чтобы смазать неразработавшиеся знания», согласно поговорке), обеспечивал более высокие результаты.
Если Тревельян выступает в состязаниях вторично, он, быть может, не так уж и преуспел. Джордж со стыдом заметил, что эта мысль ему скорее приятна.
Он поглядел по сторонам. Почти все места были заняты. Олимпиада соберет много зрителей, а значит, участники будут больше нервничать, а может быть, и работать с большей энергией — в зависимости от характера.
«Но почему это называется Олимпиадой?» — подумал он вдруг в недоумении. Он не знал. Почему хлеб называют хлебом?
В детстве он как-то спросил отца:
— Папа, а что такое Олимпиада?
И отец ответил:
— Олимпиада — значит состязание.
— А когда мы с Коротышкой боремся, это тоже Олимпиада? поинтересовался Джордж.
— Нет, — ответил Плейтен-старший. — Олимпиада — это особенное состязание. Не задавай глупых вопросов. Когда получишь образование, узнаешь все, что тебе положено знать.
Джордж глубоко вздохнул, вернулся к действительности и уселся поглубже в кресло.
Все, что тебе положено знать!
Странно, как хорошо он помнит эти слова! «Когда ты получишь образование…» Никто никогда не говорил: «Если ты получишь образование…»
Теперь ему казалось, что он всегда задавал глупые вопросы. Как будто его разум инстинктивно предвидел свою неспособность к образованию и придумывал всяческие расспросы, чтобы хоть по обрывкам собрать побольше знаний.
А в приюте поощряли его любознательность, проповедуя то же, к чему инстинктивно стремился его разум. Единственный открытый ему путь!
Внезапно он выпрямился. Черт возьми, что это он? Чуть было не попался на их удочку! Неужели он сдастся только потому, что там перед ним Трев, получивший образование и участвующий в Олимпиаде?
Нет, он не слабоумный! Нет!!
И, словно в ответ на этот мысленный вопль протеста, зрители вокруг зашумели. Все встали.
В ложу, расположенную в самом центре длинной дуги овала, входили люди, одетые в цвета планеты Павий, и на главном табло над их головами вспыхнуло слово «Новия».
Новия была планетой класса А с большим населением и высокоразвитой цивилизацией, быть может самой лучшей во всей Галактике. Каждый землянин мечтал когда-нибудь поселиться в таком мире, как Новия, или, если ему это не удастся, увидеть там своих детей. Джордж вспомнил, с какой настойчивостью стремился к Новии Тревельян, и вот теперь он состязается за право уехать туда.
Лампы над головами зрителей погасли, потухли и стены. Поток яркого света хлынул вниз, туда, где находились участники состязания.
Джордж снова попытался рассмотреть Тревельяна. Но тот был слишком далеко.
— Уважаемые новианские заказчики, уважаемые дамы и господа! раздался отчетливый, хорошо поставленный голос диктора. — Сейчас начнутся Олимпийские состязания металлургов, специалистов по цветным металлам. В состязании принимают участие…
С добросовестной аккуратностью диктор прочитал список, приведенный в программе. Фамилии, названия городов, откуда прибыли участники, год получения образования. Зрители встречали каждое имя аплодисментами, и самые громкие доставались на долю жителей Сан-Франциско. Когда очередь дошла до Тревельяна, Джордж неожиданно для самого себя бешено завопил и замахал руками. Но еще больше его удивило то, что сидевший рядом с ним седой мужчина повел себя точно так же.
Джордж не мог скрыть своего изумления, и его сосед, наклонившись к нему и напрягая голос, чтобы перекричать шум, произнес:
— У меня здесь нет земляков. Я буду болеть за ваш город. Это ваш знакомый?
Джордж отодвинулся, насколько мог.
— Нет.
— Я заметил, что вы все время смотрите в том направлении. Не хотите ли воспользоваться моим биноклем?
— Нет, благодарю вас. (Почему этот старый дурак сует нос не в свое дело?)
Диктор продолжал сообщать другие официальные сведения, касавшиеся номера состязания, метода хронометрирования и подсчитывания очков. Наконец он дошел до самого главного, и публика замерла, обратившись в слух.
— Каждый участник состязания получит по бруску сплава неизвестного для него состава. От него потребуется произвести количественный анализ этого сплава и сообщить все результаты с точностью до четырех десятых процента. Для этого все соревнующиеся будут пользоваться микроспектрографами Бимена, модель MD-2, каждый из которых в настоящее время неисправен.
Зрители одобрительно зашумели.
— Каждый участник должен будет определить неисправность своего прибора и ликвидировать ее. Для этого им даны инструменты и запасные детали. Среди них может не оказаться нужной детали, и ее надо будет затребовать. Время, которое займет доставка, вычитается из общего времени, затраченного на выполнение задания. Все участники готовы?
На табло над пятым номером вспыхнул тревожный красный сигнал. Номер пять бегом бросился из зала и быстро вернулся. Зрители добродушно рассмеялись.
— Все готовы?
Табло остались темными.
— Есть какие-нибудь вопросы?
По-прежнему ничего.
— Можете начинать!
Разумеется, ни один из зрителей не имел возможности непосредственно определить, как продвигается работа у каждого участника. Некоторое представление об этом могли дать только надписи, вспыхивавшие на табло. Впрочем, это не имело ни малейшего значения. Среди зрителей только металлург, окажись он здесь, мог бы разобраться в сущности состязания. Но важно было, кто победит, кто займет второе, а кто — третье место. Для тех, кто ставил на участников (а этому не могли помешать никакие законы), только это было важно. Все прочее их не интересовало.
Джордж следил за состязанием так же жадно, как и остальные, поглядывая то на одного участника, то на другого. Он видел, как вот этот, ловко орудуя каким-то маленьким инструментом, снял крышку со своего микроспектрографа; как тот всматривался в экран аппарата; как спокойно вставлял третий свой брусок сплава в зажим и как четвертый накручивал верньер, причем настолько осторожно, что, казалось, на мгновение застыл в полной неподвижности.
Тревельян, как и все остальные участники, был целиком поглощен своей работой. А как идут его дела, Джордж определить не мог.
На табло над семнадцатым номером вспыхнула надпись: «Сдвинута фокусная пластинка».
Зрители бешено зааплодировали.
Семнадцатый номер мог быть прав, ко мог, конечно, и ошибиться. В этом случае ему пришлось бы позже исправить свой вывод, потеряв на этом время. А может быть, он не заметил бы ошибки и не сумел бы сделать анализ. Или же, еще хуже, он мог получить совершенно неверные результаты.
Неважно. А пока зрители ликовали.
Зажглись и другие табло. Джордж не спускал глаз с табло номер двенадцать. Наконец оно тоже засветилось:
«Держатель децентрирован. Требуется новый зажим».
К Тревельяну подбежал служитель с новой деталью. Если Трев ошибся, это означает бесполезную задержку, а время, потраченное на ожидание детали, не будет вычтено из общего времени. Джордж невольно затаил дыхание.
На семнадцатом табло начали появляться светящиеся буквы результата анализа: «Алюминий — 41,2649, магний — 22,1914, медь — 10.1001».
И на других табло все чаще вспыхивали цифры.
Зрители бесновались.
Джордж недоумевал, как участники могли работать в таком бедламе, потом ему пришло в голову, что, может быть, это даже хорошо: ведь первоклассный специалист лучше всего работает в напряженной обстановке.
На семнадцатом табло вспыхнула красная рамка, знаменующая окончание работы, и семнадцатый номер поднялся со своего места. Четвертый отстал от него всего лишь на две секунды. Затем кончил еще один и еще.
Тревельян продолжал работать, определяя последние компоненты своего сплава. Он поднялся, когда почти все состязающиеся уже стояли. Последним встал пятый номер, и публика приветствовала его ироническими возгласами.
Однако это был еще не конец. Заключение жюри, естественно, задерживалось. Время, затраченное на всю операцию, имело определенное значение, но не менее важна была точность результатов. И не все задачи были одинаково трудны. Необходимо было учесть множество факторов.
Наконец раздался голос диктора:
— Победителем состязания, выполнившим задание за четыре минуты двенадцать секунд, правильно определившим неисправность и получившим правильный результат с точностью до семи десятитысячных процента, является участник под номером… семнадцать, Генрих Антон Шмидт из…
Остальное потонуло в бешеном реве. Второе место занял восьмой номер, третье — четвертый, хороший показатель времени которого был испорчен ошибкой в пять сотых процента при определении количественного содержания ниобия. Двенадцатый номер даже не был упомянут, если не считать фразы«…а остальные участники…»
Джордж протолкался к служебному выходу и обнаружил, что здесь уже собралось множество людей — плачущие (кто от радости, кто от горя) родственники, репортеры, намеренные взять интервью у победителей, земляки, охотники за автографами, любители рекламы и просто любопытные. Были здесь и девушки, надеявшиеся обратить на себя внимание победителя, который почти наверняка отправится на Новию (а может быть, и потерпевшего поражение, который нуждается в утешении и имеет деньги, чтобы позволить себе такую роскошь).
Джордж остановился в сторонке. Он не увидел ни одного знакомого лица. Сан-Франциско был так далеко от их родного города, что вряд ли Трев приехал сюда в сопровождении близких, которые теперь печально поджидали бы его у двери.
Смущенно улыбаясь и кланяясь в ответ на приветствия, появились участники соревнования. Полицейские сдерживали толпу, освобождая им проход. Каждый из набравших большое количество очков увлекал за собой часть людей, подобно магниту, двигающемуся по кучке железных опилок.
Когда вышел Тревельян, у входа уже почти никого не было. (Джордж решил, что он долго выжидал этой минуты.) В его сурово сжатых губах была сигарета. Глядя в землю, он повернулся, чтобы уйти.
Это было первое напоминание о родном доме за без малого полтора года, которые показались Джорджу в десять раз дольше. И он даже удивился, что Тревельян нисколько не постарел и остался все тем же Тревом, каким он видел его в последний раз.
Джордж рванулся вперед.
— Трев!
Тревельян в изумлении обернулся. Он с недоумением взглянул на Джорджа и сразу же протянул ему руку.
— Джордж Плейтен! Вот черт…
Появившееся на его лице радостное выражение тут же угасло, а рука опустилась, прежде чем Джордж успел пожать ее.
— Ты был там? — Тревельян мотнул головой в сторону зала.
— Был.
— Чтобы посмотреть на меня?
— Да.
— Я не слишком блеснул, а?
Он бросил сигарету, раздавил ее ногой, глядя в сторону улицы, где медленно рассасывавшаяся толпа окружала скиммеры и уже стояли новые очереди желающих попасть на следующие состязания.
— Ну и что? — угрюмо буркнул Тревельян. — Я проиграл всего во второй раз. А после сегодняшнего Новия может катиться ко всем чертям. Есть планеты, которые просто вцепятся в меня… Но послушай-ка, ведь я не видел тебя со Дня образования. Где ты пропадал? Твои родные сказали, что ты уехал по специальному заданию, но ничего не объяснили подробно. И ты ни разу мне не написал. А мог бы.
— Да, пожалуй, — неловко произнес Джордж. — Но я пришел сказать, как мне жаль, что сейчас все так обернулось.
— Не жалей, — возразил Тревельян. — Я ведь уже говорил тебе, что Новия может убираться к черту… Да я мог бы знать заранее! Все только и говорили, что использован будет прибор Бимена. Никто и не сомневался. А в проклятых лентах, которыми меня зарядили, был предусмотрен спектрограф Хенслера! Кто же теперь пользуется Хенслером? Разве что планеты вроде Гомона, если их вообще можно назвать планетами. Ловко это было подстроено, а?
— Но ты ведь можешь подать жалобу в…
— Не будь дураком. Мне скажут, что мой мозг лучше всего подходил для Хенслера. Пойди поспорь. Да и вообще мне не везло. Ты заметил, что мне одному пришлось послать за запасной частью?
— Но потраченное на это время вычиталось?
— Конечно! Только я, когда заметил, что среди запасных частей нет зажима, подумал, что напутал, и не сразу потребовал его. Это-то время не вычиталось! А будь у меня микроспектрограф Хенслера, я бы знал, что не ошибаюсь. Где мне было тягаться с ними? Первое место занял житель Сан-Франциско, и следующие три — тоже. А пятое занял парень из Лос-Анджелеса. Они получили образование с лент, которыми снабжают большие города. С самых лучших, которые только есть. Там и спектрограф Бимена и все, что хочешь! Куда же мне было до них! Я отправился в такую даль потому, что только эту Олимпиаду по моей профессии заказала Новия, и с тем же успехом мог бы остаться дома. Я заранее знал, что так получится! Но теперь все. На Новии космос клином не сошелся. Из всех проклятых…
Он говорил это не для Джорджа. Он вообще ни к кому не обращался. Джордж понял, что он просто отводит душу.
— Если ты заранее знал, что вам дадут спектрограф Бимена, разве ты не мог ознакомиться с ним? — спросил Джордж.
— Я же говорю тебе, что его не было в моих лентах.
— Ты мог почитать… книги.
Тревельян вдруг так пронзительно взглянул на него, что он еле выговорил последнее слово.
— Ты что, смеешься? — сказал Тревельян. — Остришь? Неужели ты думаешь, что, прочитав какую-то книгу, я запомню достаточно, чтобы сравняться с теми, кто действительно знает?
— Я считал…
— А ты попробуй. Попробуй… Кстати, а ты какую получил профессию? вдруг злобно спросил Тревельян.
— Видишь ли…
— Ну, выкладывай. Раз уже ты тут передо мной строишь такого умника, давай-ка посмотрим, кем стал ты. Раз ты все еще на Земле, значит, ты не программист и твое специальное задание не такое уж важное.
— Послушай, Трев, — сказал Джордж, — я опаздываю на свидание…
Он попятился, пытаясь улыбнуться.
— Нет, ты не уйдешь. — Тревельян в бешенстве бросился к Джорджу и вцепился в его пиджак. — Отвечай! Почему ты боишься сказать мне? Кто ты такой? Ты мне тычешь в нос мое поражение, а сам? Это у тебя не выйдет, слышишь?
Он неистово тряс Джорджа, тот вырывался. Так, отчаянно борясь и чуть не падая, они двигались через зал, но тут Джордж услышал глас Рока суровый голос полицейского:
— Довольно! Довольно! Прекратите это!
Сердце Джорджа мучительно сжалось и превратилось в кусок свинца. Сейчас полицейский спросит их имена и потребует удостоверения личности, а у Джорджа нет никаких документов. После первых же вопросов выяснится, что у него нет и профессии. А Тревельян, озлобленный своей неудачей, конечно, поспешит рассказать об этом всем знакомым в родном городке, чтобы утешить собственное уязвленное самолюбие.
Этого Джордж не мог вынести. Он вырвался и бросился было бежать, но ему на плечо легла тяжелая рука полицейского.
— Эй, постойте. Покажите-ка ваше удостоверение.
Тревельян шарил в карманах и говорил отрывисто и зло:
— Я Арманд Тревельян, металлург по цветным металлам. Я участвовал в Олимпиаде. А вот его проверьте хорошенько, сержант.
Джордж стоял перед ними, не в силах вымолвить ни слова. Губы его пересохли, горло сжалось.
Вдруг раздался еще один голос, спокойный и вежливый:
— Можно вас на минутку, сержант?
Полицейский шагнул назад.
— Что вам угодно, сэр?
— Этот молодой человек — мой гость. Что случилось?
Джордж оглянулся вне себя от изумления. Это был тот самый седой мужчина, который сидел рядом с ним на Олимпиаде. Седой добродушно кивнул Джорджу.
Его гость? Он что, сошел с ума?
— Эти двое затеяли драку, сэр, — объяснил полицейский.
— Вы предъявляете им какое-нибудь обвинение? Нанесен ущерб?
— Нет, сэр.
— В таком случае всю ответственность я беру на себя.
Он показал полицейскому небольшую карточку, и тот сразу отступил.
— Постойте… — возмущенно начал Тревельян, но полицейский свирепо перебил его:
— Ну? У вас есть какие-нибудь претензии?
— Я только…
— Проходите! И вы тоже… Расходитесь, расходитесь!
И собравшаяся вокруг толпа начала с неохотой расходиться.
Джордж покорно пошел с Седым к скиммеру, но тут решительно остановился.
— Благодарю вас, — сказал он, — но ведь я не ваш гость. (Может быть, по нелепой случайности его приняли за кого-то другого?)
Но Седой улыбнулся и сказал:
— Теперь вы уже мой гость. Разрешите представиться. Я — Ладислас Индженеску, дипломированный историк.
— Но…
— С вами ничего дурного не случится, уверяю вас. Я ведь просто хотел избавить вас от неприятного разговора с полицейским.
— А почему?
— Вы хотите знать причину? Ну, ведь мы с вами, так сказать, почетные земляки. Мы же дружно болели за одного человека. А земляки должны держаться друг друга, даже если они только почетные земляки. Не правда ли?
И Джордж, не доверяя ни Индженеску, ни самому себе, все-таки вошел в скиммер. Они поднялись в воздух, прежде чем он успел передумать.
«Это, наверное, важная птица, — вдруг сообразил он. — Полицейский говорил с ним очень почтительно».
Только теперь он вспомнил, что приехал в Сан-Франциско вовсе не ради Тревельяна, а с целью найти достаточно влиятельного человека, который мог бы добиться переоценки его способностей.
А вдруг этот Индженеску именно тот, кто ему нужен? И его даже не придется искать!
Как знать, не сложилось ли все на редкость удачно… удачно… Но Джордж напрасно убеждал себя. На душе у него было по-прежнему тревожно.
Во время недолгого полета на скиммере Индженеску поддерживал разговор, любезно указывая на достопримечательности города и рассказывая о других Олимпиадах, на которых ему доводилось бывать. Джордж слушал его рассеянно, издавал невнятное хмыканье, когда Индженеску замолкал, а сам с волнением следил за направлением полета.
Вдруг они поднимутся к отверстию в защитном куполе и покинут город?
Но скиммер снижался, и Джордж тихонько вздохнул с облегчением. В городе он чувствовал себя в большей безопасности.
Скиммер опустился на крышу какого-то отеля, прямо у верхней двери, и, когда они вышли, Индженеску спросил:
— Вы не откажетесь пообедать со мной в моем номере?
— С удовольствием, — ответил Джордж и улыбнулся вполне искренне. Время второго завтрака давно прошло, и у него начало сосать под ложечкой.
Они ели молча. Наступили сумерки, и автоматически засветились стены. («Вот уже почти сутки, как я на свободе», — подумал Джордж.)
За кофе Индженеску наконец заговорил.
— Вы вели себя так, словно подозревали меня в дурных намерениях, сказал он.
Джордж покраснел и, поставив чашку, попытался что-то возразить, но его собеседник рассмеялся и покачал головой.
— Это так. Я внимательно наблюдал за вами с того момента, как впервые вас увидел, и, мне кажется, теперь я знаю о вас очень многое.
Джордж в ужасе приподнялся с места.
— Сядьте, — сказал Индженеску. — Я ведь только хочу помочь вам.
Джордж сел, но в его голове вихрем неслись мысли. Если старик знал, кто он, то почему он помешал полицейскому? Да и вообще, с какой стати он решил ему помогать?
— Вам хочется знать, почему я захотел помочь вам? — спросил Индженеску. — О, не пугайтесь, я не умею читать мысли. Видите ли, просто моя профессия позволяет мне по самой незначительной внешней реакции судить о мыслях человека. Вам это понятно?
Джордж отрицательно покачал головой.
— Представьте себе, каким я увидел вас, — сказал Индженеску. — Вы стояли в очереди, чтобы посмотреть Олимпиаду, но ваши микрореакции не соответствовали тому, что вы делали. У вас было не то выражение лица, не те движения рук. Отсюда следовало, что у вас какая-то беда, но, что самое интересное, необычная, не лежащая на поверхности. Быть может, вы сами не сознаете, что с вами, решил я. И, не удержавшись, последовал за вами, даже сел рядом. После окончания состязания я опять пошел за вами и подслушал ваш разговор с вашим знакомым. Ну, а уж к этому времени вы превратились в такой интересный объект для изучения — простите, если это звучит бессердечно, — что я просто не мог допустить, чтобы вас забрали в полицию… Скажите же, что вас тревожит?
Джордж мучился, не зная, на что решиться. Если это ловушка, то зачем нужно действовать таким окольным путем? Ему же действительно нужна помощь. Ради этого он сюда и приехал. А тут помощь ему прямо предлагают. Пожалуй, именно это его и смущало. Что-то все получается уж очень просто.
— Разумеется, то, что вы сообщите мне как социологу, становится профессиональной тайной, — сказал Индженеску. — Вы понимаете, что это значит?
— Нет, сэр.
— Это значит, что с моей стороны будет бесчестным, если я расскажу о том, что узнаю от вас, с какой бы целью я это ни сделал. Более того, никто не имеет права заставить меня рассказать об этом.
— А я думал, вы историк, — подозрительно сказал Джордж.
— Это верно.
— Но вы же только сейчас сказали, что вы социолог.
Индженеску расхохотался.
— Не сердитесь, молодой человек, — извинился он, когда был в состоянии говорить. — Но право же, я смеялся не над вами. Я смеялся над Землей, над тем, какое большое значение она придает точным наукам, и над некоторыми практическими следствиями этого увлечения. Держу пари, что вы можете перечислить все разделы строительной технологии или прикладной механики и в то же время даже не слышали о социологии.
— Ну, а что же такое социология?
— Социология — это наука, которая занимается изучением человеческого общества и отдельных его ячеек и делится на множество специализированных отраслей, так же как, например, зоология. Так, существуют культурологи, изучающие культуру, ее рост, развитие и упадок. Культура, — добавил он, предупреждая вопрос Джорджа, — это совокупность всех сторон жизни. К культуре относится, например, то, каким путем мы зарабатываем себе на жизнь, от чего получаем удовольствие, во что верим, наши представления о хорошем и плохом и так далее. Вам это понятно?
— Кажется, да.
— Экономист — не специалист по экономической статистике, а именно экономист — специализируется на изучении того, каким образом культура удовлетворяет физические потребности каждого члена общества. Психолог изучает отдельных членов общества и то влияние, которое это общество на них оказывает. Прогнозист планирует будущий путь развития общества, а историк… Это уже по моей части.
— Да, сэр?
— Историк специализируется на изучении развития нашего общества в прошлом, а также обществ с другими культурами.
Джорджу стало интересно.
— А разве в прошлом что-то было по-другому?
— Еще бы! Тысячу лет назад не было образования, то есть образования, как мы понимаем его теперь.
— Знаю, — произнес Джордж. — Люди учились по книгам, собирая знания по крупицам.
— Откуда вы это знаете?
— Слыхал, — осторожно ответил Джордж и добавил: А какой смысл думать о том, что происходило в далеком прошлом? Я хочу сказать, что ведь со всем этим уже покончено, не правда ли?
— С прошлым никогда не бывает покончено, мой друг. Оно объясняет настоящее. Почему, например, у нас существует именно такая система образования?
Джордж беспокойно заерзал. Слишком уж настойчиво его собеседник возвращался к этой теме.
— Потому что она самая лучшая, — отрезал он.
— Да. Но почему она самая лучшая? Послушайте меня минутку, и я попытаюсь объяснить. А потом вы мне скажете, есть ли смысл в изучении истории. Даже до того, как начались межзвездные полеты… — Он внезапно умолк, заметив на лице Джорджа выражение глубочайшего изумления. — Неужели вы считали, что так было всегда?
— Я никогда не задумывался над этим, сэр.
— Вполне естественно. Однако четыре-пять тысяч лет назад человечество было приковано к Земле. Но и тогда уже техника достигла высокого уровня развития, а численность населения увеличилась настолько, но любое торможение техники привело бы к массовому голоду и эпидемиям. Для того чтобы уровень техники не снижался и соответствовал росту населения, нужно было готовить все больше инженеров и ученых. Однако по мере развития науки на их обучение требовалось все больше и больше времени. Когда же впервые были открыты способы межпланетных, а затем и межзвездных полетов, эта проблема стала еще острее. Собственно говоря, из-за недостатка специалистов человечество в течение почти полутора тысяч лет не могло по-настоящему колонизировать планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Перелом наступил, когда был установлен механизм хранения знаний в человеческом мозгу. Как только это было сделано, появилась возможность создать образовательные ленты на основе этого механизма таким образом, чтобы сразу вкладывать в мозг определенное количество, так сказать, готовых знаний. Впрочем, это-то вы знаете. Это позволило выпускать тысячи и миллионы специалистов, и мы смогли приступить к тому, что впоследствии назвали «заполнением Вселенной». Сейчас в Галактике уже существует полторы тысячи населенных планет, и число их будет возрастать до бесконечности.
Вы понимаете, что из этого следует? Земля экспортирует образовательные ленты, предназначенные для подготовки специалистов низкой квалификации, и это обеспечивает единство культуры для всей Галактики. Так, например, благодаря лентам чтения мы все говорим на одном языке… Не удивляйтесь. Могут быть и иные языки, и в прошлом люди на них говорили. Их были сотни. Земля, кроме того, экспортирует высококвалифицированных специалистов, и численность ее населения не превышает допустимого уровня. Поскольку при вывозе специалистов соблюдается равновесие полов, они образуют самовоспроизводящиеся ячейки, и это способствует росту населения на тех планетах, где в этом есть необходимость. Более того, за ленты и специалистов платят сырьем, в котором мы очень нуждаемся и от которого зависит наша экономика. Теперь вы поняли, почему наша система образования действительно самая лучшая?
— Да, сэр.
— И вам легче понять это, зная, что без нее в течение полутора тысяч лет было невозможно колонизировать планеты других солнечных систем?
— Да, сэр.
— Значит, вы видите, в чем польза истории? — Историк улыбнулся. — А теперь скажите, догадались ли вы, почему я вами интересуюсь?
Джордж мгновенно вернулся из пространства и времени назад к действительности. Видимо, Индженеску неспроста завел этот разговор. Вся его лекция была направлена на то, чтобы атаковать его неожиданно.
— Почему же? — неуверенно спросил он, снова насторожившись.
— Социологи изучают общество, а общество состоит из людей.
— Ясно.
— Но люди не машины. Специалисты в области точных наук работают с машинами. А машина требует строго определенного количества знаний, и эти специалисты знают о ней все. Более того, все машины данного рода почти одинаковы, так что индивидуальные особенности машины не представляют для них интереса. Но люди… О, они так сложны и так отличаются друг от друга, что социолог никогда не знает о них все или хотя бы значительную часть того, что можно о них знать. Чтобы не утратить квалификации, он должен постоянно изучать людей, особенно необычные экземпляры.
— Вроде меня, — глухо произнес Джордж.
— Конечно, называть вас экземпляром невежливо, но вы человек необычный. Вы не стоите того, чтобы вами заняться, и, если вы разрешите мне это, я в свою очередь по мере моих возможностей помогу вам в вашей беде.
В мозгу Джорджа кружился смерч. Весь этот разговор о людях и о колонизации, ставшей возможной благодаря образованию… Как будто кто-то разбивал и дробил заскорузлую, спекшуюся корку мыслей.
— Дайте мне подумать, — произнес он, зажав руками уши.
Потом он опустил руки и сказал историку:
— Вы можете оказать мне услугу, сэр?
— Если она в моих силах, — любезно ответил историк.
— Все, что я говорю в этой комнате, — профессиональная тайна? Вы так сказали.
— Так оно и есть.
— Тогда устройте мне свидание с каким-нибудь должностным лицом другой планеты, например с… с новианином.
Индженеску был, по-видимому, крайне удивлен.
— Право же…
— Вы можете сделать это, — убежденно произнес Джордж. — Вы ведь важное должностное лицо. Я видел, какой вид был у полицейского, когда вы показали ему свое удостоверение. Если вы откажетесь сделать это, я… я не позволю вам изучать меня.
Самому Джорджу эта угроза показалась глупой и бессильной. Однако на Индженеску она, очевидно, произвела большое впечатление.
— Ваше условие невыполнимо, — сказал он. — Новианин в месяц Олимпиады…
— Ну, хорошо, тогда свяжите меня с каким-нибудь новианином по видеофону, и я сам договорюсь с ним о встрече.
— Вы думаете, вам это удастся?
— Я в этом уверен. Вот увидите.
Индженеску задумчиво посмотрел на Джорджа и протянул руку к видеофону.
Джордж ждал, опьяненный новым осмыслением всей проблемы и тем ощущением силы, которое оно давало. Он не может потерпеть неудачу. Не может. Он все-таки станет новианином. Он покинет Землю победителем вопреки Антонелли и всей компании дураков из приюта (он чуть было не расхохотался вслух) для слабоумных.
Джордж впился взглядом в засветившийся экран, который должен был распахнуть окно в комнату новиан, окно в перенесенный на Землю уголок Новии. И он добился этого за какие-нибудь сутки!
Когда экран прояснился, раздался взрыв смеха, но на нем не появилось ни одного лица, лишь быстро мелькали тени мужчин и женщин. Послышался чей-то голос, отчетливо прозвучавший на фоне общего гомона.
— Индженеску? Спрашивает меня?
И вот на экране появился он. Новианин. Настоящий новианин. (Джордж ни на секунду не усомнился. В нем было что-то совершенно внеземное, нечто такое, что невозможно было точно определить или хоть на миг спутать с чем-либо иным.)
Он был смугл, и его темные волнистые волосы были зачесаны со лба. Он носил танине черные усики и остроконечную бородку, которая только-только закрывала узкий подбородок. Но его щеки были такими гладкими, словно с них навсегда была удалена растительность.
Он улыбался.
— Ладислас, это уже слишком. Мы не протестуем, чтобы за нами, пока мы на Земле, следили — в разумных пределах, конечно. Но чтение мыслей в условие не входит!
— Чтение мыслей, достопочтенный?
— Сознайтесь-ка! Вы ведь знали, что я собирался позвонить вам сегодня. Вы знали, что я думал только допить вот эту рюмку. — На экране появилась его рука, и он посмотрел сквозь рюмку, наполненную бледно-сиреневой жидкостью. — К сожалению, я не могу угостить вас.
Новианин не видел Джорджа, находившегося вне поля зрения видеофона. И Джордж обрадовался передышке. Ему необходимо было время, чтобы прийти в себя. Он словно превратился в сплошные беспокойные пальцы, которые непрерывно отбивали нервную дробь…
Но он все-таки был прав. Он не ошибся. Индженеску действительно занимает важное положение. Новианин называет его по имени.
Отлично! Все устраивается наилучшим образом. То, что Джордж потерял из-за Антонелли, он возместит с лихвой, используя Индженеску. И когда-нибудь он, став наконец самостоятельным, вернется на Землю таким же могущественным новианином, как этот, что небрежно шутит с Индженеску, называя его по имени, а сам оставаясь «достопочтенным», — вот тогда он сведет счеты с Антонелли. Он отплатит ему за эти полтора года, и он…
Увлекшись этими соблазнительными грезами, он чуть не забыл обо всем на свете, но, внезапно спохватившись, заметил, что перестал следить за происходящим, и вернулся к действительности.
— …не убедительно, — говорил новианин. — Новианская цивилизация так же сложна и так же высокоразвита, как цивилизация Земли. Новия — это все-таки не Зестон. И нам приходится прилетать сюда за отдельными специалистами — это же просто смешно!
— О, только за новыми моделями, — примирительным тоном сказал Индженеску. — А новые модели не всегда находят применение. На приобретение образовательных лент вы потратили бы столько же, сколько вам пришлось бы заплатить за тысячу специалистов, а откуда вы знаете, что вам будет нужно именно такое количество?
Новианин залпом допил свое вино и расхохотался. (Джорджа покоробило легкомыслие новианина. Он смущенно подумал, что тому следовало бы обойтись без этой рюмки и даже без двух или трех предыдущих.)
— Это же типичное ханжество, Ладислас, — сказал новианин. — Вы прекрасно знаете, что у нас найдется дело для всех последних моделей специалистов, которые нам удастся достать. Сегодня я раздобыл пять металлургов…
— Знаю, — сказал Индженеску. — Я был там.
— Следили за мной! Шпионили! — вскричал новианин. — Ну, так слушайте! Эта новая модель металлурга отличается от предыдущих только тем, что умеет обращаться со спектрографом Бимена. Ленты не были модифицированы ни на вот столечко (он показал самый кончик пальца) по сравнению с прошлогодними. Вы выпускаете новые модели только для того, чтобы мы приезжали сюда с протянутой рукой и тратились на их приобретение.
— Мы не заставляем вас их приобретать.
— О, конечно! Только вы продаете специалистов последней модели на Лондонум, а мы ведь не можем отставать. Вы втянули нас в заколдованный круг, вы лицемерные земляне. Но берегитесь, может быть, где-нибудь есть из него выход. — Его смех прозвучал не слишком естественно и резко оборвался.
— От всей души надеюсь, что он существует, — сказал Индженеску. — Ну, а позвонил я потому…
— Да, конечно, ведь это вы мне позвонили. Что ж, я уже высказал свое мнение. Наверное, в будущем году все равно появится новая модель металлурга, чтобы нам было за что платить. И она будет отличаться от нынешней только умением обращаться с каким-нибудь новым приспособлением для анализа ниобия, а еще через год… Но продолжайте. Почему вы позвонили?
— У меня здесь находится один молодой человек, и я бы хотел, чтобы вы с ним побеседовали.
— Что? — Видимо, новианина это не слишком обрадовало. — На какую тему?
— Не знаю. Он мне не сказал. По правде говоря, он даже не назвал мне ни своего имени, ни профессии.
Новианин нахмурился.
— Тогда зачем же отнимать у меня время?
— Он, по-видимому, не сомневается, что вас заинтересует то, что он собирается сообщить вам.
— О, конечно!
— И этим вы сделаете одолжение мне, — сказал Индженеску.
Новианин пожал плечами.
— Давайте его сюда, но предупредите, чтобы он говорил покороче.
Индженеску отступил в сторону и шепнул Джорджу:
— Называйте его «достопочтенным».
Джордж с трудом проглотил слюну. Вот оно!
Джордж почувствовал, что весь вспотел. Хотя эта мысль пришла ему в голову совсем недавно, он был убежден в своей правоте. Она возникла во время разговора с Тревельяном, потом под болтовню Индженеску перебродила и оформилась, а теперь слова новианина, казалось, поставили все на свои места.
— Достопочтенный, я хочу показать вам выход из заколдованного круга, — начал Джордж, используя метафору новианина.
Новианин смерил его взглядом.
— Из какого это заколдованного круга?
— Вы сами упомянули о нем, достопочтенный. Из того заколдованного круга, в который попадает Новия, когда вы прилетаете на Землю за… за специалистами. (Он не в силах был справиться со своими зубами, которые стучали, но не от страха, а от волнения.)
— Вы хотите сказать, что знаете способ, как нам обойтись без земного интеллектуального рынка? Я правильно вас понял?
— Да, сэр. Вы можете создать свою собственную систему образования.
— Гм. Без лент?
— Д-да, достопочтенный.
— Индженеску, подойдите, чтобы я видел и вас, — не спуская глаз с Джорджа, позвал новианин.
Историк встал за плечом Джорджа.
— В чем дело? — спросил новианин. — Не понимаю.
— Даю вам слово, достопочтенный, что бы это ни было, молодой человек поступает так по собственной инициативе. Я ему ничего не поручал. Я не имею к этому никакого отношения.
— Тогда кем он вам приходится? Почему вы звоните мне по его просьбе?
— Я его изучаю, достопочтенный. Он представляет для меня определенную ценность, и я исполняю некоторые его прихоти.
— В чем же его ценность?
— Это трудно объяснить. Чисто профессиональный момент.
Новианин усмехнулся.
— Что ж, у каждого своя профессия.
Он кивнул невидимому зрителю или зрителям за экраном.
— Некий молодой человек, по-видимому, протеже Индженеску, собирается объяснить нам, как получать образование, не пользуясь лентами.
Он щелкнул пальцами, и в его руке появилась новая рюмка с бледно-сиреневым напитком.
— Ну, говорите, молодой человек.
На экране теперь появилось множество лиц. Мужчины и женщины отталкивали друг друга, чтобы поглядеть на Джорджа. На их лицах отражались самые разнообразные оттенки веселья и любопытства.
Джордж попытался принять независимый вид. Все они, и новиане, и землянин, каждый по-своему изучали его, словно жука, насаженного на булавку. Индженеску теперь сидел в углу и не спускал с него пристального взгляда.
«Какие же вы все идиоты», — напряженно подумал он. Но они должны понять. Он заставит их понять.
— Я был сегодня на Олимпиаде металлургов, — сказал он.
— Как, и вы тоже? — вежливо спросил новианин. — По-видимому, там присутствовала вся Земля.
— Нет, достопочтенный, но я там был. В состязании участвовал мой друг, и ему очень не повезло, потому что вы дали участникам состязания прибор Бимена, а он получил специализацию по Хенслеру, — очевидно, уже устаревшая модель. Вы же сами сказали, что различие очень незначительно. Джордж показал кончик пальца, повторяя недавний жест своего собеседника. И мой друг знал заранее, что потребуется знакомство с прибором Бимена.
— И что же из этого следует?
— Мой друг всю жизнь мечтал попасть на Новию. Он уже знал прибор Хенслера. Он знал, что ему нужно ознакомиться с прибором Бимена, чтобы попасть к вам. А для этого ему следовало усвоить всего лишь несколько дополнительных сведений и, быть может, чуточку попрактиковаться. Если учесть, что на чашу весов была поставлена цель всей его жизни, он мог бы с этим справиться…
— А где бы он достал ленту с дополнительной информацией? Или образование здесь, на Земле, превратилось в частное домашнее обучение?
Лица на заднем плане расплылись в улыбках, которых, по-видимому, от них и ожидали.
— Поэтому-то он и не стал доучиваться, достопочтенный. Он считал, что ему для этого нужна лента. А без нее он и не пытался учиться, как ни заманчива была награда. Он и слышать не хотел, что без ленты можно чему-то научиться.
— Да неужели? Так он, пожалуй, даже не захочет летать без скиммера? Раздался новый взрыв хохота, и новианин слегка улыбнулся. — А он забавен, — сказал он. — Продолжайте. Даю вам еще несколько минут.
— Не думайте, что это шутка, — сказал Джордж горячо. — Ленты попросту вредны. Они учат слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания с их помощью, не представляет, как можно учиться по-другому. Он способен заниматься только той профессией, которой его зарядили. А если бы, вместо того чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала учиться, так сказать вручную, он привык бы учиться самостоятельно и продолжал бы учиться дальше. Разве это не разумно? А когда эта привычка достаточно укрепится, человеку можно будет прививать небольшое количество знаний с помощью лент, чтобы заполнить пробелы или закрепить кое-какие детали. После этого он сможет учиться дальше самостоятельно. Таким способом вы могли бы научить металлургов, знающих спектрограф Хенслера, пользоваться спектрографом Бимена, и вам не пришлось бы прилетать на Землю за новыми моделями.
Новианин кивнул и отхлебнул из рюмки.
— А откуда можно получить знания помимо лент? Из межзвездного пространства?
— Из книг. Непосредственно изучая приборы. Думая.
— Из книг? Как же можно понять книги, не получив образования?
— Книги состоят из слов, а большую часть слов можно понять. Специальные же термины могут объяснить специалисты, которых вы уже имеете.
— А как быть с чтением? Для этого вы допускаете использование лент?
— По-видимому, ими можно пользоваться, хотя не вижу причины, почему нельзя научиться читать и старым способом. По крайней мере частично.
— Чтобы с самого начала выработать хорошие привычки? — спросил новианин.
— Да, да, — подтвердил Джордж, радуясь, что собеседник уже начал понимать его.
— А как быть с математикой?
— Это легче всего, сэр… достопочтенный. Математика отличается от других технических дисциплин. Она начинается с некоторых простых принципов и лишь постепенно усложняется. Можно приступить к изучению математики, ничего о ней не зная. Она практически и предназначена для этого. А познакомившись с соответствующими разделами математики, уже нетрудно разобраться в книгах по технике. Особенно если начать с легких.
— А разве есть легкие книги?
— Безусловно. Но если бы их и не было, специалисты, которых вы уже имеете, могут написать их. Наверное, некоторые из них сумеют выразить свои знания с помощью слов и символов.
— Боже мой! — сказал новианин, обращаясь к сгрудившимся вокруг него людям. — У этого чертенка на все есть ответ.
— Да, да! — вскричал Джордж. — Спрашивайте!
— А сами-то вы пробовали учиться по книгам? Или это только ваша теория?
Джордж быстро оглянулся на Индженеску, но историк сохранял полную невозмутимость. Его лицо выражало только легкий интерес.
— Да, — сказал Джордж.
— И вы считаете, что из этого что-нибудь получается?
— Да, достопочтенный, — заверил Джордж. — Возьмите меня с собой на Новию. Я могу составить программу и руководить…
— Погодите, у меня есть еще несколько вопросов. Как вы думаете, сколько вам понадобится времени, чтобы стать металлургом, умеющим обращаться со спектрографом Бимена, если предположить, что вы начнете учиться, не имея никаких знаний, и не будете пользоваться образовательными лентами?
Джордж заколебался.
— Ну… может быть, несколько лет.
— Два года? Пять? Десять?
— Еще не знаю, достопочтенный.
— Итак, на самый главный вопрос у вас не нашлось ответа. Ну, скажем, пять лет. Вас устраивает этот срок?
— Думаю, что да.
— Отлично. Итак, в течение пяти лет человек изучает металлургию по вашему методу. Вы не можете не согласиться, что все это время он для нас абсолютно бесполезен, но его нужно кормить, обеспечить жильем и платить ему.
— Но…
— Дайте мне кончить. К тому времени, когда он будет готов и сможет пользоваться спектрографом Бимена, пройдет пять лет. Вам не кажется, что тогда у нас уже появятся усовершенствованные модели этого прибора, с которыми он не сумеет обращаться?
— Но ведь к тому времени он станет опытным учеником и усвоение новых деталей будет для него вопросом дней.
— По-вашему, это так. Ладно, предположим, что этот ваш друг, например, сумел самостоятельно изучить прибор Бимена; сможет ли сравниться его умение с умением участника состязания, который получил его посредством лент?
— Может быть, и нет… — начал Джордж.
— То-то же, — сказал новианин.
— Погодите, дайте кончить мне. Даже если он знает кое-что хуже, чем тот, другой, в данном случае важно то, что он может учиться дальше. Он сможет придумывать новое, на что не способен ни один человек, получивший образование с лент. У вас будет запас людей, способных к самостоятельному мышлению…
— А вы в процессе своей учебы придумали что-нибудь новое? — спросил новианин.
— Нет, но ведь я один, и я не так уж долго учился…
— Да… Ну-с, дамы и господа, мы достаточно позабавились?
— Постойте! — внезапно испугавшись, крикнул Джордж. — Я хочу договориться с вами о личной встрече. Есть вещи, которые я не могу объяснить по видеофону. Ряд деталей…
Новианин уже не смотрел на Джорджа.
— Индженеску! По-моему, я исполнил вашу просьбу. Право же, завтра у меня очень напряженный день. Всего хорошего.
Экран погас.
Руки Джорджа взметнулись к экрану в бессмысленной попытке вновь его оживить.
— Он не поверил мне! Не поверил!
— Да, Джордж, не поверил. Неужели вы серьезно думали, что он поверит? — сказал Индженеску.
Но Джордж не слушал.
— Почему же? Ведь это правда. Это так для него выгодно. Никакого риска. Только я и еще несколько… Обучение десятка людей в течение даже многих лет обошлось бы дешевле, чем один готовый специалист… Он был пьян! Пьян! Он не был способен понять.
Задыхаясь, Джордж оглянулся.
— Как мне с ним увидеться? Это необходимо. Все получилось не так, как нужно. Я не должен был говорить с ним по видеофону. Мне нужно время. И чтобы лично. Как мне…
— Он откажется принять вас, Джордж, — сказал Индженеску. — А если и согласится, то все равно вам не поверит.
— Нет, поверит, уверяю вас. Когда он будет трезв, он… — Джордж повернулся к историку, и глаза его широко раскрылись. — Почему вы называете меня Джорджем?
— А разве это не ваше имя? Джордж Плейтен?
— Вы знаете, кто я?
— Я знаю о вас все.
Джордж замер, и только его грудь тяжело вздымалась.
— Я хочу помочь вам, Джордж, — сказал Индженеску. — Я уже говорил вам об этом. Я давно изучаю вас и хочу вам помочь.
— Мне не нужна помощь! — крикнул Джордж. — Я не слабоумный! Весь мир выжил из ума, но не я!
Он стремительно повернулся и бросился к двери.
За ней стояли два полицейских, которые его немедленно схватили.
Как Джордж ни вырывался, шприц коснулся его шеи под подбородком. И все кончилось. Последнее, что осталось в его памяти, было лицо Индженеску, который с легкой тревогой наблюдал за происходящим.
Когда Джордж открыл глаза, он увидел белый потолок. Он помнил, что произошло. Но помнил, как сквозь туман, словно это произошло с кем-то другим. Он смотрел на потолок до тех пор, пока не наполнился его белизной, казалось, освобождавшей его мозг для новых идей, для иных путей мышления.
Он не знал, как долго лежал так, прислушиваясь к течению своих мыслей.
— Ты проснулся? — раздался чей-то голос.
И Джордж впервые услышал свой собственный стон. Неужели он стонал? Он попытался повернуть голову.
— Тебе больно, Джордж? — спросил голос.
— Смешно, — прошептал Джордж. — Я так хотел покинуть Землю. Я же ничего не понимал.
— Ты знаешь, где ты?
— Снова в… в приюте. — Джорджу удалось повернуться. Голос принадлежал Омани.
— Смешно, как я ничего не понимал, — сказал Джордж.
Омани ласково улыбнулся.
— Поспи еще…
Джордж заснул.
И снова проснулся. Сознание его прояснилось.
У кровати сидел Омани и читал, но, как только Джордж открыл глаза, он отложил книгу.
Джордж с трудом сел.
— Привет, — сказал он.
— Хочешь есть?
— Еще бы! — Джордж с любопытством посмотрел на Омани. — За мной следили, когда я ушел отсюда, так?
Омани кивнул.
— Ты все время был под наблюдением. Мы считали, что тебе следует побывать у Антонелли, чтобы ты мог дать выход своим агрессивным потребностям. Нам казалось, что другого способа нет. Эмоции тормозили твое развитие.
— Я был к нему очень несправедлив, — с легким смущением произнес Джордж.
— Теперь это не имеет значения. Когда в аэропорту ты остановился у стенда металлургов, один из наших агентов сообщил нам список участников. Мы с тобой говорили о твоем прошлом достаточно, для того чтобы я мог понять, как подействует на тебя фамилия Тревельяна. Ты спросил, как попасть на эту Олимпиаду. Это могло привести к кризису, на который мы надеялись, и мы послали в зал Ладисласа Индженеску, чтобы он занялся тобой сам.
— Он ведь занимает важный пост в правительстве?
— Да.
— И вы послали его ко мне. Выходит, что я сам много значу.
— Ты действительно много значишь, Джордж.
Принесли дымящееся ароматное жаркое. Джордж улыбнулся и откинул простыню, чтобы освободить руки. Омани помог ему поставить поднос на тумбочку. Некоторое время Джордж молча ел.
— Я уже один раз ненадолго просыпался, — заметил он.
— Знаю, — сказал Омани. — Я был здесь.
— Да, я помню. Ты знаешь, все изменилось. Как будто я так устал, что уже не мог больше чувствовать. Я больше не злился. Я мог только думать. Как будто мне дали наркотик, чтобы уничтожить эмоции.
— Нет, — сказал Омами. — Это было просто успокоительное. И ты хорошо отдохнул.
— Ну, во всяком случае, мне все стало ясно, словно я всегда знал это, но не хотел прислушаться к внутреннему голосу. «Чего я ждал от Павий?» подумал я. Я хотел отправиться на Новию, чтобы собрать группу юношей, не получивших образования, и учить их по книгам. Я хотел открыть там приют для слабоумных… вроде этого… а на Земле уже есть такие приюты… и много.
Омани улыбнулся, сверкнув зубами.
— Институт высшего образования — вот как точно называются эти заведения.
— Теперь-то я это понимаю, — сказал Джордж, — до того ясно, что только удивляюсь, каким я был слепым. В конце концов, кто изобретает новые модели механизмов, для которых нужны новые модели специалистов? Кто, например, изобрел спектрограф Бимена? По-видимому, человек по имени Бимен. Но он не мог получить образование через зарядку, иначе ему не удалось бы продвинуться вперед.
— Совершенно верно.
— А кто создает образовательные ленты? Специалисты по производству лент? А кто же тогда создает ленты для их обучения? Специалисты более высокой квалификации? А кто создает ленты… Ты понимаешь, что я хочу сказать. Где-то должен быть конец. Где-то должны быть мужчины и женщины, способные к самостоятельному мышлению.
— Ты прав, Джордж.
Джордж откинулся на подушки и устремил взгляд в пространство. На какой-то миг в его глазах мелькнула тень былого беспокойства.
— Почему мне не сказали об этом с самого начала?
— К сожалению, это невозможно, — ответил Омани. — А так мы были бы избавлены от множества хлопот. Мы умеем анализировать интеллект, Джордж, и определять, что вот этот человек может стать приличным архитектором, а тот — хорошим плотником. Но мы не умеем определять, способен ли человек к творческому мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколько простейших способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, обладает такого рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после Дня чтения, как, например, сообщили о тебе. Их приходится примерно один на десять тысяч. В День образования этих людей проверяют снова, и в девяти случаях из десяти оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают в такие заведения, как это.
— Но почему нельзя сказать людям, что один из… из ста тысяч попадает в такое заведение? — спросил Джордж. — Тогда тем, с кем это случается, было бы легче.
— А как же остальные? Те девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек, которые никогда не попадут сюда? Нельзя, чтобы все эти люди чувствовали себя неудачниками. Они стремятся получить профессии и получают их. Каждый может прибавить к своему имени слова «дипломированный специалист по тому-то или тому-то». Так или иначе каждый индивид находит свое место в обществе. Это необходимо.
— А мы? — спросил Джордж. — Мы, исключения? Один на десять тысяч?
— Вам ничего нельзя объяснить. В том-то и дело. Ведь в этом заключается последнее испытание. Даже после отсева в День образования девять человек из десяти, попавших сюда, оказываются не совсем подходящими для творчества, и нет такого прибора, который помог бы нам выделить из этой десятки того единственного, кто нам нужен. Десятый должен доказать это сам.
— Каким образом?
— Мы помещаем вас сюда, в приют для слабоумных, и тот, кто не желает смириться с этим, и есть человек, которого мы ищем. Быть может, это жестокий метод, но он себя оправдывает. Нельзя же сказать человеку: «Ты можешь творить. Так давай, твори». Гораздо вернее подождать, пока он сам не скажет: «Я могу творить, и я буду творить, хотите вы этого или нет». Есть около десяти тысяч людей, подобных тебе, Джордж, и от них зависит технический прогресс полутора тысяч миров. Мы не можем позволить себе потерять хотя бы одного из них или тратить усилия на того, кто не вполне отвечает необходимым требованиям.
Джордж отодвинул пустую тарелку и поднес к губам чашку с кофе.
— А как же с теми, которые… не вполне отвечают требованиям?
— В конце концов они проходят зарядку и становятся социологами. Индженеску — один из них. Сам я — дипломированный психолог. Мы, так сказать, составляем второй эшелон.
Джордж допил кофе.
— Мне все еще непонятно одно, — сказал он.
— Что же?
Джордж сбросил простыню и встал.
— Почему состязания называются Олимпиадой?
Трудно отказаться от иллюзий
Их привязали ремнями, чтобы они не пострадали от ускорения во время старта, окружили хитроумно сконструированные кресла газообразной средой, а тела укрепили специально подобранными наркотиками.
Потом, когда пришла пора отстегнуть ремни, они получили возможность шевелиться — но не намного больше, чем прежде.
Простые, легкие комбинезоны создавали иллюзию свободы, но это была всего лишь иллюзия. Они могли двигать руками как угодно, а вот ногами — лишь до определенной степени. Одну еще можно было выпрямить полностью, обе одновременно не получалось.
Встать они не могли, только откинуться на спинку кресла и сдвинуться чуть влево или вправо. У них не было ничего, кроме кресел. Они ели, спали, выполняли все, что требовали их тела, сидя. И только сидя.
Дело в том, что на целую неделю (на самом деле чуть больше чем на неделю) они оказались погребенными в этом склепе. В данный момент не имело никакого значения, что их склеп окружал бездонный космос.
С ускорением было покончено, и теперь они безмолвно неслись сквозь пространство, разделяющее Землю и Луну, а в их душах поселился ужас.
Брюс Г. Дейвис-младший спросил глухим голосом:
— О чем будем разговаривать?
— Не знаю, — ответил Марвин Олдбери, и снова наступило молчание.
Они не были друзьями, до недавнего времени даже не знали друг друга. Однако оказались в этом заточении вместе. Каждый вызвался добровольцем. Каждый прошел все испытания. Холостяки, с отличным здоровьем и высоким уровнем интеллектуального развития.
Более того, оба прошли курс солидной психотерапевтической подготовки, длившейся несколько месяцев.
Главный совет специалистов психологов был таким — разговаривайте?
«Если нужно, разговаривайте беспрерывно, — твердили специалисты в один голос. — Очень важно не почувствовать одиночество».
— Откуда они знают? — спросил Олдбери, крупный сильный парень, который был выше и мощнее своего напарника. Брови у него срослись над переносицей, точно кто-то поставил тире между черными дугами.
У Дейвиса были песочного цвета волосы, множество веснушек, озорная улыбка и легкие тени под глазами. Видимо, они и придавали его лицу мрачноватое выражение.
— Ты про кого? — спросил он.
— Про психологов. Помнишь их совет: разговаривать? А откуда им известно, что от этого будет какой-нибудь прок?
— Им-то, вообще, какое до нас дело? — проговорил Дейвис резко. — Это же эксперимент. Если он провалится, другой паре они посоветуют: «Ни в коем случае не разговаривайте во время полета».
Олдбери вытянул руки, и его пальцы коснулись окружавшей их большой полусферы, где находились приборы, с которых поступала информация. Он мог нажимать на кнопки, регулировать кондиционеры, вытаскивать пластиковые трубочки, через которые поступала безвкусная питательная смесь, избавляться от отходов и касаться клавиш, управляющих видеоскопом.
Мягкий электрический свет давали надежные солнечные батареи, закрепленные на корпусе корабля.
Благодарение небесам, подумал Олдбери, за то, что наш корабль вращается. Возникающая в результате центробежная сила прижимает нас к креслам и создает ощущение веса. Если бы не сила тяжести, равная земной, это вообще было бы невыносимо.
И все равно могли бы построить корабль и побольше, где поместилось бы все необходимое оборудование, а два члена экипажа не сидели друг у друга на головах.
Он облек свою мысль в слова:
— Что им стоило сделать так, чтобы места тут было побольше?
— Зачем? — спросил Дейвис.
— Встать хочется.
Дейвис фыркнул — ничего другого ему не оставалось.
— Почему ты вызвался добровольцем? — спросил Олдбери.
— Тебе следовало спросить меня об этом до того, как мы стартовали. Тогда я знал. Я намеревался стать первым человеком, облетевшим Луну и вернувшимся домой. Героем в двадцать пять лет. Колумб и я. Ты меня понимаешь? — Он сердито покачал головой и попил немного воды из трубочки. — Но последние два месяца я думал только о том, что хочу отказаться от этой затеи. Каждый раз я ложился спать, замирая от ужаса, и давал себе торжественное обещание: утром обязательно скажу, что передумал участвовать в их эксперименте.
— Однако ты этого не сделал.
— Нет, не сделал. Потому что не смог. Я оказался трусом; побоялся признаться в том, что космос меня пугает. В тот момент когда меня привязывали к этому креслу, я уже был готов крикнуть: «Нет! Поищите кого-нибудь другого!» И не нашел в себе для этого сил — даже тогда!
Улыбка Олдбери получилась совсем невеселой. — А я и говорить им не собирался. Написал записку, в которой просто сообщал, что никуда не полечу. Хотел отправить ее и затеряться где-нибудь в пустыне. Знаешь, где сейчас эта записка?
— Где?
— В кармане рубашки. Здесь, со мной.
— Неважно, — проговорил Дейвис. — Мы вернемся героями — могучими, покрытыми славой, дрожащими от ужаса героями.
У Ларса Нильссона были грустные глаза, очень бледное лицо и большие костяшки на тонких пальцах. Представителю гражданских властей и главе проекта «Глубокий Космос» нравилась его работа во всех отношениях, нравилось даже напряжение и минуты, когда они терпели неудачи. До сих пор. До того момента, когда двоих людей наконец привязали к креслам и оставили в утробе летательного аппарата.
— Я чувствую себя так, будто подвергаю их вивисекции. Не знаю почему, — сказал он.
— Мы должны рискнуть людьми, мы же рисковали машинами, — с обиженным видом ответил ему возглавлявший группу психологов доктор Годфри Мэйер. — Мы сделали все, что в человеческих силах, чтобы подготовить их к полету и обеспечить безопасность. В конце концов, они же добровольцы.
— Я не забыл, — бесцветным голосом проговорил Нильссон, которого это знание явно не утешало.
Глядя на панель управления, Олдбери раздумывал о том, когда же — если это вообще произойдет — какая-нибудь из кнопок загорится красным светом и прозвучит тревожный сигнал, сообщающий об опасности.
Их заверили, что скорее всего ничего подобного не случится, однако каждого тщательно подготовили к возникновению критической ситуации и объяснили функции всех кнопок и приборов на панели, чтобы они смогли взять управление кораблем на себя.
И не без причины. Автоматизация достигла такого уровня, когда корабль превратился в саморегулирующийся организм, стал почти живым существом. Однако трижды беспилотные корабли, почти такие же сложные, как и этот, внутри которого они отбывали заключение, словно два преступника в тюремной камере, должны были облететь вокруг Луны… но не вернулись.
Далее — каждый раз устройства, передающие на Землю информацию, переставали работать еще до того, как летательные аппараты выходили на орбиту вокруг Луны.
Общественное мнение проявляло нетерпение, и все, кто работал над проектом «Глубокий Космос», дружно проголосовали за то, что не следует ждать успешного возвращения беспилотного корабля и лишь потом рисковать людьми. Было решено, что настала пора привлечь к участию в эксперименте людей, которые смогут отрегулировать приборы в случае небольших неполадок в работе несовершенных автоматов.
Команда должна состоять из двух космонавтов — к такому выводу пришли руководители проекта, которые опасались, что рассудок одного человека, оказавшегося в космосе, не выдержит столь серьезного испытания.
— Дейвис! Эй, Дейвис! — позвал Олдбери. Дейвис пошевелился, словно возвращаясь издалека.
— Что?
— Давай посмотрим на Землю.
— Зачем? — поинтересовался Дейвис.
— А почему бы нам на нее не взглянуть? Она, наверное, ужасно красивая.
Олдбери откинулся на спинку кресла. Видеоскоп был одним из примеров автоматизации. Соприкосновение с коротковолновым излучением выключало его. Ни при каких обстоятельствах не могли бы астронавты увидеть Солнце. Если не считать этого, видеоскоп всегда поворачивался в сторону самого яркого источника света в космическом пространстве, учитывая направление движения корабля — будто между прочим, объяснили космонавтам инженеры. Маленькие фотоэлементы, установленные с четырех сторон корабля, постоянно вращались, изучая небо. А если в самом ярком источнике света не возникало нужды, всегда можно было отключить видеоскоп вручную.
Нажатие на кнопку — и видеоскоп засветился, словно ожил. Дейвис погасил в каюте свет, и картинка стала ярче.
Ничего похожего на глобус с континентами они, естественно, не увидели. Их глазам предстало переплетение размытых белых и сине-голубых пятен, заполнивших экран.
Прибор, путем расчета значения гравитационной константы определявший, на какое расстояние корабль удалился от Земли, утверждал, что они пролетели уже около тридцати тысяч миль.
— Настрою-ка получше, — сказал Дейвис, протянул руку, чтобы отрегулировать картинку, и она сдвинулась.
вращается Земля со скоростью, зависящей от широты того места, где проводится эксперимент, — усмехнулся Дейвис. — Ясное дело! Если маятник остается в одной плоскости. Если эта теория верна. А как к этому отнесется самый обычный прохожий на улице, если только не поверит физикам на слово? Вот что я тебе скажу: пока космические корабли не поднялись достаточно высоко и не сделали снимки Земли, не было никаких серьезных доказательств того, что она круглая!
— Глупости, — заявил Олдбери. — Как бы выглядела Аргентина, если бы Земля была плоской, а Северный полюс находился по центру? Да и любое другое место, оказавшись центром, изменило бы внешний вид других районов. Поверхность Земли имела бы совсем иную форму, если бы она была не сферической. Уж против этого-то ты спорить не будешь!
Дейвис замолчал на некоторое время, потом мрачно произнес:
— Слушай, а какого черта мы тут с тобой спорим? Да провались оно все пропадом!
Олдбери охватило невыносимое чувство тоски после того, как он взглянул на Землю и поговорил о ней. И тогда он принялся очень тихо рассказывать про свой дом, про юность в Трентоне, штат Нью-Джерси, вспомнил старые, банальные анекдоты про родственников — ему казалось, что он давно их забыл. Он смеялся над тем, что и смешным-то не было, и снова почувствовал детскую боль, от которой, как он думал, давно излечился.
В какой-то момент Олдбери задремал, потом неожиданно проснулся и испугался, обнаружив, что его тело заливает холодный, голубоватый свет. Инстинктивно он попытался вскочить на ноги, но тут же со стоном опустился в кресло, потому что больно ударился локтем обо что-то металлическое.
Видеоскоп снова был включен. Голубоватый свет, испугавший Олдбери, когда он проснулся, отражался от Земли.
Теперь изгиб края Земли было гораздо заметнее.
Сейчас Земля находилась от них в пятидесяти тысячах миль.
Дейвис повернулся, когда его напарник неудачно попытался встать, и ядовито проговорил:
— Тот факт, что Земля круглая, не подвергается сомнению. В конце концов, Человек может проползти по ее поверхности и понять, какой она формы, по географическим признакам — ты ведь так сказал? Но существуют другие вопросы, в которых мы ведем себя так, будто уверены, что обладаем истинным знанием, а это вовсе не так уж и однозначно.
Олдбери потер разбитый локоть и сказал:
— Да ладно тебе, ладно. Однако Дейвис не унимался.
На экране появилась черная тень. И ни единой звезды.
— Это ночь, — сказал Олдбери.
Изображение резко вернулось на место. Мрак подступал с другой стороны, на этот раз сквозь него просвечивали звезды.
— Хотел бы я там сейчас оказаться, — сглотнув, проговорил Олдбери.
— По крайней мере теперь мы точно знаем, что Земля круглая, — заявил Дейвис.
— Какое замечательное открытие! Дейвиса, казалось, возмутил тон Олдбери.
— Да, это потрясающее открытие, если угодно. Только небольшой процент жителей Земли твердо знает, что она именно такая. — Он выключил видеоскоп, нахмурился, а через несколько мгновений в каюте загорелся свет.
— Все, кто родились после 1500 года, — напомнил ему Олдбери.
— Да будет тебе известно, что некоторые племена, живущие в Новой Гвинее, до 1950 года верили в то, что Земля плоская. Еще в 1930-х годах в Америке существовали религиозные секты, проповедники которых утверждали, что Земля круглой быть не может. Они даже предложили награду тому, кто сможет им доказать, что они ошибаются. От иллюзий трудно отказаться!
— Психи, и все тут, — проворчал Олдбери. Дейвис начал распаляться.
— А ты можешь доказать, что наша Земля круглая? Ну, если не считать того факта, что ты видел ее сейчас на экране видеоскопа…
— Послушай, это же смешно.
— Смешно? А может быть, до сих пор ты просто верил своей учительнице из начальной школы так, словно она изрекала прописные истины? Какие доказательства тебе были тогда представлены? Что во время лунного затмения Земля отбрасывает на поверхность Луны круглую тень — следовательно, она является сферическим объектом? Полнейшая чепуха! Круглый диск тоже отбрасывает круглую тень. И яйцо, и любой предмет любой другой формы, пусть даже и самой необычной, имеющий хотя бы одно круговое сечение. Ты скажешь, что многим людям удалось совершить кругосветное путешествие. Но они могли, проходя определенное расстояние, просто кружить по центральному району плоской части Земли. Эффект был бы точно таким же. Разве корабли возникают на горизонте кверху дном? Оптическая иллюзия, не более того? Есть и более диковинные вещи.
— А маятник Фуко? — быстро спросил Олдбери, которого поразили напряженный голос и лихорадочные доводы Дейвиса.
— Ты имеешь в виду маятник, который остается в одной плоскости, а эта плоскость вращается по мере того, как под ней
— Вот наша Земля. Посмотри на нее. Сколько ей лет?
— Я полагаю, несколько миллиардов, — осторожно ответил Олдбери.
— Ты полагаешь? А какое право ты имеешь полагать? Почему бы не сказать, что Земле несколько тысяч лет? Твой прапрадедушка, видимо, считал, что Земле шесть тысяч лет, если взять за истину то, что написано в Книге Бытия. Насколько мне известно, мой дед именно так и думал. С какой стати ты уверен, что они ошибались?
— Существует множество доказательств — с точки зрения геологии.
— Время, которое требуется на то, чтобы океан стал таким соленым, как сейчас? Время, которое требуется на то, чтобы скалы из осадочных пород стали такими, как сейчас? Время, которое требуется на то, чтобы в урановой руде образовалось определенное количество свинца?
Олдбери откинулся на спинку кресла и как-то отстранение принялся разглядывать Землю. Он почти не слышал того, что говорил Дейвис. Еще немного, и они увидят ее всю. Уже и сейчас в одном углу экрана видеоскопа можно было разглядеть ее изгиб на темном фоне космического пространства, в то время как ночная тень наползала с другой стороны.
Конечно, ночная тень не изменила своего положения. Земля вращалась, и людям в космическом корабле казалось, что она купается в свете.
— Ну? — потребовал ответа Дейвис.
— Что? — удивленно спросил Олдбери.
— Как насчет твоих идиотских доказательств с точки зрения геологии?
— А… распад урана, например.
— Я уже об этом говорил. Ты дурак.
Прежде чем ответить, Олдбери сосчитал до десяти.
— Я так не думаю.
— В таком случае послушай. Предположим, Земля возникла шесть тысяч лет назад, как говорится в Библии. Почему она не могла быть рождена таким образом, чтобы в уране уже содержался определенный процент свинца? Если можно сделать уран, почему бы не засунуть в него свинец? Почему бы не сделать океан соленым, а скалы из осадочных пород именно такими, какие они сейчас? Почему бы не нашпиговать почву известными нам ископаемыми?
— Иными словами, почему бы не создать Землю с полным набором свидетельств, доказывающих, что ей миллиард лет?
— Точно, — согласился Дейвис, — почему бы и нет?
— Позволь мне задать тебе другой вопрос: а зачем?
— Мне наплевать на причины, я пытаюсь объяснить тебе: так называемые доказательства возраста Земли вовсе не отрицают того, что она родилась шесть тысяч лет назад.
— Мне кажется, тебе все это представляется чем-то вроде игры, — проговорил Олдбери. — Научная загадка для проверки умственных способностей человечества. Или заданная людям намеренно — чтобы они отточили свое логическое мышление. Похоже на хитроумную погремушку, подвешенную над интеллектуальной колыбелью.
— Пытаешься пошутить, да, Олдбери? А на самом деле, что невозможного в твоих предположениях? Может быть, в них содержится правда. Ты же не в состоянии доказать, что это не так.
— А я и не пытаюсь ничего доказывать.
— Нет, тебя вполне устраивает, что можно принимать все на веру. Именно поэтому я и сказал, что ты дурак. Если бы мы могли отправиться в прошлое и увидеть все собственными глазами, вот тогда другое дело. Если бы могли попасть в какой-нибудь период времени до четырехсотого года до нашей эры и посмотреть на Древний Египет, или даже в еще более раннюю эпоху и словить саблезубого тигра…
— А еще хорошо было бы поймать тираннозавра.
— Конечно, тираннозавра. Просто отлично. До тех же пор мы имеем право только предполагать — и у нас нет никакой возможности доказать, в каком месте наши предположения правильны, а где мы ошибаемся. Вся наука основана на вере в стартовые постулаты и в значение методов дедукции и индукции.
— Тут нет никакого преступления.
— Тут есть преступление! — с возмущением воскликнул Дейвис. — Ты начинаешь им верить, и, как только это происходит, твой разум погружается в спячку. У тебя уже возникли определенные представления, и ты ни за что не захочешь поменять их. Галилей знал, что людям трудно отказаться от иллюзий.
— Колумб тоже, — сонно проговорил Олдбери. Голубоватая Земля, мимо которой проносились клубящиеся облака, усыпляла его.
Дейвис ухватился за этот аргумент с явным ликованием.
— Колумб! Ты, видимо, думаешь, будто он считал Землю круглой, в то время как все остальные были уверены в том, что она плоская.
— Ну, до определенной степени.
— Вот к чему приводит вера во всезнание учительницы начальной школы. Каждый разумный и образованный человек, живший во времена Колумба, был готов признать, что Земля круглая, а спорили они по поводу ее размера.
— Точно?
— Абсолютно! Колумб пользовался картами итальянского географа, из которых следовало, что в окружности Земля составляет пятнадцать тысяч миль, а восточная граница Азии находится на расстоянии четырех тысяч миль от Европы. Придворные географы короля Иоанна Португальского утверждали, что это неверно. По их расчетам Земля составляла около двадцати пяти тысяч миль в окружности, а восточная граница Азии находилась на расстоянии двенадцати тысяч миль к западу от западной границы Европы, поэтому они советовали королю Иоанну не оставлять попыток объехать вокруг Африки. Португальские географы были, естественно, на сто процентов правы, а Колумб на все сто ошибался. Португальцы добрались до Индии, а Колумб — нет.
— И тем не менее он открыл Америку, — возразил Олдбери. — Вряд ли ты станешь отрицать этот факт.
— Это не имело никакого отношения к его представлениям. Он открыл Америку по чистой случайности. Колумб был самым настоящим интеллектуальным мошенником: когда во время путешествия выяснилось, что его карты неверны, он просто взял и подделал записи в судовом журнале, но ни за что не пожелал расстаться со своими заблуждениями. Ему было очень трудно отказаться от своих иллюзий — они умерли вместе с ним. Так и с нами происходит. Я могу до посинения пытаться убедить тебя в собственной правоте, но ты все равно будешь продолжать считать Колумба великим человеком, поскольку он верил в то, что Земля круглая, в то время как все остальные представляли ее себе плоской.
— Пусть будет по-твоему, — проворчал Олдбери.
Его охватила апатия. Вдруг вспомнился куриный суп, который готовила его мать, когда он был ребенком. С ячменем. Он не забыл запахи, наполнявшие кухню в субботу утром, когда к завтраку подавали поджаренный французский хлеб, и то, как выглядели улицы после дождя, и…
Ларс Нильссон держал в руках расшифровки, в которых психологи пометили наиболее важные места.
— Мы по-прежнему слышим их четко и ясно?
Его заверили, что приемники работают безупречно.
— Мне не нравится, что мы подслушиваем разговоры Дейвиса и Олдбери без их ведома, — заявил он. — Наверное, это глупо с моей стороны.
Годфри Мэйер не посчитал нужным спорить с диагнозом, который выставил себе Нильссон.
— Конечно, — согласился психолог, — очень глупо. Ты должен рассматривать их разговоры как дополнительную информацию, необходимую для изучения реакции человека на космическое пространство. Когда мы проверяли, как человек реагирует на ускорение выше чем одно «же», ты испытывал смущение из-за того, что занимался сравнительным анализом кровяного давления?
— Что скажешь о Дейвисе и его весьма необычных теориях? Он меня беспокоит.
Мэйер покачал головой:
— Пока еще мы не знаем, по какому поводу следует испытывать беспокойство. Дейвис выпускает наружу свою ненависть к науке, из-за которой он оказался в таком положении.
— Ты так думаешь?
— Одно из предположений. Не держать в себе возмущение и злобу иногда бывает очень полезно. Именно благодаря этому он может сохранить стабильность. Впрочем, вполне возможно, что Дейвис зайдет слишком далеко. Еще рано делать выводы. Я думаю, Олдбери грозит более серьезная опасность. Он становится все пассивнее и пассивнее.
— Слушай, Мэйер, а вдруг окажется, что Человек — человеческое существо вообще — не в состоянии переносить космос?
— Если мы построим корабли, внутри которых все будет как на Земле и они смогут взять на борт сотню человек — у нас не возникнет никаких проблем. А пока речь идет о посудинах вроде этой… — он показал пальцем куда-то себе за спину, — нужно быть готовым к разного рода неприятностям.
Нильссон почувствовал легкое разочарование.
— Ну, сейчас идет третий день полета, и до сих пор ничего непредвиденного не произошло, — напомнил он.
— Идет третий день, — резко сказал Дейвис. — Мы уже пролетели полпути.
— Угу. У меня был двоюродный брат, хозяин лесопилки. Его звали Реймонд. Иногда по дороге из школы домой я заходил к нему, — заговорил Олдбери.
Каким-то совершенно необъяснимым образом он вдруг вспомнил стихотворение Лонгфелло[17] «Деревенский кузнец», а потом в памяти всплыла строчка про «детей, возвращающихся домой из школы», и он подумал о том, сколько людей, с выражением произносивших слова: «Под раскидистым каштаном деревенская кузница стоит», знает, что кузница и кузнец — не одно и то же?
— О чем я говорил? — спросил он.
— Не знаю, — раздраженно ответил Дейвис. — Я сказал, что мы пролетели уже больше половины пути и еще ни разу не посмотрели на Луну.
— В таком случае давай на нее поглядим.
— Ладно, только видеоскоп будешь настраивать ты. Мне уже надоело этим заниматься. Черт подери, у меня на заднице образовались мозоли! — Он поерзал в ограниченном пространстве своего кресла, стараясь устроиться как-нибудь по-другому. — Знаешь, я думаю, что идея заставить корабль вращаться, чтобы гравитация вдавливала нас в эти сиденья, была не очень-то удачной. Хорошо было бы немного полетать в невесомости, чтобы расслабиться.
— Здесь места нет, чтобы летать, — вздохнул Олдбери, — а в состоянии свободного падения ты бы обязательно стал жаловаться, что тебя тошнит.
Олдбери занимался настройкой видеоскопа и говорил одновременно. Мимо проплыли звезды.
То, что он делал, было совсем просто. Инженеры дома, в Трентоне — нет, на самом деле, в Нью-Мексико; ну хорошо, на Земле… — инженеры прекрасно выполнили свою задачу, научили Дейвиса и Олдбери управляться с приборами, которыми был оборудован корабль. Видеоскоп нужно повернуть на сто восемьдесят градусов от Земли. Потом за дело возьмется автоматика. Луна окажется самым ярким объектом в данной области. Приборам понадобится несколько секунд для того, чтобы обследовать небо и повернуть видеоскоп в сторону Земли, однако этих нескольких секунд будет достаточно, чтобы переключиться на ручное управление и — прямо в яблочко!
Они увидели лунный серп. Луна должна находиться в противофазе относительно Земли, поскольку корабль мчался курсом, который почти прямой линией соединял две планеты.
Но полумесяц был какой-то распухший, словно сошел с картинки дешевого календаря. Олдбери подумал, что надеялся увидеть две головы, прижавшиеся друг к другу, короткие прямые волосы и длинные вьющиеся, на фоне Луны. Полной Луны.
— По крайней мере, она на месте, — фыркнул Дейвис.
— А ты предполагал, что ее там не окажется?
— Я ничего не предполагаю, когда речь идет о космосе. Ничего определенного. Никому еще не довелось тут побывать, так что никто ничего не знает наверняка. Но во всяком случае Луну я вижу собственными глазами.
— Если уж на то пошло, ты ее и с Земли видишь.
— А почему ты так уверен, что видишь ее с Земли? Тот, кто находится на Земле, может лишь утверждать, что Луна — раскрашенная желтая заплатка на голубом фоне, которая точно по расписанию прячется в тень.
— Звезды и планеты тоже подчиняются расписанию?
— Совсем как в планетарии. Почему бы и нет? А телескоп показывает больше звезд, нарисованных на…
— Со встроенным моторчиком, чтобы они двигались?
— Вполне возможно, — с вызовом проговорил Дейвис. — Только вот мы уже на полпути к Луне, и она становится все больше и больше. Может быть, мы все-таки убедимся, что она и в самом деле существует. По поводу планет и звезд я пока не стану делать никаких выводов.
Олдбери взглянул на Луну и вздохнул. Через несколько дней они приблизятся к ней, облетят вокруг и увидят ту часть, что спрятана от глаз землян.
— Я никогда не верил в истории о человеке, живущем на Луне, — сказал он. — Мне ни разу не довелось его разглядеть. Зато я видел женское лицо — глаза, немного асимметричные и очень грустные. Я смотрел на полную Луну из окна своей спальни, и она всегда была доброй и одновременно вызывала во мне грусть. Когда мимо проносились облака, мне казалось, что в движении находится Луна, а не облака, но при этом она никогда не уходила от моего окна. А еще Луну можно увидеть сквозь облака, Солнце — никогда, даже если облака совсем маленькие. Луна такая яркая, она намного ярче Солнца. Почему так, папа… хм-м-м, Дейвис?
— Что с твоим голосом? — спросил Дейвис.
— С моим голосом все в порядке.
— Ты пищишь.
Олдбери усилием воли заставил свой голос звучать на октаву ниже.
— Я не пищу!
На панели управления было две пары часов, и его глаза частенько останавливались на их циферблатах. Впрочем, одни часы показывали обычное время, Олдбери оно не интересовало. А вот другие, отмерявшие время, прошедшее с момента старта, завораживали его. Выходило, что Олдбери с Дейвисом провели в полете шестьдесят четыре часа с небольшим; красными цифрами в обратном порядке обозначалось время, остающееся до того момента, когда они снова окажутся на Земле. Эта цифра в данный момент равнялась ста сорока четырем с небольшим.
Олдбери жалел, что им известно, сколько часов они должны провести в космосе. Он с радостью вычислил бы сам. В школе Олдбери обычно считал, сколько времени осталось до летних каникул. Он делал вычисления в уме — и это было невероятно трудно — во время уроков географии, всегда почему-то географии; у него получалось много дней и страшно много часов. Он записывал полученный результат крошечными цифрами в своей тетрадке. И каждый день эта цифра уменьшалась. Частично удовольствие от приближающихся каникул заключалось в наблюдении за тем, как медленно, медленно сокращается число дней до вожделенного мига.
Но сейчас их количество уменьшалось по воле часов, когда секундная стрелка проходила круг за кругом, кромсая время на минуты, едва заметные, тонкие, точно папиросная бумага, кусочки, прозрачные, совсем как ломтики солонины, которую нарезал автомат в магазине деликатесов.
Неожиданно в его размышления ворвался голос Дейвиса:
— Пока все идет хорошо.
— А ничего плохого и не произойдет, — спокойно заявил Олдбери.
— С какой стати ты так уверен?
— Потому что числа становятся меньше.
— Что? Повтори-ка.
Олдбери смутился на одно короткое мгновение, а потом сказал:
— Да ладно, ничего особенного.
В корабле царил полумрак, внутрь проникал лишь свет лунного полумесяца. Олдбери снова погрузился в сон, словно нырнул в воду. Ему приснилась полная Луна в окне его комнаты — грустное женское лицо, которое пытается и не может сдвинуть с места ветер. А может, оно все-таки не так неподвижно, как ему кажется?
— Двести тысяч миль, — сказал Дейвис. — Мы проделали почти восемьдесят пять процентов пути туда.
Освещенная часть Луны была словно покрыта крапинками или угрями и теперь уже не помещалась на экране. Море Кризиса темнело слегка искаженным овальным пятном, достаточно большим, чтобы просунуть туда кулак.
— И ничего плохого не произошло, — продолжал Дейвис. — Ни один красный огонек не зажегся на панели управления.
— Хорошо, — сказал Олдбери.
— Хорошо? — Дейвис уставился на Олдбери, подозрительно прищурившись. — Во время всех предыдущих попыток неприятности начинались как раз в этом месте, следовательно, пока нельзя говорить, что все хорошо.
— Я не думаю, что у нас что-нибудь выйдет из строя.
— А я уверен: обязательно случится какая-нибудь мерзость. Предполагается, что Земля не должна знать.
— Чего не должна знать?
Дейвис рассмеялся, и Олдбери устало посмотрел на товарища. Его немного пугала усиливающаяся мания Дейвиса, который совсем не был похож на отца Олдбери — таким, каким он его помнил (только тогда отец был моложе, чем сейчас, со здоровым сердцем и роскошной шапкой волос).
Профиль Дейвиса резко вырисовывался в лунном свете.
— Возможно, в космосе есть много вещей, о которых нам знать не полагается, — сказал он. — Перед нами пространства размерами в миллиарды световых лет. А может быть — откуда нам знать, что это не так? — другая сторона Луны — всего лишь сплошная черная стена, на которой нарисованы звезды и планеты, а всякие там умники на Земле придумывают разные теории и рассчитывают хитроумные орбиты, глядя на них.
— Этакая игра для проверки нашей сообразительности? — спросил Олдбери.
Он вспомнил, как Дейвис уже говорил что-то похожее… или говорил он сам? Все, что было связано с кораблем, казалось, ушло куда-то далеко-далеко.
— А почему бы и нет?
— Все хорошо, — принялся успокаивать товарища Олдбери. — Пока все идет хорошо. Наступит день, вот увидишь, когда все это кончится.
— В таком случае почему записывающие устройства выходят из строя, когда корабль проходит первые двести тысяч миль? Почему? Отвечай!
— Ну, сейчас мы находимся в корабле. Мы все исправим.
— Нет, ничего мы не исправим, — заявил Дейвис. Неожиданно Олдбери разволновался, потому что вспомнил рассказ, который читал в юности.
— Знаешь, мне однажды попалась книга про Луну. Марсиане построили свою базу на обратной стороне Луны. И мы их не видели, понимаешь. Они спрятались, а сами за нами наблюдали…
— Каким образом? — язвительно поинтересовался Дейвис. — Между Землей и ними было две тысячи миль лунной почвы.
— Нет. Давай я начну с самого начала. — Олдбери снова заметил, что его голос стал пронзительным, но ему было все равно. Хотелось встать и попрыгать, потому что одно воспоминание об этом рассказе подняло настроение. Только по какой-то причине он не мог тронуться с места. — Видишь ли, все это происходило в будущем, а земляне не знали…
— Может быть, заткнешься?
Олдбери сразу смолк. Ему стало обидно, и тогда он смущенно сказал:
— Ты говорил, что предполагается, будто Земля не должна узнать, именно поэтому выходят из строя приборы, а мы увидим только обратную сторону Луны, и если марсиане…
— Ты оставишь в покое своих идиотских марсиан?! Олдбери замолчал. Он разозлился на Дейвиса. Если Дейвис взрослый, это еще не значит, что ему можно так кричать. Он снова посмотрел на часы. До летних каникул оставалось сто десять часов.
Теперь они падали прямо на Луну. Свободное падение. Стремительно снижались, набирая скорость. Лунное притяжение было слабым, но они падали с большой высоты. И теперь наконец их глазам предстали новые кратеры.
Конечно же, корабль промчится мимо и на огромной скорости благополучно облетит вокруг Луны, за час покроет расстояние в три тысячи миль, а потом повернет назад, к Земле.
Однако Олдбери с грустью подумал, что не видит знакомого женского лица. Так близко его рассмотреть было невозможно, перед глазами возникла только неровная поверхность Луны. Он почувствовал, как слезы потекли по щекам.
А потом вдруг маленькая тесная каюта корабля наполнилась громким жужжанием, на панели управления вспыхнули красные лампочки — сигнал тревоги.
Олдбери съежился в своем кресле, а Дейвис торжествующе крикнул:
— Я же тебе говорил! Все испортилось!
Он начал бессмысленно нажимать на кнопки приборов.
— Никакая информация не доберется до Земли! Тайны! Тайны!
Но Олдбери по-прежнему не сводил глаз с Луны. Теперь она была уже совсем близко, и ее поверхность находилась в постоянном движении. Корабль мчался вперед, собираясь, как и было запланировано, облететь вокруг Луны. И вдруг Олдбери пронзительно взвизгнул:
— Смотри! Посмотри-на-это! — Палец, которым он показывал на поразившую его картину, был напряжен от ужаса.
Дейвис поднял голову и только и смог сказать:
— О Господи! О Господи! — Он повторял это снова и снова, пока экран видеоскопа не потемнел, а на приборе, контролирующем его работу, не вспыхнула красная лампочка.
Ларс Нильссон не мог стать еще бледнее, чем был, но руки у него дрожали, когда он попытался сжать их в кулаки.
— Снова! Проклятье какое-то! В течение десяти лет автоматы не срабатывают — на кораблях без экипажа. А сейчас? Кто в этом виноват?
Не было никакого смысла искать виноватых. Нильссон вскоре со стоном и сам признал: никто не виноват в том, что произошло. Просто в критический момент — в очередной раз — эксперимент провалился.
— Нужно каким-то образом помочь им выбраться, — сказал он, зная, что это весьма проблематично.
Однако они принялись делать все возможное.
— Ты тоже видел, верно? — спросил Дейвис.
— Я боюсь, — хныкал Олдбери.
— Ты видел. Ты видел обратную сторону Луны, когда мы промчались мимо, ты видел, что там ничего нет! Господи, только палки — большие перекладины, на которых натянуто шесть миллионов квадратных миль полотна. Клянусь, это самое настоящее полотно!
Дейвис дико рассмеялся, а в следующее мгновение задохнулся от собственного хохота.
И тогда он сказал хриплым голосом:
— Целый миллион лет человечество смотрело на самый большой фальшивый фасад, когда-либо существовавший на свете. Влюбленные встречались под натянутым над Землей куском полотна и называли его Луной. Звезды нарисованы; иначе просто не может быть. Если бы нам удалось подобраться немного ближе, мы бы соскребли парочку и привезли домой в качестве сувениров. О, это ужасно смешно. — Он снова расхохотался.
Олдбери страшно хотелось спросить, почему этот взрослый дяденька так весело смеется. Но ему удавалось произнести только: «Зачем, зачем…» Смех Дейвиса был таким отчаянным, что все слова застревали у Олдбери в глотке — так страшно ему становилось.
— Зачем? — повторил его вопрос Дейвис. — А мне-то, черт подери, почем знать? Зачем телевизионные студии выстраивают целые улицы фальшивых домов для своих программ? Может быть, все это шоу, а мы с тобой совершенно случайно забрели туда, где стоят декорации, которые кто-то перепутал и не вынес на сцену, где и мы с тобой должны были находиться. Человечество не должно ничего знать про эти декорации. Именно поэтому передатчики выходят из строя через две тысячи миль. А мы с тобой все видели собственными глазами.
Он хитро посмотрел на сидящего рядом здоровяка Олдбери.
— А знаешь, почему не имеет никакого значения, что мы все видели?
Олдбери взглянул на него, по его лицу текли слезы.
— Нет. Почему?
— Потому что не имеет никакого значения, знаем мы правду или нет. Если мы вернемся на Землю и скажем, что Луна — всего лишь большой кусок полотна, натянутый на деревяшки, нас просто убьют. Или навсегда запрут в психушку, если решат проявить добросердечие. Именно по этой причине мы никому ничего не скажем. — В его голосе прозвучала угроза. — Ты понял? Ни единого слова!
— Я хочу к маме, — жалобно захныкал Олдбери.
— Ты понял? Мы будем молчать. Только в этом случае с нами будут обращаться как с нормальными людьми. Пусть кто-нибудь другой полетит туда, узнает правду и отдаст за нее жизнь. Поклянись, что будешь молчать! Скажи: «Честное слово, провалиться мне на этом месте!»
Тяжело дыша, Дейвис угрожающе поднял руку.
Олдбери, насколько позволяли ремни, сжался в своем кресле.
— Не бей меня. Не бей!
Однако Дейвиса охватила слепая ярость, и он взревел:
— Есть только один способ. — И ударил испуганного Олдбери, а потом еще раз и еще…
Годфри Мэйер, который сидел у постели Олдбери, спросил:
— Тебе все ясно?
Олдбери находился на излечении вот уже целый месяц. Ларе Нильссон устроился в другом конце комнаты, наблюдая за происходящим и прислушиваясь к разговорам. Он помнил, каким был Олдбери перед тем, как взойти на борт корабля. Его лицо по-прежнему оставалось круглым, но щеки стали впалыми И куда-то подевалась его сила.
— Это был вовсе не корабль. Мы не летали в космос, — голос Олдбери был ровным, но очень тихим.
— Послушай, мы не просто говорим тебе это. Мы же показали тебе корабль и приборы, которые управляли изображениями Земли и Луны. Ты же все видел.
— Да. Я знаю.
— Это были ходовые испытания, — спокойно и уверенно продолжал Мэйер, — полное дублирование условий для проверки космонавта в стрессовой ситуации. Естественно, мы не могли сказать об этом тебе или Дейвису — это было бы бессмысленна Мы могли остановить эксперимент в любой момент. Сделать выводы и внести изменения, а потом пригласить новую пару.
Он повторял это снова и снова. Необходимо было заставить Олдбери понять, что с ним па самом деле произошло, в противном случае он не сможет жить дальше.
— А новая пара уже прошла испытание? — грустно спросил Олдбери.
— Нет. Еще нет. Необходимо внести кое-какие изменения.
— Меня постигла неудача.
— Мы узнали много полезного, поэтому эксперимент можно считать успешным. А теперь послушай: приборы на корабле были сконструированы таким образом, что должны были испортиться именно тогда, когда это и произошло. Мы хотели проверить, как вы будете реагировать на критическую ситуацию после нескольких трудных дней, проведенных в космосе. Нарушение работы приборов было запланировано на тот момент когда вам следовало подлетать к Луне, которую мы намеревались повернуть, чтобы вы посмотрели на нее под другим углом на обратном пути. Мы не построили обратную сторону, поскольку вы не должны были ее увидеть. Можно сказать… из соображений экономии. Эксперимент стоил пятьдесят миллионов долларов, а добывать ассигнования совсем непросто.
— Только вот видеоскоп вовремя не отключился, — с горечью проговорил Нильссон. — Реле не сработало. И вы увидели обратную сторону недостроенной Луны, а нам пришлось прекратить эксперимент, чтобы…
— Вот, — перебил его Мэйер. — Ну-ка повтори, Олдбери. Повтори все, что ты только что слышал.
Они долго молча шли по коридору, а потом Нильссон сказал:
— Сегодня он почти похож на себя прежнего. Тебе не кажется?
— Да, я заметил определенные улучшения, — признал Мэйер. — Довольно существенные. Но лечение ни в коем случае нельзя прекращать.
— А как насчет Дейвиса? Есть какая-то надежда? — спросил Нильссон.
Мэйер покачал головой:
— Совсем другой случай. Он полностью ушел в себя. Не желает разговаривать. А следовательно, мы не можем до него добраться. Мы уже пробовали алдостерон, спорынью, контрэлектроэнцефалографию и тому подобные штуки. Ничего не выходит. Он думает, что стоит ему заговорить, как мы поместим его в сумасшедший дом или прикончим. Самая настоящая паранойя.
— А ты сказал ему, что мы и сами знаем?
— Если это сделать, у него опять начнется приступ ярости и он попытается кого-нибудь убить — а вдруг нам не повезет так, как Олдбери. Я думаю, он неизлечим. Иногда, когда на небе светит Луна — мне говорил об этом санитар, — Дейвис смотрит на нее и тихонько бормочет: «Полотно».
— Знаешь, я вспомнил, что сказал сам Дейвис в начале полета: «Трудно отказаться от иллюзий». Так ведь, верно?
— Это трагедия нашего мира. Только… — Мэйер заколебался.
— Только что?
— Мы отправили три ракеты без людей на борту — и на каждой передатчики прекратили работать как раз перед тем, как они должны были подлететь к обратной стороне Луны… ни один не вернулся. Иногда я думаю…
— Заткнись! — яростно выкрикнул Нильссон.
Сердобольные стервятники
Прошло пятнадцать лет, а харриане все еще не покинули своей базы на обратной стороне Луны. Это было просто неслыханно! Невероятно! Ни один харрианин и представить себе не мог такой проволочки. Специальные отряды находились в состоянии боевой готовности уже целых пятнадцать лет! Они были готовы устремиться вниз сквозь радиоактивные облака и спасти то, что еще возможно для тех немногих, кто уцелеет… Разумеется, за приличное вознаграждение.
Но планета совершила уже пятнадцать оборотов вокруг своего Солнца, а ее спутник всякий раз делал без малого тринадцать кругов, и за все это время атомная война так и не началась!
Крупные мыслящие приматы, обитатели этой планеты, то тут, то там производили атомные взрывы. Стратосфера была до предела насыщена радиоактивными продуктами распада. А войны все нет и нет!
Деви Ен горячо надеялся, что ему пришлют замену. Он был четвертым по счету капитаном, возглавлявшим эту колонизаторскую экспедицию (если ее все еще можно было так назвать после пятнадцати лет бесплодного ожидания), и весьма приветствовал бы появление пятого. Поскольку с родины, из Харрии, должен был прибыть Главный инспектор, чтобы лично ознакомиться с положением, ждать оставалось недолго. И прекрасно!
Деви Ен стоял на Луне, облаченный в скафандр, и думал о Харрии. Его длинные тонкие руки беспокойно двигались, словно стремились, следуя зову далеких предков, ухватиться за ветви деревьев. Ростом он был не более метра. Сквозь прозрачную пластину в передней части шлема можно было видеть черное сморщенное лицо с мясистым подвижным носом. Маленькая бородка кисточкой по контрасту с лицом казалась белоснежной. Сзади, немного ниже пояса, в костюме был мешочек, в котором с удобством покоился короткий, похожий на обрубок хвост.
Деви Ен, естественно, не видел в своей наружности ничего необыкновенного, хотя прекрасно знал, что харриане отличаются от прочих мыслящих существ, населяющих Галактику. Только одни харриане так малы ростом, только у них есть хвост, только они не употребляют в пищу мяса… только они одни избежали неотвратимой атомной войны, которая приносила гибель прочим разновидностям мыслящих особей.
Он стоял на дне низины, похожей на чашу (будь она меньше, на Харрии ее назвали бы кратером); она простиралась так далеко, что обрамлявшая ее кольцом высокая гряда терялась за горизонтом. У южного края кольца, лучше всего защищенного от прямых лучей солнца, вырос город. Сначала это, понятно, был лишь временный лагерь, но позднее туда привезли женщин, и появились дети. Теперь здесь были школы, и сложные гидропонные установки, и огромные резервуары, наполненные водой, — словом, все, что полагается иметь городу на спутнике, лишенном атмосферы.
Просто смехотворно! Целый город — и только потому, что какая-то там планета не желает начинать атомную войну, хотя и владеет атомным оружием!
Главный инспектор — его ждали с минуты на минуту — несомненно, сразу же задаст вопрос, который и сам Деви Ен задавал себе несчетное множество раз.
Почему же все-таки нет атомной войны? Деви Ен обернулся и стал смотреть, как огромные неуклюжие маувы готовят посадочную площадку, разравнивая почву и покрывая ее слоем керамической массы, которая должна максимально поглотить реактивную отдачу гиператомного поля и избавить от неприятных ощущений пассажиров межзвездного корабля.
Даже скафандры не могли скрыть силы, которую словно источало все существо маувов, но это была чисто физическая сила. Рядом с ними виднелась маленькая фигурка харрианина, отдававшего приказания, и маувы послушно повиновались. А как же иначе?
Раса маувов, единственная из всех крупных мыслящих приматов, платила Харрии самую необычную дань, посылая вместо материальных ценностей определенное число обитателей своей планеты. Это была удивительно выгодная дань, во многих отношениях лучше, чем сталь, алюминий или лекарственные препараты. Радиотелефон в шлеме Деви Ена вдруг ожил.
— Корабль показался, капитан, — донеслось до него. — Он сядет меньше чем через час.
— Отлично, — сказал Деви Ен. — Пусть мне приготовят машину. Я поеду, как только начнется посадка.
Однако ему вовсе не казалось, что все идет отлично.
Главный инспектор прибыл в сопровождении свиты из пяти маувов. Они вошли вместе с ним в город, два по бокам, три следом. Помогли ему снять скафандр, затем разоблачились сами.
Их тела, на которых почти не росли волосы, крупные лица с грубыми чертами, широкие носы и плоские скулы отталкивали своим уродством, но не внушали страха. Они были в два раза выше харриан и чуть не в три раза массивнее, но глаза их смотрели безучастно, и весь их вид, когда они стояли, слегка склонив мускулистые шеи и апатично уронив тяжелые руки, выражал покорность.
Главный инспектор отпустил маувов, и они один за другим вышли из комнаты. Ему, конечно, вовсе не нужна была охрана, но его положение требовало свиты из пяти маувов, и говорить тут было не о чем.
Ни во время бесконечного приветственного ритуала, ни во время еды Главный инспектор ничего не спрашивал о делах. Лишь когда настало время, куда более подходящее для сна, потеребив пальцами бородку, он спросил: — Сколько нам еще ждать, капитан?
Он был, по-видимому, очень стар. Шерсть у него на руках почти вся поседела, а длинные пучки волос у локтей стали такими же белыми, как борода.
— Не могу сказать. Ваше главенство, — смиренно проговорил Деви Ен. — Они сошли с обычного пути.
— Это само собой очевидно. Нас интересует, почему именно они сошли с обычного пути. Совету ясно, что в своих донесениях вы пишете меньше того, что знаете. Вы разводите теории, но не даете никаких фактов. Нам, в Харрии, все это надоело. Если вам что-либо известно, сейчас настало время сообщить об этом.
— Тут, Ваше главенство, трудно говорить наверняка. Мы ведь впервые имеем возможность наблюдать за планетой в течение такого долгого периода. До самого последнего времени не обращалось должного внимания на то, что там происходит. Из года в год мы ждали, что атомная война вот-вот начнется, и, только когда командование принял я, мы стали более внимательно приглядываться к обитателям планеты. Хоть в одном длительное ожидание пошло нам на пользу — мы изучили несколько их основных языков.
— Как? Даже не спускаясь на планету?
Деви Ен объяснил:
— Наши корабли, проникавшие в атмосферу планеты для наблюдений, записывали радиосигналы. Особенно в первые годы. Я дал их для расшифровки лингвистическим вычислительным машинам и весь этот год потратил на то, что пытался разобраться в их смысле.
Главный инспектор слегка поднял брови. Этого было более чем достаточно, чтобы показать, до какой степени он изумлен.
— И то, что вы узнали, представляет какой-нибудь интерес?
— Возможно, Ваше главенство, но сведения, которые мне удалось получить, настолько странны, а материал, из которого они извлечены, так ненадежен, что я не решался писать обо всем этом в своих официальных донесениях.
Главный инспектор понял.
— Надеюсь, вы сочтете возможным изложить свои взгляды неофициально… мне? — немного натянуто произнес он.
— Буду Рад это сделать, — тут же ответил Деви Ен. — Обитатели этой планеты, как мы и предполагали, относятся к крупным приматам. Им в полной мере присущ захватнический инстинкт.
Главный инспектор облегченно вздохнул и быстро облизал языком нос.
— Я почему-то вообразил, что они лишены этого инстинкта, и поэтому… но, продолжайте, продолжайте.
— Нет, захватнический инстинкт развит у них как раз очень сильно, — заверил его Деви Ен, — куда сильнее даже, чем свойственно обычным крупным приматам.
— Почему же это не привело к должным последствиям?
— Привело, Ваше главенство, но не до конца. Как всегда, после длительного инкубационного периода у них началось развитие техники, и обычные у крупных приматов побоища превратились в поистине катастрофические войны. В конце последней войны, охватившей всю планету, у них было изобретено атомное оружие, и войны сразу же прекратились. Главный инспектор кивнул.
— А дальше?
— Вскоре после этого, — продолжал Деви Ен, — должна была вспыхнуть новая война; атомное оружие стало более смертоносным и все же было бы пущено в ход, как это водится у крупных приматов; в результате планета погибла бы, а из всего населения осталась бы горстка умирающих от голода особей.
— Совершенно верно. Но этого не произошло. Почему?
— Нужно учесть одно обстоятельство, — заметил Деви Ен. — Мне кажется, когда у этих крупных приматов начала развиваться техника, ее развитие пошло необычайно быстро.
— Ну и что же? — возразил собеседник. — Тем скорее они изобрели атомное оружие.
— Верно. Но по окончании самой последней всепланетной войны они продолжали совершенствовать атомное оружие с поразительной быстротой. В том-то и беда. Смертоносный потенциал возрос прежде, чем представился случай начать военные действия, а сейчас он достиг такого уровня, что даже эти крупные приматы не рискуют развязать войну.
Главный инспектор широко раскрыл маленькие черные глазки.
— Ерунда! Одаренность этих особей в области техники ничего не может изменить. Военная наука развивается быстро только во время войны.
— По-видимому, данные приматы — исключение из общего правила. Но дело не в том — они, судя по всему, все-таки ведут войну. Не настоянную войну, но все-таки войну.
— Не настоящую войну, но все-таки войну, — недоуменно повторил инспектор. — Что это значит?
— Я не могу сказать наверняка, — Деви Ен раздраженно повел носом. — Именно в этом пункте мои попытки извлечь смысл из отрывочных материалов, которые нам удалось собрать, оказались наименее успешными. То, что происходит на этой планете, называется «холодной войной». Какова бы ни была сущность этой странной войны, она в бешеном темпе подгоняет жителей планеты вперед, к новым изысканиям, и вместе с тем не приводит к окончательной катастрофе.
— Немыслимо! — воскликнул Главный инспектор.
— Вон она, планета, — возразил Деви Ен. — А мы все здесь. Мы ждем уже пятнадцать лет.
Главный инспектор поднял длинные руки и, скрестив их за головой, опустил себе на плечи.
— Тогда нам остается только одно. Совет предусмотрел, что планета могла застрять на мертвой точке в состоянии неустойчивого мира, от которого только один шаг до атомной войны. Нечто вроде того, о чем говорите вы, хотя никому, кроме вас, пока не удалось предложить сколько-нибудь разумного объяснения. Но мы не можем этого допустить.
— Не можем, Ваше главенство?
— Да. — Казалось, каждое слово причиняет инспектору боль. — Чем дольше данные приматы будут находиться на этой мертвой точке, тем больше вероятность того, что они раскроют тайну межзвездных полетов и со всем присущим им стремлением к захватничеству проникнут в Галактику. Ясно?
— Что из этого следует?
Главный инспектор крепко стиснул голову руками, словно боясь услышать то, что сам сейчас произнесет. Голос его звучал приглушенно.
— Поскольку равновесие, в котором они находятся, неустойчиво, мы должны их слегка подтолкнуть. Да, капитан, слегка подтолкнуть!
Желудок Деви Ена конвульсивно сжался, он вдруг снова ощутил во рту вкус съеденного обеда.
— Подтолкнуть их, Ваше главенство? — Он отказывался понимать.
Но Главный инспектор был беспощаден.
— Мы должны помочь им начать атомную войну. — Его, видимо, так же мутило от этой мысли, как и Деви Ена. Он прошептал: — Мы должны.
У Деви Ена чуть не отнялся язык. Он проговорил еле слышно:
— Но как это сделать, Ваше главенство?
— Не знаю… И не глядите на меня так. Это не мое решение. Это решение Совета. Вы сами должны понять, что грозит Галактике, если крупные мыслящие приматы проникнут в космос во всей своей силе, не укрощенные атомной войной.
Деви Ен содрогнулся. Крупные приматы на просторах Галактики! Но он продолжал допытываться:
— А как начинают атомную войну? Как это делается?
— Не знаю, говорю вам. Но какой-нибудь способ должен быть. Ну, к примеру, м-м, направим им послание или, м-м, напустим туч и вызовем ураган. Мы могли бы многого добиться, воздействуя на метеорологические условия планеты.
— Да разве из-за этого вспыхнет война? — спросил Деви Ен, которому слова Главного инспектора показались не очень убедительными.
— Возможно, что и не вспыхнет. Я привел все это в качестве примера. Но крупные приматы должны сами знать. В конце концов именно они развязывают атомные войны. Инстинкт взаимоистребления у них в крови… Учитывая все это, Совет и принял решение.
Деви Ен почувствовал, что его хвост начал медленно и почти бесшумно постукивать по стулу. Попытался взять себя в руки, но безуспешно.
— Какое же решение. Ваше главенство?
— Увезти одного крупного примата с планеты. Похитить его.
— Дикого?
— Других в настоящее время на планете не водится. Конечно, дикого.
— А что он, думаете, нам скажет?
— Это не имеет значения. Важно, чтобы он вообще о чем-нибудь говорил, безразлично о чем; психоанализаторы ответят на интересующий нас вопрос.
Деви Ен как можно глубже втянул голову в плечи. От отвращения он весь покрылся гусиной кожей. Дикий крупный примат! Он постарался представить себе, как должна выглядеть особь, которой не коснулись ошеломляющие последствия атомной войны и не затронуло цивилизующее воздействие харрианской евгеники.
Главный инспектор и не пытался скрыть, что разделяет отвращение Деви Ена, но, несмотря на это, сказал:
— Вам придется возглавить экспедицию на планету, капитан. Это делается ради блага Галактики.
Деви Ен много раз видел планету, но всегда, как только космический корабль огибал Луну и этот мир открывался его взору, Деви Ена захлестывала волна невыносимой тоски по родине.
Это была прекрасная планета, очень похожая на Харрию по размерам и природным условиям, но более дикая и величественная. Ее вид, после пустынных пейзажей Луны, разил в самое сердце.
«Сколько еще планет, подобных этой, занесено в реестры владений Харрии! — думал Деви Ен. — Сколько планет, на которых после тщательного наблюдения обнаруживали последовательную смену окраски, что могло быть объяснено лишь искусственным разведением пригодных в пищу растений! Сколько еще раз в будущем мы столкнемся с тем, что в один прекрасный день радиоактивность в атмосфере какой-нибудь из этих планет начнет повышаться и туда потребуется немедленно послать колонизационные отряды… Так же как в свое время они были посланы к этой планете».
Самонадеянность, с которой поначалу действовали харриане, была просто трогательной. Деви Ен смеялся бы, читая первые донесения, не окажись он сам в той же ловушке. Чтобы собрать географические данные и установить местонахождение населенных пунктов, корабли-разведчики харриан спускались чуть ли не на самую планету. Их, конечно, заметили, но какое это имело значение? В самом ближайшем будущем, думали харриане, произойдет окончательный взрыв.
В самом ближайшем будущем… но годы шли, а взрыва все не было, и корабли-разведчики решили, что не мешает, пожалуй, быть поосторожней. Один за другим они вернулись обратно на базу.
Корабль Деви Ена сейчас тоже соблюдал осторожность. Команда волновалась, ей не по душе было полученное задание. Как ни уверял Деви Ен, что крупному примату не причинят никакого вреда, она не успокаивалась. Во всяком случае, нельзя было торопить события. Несколько дней подряд корабль парил на высоте шестнадцати километров, нарочно выбрав уединенное, дикое холмистое место, — и команда волновалась все больше; только флегматичные маувы, как всегда, сохраняли спокойствие.
Наконец в поле зрения телескопа показался крупный примат. В руке у него была длинная палка, на верхней части задней стороны туловища — какая-то ноша.
Они спустились бесшумно, со сверхзвуковой скоростью. Деви Ен сам, хотя тело его покрылось мурашками, сидел у рычагов управления. В момент похищения крупный примат произнес две фразы, тут же зафиксированные для дальнейшего психоанализа. Первая, сказанная в тот миг, когда он увидел корабль харриан чуть ли не у себя над головой, была схвачена телемикрофоном направленного действия. Вот как она звучала: «Боже! Летающее блюдце!»
Деви Ен понял все, кроме первого слова. Так крупные приматы обычно называли корабли харриан в первые годы их пребывания на Луне, когда они легкомысленно спускались к самой планете.
Вторую фразу он произнес, когда его втаскивали в корабль, — хотя дикарь яростно сопротивлялся, он был беспомощен в железных руках невозмутимых маувов.
Когда Деви Ен, тяжело дыша, подрагивая от возбуждения мясистым носом, сделал несколько шагов ему навстречу, крупный примат (его морда, отталкивающе безволосая, лоснилась от каких-то жидких выделений) воскликнул: «Разрази меня гром, обезьяна!»
Тут Деви Ен понял только последнее слово. «Обезьяна» — так называли мелких приматов на одном из основных языков планеты. С диким приматом почти невозможно было сладить. Требовалось безграничное терпение, чтобы заставить его слушать разумные речи. Вначале он находился в совершенно невменяемом состоянии. Он сразу понял, что его увозят с Земли, и, к удивлению Деви Ена, вовсе не желал рассматривать это как увлекательное приключение. Напротив, он только и говорил, что о своем детеныше и самке. Где всего надо было довести до его сознания, что маувы, которые сторожили его и в случае необходимости сдерживали его дикие вспышки, вовсе не хотят нанести ему увечье и что вообще ему никоим образом не будет причинено зло.
(Деви Ена приводила в содрогание сама мысль о том, что одно разумное существо может учинить насилие над другим. Обсуждать этот вопрос с приматом было крайне трудно, так как, чтобы отрицать эту возможность, Деви Ен должен был на какое-то мгновение допустить ее, а обитатель планеты даже к минутному колебанию относился с величайшим недоверием. Так уж были устроены крупные приматы.)
На пятый день дикарь, возможно просто от упадка сил, довольно долго оставался спокойным. Они беседовали с Деви Еном в его личном кабинете, и вдруг он снова впал в бешенство, когда Деви Ен впервые упомянул как о чем-то само собой разумеющемся, что харриане ждут начала атомной войны.
— Ждете?! — воскликнул дикарь. — А почему вы так уверены, что она обязательно будет?
Деви Ен вовсе не был в этом уверен, но ответил:
— Атомная война происходит всегда. Наша цель — помочь вам после нее.
— Помочь нам после нее! — изо рта примата стали вылетать бессвязные звуки; он принялся дико размахивать руками, и маувам, стоящим по обеим сторонам, пришлось осторожно связать его — в который уж раз! — и вывести из комнаты.
Деви Ен вздохнул. Крупный примат наговорил уже достаточно много; возможно, психоанализаторы извлекут из этого какую-нибудь пользу. Сам Деви Ен не видел в словах дикаря никакого смысла.
А примат понемногу хирел. На теле его почти не было растительности; это не удавалось обнаружить раньше, при наблюдении с далекого расстояния, так как приматы носили искусственные шкуры, то ли для тепла, то ли из бессознательного отвращения к безволосой коже. (Интересно было бы побеседовать с ним на эту тему; психоанализаторам ведь безразлично, о чем идет разговор.)
А на лице примата, как это ни странно, стали прорастать волосы; в большем количестве даже, чем у харриан, и более темного цвета.
Но главное — с каждым днем он все больше хирел. Он исхудал, так как почти ничего не брал в рот, и дальнейшее пребывание на корабле могло пагубно отразиться на его здоровье. Деви Ену вовсе не хотелось, чтобы это лежало у него на совести.
На следующий день примат казался вполне спокойным. Чуть ли не сразу сам перевел разговор на атомную войну. («Видно, вопрос этот имеет для крупных приматов особую притягательную силу», — подумал Деви.)
— Вы упомянули, — начал дикарь, — что атомные войны неизбежны. Значит ли это, что существуют другие мыслящие существа, кроме вас, нас и… их? — Он указал на стоящих неподалеку маувов.
— Существуют тысячи разновидностей мыслящих существ, живущих на тысячах различных миров. Много тысяч, — пояснил Деви Ен.
— И у всех бывают атомные войны?
— У всех, кто достиг определенного уровня развития техники. У всех.
— Вы хотите сказать, что знаете об угрозе атомной войны и все же сидите сложа руки?
— Как это сидим сложа руки? — обиделся Деви Ен. — Мы стараемся помочь. На заре нашей истории, когда только начали осваивать космос, мы еще не понимали природы крупных приматов. Они отвергали все наши попытки завязать с ними дружбу, и в конце концов мы отступились. Затем мы обнаружили миры, лежащие в радиоактивных руинах. И наконец натолкнулись на планету, где атомная война была в разгаре. Мы пришли в ужас, но ничего не могли сделать. Мало-помалу мы становились умнее, и теперь, когда находим какой-нибудь мир в стадии овладения атомной энергией, у нас все наготове — и спасательное противорадиоактивное снаряжение, и генетикоанализаторы.
— Что такое генетикоанализаторы?
При беседе с крупным приматом Деви Ен строил фразы по законам его языка. Он сказал, осторожно выбирая слова:
— Мы держим под своим контролем спаривание и производим стерилизацию, чтобы, насколько возможно, вытравить захватнический инстинкт у немногих оставшихся в живых после атомного взрыва.
Какую-то секунду Деви Ен думал, что дикарь снова взбесится. Однако тот лишь произнес сдавленным голосом:
— Вы хотите сказать, что делаете их покорными вам, вроде этих? — Он снова указал на маувов.
— Нет, нет. С этими другое дело. Мы просто хотим, чтобы уцелевшие после войны не стремились к захватам и жили в мире и согласии под нашим руководством. Без нас они сами себя уничтожали и снова дошли бы до самоуничтожения.
— А что это дает вам?
Деви Ен в сомнении посмотрел на дикаря. Неужели ему надо объяснять, в чем состоит главное наслаждение в жизни? Он спросил:
— А разве вам неприятно оказывать другим помощь?
— Бросьте. Не об этом речь. Какую выгоду из этой помощи извлекаете вы?
— Ну, понятно, Харрия получает определенную контрибуцию.
— Ха-ха!
— Разве получить плату за спасение целого биологического рода не справедливо? — запротестовал Деви Ен. — Кроме того, мы должны покрывать издержки. Контрибуция невелика и соответствует природным условиям каждого данного мира. С одной планеты, к примеру, мы ежегодно получаем запас леса, с другой — марганцевые руды. Мир этих маувов беден природными ресурсами, и они сами предложили нам поставлять определенное число своих жителей для услуг — они очень сильны физически даже для крупных приматов. Мы безболезненно вводим им определенные антицеребральные препараты, чтобы…
— Чтобы сделать из них кретинов!
Деви Ен догадался, что значит это слово, и сказал с негодованием:
— Ничего подобного. Просто для того, чтобы они не тяготились своей ролью слуг и не скучали по дому. Мы хотим, чтобы они были счастливы, — ведь они разумные существа.
— А как бы вы поступили с Землей, если бы произошла война?
— У нас было пятнадцать лет, чтобы решить это. Ваш мир богат железом, и у вас хорошо развита технология производства стали. Я думаю, вы платили бы свою контрибуцию сталью. — Он вздохнул. — Но в данном случае, мне кажется, контрибуция не покроет издержек. Мы пересидели здесь по крайней мере десять лишних лет.
— И сколько народов вы облагаете таким налогом? — спросил примат.
— Не знаю точно, но наверняка не меньше тысячи.
— Значит, вы — маленькие повелители Галактики, да? Тысячи миров доводят себя до гибели, чтобы способствовать вашему благоденствию. Но вас можно назвать и иначе…
Дикарь пронзительно закричал:
— Вы — стервятники!
— Стервятники? — переспросил Деви Ен, стараясь соотнести это слово с чем-нибудь знакомым.
— Пожиратели падали. Птицы, живущие в пустыне, которые ждут, пока какая-нибудь несчастная тварь не погибнет от жажды, а потом опускаются и пожирают ее.
От нарисованной картины Деви Ену чуть не стало худо, к горлу подступила тошнота.
— Нет, нет, мы помогаем всему живому, — едва слышно прошептал он.
— Вы, как стервятники, ждете, пока разразится война. Если хотите помочь — предотвратите войну. Не спасайте горсточку выживших. Спасите всех.
Хвост у Деви Ена задергался от внезапного волнения.
— А как предотвратить войну? Вы можете сказать мне это?
(Что такое предотвращение войны, как не противоположность развязыванию войны? Чтобы узнать одно, необходимо понять другое.)
Но дикарь медлил. Наконец неуверенно сказал:
— Высадитесь на планету. Объясните положение вещей.
Деви Ен почувствовал острое разочарование. Из этого много не извлечешь. К тому же…
— Приземлиться среди вас? — воскликнул он. — Об этом не может быть и речи.
При мысли о том, что он вдруг очутится среди миллионов неприрученных крупных приматов, по телу его пробежала дрожь.
Возможно, отвращение так ясно отразилось на физиономии Деви Ена, что, несмотря на разделявший их биологический барьер, дикарь понял это. Он попытался кинуться на харрианина, но был буквально пойман в воздухе одним из маувов, которому стоило лишь чуть-чуть напрячь мускулы, чтобы сделать дикаря недвижимым. Однако он успел крикнуть:
— Так сидите и ждите! Стервятник! Стервятник!
Прошло немало дней, прежде чем Деви Ен смог заставить себя вновь повидать дикаря.
Он чуть было не забыл проявить должную почтительность по отношению к Главному инспектору, когда тот потребовал дополнительных данных, необходимых для полного анализа психики диких крупных приматов.
— Я не сомневаюсь, — осмелился сказать Деви Ен, — что материала для ответа на наш вопрос более чем достаточно.
Нос Главного инспектора задергался; он задумчиво облизал его розовым языком.
— Для приблизительного ответа, возможно, да, но я не могу полагаться на такой ответ. Мы имеем дело с очень своеобразным видом крупных приматов. Это мы знаем. И не можем позволить себе ошибаться… Ясно одно: мы случайно напали на дикаря с высоким уровнем умственного развития. Если… если только это не норма для данной разновидности. — Мысль эта, видимо, привела Главного инспектора в расстройство.
Деви Ен заметил:
— Дикарь нарисовал мне ужасную картину… этот… эта птица… этот…
— Стервятник, — подсказал Главный инспектор.
— Если так рассуждать, вся наша миссия здесь предстает в совершенно ложном свете. С тех пор я почти ничего не ем и не сплю. Боюсь, мне придется просить отставки.
— Не раньше, чем мы окончим дело, которое на нас возложено, — твердо заявил Главный инспектор. — Полагаете, мне доставляет удовольствие думать об этом… этом пожирателе пад… Вы должны, вы обязаны получить больше данных.
Деви Ен кивнул. Он все прекрасно понимал. Главному инспектору, как и любому другому харрианину, не очень-то улыбалась мысль искусственно развязать атомную войну. Вот он и оттягивал решение, насколько возможно.
Деви Ен свыкся с мыслью, что он должен еще раз увидеть крупного примата. Свидание это оказалось совершенно невыносимым и было последним.
На щеке дикаря красовался кровоподтек, словно он снова сопротивлялся маувам. Так оно и было. Он делал это бесчисленное множество раз, и как ни старались маувы не причинять ему вреда, время от времени они случайно задевали его. Казалось бы, видя, как его оберегают, дикарь должен был утихомириться. А вместо этого уверенность в своей безопасности словно толкала его на дальнейшее сопротивление. «Эти крупные приматы злы, злы», — печально думал Деви Ен. Больше часа разговор вертелся вокруг малоинтересных предметов, и вдруг дикарь произнес воинственным тоном:
— Сколько времени, говорите, вы, макаки, пробыли здесь?
— Пятнадцать лет по вашему календарю.
— Подходит. Первые летающие блюдца были замечены сразу после второй мировой войны. Сколько еще осталось до атомной?
Деви Ен машинально сказал правду:
— Мы бы и сами хотели это знать… — и вдруг остановился.
Дикарь произнес:
— Я думал, атомная война неизбежна. В прошлый раз вы сказали, что ждете лишних десять лет. Значит, вы уже десять лет назад надеялись, что война начнется?
— Я не могу обсуждать с вами этот вопрос.
— Да? — дикарь снова кричал. — Что же вы намерены предпринять? Сколько вы еще будете дожидаться? А почему бы вам не ускорить события? Вы не ждите, стервятник, вы сами начните войну.
Деви Ен вскочил на ноги:
— Что вы сказали?
— А почему же тогда вы еще здесь, чертовы… — он проглотил совершенно непонятное Деви Ену бранное слово, затем продолжал: — Разве не так поступают стервятники, когда несчастное животное, а иногда и человек никак не могут расстаться с жизнью? Им некогда мешкать. Они кружат над своей жертвой и выклевывают у нее глаза. Они дожидаются, пока она окончательно не обессилеет, а потом помогают ей побыстрее сделать последний шаг.
Деви Ен приказал немедленно увести его, а сам удалился в свою спальню. Его мутило. Всю ночь он не спал. В ушах у него пронзительно звучало слово «стервятник», а перед глазами неотступно стояла нарисованная приматом картина.
— Ваше главенство, — твердо сказал Деви Ен, — я больше не могу иметь дело с дикарем. Если вам нужна еще информация, обратитесь к кому-нибудь другому.
Главный инспектор заметно осунулся.
— Я знаю. Вся эта история насчет стервятников… Ее трудно переварить. А ему, вы заметили, хоть бы что. Для крупных приматов все это в порядке вещей. Они бесчувственны, бессердечны. Таков, видно, склад их ума. Ужасно!
— Я больше не могу представлять вам данные.
— Успокойтесь. Я вас понимаю… Кроме того, все дополнительные данные только подкрепляют первоначальный ответ, ответ, который я считал предварительным, от всего сердца надеялся, что он лишь предварительный. — Он обхватил голову поросшими седой шерстью руками. — Мы уже выяснили, как помочь им развязать атомную войну.
— О! Что же для этого нужно?
— Все так просто, так примитивно. Мне никогда не пришло бы это в голову. И вам тоже.
— Что же это. Ваше главенство? — Деви Ена уже заранее била дрожь.
— Почему они не начинают войну? А потому что ни одна из почти равных по силе сторон не решается взять на себя ответственность за нарушение мира. Однако если бы одна сторона начала, другая — будем глядеть правде в глаза — отплатила бы ей той же монетой.
Деви Ен кивнул. Главный инспектор продолжал:
— Если одна-единственная атомная бомба упадет на территорию любой из враждующих сторон, пострадавшие предположат, что сбросила ее другая сторона. Вряд ли они станут дожидаться дальнейших атак; не пройдет и часа, как последует мощный удар. Другая сторона ответит тем же. И через несколько недель все будет кончено.
— Но как же мы заставим их бросить первую бомбу?
— Это вовсе не обязательно, капитан. В том-то и штука. Мы сами бросим эту первую бомбу.
— Что?! — у Деви Ена подкосились ноги.
— Это единственный выход. Проанализируйте склад ума крупных приматов, и вы увидите, что иного и ждать нельзя.
— Но как это осуществить?
— Мы изготовим бомбу. Это нетрудно. Затем наш корабль спустится вниз и сбросит ее над каким-нибудь населенным пунктом.
— Населенным?!!
Главный инспектор отвел глаза и виновато сказал:
— В противном случае это не даст нужного эффекта.
— Да, конечно, — пробормотал Деви Ен. Перед его глазами парили стервятники; он ничего не мог с этим поделать. Он представлял их себе в виде огромных чешуйчатых птиц (вроде маленьких безвредных летающих созданий в Харрии, но во много раз больше), с крыльями, которые обтянуты кожей, напоминающей резину, с длинными, острыми клювами. Они кругами спускались вниз и выклевывали глаза у умирающих животных. Он прикрыл руками лицо и сказал дрожащим голосом:
— Кто поведет корабль? Кто сбросит бомбу?
Голос Главного инспектора дрожал не меньше, чем у Деви Ена.
— Не знаю.
— Только не я, — прошептал Деви Ен. — Я не могу. И ни один харрианин не согласится на это. Ни за что на свете!
Главный инспектор стал раскачиваться взад и вперед. На него жалко было смотреть.
— Может быть, дать приказ маувам…
— Кто решится дать им такой приказ?
Главный инспектор тяжело вздохнул.
— Я вызову Совет. Сообщу им все данные. Пусть они что-нибудь придумают.
И вот, пробыв на Луне без малого пятнадцать лет, харриане демонтировали свою базу.
Ничего так и не было сделано. Крупные приматы Земли так и не начали атомную войну. Возможно, они ее никогда и не начнут.
И несмотря на то, что ему предстояло пережить, Деви Ен был вне себя от счастья. К чему думать о будущем, когда сейчас, в настоящем, он улетал все дальше от этого самого жуткого из всех жутких миров.
Он смотрел, как Луна остается позади и превращается в сверкающую крупинку, а затем и планета и само солнце этой системы, пока вся она не затерялась среди остальных созвездий.
И только тогда в душе его проснулись и другие чувства, помимо чувства облегчения. И только тогда в уме его шевельнулась мысль о том, что все могло быть иначе.
— А вдруг все бы еще кончилось хорошо, если бы мы проявили побольше терпения, — сказал он Главному инспектору. — Как знать, возможно, они все-таки начали бы атомную войну.
— Сомневаюсь, — ответил Главный инспектор. — Психоанализ…
Он остановился, и Деви Ен понял, что он имел в виду. Дикаря спустили на планету, постаравшись причинить ему при этом как можно меньше вреда. События последних недель были стерты из его памяти. Его оставили возле небольшого населенного пункта, неподалеку от того места, где его похитили. Его соотечественники решат, что он заблудился, и сочтут, что он исхудал и потерял память из-за лишений, которые ему пришлось испытать.
Но какой вред причинил он сам!
Если бы они только не привозили его на Луну! Выть может, они примирились бы с мыслью, что им придется начать войну. Быть может, сами додумались бы сбросить бомбу и разработали бы для этого какую-нибудь сложную систему, пригодную для дальних расстояний.
Но картина, нарисованная перед ними диким приматом, особенно одно слово, всему положили конец. Когда все сведения были отосланы домой, в Харрию, впечатление, произведенное на Совет, было настолько сильным, что приказ демонтировать базу не заставил себя ждать. Деви Ен сказал:
— Я никогда больше не буду принимать участие в колонизации.
— Боюсь, никому из нас не придется этого делать, — мрачно заметил Главный инспектор. — Дикари этой планеты выйдут в космос, а если крупные приматы, при их образе мышления, окажутся на свободе в Галактике, это будет конец… конец…
Нос Деви Еда передернула судорога. Конец всему: всем тем благодеяниям, которые Харрия уже совершила в Галактике, всем благодеяниям, которые она продолжала бы оказывать в будущем. Он произнес: «Мы должны были сбросить…» — и не кончил. Какой смысл было говорить это? Они не могли сбросить бомбу даже ради блага всей Галактики. Иначе они сами уподобились бы крупным приматам, а есть вещи похуже, чем просто конец всему. Деви Ен думал о стервятниках.
Они не прилетят
Нарон, представитель умудренной жизнью ригеллианской расы, был галактическим летописцем в четвертом поколении.
У него было две книги — большая, содержавшая перечень многочисленных разумных рас из всех галактик, и поменьше, куда заносились лишь цивилизации, достигшие зрелости и мастерства в той степени, которая позволяла им вступить в Галактическую Федерацию.
Из большой книги были вычеркнуты те расы, которые в силу разных причин потерпели крушение: невезение, биохимические или биофизические несовершенства и социальная несправедливость взимали свою дань.
Зато ни один из членов Федерации, внесенных в малую книгу, не был оттуда вычеркнут.
Грузный и неправдоподобно древний Нарон поднял глаза на подошедшего гонца.
— Нарон! — воскликнул тот. — Единственный Великий…
— Ну-ну, поменьше церемоний. Что такое?
— Еще одна группа организмов достигла зрелости.
— Превосходно. Превосходно. Быстро же они теперь взрослеют, года не проходит без новичков. Кто это на сей раз?
Гонец назвал код галактики и внутригалактические координаты планеты.
— Да-да, — проговорил Нарон. — Я знаю этот мир.
Гладким почерком вписал он имя планеты в первую книгу и перенес его во вторую, по традиции использовав то наименование, под которым планета была известна большей части своих обитателей. Он написал: Earth.
— Эти юные создания поставили рекорд, — сказал он. — Никто другой не проходил путь от зарождения разума до зрелости с такой быстротой. Надеюсь, здесь нет ошибки?
— Нет, сэр, — сказал гонец.
— Они получили термоядерную энергию, не так ли?
— Да, сэр.
— Ведь это — главный критерий, — Нарон усмехнулся. — Скоро их корабли начнут разведку пространства и вступят в контакт с Федерацией.
— Дело в том, Единственный Великий, — неохотно проговорил гонец, — что, по сообщениям Наблюдателей, они еще не проникли в пространство.
— Как? — изумился Нарон. — Так-таки и не проникли? Даже на уровне космических станций?
— Пока нет, сэр.
— Но если у них есть термоядерная энергия, где они проводят испытания и мирные взрывы?
— На своей планете, сэр.
Нарон выпрямился во весь свой двадцатифутовый рост и загремел:
— На своей планете?!
— Да, сэр.
Нарон медленно вытащил свой стилос и перечеркнул последнюю запись в малой книге. Такого прежде не бывало, но ведь Нарон был очень мудр и, подобно любому другому жителю Галактики, мог видеть неизбежное.
— Глупые ослы, — пробормотал он.
Покупаем Юпитер
Хотя он и был симулакрум[18], однако быстро сообразил, почему люди не торопятся с переговорами. Давно отказавшись от надежды овладеть реальной сущностью энергии, они теперь поджидают его в своей убогой скорлупке, окруженной белым пламенем защитного поля, в нескольких десятках километров над поверхностью Земли.
— Нам понятны ваши нерешительность и сомнения, — мягко говорил симулакрум с окладистой золотой бородой и широко расставленными темно-оранжевыми глазами, — нам остается только уверять вас, что мы не причиним вам никакого вреда. Мы можем представить веские доказательства, что наша древняя раса обитает на кольце вокруг звезды спектрального класса GO, так что ваше Солнце излучает слишком мало энергии для нас, а ваши планеты слишком массивны и не подходят для нашей расы.
Представитель Земли (который был Министром по делам науки и по поручению Правительства выполнял функции полномочного Представителя Земли на переговорах с инопланетянами) возразил:
— Но ведь вы сами недавно сообщили, что теперь мы находимся на одном из ваших главных торговых путей.
— Да, новая колония Киммоношек культивирует недавно заложенные поля текучих протонов.
— Прекрасно, но ведь не исключена опасность использования торговых маршрутов в военных целях. Могу только повторить, что вы получите наше согласие лишь в том случае, если честно и правдиво объясните, зачем вам нужен Юпитер.
Как только был задан этот вопроса симулакрум, как всегда, начал темнить:
— Если народ Ламбержа…
— Ясно, — сурово ответил Министр, — для нас это звучит объявлением войны. Вы и те, кого вы называете народом Ламбержа…
— Но мы предлагаем вам выгодный вариант, — сказал симулакрум поспешно. — Вы осваиваете только внутренние планеты вашей системы, на них мы не претендуем. Нас интересует лишь одна планета, называемая Юпитером, которую, я полагаю, ваша раса не только не сможет никогда приспособить для жизни, но даже посетить. Размеры Юпитера, — он снисходительно усмехнулся, — для вас чуть-чуть великоваты.
Министр, которому не понравился тон гостя, чопорно заявил:
— Все это так, однако спутники Юпитера — отличные объекты для колонизации, и мы намереваемся вскоре их заселить.
— Наша сделка этому не помешает. Спутники — ваши в любом случае. Мы просим только сам Юпитер, совершенно бесполезную газообразную планету. Вы, конечно, понимаете, что мы можем преспокойно присвоить Юпитер, не спрашивая вашего согласия. Однако мы пошли на переговоры, так как предпочитаем покупать, а не захватывать. Такое решение позволит избежать конфликтов в будущем. Как видите, я с вами совершенно откровенен.
— Так зачем вам нужен Юпитер? — упрямо переспросил Министр.
— Ламберж…
— У вас война с Ламбержем?
— Это не важно.
— Да ведь если вы и вправду затеваете войну и с нашей помощью создадите на Юпитере укрепленную базу, народ Ламбержа может расценить нас как ваших союзников и обрушить на нас свою мощь. Земляне не могут позволить втянуть себя в такую неприятную историю.
— Я не собираюсь вас ни во что втягивать. Даю честное слово, что вашей расе не будет причинено никакого вреда. Конечно, — тут симулакрум снова попытался припугнуть собеседника, — в обмен на ваше понимание и великодушие. Наши супергенераторы будут ежегодно снабжать планеты вашей системы любым необходимым количеством энергии.
— Можно ли истолковать это так, — сказал Министр, — что будущий прирост энергии легко удовлетворит любую потребность в ней, которая может возникнуть?
— Да, возможности возрастут в пять раз по сравнению с вашим нынешним максимальным потреблением энергии.
— Что ж, как вы уже могли понять, наше Правительство наделило меня довольно широкими полномочиями для ведения переговоров, но все-таки я должен провести ряд консультаций. Лично я склонен доверять вам, однако не могу принять решение, точно не уяснив, зачем вам нужен Юпитер. Если аргументы будут достаточно правдоподобными и убедительными, я, вероятно, смогу доказать Правительству и народу необходимость подписать с вами взаимовыгодное соглашение. Если же я попытаюсь подписать соглашение без объяснений. Правительство и население Земли просто-напросто вынудят меня расторгнуть его. В таком случае вы сможете, как уже было сказано, завладеть Юпитером силой. Но ведь это будет захватом чужой собственности, чего, судя по всему, вам бы не хотелось.
Симулакрум нетерпеливо прищелкнул языком:
— Я не могу продолжать до бесконечности эту маленькую распрю. Ламберж…
Он прервал поток слов, подумал и продолжил:
— Можете ли вы дать честное слово, что ваша неуступчивость — это не уловка, инспирированная Ламбержем, чтобы задержать наше…
— Клянусь! — заверил Министр.
Министр по делам науки бодро вошел в зал заседаний Правительства, энергично массируя выпуклый лоб. Он выглядел сейчас лет на десять моложе, чем раньше, когда начинал долгие и бесплодные переговоры с симулакрумом.
— Я сообщил ему, — начал он сдержанно, — что его народ может получить желаемое, как только я заручусь формальным согласием Президента. Надеюсь, Президент и Конгресс не станут возражать. Слава Богу, пекущемуся о нас, мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда не годной планеты, которую нам все равно никогда не освоить.
— Но ведь мы пришли ас выводу, что только война Миццаретта с Ламбержем может объяснить их посягательства на Юпитер, — прорычал Министр обороны, багровея от возмущения. — В этих обстоятельствах, если сопоставить их военный потенциал с нашим, нам абсолютно необходим строгий нейтралитет.
— Но, коллега, речь идет не о войне, — возразил Министр по делам науки. — Симулакрум представил нам объяснение причин, побуждающих его народ колонизировать Юпитер — с моей точки зрения, весьма убедительное и рациональное.
Полагаю, Президент будет полностью согласен с моим мнением, так же, как и вы, господа, когда во всем разберетесь. У меня с собой их планы строительства Нового Юпитера…
Члены Правительства возбужденно зашумели.
— Новый Юпитер? — судорожно выдохнул Министр обороны.
— Не слишком отличающийся от старого, господа, — пояснил Министр по делам науки. — Мне переданы эскизы — оригинал можно будет увидеть из Глубокого Космоса.
Он положил репродукции на стол. На одном из них была изображена целая вереница разноцветных планет: желтая, светло-зеленая, светло-коричневая, с узорчатыми лентами белоснежных турбулентных завихрений. Все они сверкали, подобно крапинкам драгоценных камней на бархатном фоне Космоса. Между ними протянулись странные полосы тьмы, темно-бархатные, как и их космический фон, украшенные причудливыми узорами.
— Это, — сказал Министр по делам науки, — дневная сторона планеты. Ночную сторону можно посмотреть на другом эскизе.
Здесь Юпитер выглядел тонким полумесяцем, окруженным космической тьмой, однако во тьме проступали какие-то полосы, украшенные сходным с предыдущим орнаментом, который фосфорицировал ярко-оранжевым цветом.
— Насколько я понимаю, — пояснил Министр по делам науки, — это обычный оптический феномен, светящийся газ, который не вращается вместе с планетой, а зафиксирован на границе ее атмосферы и Космоса.
— И что это означает? — спросил Министр торговли.
— Как вы уже поняли, — продолжал Министр по делам науки, — через нашу Солнечную систему теперь проходит один из их важнейших торговых путей. Не менее семи кораблей с Миццаретта побывали в последнее время в нашей Солнечной системе, и каждый энергично проводил телескопические наблюдения Земли и других важнейших планет. Любопытство туристов, которое так легко понять… Массивные планеты — редкостная экзотика для пришельцев из эфемерных миров.
— И что же означают эти таинственные знаки?
— Да просто реклама. В переводе текст звучит примерно так: «Покупайте Миццареттский Эргон, Незаменимый для Поддержания Внутреннего Тепла и Сохранения Вашего Здоровья. Дешево! Гарантированно! Эффективно!»
— Вы имеете в виду, что Юпитер нужен им всего лишь как рекламный щит у дороги? — вспылил темпераментный Министр обороны.
— Совершенно верно. Как мне представляется, Ламберж тоже производит таблетки эргона, конкурирующие с миццареттскими. Это и вызывает у Миццаретта горячее желание заполучить Юпитер навеки в свое полное распоряжение, причем только легальным путем, на случай будущей тяжбы с Ламбержем. К счастью, для нас миццареттцы явные новички в такого рода торговых сделках.
— Почему вы так считаете? — спросил Министр внутренних дел.
— Да потому, что они легкомысленно пренебрегают получением определенных привилегий на других наших планетах. Щит на Юпитере будет столь же успешно рекламировать Солнечную систему, как и их собственную продукцию. Так что, когда их конкуренты с Ламбержа появятся у нас, чтобы добиваться уничтожения миццареттской рекламы на Юпитере, мы спокойненько предложим им купить Сатурн со всеми его кольцами. Думаю, будет легко разъяснить ламбержцам, что кольца придают Сатурну несравненно более эффектный вид из Космоса.
— А потому, — подхватил, внезапно просияв, Министр финансов, — он и обойдется им значительно дороже.
И все собравшиеся от души, как дети, развеселились.
Памяти отца
Невероятно! Неужели не слышали? Быть такого не может. Я думал, все знают. Ну, если вы настаиваете, я, конечно, расскажу. Мне самому эта история очень по душе, да только слушатели не всегда находятся. Представляете, мне даже посоветовали держать язык за зубами, потому что, говорят, мой рассказ не совпадает с легендами, которые слагают о моем отце. И все-таки правда дороже, не говоря уже о нравственности, верно? Иной раз тратишь время вроде бы на то, чтобы удовлетворить собственное любопытство, и вдруг совершенно неожиданно, безо всякого на то усилия, обнаруживаешь себя благодетелем человечества… Мой отец был физиком-теоретиком, и, сколько я его помню, он вечно занимался проблемой путешествий во времени. Не думаю, чтобы он когда-нибудь задавался вопросом, что значат эти хронопутешествия для простого смертного. На мой взгляд, его просто интересовали математические связи, управляющие Вселенной.
Проголодались? Ну и прекрасно. Ждать придется не более получаса. Для такого гостя, как вы, все будет приготовлено наилучшим образом, это дело чести.
Отец был беден, что, собственно, немудрено для университетского профессора. Разбогател он случайно. В последние годы своей жизни он был так баснословно богат, что, можете не сомневаться, хватит и мне, и моим детям, и внукам, всем хватит.
В честь отца поставили несколько памятников. Самый старый — на холме, там, где было сделано открытие. Кстати, из окна он виден. Разобрали надпись? Вы не совсем удачно встали. Впрочем, неважно.
Так вот, когда отец занялся путешествиями во времени, почти все ученые эту затею отвергли как совершенно безнадежную. А началось все с того всплеска, когда впервые стали устанавливать хроноворонки.
Там вообще-то не на что смотреть, воронки эти совершенно вне логики и контроля. То, что вы увидите, искажено и зыбко: фута два в поперечнике и исчезает обычно в мгновенье ока. Настраиваться на прошлое, по моему разумению, — это вроде того, как следить за пушинкой в самый разгар урагана.
Некоторые пытались выудить что-нибудь из прошлого, проталкивая в воронку этакую железную кошку. Иногда, при особом упорстве, это получалось, но на секунды, не больше того. А чаще ничего не выходило. Из прошлого ничего не удавалось вытащить, до тех самых пор… Я еще скажу об этом.
И вот после пятидесяти лет бесплодных поисков физики потеряли всякий интерес к проблеме. Дело, казалось, зашло в тупик. Оглядываясь назад, я, честно говоря, не могу их винить, хотя кое-кто оспаривал даже самый факт проникновения воронок в прошлое. Это при том, что сквозь воронки случалось видеть и таких животных, которые давно вымерли.
Как бы то ни было, отец объявился тогда, когда про хронопутешествия успели забыть. Он убедил правительство выдать ему заем на постройку воронки и начал все сызнова. Я ему помогал. Был я тогда свежеиспеченным доктором физики. Год. спустя или что-то около того наши совместные усилия обернулись серьезной неудачей. Отцу не хотели возобновить кредит: в университете решили, что он, исследователь-одиночка, да к тому же в совершенно безнадежной области, только подмачивает их репутацию, а промышленности и вовсе было безразлично. Декан, который смыслил только в финансах, вначале намекал, что, мол, неплохо бы переключиться на что-либо более обнадеживающее, а кончил тем, что попросту вышвырнул его вон.
Конечно же, после смерти отца этот господин — он все еще здравствует и занимается своими расчетами — выглядел довольно глупо, так как отец в своем завещании отвалил факультету миллион долларов звонкой монетой, но заодно упомянул со злорадством, что из-за недальновидности декана отказывает в недвижимом имуществе. Это было похоже на посмертную месть. Но еще задолго до того…
Я не смею настаивать, но, пожалуй, лучше не есть больше соломки. Чтобы утолить острое чувство голода, достаточно чистого бульона, только ешьте не торопясь.
И все же мы как-то выкрутились. Отец забрал из университета купленное в кредит оборудование и установил его на этом самом месте.
Те годы были для нас очень нелегкими, и я упрашивал отца отступиться. Но он не сдавался и каждый раз ухитрялся добыть где-то недостающую тысячу.
Жизнь текла своим чередом, и ничто не могло помешать его исследованиям. Умерла мать; отец пережил это и вернулся к работе. Я женился, у меня родился сын, а потом и дочь; я не мог уже, как прежде, заниматься только его делами. Он продолжал без меня. Как-то он сломал ногу, но даже в гипсе продолжал работать.
Да, я воздаю ему должное. Конечно, я помогал ему — вел переговоры с Вашингтоном, консультировался. Но душой предприятия был он.
Несмотря на все наши усилия, мы топтались на месте. Милостыню, которую мы насобирали, с таким же успехом можно было взять да и спустить в воронку понятно, при условии, что она туда проскочит. Нам так и не удавалось пропихнуть туда кошку. Только один-единственный раз мы были близки к этому протолкнули ее на два фута по ту сторону. И вдруг фокус изменился, видимость появилась ненадолго, и где-то там, в мезозое, мы разглядели самодельную железяку, ржавеющую на берегу реки.
Но в один день, поистине знаменательный, видимость продержалась десять долгих минут — поверьте, это шанс из миллиона. Боже мой! Мы ужасно волновались, в спешке устанавливая камеры. По ту сторону воронки появлялись, двигались и исчезали странные, загадочные твари. А в довершение всего воронка оказалась настолько проницаемой, что, клянусь, между нами и прошлым не было уже ничего, кроме воздуха. Наверное, это было следствием долгой настройки, но мы тогда не могли этого доказать.
Как и следовало ожидать, в самый нужный момент кошки под руками не оказалось. Но проницаемость воронки, видимо, была уже вполне достаточной что-то стремительно пролетело сквозь нее, двигаясь из прошлого в настоящее. Я рванулся инстинктивно и схватил это нечто.
В тот же момент видимость исчезла, но это нас уже не беспокоило. Мы с некоторой опаской уставились на то, что я держал в руках. Это был плотный ком ила, гладко срезанный в местах удара о края воронки, и на нем несколько яиц, похожих на утиные.
— Яйца динозавра! — закричал я. — Разве не так?
— Сразу не скажешь… — растерянно ответил отец.
— Пока из них кто-нибудь не вылупится, — выпалил я, плохо справляясь с внезапным волнением. Я укладывал яйца так, будто они были драгоценными. Они еще хранили тепло жаркого доисторического солнца.
— Если нам повезет, — сказал я, — мы станем обладателями тварей, которые жили сотни миллионов лет назад. Это же единственный случай, когда что-то действительно добыто из прошлого. Если объявить во всеуслышанье…
Я размечтался о рекламе и о возможных кредитах, представлял себе, какую мину скорчит декан… Но отец рассудил иначе.
— Никому ни слова! — твердо сказал он. — Если это обнаружится, десятки исследовательских групп выйдут на след и обставят меня. Объявляй как тебе вздумается, но только после того, как я разгадаю этот фокус с воронками. А пока надо молчать. Да не смотри ты на меня так, через год все будет в порядке!
Вся надежда была на яйца — они должны дать нам твердые доказательства. Я положил их в термостат, задал температуру и приладил сигнальное устройство — на тот случай, если будут хоть какие-нибудь признаки жизни.
Они вылупились через девятнадцать дней, в три часа ночи — четырнадцать крошечных кенгуру с зеленоватыми чешуйками, когтистыми задними лапками, маленькими пушистыми боками и тонкими, словно плеть, хвостиками.
Вначале я решил, что это тираннозавры, но они оказались слишком маленькими. Месяц спустя стало ясно, что ростом они будут не больше собаки.
Отец казался разочарованным, но я не унывал и по-прежнему надеялся, что когда-нибудь возьму свое на рекламе. Двое из них погибли в юном возрасте, но остальные двенадцать выжили — пять самцов и семь самочек. Я кормил их рубленой морковью, вареными яйцами и молоком и очень к ним привязался. Были они чудовищно тупы, но ласковы. И поразительно красивы. Их чешуйки… Впрочем, надо ли описывать? Их фотографии довольно популярны.
Должен признать, что понадобилось немало времени, прежде чем фотографии оказали должное впечатление на публику. Я не говорю о виде с натуры, так сказать. Что же касается отца, он был по-прежнему невозмутим. Прошел год, другой, третий, а от исследований все не было толку. Единственный прорыв не повторялся, но отец не отступал.
Пять самок тем временем отложили яйца, и вскоре у нас было уже с полсотни детенышей.
Генри, разве еще не готово? Ну, хорошо.
Так вот, это случилось, когда у нас вышли последние доллары, а добыть новые было невозможно. Куда только я не совался — всюду терпел неудачу. Правда, втайне я даже радовался этому — в надежде, что отец наконец-то сдастся. Но с выражением решительным и неумолимым он принимался за очередной эксперимент.
Честное слово, если бы не случайность, человечество лишилось бы одного из самых замечательных открытий. Знаете, как это бывает — Ремзен проводит по губам испачканным пальцем и открывает сахарин, Гудьир роняет смесь на плиту и раскрывает секрет вулканизации…
У нас было так: в лабораторию случайно забрел маленький динозавр. Они к тому времени так расплодились, что я не поспевал за ними углядеть.
Конечно, такое бывает не часто, может быть, раз в сто лет. Сами посудите: два контакта случайно оказались открытыми, и как раз между ними протиснулся динозавр. Короткое замыкание, яркая вспышка — и новенькая воронка, буквально на днях установленная, исчезла в потоке искр.
В тот момент мы не поняли всей важности происшедшего. Мы знали только одно: злосчастная тварь устроила замыкание и угробила установку ценой в двести тысяч долларов. Мы были окончательно разорены, а взамен нам достался хорошо зажаренный динозавр. Нас только слегка опалило, зато он, бедняга, получил полную порцию электроэнергии. Мы сразу почувствовали это, такой аромат носился в воздухе. Я осторожно ткнул динозавра щипцами. Обугленная кожа от прикосновения сместилась, обнажив белую, как у цыпленка, сочную плоть. Я не удержался и попробовал. Это было потрясающе вкусно, мне и сейчас трудно передать словами то, что я тогда ощущал.
Даже не верится, но так оно и было: сидя у разбитого корыта, мы были на седьмом небе, когда уплетали динозавра за обе щеки. И не могли остановиться, пока не обглодали дочиста, хотя он не был даже приправлен. И только потом я сказал:
— Слушай, может будем разводить их для еды? Помногу и систематически!
Отец согласился, да и что ему оставалось делать: ведь мы были вконец разорены.
Вскоре я получил солидный заем — после того, как пригласил президента на обед и угостил его обещанным динозавром. С тех пор это срабатывало безукоризненно. Каждый, кто хоть раз попробовал то, что сейчас зовут динокурятиной, не мог уже довольствоваться привычными блюдами. Невозможно и представить себе приличное меню без динокурятины — если, конечно, вы не погибаете с голоду. А единственные поставщики этого чуда во все рестораны это мы…
Бедный отец! Никогда он не был счастлив, разве что в те незабываемые минуты, когда впервые попробовал динокурятину. Он все колдовал над своими воронками, а вслед за ним — добрый десяток исследовательских групп: как он предсказывал, так и случилось! Но никакого толку, за исключением динозавров, из этого и до сих пор не вышло.
Благодарю вас, Пьер. Все сделано как нельзя лучше. А теперь, сэр, с вашего разрешения я ее разрежу. Нет, соли не нужно, только чуточку соуса. Ну, вот, наконец-то у вас на лице то самое выражение — как у человека, впервые познавшего блаженство!
Что это за штука — любовь?
— Два совершенно разных вида! — настаивал капитан Гарм, пристально рассматривая доставленные на корабль создания. Его оптические органы выдвинулись далеко вперед, обеспечивая максимальную контрастность.
Проведя месяц на планете в тесной шпионской капсуле, Ботакс, наконец, блаженно расслабился.
— Не два вида, — возразил он, — а две формы одного вида.
— Чепуха! Между ними нет никакого сходства. Благодарение Вечности, внешне они не так мерзки, как многие обитатели Вселенной. Разумный размер различимые члены… У них есть речь?
— Да, капитан, — ответил Ботакс, меняя окраску глаз. Мой рапорт описывает все детально. Эти существа создают звуковые волны при помощи горла и рта, — что-то вроде сложного кашля. Я и сам научился. Это очень трудно.
— Так вот отчего у них такие невыразительные глаза. Однако почему вы настаиваете, что они принадлежат к одному виду? Смотрите: у того, что слева, усики длиннее, и само оно меньше и по-другому сложено. В верхней части у него выпирает что-то чего, нет у того, что справа. Они живы?
— Живы, но без сознания, — прошли курс психолечения для подавления страха. Так будет проще изучать их поведение.
— А стоит изучать? Мы и так не укладываемся в сроки, а нам нужно исследовать еще пять миров большего значения, чем этот. Кроме того, трудно поддерживать Временной Стасис, я бы хотел вернуть их и продолжать…
Веретенчатое тело Ботакса даже завибрировало от возмущения. Скошенная трехпалая рука качнулась в отрицательном жесте, а глаза перевели спектр беседы целиком в красный свет.
— Спаси нас Вечность, капитан! Мы стоим перед серьезнейшим кризисом. Эти создания могут оказаться самыми опасными в галактике — именно потому, что у них две формы.
— Не понимаю.
— Капитан, планета уникальна. Она настолько уникальна, что я сам не в состоянии осознать все последствия. Например, почти все виды представлены в двух формах. Если позволите употребить их звуки, то первая меньшая называется «женской» а вторая — «мужской», они то сознают разницу.
Гарм мигнул.
— Какое отвратительное средство связи.
— Чтобы оставить потомство, эти две формы должны сотрудничать.
Капитан с любопытством разглядывавший пленников, резко выпрямился.
— Сотрудничать? Что за чепуха? Самый фундаментальный закон жизни — каждое существо приносит потомство в глубочайшем и сокровенном общении с собой. Что же еще делает жизненные формы жизненными?
— Чтобы одна форма произвела потомство, другая должна участвовать в этом, — упрямо повторил Ботакс.
— Каким образом?
— Очень трудно выяснить. Эта процедура считается у аборигенов интимной. В местной литературе я не мог найти точного и исчерпывающего описания. Но мне удалось вывести кое-какие разумные заключения.
Гарм покачал головой.
— Нелепо. Почкование является священнейшим, самым интимным процессом на десятках тысяч планет.
Как сказал великий фотобард Левуллин: «Во время почкования, во время почкования, в то самое прекрасное мгновение, когда…»
— Капитан, вы не поняли. Это сотрудничество между формами приводит к рекомбинации генов. Таким образом, в каждом поколении осуществляются новые варианты. Они развиваются в тысячи раз быстрее нас!
— Вы хотите сказать, что гены одного индивидуума могут комбинироваться с генами другого? Вы понимаете, насколько это смехотворно с точки зрения физиологии клетки?
— И все же, — нервно произнес Ботакс под тяжелым взглядом капитана, — эволюция ускоряется. Это просто мир разгула видов их здесь миллион с четвертью.
— Двенадцать с четвертью будет ближе к истине. Не стоит принимать на веру то, что написано в туземной литературе.
— Я сам видел в очень маленьком регионе сотни различных видов. Говорю вам, капитан, дайте им время, и они разовьются в расу, способную превзойти нас и править галактикой.
— Докажите, что сотрудничество, о котором вы ведете речь, имеет место, и я рассмотрю ваши предложения. В противном случае я сочту ваши фантазии нелепыми, и мы двинемся дальше.
— Докажу! — Глаза Ботакса засверкали ярким желтым огнем. — Обитатели этого мира уникальны еще и в другом отношении. Они предвидят достижения, которых пока не добились. Вероятно, это следствие их веры в быстрое развитие Я перевел их термин для такой литературы как «научная фантастика». И читал почти исключительно научную фантастику, потому что считаю, что в своих мечтах они ярче выразят себя и свою угрозу нам. И именно из научной фантастики я вывел метод их сотрудничества.
— Как вам это удалось?
— У них есть периодическое издание, которое иногда публикует научную фантастику, полностью посвященную разнообразным аспектам этого сотрудничества. Его название звучит приблизительно так «Плейбой». Там не выражаются абсолютно ясно, что весьма раздражает, но допускаются прозрачные намеки. Очевидно, существо, подбирающее рассказы для издания, только этой темой и интересуется. Отсюда я и знаю, как все происходит. Капитан, после того как на наших глазах появится молодняк, умоляю вас: прикажите развеять эту планету на атомы!
— Ладно, — утомленно согласился капитан Гарм. Приведите их в сознание и делайте свое дело.
Мардж Скидмор неожиданно осознала, где находится. Она отчетливо вспомнила перрон в сгущающихся сумерках; перрон был почти пуст, — один мужчина стоял рядом с ней, другой — в противоположной стороне. Уже слышался шум подходящего поезда.
Затем — вспышка, ощущение, будто тебя выворачивают наизнанку, и полуиллюзорное видение какого-то тонкого существа покрытого слизью, и…
— О боже, — простонала Мардж — я все еще здесь. Она чувствовала слабое отвращение, но не страх и была почти горда, что не чувствует страха. Тут же стоял мужчина — тот самый, что был рядом на платформе.
— Вас они тоже прихватили? — спросила Мардж. — Кого еще?
Чарли Гримвольд попытался поднять руку, чтобы снять шляпу и пригладить волосы, но не сумел пошевельнуть пальцем, что-то мешало, казалось тело стягивает резиновый кокон. Чарли посмотрел на тонколицую женщину — лет за тридцать, отметил он, но довольно привлекательная. В данных обстоятельствах ему хотелось очутиться подальше отсюда, даже общество очаровательной женщины его не утешало.
— Не знаю мадам. Я стоял на платформе.
— Я тоже.
— Потом увидел вспышку и… Это, наверное, марсиане.
Мардж энергично кивнула.
— И я так думаю. Вы боитесь?
— Как ни странно, нет.
— Я тоже не боюсь. Удивительно, правда? О боже, одно из них подходит!.. Если эта тварь коснется меня, я закричу. Посмотрите на его кожу — вся в слизи! Меня тошнит.
Ботакс приблизился и, как можно тщательнее выговаривая слова, произнес:
— Создания! Мы не причиним вам вреда. Мы только попросим показать ваше сотрудничество.
— Э да оно разговаривает! — удивился Чарли. — Что ты имеешь в виду под «сотрудничеством»?
— Оба. Друг с другом, — пояснил Ботакс.
— Вы понимаете, что он хочет сказать? — Чарли вопросительно посмотрел на Мардж.
— Не имею понятия, — надменно бросила она.
— Я имею в виду… — Ботакс употребил короткий термин никогда не попадавшийся ему в литературе, но встречающийся в устной речи как синоним искомой процедуры.
Мардж залилась краской и воскликнула.
— Что?!
Ботакс и капитан Гарм в ужасе заткнули слуховые отверстия и болезненно задрожали.
Мардж яростно и неразборчиво продолжала:
— Какая наглость! Я замужняя женщина. О, если бы мой Эд был здесь… А вы, умник, — она повернулась к Чарли, преодолевая резиновое сопротивление, — кем бы вы ни были, если думаете…
— Мадам, мадам! — взмолился в отчаянии Чарли. — Это не моя идея, клянусь вам! Поверьте, я не такой человек. Я тоже женат. У меня трое детей! Послушайте…
Капитан Гарм был недоволен.
— Что происходит, исследователь Ботакс? Я не намерен слушать эту какофонию.
Ботакс сверкнул багряной краской смущения.
— Видите ли, ритуал весьма сложен. Они обязаны выказывать сперва признаки нерасположения, как я понял для улучшения результата. После этой начальной стадии должны быть удалены кожи.
— Они свежуются?!
— Нет, это у них искусственные кожи, которые снимаются безболезненно. Снятие кожи особенно необходимо для меньшей формы.
— Ну ладно, велите им снять кожи. Честное слово, Ботакс, я не нахожу это приятным…
— Пожалуй, мне не стоит просить меньшую форму удалить кожу. Думаю, нам следует точно придерживаться ритуала. Я прихватил с собой экземпляр издания «Плейбой», здесь кожи удаляются насильственно. Например «…грубо сорвав одежду с ее стройного тела, он ощутил теплую упругость ее груди…» и дальше в том же духе.
— Грудь? — переспросил капитан. — Я не разобрал вашей вспышки.
— Мне пришлось ввести ее для обозначения термина, относящегося к двум выпуклостям в верхней части меньшей формы.
— Понимаю, понимаю. Ну, скажите большему, чтобы он удалил кожу меньшего. Что за отвратительная процедура!..
Ботакс повернулся к Чарли.
— Сэр, — произнес он, — не будете ли вы так любезны сорвать одежду с ее стройного тела? Я выпущу вас для этой цели.
Глаза Мардж расширились, и она в ярости обернулась к Чарли.
— Не смейте! Не прикасайтесь ко мне, вы слышите сексуальный маньяк!
— Я? — жалобно запричитал Чарли. — Мадам я тут ни при чем! Послушайте, — повернулся он к Ботаксу, у меня трое детей и жена. Узнай она только, что меня подозревают в том, что я срываю, понимаете ли платья, — и мне придется несладко. Вы знаете, что делает моя жена, заметив, что я просто взглянул на какую-нибудь женщину? Она…
— Он все еще не расположен? — нетерпеливо спросил капитан.
— Очевидно, — признал Ботакс. — Непривычная обстановка может продлить данную стадию. Так как я знаю, что вам это было бы неприятно, эту часть ритуала я выполню сам. В космических рассказах часто описывается, как с делом справляются существа из других миров. Например, здесь — он покопался в своих записках, — действует совершенно омерзительное создание! Они не могли себе даже представить таких красавцев как мы.
— Продолжайте, продолжайте! Не тяните время! приказал капитан.
— Да… Вот «Чудовище ринулось к девушке. 3аливаясь слезами и отчаянно крича, она оказалась в объятиях монстра. Когти проскребли по ее трепещущему телу, сдирая юбку лохмотьями». Видите, туземное существо кричит от возбуждения, ощущая удаление покровов.
— Тогда действуйте, Ботакс! Только, пожалуйста, не допускайте визгов. Я весь дрожу от этих звуковых волн.
Ботакс вежливо обратился к Мардж:
— Если вы не возражаете…
Мардж скверно выругалась.
— Не прикасайся! Не прикасайся мерзкая тварь! Ты испачкаешь мне платье! А оно стоит двадцать четыре доллара. Отойди чудовище! — Она отчаянно пыталась защититься от непрошеных рук. — Ладно, я сама сниму его.
Мардж потянула молнию и бросила гордый взгляд на Чарли.
— Не смейте глядеть!
Чарли пожал плечами и закрыл глаза. Мардж сняла платье.
— Ну, хорошо? Вы довольны?
Капитан Гарм недоуменно постукивал пальцами по столу.
— Это и есть грудь? А почему другое создание отвернуло голову?
— Нерасположение. Нерасположение! — уверенно заявил Ботакс. — Кроме того, нужно удалить и другие кожи. Обнаженную грудь постоянно описывают в виде шаров цвета слоновой кости. Вот у меня здесь рисунки из этих фантастических рассказов.
Капитан задумчиво переводил взгляд с иллюстрации на Мардж и обратно.
— Что такое «слоновая кость»?
— Вещество, из которого состоят клыки одного большого животного.
— Ага! — Капитан Гарм залился зеленым светом удовольствия. — Теперь все ясно. Меньшая форма принадлежит к воинственной секте, а выпуклости являются оружием, которым она сокрушает врага!
— Нет-нет, они, как я понимаю, мягкие.
Маленькая коричневая рука Ботакса скользнула в направлении объекта разговора; Мардж взвизгнула и отпрянула.
— Какое же тогда у них назначение?
— Мне кажется, — произнес Ботакс с некоторым сомнением, — что они используются для кормления молоди.
— Молодняк их съедает?! — воскликнул ошеломленный капитан.
— Не совсем так. Эти объекты выделяют жидкость, потребляемую молодью.
Капитан страдальчески закрыл голову всеми тремя руками.
— Трехрукое, скользкое, пучеглазое чудовище, — сказала Мардж.
— Верно, — согласился Чарли.
— Ладно, ладно, бесстыдник. Побольше следите за своими глазами!
— Поверьте, я стараюсь не смотреть…
Ботакс вновь приблизился.
— Мадам, не могли бы вы снять все остальное?
Мардж сжалась.
— Никогда!
— В таком случае это сделаю, я если позволите.
— Не прикасайтесь! О боже, боже… Хорошо сама сниму.
Делая то, что обещала, Мардж бормотала себе под нос и бросала в сторону Чарли гневные взгляды.
— Ничего не происходит, — заметил капитан в глубоком разочаровании. — Это, должно быть, бракованный экземпляр.
Ботакс принял реплику на свой счет.
— Сэр!
— Но грудь этого создания вовсе не похожа на шары, кроме того, она почти бесцветна.
— Ерунда, — возразил Ботакс. — Надо считаться с возможностью естественных отклонений. Впрочем, мы спросим у самого существа. — Он повернулся к Мардж. — Мадам, с вашей грудью все в порядке?
Глаза Мардж широко раскрылись, и некоторое время она не могла даже дышать.
— Вот уж, — наконец проговорила она. — Может, я и не Джина Лоллобриджида и не Анита Экберг, но у меня все в порядке, благодарю вас… О-о, если бы Эд был здесь! — Она повернулась к Чарли. — Эй, скажите этому пучеглазому чудовищу, что я вполне развита!
— Э-э, — осмелился заметить Чарли. — Вы забываете, что я не смотрю.
— О да, вы уж не смотрите. Такие типы только и знают, что похотливо глазеть на женщин. Можете чуть-чуть взглянуть, но не больше, если в вас есть хоть что-то от джентльмена, чему я, разумеется, не верю.
— Ну, — промолвил Чарли, — я не хотел бы оказаться замешанным в таком деликатном деле, но полагаю, что у вас все в норме.
— Полагаете?! Вы что, слепой? К вашему сведению, я однажды была претенденткой на звание Мисс Бруклин, и если проигрывала, так это — линия талии, а не…
— Конечно, конечно… Грудь восхитительна, честно. Чарли энергично кивнул Ботаксу. — В полном порядке. Я не специалист, вы понимаете, но по мне она хороша.
Мардж успокоилась.
Ботакс почувствовал прилив сил.
— Большая форма проявляет интерес, капитан. Стимул работает. Теперь — последняя стадия.
— В чем она заключается?
— Сущность ее состоит в том, что аппарат речи и поглощения пищи одного существа накладывается на аналогичный аппарат другого. Позвольте мне для этого процесса ввести такую вспышку: «поцелуй».
— Меня тошнит от этой мерзости… — простонал капитан.
— Это кульминация. Во всех историях после того, как кожи удалены, формы обхватывают друг друга конечностями и предаются горячим поцелуям. Вот один пример, взятый наугад. «Он схватил девушку и жадно приник к ее пылающим губам».
— Может быть, одно существо пожирает другое? предположил капитан.
— Ничего подобного, — нетерпеливо возразил Ботакс, — Это жгучие поцелуи.
— Жгучие? Происходит сгорание?
— Очевидно, нет. Тут, вероятно, подчеркивается факт повышения температуры. Чем выше температура, тем успешнее, надо полагать, происходит производство молоди. Без этой ступени потомство получить невозможно. Это и есть сотрудничество, о котором я говорил.
— И все?
— Все, — подтвердил Ботакс. — Ни в одном из рассказов, даже в тех, что печатаются в «Плейбое», я не нашел описания какой-либо дальнейшей активности, связанной с детопроизводством. Иногда описание поцелуев завершают серией точек, но, я полагаю, что это обозначает просто большее число поцелуев. Один поцелуй на каждую точку, когда хотят произвести целое множество молоди.
— Только одного, пожалуйста, и немедленно.
— Разумеется, капитан.
Ботакс торжественно произнес.
— Сэр, поцелуйте, пожалуйста, леди.
— Послушайте, я не могу двинуться, — сказал Чарли.
— Конечно, я освобожу вас.
— Леди это может не понравиться.
— Уж будьте уверены, мне это не понравится! Держитесь от меня подальше! — прошипела Мардж.
— Мадам, может, не стоит их сердить? Мы можем… ну… только сделать вид.
Она колебалась, сознавая справедливость опасения.
— Ну, ладно. Но чтоб без всяких штучек! Я не привыкла целоваться с каждым встречным!
— Разумеется, мадам. Уверяю вас, это не моя затея.
Мардж сердито бормотала.
— Гадкие чудовища! Ишь…
Чарли приблизился, смущенно положил руки на голые плечи Мардж, и их губы встретились.
Капитан Гарм раздраженно вспыхнул:
— Я не чувствую повышения температуры.
Его тепловоспринимающие усики полностью распрямились и дрожали на голове.
— Я тоже — растерянно признался Ботакс. — Но мы все делали в точности как написано в — этих историях.
Пожалуй, его конечности должны быть более распростертыми. О, вот так… Смотрите, действует!
Почти случайно рука Чарли скользнула вдоль мягкого обнаженного торса Мардж. На миг она, казалось, приникла к нему, затем внезапно отдернулась.
— Отпустите! — прошипела Мардж. Неожиданно она сжала зубы, и Чарли с диким криком отскочил в сторону, зализывая кровоточащую нижнюю губу.
— За что, мадам? — воскликнул он жалобно.
— Мы договорились только делать вид. Что вы на меня уставились? Господи, ну и в компанию я попала!
Капитан Гарм быстро засиял голубым и желтым.
— Все закончено? Сколько теперь нужно ждать?
— Мне кажется, это происходит сразу. Сами знаете, когда вы почкуетесь — вы почкуетесь.
— Да? После всего того, что я здесь видел, не думаю, что когда-нибудь смогу почковаться. Пожалуйста, заканчивайте побыстрее.
— Один момент, капитан.
Однако время шло, и сияние капитана медленно становилось мрачно-оранжевым, а Ботакс почти угас. Наконец Ботакс спросил:
— Простите, мадам, когда вы будете почковаться?
— Когда я буду что?
— Производить потомство.
— У меня уже есть ребенок.
— Я имею в виду производить потомство сейчас.
— Но я еще не готова для другого ребенка.
— Что, что? — потребовал капитан. — Что она говорит?
— Кажется, — слабо произнес Ботакс, — пока она не намерена иметь маленького.
Капитан яростно вспыхнул всеми цветами радуги.
— Вы знаете, что я думаю, Исследователь? Я думаю, что у вас больное извращенное мышление. С этими существами ничего не происходит. Между ними нет никакого сотрудничества, и не появляется никакая молодь. Я думаю, что это два разных вида, а вы валяете со мной дурака!
— Но капитан, — начал Ботакс.
— Молчать! — рявкнул Гарм. — Не спорьте со мной. С меня достаточно. Вы домогались личной славы и наград, и я позабочусь, чтобы вы их не получили. Немедленно избавьтесь от этих созданий! Отдайте им их кожи и верните на то место, откуда взяли. Все расходы, связанные с поддержанием Временного Стасиса будут вычтены из вашей зарплаты.
— Но капитан…
— Это приказ! — Гарм метнул на Ботакса испепеляющий взгляд. Один вид, две формы, груди, поцелуи, сотрудничество. Вы болван, Исследователь, извращенное и больное — да-да — больное существо! Дрожа всеми членами, Ботакс стал настраивать приборы.
Они стояли на пустынном перроне, дико озираясь по сторонам. Сгущались сумерки, и подходящий поезд давал знать о себе приближающимся гулом.
— Неужели все это на самом деле было? — неожиданно спросила Мардж.
Чарли кивнул.
— Отчетливо помню.
— Нам никто не поверит.
— Послушайте, я сожалею, что вы были поставлены в неловкое положение. Это не моя вина.
— Конечно, понимаю.
Мардж, потупившись, изучала деревянную платформу под ногами. Поезд приближался.
— Э-э… Вы вовсе не были плохи. То есть вы были изумительны, только я не решался вам сказать.
— Может, не откажетесь выпить со мной чашечку кофе для успокоения? Моя жена ее пока нет.
— Правда?! И Эд уехал за город на уик-энд, так что меня ждет пустая квартира. Наш мальчик у моей мамы, — пояснила Мардж.
Поезд подъехал, но они уже шли по улице. В баре они позволили себе чуть-чуть выпить, а потом Чарли не мог отпустить ее одну в темноте и, естественно, проводил домой. Конечно, Мардж была обязана пригласить его зайти.
Тем временем в космическом корабле несчастный Ботакс предпринимал последнюю попытку доказать свою правоту. Пока Гарм готовил корабль к отлету, Ботакс торопливо установил узколучевой видеоэкран. Он сфокусировал луч на Чарли и
Мардж в ее квартире. Усики Ботаса напряглись, а глаза засияли переливчатым светом.
— Капитан Гарм! Капитан! Посмотрите, что они сейчас делают!
Но в это мгновение корабль вышел из Временного Стасиса.
Мой сын — физик
Ее волосы были нежнейшего светло-зеленого цвета — уж такого скромного, такого старомодного! Сразу видно было, что с краской она обращается осторожно: так красились лет тридцать назад, когда еще не вошли в моду полосы и пунктир.
Да и весь облик этой уже очень немолодой женщины, ее ласковая улыбка, ясный кроткий взгляд — все дышало безмятежным спокойствием.
И от этого суматоха, царившая в огромном правительственном здании, вдруг стала казаться дикой и нелепой.
Какая-то девушка чуть не бегом промчалась мимо, обернулась и с изумлением уставилась на странную посетительницу:
— Как вы сюда попали?
Та улыбнулась.
— Я иду к сыну, он физик.
— К сыну?..
— Вообще-то он инженер по связи. Главный физик Джерард Кремона.
— Доктор Кремона? Но он сейчас… а у вас есть пропуск?
— Вот, пожалуйста. Я его мать.
— Право, не знаю, миссис Кремона. У меня ни минуты… Кабинет дальше по коридору. Вам всякий покажет.
И она умчалась.
Миссис Кремона медленно покачала головой. Видно, у них тут какие-то неприятности. Будем надеяться, что с Джерардом ничего не случилось.
Далеко впереди послышались голоса, и она просияла: голос сына!
Она вошла в кабинет и сказала:
— Здравствуй, Джерард.
Джерард — рослый, крупный, в густых волосах чуть проглядывает седина: он их не красит. Говорит — некогда, он слишком занят. Таким сыном можно гордиться, она всегда им любовалась.
Сейчас он обстоятельно что-то объясняет человеку в военном мундире. Кто его разберет, в каком чине этот военный, но уж наверно Джерард сумеет поставить на своем.
Джерард поднял голову.
— Что вам угодно?.. Мама, ты?! Что ты здесь делаешь?
— Пришла тебя навестить.
— Разве сегодня четверг? Ох, я совсем забыл! Посиди, мама, после поговорим. Садись где хочешь. Где хочешь… Послушайте, генерал…
Генерал Райнер оглянулся через плечо, рывком заложил руки за спину.
— Это ваша матушка?
— Да.
— Надо ли ей здесь присутствовать?
— Сейчас не надо бы, но я за нее ручаюсь. Она даже термометром не пользуется, а в этом уж вовсе ничего не разберет. Так вот, генерал. Они на Плутоне. Понимаете? Наверняка. Эти радиосигналы никак не могут быть естественного происхождения, значит, их подают люди, люди с Земли. Вы должны с этим согласиться. Очевидно, одна из экспедиций, которые мы отправили за пояс астероидов, все-таки оказалась успешной. Они достигли Плутона.
— Ну да, ваши доводы мне понятны, но разве это возможно? Люди отправлены в полет четыре года назад, а всех припасов им могло хватить от силы на год, так я понимаю? Ракета была запущена к Ганимеду, а пролетела до Плутона — это в восемь раз дальше.
— Вот именно. И мы должны узнать, как и почему это произошло. Может быть… может быть, они получили помощь.
— Какую? Откуда?
На миг Кремона стиснул зубы, словно набираясь терпения.
— Генерал, — сказал он, — конечно, это ересь, а все же — вдруг тут замешаны не земляне? Жители другой планеты? Мы должны это выяснить. Неизвестно, сколько времени удастся поддерживать связь.
По хмурому лицу генерала скользнуло что-то вроде улыбки.
— Вы думаете, они сбежали из-под стражи и их того и гляди снова схватят?
— Возможно. Возможно. Нам надо точно узнать, что происходит — может быть, от этого зависит будущее человечества. И узнать не откладывая.
— Ладно. Чего же вы хотите?
— Нам немедленно нужен Мультивак военного ведомства. Отложите все задачи, которые он для вас решает, и запрограммируйте нашу основную семантическую задачу. Освободите инженеров связи, всех до единого, от другой работы и отдайте в наше распоряжение.
— Причем тут это? Не понимаю!
Неожиданно раздался кроткий голос:
— Не хотите ли фруктов, генерал? Вот апельсины.
— Мама! Прошу тебя, подожди! — взмолился Кремона. — Все очень просто, генерал. Сейчас от нас до Плутона чуть меньше четырех миллиардов миль. Если даже радиоволны распространяются со скоростью света, то они покроют это расстояние за шесть часов. Допустим, мы что-то сказали, — ответа надо ждать двенадцать часов. Допустим, они что-то сказали, а мы не расслышали, переспросили, и они повторяют ответ — вот и ухнули сутки!
— А нельзя это как-нибудь ускорить? — спросил генерал.
— Конечно нет. Это основной закон связи. Скорость света — предел, никакую информацию нельзя передать быстрее. Наш с вами разговор здесь отнимет часы, а на то, чтобы провести его с Плутоном, ушли бы месяцы.
— Так, понимаю. И вы в самом деле думаете, что тут замешаны жители другой планеты?
— Да. Честно говоря, со мной тут далеко не все согласны. И все-таки мы из кожи вон лезем — стараемся разработать какой-то способ наиболее емких сообщений. Надо передавать возможно больше бит информации в секунду и молить господа бога, чтобы удалось втиснуть все, что надо, пока не потеряна связь. Вот для этого мне и нужен электронный мозг и ваши люди. Нужна какая-то стратегия, при которой можно передать те же сообщения меньшим количеством сигналов. Если увеличить емкость хотя бы на десять процентов, мы, пожалуй, выиграем целую неделю.
И опять их прервал кроткий голос:
— Что такое, Джерард? Вам нужно провести какую-то беседу?
— Мама! Прошу тебя!
— Но ты берешься за дело не с того конца. Уверяю тебя.
— Мама! — в голосе Кремоны послышалось отчаяние.
— Ну-ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом двенадцать часов ждать ответа, это очень глупо. И совсем не нужно.
Генерал нетерпеливо фыркнул.
— Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к…
— Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?
— Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше, — очень серьезно посоветовала миссис Кремона. — И им тоже велите так делать. Говорите не переставая, и они пускай говорят не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает, и у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить, но скорей всего вы, и не спрашивая, услышите все, что надо.
Мужчины ошеломленно смотрели на нее.
— Ну, конечно! — прошептал Кремона. — Непрерывный разговор. Сдвинутый по фазе на двенадцать часов, только и всего… Сейчас же и начнем!
Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся.
— Мама, — сказал он, — ты извини, это, наверно, отнимет несколько часов. Я пришлю кого-нибудь из девушек, они с тобой побеседуют. Или приляг, вздремни, если хочешь.
— Обо мне не беспокойся, Джерард, — сказала миссис Кремона.
— Но как ты до этого додумалась, мама? Почему ты это предложила?
— Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают — все равно, по видеофону, по страторадио или просто с глазу на глаз, — они прекрасно понимают: чтобы передать любую новость, надо просто говорить не переставая. В этом весь секрет.
Кремона попытался улыбнуться. Потом нижняя губа у него задрожала, он круто повернулся и вышел.
Миссис Кремона с нежностью посмотрела ему вслед. Хороший у нее сын. Такой большой, взрослый, такой видный физик, а все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери.
Автора! Автора!
Грэму Дорну уже не раз приходило в голову, что обещать девушке, пусть даже и самой любимой, пойти за ней в огонь и в воду — шаг довольно опрометчивый. Она ведь, чего доброго, и на слове поймает.
Что, в общем-то, и произошло с ним, когда он поддался напору, нажиму и натиску своей невесты и согласился выступить в литературном кружке ее престарелой незамужней тетушки. И нечего смеяться! На месте докладчика вам бы точно было не до смеха. Чего стоят одни только лица кое-кого из слушателей, на которые волей-неволей приходится смотреть!
Одним словом, Грэма Дорна вытащили на сцену и заставили не сутулиться. Речь о «Роли детективного романа в американской литературе» он читал с таким видом, будто только что проглотил лягушку. Даже то, что написала доклад его бесценная Джун собственной персоной (иначе черта с два он дал бы себя уговорить на подобную затею), не затмевало того факта, что все это была полнейшая чушь.
А потом, когда рассудок его, фигурально выражаясь, обливался кровью, на него налетела стая гарпий, ибо — трепещите! — настал черед свободной дискуссии и дамы принялись наперебой забрасывать его вопросами.
— Скажите, мистер Дорн, правда ли, что все ваши труды написаны в минуты вдохновения? Ну, то есть, вот вы сидите, и туг вам в голову приходит какая-нибудь идея — совершенно неожиданно? И вам приходится писать ночи напролет и пить крепкий кофе, чтобы не спать, пока вдохновение не покинуло вас.
— О да. Истинная правда.
(Он работал с двух до четырех через день и предпочитал молоко.)
— Скажите, мистер Дорн, вам, должно быть, приходится проделывать массу предварительных изысканий, чтобы описать все эти зловещие убийства. Сколько примерно времени проходит, прежде чем вы можете сесть за книгу?
— Как правило, месяцев шесть.
(Вся его справочная литература ограничивалась шеститомной энциклопедией и позапрошлогодним выпуском «Всемирного альманаха».)
— Ах, мистер Дорн, признайтесь, ваш Реджинальд де Мейстер списан с реального человека? Не может быть, чтобы он был полностью выдуман. Он вышел у вас ну совершенно как живой, во всех мелочах.
— Его прообразом послужил один друг моего детства.
(Дорн никогда не встречал никого хотя бы отдаленно похожего на де Мейстера и жил в постоянном страхе, что подобный человек когда-нибудь все-таки ему встретится. На такой случай он даже носил хитрым образом сконструированный перстень с восточным адом замедленного действия. Вот вам и де Мейстер.)
Джун Биллингс сидела на своем месте в стороне от восторженной толпы женщин и улыбалась горделивой собственнической улыбкой.
Грэм провел ладонью по горлу и как можно незаметнее изобразил, что готов повеситься. Джун с улыбкой кивнула и послала ему воздушный поцелуй. Этим все и ограничилось.
Грэм клятвенно пообещал себе, что остаток жизни проведет в трудах и одиночестве и на пушечный выстрел не приблизится ни к одной женщине, а в своих романах будет изображать их исключительно как злодеек.
Он односложно отвечал на вопросы, чередуя «да» и «нет». Да, время от времени он балуется кокаином. Это стимулирует творческий процесс. Нет, на потребу Голливуду он своего де Мейстера не отдаст. Кино, по его мнению, не имеет ничего общего с настоящим искусством. К тому же у него нет будущего. Да, он прочтет рукописи мисс Крэм, если она принесет их ему. С превеликой радостью. Что может быть увлекательнее, чем читать творения начинающих авторов? А редакторы и впрямь бездушные создания, все до одного.
Тут подали закуски, и дам как ветром сдуло. Грэм опомнился не сразу. Толпа женщин слилась и превратилась в одну-единственную. Она была примерно четырех футов десяти дюймов ростом и весила фунтов восемьдесят пять. В Грэме было шесть футов два дюйма роста и добрых двести десять фунтов веса. Он, скорее всего, в два счета бы с ней справился, тем более что обе руки у нее были заняты слоновьих размеров сумкой. И все же мысль отправить ее в нокдаун казалась ему несколько негуманной, если не сказать жестокой. Такой поступок казался ему не вполне достойным.
Она надвигалась на него с восторженным пылом, который до отвращения явственно читался в ее глазах, и Грэм понял, что отступать некуда. Двери в пределах досягаемости не наблюдалось.
— О, мистер де Мейстер, заклинаю вас, позвольте мне звать вас этим именем. Ваш герой кажется мне настолько реальным, что я просто не в состоянии думать о вас просто как о Грэме Дорне. Вы ведь не возражаете, правда же?
— Нет-нет, что вы, — булькнул Грэм сквозь тридцать два плотно стиснутых зуба. — Иной раз я и впрямь развлекаюсь, воображая себя Реджинальдом.
— Благодарю вас. Вы не представляете, дорогой мистер де Мейстер, с каким нетерпением я ждала встречи с вами. Я прочла все ваши произведения и считаю, что они великолепны.
— Польщен столь высокой оценкой. — Он по привычке натянул на себя маску скромности. — Право же, в них нет ничего особенного. Ха-ха-ха! Я рад, что читателям нравится, но мне еще совершенствоваться и совершенствоваться. Ха-ха-ха!
— Да нет же, вы правда такой. Ну, то есть хороший писатель, правда. По-моему, это замечательно, быть писателем. Наверное, это почти как быть богом.
Грэм сделал непроницаемое лицо.
— Только не для редакторов, сестра.
«Сестра» намека не поняла.
— Создавать живых персонажей из ничего, выстраивать картины и творить миры! Мне частенько кажется, что писатели — самые счастливые люди на свете. Лучше быть вдохновенным писателем, который еле-еле сводит концы с концами в своей мансарде, нежели королем во дворце. Вы согласны?
— Безусловно, — покривил душой Грэм.
— Что такое низменные материальные блага этого мира по сравнению с возможностью вдохнуть жизнь в свой маленький мир?
— И впрямь!
— А благодарные потомки? Подумайте только о потомках!
— Да-да. Я только и делаю, что думаю о них.
Миниатюрная дама схватила его за руку.
— У меня к вам всего одна маленькая просьба. Вы не могли бы, — она слабо зарделась, — вы не могли бы дать несчастному Реджинальду — если вы позволите мне так его назвать — шанс жениться на Летиции Рейнольдс. Она слишком жестока к нему. О, сколько слез я пролила из-за этого! Но для меня он совсем, совсем как живой…
Откуда-то, словно по волшебству, появился кружевной платочек и был поднесен к глазам. Затем она спрятала его, храбро улыбнулась и поспешила прочь. Грэм Дорн сделал глубокий вдох, закрыл глаза и аккуратно упал в объятия Джун.
Его глаза распахнулись.
— К твоему сведению, — строго сказал он ей, — наша помолвка была на грани разрыва. Только мое уважение к твоим несчастным престарелым родителям помешало тебе стать бывшей невестой Грэма Дорна.
— Милый, это так благородно с твоей стороны. — Она потерлась щекой о его рукав. — Идем, я отвезу тебя домой и омою твои раны.
Ну ладно, только тебе придется вынести меня с поля боя. У этой славной старушки, твоей драгоценной тетушки, случайно нет топора?
— А что?
— Во-первых, у нее хватило дерзости представить меня как, прости господи, литературного отца знаменитого Реджинальда де Мейстера.
— А что, это не так?
— Давай-ка выбираться из этого гадюшника. И заруби себе на носу: я не состою с этим типом в родстве, ни в литературном, ни в каком-либо еще. Я отрекаюсь от него. Пропади он пропадом. Плевать мне на него. Я объявляю его незаконнорожденным сыном, гнусным выродком, собачьим отродьем, и провалиться мне на этом месте, если он когда-нибудь еще сунет свой поганый аристократический нос в мои замыслы.
Они сидели в такси, и Джун поправила ему галстук.
— Ладно, котик, давай посмотрим, что там в письме.
— В каком еще письме?
Она протянула руку.
— От издателя.
Грэм досадливо крякнул и вытащил из кармана пиджака конверт.
— Пожалуй, стоит напроситься к нему на чаепитие. Щепотка стрихнину пошла бы этому бездушному негодяю только на пользу.
— Злобствовать будешь потом. Что он пишет? Гм… ага, вот оно: «Это не совсем то, чего я ожидал… как мне кажется, де Мейстер не в самой лучшей форме… пожалуй, сюжет не мешало бы немного пересмотреть в сторону… роман, безусловно, можно доработать… возвращаю отдельным пакетом…»
Она отбросила письмо в сторону.
— Говорила я тебе, зря ты убил Санчу Родригес. Она была бы тут как раз к месту. Любовная линия у тебя совсем захирела.
— Вот сама ее и пиши! Хватит с меня де Мейстера! Дошло до того, что окололитературные дамы иначе как «мистер де Мейстер» меня не зовут и фотографии мои в газетах тоже печатаются с подписью «мистер де Мейстер». Я сам по себе ничего не значу. Кто слышал о Грэме Дорне? Вечно одно и то же: «Дорн, Дорн, ну, знаете, это тот малый, который пишет про де Мейстера».
— Глупыш! — визгливо воскликнула Джун. — Ты завидуешь своему же собственному герою.
— Да никому я не завидую. Послушай! Я терпеть не могу детективы. Ни разу не брал их в руки с тех пор, как освоил двухсложные слова. Самый первый роман был задуман как тонкая, едкая, язвительная пародия. Я намеревался разнести в пух и прах всю шайку этих писак, которые подвизаются на детективном поприще. Вот зачем я придумал де Мейстера. Он должен был покончить со всеми сыщиками. «Дурак набитый», автор: Грэм Дорн. Так что читатели вместе со змеями и прочими неблагодарными детьми пригрели на своей груди и это ничтожество. Я пишу роман за романом, пытаясь заставить читателей одуматься…
Грэм Дорн поник от сознания безнадежности своей затеи.
— А, ладно. — Он слабо улыбнулся, и величие его духа возобладало над тяготами жизни. — Как ты не понимаешь? Я должен писать совсем о другом! Не могу же я всю жизнь потратить неизвестно на что? Вот только кто станет читать серьезный роман Грэма Дорна, когда теперь в глазах всех мое имя неразрывно связано с де Мейстером?
— Можно взять псевдоним.
— Не стану я брать псевдоним. Я горжусь своим именем.
— Но не можешь же ты вот так взять и бросить де Мейстера! Не глупи, дорогой.
— Любая нормальная невеста, — с горечью упрекнул Грэм, — была бы только рада, если бы ее будущий муж написал что-то по-настоящему стоящее и прославился.
— Так я и буду рада, Грэм. Но это же не мешает тебе время от времени возвращаться к де Мейстеру, чтобы обеспечить себе кусок хлеба.
— Ха! — Грэм надвинул на глаза шляпу, чтобы скрыть муку, которая терзала его несгибаемый дух. — Ну вот, теперь ты говоришь, что мне никогда не добиться известности, если я не соглашусь променять высокое искусство на эту похабщину. Приехали. Вылезай. А я поеду домой писать письмо на песочке. Пропесочу хорошенько нашего дряхлого мистера Макданлопа.
— Поступай как хочешь, мой голубок, — проворковала Джун. — А завтра, когда тебе полегчает, приходи, поплачешь у меня на плече, а потом мы с тобой вдвоем подумаем, как нам переработать «Смерть на третьей палубе», хорошо?
— Наша помолвка, — высокомерно заявил Грэм, — расторгнута.
— Как скажешь, милый. Я буду дома завтра в восемь.
— Мне это совершенно безразлично. Всего доброго!
Издатели и редакторы, безусловно, избранная каста. Их удел — протянутая для рукопожатия рука, улыбка в тридцать два зуба, кивок головой и хлопок по спине.
Однако по вечерам авторы разбегаются по своим норкам, и вот тут-то и наступает время для маленькой мести. Вслух произносятся фразы, которых никто не может услышать, пишутся письма, отправлять которые нет нужды, а над пишущими машинками, возможно, водружаются портреты редакторов с задумчивой улыбкой на лицах, чтобы послужить мишенью для метания дротиков.
Портрет Макданлопа, используемый именно таким образом, украшал и комнату Дорна. Между тем сам Грэм Дорн в своей неизменной писательской экипировке (уличная одежда и пишущая машинка) сидел и хмуро созерцал пятый по счету лист бумаги, заправленный в машинку. Предыдущие четыре торчали из мусорной корзины, забракованные за слюнтяйскую мягкость изложения.
«Дорогой сэр», — начал Дорн. А потом продолжил, медленно и мстительно: — «…или мадам, в зависимости от обстоятельств».
На него вдруг нашло вдохновение, и он бешено застрочил, не обращая внимания на голубоватый дымок, вьющийся над перегретыми клавишами.
«Вы пишете, что остались не слишком высокого мнения о де Мейстере в этом романе. Ну а я вообще не слишком высокого о нем мнения. Точка. Можете прыгнуть с Бруклинского моста с ним в обнимку. И надеюсь, что в Ист-ривер ровно за секунду до вашего прыжка сбросят канализационные стоки.
Впредь я намерен придерживаться в своем творчестве куда более высоких планок, чем ставит ваше паршивое издательство. И настанет день, когда я смогу оглянуться назад на этот период моей карьеры и с отвращением сказать себе, что это было просто…»
Пока Грэм печатал этот абзац, кто-то настойчиво похлопывал его по плечу. Когда нужно было нажать пробел, Грэм досадливо и безрезультатно пытался отмахнуться.
Теперь он прервался, обернулся и учтиво обратился к незнакомцу, невесть откуда взявшемуся в его комнате:
— А вы, черт побери, кто такой? Впрочем, можете проваливать, не утруждая себя ответом. Я не обижусь на вашу невежливость.
Незнакомец любезно улыбнулся и кивнул. До Грэма донесся тонкий аромат какого-то неброского бриолина. Четко очерченный волевой подбородок гостя сильно выдавался вперед.
— Меня зовут де Мейстер. Реджинальд де Мейстер, — произнес он хорошо поставленным голосом.
Грэм был потрясен до глубины души и услышал, как в ней что-то дзенькнуло.
— Эгхм, — прохрипел он.
— Прошу прощения?
Грэм пришел в себя.
— Я сказал «эгхм», короткое кодовое слово, которое означает «какой именно де Мейстер».
— Тот самый, — услужливо пояснил де Мейстер.
— Герой моих детективов? Сыщик?
Де Мейстер уселся, не дожидаясь приглашения, и на его породистом лице застыло выражение любезной скуки, столь высоко ценимое в высшем свете. Он закурил турецкую сигарету, в которой Грэм тотчас же узнал любимую марку своего героя, предварительно медленно и осторожно постучав ею по тыльной стороне ладони — еще один фирменный жест.
— Совершенно верно, старина, — сказал де Мейстер. — Это и в самом деле страшно смешно. Наверное, я действительно герой твоих детективов, но давай не будем сейчас об этом. Эго неудобно.
— Эгхм, — повторил Грэм еще раз вместо ответа.
Он лихорадочно перебирал в уме возможные варианты. Ничего такого он — к сожалению — не пил, следовательно, пьян быть не мог. У него был луженый желудок, перегреваться он тоже не перегревался, так что галлюцинации также исключались. Ему никогда не снились сны, а его фантазия — как и полагается ценному имуществу — находилась под строгим контролем. И поскольку его, как и всех писателей, повсеместно считали наполовину чокнутым, о безумии не могло быть и речи.
Оставался единственный вариант: Мейстера нет и быть не может, и Грэм вздохнул с облегчением. Что это за автор, если он не постиг в совершенстве высокое искусство при написании книги закрывать глаза на то, что чего-то нет и быть не может?
— У меня тут где-то завалялась моя последняя книга, — проговорил он как ни в чем не бывало. — Будь так добр, припомни свою страницу и возвращайся на нее обратно. Я человек занятой, и, бог свидетель, ты и без того успел изрядно мне надоесть за то время, что я сочиняю всю эту чепуху о твоих похождениях.
— Но я здесь по делу, приятель. Сначала мне нужно заключить с тобой дружеское соглашение. Мое положение становится чертовски неудобным.
— Послушай, ты понимаешь, что отрываешь меня от дел? Я не имею обыкновения беседовать с вымышленными персонажами. Как правило, я не вожу с ними дружбу. Кроме того, разве мама не говорила тебе в детстве, что тебя не существует?
— Дорогой друг, я существовал всегда. Существование — такая субъективная штука. Все, что представляется существующим, существует. К примеру, я существовал в твоем воображении с тех самых пор, как ты меня выдумал.
Грэм поежился.
— Вот я и хотел бы знать, что ты делаешь вне моего воображения? Что, тесновато стало? Развернуться негде?
— Нет, отнюдь. Воображение как воображение, неплохое в своем роде, но я обрел более реальное существование только с сегодняшнего дня, ну и воспользовался подвернувшейся возможностью лично обратиться к тебе с уже упомянутым деловым предложением. Видишь ли, та тощая сентиментальная дама из твоего кружка…
— Из какого кружка? — задал бессмысленный вопрос Грэм.
На самом деле он уже понял все с ужасающей ясностью.
— Из того, на котором ты произносил речь, — тут де Мейстер тоже поежился, — о роли детектива. Она верит в мое существование, значит, я существую.
Он докурил и небрежным движением загасил сигарету.
— Железная логика, — заявил Грэм. — Ну, выкладывай, что тебе от меня нужно, и мой ответ будет «нет».
— Отдаешь ли ты себе отчет, старина, что, если ты прекратишь писать романы о де Мейстере, я стану скучным призраком, как и все вышедшие в тираж вымышленные сыщики? Мне останется лишь бродить в сером тумане между явью и небытием вместе с Холмсом, Лекококом и Дюпеном.
— А что, я не против. Туда тебе и дорога.
Взгляд глаз Реджинальда де Мейстера стал ледяным, и Грэму внезапно вспомнился один эпизод со сто двадцать третьей страницы «Дела о разбитой пепельнице».
«Взгляд его, до сих пор ленивый и рассеянный, вдруг стал острым, глаза превратились в два озерца голубого льда и впились в дворецкого, и тот со сдавленным криком отшатнулся».
По всей видимости, де Мейстер не утратил ни одного из своих качеств, которыми обладал в романах.
Грэм со сдавленным криком отшатнулся.
— В твоих же собственных интересах, чтобы детективы о де Мейстере продолжали выходить. Ты меня понял?
Грэм взял себя в руки и слабо возмутился.
— Эй, постой-ка. Что-то ты совсем от рук отбился! Не забывай, я в каком-то смысле твой отец. Да. Твой литературный отец. Ты не можешь предъявлять ультиматумы и угрожать мне. Дети так себя не ведут. Ты должен относиться ко мне с сыновней почтительностью и любовью.
— И еще кое-что, — не поведя и ухом, продолжал де Мейстер. — Нужно как-то исправлять ситуацию с Летицией Рейнольдс. Это уже начинает мне надоедать.
— Ну, не глупи. Всем известно, что мои любовные сцены таят в себе бездну страсти и нежности, каких не встретишь на страницах даже одного детективного романа из тысячи. Подожди, сейчас покажу тебе рецензии. Пожалуйста, можешь пытаться руководить моими действиями, я не возражаю, но черт меня побери, если я позволю тебе критиковать мои романы.
— К дьяволу рецензии. Терпеть не могу нежность и всю эту прочую шелуху. Я на протяжении вот уже пяти романов волочусь за этой неприступной дамой и веду себя как полный болван. Пора положить этому конец.
— И каким же образом?
— В следующей же книге я должен на ней жениться. Ну или в крайнем случае сделать ее своей любовницей, всеми уважаемой и респектабельной. Да, и прекрати делать из меня такого джентльмена по отношению к дамам. Сейчас не времена королевы Виктории, старина, а я всего лишь человек.
— Нет уж! — заявил Грэм. — К твоему последнему утверждению это тоже относится.
Взгляд де Мейстера стал язвительным.
— Право же, старина, для писателя ты проявляешь просто возмутительное равнодушие к благополучию персонажа, который столько лет тебя кормил.
Грэм картинно задохнулся.
— Кормил? Меня? Иными словами, ты хочешь сказать, что мои серьезные романы никто и покупать не станет, да? Ну, погоди у меня. Я не стану писать еще один роман о де Мейстере даже за миллион долларов. Даже за пятьдесят процентов авторских и все права на экранизацию.
Де Мейстер нахмурился и произнес слова, которые звучали для многочисленных преступников как глас судьбы:
— Еще увидим. Но так просто ты от меня не отделаешься.
И удалился, гордо вздернув волевой подбородок.
Перекошенное лицо Грэма мало-помалу приняло нормальное выражение, и он медленно, очень медленно взялся руками за голову и ощупал ее.
Впервые за свою долгую и умеренно разгульную сознательную жизнь он понял, что его недруги были правы и ему совсем не помешало бы основательно прочистить мозги.
Его воображение жило самостоятельной жизнью!
Грэм Дорн еще раз нажал локтем кнопку звонка. Он отчетливо помнил, как она говорила, что будет дома в восемь.
В глазок посмотрели.
— Привет!
— Привет!
Молчание.
— На улице дождь, — жалобно сообщил Грэм. — Можно зайти обсушиться?
— Не знаю. Мы еще обручены, мистер Дорн?
— Если нет, — ответил он сухо, — значит, я отвергал авансы сотен обезумевших от любви девушек — причем, прошу заметить, все они были красавицы как на подбор, — совершенно напрасно.
— Но вчера ты говорил…
— Ай, больше слушай, что я говорю. У всех свои странности. Смотри, я принес тебе букетик. — Он помахал цветами перед глазком.
Джун открыла дверь.
— Розы! Какое плебейство. Входи, милый, и заваливайся на диван. Эй, эй, погоди-ка, а что это у тебя под мышкой? Не рукопись «Смерти на третьей палубе»?
— Угадала. Там не эта растянутая писанина. Там что-то совершенно другое.
В голосе Джун прозвучал холодок.
— Только не говори, что это твой драгоценный роман.
Грэм вскинул голову.
— Откуда ты знаешь?
— Ты все уши прожужжал мне рассказами о нем на серебряной свадьбе у Данлопов.
— Не помню такого. Разве что я был пьян.
— Ты именно что был пьян. Мертвецки, я бы сказала. После двух коктейлей.
— Нет, если я был пьян, я, должно быть, рассказал тебе что-нибудь не то.
— Действие происходит в шахтерском районе?
— Э-э… да.
— А действующие лица — настоящие, земные, неприкрашенные обычные люди, которые говорят и думают точно так же, как мы с тобой? Это история об основополагающих экономических факторах? И персонажи испытывают взлеты и падения и оказываются втянутыми в головокружительный водоворот событий, вынужденные один на один противостоять администрации шахты и бездушной современной промышленности?
— Э-э… да.
Она задумчиво кивнула головой.
— Я отлично все помню. Сначала ты напился и тебе стало плохо. Потом тебе полегчало и ты пересказал мне первые несколько глав. Тогда плохо стало мне.
Джун подошла к рассерженному писателю.
— Грэм. — Она склонила свою золотоволосую головку ему на плечо и негромко промурлыкала: — Ну почему ты не хочешь продолжать писать о де Мейстере? Он приносит тебе такие солидные деньги.
Грэм вывернулся из ее объятий.
— Ты меркантильная особа, не способная понять тонкую писательскую душу. Можешь считать нашу помолвку разорванной.
Он с размаху уселся на диван и сложил руки на груди.
— Впрочем, если ты согласишься прочитать рукопись моего романа и разобрать его, как обычно, я, так и быть, сжалюсь над тобой.
— А можно, мы сначала разберем «Смерть на третьей палубе»?
— Нет.
— Прекрасно! Во-первых, любовная линия никуда не годится.
— Годится. — Грэм возмущенно вскинул палец. — Она проникнута нежностью и сентиментальностью, как в старые добрые времена. Вот, у меня есть рецензия. — Он принялся рыться в папке.
— Чушь на постном масле. Ты что, собираешься процитировать мне того писаку из «Пиллсборо клэрион»? Он, небось, твой родственник. Ты знаешь, что последние два романа принесли тебе денег с гулькин нос? А «Третью палубу» издатель и вовсе завернул.
— Тем лучше! Ай! — Он с силой потер голову. — Зачем ты это сделала?
— Потому что единственное место, по которому я могла тебя ударить, не нанеся при этом тебе серьезного ущерба, это твоя голова. Послушай меня! Эта деревяшка Летиция Рейнольдс до смерти надоела читателям. Почему бы тебе не устроить так, чтобы «сияющая копна ее золотистых кудрей» вымокла в керосине, а где-нибудь рядом по чистой случайности оказалась зажженная спичка?
— Но, Джун, эта героиня списана с натуры. С тебя!
— Грэм Дорн! Я здесь не затем, чтобы выслушивать оскорбления! Сейчас на рынке детективов спросом пользуется лихо закрученный сюжет и горячая искренняя любовь, а ты как пять лет назад писал затянутые слащавые и сентиментальные повествования, так до сих пор и пишешь.
— Но у Реджинальда де Мейстера такой характер.
— Ну так измени его. Послушай! Вот ты вводишь Санчу Родригес. Это прекрасно. Я ее одобряю. Она мексиканка, пылкая, страстная, необузданная и до безумия в него влюбленная. И что же ты делаешь? Сначала он разыгрывает из себя безупречного джентльмена, а потом ты — бац! — и прямо посередине романа ее убиваешь.
— Гм, дай-ка подумать… Ты в самом деле считаешь, что будет неплохо, если де Мейстер забудется? Поцелуй-другой…
Джун стиснула свои хорошенькие зубки и столь же хорошенькие кулачки.
— Ох, милый, какое счастье, что любовь слепа! Я не пережила бы, если бы она хотя бы на миг прозрела. Послушай, это же готовый сюжет. Де Мейстер и Родригес влюбятся друг в друга. У них начнется роман, и ты сможешь с чистой совестью отправить эту кошмарную Летицию в монастырь. Судя по тому, как ты ее описываешь, ей там самое место.
— Ты далеко не все знаешь, лапочка. Так уж получилось, что Реджинальд де Мейстер влюблен в Летицию Рейнольдс и жаждет жениться на ней, а не на твоей Родригес.
— С чего ты взял?
— Он сам мне сказал.
— Кто «он»?
— Реджинальд де Мейстер.
— Какой Реджинальд де Мейстер?
— Мой Реджинальд де Мейстер.
— То есть как это — Реджинальд де Мейстер?
— Герой моих произведений, Реджинальд де Мейстер.
Джун вскочила, сделала несколько глубоких вдохов, потом проговорила очень спокойным голосом:
— Давай-ка начнем все с самого начала.
Она ненадолго отлучилась и вернулась с аспирином.
— Значит, твой Реджинальд де Мейстер, персонаж твоих книг, сказал тебе, собственной персоной, что он влюблен в Летицию Рейнольдс?
— Совершенно верно.
Джун проглотила таблетку.
— Погоди, Джун, я объясню все так, как он объяснил мне. Все персонажи действительно существуют — во всяком случае, в воображении авторов. Но когда люди начинают по-настоящему верить в них, они начинают существовать в реальности, потому что то, во что люди верят, для них существует, да и вообще, что такое существование?
У Джун задрожали губы.
— Ох, Грэми, пожалуйста, не надо. Мама никогда не позволит мне выйти за тебя замуж, если тебя упекут в психушку.
— Ради бога, Джун, не называй меня Грэми. Говорю тебе, он приходил ко мне и пытался внушить, что писать и как писать. Почти прямо как ты. Да ну же, золотко, не плачь!
— Не могу. Я всегда думала, что ты ненормальный, но никогда не думала, что ты ненормальный!
— Ну и в чем разница? Давай не будем об этом. Я не намерен больше писать детективы. В конце концов, — он подпустил в голос капельку возмущения, — когда твой собственный персонаж — мой собственный персонаж — пытается поучать меня, что делать, а чего не делать, это уж слишком.
Джун выглянула из-за носового платка.
— Откуда ты узнал, что это был настоящий де Мейстер?
— Ах ты господи! Как только он вытащил турецкую сигарету и постучал ею по тыльной стороне ладони, а потом принялся через слово повторять «чертовски» и «старина», я сразу понял, что дело худо.
Зазвонил телефон. Джун подскочила.
— Не подходи к телефону, Грэм. Это, наверное, из сумасшедшего дома. Я скажу им, что тебя здесь нет. Алло. Алло! А, мистер Макданлоп. — Она вздохнула с облегчением, потом прикрыла трубку ладонью и хрипло прошептала: — Не исключено, что это ловушка. Слушаю вас, мистер Макданлоп!.. Нет, его здесь нет… Да, думаю, я смогу с ним связаться… Завтра в поддень в «Мартине»… Хорошо, я передам… С кем?.. С кем, с кем? — Она неожиданно повесила трубку. — Грэм, ты завтра обедаешь с Макданлопом. За его счет! Целиком за его счет! — Ее огромные голубые глаза стали еще более огромными и голубыми. — И Реджинальд де Мейстер тоже там будет.
— Какой Реджинальд де Мейстер?
— Твой Реджинальд де Мейстер.
— Мой Реджи…
— Ох, Грэми, не надо. — Глаза Джун затуманились. — Неужели ты не понимаешь, они хотят упечь в психушку нас обоих — и мистер Макданлоп с ними заодно. Наверное, нас посадят в одну палату, обитую войлоком. Ох, Грэми, три человека — это целая толпа.
И она залилась слезами.
Когда Грэм Дорн вошел, Грю Т. Макданлоп («Т», как голословно утверждали злые языки, якобы было сокращением от слова «типчик») сидел за столиком в одиночестве. Факт этот доставил Грэму мимолетное удовольствие.
Источником этого удовольствия, как вы понимаете, послужило не столько присутствие Макданлопа, сколько отсутствие де Мейстера.
Макданлоп взглянул на него поверх очков и проглотил пилюлю от печени — он поглощал их как конфеты.
— Ага. Вот и вы. Что за скверную шутку вы со мной сыграли? Вы не имели права подсылать ко мне этого типа, де Мейстера, не предупредив, что он реален. Я мог бы принять меры предосторожности. Нанял бы телохранителя. Револьвер бы купил.
— Нет никакого де Мейстера! Черт побери! Он наполовину ваша идея.
— Это клевета, — с жаром заявил Макданлоп. — И потом, как это нет? Когда он представился, я принял три пилюли от печени, но он все равно не исчез. Вы представляете себе, что такое три пилюли? Три такие пилюли, которые я принимаю (мой доктор упал бы в обморок), способны заставить испариться целого слона — если он, конечно, не существует. Уж я-то знаю.
— Опять двадцать пять, — устало протянул Грэм. — Он существует только в моем воображении.
— Я знаю, что он существует в вашем воображении. Ваше воображение опасно для общества!
Несколько вежливых возражений, которые одновременно пришли Грэму на ум, он по непродолжительном размышлении отбросил из-за чрезмерного содержания в них крепких англосаксонских выражений. В конце концов — ха-ха! — издатель есть издатель, пусть даже с англосаксонскими корнями.
Вместо этого Грэм сказал:
— Тогда возникает вопрос, как нам избавиться от де Мейстера.
— Избавиться от де Мейстера? — Макданлоп так резко вздрогнул, что очки слетели у него с носа, но он успел подхватить их одной рукой. От волнения у него сорвался голос. — Кто собирается от него избавляться?
— Вы хотите, чтобы он ошивался вокруг?
— Боже упаси, — в промежутке между двумя приступами дрожи сказал Макданлоп. — По сравнению с ним мой шурин — сущий ангел.
— Нечего ему делать за пределами моих книг.
— Как по мне, ему и в ваших книгах делать нечего. После того как я начал читать ваши рукописи, моему врачу пришлось прописать мне вдобавок ко всем моим лекарствам почечные пилюли и сироп от кашля. — Он взглянул на часы и принял почечную пилюлю. — Да я своему злейшему врагу не пожелаю быть книгоиздателем.
— Почему же тогда, — терпеливо спросил Грэм, — вы не хотите избавиться от де Мейстера?
— Потому что он — это имя.
Грэм недоуменно захлопал глазами.
— Смотрите! Кто еще из авторов создал настоящего сыщика? Все остальные — вымышленные. Все это знают. Но ваш — ваш настоящий. Он расследует свои дела, а мы получаем хвалебные рецензии в газетах. Полицейские по сравнению с ним — малые дети. Он…
— Это, — решительно перебил издателя Грэм, — бесспорно, самое непристойное предложение, которое когда-либо оскверняло мой слух.
— Он принесет нам большие деньги.
— Деньги — это еще не все.
— Ну назовите хотя бы одну вещь, которую можно получить без денег… Ш-ш! — Он так пнул Грэма по ноге, что едва не раздробил ему левую лодыжку, и с судорожной улыбкой поднялся. — Мистер де Мейстер!
— Простите, старина, — послышался сонный голос. — Насилу вырвался, представляете. Масса дел. Вы, небось, совсем уже заскучали.
По ушам Грэма Дорна побежали колючие мурашки. Он оглянулся через плечо и шарахнулся, насколько вообще может шарахнуться сидящий человек. Со времени своего последнего появления Реджинальд де Мейстер обзавелся моноклем, и от его одноглазого взгляда в жилах должна была стынуть кровь.
Де Мейстер небрежно приветствовал его.
— Мой дорогой Ватсон! Рад вас видеть. Чертовски счастлив.
— Почему бы тебе не убраться к дьяволу? — поинтересовался Грэм.
— Мальчик мой. Ох, мой мальчик.
— Вот это мне по вкусу, — просипел Макданлоп. — Шутки! Веселье! Сразу на душе радостно становится. Ну, перейдем к делу?
— Непременно. Надеюсь, обед уже на подходе? Тогда я ограничусь только бутылкой вина. Мне как обычно, Генри.
Официант, маячивший неподалеку, стрелой метнулся прочь и вернулся с бутылкой. Пробка была откупорена, и содержимое бутылки с бульканьем полилось в бокал.
Де Мейстер изящно пригубил напиток.
— Как это мило с твоей стороны, приятель, сделать меня завсегдатаем этого славного местечка. Это действует даже сейчас, и это весьма удобно. Все официанты меня знают. Мистер Макданлоп, я так понимаю, вы убедили мистера Дорна в необходимости продолжать серию романов о де Мейстере.
— Да, — сказал Макданлоп.
— Нет, — сказал Грэм.
— Не обращайте на него внимания, — сказал Макданлоп. — Он упрямец. Вы же знаете этих авторов.
— Не обращайте на него внимания, — сказал Грэм. — Он микроцефал. Вы же знаете этих издателей.
— Послушай, дружище. Я так понимаю, Макданлоп не пояснил тебе, чем чревато твое упрямство?
— И чем же оно чревато, остолопище?
— Скажи, твою жизнь никогда не превращали в кошмар?
— Ты имеешь в виду, все время подкрадывались со спины и пугали?
— Дорогой мой мальчик, вот что я тебе скажу. Я совсем не так прост. Я в состоянии превратить жизнь человека в кошмар современными, передовыми методами. К примеру, тебя никогда не оттесняли на второй план?
Он гаденько хихикнул.
Этот смешок показался Дорну очень знакомым. Ну, точно. Страница сто три, «Убийство на выгоне».
«Его ленивые веки сомкнулись и разомкнулись. Он рассмеялся, легкомысленно и звонко, и, хотя он не произнес ни слова, Хэнк Марслау съежился. В этом легкомысленном смешке таилась скрытая угроза и скрытая сила, и дюжий хозяин ранчо почему-то не осмелился потянуться за оружием».
Грэму его смех все еще продолжал казаться гаденьким смешком, но он все равно съежился и не осмелился потянуться за оружием.
В образовавшуюся паузу поспешно вклинился Макданлоп.
— Поймите, Грэм. Зачем шутить с призраками? Призраки не соображают. Они — не люди! Если вы хотите, чтобы вам повысили гонорар…
— Может, хватит уже о деньгах? — вспылил Грэм. — С сегодняшнего дня я намерен писать исключительно великие романы о сильных человеческих чувствах.
Макданлоп неожиданно изменился в лице.
— Нет, — заявил он.
— Между прочим, — сладким, прямо-таки медоточивым голосом заметил Грэм, — у меня тут при себе рукопись. Можете на нее взглянуть.
Он крепко ухватил взмокшего Макданлопа за лацкан пиджака.
— Этот роман — невиданное по силе воздействия произведение. Роман, который потрясет вас до глубины души. Роман, который распахнет перед вами новый мир.
— Нет, — отрезал Макданлоп.
— Роман, который обличает лживость этого мира. Роман, который вскроет правду. Роман…
Макданлоп, который был не в состоянии протянуть руку еще выше, взял рукопись.
— Нет, — повторил он.
— Почему бы, черт вас раздери, вам не прочитать его? — спросил Грэм.
— Прямо сейчас?
— Хотя бы начните.
— Послушайте, а что, если я прочитаю его завтра или даже послезавтра? Сейчас мне нужно принять сироп от кашля.
— За все время, что я здесь, вы ни разу не кашлянули.
— Я немедленно свяжусь с вами…
— Вот, — сказал Грэм, — первая страница. Почему бы вам не начать читать? Мой роман захватит вас в одно мгновение.
Макданлоп пробежал глазами два абзаца и спросил:
— Действие что, происходит в шахтерском городке?
— Да.
— Тогда мне нельзя это читать. У меня аллергия на угольную пыль.
— Но это же не настоящая угольная пыль, Макостолоп.
— То же самое, — напомнил ему издатель, — вы говорили и о де Мейстере.
Знаменитый сыщик осторожно постучал сигаретой по тыльной стороне ладони тем особым жестом, который выдавал внезапную решимость.
— Все эти ваши разговоры — скука смертная. Ходите вокруг да около, как вы выражаетесь. Давайте, мистер Макданлоп, сейчас не время для полумер.
Макданлоп перепоясал воображаемые чресла и произнес:
— Ну ладно, мистер Дорн. Я вижу, вы не цените доброго отношения. Вместо де Мейстера я получаю угольную пыль. Вместо самой широкой известности за последние пятьдесят лет я получаю общественную значимость. Ладно, мистер Умник Дорн. Если через неделю вы не придете со мной к соглашению — замечу, к выгодному соглашению, — то окажетесь в черном списке во всех приличных издательских фирмах Соединенных Штатов и зарубежных стран. — Он погрозил пальцем и зачем-то добавил, сорвавшись на крик: — Включая скандинавские!
Грэм Дорн пренебрежительно рассмеялся.
— Ба! — сказал он. — Напугали! Я состою в Союзе писателей, и если вы только попробуете мной командовать, вы сами у меня в два счета угодите в черный список. Ну, как вам такая перспектива?
— Мне — прекрасно! А вот как запоете вы, когда я докажу, что вы плагиатор?
— Я? — выдохнул Грэм, когда закончил давиться хохотом. — Это я-то, самый оригинальный писатель десятилетия?
— Да неужели? Тогда, может быть, вы припомните, что в каждом вашем романе вы вскользь упоминаете о записных книжках де Мейстера, в которых хранятся его записи по предыдущим делам?
— И что?
— А то, что они у него есть. Реджинальд, мальчик мой, покажите мистеру Дорну вашу записную книжку по вашему последнему делу. Видите? Это «Загадка дорожных столбов», и в ней досконально, во всех подробностях, описано каждое событие вашего романа — и датированы эти записи годом раньше, чем вышла книга. Весьма убедительно.
— Опять-таки, и что?
— Может быть, вы получили право воспроизводить его записную книжку и издавать ее под видом оригинального детективного романа?
— Вы, жертва полиомиелита мозга, эта записная книжка — плод моего воображения.
— Кто это вам сказал? Почерк принадлежит де Мейстеру, это вам любой эксперт подтвердит. Может быть, у вас есть какая-нибудь бумажка, какой-нибудь договор или соглашение, ну, понимаете, что-нибудь, что давало бы вам право пользоваться его записными книжками?
— Как я, по вашему мнению, должен был заключить договор с вымышленным персонажем?
— С каким вымышленным персонажем?
— Мы с вами оба отлично знаем, что никакого де Мейстера не существует.
— Да, но знают ли об этом присяжные? Когда я дам показания, что принял три сильнодействующие печеночные пилюли, а он все равно не исчез, по-вашему, двенадцать человек скажут, что его не существует?
— Это шантаж.
— Несомненно. Даю вам неделю сроку. Или, иными словами, семь дней.
Грэм Дорн в отчаянии обратился к де Мейстеру:
— Ты с ним заодно! Я создал тебя человеком кристальной честности. Это, по-твоему, честно?
Де Мейстер пожал плечами.
— Мой дорогой мальчик. Все это — и вдобавок еще ваша жизнь, превращенная в кошмар.
Грэм поднялся.
— Куда вы?
— Домой, писать вам письмо. — Брови Дорна вызывающе сошлись на переносице. — И на этот раз я его отправлю, будьте уверены. Я не сдамся. Я буду сражаться до последнего человека. А ты, де Мейстер, только попробуй сунуться ко мне со своими привидениями, и я оторву тебе башку и залью кровью весь новый костюм Макданлопа.
Он решительно зашагал к выходу и исчез за дверью, а де Мейстер исчез просто так.
Макданлоп негромко хрюкнул, потом принял печеночную пилюлю, почечную пилюлю и столовую ложку сиропа от кашля — и все это единым духом.
Грэм Дорн сидел в гостиной у Джун; ногти на руках он давным-давно сгрыз и теперь подбирался к костяшкам пальцев.
Джун куда-то вышла, и Грэм был этому рад. Чудесная девушка, просто замечательная, прекрасная девушка. Но в данный момент ему было не до нее.
Сейчас его мысли занимали дурнопахнущие события последних шести дней.
«Слушай, Грэм, я туг вчера столкнулся в клубе с твоим корешем. Ну с этим, де Мейстером. Меня чуть удар не хватил. Я-то всегда считал, что он — выдумка вроде Шерлока Холмса и на самом деле не существует. Один-ноль в твою пользу. Не знал, что… Эй, куда ты?»
«Эй, Дорн, слышал, ваш босс де Мейстер вернулся? Что, скоро можно ждать новых книг? Повезло вам, что есть откуда черпать готовые сюжеты… Э-э… Ладно, до свидания».
«Грэм, дорогой, куда вы запропастились вчера вечером? Вечеринка у Энн забуксовала — вернее, забуксовала бы, если бы не Реджи де Мейстер. Он справлялся о вас; впрочем, думаю, ему было неуютно без своего Ватсона. Наверное, это замечательно — быть Ватсоном при таком… мистер Дорн! И вам всего доброго, сэр!»
«Да, провел ты меня. Я-то думал, ты сам все это выдумал. Что ж, правда иной раз удивительней всякого вымысла, ха-ха!»
«Полицейские чиновники отказываются подтвердить слухи о том, что знаменитый криминолог-любитель Реджинальд де Мейстер заинтересовался этим делом. Связаться с самим де Мейстером, чтобы получить какие-либо комментарии, нашим журналистам не удалось. Мистер де Мейстер стал известен широкой публике, блестяще раскрыв более десятка преступлений, хронику которых запечатлел в виде детективных романов его личный доктор Ватсон, мистер Грэйл Дун».
Грэм содрогнулся; кулаки у него чесались расквасить кому- нибудь нос. Де Мейстер превратил его жизнь в кошмар, и еще в какой! Грэм Дорн потихоньку оказывался в тени своего собственного детища, в точности как тот и пообещал.
Постепенно до Грэма дошло, что настойчивый звон, который он слышит, раздается не у него в голове, а, совсем наоборот, от входной двери. Судя по всему, точно такого же мнения придерживалась и мисс Джун Биллингс, поскольку откуда-то сверху донесся ее пронзительный окрик, больно ударивший Грэма по ушам.
— Эй, бестолочь, открой дверь, пока от этого трезвона не рухнули стены! Я спущусь через полчаса.
— Хорошо, милая!
Грэм прошаркал к двери и открыл ее.
— А, вот ты где. Приветствую, — сказал де Мейстер и протиснулся в переднюю.
Погасшие глаза Грэма зажглись огнем, с губ сорвался звериный рык. Он принял позу гориллы, столь успокоительную для горячих американских мужчин в подобные минуты, и принялся кружить перед слегка озадаченным сыщиком.
— Мой мальчик, ты не заболел?
— Я, — пояснил Грэм, — не заболел, а вот от тебя скоро останутся одни воспоминания, потому что я намерен омыть руки в твоей крови!
— Только не забудь потом хорошенько помыть их с мылом. Иначе они выдадут тебя с головой, верно?
— Хватит острить. Хочешь сказать последнее слово?
— Не особенно.
— Тем лучше. Твое последнее слово меня не интересует.
С этими словами он набросился на злополучного де Мейстера, точно впавший в буйство слон. Де Мейстер плавно переместился влево, выставил вперед руку и ногу, и Грэм описал параболическую дугу, которая завершилась полным разгромом столика, вазы с цветами, аквариума и пятифутового участка стены.
Грэм захлопал глазами и стряхнул с левой брови чересчур любопытную золотую рыбку.
— Мой мальчик, — пробормотал де Мейстер, — ох, мой дорогой мальчик.
Грэм запоздало вспомнил один эпизод из «Парада пистолетов».
«Руки де Мейстера замелькали с головокружительной быстротой, и двумя уверенными молниеносными ударами он сшиб обоих головорезов с ног. Он уложил их наземь благодаря не грубой силе, а своему непревзойденному знанию дзюдо, с такой легкостью, что его дыхание даже не стало ни на йоту чаще. Головорезы застонали от боли».
Грэм застонал от боли.
Он чуть приподнял правое колено, чтобы бедренная кость вернулась на место.
— Может, лучше поднимешься, старина?
— Я останусь здесь, — с достоинством проговорил Грэм, — и буду рассматривать пол с близкого расстояния до тех пор, пока не сочту нужным встать, или до тех пор, пока не буду в состоянии шевельнуть хотя бы одним мускулом. В зависимости от того, что будет раньше. А теперь, пока я не принял к тебе дальнейшие меры, какого дьявола тебе здесь нужно?
Реджинальд де Мейстер отточенным движением поправил монокль.
— Полагаю, тебе известно, что срок ультиматума Макданлопа истекает завтра?
— Надеюсь, и ваш с Макданлопом срок тоже.
— Ты не передумаешь?
— Ха!
— Право, — вздохнул де Мейстер, — все это скучища смертная. Ты позаботился о том, чтобы мне в этом мире было удобно. Ведь в твоих книгах меня прекрасно знают во всех клубах и лучших ресторанах, я закадычный друг мэра и комиссара полиции, владелец роскошных апартаментов на Парк-авеню и великолепной художественной коллекции. И в реальном мире это волшебство никуда не исчезает. Это очень мило с твоей стороны.
— Поразительно, — задумчиво протянул Грэм, — с каким вниманием я тебя не слушаю и как отчетливо не слышу ни единого слова из того, что ты говоришь.
— И все же, — продолжал де Мейстер, — мой книжный мир, без сомнения, подходит мне куда лучше. Он более пленителен, в нем нет скучной логики, и нужды, и житейских невзгод. Словом, нужно вернуть меня обратно, и притом к активной жизни. Сроку тебе до завтра!
Грэм принялся мурлыкать какой-то веселенький мотивчик, время от времени фальшивя.
— Это что, новая угроза, де Мейстер?
— Нет, это старая угроза, только серьезней. Я лишу тебя последних остатков личности. И в конце концов под давлением общественного мнения тебе придется стать, выражаясь твоими же собственными словами, «бессловесной марионеткой де Мейстера». Видел, как эти ребята газетчики сегодня переврали твое имя?
— Я-то видел, мистер Скотина де Мейстер, а вот ты читал статейку на полколонки на десятой странице той же самой газеты? Вот, послушай: «Знаменитый криминалист подлежит призыву на военную службу без ограничений. Призывная комиссия утверждает, что Реджинальд де Мейстер в самом скором времени встанет под ружье».
Некоторое время де Мейстер был молчалив и неподвижен. Затем он последовательно произвел следующие действия: медленно вытащил из глаза монокль, грузно уселся на диван, рассеянно потер подбородок и закурил после долгого и вдумчивого похлопывания сигаретой по тыльной стороне ладони. Зоркое авторское око Грэма Дорна немедленно опознало в каждом из этих телодвижений по отдельности признак глубокого волнения и душевного разлада со стороны его персонажа.
Но никогда, ни в одной из книг на памяти Грэма де Мейстер не проделывал все четыре действия одно за другим.
Наконец де Мейстер заговорил.
— Не понимаю, зачем в последней книге тебе вообще понадобилось ставить меня на воинский учет. Эта тяга вечно и во всем следовать веяниям времени, это дьявольское желание писать на злобу дня — проклятие детективного жанра. Истинный детектив — вне времени, он не должен иметь никакой связи с текущими событиями, не должен…
— Есть только один способ избежать призыва, — перебил его Грэм.
— Если тебе непременно хотелось впихнуть туда что-то про призыв в армию, мог хотя бы написать, что я не годен к службе по какой-нибудь уважительной причине.
— Есть только один способ избежать призыва, — гнул свое Грэм.
— Это преступная халатность, — продолжал де Мейстер.
— Послушай! Возвращайся обратно в книги и можешь не опасаться, что тебя нашпигуют свинцом.
— Напиши эти книги, и я вернусь.
— Подумай о войне.
— Подумай о своем «я».
Два несгибаемых человека сошлись лицом к лицу в поединке характеров (вернее, сошлись бы, если бы Грэм до сих пор не находился в горизонтальном положении), и ни один не желал уступать.
Тупик!
Тут раздался нежный голосок Джун Биллингс и разрядил напряжение:
— Могу я узнать, Грэм Дорн, что вы делаете на полу? Сегодня я уже подметала, и ваши попытки переделать после меня мою работу меня не радуют.
— Я вовсе не подметаю. Если бы ты посмотрела хорошенько, — кротко отвечал Грэм, — то увидела бы, что твой обожаемый жених лежит здесь, жестоко избитый, страдая от невыносимой боли.
— Ты испортил мой диванный столик!
— Я сломал ногу.
— И мою любимую лампу.
— И два ребра.
— И аквариум.
— И кадык.
— И не представил своего друга.
— И шейный позвоно… Какого друга?
— Вот этого.
— Друга! Ха! — Его глаза затуманились. Она слишком юна, слишком хрупка, чтобы сталкиваться с суровой и неприглядной правдой жизни. — Это, — пробормотал он отрывисто, — Реджинальд де Мейстер.
При этих словах де Мейстер ожесточенно переломил сигарету пополам — жест, выдающий глубочайшее волнение.
— Вы… вы совсем не такой, каким я вас себе представляла, — проговорила Джун медленно.
— Не знаю. Просто… не таким — судя по тем историям, что я слышала.
— Вы мисс Биллингс, чем-то напоминаете мне Летицию Рейнольдс.
— Надо полагать. Грэм говорит, он списал ее с меня.
— Жалкое подобие, мисс Биллингс. Поразительно жалкое.
Теперь они стояли почти вплотную, взгляды их были прикованы друг к другу, и Грэм пронзительно вскрикнул. Убийственное воспоминание вдруг всплыло из глубин его памяти, и он подскочил как ужаленный.
Перед глазами у него пронеслись слова из «Дела о запачканной галоше». И из «Убийства в примулах». И из «Трагедии в поместье Хартли». «Смерти охотника», «Белого скорпиона», да и, чтобы не вдаваться в перечиспение, из всех прочих его книг.
Эти слова гласили:
«Де Мейстер обладал бесспорным обаянием, которое неотразимо действовало на женщин».
А Джун Биллингс совершенно определенно была женщиной.
И упомянутое обаяние буквально сочилось у нее из ушей и толстым слоем покрывало пол.
— Выйди из комнаты Джун, — приказал он.
— Не выйду.
— Мне нужно кое о чем потолковать с мистером де Мейстером, наедине, как мужчина с мужчиной.
— Прошу вас, уйдите, мисс Биллингс, — сказан де Мейстер.
Джун поколебалась, потом тонким голоском сказала:
— Ну, хорошо.
— Стой! — крикнул Грэм, — Что это он вдруг раскомандовался тобой? Я требую, чтобы ты осталась!
Она очень аккуратно закрыла за собой дверь.
Двое сошлись лицом к лицу. В глазах обоих сквозило выражение сильного человека, загнанного в угол. То было упорное смертельное противостояние, без пощады, без компромисса. Именно такими ситуациями Грэм Дорн всегда потчевал своих читателей: двое сильных мужчин, соперничающих за одну руку, одно сердце, одну девушку.
— Давай заключим сделку! — произнесли оба хором.
— Ты убедил меня, Реджи, — сказал Грэм, — Мы нужны нашим читателям. Завтра же я начну следующий роман о де Мейстере. Давай пожмем друг другу руки и забудем былые обиды.
Де Мейстера раздирали противоречивые чувства. Он положил руку на лацкан пиджака Грэма.
— Мой дорогой мальчик, твои доводы убедили меня. Я не могу позволить тебе принести себя в жертву ради меня. Ты полон великих замыслов, которые необходимо воплотить в жизнь. Пиши свои шахтерские романы. Вот что действительно важно, а я — нет.
— Не могу, старина. Ты так много для меня сделал и так много для меня значил. Завтра мы с тобой начнем все сначала.
— Грэм, мой… мой литературный отец, я не могу этого позволить. Неужели ты считаешь, что я бессердечный, что я не испытываю к тебе никаких сыновних чувств — в литературном смысле?
— Но война, не забывай о войне. Искореженные тела. Кровь. Все такое.
— Мой долг велит мне остаться. Я нужен моей стране.
— Но если я перестану писать, ты в конце концов прекратишь свое существование. Я не могу этого допустить.
— Ах, это — Де Мейстер с небрежным изяществом рассмеялся. — С недавних пор многое изменилось. Теперь в мое существование верит столько народу, что я крепко утвердился в реальном мире и уже не исчезну. Мне больше не о чем тревожиться.
— Ах вот как! — Грэм стиснул зубы и яростно прошипел: — Так значит, вот что ты затеял, змея подколодная. Думаешь, я не вижу, что ты собрался приударить за Джун?
— Вот что, старина, — высокомерно проговорил де Мейстер. — Я не могу позволить тебе говорить об искренней и чистой любви в таких пренебрежительных выражениях. Я люблю Джун, а она любит меня — я это знаю. И если ты со своими закостенелыми викторианскими взглядами имеешь что-то против, можешь принять побольше нитроглицерина и ударить себя по животу.
— Я тебе покажу нитроглицерин! Я иду домой и сажусь за следующий роман о де Мейстере. Ты будешь в нем главным действующим лицом, и тебе придется в него вернуться. Ну, что ты на это скажешь?
— Ничего, потому что ты не сможешь написать следующий роман о де Мейстере. Теперь я слишком реален и ты больше не властен надо мной, как прежде. И что ты на это скажешь?
Чтобы решить, что он на это скажет, у Грэма Дорна ушла неделя, и результаты этих размышлений, к полному его изумлению, оказались совершенно непечатными.
Их вообще невозможно было каким-либо образом перенести на бумагу.
Нет, его переполняли замыслы великих романов, берущих за душу драм, эпических поэм, блестящих эссе — но о Реджинальде де Мейстере он не мог написать ни слова.
С его пишущей машинки просто-напросто сбежала заглавная «Р».
Грэм плакал, бранился, рвал на себе волосы и мазал кончики пальцев мазью. Он пробовал пустить в ход пишущую машинку, ручку, карандаш, фломастер, уголь и кровь.
Все без толку.
В дверь позвонили, и Грэм распахнул ее.
В переднюю ввалился Макданлоп, запнулся о залежи рваной бумаги и полетел прямо в объятия Грэма.
Дорн не стал его ловить.
— Ха! — с ледяным достоинством сказал он.
— Сердце! — прохрипел Макданлоп и потянулся за печеночными пилюлями.
— Только не вздумайте отдать здесь концы, — любезно предупредил Грэм. — Управдом меня не поймет, если я начну сбрасывать трупы в мусоросжигатель.
— Грэм, мальчик мой, — горячо начал Макданлоп, — больше никаких ультиматумов! Никаких угроз. Я пришел воззвать к вашим лучшим чувствам, Грэм. — Он на миг умолк, сражаясь с одышкой, — Я люблю вас как сына. Этот негодяй де Мейстер должен исчезнуть. Вы должны написать новую книгу о де Мейстере ради меня. Грэм… я должен кое-что рассказать вам, только между нами. Моя жена влюбилась в этого пройдоху. Она говорит, что я неромантичный. Я! Неромантичный! Можете себе представить?
— Могу, — последовал исполненный трагизма ответ. — Все женщины без ума от него.
— С его-то лицом? С этим моноклем?
— Так написано во всех моих книгах.
Макданлоп вскинулся.
— Ага! Опять вы. Бестолочь! Надо же хотя бы иногда думать, что сочиняете!
— Вы сами настаивали. Говорили, что читательницы будут без ума.
Грэму было все равно. Ох уж эти женщины! Он горько усмехнулся. Обаяшку им подавай!
Макданлоп вздохнул.
— Да, читательницы. Куда же без них? Но, Грэм, мне-то как быть? Дело не только в моей жене. Ей принадлежит половина акций «Макданлоп, инк.». Если она уйдет от меня, я потеряю контрольный пакет. Подумайте об этом, Грэм. Это катастрофа для издательского мира.
— Грю, старина. — Грэм издал глубочайший вздох, даже ногти у него на ногах сочувственно завибрировали, — Мы с вами товарищи по несчастью. Представляете, Джун, моя невеста, полюбила этого слизняка. И он тоже полюбил ее, потому что она — прототип Летиции Рейнольдс.
— Какой-какой тип? — переспросил Макданлоп, смутно подозревая какое-то оскорбление.
— Не важно. Моя жизнь погублена, — Он отважно улыбнулся и проглотил недостойные настоящего мужчины слезы; впрочем, первые две слезинки все же успели сорваться с кончика его носа.
— Мой бедный мальчик! — Издатель судорожно стиснул руки Дорна.
— Загнанный в угол этим бездушным чудовищем, — сказал Грэм.
— Угодивший в капкан, как немцы в России, — подхватил Макданлоп.
— Жертва адского коварства, — всхлипнул Грэм.
— Именно, — Макданлоп оглаживал Грэму руку такими движениями, как будто доил корову, — Вы должны продолжить писать книги о де Мейстере чтобы он вернулся обратно в ад, где ему самое место. Верно?
— Верно! Но тут есть одна загвоздка.
— Какая?
— Я не могу писать. Теперь он настолько реален, что я не могу затолкать его обратно в книгу.
Тут-то Макданлоп понял, откуда на полу взялись груды изорванной бумаги. Он схватился за голову и простонал:
— Моя жена! Моя корпорация!
— Остается еще армия, — напомнил Грэм.
Макданлоп поднял глаза.
— А «Смерть на третьей палубе», рукопись, которую я отправил вам на доработку три недели назад?
— Не считается. Это в прошлом. Она уже повлияла на него.
— Но она же не была опубликована?
— Все равно. Именно в ней я упомянул о призывной комиссии. Ну, там, где они признали, что он может идти в армию.
— О, у меня бы он пошел куда подальше.
— Макданлоп! — Грэм Дорн подскочил и ухватил издателя за лацканы. — Может быть, у меня получится внести в рукопись кое-какие исправления.
Макданлоп надрывно закашлялся и слабо захрипел.
— Можно вставить в рукопись что угодно.
Макданлоп начал задыхаться.
— Мы еще можем все исправить.
Макданлоп посинел.
Грэм тряхнул лацкан и все прочее, что к нему прилагалось.
— Может, скажете хотя бы что-нибудь?
Макданлоп вырвался и проглотил ложку сиропа от кашля. Потом прижал руку к сердцу и слегка похлопал по груди. Попгом покачал головой и пошевелил бровями.
Грэм пожал плечами.
— Ладно, не хотите разговаривать — не разговаривайте. Я сам все исправлю, без вас.
Он отыскал рукопись и опасливо примерился к пишущей машинке. Пальцы исправно шевелились и почти не скрипели в суставах. Грэм застучал по клавишам быстрее, еще быстрее, пока не набрал свою обычную скорость. Машинка весело стрекотала, над ней вилось привычное облачко беловатого дыма.
— Получается! — воскликнул он. — Я не могу писать новые книги, но могу вносить исправления в старые, неопубликованные!
Макданлоп склонился над его плечом. Он то и дело забывал дышать.
— Быстрее, — подгонял его Макданлоп, — быстрее!
— Я и так еду тридцать пять миль в час, — строго сказал Грэм. — Быстрее не положено. Еще пять минут.
— А он точно там будет?
— Он постоянно у нее торчит. На этой неделе ни одного вечера не пропустил. — Дорн сплюнул мелкое крошево, в которое уже стер все передние зубы от постоянного ими скрежетания. — Но помоги вам бог, если ваша секретарша не оправдает наших надежд.
— Мальчик мой, уж на мою-то секретаршу ты можешь положиться.
— Исправленную рукопись нужно прочесть до девяти часов.
— Если ее не настигнет скоропостижная смерть, она ее прочтет.
— С моей-то везучестью скоропостижная смерть непременно ее настигнет. А она поверит?
— Каждому слову. Она же видела де Мейстера. Она знает, что он существует.
Взвизгнули тормоза, и сердце у Грэма облилось кровью от жалости к каждой молекуле резины, которая стерлась с шин.
Он взбежал по лестнице. Макданлоп поковылял следом.
Дорн нажал на кнопку звонка и ворвался в дом. Реджинальд де Мейстер, который стоял прямо за дверью, едва не получил указующим перстом своего создателя прямо в глаз, и лишь скорость реакции спасла его от превращения в мифического одноглазого героя.
Чуть поодаль стояла Джун Биллингс, молчаливая и смущенная.
— Реджинальд де Мейстер, — зловещим тоном пророкотал Грэм, — настал ваш последний час.
— Ох, мальчик мой, — сказал Макданлоп, — у вас все получится.
— Чем, — поинтересовался де Мейстер, — я обязан столь драматическому, хотя и туманному заявлению? Я, знаете ли, в недоумении.
Он изящным жестом закурил и улыбнулся.
— Привет, Грэми, — боязливо поздоровалась Джун.
— Изыди, коварная.
Джун засопела. Она чувствовала себя будто какая-нибудь книжная героиня, раздираемая противоречивыми чувствами. Естественно, она упивалась всем происходящим.
Поэтому она дала волю слезам и сделала несчастное лицо.
— Возвращаясь к нашему разговору, — устало спросил де Мейстер, — из-за чего весь сыр-бор?
— Я переписал «Смерть на третьей палубе».
— И?
— Исправленный вариант, — продолжал Грэм, — в настоящее время находится в руках секретарши Макданлопа, девушки в стиле мисс Биллингс, моей бывшей невесты. То есть она из тех девушек, которые стремятся к состоянию идиотки, но пока еще его не достигли. Она поверит в каждое слою.
— И?
Голос Грэма стал угрожающим.
— Возможно, ты припомнишь некую Санчу Родригес?
Впервые за все время Реджинальд де Мейстер содрогнулся.
Сигарета выпала у него изо рта, но он поймал ее.
— Ее убил Сэм Блейк в шестой главе. Она была в меня влюблена. Право же, старина, вечно ты втравливаешь меня во всякие переделки.
— Погоди, ты еще узнаешь, что такое настоящая переделка, приятель. В исправленном варианте Санча Родригес не умерла.
— Умерла?! — послышался пронзительный, но отчетливый женский голос. — Я ему покажу «умерла»! Где тебя носило целый месяц, ты, изменный коварщик?
На этот раз де Мейстер не поймал свою сигарету. Даже не попытался. Он узнал гостью. Для стороннего наблюдателя, возможно, это и была обычная грациозная латиноамериканка с темными сверкающими глазами и длинными поблескивающими ногтями, но для де Мейстера это была Санча Родригес — восставшая из мертвых!
Секретарша Макданлопа прочла и поверила.
— Мисс Родригес, — залепетал де Мейстер, — как восхитительно вас видеть.
— Я тебе не мисс Родригес, а миссис де Мейстер, ты, изменный коварщик, подонный презренок, грязная сколопендра! И кто эта женщина?
Джун с достоинством отступила за ближайший стул.
— Миссис де Мейстер, — жалобно протянул Реджинальд и беспомощно обернулся к Грэму Дорну.
— Ах, ты уже и думать обо мне забыл, да, вероломный обольститель, подлая собака? Я покажу тебе, как обманывать слабую женщину! Я тебя своими руками в порошок сотру!
Де Мейстер принялся яростно отпираться.
— Но, золотко…
— Какое я тебе золотко? Что ты делаешь с этой женщиной?
— Но, золотко…
— Я не Желаю слушать твои оправдания. Что ты делаешь с этой женщиной?
— Но, золотко…
— Заткнись! Что ты делаешь с этой женщиной?
Реджинальд де Мейстер был загнан в угол, и миссис де Мейстер погрозила ему кулаком.
— Отвечай!
Де Мейстер исчез.
— Миссис де Мейстер исчезла сразу же после него.
Джун Биллингс залилась настоящими слезами.
Грэм Дорн скрестил руки на груди и строго посмотрел на нее.
Макданлоп потер ручки и принял почечную пилюлю.
— Я ни в чем не виновата, Грэми, — сказала Джун. — Ты сам писал в своих книжках, что все женщины от него млели, так что я ничего не могла поделать. В глубине души я все это время ненавидела его. Ты ведь веришь мне, правда?
— Поверил я тебе, как же! — проворчал Грэм и уселся рядом с ней на диван. — Как же. Но я прощаю тебя, так и быть.
Макданлоп проговорил срывающимся голосом:
— Мой мальчик, ты спас мои акции. И мою жену, разумеется. И не забудь — ты обещал мне писать по одному роману о де Мейстере в год.
Грэм скрипнул зубами.
— Всего по одному, и его жена будет запиливать его до смерти, а я всегда буду держать про запас одну неопубликованную книгу — на всякий случай. Да, и вы ведь издадите мой роман, правда, старина Грю?
— Гхм, — сказал Макданлоп.
— Издадите?
— Да, Грэм. Конечно, Грэм. Разумеется, Грэм. Безусловно, Грэм.
— А теперь оставьте нас. Я намерен обсудить с моей невестой важные дела.
Макданлоп улыбнулся и на цыпочках вышел за дверь.
«Ах, любовь, любовь», — вздохнул он про себя и, проглотив свою печеночную пилюлю, запил ее сиропом от кашля.
Отцы-основатели
Первоначальное стечение катастрофических обстоятельств произошло пять лет назад, то есть с тех пор безымянная планета, обозначенная на картах аббревиатурой ХС-12549Д, совершила пять оборотов, что соответствовало одиннадцати годам по земному летоисчислению.
Впрочем, ни у кого из пятерых членов экипажа «Странника Джона» не возникало желания производить эти подсчеты.
Если бы на Земле знали, чем они здесь занимаются, их деятельность была бы названа героической, достойной упоминания в анналах Космической службы. Еще бы, на протяжении пяти лет (по земному летоисчислению — одиннадцати!) они вели отчаянную борьбу с атмосферой планеты.
И вот трое умерли, у четвертого уже желтели белки, что являлось несомненным признаком смертельного заболевания, и только пятый еще держался на ногах.
Никакого героизма тут не было. На самом деле они боролись с тоской, с ощущением полнейшей безысходности и создали в своем металлическом пузыре-бункере подобие земного образа жизни лишь по той единственной причине, что ничего другого им просто не оставалось.
Если кто-нибудь из пятерых и вдохновлялся возвышенными идеями, то предпочитал об этом помалкивать. Возможность возвращения на Землю они перестали обсуждать уже через год, а к исходу второго и само слово «Земля» исключили из речевого обихода.
Зато другое слово постоянно присутствовало в их разговорах. Даже когда они молчали, каждый мысленно повторял его по нескольку раз на дню. И это слово было «аммиак».
Впервые оно прозвучало тогда, когда их заботило только одно: как посадить свою раздолбанную жестянку на поверхность ХС-12549Д и при этом остаться в живых.
Да, можно предусмотреть любую аварию, любую из возможных поломок и ошибок. Можно предполагать, что их будет несколько. Но предусмотреть такое?..
Из-за вспышки сверхновой спеклась электроника. Ладно, это дело поправимое — было бы время. Метеорит угодил в клапан фидера — тоже не смертельно: клапан можно заменить, было бы время. Рассчитали траекторию с недостаточной поправкой на действие гравитационных сил, в результате корабль получил такое ускорение, что полетела к чертям гиперантенна, а все пятеро потеряли сознание… Но, придя в себя, они сумели бы поставить новую гиперантенну — было бы время!
Кажется невероятным, чтобы вышеперечисленные беды могли обрушиться на экипаж «Странника Джона» одновременно. Еще труднее вообразить, что весь этот кошмар случится в момент фантастического по трудности приземления, когда им будет не хватать как раз самого необходимого для устранения любой неполадки — времени.
Экипаж «Странника» попал именно в такой переплет и все-таки ухитрился совершить посадку на планету ХС-12549Д. Правда, лишь для того, чтобы уже больше никогда не подняться с ее поверхности.
Собственно, тот факт, что им удалось приземлиться, сам по себе являлся чудом. Судьба, однако, подарила каждому из них (словно в насмешку) еще по пять лет жизни.
Обнаружить их здесь мог только сбившийся с курса корабль, но шансов на это было мало. Вернее, вообще никаких. После такого количества приключившихся с ними бед рассчитывать на счастливую случайность уже не приходилось.
Да, плохи были дела у экипажа «Странника Джона». Но главная причина бедственного их положения объяснялась одним коротким словом «аммиак»
…Глядя, как приближается по спирали поверхность планеты, глядя в лицо смерти, каковая была так близко, как никогда прежде, и явилась бы для них воистину проявлением милосердия со стороны судьбы, (если бы наступила мгновенно, а не растянулась на годы), Чоу успел-таки краем глаза заметить, что абсорбционный спектрограф зашкаливает.
— Аммиак! — воскликнул он.
Остальные слышали его, но им было некогда задумываться над тем, что означает восклицание, перед ними стояла задача посадить корабль, посадить хотя бы лишь для того, чтобы мгновенная гибель превратилась для них в медленное умирание.
Но когда они наконец сели на песчаный грунт, поросший скудной голубоватой (голубоватой?) растительностью: травой, похожей на осоку, и чахлыми безлиственными деревцами, и увидели над собой зеленоватое (зеленоватое?) небо, покрытое перистыми облачками, это слово прозвучало вновь.
— Аммиак? — с трудом выдавил Петерсен.
— Четыре процента, — ответил Чоу.
— Не может быть!
Но так было. И справочники подтверждали, что это возможно. В справочниках Космической службы говорилось, что на планете с определенной массой, объемом и температурой при наличии на ее поверхности океана возможен один из двух видов атмосферы: либо азотно-кислородная, либо состоящая из азота и двуокиси углерода. В первом случае жизнь на такой планете способна развиваться, во втором — остается на примитивном уровне.
Увы, о планетах типа ХС-12549Д ничего не было известно, кроме трех параметров — массы, объема и температуры. Предполагалось, что атмосфера на них либо азотно-кислородная, либо состоит из азота и двуокиси углерода. Правда, в справочниках не указывалось, что на ХС-12549Д должен быть обязательно один из этих двух видов атмосферы. Просто на ранее открытых планетах было так, но с точки зрения термодинамики допускались отклонения. То есть теоретически они были возможны, практически же — маловероятны.
И вот экипажу «Странника» суждено было остаток своих дней провести на планете с атмосферой, о которой в справочниках не было ни слова.
Они переоборудовали корабль в бункер и постарались максимально приблизить условия жизни к земным. Взлететь они не могли, не могли даже послать через гиперпространство сигнал о помощи, но в остальном дела обстояли несколько лучше. Например, используя фильтры, им удавалось за счет воды и воздуха планеты компенсировать неизбежные потери, возникающие при замкнутых циклах очистки.
Они выходили из бункера — скафандры, слава Богу, остались целы. Надо же было хоть чем-то себя занять. На планете отсутствовала какая бы то ни было фауна, поэтому выход на поверхность не грозил опасностью встречи с хищными животными. Куда ни кинь взгляд — одни лишь синие кустарники. Аммонизированный хлорофилл, аммонизированный протеин.
Они подвергали местную растительность лабораторному анализу, изучали микроскопические компоненты, тщательно фиксируя результаты своих исследований. Затем попытались выращивать эти растения в искусственной атмосфере, лишенной аммиака, и потерпели неудачу. На некоторое время им пришлось стать геологами — они исследовали поверхностные отложения и состав почвы. Также им потребовалось применить свои познания в астрономии, чтобы сделать спектральный анализ солнца, сиявшего над ХС-12549Д.
Барэр говорил:
— Когда-нибудь люди вспомнят об этой планете, и тогда собранные нами материалы пригодятся. Что ни говори, а она уникальна, эта ХС-12549Д. Во всей Галактике не найти аналога…
— Нам повезло, — горько усмехаясь, откликался Сандропулос. Он просчитал термодинамическую ситуацию и объяснил товарищам: — В этой сверхстабильной системе происходит постоянная геохимическая реакция окисления аммиака, в результате которой он разлагается, возникает азот. Растительность усваивает азот, и аммиак восстанавливается. Эти растения адаптировались к его присутствию в атмосфере. Если уровень восстановления аммиака упадет до двух процентов, то содержание его в атмосфере будет экспоненциально убывать. А когда здешняя растительная жизнь зачахнет, тогда восстановление аммиака вообще прекратится.
— Так ты предлагаешь уничтожить растительность, чтобы избавиться от аммиака? — спросил Власов.
— Будь у нас какое-нибудь воздушное средство передвижения и запас мощной взрывчатки, мы могли бы попытаться это сделать, — ответил Сандропулос. — Нет, я имею в виду другое. Вот если здесь приживутся земные саженцы, тогда благодаря фотосинтезу образование кислорода в атмосфере повысит уровень окисления аммиака, а это в свою очередь несколько уменьшит его содержание в атмосфере данного региона. Рост наших растений приведет к задержке роста местной флоры. Восстановление аммиака замедлится — ну и так далее…
И вот с наступлением вегетационного сезона члены экипажа «Странника Джона» сделались огородниками, что, впрочем, обычно в практике Космической службы. На таких планетах, как ХС-12549Д, жизнь возможна только водно-протеинового типа, хотя варианты ее могут быть бесконечны. Пища, которую удается получить из растений, произрастающих на подобных планетах, малопитательна и неудобоварима. Космическая служба научилась со временем выращивать там земные растения. Часто, хотя далеко не всегда, местную флору удавалось победить. Таким образом земляне сделали несколько десятков планет пригодными для заселения. Существовали уже сотни сортов, способных выживать в экстремальных условиях. Именно они использовались для засевания новооткрытых планет. Аммиак убил бы обычное земное растение, однако в распоряжении экипажа «Странника Джона» были семена мутированных сортов, способные противостоять воздействию аммиака. Правда, силы им все равно не хватало. Ростки получались хилыми и вскоре погибали.
И все же с растениями дело обстояло не так плохо, как с бактероидами. Бактериальная жизнь планеты несравненно превосходила растительную, каковая представляла собой лишь синие скудные кустарники и безлиственные деревца. Зато местные микроорганизмы своим количеством и разнообразием видов подавляли любые попытки засеять почву образцами земной бактериальной флоры, способными помочь выживанию земных растений.
Власов сокрушенно качал головой:
— Ничего у нас не выйдет. Наши бактерии выживут лишь в том случае, если приспособятся к этой атмосфере.
— Да, от бактерий мало проку, — соглашался Сандропулос. — Только растения создадут систему, производящую кислород.
— Мы и сами можем ее создать, — возразил Петерсон. — Мы можем электролизовать воду.
— Но надолго ли хватит нашего оборудования? Нет, главное, чтобы прижились саженцы, тогда процесс фотосинтеза потихоньку-помаленьку, в течение какого-то количества лет даст желаемые результаты.
— Значит, надо заняться почвой, — сказал Барэр. — В почве разлагаются соли аммония. Мы выпарим их, и она станет пригодной для наших растений.
— А как насчет атмосферы? — спросил Чоу.
— В очищенной от аммония почве саженцы приживутся несмотря на атмосферу. У них это уже почти получается.
И люди продолжали бороться. Они работали упорно, хотя не слишком верили в то, что их усилия увенчаются успехом. Уж во всяком случае никто из них не надеялся дожить до того дня, когда можно будет отпраздновать победу. Просто за работой время шло незаметнее.
К следующему вегетационному сезону удалось подготовить участок для эксперимента. И снова их ждало разочарование. Растения все равно погибали.
Тогда каждый росток они поместили в стеклянный колпак и закачивали туда очищенный от аммиака воздух. Но это лишь незначительно помогало растениям.
Люди перепробовали разнообразные составы почвы и в самых различных комбинациях. Все было тщетно. Ростки выделяли так мало кислорода, что его не хватало даже на то, чтобы бороться с тем количеством аммиачной атмосферы, которое все же просачивалось внутрь стеклянных колпаков.
— Еще одно усилие, — говорил Сандропулос. — Еще чуть-чуть. Мы почти добились своего. Осталось немного.
Но их инструменты все больше приходили в негодность, а отпущенное время стремительно сокращалось. С каждым месяцем его становилось все меньше.
И внезапная смерть явилась для них облегчением. Они не могли понять, откуда эта слабость и отчего у них кружится голова. Никто из членов экипажа не подозревал, что возможно аммиачное отравление. Ведь все эти годы пищей им служили водоросли, которые они выращивали в уцелевших после кораблекрушения узлах гидропонной установки. И вот то ли свойства водорослей из-за проникновения аммиака в питательный раствор изменились, то ли в них попали какие-то местные бактерии… Также не исключалась вероятность, что земные бактерии в новых условиях мутировали и сделались опасными для жизни людей.
Итак, трое умерли — к счастью, без мук. Они приняли смерть почти с радостью, ибо устали от бесплодной борьбы.
А потом пришел день, когда и Чоу прошептал еле слышно:
— Какая глупая и жалкая смерть.
Петерсон — он оказался наименее восприимчив к болезни — повернул к товарищу залитое слезами лицо.
— Не умирай, — сказал он. — Не оставляй меня одного.
Чоу слабо улыбнулся:
— Это от меня не зависит. Но ведь ты можешь пойти со мной, старина. Дальше бороться бессмысленно. Оборудование вышло из строя, и надежды победить у нас нет, если она вообще была когда-нибудь.
Но даже теперь Петерсону была нестерпима мысль о поражении. Он думал только о том, как завершить начатое.
Он тоже очень устал, у него болело сердце, и, когда Чоу умер, Петерсону впервые пришло в голову, что ему и впрямь осталось единственное: заняться погребением четырех бездыханных тел.
Он смотрел на эти тела, и впервые за одиннадцать лет вспоминал Землю. Теперь он был один, ему некого было стесняться, и он плакал.
Да, он похоронит их. Он срубит несколько чахлых синих деревьев и сколотит из них четыре креста. На верхушку каждого повесит шлем, а в подножие поставит кислородный баллон. Пустой кислородный баллон. Как символ их поражения.
Конечно, все это глупые сантименты. Мертвым безразлично, помнят о них или нет. Кроме него никто никогда эти кресты не увидит.
Но он сделает это, чтобы отдать дань уважения своим товарищам. А также из чувства собственного достоинства, ибо он не из тех, кто бросает тела друзей непогребенными, пока еще способен держаться на ногах. А помимо всего прочего…
Некоторое время Петерсон сидел неподвижно, предаваясь раздумьям. Пока он еще жив, он будет бороться, пусть даже теми инструментами, какие у него остались. И друзей своих похоронит, чего бы это ему ни стоило.
Он похоронил их на подопытном участке. Земля, которую он вместе с товарищами обрабатывал так долго и мучительно, приняла нагие тела. Он похоронил друзей нагими для того, чтобы микроорганизмы, содержащиеся в их телах, успели начать процесс разложения, прежде чем их неизбежно победит местная микрофлора.
Он сделал все, как задумал: на верхушке каждого креста — шлем, у подножия — баллон. Укрепил кресты камнями и, безутешный, вернулся на корабль, где ему предстояло жить уже в одиночестве.
Петерсон продолжал работать и работал ежедневно, но в конце концов почувствовал зловещие симптомы болезни.
В этот день он с трудом поднялся на ноги. Он облачался в скафандр, уже понимая, что этот его выход на поверхность — последний.
Придя на подопытный участок, он упал на колени и… и вдруг увидел, что земные саженцы живы! Да-да, на этот раз они жили дольше обычного и выглядели свежими и сочными. Они зелеными пятнами тут и там покрывали почву. Они все-таки победили атмосферу планеты.
Тогда Петерсон посыпал почву подопытного участка удобрениями. Больше у него уже ни на что сил не оставалось.
Разлагающаяся человеческая плоть выделила питательные вещества, необходимые для роста саженцев. Именно они, эти вещества, довершили работу, начатую людьми. Живыми людьми.
Саженцы вырабатывали теперь кислород в таком количестве, что Петерсон не сомневался: планета ХС-12348Д выйдет в конце концов из эволюционного тупика, в котором пребывала доныне.
Если когда-нибудь сюда прилетят земляне (когда? через миллион лет?), они обнаружат здесь пригодную для жизни атмосферу и растительность, удивительно напоминающую земную.
Со временем кресты, конечно, сгниют и рассыплются в прах, проржавеет насквозь и станет пылью металл баллонов и шлемов, а кости превратятся в окаменелости. Земляне, которые заселят планету, будут лишь смутно догадываться о том, что здесь когда-то произошло. Может быть, для потомков сохранятся только материалы исследований, которые экипаж «Странника Джона» вел до последнего дня.
Но не в этом главное. Даже если вообще ни следа от них не останется, сама планета отныне и навсегда будет им памятником.
Умирающий Петерсон лежал среди зеленых растений, как бы осененный лаврами их общей победы.
Ссылка в ад
— Русские, — сказал Даулинг сухо, — ссылали каторжников в Сибирь. Французы отправляли их на остров Дьявола, а англичане — в Австралию. Это было давно, задолго до освоения космического пространства.
Он в задумчивости посмотрел на шахматную доску, его рука неуверенно повисла над столом.
Паркинсон, по другую сторону доски, тоже смотрел на фигуры, но шахматы, профессиональное хобби всех программистов, сейчас нисколько его не занимали.
«Ей-богу, — думал он с раздражением, — я бы на месте Даулинга чувствовал себя не в своей тарелке. Как-никак именно ему было поручено разрабатывать программу обвинения».
Известно, что программисты, постоянно имея дело с компьютером, в конце концов начинают напоминать его иными чертами характера, в частности своей бесстрастностью, невосприимчивостью к любым доводам, за исключением логических.
У Даулинга это проявлялось также в его безукоризненном проборе и сдержанно элегантном костюме. А вот Паркинсон, предпочитавший на судебных процессах разрабатывать программу защиты, был, напротив, всегда нарочито небрежен в деталях одежды.
— Ты хочешь сказать, — откликнулся он, — что ссылка — наказание столь древнее, что никого уже не пугает?
— Как раз наоборот. Это проверенная временем мера, а в наши дни она сделалась просто-таки эффективнейшим средством устрашения, — ответил Даулинг, не отрывая взгляд от доски. Он все-таки двинул вперед слона.
Паркинсон непроизвольно поднял голову и посмотрел вверх. Разумеется, ничего, кроме потолка, он не увидел, ведь они находились в помещении. Все здесь было наилучшим образом приспособлено для того, чтобы удовлетворить любые человеческие потребности и максимально защитить людей от воздействия внешней среды. Ведь там, снаружи, полыхала звездным огнем космическая ночь.
Когда он последний раз видел ту планету? Не так уж и давно. Интересно, в какой она сейчас фазе? В первой четверти? Или сияет во всей своей красе? Или, подобная голубоватому ногтю, низко висит над горизонтом? Ничего не скажешь, смотрится она красиво. Вернее, смотрелась когда-то, несколько столетий назад, когда космические путешествия стоили дорого и совершались крайне редко, а условия жизни на планетах еще не были связаны с использованием сложнейшего технического оборудования и не контролировались столь тщательно. В настоящее время один вид той планеты наполняет душу ужасом, словно в небесах вращается тот самый пресловутый остров Дьявола. Из отвращения никто не называет ее по имени. Когда о ней заходит речь, говорят просто «она» или молча поднимают голову и многозначительно смотрят в потолок.
— Ты мог бы позволить мне разработать аргументацию против ссылки как единственно возможной меры…
— Зачем? На решение суда это все равно не повлияло бы.
— Сегодня, может, и не повлияло бы. Но в будущем? В будущем наказания за подобные преступления, несомненно, должны стать менее суровыми. Ссылку будут заменять смертной казнью.
— За порчу оборудования? И не мечтай.
— Но ведь он действовал в состоянии аффекта. Не спорю, налицо попытка нанести вред человеческому существу. Однако намерения портить оборудование у него не было.
— Это ничего не меняет. В данном случае отсутствие намерения не является смягчающим обстоятельством.
— А я считаю, что является, и именно эту точку зрения заложил в программу. Паркинсон, двинув пешку, защитил своего коня. Даулинг задумался.
— Ты все-таки решил атаковать ферзя. Нет, я тебе этого не позволю. Посмотрим, кто кого, — размышлял он вслух, а потом вернулся к предмету их разговора: — Мы не в каменном веке, Паркинсон. Мы живем в перенаселенном мире, и даже такой, по видимости, пустяк, как поломка консистора, может поставить под угрозу жизнь значительной части населения. Да, он действовал в состоянии аффекта, но в результате отключилась линия энергопитания, а это уже не шутка.
— Я же его не оправдываю.
— Судя по тому как ты разработал свою программу, у меня складывается обратное впечатление.
— Ничего подобного. Послушай, когда по вине Дженкинса лазерный луч нарушил структуру поля, я подвергался такой же опасности, как и остальные. Еще пятнадцать минут — и всем нам была бы крышка. Я прекрасно это понимаю, и все же настаиваю на том, что ссылка — наказание чрезмерное.
Для вящей убедительности Паркинсон постучал пальцами по доске — Даулинг придержал ферзя, чтобы тот не упал.
— Не считай это ходом, — предупредил он, переводя в нерешительности взгляд с фигуры на фигуру. — Нет, Паркинсон, ты ошибаешься. Именно такое наказание в полной мере соответствует преступлению, хуже которого и быть ничего не может. Сам посуди, наша жизнь здесь зависит от чрезвычайно хрупкой технологии. Авария могла всех нас обречь на гибель, и неважно, произошла она вследствие злого умысла, из-за недостатка опыта или по небрежности. Общество хочет чувствовать себя в безопасности и поэтому требует, чтобы подобные преступления карались предельно сурово. Страх перед смертной казнью преступника не остановит.
— Смерти все боятся.
— Но ссылка еще страшнее. Вот почему столь тяжкое преступление случилось за десять лет впервые. А ну-ка, что ты на это скажешь? — Даулинг переставил свою ладью на одно поле вправо от ферзя.
Замигал сигнальный свет. Паркинсон вскочил из-за стола.
— Конец программы! Сейчас компьютер вынесет решение! Даулинг невозмутимо взглянул на него:
— Ты все еще надеешься, что Дженкинсу смягчат приговор? Не убирай фигуры, после доиграем.
Паркинсон и не думал продолжать игру. Ноги сами понесли его по коридору в направлении зала судебных заседаний. Когда они вошли, судья уже занял свое место. Через минуту два охранника привели обвиняемого.
С того момента когда Дженкинс в приступе слепой ярости набросился с кулаками на сослуживца и при этом локтем зацепил рубильник — отключилась линия энергопитания целого сектора! — у него не было иллюзий относительно последствий, каковые повлечет за собой это тягчайшее из всех преступлений. Он был явно подавлен, хотя изо всех сил старался не подавать виду.
А вот Паркинсон не умел скрыть своего волнения. Он боялся встретиться с Дженкинсом взглядом. Ему даже представить было страшно, что сейчас творится у того на душе. Быть может, бедняга пытается всеми своими пятью чувствами воспринять напоследок прелесть этого уютного мира, с жадностью вдыхая ароматизированный воздух, наслаждаясь мягким, ласкающим глаз освещением? Быть может, ему хочется запомнить навсегда все блага и преимущества технократической цивилизации (ровная комнатная температура, чистейшая вода по первому требованию и так далее и тому подобное), предназначенные поддерживать прирученное человечество в состоянии эмоциональной спячки? Ведь на той планете.
Судья нажал на кнопку, и специальное устройство в компьютере произнесло официально-бесстрастным, но вполне человеческим голосом:
— Суд рассмотрел обстоятельства дела. На основании имеющихся прецедентов и в соответствии с законами данного региона Энтони Дженкинс признан виновным по всем пунктам обвинения и приговаривается к высшей мере наказания.
В зале находились только шестеро, но телевидение, разумеется, транслировало процесс для всего населения.
Теперь, используя предписанную терминологию, говорил уже сам судья:
— Осужденного доставят в космопорт, откуда он первым же транспортом будет отправлен в пожизненную ссылку.
Дженкинс вздрогнул, но не произнес ни слова. Паркинсон содрогнулся. «Многие ли из нас, — подумал он, — сознают чудовищную несоразмерность этой кары по сравнению с проступком Дженкинса? Когда же люди станут настолько человечны, чтобы отменить наказание ссылкой? Неужели кто-то из телезрителей способен сейчас без угрызений совести смотреть на несчастного, которому до конца своих дней суждено мыкаться на той планете среди странных, злобных существ и вдобавок в совершенно кошмарных условиях: ярко-синее, даже глазам больно, небо и ядовито-зеленая трава, днем невыносимая жара, ночью лютый холод и бурные порывы пыльного ветра, и всегда неспокойный океан?.. И вечная тяжесть в ногах, руках, во всем теле, обусловленная силой притяжения! Нет, невозможно смириться с этим ужасным приговором, обрекшим одного из нас, какова бы ни была его вина, покинуть Луну, ставшую обжитым и уютным домом, и жить отныне в аду. То есть на планете Земля.
Водный гром
Стивен Демерест смотрел на плотную небесную твердь. Смотрел долго и нашел ее голубизну мутной и омерзительной.
Машинально взглянув на солнце — позабыв, что здесь нет никаких затенителей, — он в панике зажмурил глаза. Но его не ослепило; перед глазами просто поплыли светящиеся круги. Даже солнце тут было размытое.
Ему невольно вспомнилась молитва Аякса из Гомеровской «Илиады». Греки с троянцами сражались за тело Патрокла в тумане, и Аякс взмолился: «Зевс, наш владыка, избавь аргивян от ужасного мрака! Дневный свет возврати нам, дай нам видеть очами! И при свете губи нас, когда уже так восхотел ты!». «И при свете губи нас», — подумал Демерест.
— Что ж, добро пожаловать на борт. — Перевозчик посторонился, пропуская Демереста к сходням. — Я бы лично на Луну ни в жизнь не полетел.
— А туда, в Океанскую Впадину, спускались?
— Раз пятьдесят, не меньше. Но это другое дело. Демерест зашел в гондолу. Там было тесно, но к тесноте ему не привыкать. И вообще, похоже на космический модуль, разве что более… плотный. Опять это слово. Здесь во всем явственно ощущалось, что масса не имеет значения. Массу принимали как должное, с ней не приходилось бороться.
Батискаф еще не ушел под воду. Толстое стекло придавало голубому небу зеленоватый оттенок.
— Пристегиваться не обязательно, — сказал Яван. — Никаких перегрузок не будет. Пойдем вниз ровненько, как по маслу. Дорога займет не больше часа. Но курить нельзя.
— Я не курю, — сказал Демерест.
— Надеюсь, вы не страдаете клаустрофобией?
— У лунян клаустрофобии не бывает.
— Но у вас же кругом открытое…
— Только не в нашей пещере. Мы живем… — Он замешкался, подыскивая слово. — …в лунной впадине, на глубине сотни футов.
— Сотни футов! — Перевозчика, похоже, это позабавило, но он не улыбнулся. — Начинаем погружение.
Стены внутри гондолы были с углами, но часть стены за приборами выдавала ее изначальную сферичность. Приборы казались продолжением тела Явана; его глаза и руки порхали над ними легко, почти любовно.
— Все уже проверено, — сказал он, — но я люблю напоследок убедиться. Внизу, как-никак, тысяча атмосфер.
Палец коснулся кнопки, и круглый массивный люк наглухо закрылся, войдя скошенным краем в стенное отверстие.
— Чем больше давление, тем крепче его прижимает, — сообщил Яван. — Бросьте последний взгляд на солнышко, мистер Демерест.
Свет все еще проникал сквозь толстое стекло иллюминатора, только теперь он сделался зыбким: между ними и солнцем уже была вода.
— Последний взгляд? — переспросил Демерест. Яван хихикнул:
— Ну, не совсем последний. Я имею в виду — до возвращения. Вы никогда еще не путешествовали в батискафе, верно?
— А что, многие путешествуют?
— Да нет, очень немногие, — сказал Яван. — Но вы не волнуйтесь. Это обыкновенный подводный шар. Правда, со времен первого батискафа многое изменилось и усовершенствовалось. У нас есть атомный двигатель, а до определенных пределов можно идти и на водоструйном, — но если свести к основным элементам, так это по-прежнему сферическая гондола под поплавком. И нас по-прежнему опускают с борта корабля, чтобы не расходовать зря энергию, которая необходима при погружении вся до капельки. Ну, готовы?
— Готов.
Трос, соединявший батискаф с кораблем, вспорхнул вверх, и подводный аппарат погрузился чуть ниже; потом еще ниже, по мере того как морская вода заполняла поплавок. Несколько мгновений, пойманный поверхностными течениями, батискаф покачался — и перестал, продолжая тихо спускаться в сгущающуюся зелень океана.
Яван расслабился.
— Джон Берген — начальник Океанской Впадины. Вы собираетесь с ним встретиться?
— Совершенно верно.
— Он хороший парень. И жена его там, вместе с ним.
— Вот как?
— Ну конечно. Там, внизу, есть и женщины. А всего на станции человек пятьдесят. Некоторые не вылезают оттуда месяцами.
Демерест коснулся пальцем тонкого, почти незаметного стыка люка со стеной. Потом взглянул на палец.
— Это масло?
— Силикон. Давление выжимает какую-то часть. Специально для… Да вы не волнуйтесь. Система управления автоматизирована и надежна. При первых же признаках неисправности — любой неисправности — балласт будет сброшен и мы поднимемся на поверхность.
— Вы хотите сказать, что с батискафами вообще не бывает несчастных случаев?
— А что с ними может случиться? — Перевозчик искоса глянул на пассажира. — Как только мы окажемся на глубине, недоступной для кашалотов, нам и вовсе ничего не будет угрожать.
— Кашалотов? — Тонкое лицо Демереста нахмурилось.
— Ну да. Они ныряют вниз на полмили. Если кашалот ударит в батискаф — стенки-то у поплавка не очень прочные… Да и не нужна им особая прочность. Камера открыта, и когда бензин, обеспечивающий плавучесть, сжимается, туда проникает морская вода.
Стало темно. Демерест не отрывал взгляда от иллюминатора. В гондоле был свет, но снаружи сгустилась тьма. Не такая, как в космосе, — тьма была густой и плотной.
— Давайте-ка без обиняков, мистер Яван, — резко сказал Демерест. — Ваш батискаф не оборудован для того, чтобы выдержать атаку кашалотов. Думаю, с гигантскими кальмарами дело обстоит не лучше. Бывали подобные случаи или нет?
— Ну, дело в том, что…
— Только не заговаривайте мне зубы, ладно? Я спрашиваю из профессионального любопытства. Я главный инженер по технике безопасности в Луна-Сити, и я вас спрашиваю, какие меры предосторожности вы в силах принять против потенциальных столкновений с крупными животными?
Яван явно смутился.
— Да не было никаких столкновений, — пробормотал он.
— Но ведь они возможны? Пусть даже маловероятны, так ведь?
— Все возможно. Но кашалоты слишком умны, чтобы нападать на нас, а гигантские кальмары слишком робки.
— Они нас видят?
— Само собой. Мы же освещены.
— А прожекторы у вас есть?
— Мы уже прошли глубину, где водятся крупные животные, но прожекторы есть, и я их включу, если хотите.
В черном иллюминаторе внезапно вспыхнул снегопад — снегопад наоборот, падающий вверх. Мгла ожила, весь ее объем заполнили снежинки, и все они стремились кверху.
— Что это? — спросил Демерест.
— Да так, ничего особенного. Органическая материя. Мелкие организмы. Они плавают себе потихоньку и попадают в лучи прожектора. Мы снижаемся, поэтому чудится, будто они поднимаются вверх.
Демерест, вновь обретя чувство перспективы, поинтересовался:
— А мы не слишком быстро падаем?
— Да нет же. Я мог бы включить атомный двигатель, но зачем зря тратить энергию? К тому же я могу сбросить балласт — и сделаю это, только позже. А пока все нормально. Успокойтесь, мистер Демерест. Сейчас спустимся ниже и снегопад станет жиже. Там, внизу, нет никаких эффектных форм жизни. Лишь маленькие морские чертенята и прочая нечисть, но они нас избегают.
— Сколько пассажиров вы можете взять зараз? — спросил Демерест.
— Бывало, что и четырех, но тогда в гондоле не повернуться. Можно еще соединить два батискафа и перевезти десятерых, хотя такой тандем получается жутко неуклюжим. На самом деле нам нужны поезда из гондол с более мощными атомниками — то есть атомными двигателями — и с большей плавучестью. Говорят, такие поезда проектируются. Правда, так говорят уже несколько лет.
— Стало быть, существуют планы широкомасштабного расширения Океанской Впадины?
— Конечно, а как же! Раз на континентальных шельфах есть города, почему бы им не быть и в океанских глубинах? По-моему, мистер Демерест, если человек в силах куда-то добраться, он туда доберется. И правильно сделает. Земля нам дана для заселения, и мы ее заселим. Все, что нам нужно, чтобы сделать глубоководье обитаемым, — это маневренные батискафы. Камеры-поплавки замедляют движение, делают конструкцию уязвимой и слишком сложной.
— Но они также спасают вас, разве нет? Если все двигатели вдруг разом выйдут из строя, бензин в камерах вынесет вас на поверхность. А что вы будете делать в случае аварии без поплавка?
— Ну, если на то пошло, абсолютно надежных конструкций не существует в природе. Невозможно предусмотреть все случайности, в том числе и фатальные.
— Кто бы спорил, — с горечью сказал Демерест. Яван сразу посерьезнел. Тон его голоса изменился:
— Извините. Я не хотел вас задеть. Мне жаль, что у вас случилось такое.
— Да, — сказал Демерест.
Погибли пятнадцать мужчин и пять женщин. Одному из «мужчин» было четырнадцать лет. Погибли, как было установлено, по собственной оплошности. Что мог сказать после этого главный инженер, отвечающий за безопасность?
— Да, — сказал он.
Между спутниками повисла тишина, такая же густая и плотная, как сжатая давлением морская вода в иллюминаторе. Как могли все двадцать человек поддаться разом панике, смятению и депрессии? «Лунная хандра» — глупое название, конечно, — поражала людей в самое неподходящее время. Ее приближение не всегда можно было распознать, но, когда она наваливалась, люди становились апатичными, а их реакции — замедленными.
Сколько падающих метеоритов удалось успешно отвести, погасить или захватить на лету? Сколько ущерба наносили лунотрясения и сколько разрушений удавалось предотвратить? Сколько человеческих оплошностей не приводило к фатальному исходу благодаря принятым мерам предосторожности? Сколько несчастных случаев не произошло’?
Но за неслучившееся несчастье ты не отвечаешь. Двадцать жертв…
Яван сказал (сколько долгих минут спустя?):
— А вот и огни Океанской Впадины!
Демерест ничего не увидел. Он не знал, куда смотреть. Дважды до того где-то вдали в иллюминаторе мелькали люминесцентные существа, и, поскольку прожекторы опять были выключены, Демерест принимал их за огни подводной станции. А теперь он вообще ничего не видел.
— Вон там, внизу, — сказал, но не показал Яван, слишком занятый торможением и поворотом батискафа.
Демерест услышал отдаленные вздохи водных струй, выталкиваемых паром, который образовался от тепла моментальных выбросов атомной энергии.
В голове мелькнула смутная мысль: «Топливо у них — дейтерий, а его кругом предостаточно. Воды-то полным-полно, а стало быть, и тяжелого водорода тоже».
Яван сбросил также часть балласта, ведя при этом нечто вроде светской беседы:
— Балластом служила раньше стальная дробь, ее сбрасывали с помощью электромагнитов. При каждом погружении использовалось до пятидесяти тонн балласта. Служба охраны природы забеспокоилась, что дно океана покрывается ржавеющей сталью, поэтому мы перешли на минеральные конкреции, которые добываем из континентальных шельфов. Покрываем их тонким слоем железа, чтобы можно было сбросить электромагнитами, и в океане не остается никаких чужеродных элементов. Опять же дешевле… Но когда у нас будут настоящие атомные батискафы, нам балласт вообще не понадобится.
Демерест почти не слушал его. Станция была теперь как на ладони. Яван включил прожекторы, и далеко внизу показалось илистое дно пуэрториканской впадины. На дне, словно россыпь одинаково мутных жемчужин, покоились сферы станции Океанская Впадина.
Сферы походили на ту, в которой Демерест сейчас спускался, только были гораздо крупнее. Океанская Впадина все расширялась и расширялась — к россыпи то и дело добавлялись новые шары.
«Они всего в пяти с половиной милях от дома — это вам не четверть миллиона», — подумал Демерест.
— И как мы туда попадем? — спросил Демерест. Стыковка уже произошла. Демерест слышал глухой стук металла о металл, но теперь тишину нарушала лишь сосредоточенная возня Явана с приборами.
— Не волнуйтесь, — отозвался наконец Яван. — Никаких проблем. Я просто проверяю, чтобы убедиться в точности стыковки. Там электромагнитное соединение, образующее правильную окружность. Если показания приборов в норме, значит, мы приклеились точненько ко входному люку.
— Который затем откроется?
— Он бы открылся, будь там воздух с той стороны. Но там морская вода, и ее нужно вытеснить. А потом — милости просим!
Демерест слушал, не пропуская ни слова. Он прибыл сюда в последний день своей жизни, дабы придать этой жизни смысл, и не собирался упускать ничего, даже самых мелких деталей.
— Зачем этот дополнительный этап? — спросил он. — Почему бы не сделать воздушный шлюз — настоящий шлюз, постоянно наполненный воздухом?
— Говорят, так безопаснее, — ответил Яван. — Это уже по вашей специальности. В соединительной камере давление с двух сторон всегда одинаковое, за исключением того времени, когда по ней проходят люди. Этот шлюз — самое слабое звено в системе, потому что он открывается и закрывается; тут и стыки есть, и швы — понимаете, что я имею в виду?
— Понимаю, — пробормотал Демерест.
Это слабое звено можно будет использовать как щель, через которую… Ладно, всему свое время.
— Чего мы ждем? — спросил он.
— Шлюз опустошается. Из него вытесняют воду.
— Воздухом?
— Да нет же, черт возьми! Они не могут себе позволить так разбазаривать воздух. Чтобы освободить камеру от воды, потребовалось бы не меньше тысячи атмосфер, а заполнять ее воздухом под таким давлением, даже временно, — это безумное расточительство. Шлюз осушают паром.
— Ну да. Конечно.
— Воду как следует разогревают, — оживленно продолжал Яван. — Никакое давление в мире не способно помешать воде превратиться в пар при температуре более 374 °C. А пар выталкивает воду через односторонний клапан.
— Еще одно слабое звено, — заметил Демерест.
— Наверное. Хотя до сих пор не было никаких накладок. Сейчас из шлюза вытесняют воду. Когда в клапане забулькают струи горячего пара, процесс автоматически прекратится, и шлюз окажется наполнен перегретым паром.
— А потом?
— А потом к нашим услугам целый океан для его охлаждения. Температура начнет падать, пар сконденсируется. В камеру накачают обыкновенный воздух с давлением в одну атмосферу, и тогда люк откроется.
— Долго нам еще ждать?
— Недолго. Если что-то случится, мы услышим вой сирен. По крайней мере, так нас учили. Я их ни разу не слыхал.
Несколько минут они сидели в тишине, а затем раздался громовой удар и батискаф тряхнуло.
— Простите, забыл вас предупредить, — сказал Яван. — Для меня это так привычно, что просто вылетело из головы. Когда люк открывается, давление в тысячу атмосфер с другой стороны резко прижимает батискаф к блоку Океанской Впадины. Никакие электромагниты не в состоянии предотвратить этот последний сдвиг на сотую долю дюйма.
Демерест разжал кулаки и перевел дух.
— Все в порядке? — спросил он.
— Стены не треснули, если вы это имеете в виду. А грохочет как настоящий гром, верно? Кстати, когда я отчалю и шлюз начнет по новой наполняться водой, грохот будет еще сильнее. Так что не пугайтесь.
Но Демересту внезапно все надоело. «Скорей бы покончить с этим, — подумал он. — Сколько можно резину тянуть?»
— Ну теперь-то мы идем наконец?
— Идем.
Отверстие люка было круглое и маленькое — меньше того, через которое они входили на борт. Яван скользнул в него, извиваясь и бормоча, что чувствует себя как пробка в бутылке.
Демерест ни разу не улыбнулся с начала путешествия. Он и теперь не улыбнулся по-настоящему, только дернул уголком рта при мысли о том, что для тощего лунянина это не проблема.
Он пролез в люк и почувствовал, как его подхватили за пояс крепкие руки Явана.
— Здесь темно, — предупредил перевозчик. — Нет смысла дырявить корпус для проводки. На то и существуют фонари.
Демерест обнаружил, что стоит на перфорированном полу, тускло отблескивающем металлом. Сквозь дырочки угадывалась зыбкая поверхность воды.
— Камеру не осушили, — сказал он.
— Все сделано в лучшем виде, мистер Демерест. Раз воду вытесняют паром, ясно, что он остается в камере. А чтобы давление было достаточным для вытеснения, пар сжимают примерно до трети плотности воды. Когда он конденсируется, шлюз на треть заполняется водой — но это вода с давлением всего в одну атмосферу… Пойдемте, мистер Демерест.
Лицо Джона Бергена было знакомо Демересту. Он узнал его сразу. Берген, вот уже почти десятилетие возглавлявший Океанскую Впадину, часто мелькал на телеэкранах Земли — точно так же, как и лидеры Луна-Сити.
Демерест видел начальника станции в плоском изображении и объемном, в черно-белом и цветном. Оригинал мало чем от него отличался.
Подобно Явану, Берген был низкорослым и коренастым — то есть полной противоположностью традиционным (уже традиционным?) лунным стандартам. Значительно светлее Явана, лицо асимметричное, толстый нос слегка свернут вправо.
Не красавец. Ни один лунянин не назвал бы его красивым — но тут лицо Бергена озарилось лучезарной улыбкой, и он протянул большую ладонь.
Демерест вложил в нее свою, тонкую и хрупкую, напрягаясь в ожидании крепкого пожатия. Однако его не последовало. Берген взял его руку и выпустил, а затем сказал:
— Рад вас видеть. Мы не в силах устроить вам роскошный прием. Мы не можем даже объявить выходной в вашу честь, но все равно ваше прибытие для нас — праздник. Добро пожаловать.
— Спасибо, — тихо проронил Демерест. Он и теперь не улыбнулся. Он стоял лицом к лицу с врагом и знал это. Берген тоже не мог этого не знать, а потому его улыбка была сплошным притворством.
И вдруг оглушительный металлический лязг потряс помещение, Демерест отпрыгнул назад и прислонился к стене. Берген не шелохнулся.
— Это батискаф отчалил, и шлюз залило водой, — спокойно проговорил он. — Яван должен был вас предупредить.
Демерест тяжело дышал, силясь унять бешеное сердцебиение.
— Он предупредил. Но я все равно попался.
— В ближайшем будущем таких сюрпризов больше не предвидится. Гости у нас бывают редко. Мы плохо оснащены для приемов, поэтому, как правило, не пускаем к себе всяких сановников, которые считают, что путешествие в глубь океана будет способствовать их карьере. Я говорю в основном о политиках разных мастей. Вы — другое дело, разумеется.
«Ой ли?» — подумал Демерест. Получить разрешение на спуск сюда было достаточно сложно. Сначала пришлось убеждать начальство в Луна-Сити, которое не одобряло его идею и сомневалось, что обмен дипломатическими визитами принесет хоть какие-то плоды. («Дипломатический визит» — так они это называли!) А когда он их уговорил, Океанская Впадина отнюдь не спешила с разрешением.
Нынешний визит состоялся исключительно благодаря его личной настойчивости. Так почему же он — другое дело?
— Полагаю, у вас в Луна-Сити те же самые проблемы, — сказал Берген.
— Не совсем, — ответил Демерест. — Путешествие длиной в полмиллиона миль не так привлекает политиков, как десятимильный спуск и подъем.
— Это верно, — согласился Берген. — К тому же круиз на Луну куда дороже… Кстати говоря, сегодня у нас первая встреча представителей внешнего и внутреннего миров. Ни один океанский житель еще не бывал на Луне, насколько мне известно, а вы — первый лунянин, посетивший глубоководную станцию. Луняне даже в поселениях на шельфах никогда не бывали.
— Значит, нашу встречу можно назвать исторической, — сказал Демерест, стараясь убрать из голоса иронию.
Если она и просочилась, то Берген не подал вида. Он закатал рукава, словно стремясь подчеркнуть свое неформальное отношение (или же тот факт, что он очень занят, а потому не сможет уделить гостю много времени?), и спросил:
— Кофе хотите? Как я понимаю, вы уже позавтракали. Может, отдохнете немного перед экскурсией? Или хотите освежиться — так, по-моему, деликатные хозяева предлагают гостю посетить туалет?
Демереста разобрало любопытство, и совсем не праздное. Все, что касалось взаимодействия Океанской Впадины с внешним миром, могло оказаться важным.
— И как у вас действуют санитарно-гигиенические устройства?
— В основном в виде замкнутого цикла, как и на Луне, наверное. Но мы можем выбрасывать отходы, если захотим или если понадобится. Люди, конечно, порядком загадили окружающую среду, но отходы единственной глубоководной станции вряд ли загрязнили бы океан. Добавили бы в него немного органики, вот и все, — рассмеялся Берген.
Демерест взял это на заметку. Раз отходы можно сбрасывать в океан, значит, существуют трубы для выброса. Их устройство может оказаться интересным, и он, как инженер по технике безопасности, имеет законное право проявить интерес.
— Нет, — сказал он. — Сейчас мне ничего не нужно. Если вы заняты…
— Не беспокойтесь. Мы все время заняты, но я занят меньше всех. Я покажу вам наши апартаменты. У нас тут больше полусотни сфер, размерами не уступающих этой, а то и превосходящих ее…
Демерест окинул взглядом помещение. Как и в батискафе, здесь были утлы, но за мебелью и оборудованием проглядывали признаки неизбежной сферичности внешней стены. Пятьдесят штук!
— …созданных, — продолжал Берген, — усилиями не одного поколения. Блок, в котором мы находимся, самый старый из всех. Поговаривают о том, что пора его демонтировать и заменить. Кое-кто считает, что мы уже готовы к производству блоков второго поколения, но я не уверен. Это дорого — здесь, на дне, все дорого, — а выбивать деньги из Всемирного совета по проектам — занятие крайне утомительное.
У Демереста непроизвольно раздулись ноздри, и вспышка ярости объяла все его существо. Это был удар ниже пояса. Берген не мог не знать, какие жалкие крохи выделяет ВСП для Луна-Сити!
Но Берген все говорил и говорил, ничего не замечая:
— А кроме того, я поклонник традиций. Это первый созданный людьми глубоководный дом. В нем впервые на океанском дне заночевали двое человек. Они спали здесь безо всяких удобств, оснащенные всего лишь переносным атомным блоком питания для аварийного шлюза — я имею в виду воздушный шлюз, но тогда его называли аварийным — и парочкой приборов. Их звали Регера и Тремонт. Ни один из них больше не спускался на дно; всю оставшуюся жизнь оба проработали на суше. Что ж, они сделали свое дело, и сейчас их уже нет в живых. Зато теперь здесь работают пятьдесят человек, несущих вахту как минимум полгода. Я, например, за последние полтора года провел на суше всего пару недель.
Энергично махнув гостю рукой и приглашая следовать за ним, Берген открыл дверь, плавно скользнувшую в полость стены, и повел его в следующий блок. Демерест задержался у двери, чтобы обследовать вход. Между смежными блоками не было видно ни единого шва.
Берген заметил его любопытство и пояснил:
— Когда мы пристраиваем новый блок, металл сваривают под давлением, превращая практически в единое целое с предыдущим блоком, а потом еще и упрочняют. Мы не имеем права рисковать — впрочем, вам это вполне понятно, поскольку вы, как мне сказали, главный инженер по технике безо…
— Да, — оборвал его Демерест. — Мы, Луняне, восхищаемся вашей статистикой несчастных случаев — вернее, отсутствием таковых.
— Нам везет пока, — пожал плечами Берген. — Кстати, примите мои соболезнования по поводу гибели ваших товарищей. Я имею в виду тот несчастный…
— Да, я понял, — снова прервал его Демерест.
Либо этот Берген болтлив по натуре, решил лунянин, либо он решил заговорить гостя до полусмерти, чтобы поскорее избавиться от него.
— Блоки образуют сильно разветвленную цепочку, — не унимался Берген. — Трехмерную цепочку. У нас есть карта — могу вам показать, если интересно. Большинство конечных блоков приспособлены под жилые помещения и спальни. Чтобы люди могли уединиться, понимаете? Рабочие блоки все проходные — это одно из неудобств, с которыми приходится мириться, живя на океанском дне.
Вот тут у нас библиотека. Вернее, часть ее. Она невелика, но здесь хранятся все наши архивы, записанные на компьютерную пленку, так что в этом смысле наша библиотека не только самая большая в мире, но также лучшая и единственная. А еще у нас есть отдельный компьютер, обрабатывающий специальную литературу. Он ее собирает, отбирает, сортирует, оценивает и выдает нам самую суть.
Есть у нас и другая библиотека, с микрофильмами и даже печатными книгами. Но это уже для развлечения.
В оживленный словесный поток вклинился чей-то голос:
— Джон! Я вам не помешаю?
Демерест вздрогнул. Голос раздался у него за спиной.
— Аннет! — воскликнул Берген. — Я как раз направлялся к тебе. Это Стивен Демерест из Луна-Сити. Мистер Демерест, позвольте вам представить мою жену Аннет.
Демерест повернулся, машинально сказал:
— Рад познакомиться, миссис Берген. И уставился на ее талию.
Аннет Берген было на вид слегка за тридцать. Темные волосы, простая прическа, никакой косметики. Привлекательная, но не красавица, отметил про себя Демерест. А взгляд против его воли возвращался к талии.
— Да, я беременна, мистер Демерест, — сказала она, легонько пожав плечами. — Через пару месяцев буду рожать.
— Простите, — пробормотал Демерест. — Я не хотел быть невежливым… Я не…
Он растерянно умолк, словно удар был нанесен ему по-настоящему, под дых. Он не ожидал встретить здесь женщину, хотя и не мог объяснить почему. Он знал, что в Океанской Впадине есть женщины. И перевозчик тоже упоминал о том, что жена Бергена работает вместе с ним.
— Сколько у вас на станции женщин, мистер Берген? — запинаясь, спросил Демерест.
— Сейчас девять, — ответил Берген. — Все жены. Мы надеемся, что придет такое время, когда соотношение будет нормальным, то есть один к одному, но пока что нам в первую очередь требуются рабочие и исследователи, и если у женщины нет какой-нибудь нужной специальности…
— У них у всех есть какая-нибудь нужная специальность, дорогой, — перебила его миссис Берген. — И мужчины бы работали тут гораздо дольше, если бы ты…
— Моя жена, — со смехом прервал ее Берген, — убежденная феминистка. Но она не считает зазорным пользоваться привилегиями своего пола, чтобы добиться равноправия. Я все твержу ей, что это не феминистский, а чисто женский способ, на что она отвечает: «Потому-то я и беременна». Вы думаете, это любовь, или сексуальная мания, или жажда материнства? Ничего подобного! Она собирается родить ребенка здесь, внизу, исключительно из философских соображений.
— А почему бы и нет? — холодно сказала Аннет. — Океан либо станет для человечества домом, либо не станет. А если станет, то здесь будут рождаться дети, вот и все. Я хочу родить ребенка в Океанской Впадине. Ведь в Луна-Сити рождаются дети, правда, мистер Демерест?
Демерест глубоко вздохнул:
— Я сам родился в Луна-Сити, миссис Берген.
— И ей это прекрасно известно, — пробормотал Берген.
— А сейчас вам уже где-то под тридцать? — спросила Аннет.
— Мне двадцать девять, — ответил Демерест.
— И это ей прекрасно известно тоже, — сказал Берген с коротким смешком. — Могу поспорить, что она разузнала о вас всю подноготную, как только услышала о вашем визите.
— Это к делу не относится, — заявила Аннет. — К делу относится то, что как минимум двадцать девять лет в Луна-Сити рождаются дети, а в Океанской Впадине не было еще ни одного ребенка.
— Луна-Сити, дорогая моя, основан гораздо раньше, — сказал Берген. — Лунной колонии уже полвека, а нашей нет еще и двадцати лет.
— Двадцати лет вполне достаточно. Чтобы выносить ребенка, нужно всего девять месяцев.
— А сейчас на станции есть дети? — поинтересовался Демерест.
— Нет, — ответил Берген. — Нет. Но когда-нибудь обязательно будут.
— Через два месяца, — безапелляционно заявила Аннет.
Внутреннее напряжение в душе у Демереста все нарастало, и когда они втроем вернулись в первый блок, он с облегчением сел и взял чашечку кофе.
— Скоро пообедаем, — сообщил Берген. — Надеюсь, вы согласны посидеть пока что здесь. Первый блок не так уж часто используется для работы — разве что для приема батискафов, но сейчас мы никого не ждем. Можем поговорить, если хотите.
— Очень даже хочу, — отозвался Демерест.
— Надеюсь, я тоже приглашена принять участие в беседе? — осведомилась Аннет.
Демерест взглянул на нее с сомнением, но Берген сказал:
— Вам придется согласиться. Вы ее очень интересуете — вы и луняне вообще. По ее мнению, они… э-э… то есть вы представляете собой новую породу людей, и, я думаю, когда ей надоест быть океанской жительницей, она захочет стать лунянкой.
— Ты не даешь мне слова вставить, Джон. Но если позволишь, я бы все-таки хотела услышать мнение мистера Демереста. Что вы о нас думаете, мистер Демерест?
— Я попросил о встрече, миссис Берген, — осторожно сказал Демерест, — потому что я инженер по технике безопасности. В этом смысле у Океанской Впадины завидная статистика…
— Ни одного смертельного исхода за без малого двадцать лет, — весело подхватил Берген. — Всего одна жертва несчастного случая в поселениях на шельфах — и ни одной во время перевозок, будь то на подводных лодках или батискафах. Хотел бы я приписать это нашей мудрости и умению. Мы, конечно, делаем все, что в наших силах, но главным образом нам просто везет.
— Джон! — не выдержала Аннет. — Дай, пожалуйста, сказать мистеру Демересту.
— Как инженер по технике безопасности, — сказал Демерест, — я не могу себе позволить полагаться на везение и удачу. Мы не в состоянии предотвратить лунотрясения или падения на Луну больших метеоритов, но мы обязаны принять меры, чтобы ущерб от них был минимальным. Нет никаких оправданий— да их и не может быть! — человеческим жертвам. Нам в Луна-Сити не удалось без них обойтись; наша статистика в последнее время, — голос у него упал, — очень печальна. Поскольку люди, как известно, несовершенны, необходимо обеспечить их техникой, которая компенсировала бы это несовершенство. Мы потеряли двадцать человек…
— Я знаю. Но население Луна-Сити приближается к тысяче, не так ли? Ваше выживание пока не находится под угрозой.
— Население Луна-Сити сейчас девятьсот семьдесят два человека, считая вместе со мной, но наше выживание тем не менее под угрозой. Мы зависим от Земли буквально во всем, включая предметы первой необходимости. Так не должно продолжаться, и положение можно было бы изменить, если бы Всемирный совет по проектам не погряз в мелочной экономии.
— Тут я с вами полностью согласен, мистер Демерест, — сказал Берген. — Мы тоже зависим от суши, хотя могли бы перейти на самообеспечение. Хуже того: мы не можем расширять станцию, пока не построим атомные батискафы. Эти поплавки нас жутко ограничивают. Сообщение между нами и сушей крайне неудовлетворительно; на перевозку людей, а тем более материалов и оборудования уходит уйма времени. Я попытался выбить из совета…
— Да, и вы скоро получите дополнительные средства, мистер Берген.
— Я надеюсь, но почему вы так уверены?
— Мистер Берген, давайте не будем ходить вокруг да около. Вы прекрасно знаете, что Земля выделяет фиксированную сумму на проекты экспансии — то есть программы по расширению среды обитания человека, — и эта сумма не так уж велика. Население Земли не очень-то щедро расходует свои ресурсы на освоение внешнего или внутреннего пространства, особенно если при этом приходится поступиться комфортом и удобствами первичной среды обитания, то есть земной суши.
— Вы так говорите, будто земляне какие-то жуткие эгоисты, мистер Демерест, — вмешалась Аннет. — Но это несправедливо. Человеку свойственно заботиться о собственной безопасности. Земля перенаселена, и она с трудом оправляется от ран, нанесенных планете в «безумные двадцатые». Естественно, что интересы земной суши должны учитываться прежде всего, прежде интересов Луна-Сити и Океанской Впадины. Бог ты мой, да эта станция для меня все равно что дом родной, но я не хотела бы ее процветания за счет земной суши!
— Вопрос не стоит «или — или», миссис Берген, — убежденно проговорил Демерест. — Если океанское и космическое пространства будут осваиваться с умом, настойчиво и целеустремленно, это пойдет на благо в первую очередь самой Земле. Мелкие инвестиции ничего не дадут, но крупные могли бы вернуться сторицей.
Берген поднял руку:
— Да, я согласен. Вам нет нужды меня в этом убеждать. Вы пытаетесь обратить обращенного. Давайте-ка лучше сделаем перерыв на обед. Вот что я вам скажу: мы пообедаем здесь, а если вы останетесь на ночь или на несколько дней — милости просим! — у вас хватит времени, чтобы познакомиться и поговорить с остальными. А сейчас пора расслабиться и отдохнуть.
— Я не против, — сказал Демерест. — Я с удовольствием останусь… Между прочим, я все хотел спросить: почему в блоках так мало народу?
— Это не секрет, — просто ответил Берген. — Человек пятнадцать сейчас спят и еще примерно столько же смотрят фильмы, или играют в шахматы, или, если они здесь с женами…
— Джон! — сказала Аннет.
— …то их не принято беспокоить. Жилых помещений у нас мало, так что уединение, насколько оно возможно, дело святое. Несколько человек в океане — трое, по-моему. То есть работающих осталось около дюжины, и вы всех их видели.
— Я принесу обед, — сказала Аннет, вставая.
Она улыбнулась и шагнула за дверь, которая автоматически за ней закрылась.
Берген посмотрел ей вслед:
— Это уступка. Она разыгрывает из себя хозяйку в вашу честь. Иначе за обедом наверняка бы отправился я. Выбор определяется не полом, а чистой случайностью — сегодня ты, завтра я.
— Двери между блоками кажутся мне не очень надежными, — сказал Демерест.
— Вот как?
— Если случится авария и один из блоков будет пробит…
— У нас тут нет метеоритов, — улыбнулся Берген.
— Да, я неправильно выразился. Но если где-то вдруг начнется течь, неважно по какой причине, сможете ли вы изолировать блок или группу блоков так, чтобы они выдержали давление океана?
— Вы имеете в виду — так, как делают у вас в Луна-Сити, когда в случае попадания метеорита пробитый отсек автоматически блокируется, чтобы не пострадали остальные?
— Да, — подтвердил Демерест с еле уловимой горечью. — И что не было сделано во время давешней аварии.
— Теоретически это возможно, но вообще-то здесь довольно безопасно. Как я уже говорил, метеоритов у нас нет, как нет и каких-либо сильных подводных течений. Даже землетрясение с эпицентром прямо под нами не может повредить станции, поскольку у нее нет прочного контакта с донной поверхностью. Вода самортизирует удары. Поэтому мы имеем полное право надеяться, что сильные потрясения нам не грозят.
— А если все-таки?
— Тогда мы окажемся беспомощны. Видите ли, здесь не так-то просто заблокировать отдельные сферы или часть конгломерата. На Луне разница давлений составляет всего одну атмосферу: одна атмосфера внутри и нуль снаружи. Тонкой перегородки вполне достаточно. Здесь же, в Океанской Впадине, разница давлений около тысячи атмосфер. Чтобы обеспечить абсолютную надежность при такой разнице, нужно очень много денег, а вы сами знаете, что значит выбивать финансы из ВСП. Поэтому мы рискуем — и пока что нам везет.
— В отличие от нас, — заметил Демерест.
Берген явно смутился, но тут их обоих отвлекла Аннет, появившаяся с обедом.
— Надеюсь, мистер Демерест, — сказала она, — что вы привыкли к спартанскому рациону. Всю еду мы получаем в упаковках, ее остается только разогреть. Наш девиз — простота и отсутствие изысков, так что в сегодняшнем меню цыплята с морковью и вареной картошкой, а также нечто вроде шоколадных пирожных на десерт. Зато кофе можете пить сколько угодно.
Демерест встал, чтобы взять свой поднос, и попытался улыбнуться.
— Очень похоже на лунное меню, миссис Берген, а я на нем вырос. Мы производим и свою собственную микроорганическую пищу. Есть ее патриотично, но не очень приятно. Впрочем, мы надеемся со временем улучшить качество.
— Я уверена, что вам это удастся.
Демерест, медленно и тщательно пережевывая пищу, продолжал:
— Простите, что опять возвращаюсь к работе, но мне хотелось бы узнать, насколько надежно устройство вашего шлюза.
— Это и впрямь самое слабое место в Океанской Впадине, — сказал Берген. Он уже покончил с едой, значительно опередив остальных, и наполовину осушил первую чашку кофе. — Но без него, увы, не обойтись. Шлюз автоматизирован, насколько это возможно, и довольно надежен. Во-первых, атомные генераторы не начнут нагревать в нем воду, пока не будет электромагнитного контакта вдоль всей окружности внешней стенки люка.
Больше того — контакт должен быть металлическим, а металл должен обладать в точности такой же магнитной проницаемостью, как у батискафов. Если какой-либо камень или мифическое глубоководное чудовище свалятся на дно и случайно прижмутся как раз к месту стыковки, то ничего не произойдет.
А во-вторых, внешний люк не откроется, пока пар не вытеснит воду и не сконденсируется, то есть пока и давление, и температура не упадут ниже определенного уровня. Когда внешний люк начнет открываться, малейшее повышение внутреннего давления, вызванное притоком воды, тут же закроет его.
— Но потом, когда люди пройдут через шлюз, — заметил Демерест, — внутренний люк за ними закроется, и в камеру шлюза вновь хлынет вода. Вы можете впускать ее постепенно, несмотря на давление океана снаружи?
— Не совсем, — улыбнулся Берген. — С океаном не стоит сражаться слишком упорно. Перед его напором все равно не устоять. Мы снижаем скорость потока примерно до одной десятой, и тем не менее вода врывается как выстрел — вернее, как удар грома, или водного грома, если хотите. Внутренний люк способен выдержать напор, к тому же ему приходится это делать не так уж часто. Погодите-ка: вы же слышали водный гром, когда Яван отчалил. Помните?
— Помню, — сказал Демерест. — Но я все равно не совсем понимаю. Вы держите шлюз наполненным водой с высоким давлением, чтобы не подвергать напряжению внешний люк. Но из-за этого под напряжением постоянно находится внутренний люк.
— Да, конечно. Однако, если внешний люк сдаст под напором разницы давлений в тысячу атмосфер, в шлюз устремится весь океан с его миллионами кубических миль воды, и нам придет конец. Но поскольку под напряжением мы держим внутренний люк, то даже если он не выдержит, в блоки станции попадет только та вода, что находится в шлюзе, а так как ее количество ограничено, давление тут же упадет. У нас будет достаточно времени для ремонта, потому что внешний люк продержится довольно долго.
— А если оба не выдержат одновременно?
— Тогда нам каюк. — Берген пожал плечами. — Не мне вам объяснять, что абсолютной надежности и абсолютной безопасности не существует. Жизнь — это риск, а шансы одновременной двойной аварии настолько малы, что с ними вполне можно мириться.
— Но если все ваши автоматические приспособления выйдут из строя…
— Они надежны, — упрямо заявил Берген.
Демерест кивнул, приканчивая последний кусочек цыпленка. Миссис Берген начала убирать со стола.
— Надеюсь, вы простите мою назойливость, мистер Берген, — сказал Демерест.
— Спрашивайте обо всем, что вас интересует. Вообще-то меня не предупредили о цели вашего визита. «Сбор информации» — слишком расплывчатая формулировка. Но, судя по всему, недавнее несчастье вызвало сильное беспокойство на Луне, и вы, как инженер по технике безопасности, естественно, чувствуете себя ответственным за исправление всех существующих недостатков. Возможно, изучение системы безопасности в Океанской Впадине вам в этом поможет.
— Вот именно. Видите ли, если по какой-то причине, неважно какой, вся ваша автоматика выйдет из строя, вы останетесь живы, но все выходные люки будут наглухо задраены. Вы окажетесь в ловушке и умрете медленной смертью вместо мгновенной.
— Это маловероятно, но я надеюсь, что мы сумели бы в таком случае сделать ремонт до того, как кончится запас воздуха. А потом, у нас есть и ручная система управления.
— Ах вот как!
— Ну конечно. Когда станцию основали, этот блок, где мы сейчас находимся, был единственным, и здесь вообще была только ручная система. Вот она-то и впрямь ненадежна. Кстати, она находится прямо за вами, под крышкой из бьющегося пластика.
— В случае аварии разбейте стекло, — пробормотал Демерест, разглядывая хрупкое покрытие.
— Прошу прощения?
— Просто фраза, которую обычно писали на древних противопожарных устройствах… И эта система действует? Или, покрытая вашим бьющимся пластиком, она за двадцать лет превратилась в бесполезный хлам?
— Ничего подобного. Ее периодически проверяют, как и все остальное оборудование. Это не моя обязанность, но я знаю, что ее выполняют. Если какая-то электрическая или электронная цепь не сработает, замигают лампочки, взревет сирена — в общем, будет все, кроме атомного взрыва. А знаете, мистер Демерест, Луна-Сити интересует нас не меньше, чем вас — Океанская Впадина. Надеюсь, вы пригласите к себе одного из наших молодых людей…
— А как насчет одной из молодых женщин? — тут же встряла Аннет.
— Уверен, что ты имеешь в виду себя, дорогая, — сказал Берген. — Могу лишь напомнить, что ты собиралась родить здесь ребенка и нянчить его, а это напрочь исключает твою кандидатуру.
— Мы надеемся, что вы пришлете своих людей в Луна-Сити, — напряженно проговорил Демерест. — Мы заинтересованы в том, чтобы вы поняли наши проблемы.
— Да, взаимный обмен проблемами и рыдания друг у друга на плече сильно облегчили бы нашу жизнь. Между прочим, у вас в Луна-Сити есть одно преимущество, которому я завидую. Слабая гравитация и низкая разница давлений позволяют вам придавать своим жилищам любую неправильную и угловатую форму, какая удовлетворяет вашим эстетическим вкусам или же необходима для удобства. Мы здесь обречены исключительно на сферы, по крайней мере в обозримом будущем, и все наши дизайнеры через какое-то время проникаются лютой ненавистью к округлым формам. Люди просто не выдерживают и уходят, лишь бы не работать больше с шарами.
Берген покачал головой и откинулся назад, прислонив спинку стула к шкафу с микрофильмами.
— Знаете, — продолжил он, — когда в тридцатые годы Уильям Биби соорудил первую подводную камеру в мире, это была просто гондола, которую опускали с корабля на тросе длиной в полмили, без поплавка и двигателей, и если бы трос оборвался — прощайте навсегда! Но он не оборвался… О чем бишь я? Ах да, когда Биби мастерил свою первую подводную камеру, он хотел сделать ее цилиндрической, чтобы человеку было в ней удобно, понимаете? В конце концов, человек — это и есть удлиненный цилиндр с костями. Но друг Уильяма Биби Оттоворил его в пользу шара, и у него были веские доводы: ведь шар, как известно, выдерживает давление лучше любой другой формы. И знаете, кем был этот друг?
— Боюсь, что нет.
— Он был в то время президентом Соединенных Штатов. Франклин Рузвельт. Все эти сферы, что вы видели у нас, — правнучки предложения Рузвельта.
Демерест слушал внимательно, но никак не отреагировал. Он вернулся к предыдущей теме разговора.
— Мы бы очень хотели, чтобы кто-нибудь из сотрудников станции посетил Луна-Сити, — сказал он, — потому что это могло бы помочь вам осознать необходимость определенного самопожертвования со стороны Океанской Впадины.
— О-о! — Стул Бергена всеми четырьмя ножками хлопнулся об пол. — Что вы имеете в виду?
— Океанская Впадина — изумительное достижение; я ни в коем случае не хочу его умалять. Я вижу ее потенциал, она способна стать одним из чудес света. И тем не менее…
— Что тем не менее?
— Океан — только часть Земли; большая, но все-таки часть. А впадина — всего лишь часть океана. Это действительно внутреннее пространство: оно направлено внутрь, постепенно сужаясь к точке.
— Как я понимаю, — довольно мрачно перебила его Аннет, — сейчас последует сравнение с Луна-Сити.
— Именно так, — сказал Демерест. — Луна-Сити представляет собой внешнее пространство, расширяющееся до бесконечности. С точки зрения отдаленной перспективы у вас здесь тупик, а у нас там — простор.
— Размеры — это не самый главный критерий, мистер Демерест, — возразил Берген. — Океан и правда всего лишь часть Земли, однако именно поэтому он тесно связан с ее более чем пятимиллиардным населением. Океанская Впадина — станция экспериментальная, но поселения на шельфах уже заслуживают названия городов. Наша станция предлагает человечеству шанс заселить всю планету…
— Загадить всю планету! — возбужденно воскликнул Демерест. — Изнасиловать ее и прикончить! Сосредоточение человеческих усилий только на самой Земле — явление нездоровое и даже фатальное, если оно не уравновешено расширением границ обитания.
— А что там, за этими границами? Сплошная пустота, — резко бросила Аннет. — Луна всего лишь безжизненный спутник, так же как и другие планеты. Если среди звезд, за световые годы от нас, и есть живые миры, то нам до них не добраться. А океан живой. — На Луне тоже есть жизнь, миссис Берген, и, если Океанская Впадина нам позволит, Луна станет независимой. И тогда мы, луняне, начнем осваивать другие планеты и вдохнем в них жизнь. А если человечество проявит терпение, мы достигнем также далеких звезд. Мы! Именно мы! Только луняне, привыкшие к космосу, привыкшие к жизни в пещерах, к искусственной среде обитания, смогут провести всю жизнь на борту звездолета, которому, возможно, потребуются столетия, чтобы долететь до звезд.
— Погодите, погодите, Демерест, — сказал Берген, поднимая руку. — Давайте-ка уточним. Что вы имели в виду, говоря «если Океанская Впадина нам позволит»? Какое мы имеем к этому отношение?
— Вы конкурируете с нами, мистер Берген. Всемирный совет по проектам склоняется в вашу сторону. Он выделит вам больше денег, а нам меньше, потому что, как заметила ваша жена, в океане есть жизнь, а на Луне, если не считать тысячи человек, жизни нет; потому что до вас всего полдюжины миль, а до нас — четверть миллиона; потому что до вас можно добраться за час, а до нас — за три дня. А еще потому, что у вас идеальная статистика несчастных случаев, а у нас…
— Ну, последний аргумент просто нелеп. Авария может произойти в любом месте и в любое время.
— Однако нелепость тоже можно использовать, — сердито сказал Демерест, — чтобы манипулировать эмоциями. Для людей, не понимающих цели и важности космических исследований, гибель лунян в авариях — вполне достаточное доказательство того, что Луна опасна и ее колонизация бессмысленна. Почему нет? Под этим предлогом можно сэкономить денежки, а чтобы успокоить свою совесть, совет вложит часть инвестиций в Океанскую Впадину. Потому-то я и считаю, что давешняя авария на Луне представляет угрозу нашему выживанию, несмотря на то что погибло всего двадцать человек из тысячи.
— Я не могу принять ваши доводы. До сих пор денег хватало на оба проекта.
— В том-то и дело, что не хватало! Мизерные капиталовложения не позволили Луне за все эти годы перейти на самообеспечение, а теперь тот факт, что мы не в состоянии себя обеспечивать, используют против нас. Нехватка инвестиций и Океанской Впадине не давала обрести самостоятельность. Зато теперь совет сможет выделить вам достаточно средств, если совсем прикроет наш проект.
— Вы полагаете, совет на такое пойдет?
— Я почти уверен в этом, если только Океанская Впадина не проявит государственный подход к будущему человечества.
— Каким образом?
— Отказавшись от дополнительных фондов. Отказавшись от конкуренции с Луной. Поставив интересы всего человечества выше своих собственных интересов.
— Вы же не думаете, что мы демонтируем…
— Вам не придется этого делать. Неужели вы не понимаете? Поддержите нас, объясните совету, что Луна-Сити важнее, что освоение космоса — главная надежда человечества; скажите, что вы подождете и даже сократите расходы, если потребуется.
Берген, вздернув брови, взглянул на жену. Она сердито помотала головой.
— Сдается мне, у вас довольно романтическое представление о ВСП, — сказал Берген. — Даже если я начну толкать благородные и самоотверженные речи, кто сказал, что к ним прислушаются? На осуществление проекта влияют не только мои мнения и высказывания. Есть еще экономические соображения и общественное мнение. И вообще, зря вы так беспокоитесь, мистер Демерест. Луна-Сити не закроют. Вы получите фонды, это я вам говорю. А теперь давайте лучше покончим с этой…
— Нет, я обязан вас убедить — убедить любыми способами — в том, насколько это серьезно. Океанская Впадина должна быть законсервирована, если ВСП не способен обеспечить оба проекта достаточной суммой денег.
— Это официальное заявление, мистер Демерест? — спросил Берген. — Вы уполномочены говорить от имени Луна-Сити, или это ваше личное мнение?
— Личное. Но я думаю, этого вполне достаточно, мистер Берген.
— Сожалею, однако я так не думаю. Боюсь, наш разговор начинает обретать неприятную окраску. Мой вам совет: возвращайтесь-ка вы на сушу с первым же батискафом.
— Нет! Я еще не закончил!
Демерест встал, дико озираясь по сторонам, и прижался спиной к стене. Он был высоковат для этого помещения, и он осознавал, что подошел к последней черте. Еще один шаг — и отступать будет некуда.
Он предупреждал их там, в Луна-Сити, что от переговоров не будет никакого толку. Борьба за деньги должна быть беспощадной, и он никому не позволит загубить Луна-Сити — ни ради Океанской Впадины, ни даже ради самой Земли, потому что интересы человечества и Вселенной превыше всего. Люди должны вырасти из своей колыбели и…
Демерест слышал свое хриплое дыхание и чувствовал, как исступленно мечутся мысли в мозгу. Супружеская пара встревожено глядела на него. Аннет встала и спросила:
— Вам нехорошо, мистер Демерест?
— Со мной все нормально. Сядьте. Я инженер по технике безопасности, и я намерен преподать вам урок. Сядьте, миссис Берген.
— Садись, Аннет, — сказал Берген. — Я сам приведу его в чувство.
Он встал и шагнул вперед.
— Нет! — крикнул Демерест. — Ни с места! У меня есть кое-что при себе. Вы слишком наивны, мистер Берген: вы приняли меры предосторожности против океана и механических аварий, но недооценили опасность, исходящую от людей. У вас не принято обыскивать гостей, верно? Я вооружен, Берген.
Теперь, когда он сжег за собой мосты, отрезав все пути к отступлению, Демерест был спокоен. Что бы он ни сделал, ему все равно уже не жить.
— Ох, Джон! — выдохнула Аннет, вцепившись в руку мужа. — Он…
Берген заслонил ее собой.
— Вооружен? Эта штука и есть ваше оружие? Спокойно, Демерест, спокойно. Не стоит горячиться. Если хотите поговорить, давайте поговорим. Что это у вас в руках?
— Ничего особенного. Ручной лазерный лучевик.
— И что вы собираетесь делать?
— Разрушить Океанскую Впадину.
— Но вы не сможете, Демерест. Вы сами знаете, что не сможете. У ручного лазера не хватит энергии, чтобы пробить стены.
— Я знаю. Хотя у этой модели запас энергии больше, чем вы думаете. Мой лучевик изготовлен на Луне, а в вакууме заряжать энергией оружие куда удобнее. И все-таки вы правы. Эта штуковина предназначена для мелких работ и нуждается в частой подзарядке. Поэтому я не буду пробивать лучом стальной сплав толщиной в фут с лишним. Но лучевик мне пригодится. Хотя бы для того, чтобы вы двое вели себя спокойно. Убить двоих человек — на это у него энергии хватит.
— Вы не станете нас убивать, — невозмутимо заявил Берген. — У вас нет на то никаких разумных оснований.
— Если вы надеетесь образумить меня, можете не стараться, — сказал Демерест. — У меня есть все основания убить вас, и я вас убью. Если придется, то лазерным лучом, хотя мне этого и не хотелось бы.
— Но что вам даст наша смерть? Объясните. Вы хотите нас убить из-за того, что я отказался пожертвовать фондами Океанской Впадины? Но я не могу поступить иначе. Решение не зависит от меня одного. А если вы меня убьете, это отнюдь не поможет вам склонить мнение совета на свою сторону, скорее наоборот. Если лунянин совершит убийство — как по-вашему, это отразится на Луна-Сити? Представьте, какая буря возмущения поднимется на Земле!
В диалог вступила Аннет, и лишь отдельные звенящие нотки проскальзывали порой в ее ровном голосе:
— Разве вы не понимаете, что обязательно найдутся люди, которые скажут, будто космическая радиация на Луне оказывает опасное воздействие? Что генная инженерия, преобразовавшая ваши кости и мускулы, повлияла на психическую устойчивость? Вспомните значение слова «лунатик», мистер Демерест! Когда-то люди думали, что Луна провоцирует безумие.
— Я не безумец, миссис Берген.
— Это не имеет значения, — сказал Берген, подхватывая идею жены. — Люди назовут вас безумцем. Они решат, что безумны все луняне, и закроют Луна-Сити, возможно навсегда. Вы этого добиваетесь?»
— Так могло бы случиться, если бы кто-нибудь узнал, что я убил вас. Но никто не узнает. Это будет несчастный случай. — Левым локтем Демерест разбил пластик, покрывавший ручную систему управления. — Я с такими устройствами знаком, — продолжал он. — Я прекрасно знаю, как они действуют. По идее, когда разбивается пластик, должны замигать аварийные сигнальные лампочки — в конце концов, пластик можно разбить и случайно, — и кто-то должен прийти сюда, чтобы проверить, в чем дело. Хотя возможно, что система сработает сразу и во избежание аварии перекроет шлюз.
Он сделал паузу и продолжил:
— Да только я уверен, что никто не прибежит сюда с проверкой и никакого аварийного предупреждения не будет. Ваша ручная система ненадежна, поскольку в душе вы были уверены, что она вам никогда не понадобится.
— Что вы задумали? — спросил Берген.
Он весь напрягся, и Демерест, не отводя взгляда от его колен, предупредил:
— Если вы попытаетесь прыгнуть, я тут же выстрелю, а потом продолжу делать то, что задумал.
— В таком случае мне просто нечего терять.
— Вы потеряете время. Не мешайте мне, и тогда у вас останется несколько минут на разговоры. Не исключено, что вам даже удастся переубедить меня. Вот мое предложение: вы сидите на месте, а я даю вам шанс поспорить.
— Но что вы собираетесь делать?
— Сейчас увидите! — пообещал Демерест. Не оглядываясь, он сунул под разбитую крышку левую руку и замкнул контакт. — Скоро атомный генератор накачает в шлюз тепло, и пар вытеснит воду. Это займет несколько минут. Потом одна из кнопочек здесь на панели загорится красным светом.
— Вы собираетесь…
— Зачем вы спрашиваете? Вам и так ясно, что я собираюсь затопить Океанскую Впадину.
— Но зачем? Зачем, черт подери?
— Затем, что это будет выглядеть как несчастный случай и сильно подпортит вашу прекрасную статистику. Затем, что это будет полная катастрофа, которая сотрет станцию с лица земли. И тогда ВСП отвернется от вас, и слава Океанской Впадины померкнет. Мы получим фонды; мы будем продолжать. Если бы я мог достичь этого каким-то другим способом, я был бы только рад, но интересы Луна-Сити и интересы человечества превыше всего.
— Вы тоже погибнете, — с трудом проговорила Аннет.
— Конечно. А зачем мне жить после того, что я вынужден буду сделать? Я не убийца.
— Но вы им станете. Затопив этот блок, вы затопите всю Океанскую Впадину и убьете всех до единого сотрудников станции, а тех, кто сейчас в океане, обречете на более медленную гибель. Пятьдесят человек, включая женщин — и нерожденного ребенка…
— Это не моя вина, — с болью сказал Демерест. — Я не ожидал встретить здесь беременную женщину. Но раз уж так случилось, меня это не остановит.
— И все же вы должны остановиться, — сказал Берген. — Ваш план не сработает, если возникнут хоть какие-то сомнения в том, что произошел несчастный случай. Найдут ваш труп с лазерным лучевиком в руках, увидят разбитый пластик ручной системы управления… Неужели вы думаете, будто никто не поймет, что здесь случилось?
— В вас говорит отчаяние, мистер Берген, — устало сказал Демерест. — Послушайте меня. Когда откроется внешний люк, сюда хлынет вода под давлением в тысячу атмосфер. Этот бешеный поток сметет на своем пути абсолютно все. Стены блоков останутся, но все внутренности будут перекорежены до неузнаваемости. Люди превратятся в кровавые ошметья с перемолотыми костями. Смерть будет мгновенной и безболезненной. Даже если мне придется сжечь вас обоих лазером, никаких подозрений ни у кого не возникнет, поскольку от трупов останется мокрое место. Поэтому, как вы понимаете, я колебаться не стану. А пластиковая крышка ручной системы в любом случае будет разбита потоком. В общем, все следы моих преступлений смоет водой.
— Но останется лазерный лучевик. Даже покореженный, он будет узнаваем, — заметила Аннет.
— Мы пользуемся такими лучевиками на Луне, миссис Берген. Это обыкновенное орудие труда, оптический аналог складного ножа. Я мог бы убить вас и складным ножом, но никому ведь не придет в голову обвинять в убийстве человека только потому, что в руках у него нож, пусть даже с раскрытым лезвием. А может, он решил заняться резьбой по дереву? Кроме того, лунный лучевик — это вам не реактивная пушка. Он вряд ли выдержит направленный внутрь взрыв. Корпус у него тонкий, механика непрочная. После водного удара от него останутся лишь жалкие обломки.
Демересту не приходилось обдумывать свои доводы. Все они были продуманы в течение нескольких месяцев на Луне, пока он спорил сам с собой.
— Неужели вы надеетесь, что расследованию удастся установить причину аварии? — продолжал он. — Сюда пошлют батискафы, чтобы посмотреть, что осталось от станции, но, чтобы люди проникли внутрь, нужно будет откачать из блоков воду. А для этого потребуется построить новую станцию, что займет массу времени. Да и вряд ли ее будут строить, поскольку общество не захочет зря тратить деньги. Скорее всего они ограничатся тем, что бросят лавровый венок на мертвые крыши мертвой Океанской Впадины.
— Люди в Луна-Сити узнают о том, что вы натворили, — сказал Берген. — И хоть у одного из них проснется совесть. Правда выплывет наружу.
— Правда в том, — сказал Демерест, — что я не дурак. Никто в Луна-Сити не знает о моих намерениях. Никто ничего не заподозрит. Меня послали сюда для переговоров по поводу финансирования. Я должен был убеждать — и ничего больше. Даже пропавшего лучевика никто не хватится, потому что я сам собрал его из запасных частей. Но он работает. Я проверял.
— По-моему, вы просто не ведаете, что творите, — тихо проговорила Аннет.
— Я прекрасно знаю, что делаю. Я также прекрасно знаю, что вы заметили, как загорелась красным светом эта кнопочка. Я тоже заметил. Шлюз опустел — а значит, ваше время истекло.
Не выпуская из рук нацеленный лучевик, Демерест проворно замкнул еще один контакт. Круглый люк чуть сдвинулся в сторону, образовав узкую серповидную щель, а затем плавно скользнул в стену.
Уголком глаза Демерест видел зияющий темный круг, но в ту сторону не смотрел. Из отверстия потянуло соленой сыростью — запахом остуженного пара. Демересту почудилось, будто он слышит даже плеск воды на дне шлюза.
— Будь ваша ручная система устроена разумно, — сказал Демерест, — внешний люк сейчас бы заблокировало наглухо. Пока открыт внутренний люк, внешний не должен открываться ни при каких обстоятельствах. Но я подозреваю, что ручную систему сооружали наспех и такой предосторожности не предусмотрели, а потом ее заменили автоматикой, так и не удосужившись исправить огрехи. Думаю, мои подозрения небезосновательны. Вы бы не сидели сейчас с таким напряженным видом, если бы были уверены в том, что внешний люк не откроется. Мне осталось замкнуть всего один контакт — и грянет водный гром. Мы ничего не почувствуем.
— Подождите минутку, — перебила его Аннет. — Я хочу кое-что вам сказать. Вы обещали, что дадите нам время, чтобы вас переубедить.
— Я вам его дал — пока осушался шлюз.
— Позвольте мне все-таки сказать. Подождите минуту. Всего одну минуту. Я говорила, что вы не ведаете, что творите. И это действительно так. Вы ликвидируете космическую — повторяю, космическую — программу! Не глубоководную, а космическую. — Ее голос зазвенел пронзительно и резко.
— О чем вы? — нахмурился Демерест. — Говорите, да не заговаривайтесь, не то я нажму на кнопку. Я устал. Я боюсь. Я хочу, чтобы все поскорее кончилось.
— Вы не являетесь членом ВСП. И мой муж тоже. Ноя-член совета. Думаете, если я женщина, так я здесь играю вторую скрипку? Ничуть не бывало. Вы, мистер Демерест, зациклились исключительно на Луна-Сити. Мой муж — на Океанской Впадине. И ни один из вас ничего не знает.
Куда вы направите свои честолюбивые устремления, мистер Демерест, если получите все деньги, какие хотите? На Марс? На астероиды? На спутники планет-гигантов? Все это мелкие планетки, бесплодные и лишенные атмосферы. Может пройти еще много лет, прежде чем нам станут доступны межзвездные полеты, а до того нам придется довольствоваться карликовыми колониями. Ваши амбиции дальше не простираются, правда ведь?
Амбиции моего мужа тоже ограничены. Он мечтает заселить океанское дно — поверхность не намного большую, чем Луна и астероиды. Что же до нас, членов ВСП, то наши желания простираются гораздо дальше, и если вы нажмете на эту кнопку, мистер Демерест, величайшая мечта человечества обратится в прах.
Демерест невольно заинтересовался, но все же недоверчиво сказал:
— Вы просто болтаете.
Он понимал, что супруги могли каким-то образом предупредить остальных сотрудников станции и что сюда в любой момент может кто-нибудь ворваться и пристрелить его. Но он не сводил глаз с отверстия люка, и ему оставалось замкнуть всего один контакт — не глядя, молниеносным движением руки.
— Я не болтаю, — возразила Аннет. — Вам известно не хуже, чем мне, что для колонизации Луны одних ракет было бы недостаточно. Чтобы основать жизнеспособную колонию, пришлось генетически изменить людей и приспособить их к слабой гравитации. Вы сами — продукт генной инженерии.
— Ну и?..
— А разве генная инженерия не может приспособить людей к более сильной гравитации? Какая планета самая крупная в Солнечной системе, мистер Демерест?
— Юпи…
— Да, Юпитер. Диаметр в одиннадцать раз больше земного и в сорок раз — лунного. Площадь поверхности в сто двадцать раз превышает земную и в тысячу шестьсот раз — лунную. А окружающая среда настолько отличается от привычных человечеству условий, в том числе и от тех, какие нам могут встретиться на планетах размером с Землю и меньше, что любой ученый отдаст полжизни за возможность изучить их в непосредственной близости.
— Но Юпитер — нереальная цель.
— Вы так думаете? — Аннет удалось выдавить из себя слабую улыбку. — Такая же нереальная, как межзвездный полет? А почему? Генная инженерия способна создать людей с более сильным и плотным скелетом, с более мощной и компактной мускулатурой. Так же, как Луна-Сити защищен от вакуума, а Океанская Впадина — от океана, можно будет защитить будущую Юпитерианскую Впадину от насыщенной аммиаком атмосферы.
— Гравитационное поле…
— …не сможет помешать атомным космическим кораблям, которые уже разрабатываются в конструкторских бюро. Вы об этом не слышали, но я-то в курсе.
— Да ведь мы даже не знаем, какова глубина атмосферы на Юпитере! Давление…
— Давление! Давление! Оглянитесь вокруг, мистер Демерест! Для чего, как вы думаете, на самом деле была построена Океанская Впадина? Чтобы эксплуатировать богатства океана? Поселения на континентальных шельфах прекрасно справляются с этой задачей. Чтобы исследовать океанские глубины? Для этого хватило бы батискафов, и мы могли бы сэкономить сотню миллиардов долларов, вложенных в развитие станции.
Неужели вы не понимаете, мистер Демерест, что у станции куда более важное предназначение? Океанская Впадина была основана для того, чтобы разработать виды транспортных средств и механизмов, которые будут пригодны для освоения и колонизации Юпитера. Посмотрите вокруг — и вы увидите приблизительную модель юпитерианской окружающей среды, самую близкую, какая только возможна на Земле. Это всего лишь слабое подобие могучего Юпитера, но это только начало. Уничтожьте станцию, мистер Демерест, и вы уничтожите все надежды на Юпитер. Оставьте нас в живых — и мы вместе освоим ярчайшую жемчужину Солнечной системы. И задолго до того как лимиты Юпитера будут исчерпаны, человечество будет готово к межзвездным полетам, к освоению планет земного — и юпитерианского — типа. Совет не собирается закрывать проект Луна-Сити, ибо для достижения конечной цели необходимы оба проекта.
На мгновение Демерест забыл даже о последней кнопке.
— Никто в Луна-Сити не слыхал об этом.
— Вы не слыхали. Но кое-кто из Луна-Сити в курсе. Если бы вы сообщили им о своих намерениях, они бы вас остановили. Естественно, мы не можем сделать этот проект достоянием общественности. В него посвящены только избранные. Общество и так скрепя сердце финансирует планетарные проекты. Если ВСП скряжничает, так только потому, что общество ограничивает щедрость совета. Как по-вашему, что скажут люди, если узнают о наших планах насчет Юпитера? Да они завопят, что мы выбрасываем их денежки на ветер! А так мы работаем себе потихоньку, и все средства, которые удается сэкономить, вкладываем в развитие разных аспектов проекта «Большая планета».
— Проекта «Большая планета»?
— Да, — сказала Аннет. — Теперь вы в курсе, а я совершила серьезный служебный проступок. Но ведь это не имеет значения, верно? Поскольку все мы погибнем, и проект в том числе.
— Погодите-ка, миссис Берген!
— Даже если вы измените свое решение, не вздумайте никому рассказывать о проекте «Большая планета». Это прикончит его так же верно, как затопление станции. А заодно положит конец и вашей карьере, и моей. Не исключено, кстати, что тогда закроют оба проекта — как Луна-Сити, так и Океанскую Впадину. Хотя вам, возможно, это без разницы. Вы по-прежнему можете нажать на кнопку.
— Я сказал — погодите! — Демерест нахмурил брови, гневно сверкая глазами. — Я не знаю…
Глядя, как настороженная готовность противника сменяется нерешительностью, Берген изготовился было к прыжку, но Аннет вцепилась в мужнин рукав.
Последовала бесконечная пауза, которая тянулась около десяти секунд, а затем Демерест протянул свой лучевик.
— Держите, — сказал он. — Считайте, что взяли меня под арест.
— Мы не можем вас арестовать, — возразила Аннет, — иначе вся история выплывет наружу. — Она взяла лучевик и протянула его мужу. — Нас вполне устроит, если вы вернетесь в Луна-Сити и будете хранить молчание. А пока вам придется немного посидеть под стражей.
Берген мгновенно очутился возле ручной системы управления. Внутренний люк закрылся, и вода с оглушительным ревом снова устремилась в шлюз.
Супруги остались наедине. Они не перемолвились ни словечком, пока Демереста не уложили спать под бдительным надзором двух сотрудников станции. Неожиданный удар водного грома поднял на ноги всю команду, и Берген выдал им сильно сокращенную версию происшествия.
Систему ручного управления закрыли на замок, после чего Берген заявил:
— Нужно немедленно сделать ее надежной. И обыскивать при входе всех посетителей.
— Ох, Джон, — сказала Аннет, — по-моему, люди просто безумны. Только что мы глядели смерти в лицо; гибель грозила и нам, и всей Океанской Впадине. И знаешь, о чем я все время думала? «Нужно сохранять спокойствие, — думала я. — Главное, чтобы не было выкидыша!»
— Ты была само спокойствие. Ты была изумительна. Я имею в виду проект «Большая планета». Мне такое даже в голову не приходило, но клянусь… клянусь… Юпитером, это заманчивая идея. Просто великолепная.
— Мне жаль, что пришлось задурить вам головы, Джон. Все это, к сожалению, вранье. Я все придумала. Но Демересту хотелось услышать нечто подобное. Он не убийца и не разрушитель. В своем разгоряченном воображении он видел себя патриотом и наверняка внушал сам себе, что должен разрушить ради того, чтобы спасти, — весьма распространенное заблуждение ограниченных умов. Но он сказал, что даст нам возможность его переубедить, и, по-моему, в душе он жаждал, чтобы нам это удалось. Ему хотелось услышать от нас нечто такое, что позволило бы ему спасти ради спасения, и я дала ему шанс… Жаль, что мне пришлось обмануть и тебя тоже, Джон.
— Ты меня не обманула.
— Ты не поверил?
— А как я мог поверить? Я знаю, что ты не член совета.
— Почему ты в этом так уверен? Потому что я женщина?
— Вовсе нет. Потому что я сам член совета, Аннет, и это действительно должно остаться между нами. Знаешь, если ты не против, я предложу совету твою идею — проект «Большая планета».
— Ну-у… — Аннет задумалась, а потом тихонько улыбнулась. — Ну что ж, я не против. Вот видишь: от женщин тоже порой бывает польза!
— Этого, — тоже улыбаясь, сказал Берген, — я никогда не отрицал.
Возьмите спичку
Космос был черным, куда ни глянь — сплошная чернота. Ни единого просвета, ни единой звезды.
Не потому, что не стало звезд…
В сущности, именно мысль, что звезды могут исчезнуть, буквально исчезнуть, леденила Петра Хэнсена. Это был старый кошмар, как его ни подавляй, но дремлющий в подсознании всех космических дальнепроходцев.
Когда совершаешь прыжок через пространство тахионов, как знать, куда попадешь? Можешь с какой угодно точностью рассчитать время и расход горючего, можешь иметь лучшего в мире термоядерщика, но от принципа неопределенности никуда не деться. Промах всегда возможен, больше того — даже неминуем.
А при скоростях, с которыми мчатся тахионы, ошибка на волосок может обернуться тысячью световых лет.
Что как окажешься без всяких ориентиров, не сможешь определиться и найти обратный путь?
Исключено, говорят ученые. Во всей Вселенной, говорят они, нет места, откуда не видны были бы квазары, а уже по ним одним можно сориентироваться. Да и вероятность выскочить при обычном прыжке за пределы Галактики равна одной десятимиллионной, а за пределы таких, скажем, галактик, как Андромеда или Маффей I, — что-нибудь порядка одной квадриллионной. Выкиньте это из головы, говорят ученые.
Значит, когда корабль возвращается из парадоксального пространства сверхсветовых скоростей в обычный, знакомый мир нормальных физических законов, звезды должны быть видны. Если же их все-таки не видишь, значит, ты угодил в пылевое облако — вот единственное объяснение.
Если не считать ревниво оберегаемых термоядерщиками тайн, Хэнсен, высокий, угрюмый человек с дубленой кожей, знал все о суперкораблях, вдоль и поперек бороздящих Галактику и ее окрестности. Сейчас он был один в милом его сердцу капитанском отсеке. Отсюда он мог связаться с любым человеком на корабле, взглянуть на показатели любых приборов, и ему нравилась эта возможность незримо присутствовать всюду.
Впрочем, сейчас Хэнсена ничто не радовало. Он нажал клавишу и спросил:
— Что еще, Штраус?
— Мы в рассеянном скоплении, — ответил голос Штрауса. — Во всяком случае, уровень излучения в инфракрасном и микроволновом диапазонах свидетельствует о рассеянном скоплении. Беда в том, что мы не можем сориентироваться. Никакой надежды.
— В обычном свете видимости совсем нет?
— Абсолютно. И в ближнем инфракрасном — тоже. Облако густое, как каша.
— А его размеры?
— Решительно невозможно определить.
— Далеко ли может быть ближайший край?
— Не имею ни малейшего представления. Может, одна земная неделя, а может, десять световых лет.
— Вы разговаривали с Вилыокисом?
— Да! — отрывисто произнес Штраус.
— Что он говорит?
— Почти ничего. Он дуется. Он, конечно, воспринимает все это как личное оскорбление.
— Конечно, — Хэнсен бесшумно вздохнул. Термоядерщики ведут себя, как неразумные дети, а особая роль, которую они выполняют в глубоком космосе, заставляет все им прощать. — Полагаю, вы говорили ему, что такие вещи непредсказуемы, что они со всяким могут случиться.
— Я-то говорил. А он, как вы, верно, догадываетесь, возразил: «Только не с Вилыокисом».
— Если забыть, что с ним это уже случилось. Ну, мне говорить с ним нельзя. Что бы я ни сказал, он воспримет это как попытку давления сверху, а тогда мы вообще ничего от него не добьемся… Он не намерен воспользоваться ковшом?[19]
— Он говорит, что так можно повредить ковш.
— Повредить магнитное поле?!
— Не говорите ему этого, — предупредил Штраус. — Он заявит, что здесь не столько магнитное поле, сколько термоядерная труба, а потом еще будет обижаться на вас.
— Да. Я знаю… Ладно, пусть все займутся этой задачей. Должен же быть какой-то способ узнать направление и расстояние до ближайшего края облака. — Он прекратил разговор и мрачно задумался.
Прыжок они сделали, двигаясь на полусветовой скорости в направлении к центру Галактики, а значит, на такой же скорости снова вернулись в пространство тардионов[20]. Такая операция всегда содержит элемент риска. Ведь после прыжка корабль мог оказаться вблизи какой-нибудь звезды, устремляясь к ней на полусветовой скорости.
Теоретики отрицали такую возможность. Корабль, говорили они, не может очутиться в опасной близости от массивного небесного тела. Гравитационные силы, действующие на корабль при переходе от тардионов к тахионам и обратно, по самой своей природе являются силами отталкивания. Однако все тот же принцип неопределенности не позволял точно рассчитать эффект от взаимодействия всех таких сил…
Теоретики сказали бы: положитесь на инстинкт термоядерщика. Хороший термоядерщик никогда не ошибается.
Но именно термоядерщик загнал их в это облако.
— …О, вот вы о чем! Такое всегда возможно. Не беда. Облака чаще всего неплотные. Вы и не заметите, что попали в облако.
(О мудрец, не такое это облако!)
— Вам даже выгодно попасть в облако. Ковши смогут быстрее собрать газ, необходимый для термоядерных двигателей.
(О мудрец, не такое это облако!)
— Ну, тогда предоставьте термоядерщику найти выход.
(Но что, если выхода просто нет?)
Хэнсен оборвал этот воображаемый диалог, стараясь прогнать последнюю мысль. Но как не думать о том, что всего сильнее тебя тревожит?
Астроном Генри Штраус был тучным мужчиной с самой заурядной внешностью, и только окрашенные контактные линзы придавали искусственную яркость его глазам. Он тоже был глубоко удручен. Еще с катастрофой иного рода он и смирился бы. Отваживаться на такое путешествие нельзя с закрытыми глазами. Всякий должен быть готов к катастрофе. Но когда она задевает то, чему ты посвятил свою жизнь, а твои профессиональные знания оказываются бесполезны…
Капитан в таком деле бессилен. Он может единовластно командовать всеми другими на корабле, но термоядерщик сам себе хозяин, и этого не изменить. Даже для пассажиров (как это ни огорчительно) термоядерщик — властелин космоса, затмевающий всех и все.
Спрос здесь превышает предложение. Компьютеры могут точно вычислить расход энергии, время, место и направление прыжка (если при переходе от тардионов к тахионам можно говорить о «направлении»), но пределы погрешности огромны и уменьшить их способен лишь талантливый термоядерщик. Что это за талант, никто не знает — термоядерщиками рождаются, стать ими нельзя. Но сами они знают, что у них есть такой талант и нет термоядерщика, который не извлекал бы выгоды из этого.
Вильюкис в этом смысле еще не самый трудный. Со Штраусом он, во всяком случае, поддерживает добрые отношения, однако не постеснялся увлечь самую хорошенькую девушку на корабле, хоть Штраус и первый обратил на нее внимание. (Это тоже давно стало чем-то вроде королевской привилегии термоядерщика.)
Штраус вызвал Антона Вильюкиса на связь. Прошло немало времени, пока на экране возник взъерошенный и сердитый Вильюкис.
— Как труба? — мягко спросил Штраус.
— Думаю, я вовремя выключил ее. Сейчас осмотрел и повреждений не обнаружил. Теперь, — он глянул на свой костюм, — мне надо привести себя в порядок.
— Хорошо, что труба не повреждена.
— Но пользоваться ею нельзя.
— Может, придется, Вил, — осторожно начал Штраус. — Мы не знаем, что будет дальше. Если бы облако рассеялось…
— Если бы, если бы, если бы… Я скажу вам, что «если бы». Если бы вы, безмозглые астрономы, знали о существовании здесь облака, я сумел бы избежать его.
Сказанное было несправедливо и к делу не относилось. Штраус не поддался на провокацию.
— Облако может рассеяться, — сказал он.
— Как там анализы?
— Анализы скверные, Вил. Это самое плотное из всех когда-либо отмеченных гидроксильных облаков. Я не знаю в Галактике другого места с такой концентрацией гидроксила.
— И совсем нет водорода?
— Немного, конечно, есть. Процентов пять.
— Мало, — решительно заявил Вильюкис. — Но там не только гидроксил. Там есть кое-что похуже гидроксила.
— Да, знаю. Формальдегид. Его больше, чем водорода. Вам понятно, что это значит, Вил? Какой-то процесс вызвал скопление кислорода и углерода настолько огромное, что оно поглотило весь водород в объеме, может быть, нескольких световых лет. Я ни о чем таком прежде и не слыхивал и не представляю, что это за процесс.
— На что вы намекаете, Штраус? Не хотите ли вы сказать, что это единственное в своем роде облако и что только я по своей глупости мог угодить в него?
— Не искажайте моих слов, Вил. Я выражаюсь достаточно ясно. Ничего подобного вы ведь не слышали. Сейчас, Вил, все мы зависим от вас. Я не могу вызвать помощь, потому что, не зная нашего местоположения, не представляю, куда нацелить гиперлуч. А определить местоположение я не могу из-за отсутствия звезд…
— Ну а я не могу использовать термоядерную трубу. Так почему же я виноват? Ведь и вы не можете сделать свое дело, почему же всегда виноват термоядерщик? — кипятился Вильюкис. — Дело за вами, Штраус, за вами. Скажите мне, куда вести корабль, чтобы отыскать водород. Скажите мне, где кончается это облако… Или ладно, черт с ним, с облаком! Скажите, где кончается это гидроксильно-формальдегидное засилие.
— Я бы рад помочь вам, — сказал Штраус, — но в каждой пробе я нахожу только гидроксил и формальдегид.
— С ними термоядерная реакция не пойдет.
— Я знаю.
— Вот, — бушевал Вильюкис, — видите, к чему приводит перестраховка! Если бы термоядерщик мог сам принимать
нужные решения, у нас была бы энергия для двойного прыжка, и мы горя бы не знали.
Штраус понимал, что он имеет в виду. Речь шла о возможности делать второй прыжок сразу вслед за первым. Но неопределенность, имевшая место при одном прыжке, при двух возросла бы во много раз, тут никакой термоядерщик не смог бы ничего поделать.
Было установлено строгое правило: между прыжками должны пройти сутки, а лучше — три дня. За это время можно подготовиться к следующему прыжку. Чтобы данное правило не нарушали, запас энергии дозировался с таким расчетом, чтобы его хватало лишь на один прыжок. Затем надо было снова собрать ковшами газ, сконденсировать его, накопить энергию и запустить термоядерные двигатели. На все это, как правило, требовалось не меньше суток.
— Сколько у вас осталось энергии, Вил? — спросил Штраус.
— Вот столечко, — Вильюкис на четверть дюйма развел большой и указательный пальцы.
— Скверно, — заметил Штраус.
Расход энергии фиксировался и мог быть проконтролирован, но термоядерщики все же умудрялись создавать некоторый запас. И Штраус спросил:
— Вы уверены, что это все? Если запустить аварийные генераторы, выключить освещение…
— Да. И вентиляцию, и все бытовые приборы, и арматуру гидропоники. Знаю, знаю. Я уже прикидывал. Все равно не выйдет. Этот ваш дурацкий запрет делать двойной прыжок…
Штраус опять сдержался. Он знал, да и все знали, что в действительности о запрете позаботился союз термоядерщиков. На двойном прыжке иногда настаивали капитаны, но именно термоядерщики боялись оказаться несостоятельными. Впрочем, сейчас известный всем обязательный интервал между прыжками имел и свою положительную сторону. Его можно было при необходимости растянуть на целую неделю, не вызвав у пассажиров никаких подозрений. А за неделю что-нибудь, авось, прояснится. Пока еще шли только первые сутки. Штраус сказал:
— Вы уверены, что ничего нельзя сделать с вашей системой? Скажем, отфильтровать примеси?
— Какие примеси! Это не примеси, это — основная масса. Примесь здесь — водород. Поймите, нужна температура в полмиллиарда, если не в миллиард градусов, чтобы атомы кислорода и углерода вступили в термоядерную реакцию.
Это невозможно, я и пытаться не стану. Если бы я попытался и ничего не вышло, вся ответственность была бы на мне, а я этого не желаю. Вы должны доставить меня туда, где есть водород вот и выполните свою работу. Ведите корабль к месту, где есть водород. Мне все равно, сколько вам потребуется для этого времени.
— При такой плотности облака мы не можем увеличить скорость. Вил. А на полусветовой скорости мы можем прокрутиться здесь и два года, и двадцать лет…
— Придумайте выход сами. Или пусть это сделает капитан.
Штраус в отчаянии отключил связь. Термоядерщику разумные доводы недоступны. Существовала даже теория (вполне серьезная), будто повторные прыжки влияют на мозг. При прыжке каждый тардион переходит в тахион, а затем происходит обратное превращение. Если бы при этом возникло малейшее отклонение, оно, естественно, сказалось бы в первую очередь на самом сложном, на мозге. Конечно, прямых доказательств тому пока не наблюдали: офицеры суперкораблей если и изменялись с годами, то лишь в связи с возрастом. Но, может быть, особое устройство мозга термоядерщиков, в чем бы оно ни заключалось, не позволяет полностью восстановиться этому исключительному созданию природы.
Чепуха! Не в том дело! Просто термоядерщики донельзя испорчены!
Штраус был в нерешительности. Может, обратиться к Черил? Если кто способен помочь, то только она. Вил — точно избалованное дитя. К нему нужен подход. Тогда он и в такой ситуации сможет что-нибудь придумать.
Верил ли в это Штраус? Или ему просто претило застрять здесь на годы? В принципе суперкорабли приспособлены и для таких экстремальных условий. Но на практике этого еще не случалось, и ни экипаж, ни — тем более — пассажиры к экстремальным условиям не готовы.
Но как обратиться со столь щекотливым предложением к Черил? Что сказать, чтобы это не выглядело прямым подстрекательством к обольщению термоядерщика? Шли только первые сутки, и Штраус еще не чувствовал себя готовым толкнуть Черил в объятия Вильюкиса.
Ждать! Пока, во всяком случае, ждать!
Вильюкис хмурился. От ванны ему стало чуть легче, и он был доволен проявленной в разговоре со Штраусом твердостью. В сущности, Штраус — неплохой малый, но, как все они («они» — капитан, команда, пассажиры, все тупицы, населяющие Вселенную и не являющиеся термоядерщиками), он стремился избежать ответственности. Свалить ее на термоядерщика. Дудки! С Вилыокисом этот номер не пройдет.
Вильюкис встал и потянулся — высокий, с глубоко посаженными глазами, над которыми навесом торчали густые брови.
Эта болтовня, что они могут застрять здесь на годы, — только попытка запугать его. Пусть как следует пораскинут мозгами, авось, определят размеры этого облака. Должно же оно где-то кончаться. Едва ли они сидят в самом центре. Конечно, если корабль находится вблизи одного края, а мчится к другому…
А вдруг дело и впрямь затянется на несколько лет? Такого еще не бывало. Самое длительное путешествие в глубоком космосе продолжалось восемьдесят восемь дней и тринадцать часов. Тот корабль попал в диффузную туманность и должен был снизить скорость, а потом наращивать ее до девяти десятых скорости света, чтобы можно было сделать прыжок.
Никто не погиб. Конечно, двадцать лет, например…
Но этого не может быть.
Сигнальная лампочка трижды мигнула, пока он обратил на нее внимание. Ну, если это капитан, он ему покажет!..
— Антон!
Нежный настойчивый голос несколько поубавил досаду. Вильюкис позволил двери на миг открыться, чтобы впустить Черил.
Двадцать пять лет, зеленые глаза, решительный подбородок, матово-рыжие волосы…
— Что-нибудь случилось, Антон? — спросила девушка.
Даже термоядерщик не станет слишком откровенничать
с пассажирами, и Вильюкис ответил:
— Вовсе нет. С чего вы взяли?
— Так сказал один пассажир. Некий Мартанд.
— Мартанд? Что он в этом смыслит? — Затем подозрительно: — И почему вы слушаете какого-то дурака-пассажира? Что он собой представляет?
Черил слабо улыбнулась:
— Просто человек. Ему лет под шестьдесят, и он вполне безобиден, хотя, по-моему, не хочет, чтобы его считали таким. Но не в том суть. Все заметили, что звезд не видно, и Мартанд сказал: это неспроста.
— Вот как? Мы просто пересекаем облако. В Галактике их полно, и суперкорабли постоянно проходят через них.
— Да, но Мартанд говорит, что и в облаке, как правило, видны звезды.
— Что он в этом смыслит? — повторил Вильюкис. — Он что, старый космический волк?
— Н-нет, — признала Черил. — Кажется, это вообще первое его путешествие. Но он, видать, очень знающий человек.
— Чувствуется! Ступайте-ка к нему и велите заткнуться, если он не хочет попасть в изолятор. И сами тоже помалкивайте.
Черил склонила набок голову.
— Знаете, Антон, мне начинает казаться, что у нас действительно что-то случилось. Вы так это сказали… А Луис Мартанд — интересная личность. Он школьный учитель. Преподает в старшем классе общий курс наук.
— Школьный учитель! Боже милостивый! Черил…
— Но вам стоило бы его послушать. Он говорит, что учить ребят — одна из немногих профессий, при которых надо иметь некоторое представление обо всем на свете, потому что ребята вечно задают вопросы и легко распознают липу.
— Вот и вам следовало бы научиться распознавать липу. В общем, велите ему заткнуться, не то я сам это сделаю.
— Хорошо. Но прежде скажите, верно ли, что мы пересекаем гидроксильное облако и что термоядерная труба выключена?
Вильюкис открыл рот, но тут же закрыл его. Наступила долгая пауза.
— Кто вам это сказал? — спросил он наконец.
— Мартанд. Ну, я пойду.
— Нет, — резко произнес Вильюкис. — Постойте. Кому еще Мартанд все это рассказывал?
— Никому. Он говорит, что не хочет сеять панику. Должно быть, я просто оказалась рядом, когда это пришло Мартанду в голову, и ему надо было с кем-нибудь поделиться.
— Знает он, что мы с вами знакомы?
Черил чуть сдвинула брови:
— Кажется, в разговоре я об этом упомянула.
Вильюкис фыркнул:
— Не воображайте, что этот старый идиот, которого вы подцепили, лезет из кожи вон ради вас. Это он пытается через ваше посредство произвести впечатление на меня.
— Вот уж нет. Он даже специально просил ничего вам не говорить.
— Зная, конечно, что вы тут же отправитесь ко мне.
— Да зачем ему это?
— Чтобы посадить меня в галошу. Вы знаете, что такое быть термоядерщиком? Все тебя ненавидят, все против тебя. Потому что ты необходим, потому что…
— Но при чем тут это? Если Мартанд ошибается, как он может посадить вас в галошу? А если он прав… Он прав, Антон?
— Что именно он говорил?
— Я не уверена, конечно, что могу все вспомнить, — задумчиво сказала Черил. — Это было через несколько часов после прыжка. В то время все говорили, что звезд не видно, а без них путешествовать в глубоком космосе совершенно неинтересно. В гостиной только и было разговоров, что о следующем прыжке. А потом пришел Мартанд и заговорил со мной… Пожалуй, он мне симпатизирует.
— Пожалуй, я ему не симпатизирую, — угрюмо заметил Вильюкис. — Продолжайте.
— Я сказала, что скучно лететь, когда ничего не видно, а он сказал, что так будет еще некоторое время, и мне показалось, будто он обеспокоен. Естественно, я спросила, почему он так думает, а он ответил, что термоядерная труба выключена.
— С чего он это взял?
— Он говорит, что в одном из мужских туалетов слышалось негромкое гудение, которое теперь смолкло. А в стенном шкафу, где лежат шахматы, одно место всегда нагревалось от трубы. И теперь это место холодное.
— Это все его доводы?
— Он говорит, — продолжала она, — что звезд не видно, так как мы находимся в густом облаке; а термоядерная труба выключена, потому что здесь не хватает водорода. По его словам, нам может не хватить энергии для нового прыжка, и если мы станем искать водород, мы можем на годы застрять в этом облаке.
Выражение лица Вильюкиса стало свирепым.
— Он паникер. Вы знаете, что за это…
— Он не паникер. Он предупредил, чтобы я никому ничего не говорила, потому что это вызовет панику, и еще потому, что ничего такого с нами не случится. Со мной он поделился просто потому, что я оказалась рядом, когда эта мысль пришла ему в голову. Вообще же он сказал, что есть очень легкий выход из положения и термоядерщику это, конечно, известно, так что беспокоиться не о чем… Однако вы ведь термоядерщик, вот я и подумала, что надо спросить у вас, верно ли это все насчет облака и насчет того, что вы уже принимаете какие-то меры.
— Ни черта он не понимает, этот ваш школьный учитель. Держитесь от него подальше… Гм-м… А говорил он, что это за легкий выход из положения?
— Нет. Спросить его?
— Нет. Зачем мне это? Что он может знать? Впрочем… Ладно, спросите. Мне любопытно, что у этого идиота на уме. Спросите.
— Я могу спросить. Но у нас действительно неприятности?
— Предоставьте это мне, — отрезал Вильюкис. — И пока я не сказал, что у нас неприятности, считайте, что их у нас нет.
Он долго глядел на захлопнувшуюся за Черил дверь, сердито и вместе с тем растерянно. Что он намерен предпринять, этот Луис Мартанд этот школьный учитель, осеняемый идеями?
Если в конечном счете путешествие затянется, пассажиров надо осторожно к этому подготовить. Но кто станет слушать, если Мартанд уже сейчас обо всем раструбит?..
Почти яростно Вильюкис щелкнул тумблером, вызывая капитана.
Мартанд был строен, подтянут. Губы его все время, казалось, готовы сложиться в улыбку, хотя лицо неизменно сохраняло вежливую серьезность и словно бы даже надежду, как будто он постоянно ожидал услышать от собеседника нечто поистине важное.
Черил сказала ему:
— Я разговаривала с мистером Вилыокисом… Он, вы знаете, термоядерщик. Я передала ему ваши слова.
Мартанд с нескрываемым неудовольствием покачал головой:
— Боюсь, вам не следовало этого делать!
— Ему не понравилось…
— Конечно. Термоядерщики — народ особый, они не терпят, чтобы посторонние…
— Я это заметила. Но он уверяет, что для беспокойства нет причин.
— Конечно, нет. — Мартанд успокоительно погладил ее по руке. — Я ведь сказал вам, что из такого положения есть очень простой выход. Хотя допускаю, что Вильюкис не сразу до него додумается.
— До чего додумается? — Затем мягко: — Почему он не сразу додумается, если вы додумались?
— Но он специалист, милая девушка. Специалисты мыслят привычными для их специальности категориями. Им трудно от этого отрешиться. Мне же нельзя быть косным. Демонстрируя перед классом опыт, я почти всегда должен импровизировать. Я, например, никогда еще не работал в такой школе, где имелся бы миниатюрный атомный реактор; и когда мы проводили занятия в поле, мне пришлось смастерить термоэлектрический генератор, работающий на керосине.
— Что это такое — керосин? — спросила Черил.
Мартанд, явно очень довольный, засмеялся:
— Вот видите? Люди забыли. Керосин — это такая горючая жидкость. Мне случалось нередко пользоваться еще более примитивным способом добычи огня: с помощью трения. Слышали о таком? Вы берете спичку…
Черил тупо смотрела на него, и он снисходительно продолжал:
— Ладно, неважно. Я просто пытаюсь объяснить, почему ваш термоядерщик не сразу найдет выход. Я же привык пользоваться примитивными методами… Например, вы знаете, что это? — Он указал на смотровое окно, за которым фактически ничего не было видно, отчего и в гостиной отсутствовал народ.
— Облако, пылевое облако.
— Да, но какое? Основное вещество, присутствующее всегда и всюду, — водород. Он, можно сказать, заполняет Вселенную, и на этом держится навигация в глубоком космосе. Ни один корабль не может запастись горючим, необходимым для повторных прыжков или для того, чтобы то разгоняться почти до скорости света, то вновь резко замедлять ход. Нам приходится черпать горючее из космоса.
— Знаете, меня всегда это удивляло. Я думала, в космосе ничего нет, он пуст.
— Почти пуст, голубушка, а «почти», как известно, не считается. Делая сотню тысяч миль в секунду, успеваешь собрать и сконденсировать достаточно водорода, даже если в каждом кубическом сантиметре лишь несколько его атомов. А малые количества водорода при постоянно идущей термоядерной реакции дают нужную кораблю энергию. В облаках водорода обычно даже больше, чем нужно, но примеси
могут иной раз испортить все дело. И сейчас именно такой случай.
— Откуда вы знаете, что здесь есть примеси?
— Зачем бы иначе мистер Вильюкис выключил термоядерную трубу? После водорода в космосе наиболее часто встречаются гелий, кислород и углерод. Раз трубу выключили, значит, здесь недостает горючего, то есть водорода, и имеются гибельные для сложной термоядерной системы вещества. Гелий, тот безвреден. Скорее всего это гидроксильные группы, образующиеся при соединении кислорода с водородом. Вам понятно?
— Пожалуй. Я проходила в школе этот общий курс наук, и кое-что мне запомнилось. Пыль фактически состоит из гидроксильных групп плюс твердые частицы.
— Собственно, гидроксил в умеренных количествах не очень опасен для термоядерной системы, но вот соединения углерода — другое дело. Здесь скорее всего есть еще и формальдегид. Теперь понимаете?
— Нет, — откровенно призналась Черил.
— Эти соединения не дадут термоядерной реакции. Если разогреть их до нескольких сот миллионов градусов, они просто распадутся на отдельные атомы. Но почему не использовать их при нормальной температуре? Гидроксил и формальдегид после сжатия вступят в обычную химическую реакцию, и это не причинит никакого вреда. Во всяком случае, я уверен, хороший термоядерщик сможет модифицировать систему и провести химическую реакцию при комнатной температуре. Энергию, которая при этом выделится, можно накопить и спустя какое-то время использовать для прыжка.
Черил сказала:
— Не понимаю, каким образом. Едва ли химические реакции могут заменить термоядерную.
— Вы совершенно правы, дорогая. Но нам ведь много и не надо. После предыдущего прыжка у нас не могло хватить энергии для нового — таков порядок. Но, держу пари, ваш приятель-термоядерщик позаботился снизить расход горючего до минимума. Это обычная тактика всех термоядерщиков. Теперь нам надо лишь восполнить небольшой дефицит, тут достаточно и энергии, которую дадут химические реакции. А потом, когда прыжок вызволит нас из этого облака, мы попутешествуем с неделю в космосе, снова накопим водород и сможем спокойно продолжать путешествие. Конечно… — Мартанд поднял брови и пожал плечами.
— Да?
— Конечно, если мистер Вильюкис по какой-то причине промедлит, положение может стать затруднительным. Ведь с каждым днем запас энергии на корабле будет истощаться, и через какое-то время химические реакции уже не смогут пополнить его настолько, чтобы можно было осуществить прыжок. Надеюсь, мистер Вильюкис не станет слишком долго тянуть.
— Почему бы вам не поговорить с ним? Сейчас.
Мартанд покачал головой:
— Поговорить с термоядерщиком? Это невозможно, дорогая.
— Ну, тогда я сама с ним поговорю.
— О нет. Он наверняка сам до всего додумается. Я даже готов предложить вам пари, дорогая. Вы передадите ему в точности наш разговор и скажете, что я уверен: он уже сам принял такое решение и включил термоядерную трубу. И, конечно, если я выиграю… — Мартанд улыбнулся.
Черил тоже улыбнулась:
— Посмотрим…
Мартанд проводил ее задумчивым взглядом, и мысли его были заняты не только тем, как воспримет Вильюкис его идею.
Он не удивился, когда возникший, словно из-под земли, охранник сказал:
— Прошу вас следовать за мной, мистер Мартанд.
— Спасибо, что дали мне кончить, — спокойно ответил Мартанд. — Я боялся, что и того не позволят.
Прошло больше шести часов, прежде чем Мартанд смог побеседовать с капитаном. Это время он провел в изоляции, но заключение не показалось ему слишком тягостным. И капитан, к которому его наконец допустили, хоть и выглядел усталым, но отнесся к учителю без особой враждебности.
— Мне доложили, — сказал Хэнсен, — что вы распространяете слухи, порождающие панику среди пассажиров. Это серьезное обвинение.
— Я беседовал только с одной пассажиркой, сэр. И умышленно.
— Мы так и поняли. Мы тут же взяли вас под наблюдение, и я получил достаточно полный отчет о вашей беседе с мисс Черил Уинтер. Это была вторая беседа на данную тему.
— Да, сэр.
— Вы явно желали, чтобы содержание разговора было передано мистеру Вильюкису.
— Да, сэр.
— Вы не сочли нужным обратиться лично к мистеру Вильюкису?
— Я сомневался, что он станет меня слушать, сэр.
— Или ко мне.
— Вы, возможно, выслушали бы меня, но как вы передали бы эту информацию мистеру Вильюкису? Пожалуй, вы тоже были бы вынуждены прибегнуть к помощи мисс Уинтер. Термоядерщики — народ нелегкий.
Капитан рассеянно кивнул:
— На что вы рассчитывали, сообщая через мисс Уинтер свои соображения мистеру Вильюкису?
— Моя надежда, сэр, основывалась на том, что мисс Уинтер он выслушает с меньшим неудовольствием, чем любого другого, и не сочтет это враждебным выпадом с ее стороны. Я надеялся, он со смехом ответит ей, что напрасно она сообщает ему столь элементарные вещи, он сам давно до них додумался и уже запустил ковши для сбора газа. А затем он поспешит отделаться от мисс Уинтер и действительно запустит ковши, после чего доложит вам, сэр, о принятых мерах, не упоминая ни обо мне, ни о мисс Уинтер.
— Вы не подумали, что он может отвергнуть эту идею как несостоятельную?
— Такая возможность была, но этого не произошло.
— Откуда вы знаете?
— В помещении, куда меня заперли, сэр, уже через полчаса заметно померк свет. Я понял, что на корабле максимально снизили подачу тока и Вильюкис, должно быть, старается сберечь остатки горючего, чтобы их вместе с энергией, полученной от химической реакции, хватило для прыжка.
Капитан нахмурился:
— Почему вы вообразили, что сможете найти подход к мистеру Вильюкису? Разве вы имели когда-нибудь дело с термоядерщиками?
— Нет, но я постоянно имею дело с детьми, сэр. Как учителю, мне знакома детская психология.
Лицо капитана медленно расплылось в улыбке.
— Вы мне нравитесь, мистер Мартанд, — сказал он. — Но вам это не поможет. Ваши ожидания и впрямь сбылись. Но знаете вы, что из этого следует?
— Узнаю, если вы мне скажете.
— Мистер Вильюкис должен был оценить вашу идею и сразу решить, осуществима ли она. Он должен был очень тщательно перестроить систему, чтобы химическая реакция не исключила возможности последующей термоядерной. Он должен был с предельной точностью определить надежное соотношение компонентов и количество потребной энергии, а также оптимальный момент включения двигателей, характер и вид прыжка. Все это надо было сделать быстро, и никто, кроме термоядерщика, с этим не справился бы. В сущности, даже не каждый термоядерщик мог бы это сделать. Вильюкис и среди термоядерщиков личность исключительная. Это вам понятно?
— Вполне.
Капитан глянул на стенной хронометр и включил экран. Тот был черен, как все это время — вот уже вторые сутки.
— Мистер Вильюкис информировал меня, когда он намерен попытаться сделать прыжок. Он надеется, что это удастся, и я вполне на него полагаюсь.
— Если он промажет, — угрюмо заметил Мартанд, — мы окажемся в прежнем положении, но лишимся энергии.
— Я сознаю это, — сказал Хэнсен. — И поскольку вы, возможно, чувствуете себя в какой-то мере ответственным за подсказанную термоядерщику идею, я подумал, что вам захочется присутствовать при ожидаемом событии.
Оба умолкли, глядя на экран. Хэнсен не назвал точного срока, и Мартанд не знал, идет ли все как положено. На лице капитана ничего нельзя было прочесть.
А затем наступило то странное мгновение, когда кажется, что тебя вдруг пронзило током. Прыгнули!..
— Звезды! — с глубоким облегчением прошептал Хэнсен.
Это был счастливейший миг в жизни Мартанда.
— И с точностью до секунды, — сказал Хэнсен. — Замечательная работа. Мы лишились энергии, но через пару недель у нас ее снова будет полно, и все это время пассажиры смогут наслаждаться изумительным зрелищем.
Мартанд был еще слишком взволнован, чтобы говорить.
Капитан повернулся к нему.
— Ну вот, мистер Мартанд, ваша идея блестяще оправдалась. Можно спорить, вы ли спасли корабль и всех нас, или мистер Вильюкис достаточно быстро сам додумался бы до этой идеи. Но споров не будет, потому что ваша роль ни при каких обстоятельствах не должна стать известна. Мистер Вильюкис виртуозно выполнил задачу, и не так уж важно, что подсказали ему решение вы. Все почести достанутся ему одному.
— Понимаю. Если хоть чуточку задеть гордость мистера Вильюкиса, он будет для вас потерян, а такая потеря невосполнима. Что ж, согласен. Будь по-вашему. Всего хорошего, капитан!
— Нет. Мы не можем на вас положиться.
— Я буду молчать.
— Вы можете случайно проговориться. Для нас это риск. До конца путешествия вы останетесь под домашним арестом.
— За что? — возмутился Мартанд. — Я спас вас, и ваш проклятый корабль, и даже вашего термоядерщика.
— Именно за то, что вы нас спасли. Такое вот дело…
— Где же справедливость?
Капитан медленно покачал головой:
— Справедливость — вещь редкостная и, признаюсь, слишком дорогая иногда, чтобы решиться на нее. Вам нельзя даже вернуться к себе. До конца путешествия вы не увидите ни одного человека.
Мартанд задумчиво почесал подбородок:
— Но это ведь не надо все же понимать буквально, капитан?
— Боюсь, что именно буквально.
— А есть ведь еще один человек… Мисс Уинтер тоже может случайно проговориться. Посадите уж и ее под арест.
— Чтобы совершить тем самым двойную несправедливость?
— На миру и смерть красна, — сказал Мартанд.
Капитан улыбнулся:
— Что ж, пожалуй, вы правы…
Старый-престарый способ
Бэн Эстес знал, что скоро умрет, и чувствовал себя ни на йоту не лучше от сознания того, что смерть вот уже несколько лет была его постоянным спутником. Такая уж у звездных старателей работа — их жизнь никогда не бывает легкой. Короткой — почти наверняка, а вот долгой и радостной — дудки!
Конечно, всегда есть шанс откопать что-то интересное, даже нарваться на месторождение драгоценных камней или металлов, и обеспечить себя до конца дней, но такое случалось редко, очень редко. А вот то, с чем столкнулся он, Бен Эстес, наверняка превратит его в мертвеца.
Харви Фюнарелли тихо застонал на своей койке, и Эстес, поморщившись от боли в противно скрипнувших мышцах, обернулся. Да, туговато им пришлось. То, что он, Бен, не получил таких тяжелых травм, как Харви, было чистой случайностью. Просто Фюнарелли оказался ближе к точке удара, вот и расшибся почти в лепешку. Бен с угрюмым состраданием посмотрел на приятеля и спросил:
— Ну как ты, старина?
Фюнарелли снова застонал, пытаясь подняться.
— Кажется, все суставы вывернуло наизнанку, — проворчал он. — Не удивлюсь, если теперь смогу ходить только коленками назад. Во что это мы врезались?
Слегка прихрамывая, Эстес подошел к другу.
— Не вставай, Харви, не надо, — попросил он, видя, что тот собирается спустить ноги с койки.
— Ничего, — кряхтя, ответил Фюнарелли. — Я, кажется, смогу подняться. Дай только руку. О! Больно, черт! Наверное, ребро треснуло. Потрогай-ка вот здесь, только осторожно. Так что все-таки случилось, Бен?
Эстес махнул в сторону главного иллюминатора. Фюнарелли, опираясь на плечо друга, с трудом подошел к нему и выглянул наружу. Вокруг мерцали бесчисленные звезды, но астронавт не удостоил их даже беглого взгляда. То, что его интересовало, находилось гораздо ближе и было скоплением каменных глыб разных размеров, плававших в пространстве подобно рою сонных ленивых пчел.
— Ну и ну! — произнес Фюнарелли. — Такого я еще не видывал. Что они тут делают?
— Плавают себе в аквариуме, что же еще? Должно быть, это осколки крупного астероида. Видишь, они все еще кружатся вокруг разрушившего этот астероид объекта. А теперь и мы вместе с ними.
— А что это за объект?
— Вот, смотри! — Эстес указал рукой туда, где в кромешной тьме изредка вспыхивали мелкие голубые искорки.
— Ничего не вижу.
— Неудивительно. Это «черная дыра».
— Да ты, видно, спятил, старик! — дрожащим голосом воскликнул он.
— Ни капельки. Ты же знаешь, что «черные дыры» могут быть самой разной величины. Масса этой, например, приблизительно равна массе большого астероида. Так я, по крайней мере, предполагаю. Мы ведь крутимся вокруг нее как на веревочке. А кроме «черных дыр», в космосе нет ничего, что способно удерживать крупные предметы на орбитах и при этом оставаться невидимым.
— Но ведь никаких сообщений…
— Знаю. Эту дрянь можно обнаружить, только напоровшись на нее. Так что мы открыли первую во Вселенной «черную дыру», с которой человек реально рискует войти в прямое взаимодействие. Прими мои поздравления. Вот только лавров нам пожать не удастся. Разве что посмертно.
— Скажи, наконец, что стряслось?
— Мы подлетели слишком близко, и нас раздавило приливным эффектом.
— Каким еще приливным эффектом?
— Я, знаешь ли, не астроном и поэтому могу объяснить, лишь как сам понимаю, согласен?
— Валяй, объясняй.
— Тут все дело в гравитации. Даже если общая сила притяжения такой штуки, как эта, мала, к ней нельзя подходить слишком близко, потому что тяготение приобретает интенсивный характер.
Эстес покачал головой.
— Я не знаю, где в данный момент находится Веста, — мрачно сказал он. — Компьютеру тоже крышка.
— Господи! Есть у нас что-нибудь целое?
— Кондиционеры и водоочистители. У нас до черта пищи, так что недели две протянем. Может, и больше.
— Послушай, — сказал Фюнарелли после нескольких минут тяжелого молчания, — пусть мы не знаем точно, где Веста, но зато мы твердо уверены в том, что до нее не может быть больше двух-трех миллионов километров. Если придумать какой-нибудь сигнал, они смогут прислать беспилотного спасателя уже через неделю.
— Беспилотного, говоришь? Возможно…
Это действительно было бы довольно просто. Беспилотный корабль мог лететь со скоростью, втрое превышающей скорость спасателя с экипажем на борту. Железо и пластик не боятся перегрузок.
— Возможно. — задумчиво повторил Эстес. — Только мы все равно не сможем послать сигнал. Просто нет такого способа. Даже кричать — и то бесполезно, потому что кругом вакуум.
— Если хорошенько пораскинуть мозгами, то способ можно найти, — упрямо сказал Фюнарелли. — Не верю, чтобы ты не мог ничего придумать. Особенно если от этого зависит твоя жизнь.
— Не только моя, Харви. В скором будущем и жизнь всего человечества. Но это ничего не меняет, старина. Попробуй ты, может, что и придет в голову.
Фюнарелли тяжело поднялся, схватившись за поручень на стене.
— Я уже попробовал, — сказал он.
— Выкладывай.
— Почему бы не отключить гравитацию? Тогда мы сможем сэкономить силы.
— Что ж, это, пожалуй, мысль…
Эстес поднялся и, подойдя к панели приборов, выключил гравитацию. Фюнарелли беспомощно повис в воздухе и, сокрушенно вздохнув, пробормотал:
— Мне все еще больно, старик. Если так и дальше пойдет, то придется проглотить твои пилюли, черт бы их побрал!
— Эй!
— Что?
— Ты знаешь, я, кажется, вижу выход. Надо попытаться заставить саму «дыру» работать на нас.
— Это каким же таким образом?
— А вот каким. Когда в нее попадает какой-нибудь предмет, начинается интенсивное излучение.
— Стоп! А ты уверен, что на Весте его засекут?
— На Весте вряд ли, а вот на Земле почти наверняка. Там есть станции постоянного слежения за всеми радиационными изменениями в космосе. Они улавливают даже мизерные потоки частиц.
— Тогда все в порядке, Бен! Четверть часа, и Земля нас обнаружит. Еще пятнадцать минут, и на Весту дойдет их радиоприказ узнать, в чем дело. Максимум через два часа они отправят спасателей!
— Мне бы твою уверенность. Но нам нечего забросить в эту чертову «дыру». У нас нет даже ракет-зондов. Впрочем. Что, если направить в «дыру» наш корабль? Пусть мы сдохнем, но на Земле будут знать. Хотя нет, не пойдет. Одной вспышкой ничего не добьешься.
— Я, знаешь ли, не гожусь в герои, — быстро проговорил Фюнарелли. — У меня вот какая мысль. Вокруг плавают тучи самых разных валунов. Давай поймаем два из них, смонтируем на них двигатели от скафандров и пустим в «дыру». Тогда будет две вспышки вместо одной. А если пустить их с суточным интервалом, на Земле сразу же заинтересуются.
— А вдруг не заинтересуются? Кроме того, я очень сомневаюсь, что к гранитной глыбе можно прикрепить двигатель. Другое дело наши скафандры… Интересно, целы ли они?
— Хочешь воспользоваться их передатчиками?
— Шутник! Их радиус не превышает нескольких километров.
— Тогда зачем тебе скафандры?
— Думаю пойти прогуляться.
Эстес подплыл к багажному отсеку и вытащил два скафандра:
— Смотри-ка, целы!
— Целы-то целы, только зачем тебе понадобилось выходить?
— Ты сам сказал, что неплохо бы иметь несколько ракет.
— Ну и что? У нас же нет ни одной.
— Тогда почему бы нам не заменить ракеты камнями?
— Я тебя что-то никак не пойму. Сперва говоришь, что это невозможно, потом предлагаешь.
— Но это же просто, Харви! Мы в абсолютном вакууме. «Дыра» довольно далеко, и ее притяжение нам пока не страшно. Я не слишком здорово ударился и способен шевелиться. В условиях невесомости брошенный предмет пролетает сколь угодно большое расстояние, так? А если так, то мне не составит труда швырнуть в «дыру» несколько камней. Надо только прицелиться поточнее, чтобы угодить в самое жерло. Как только камень попадет куда надо, из «дыры» вырвется пучок лучей и его засекут на Земле.
— Думаешь, получится?
— Получится, если люк не заклинило.
— Ну попробуй. Только боюсь, мы потеряем часть воздуха.
— Все равно на две недели как-нибудь хватит.
— Ладно, давай попытаемся, чем черт не шутит. Терять-то нечего.
Все звездные старатели рано или поздно сталкиваются с необходимостью выхода в открытый космос. Иногда кораблю требуется ремонт, и тогда один из членов экипажа, надев скафандр, отправляется приводить в порядок внешние узлы или приборы. Кое-когда в пространстве попадаются интересные объекты, и старатель, вновь облачившись в легкий и надежный костюм, вооружается танталовой сетью и вылавливает эти объекты, если они летят параллельно кораблю и имеют одинаковую с ним скорость. Выход в открытый космос — настоящий праздник для экипажа, потому что он разнообразит полет и нарушает его унылую монотонность.
Но сегодня Эстес не чувствовал особого энтузиазма. Вместо радостного возбуждения им овладели беспокойство и страх. Идея его была, по сути дела, примитивной, и он уже почти жалел, что высказал ее.
Он вышел в черное бездонное пространство. Вокруг мерцали миллиарды звезд, а бесчисленные осколки разбитого астероида, образовавшие вокруг «черной дыры» кольцо, подобное кольцу Сатурна, тускло отражали слабые лучи далекого Солнца.
Эстес сориентировался. Он знал, что корабль, так же как и обломки астероида, медленно движется в направлении, противоположном направлению звездного круговорота. Если бросить камень параллельно движению звезд, то часть его скорости относительно «черной дыры» нейтрализуется. Все будет зависеть от того, насколько большой окажется эта часть и как точно ему удастся рассчитать силу броска. Надо было швырнуть камень так, чтобы он приблизился к «дыре» на расстояние, обеспечивающее действие приливного эффекта на мелкие предметы. Тогда его засосет и произойдет интенсивная радиоактивная эмиссия.
Орудуя своей танталовой сетью, Эстес стал тщательно выбирать подходящие камни. Ему нужны были только маленькие, не больше кулака, обломки. Слава Богу, скафандр позволял свободно двигаться, и Эстес с благодарностью подумал о его создателях.
Набрав побольше камней, он тщательно прицелился и бросил один из них. Камень сверкнул в слабом солнечном свете и растаял во мгле. Эстес даже приблизительно не знал, сколько времени нужно валуну, чтобы долететь до цели, и поэтому, сосчитав до шестисот, швырнул второй булыжник, потом третий, четвертый. Наконец впереди сверкнула ослепительная вспышка, и он понял, что попал. Тогда Эстес, набрав еще два десятка камней, стал один за другим посылать их в жерло «черной дыры». Теперь почти каждый бросок достигал цели. Очевидно, на самом деле «дыра» была больше, чем он рассчитывал, но это значило, что она способна засасывать довольно массивные предметы и что опасность ее они поначалу недооценили. Но с увеличением опасности возрастали и шансы на спасение, потому что обеспечить точность попадания становилось гораздо легче. Эстес немного воспрянул духом и с удвоенной энергией стал швырять камни в ненасытную черную пасть. Наконец он, совершенно измотанный, вернулся в кабину корабля. Правое плечо онемело от постоянного напряжения, мышцы рук тупо ныли. Фюнарелли помог другу снять скафандр, и Эстес в изнеможении распластался на койке.
— Вот это был фейерверк! — восхищенно произнес Харви. — Мне даже страшно стало.
— А мне, думаешь, не страшно? Молю бога, чтобы скафандры оказались достаточно устойчивыми против этих чертовых лучей!
— Ты думаешь, на Земле нас заметят?
— Наверняка. Вот только обратят ли внимание? Может ведь так случиться, что они поудивляются немного, поломают головы, да и разойдутся по домам. Необходимо придумать что-нибудь такое, чтобы они обязательно послали корабль. Кажется, у меня есть идея. Надо только отдохнуть немножко, а то я совсем уже с ног валюсь.
Через час он надел второй скафандр. Подзаряжать батареи в первом не имело смысла.
Эстес снова набрал полную сеть камней и начал бросать их в направлении «черной дыры». Теперь попадать в цель стало еще легче, потому что каждый камень, вызывая ответную реакцию, значительно увеличивал размеры «дыры». Эстесу стало не по себе. Ему вдруг показалось, что «дыра» неумолимо надвигается на него и скоро проглотит корабль. Страх ни на мгновение не оставлял его, и хотя Эстес понимал, что все это лишь игра воображения, он почувствовал огромное облегчение, когда камни кончились. Совершенно разбитый и изможденный, он еле Добрался до входного люка и мешком ввалился внутрь корабля.
— Все, — едва ворочая языком, произнес он, как только выкарабкался из скафандра. — Все, Харви. Больше ничего сделать не могу.
— Того, что сделано, уже должно быть достаточно, — стараясь подбодрить его, сказал Фюнарелли. — Вспышки были такие, словно эта дыра строчила из пулемета.
— И их наверняка заметят, старина. Теперь надо просто ждать. Они должны прилететь.
— Ты серьезно в это веришь, Бен?
— Я думаю, они должны, Харви. Да, должны.
— Почему?
— Потому, что я с ними связался, — почти весело ответил Эстес. — Связался, понимаешь? Мы не только первые люди, столкнувшиеся с «черной дырой», Харви. Мы — первые, кто догадался воспользоваться ею как средством связи. Ты понимаешь или нет? Теперь можно будет, почти не тратя энергии, посылать сообщения из одной галактики в другую! Можно будет черпать из этой «дыры» сколько угодно энергии, знай только швыряй в нее камни. Ты представляешь, какое открытие мы с тобой сделали?
— Не очень.
— Это старый-престарый способ связи, Харви, но его еще помнят. Я воспользовался им, хотя он вышел из употребления еще сто лет назад. Раньше для передачи сообщений применяли ток, идущий по проводам.
— Ясно! Ты имеешь в виду этот, как его…
— Телеграф, Харви! Наши вспышки зарегистрируют и запишут. Представляешь, какой поднимется переполох, когда на Земле увидят, что источник рентгеновского излучения передает сигнал бедствий? Я же бросал камни в определенном ритме, понятно? Три с короткими промежутками, потом три с длинными и опять с короткими! Ну а уж если «черная дыра» начинает звать на помощь, то они обязательно прилетят. Обязательно!
Теперь им оставалось только ждать. Разбитые и измученные, друзья привязались к своим койкам и погрузились в тяжелый, неспокойный сон.
Беспилотный спасатель пришел ровно через пять земных суток.
Отсев
ять лет возводилась стена секретности вокруг работ доктора Эрона Родмана, становясь год от года все крепче, пока не сомкнулась в кольцо.
«Это для вашей же собственной защиты», — объясняли ему. «В грязных руках негодяев…» — предупреждали его.
В чистых руках (его собственных, например, как с горечью думал порой доктор Родман) открытие несомненно представляло собой величайший вклад в борьбу за здоровье человечества со времен Пастеровской вирусной теории и величайший ключ к пониманию механизма жизни со времен ее возникновения.
Но вскоре после речи, произнесенной Родманом в Нью-йоркской академии медицины по случаю его пятидесятилетнего юбилея, в первый день двадцать первого века (что-то было в этом совпадении!), доктору наложили на уста печать и разрешили общаться лишь с избранными официальными лицами. Печататься, естественно, тоже запретили.
Правда, правительство не переставало о нем заботиться. Денег давали сколько хочешь, лабораторию оборудовали компьютерами и предоставили их в полное распоряжение ученого. Работа продвигалась быстрыми темпами. К Родману то и дело наведывались за разъяснениями правительственные чиновники.
«Доктор Родман! Как может вирус, передающийся из клетки в клетку внутри организма, оставаться в то же время не заразным для других организмов?» — спрашивали они.
Родман устало повторял вновь и вновь, что он не знает всех ответов. Он не любил слово «вирус». «Это не вирус, — говорил он, — потому что в нем нет молекулы нуклеиновой кислоты. Это совсем другая штука — липопротеин».
Было легче, когда вопросы задавали не медики. Тогда он мог попытаться объяснить в общих чертах, не вдаваясь в бесконечные подробности, в которых можно было увязнуть навек.
«Каждая живая клетка и каждая часть внутри клетки окружены мембранами. Деятельность клетки зависит от того, какие молекулы могут проникать через мембрану в обоих направлениях и с какой скоростью. Ничтожное изменение мембраны влечет за собой значительное изменение природы потока, а следовательно, и химического состава клетки, и ее жизнедеятельности.
Все болезни возникают из-за изменений мембранной активности. Посредством таких изменений можно вызвать любые мутации. Любая методика, контролирующая мембраны, контролирует жизнь. Гормоны управляют жизнью организма потому, что воздействуют на мембраны, и мой липопротеин — скорее искусственный гормон, чем вирус. Липопротеин внедряется в мембрану и индуцирует производство точно таких же липопротеиновых молекул. Как он это делает — я и сам не понимаю.
Но мембранные структуры в организмах не идентичны. Они различаются не только у разных видов живых существ, но и внутри одного вида. Один и тот же липопротеин может оказать разное воздействие на два организма. То, что откроет клетки одного организма для глюкозы и вылечит диабет, закроет клетки другого организма для лизина и убьет его».
Именно это вызывало у них наибольший интерес. «Так, значит, ваш липопротеин — это яд?»
«Избирательный яд, — отвечал Родман. — Без тщательного компьютерного изучения биохимии мембран определенного индивида невозможно сказать, какое воздействие окажет на него определенный липопротеин».
Со временем петля вокруг доктора сжималась все туже, ограничивая его свободу, однако оставляя комфорт, — в мире, где и свобода, и комфорт исчезали с одинаковой скоростью, а перед отчаявшимся человечеством уже разверзлась пасть преисподней.
Наступил 2005 год. Население Земли выросло до шести миллиардов. Оно бы выросло до семи, если бы не голод. Миллиард жизней выкосил он в предыдущем поколении, и в будущем его жатва грозила стать еще обильнее.
Питер Аффер, председатель Всемирной продовольственной организации, частенько заходил в лаборатории Родмана сыграть партию в шахматы и покалякать. Как-то он с гордостью заявил, что первым понял значимость речи, произнесенной Родманом в академии, и это помогло ему стать председателем. Доктор подумал, что суть его речи понять было несложно, но промолчал.
Аффер был на десять лет моложе Родмана, но пламя волос на его голове уже потускнело. Он часто улыбался, хотя тема беседы редко давала повод для улыбки, поскольку любой председатель организации, имеющей дело с мировым продовольствием, неизбежно заводил разговор о мировом голоде.
— Если бы запасы продовольствия распределялись поровну между жителями планеты, все мы вымерли бы от голода.
— Если бы запасы распределялись поровну, — заметил Родман, — этот справедливый пример мог бы в конце концов привести к разумной мировой политике. А сейчас миром владеет отчаяние и ярость из-за эгоизма и процветания избранных, и люди в отместку совершают всяческие безрассудства.
— И тем не менее вы сами не отказались от дополнительной пайки, — поддел его Аффер.
— Я человек, а значит, эгоист. К тому же от моего поведения ничего не зависит. Даже захоти я, мне не позволят отказаться. У меня нет права выбора.
— Вы романтик, — заявил Аффер. — Неужели вы не видите, что Земля — та же спасательная шлюпка? Если запасы пищи делятся на всех поровну, все погибают. Но если некоторых выбросить за борт, остальные могут спастись. Вопрос не в том, погибнут ли некоторые, потому что кто-то обязательно погибнет; вопрос в том, удастся ли кому-нибудь выжить.
— То есть вы официально проповедуете отсев — принесение в жертву некоторых ради остальных?
— Увы, мы не можем. Люди в шлюпке вооружены. Кое-какие регионы открыто угрожают применить ядерное оружие, если им не увеличат поставки продовольствия.
— Вы хотите сказать, что в ответ на «Ты умрешь, чтобы я мог жить» они заявляют: «Если я умру, ты тоже умрешь»? Это тупик, — насмешливо сказал Родман.
— Не совсем, — возразил Аффер. — На планете есть такие районы, где спасти людей невозможно. Они перенаселили свои земли, заполонив их ордами голодающих. Что, если им прислать продовольствие, от которого большая часть голодных вымрет? Тогда дальнейших поставок в те районы не потребуется.
Родмана кольнуло недоброе предчувствие.
— Почему это они вымрут, получив продовольствие? — спросил он.
— Можно вычислить средние структурные свойства клеточных мембран определенной части населения. Липопротеины, созданные специально с учетом этих свойств, могут быть введены в поставки продовольствия, которое станет причиной гибели людей.
— Немыслимо! — воскликнул ошеломленный Родман.
— А вы все-таки поразмыслите. Смерть будет безболезненной. Мембраны постепенно закроются, и человек в один прекрасный день заснет и не проснется. Это куда более милосердная смерть, чем от голода или атомного взрыва. К тому же умрут не все, поскольку любое население неоднородно по мембранным свойствам. В худшем случае погибнет семьдесят процентов. Отсев будет производиться только там, где перенаселение совершенно безнадежно, а выживших будет достаточно, чтобы сохранить представителей каждой нации, каждой этнической и культурной группы.
— Сознательно убить миллиарды…
— Мы не будем убивать. Мы просто дадим людям возможность умереть. Кто именно из них погибнет — зависит от биохимии каждого индивида. Это будет перст Господень.
— А когда мир узнает о ваших злодеяниях?
— Нас тогда уже не будет, — сказал Аффер. — А процветающий мир будущего с ограниченным населением объявит нас героями за то, что мы пожертвовали некоторыми, дабы не допустить всеобщей погибели.
Жар бросился в голову доктору, и он почувствовал, что язык повинуется ему с трудом.
— Земля, — сказал он, — большая и очень сложная спасательная шлюпка. Мы до сих пор не знаем, к чему привело бы справедливое распределение ресурсов, и, что характерно, никто не хочет даже попробовать узнать. Во многих районах Земли продукты ежедневно выбрасывают, и это особенно бесит голодающих.
— Я с вами согласен, — холодно проронил Аффер, — но мы не можем переделать мир по своему желанию. Мы вынуждены принимать его таким, какой он есть.
— Тогда принимайте и меня таким, какой я есть. Вы хотите, чтобы я обеспечил вас молекулами липопротеинов, а я этого делать не стану. Даже пальцем не шевельну.
— В таком случае по вашей вине погибнет еще больше народу. Я искренне надеюсь, что вы передумаете, когда поразмыслите как следует.
Доктора Родмана навещали почти ежедневно, один чиновник за другим, все как на подбор откормленные и упитанные. Родману невольно бросалось в глаза, какими сытыми выглядят те, кто рассуждает о необходимости убийства голодных.
Государственный секретарь по сельскому хозяйству вкрадчиво сказал ему во время одного из посещений:
— Разве вы не одобрили бы забой скота, пораженного ящуром или сибирской язвой, с целью предотвращения распространения заразы на здоровое поголовье?
— Люди не скот, — ответил Родман, — а голод не заразен.
— Вот тут вы ошибаетесь, — возразил секретарь. — В том-то и дело, что заразен. Если мы не проредим перенаселенные районы, голод перекинется на те места, где его еще нет. Вы не должны отказывать нам в помощи.
— И как же вы меня заставите? Пытать будете?
— Мы и волоска на вашей голове не тронем! Ваши таланты в этой области слишком для нас драгоценны. Но продовольственные карточки можем отнять.
— Голод вряд ли пойдет мне на пользу.
— Вы не будете голодать. Но раз уж мы готовы обречь на гибель несколько миллиардов человек ради спасения рода человеческого, то нам не составит труда лишить продовольственных карточек вашу дочь, ее мужа и их ребенка.
Родман молчал, поэтому секретарь продолжил:
— Мы дадим вам время подумать. Мы не горим желанием причинять вред вашей семье, но сделаем это, если потребуется. Даю вам неделю на размышление. В следующий четверг состоится общее собрание комиссии. Тогда вас подключат к проекту, и никакой дальнейшей задержки мы не потерпим.
Охрану увеличили вдвое. Родман окончательно превратился в узника, и этого уже не скрывали. Через неделю к нему в лабораторию прибыли пятнадцать членов Всемирной продовольственной организации вместе с госсекретарем по сельскому хозяйству и представителями законодательных органов. Они уселись за длинным столом в конференц-зале роскошного исследовательского комплекса, построенного на общественные фонды.
Несколько часов они толковали и строили планы, время от времени задавая Родману вопросы по специальности. Никто не спрашивал, согласен ли он сотрудничать; все были уверены в том, что другого выхода у него нет.
— Ваш проект все равно провалится, — сказал в конце концов Родман. — Вскоре после того как в определенный район прибудут поставки, люди начнут умирать миллионами. Неужели вы думаете, что уцелевшие не увидят связи между поставками и повальной смертностью? Вы не боитесь, что в отчаянии они таки сбросят вам на головы атомную бомбу?
Аффер, сидевший за столом прямо напротив Родмана, заявил:
— Мы предусмотрели все возможности. Неужели вы думаете, что мы, годами разрабатывая план операции, не учли потенциальную реакцию регионов, выбранных для прореживания?
— Надеюсь, вы не рассчитываете на их благодарность? — с горечью съязвил Родман.
— Они и не узнают про отсев. Не все поставки зерна будут инфицированы липопротеинами. И мы не станет сосредоточивать их в каком-то одном районе. К тому же мы позаботимся, чтобы местное зерно тоже было частично зараженным. А потом, умрут-то не все и не сразу. Кто-то, лопавший зерно от пуза, вообще не умрет, а кто-то, съевший всего горсточку, скончается немедленно — в зависимости от их мембран. Это будет похоже на чуму. Как будто вернулась Черная Смерть.
— А вы подумали о психологическом воздействии Черной Смерти? Вы подумали о том, какая поднимется паника?
— Ничего, перетопчутся, — бросил секретарь, сидевший в конце стола. — Для них это будет хорошим уроком.
— Мы объявим об открытии противоядия, — пожав плечами, сказал Аффер. — Сделаем поголовные прививки в районах, не подлежащих прореживанию. Доктор Родман, мир отчаянно болен и нуждается в отчаянных средствах. Человечество стоит на краю чудовищной гибели, поэтому не пытайтесь оспорить единственный способ, каким его можно спасти.
— В том-то все и дело. Действительно ли это единственный способ — или вы просто выбрали самый легкий путь, не требующий от вас никаких жертв, кроме миллиардов чужих жизней?
Родман прервался, так как в конференц-зал вкатили столик с подносами.
— Я решил, что нам не помешает немного подкрепиться, — сказал доктор. — Может, заключим на время перемирие?
Он потянулся за бутербродом и, прихлебывая из чашечки кофе, заметил:
— Мы обсуждаем величайшее массовое убийство в истории, но сами при том питаемся отменно.
Аффер критическим взором оглядел свой наполовину недоеденный бутерброд.
— И это вы называете отменной едой? Яичный салат на кусочке белого хлеба сомнительной свежести — это не бог весть что, и я бы на вашем месте сменил магазин, поставляющий кофе. — Он вздохнул. — Но в мире голода грешно выбрасывать еду.
И он прикончил свой бутерброд.
Родман обвел взглядом остальных и взял последний бутерброд, оставшийся на подносе.
— Я думал, обсуждаемая нами тема хоть кого-то из вас лишит аппетита, но, как видно, ошибся. Все вы поели.
— Включая вас, — огрызнулся Аффер. — Вы до сих пор жуете.
— Да, верно, — согласился Родман, медленно работая челюстями. — Кстати, примите мои извинения за сомнительную свежесть хлеба. Я сам готовил бутерброды прошлым вечером, так что им уже четырнадцать часов.
— Вы сами делали бутерброды? — изумился Аффер.
— Ну да. Я должен был убедиться, что все они инфицированы липопротеином.
— Что вы такое несете?
— Господа, вы утверждаете, будто необходимо убить некоторых, чтобы спасти остальных. Возможно, вы правы. Вы меня убедили. Но чтобы мы как следует представили себе то, что намереваемся сделать, необходимо провести эксперимент на самих себе. Я произвел небольшой опытный отсев с помощью вот этих бутербродов.
Несколько чиновников повскакивали с мест.
— Мы отравлены? — выдохнул секретарь.
— Ну, не все, — сказал Родман. — К сожалению, ваша биохимия мне неизвестна, поэтому я не могу гарантировать семидесятипроцентного уровня смертности, о котором вы так мечтали.
Они глядели на него, оцепенев от ужаса, и доктор Родман опустил глаза.
— Однако весьма вероятно, что в течение следующей недели двое или трое из вас умрут. Вам нужно просто подождать, чтобы выяснить, кто это будет. Никаких противоядий не существует, но вы не волнуйтесь. Смерть будет безболезненной. «Перст Господень», как выразился один из вас. Надеюсь, уцелевшим это послужит хорошим уроком, как сказал еще один из вас. Те, кто останется в живых, возможно, изменят свои взгляды на отсев.
— Вы блефуете, — заявил Аффер. — Вы сами тоже ели, бутерброды.
— Конечно, ел, — сказал Родман. — Я подобрал липопротеины к своей собственной биохимии, так что жить мне осталось недолго. — Он прикрыл глаза. — Вам придется продолжать без меня — тем, кто выживет, разумеется.
Идеальное решение
Ян Брэдстоун грустно бродил по улицам еще одного города, и вдруг его внимание привлекли люди, собравшиеся у открытой двери торгового центра. Сперва Ян хотел было повернуть и броситься бежать, но он не смог заставить себя сделать это. Против собственной воли, подчиняясь охватившему его ужасу, он неохотно приблизился к толпе.
Любопытство, видимо, нарисовало у него на лице огромный вопросительный знак, и тогда кто-то, стоявший в задних рядах, любезно объяснил ему, что происходит:
— Трехмерные шахматы. Интересная партия.
Брэдстоун знал, как это обычно бывает. Человек шесть, подолгу обсуждая каждый ход, играют против компьютера. Они скорее всего потерпят поражение. Шестеро слабых игроков против одного.
Его глаза неожиданно остановились на невыносимо яркой картинке на экране компьютера, и он тут же закрыл их. А потом с горечью отвернулся и только тут заметил восемь самодельных досок, установленных друг над дружкой на колышках.
Самые обычные шахматы. С пластмассовыми фигурками.
— Ого! — удивленно воскликнул Ян.
Молодой парень, стоящий возле досок, словно защищаясь, заявил:
— Нам было не подобраться к экранам. Я сам их тут установил, чтобы следить за партией. Осторожно! А то сбросите фигуры.
— Там сейчас такая позиция? — спросил Брэдстоун.
— Да, ребята совещаются вот уже десять минут.
— Если передвинуть ладью с бета-В-6 на дельта-О-6, победа у вас в кармане, — с интересом взглянув на позицию, посоветовал Брэдстоун.
— Вы уверены? — Молодой человек принялся изучать доску.
— Конечно, абсолютно уверен. После этого, что бы компьютер ни стал делать, он в конце концов проиграет, поскольку будет вынужден потратить ход на защиту своего ферзя.
Еще несколько минут старательного изучения позиции на доске. И вдруг молодой человек крикнул:
— Эй, ребята! Тут у нас один парень говорит, что нужно поднять ладью на два уровня выше.
Все шесть игроков как один дружно вздохнули.
— Мне это приходило в голову, — произнес кто-то из них.
— Я понял, — быстро ответил другой голос. — Мы угрожаем его ферзю. Я этого хода не видел. — Он быстро повернулся и крикнул: — Эй, там! Кто предложил ход? Окажите нам честь, сделайте его!
Брэдстоун отшатнулся, его лицо исказила гримаса невыносимого ужаса.
— Нет, нет… я не играю.
Он повернулся и поспешил прочь.
Он хотел есть. Ему частенько приходилось голодать.
Время от времени он оказывался возле фруктовых лотков, принадлежавших мелким торговцам, которым посчастливилось найти пустое местечко внутри тщательно компьютеризированной экономики. Если Брэдстоун соблюдал осторожность, ему удавалось улизнуть, прихватив с собой яблоко или апельсин.
При этом Яна трясло от страха. Потому что он знал: если его поймают, то обязательно попросят заплатить. Естественно, деньги у него были — с ним поступили великодушно, — но он ведь не мог воспользоваться своей кредитной карточкой.
Впрочем, каждый день возникало множество ситуаций, когда ему требовалось перевести деньги со своего счета — и каждый раз он испытывал невыносимые страдания от унизительного положения, в котором находился.
Брэдстоун обнаружил, что подошел к ресторану. Наверное, запах еды и напомнил ему, что он ужасно голоден.
Ян осторожно заглянул в окно. Внутри обедало несколько человек. Слишком много. И двоих-то было бы многовато. Он не мог заставить себя снова стать центром всеобщего внимания, знал, что не перенесет жалостливых взглядов.
Брэдстоун отвернулся, несмотря на сердитое урчание в животе, и увидел, что, оказывается, не он один глазеет в окно ресторана. Рядом стоял мальчишка лет десяти, у которого, впрочем, был не очень голодный вид.
— Привет, приятель. Хочешь есть? — постарался как можно добродушнее заговорить с ним Брэдстоун.
Паренек с подозрением посмотрел на него и отодвинулся в сторону.
— Нет.
Ян не шевелился и не пытался подойти к нему поближе. Он знал, что, если сделает хоть одно неверное движение, мальчишка убежит.
— Могу побиться об заклад, что ты уже достаточно большой и умеешь сам заказывать еду, — сказал он. — Не сомневаюсь, что ты можешь попросить, чтобы тебе подали гамбургер или еще что-нибудь.
Гордость победила подозрительность, и паренек заявил:
— Конечно! В любой момент!
— Но у тебя нет собственной кредитной карточки, верно? Поэтому тебе не довести заказ до конца. Верно?
Карие глаза принялись изучать подошедшего незнакомца — с опаской. Мальчишка был прилично одет и производил впечатление сообразительного ребенка.
— Послушай, — проговорил Брэдстоун, — у меня есть кредитная карточка, и ты можешь сделать по ней заказ. Получишь гамбургер или еще что другое, по собственному выбору. И мне что-нибудь закажешь. Например, отличный бифштекс на косточке, жареную картошку, лимонад и кофе. И два куска яблочного пирога. Один тебе.
— Мне нужно идти обедать домой, — сказал мальчишка.
— Да ладно!.. Сэкономишь деньги отцу. Твои родители ведь знают, что ты здесь?
— Мы тут частенько бываем.
— Ну вот видишь. Только на этот раз кредитная карточка будет у тебя в руках. Ты выберешь все, что пожелаешь — как взрослый. Давай иди первым.
Внутри у Брэдстоуна все сжалось. То, что он сейчас сделал, казалось ему совершенно разумным, он ведь не собирался причинить ребенку никакого вреда. Однако, если за ним кто-нибудь наблюдал, он мог прийти к ужасному и совершенно неверному выводу.
Брэдстоун все бы объяснил, если бы ему дали возможность, но как это унизительно — признаться в том, что тебе пришлось хитростью заставить маленького мальчишку сделать то, чего ты сам не можешь.
Паренек колебался, но все-таки вошел в ресторан, а Брэдстоун на некотором расстоянии последовал за ним. Мальчишка уселся за стол, Брэдстоун устроился напротив. Улыбнулся и протянул ему кредитную карточку. Он почувствовал неприятное покалывание в руке — как и всегда теперь — и облегчение, когда избавился от карточки. Кредитка металлически поблескивала, и Брэдстоун поморщился. Он не мог на нее смотреть.
— Давай, приятель. Выбирай, — тихо сказал он. — Все, что только пожелаешь. Мальчишка не соврал ему. Он действительно прекрасно справлялся с маленьким компьютером, его пальцы уверенно касались кнопок клавиатуры.
— Вам бифштекс, мистер. Жареную картошку. Лимонад. Яблочный пирог. Кофе. Салат будете, мистер? — В голосе паренька появились снисходительные, взрослые нотки. — Мама всегда заказывает салат, а я не люблю.
— Пожалуй, рискну попробовать. Зеленый салат. Смешанный. Есть у них такой? С уксусным соусом. У них есть такой? Ты справишься?
— Что-то я не вижу ничего похожего на укс… как вы там сказали? Может быть, вот… Кончилось дело тем, что Брэдстоун получил бифштекс с французским соусом, но его это вполне устроило.
Мальчишка так спокойно и уверенно вставил карточку в считывающее устройство, что Брэдстоун ему отчаянно позавидовал.
Паренек протянул ему карточку и с важным видом сказал:
— Надеюсь, денег там достаточно.
— А ты обратил внимание на цифру? — поинтересовался Брэдстоун.
— Нет. Смотреть нельзя; так говорит мой папа. Карточка не выскочила назад, значит, денег хватило.
Брэдстоун постарался скрыть свое огорчение. Он не мог прочитать цифры и не мог заставить себя попросить кого-нибудь сделать это за него. Видимо, придется пойти в банк и придумать какую-нибудь историю, чтобы ему там сказали, сколько у него денег.
Он решил немного поболтать со своим спасителем.
— Тебя как зовут, сынок?
— Реджинальд.
— И какими предметами ты занимаешься дома, Реджи?
— В основном арифметикой, поскольку так хочет папа, и еще динозаврами, потому что мне ужасно интересно. Папа говорит, что, если я буду все делать как надо по арифметике, он позволит мне динозавров. Я могу запрограммировать свой компьютер так, чтобы динозавры двигались. Вы знаете, как бронтозавр ходит по земле? Ему приходится балансировать шеей, чтобы центр тяжести оказался в районе бедер. Он держит голову прямо, будто жираф, если только не находится в воде. А еще. Вот и мой гамбургер. И ваша еда.
Их заказ прибыл по движущейся ленте, которая остановилась в нужном месте.
Мысль о нормальном обеде, который можно съесть, не испытав предварительно жестокого унижения, поглотила грусть, охватившую Брэдстоуна, когда он только представил себе, как мальчишка манипулирует компьютером, пытаясь отыскать интересующую его информацию.
— Я съем гамбургер у стойки, мистер, — вежливо сказал Реджинальд.
— Надеюсь, он тебе понравится, Реджи. — Брэдстоун помахал мальчишке рукой. Паренек ему больше был не нужен, и он обрадовался, когда тот его оставил наедине с обедом. Из кухни вышел какой-то работник, скорее всего техник-компьютерщик, и принялся дружески болтать с Реджинальдом. Сомневаться в профессиональной принадлежности этого молодого человека не приходилось. Техкомпов всегда отличает важный вид и немного ленивая уверенность в том, что мир держится на их плечах.
Однако Брэдстоун не стал глазеть по сторонам — он сосредоточил все свое внимание на еде, первом нормальном обеде за месяц.
Только после того как он закончил — совсем закончил, спокойно и не спеша все доел, — Ян принялся разглядывать место, в котором оказался. Мальчишка уже ушел. Брэдстоун с грустью подумал о том, что Реджи, по крайней мере, не жалел его, не вел себя снисходительно и не важничал. Происшедшее с ним не показалось ему странным, потому что он был еще совсем ребенком и его гораздо больше занимала значимость момента — ведь он справился с компьютером в ресторане, значит, он уже взрослый!
Взрослый!
В ресторане было совсем немного народа, техкомп стоял за стойкой, видимо, проверял, как работают компьютеры.
Этим занимаются, с горечью подумал Брэдстоун, все техники по всему свету; постоянно создают программы, дополняют, переделывают их, следят за исправностью компьютерных сетей, которые обеспечивают спокойную жизнь для всех в мире — почти для всех.
Приятное тепло, поднимающееся откуда-то изнутри и рожденное великолепным бифштексом, разбудило чувство протеста. Почему бы не начать действовать? Почему бы не изменить то, что с ним происходит?
Брэдстоун привлек к себе внимание техкомпа и спросил, стараясь придать своему голосу уверенность, которая даже ему самому показалась фальшивой:
— Слушай, друг, я думаю, в этом городе есть адвокаты?
— Ты правильно думаешь.
— А ты не порекомендуешь мне какого-нибудь получше и чтобы жил неподалеку?
— На почте есть городской справочник, — вежливо ответил техкомп. — Нужно только нажать на кнопку, выдающую информацию про адвокатов.
— Я имел в виду, что мне нужен хороший адвокат. Умный. Который вел сложные дела и все такое.
Он рассмеялся, надеясь, что его собеседник хотя бы улыбнется в ответ. Ничего не вышло.
— Они там подробно описаны, — сказал техкомп. — Сообщаешь, что тебе нужно, и получаешь все необходимые данные: характеристики, возраст, адрес, какие дела они ведут, сколько берут за услуги. Тебе выдадут полную информацию, если ты, конечно, будешь правильно нажимать на клавиши. И все там прекрасно работает. Я проверял на прошлой неделе.
— Мне не это нужно, приятель. — От предложения прикоснуться к клавишам, как и всегда в подобном случае, по спине у Брэдстоуна пробежали мурашки. — Я хочу получить совет от тебя лично. Понимаешь?
— Я не справочник, — покачал головой техкомп.
— Проклятье! — возмутился Брэдстоун. — Что с тобой такое, дружище? Просто назови мне имя какого-нибудь адвоката. Разве существует закон, запрещающий получать информацию, не обращаясь к компьютеру?
— За пользование справочником нужно заплатить десять центов. Если у тебя на кредитной карточке имеется больше этой суммы, в чем проблема? Ты что, не умеешь обращаться с карточкой? Или ты. — Неожиданно глаза его широко раскрылись от изумления. — О, сукин ты. вот почему ты попросил Реджи заказать для тебя еду! Послушай, я не знал.
Брэдстоун съежился под его взглядом. Он быстро вскочил и помчался к двери, где чуть не столкнулся с крупным мужчиной, у которого было румяное лицо и лысеющая голова.
— Минутку, — проговорил мужчина мягко. — Не вы ли купили моему сыну гамбургер некоторое время назад?
Брэдстоун поколебался немного, а потом, смутившись, кивнул.
— Я хочу отдать вам за него деньги. Все в порядке. Я знаю, кто вы, и проделаю все необходимые операции сам.
— Если тебе нужен адвокат, парень. — вдруг вмешался техкомп. — Так вот, мистер Голд, он адвокат.
В глазах Брэдстоуна сразу загорелся интерес.
— Я действительно адвокат, — сказал Голд, — если вы нуждаетесь в услугах адвоката. Именно благодаря этому я и узнал вас. Уверяю вас, я внимательно следил за слушанием вашего дела. А когда Реджи пришел домой и рассказал мне о том, что уже пообедал и что сам воспользовался компьютером в ресторане. по его описанию я сразу сообразил, кто вы такой. Ну, и теперь, конечно, я тоже вас узнаю.
— Мы можем поговорить наедине? — спросил Брэдстоун.
— Мой дом находится отсюда в пяти минутах ходьбы.
Гостиная оказалась удобной, хотя назвать ее шикарной было нельзя.
— Хотите получить аванс? — спросил Брэдстоун. — Я вполне могу себе позволить вам заплатить.
— Я знаю, что у вас достаточно денег, — ответил Голд. — Сначала скажите мне, о чем пойдет речь.
Брэдстоун наклонился вперед на своем стуле и напряженно проговорил:
— Если вы следили за моим делом, то должны знать, что меня подвергли нетрадиционному и жестокому наказанию. Я первый получил такой приговор. Гипноз в сочетании с прямым воздействием на нервную систему — этот метод разработан совсем недавно. Природа наказания, которому меня подвергли, еще не до конца изучена. Его нужно отменить.
— Ваше дело рассматривалось в суде с соблюдением всех законных процедур, — заявил Голд, — а то, что вы виновны в совершении преступления, не вызывает сомнений.
— Пусть даже и так! Мы живем в компьютеризированном мире. Я ничего не могу: не могу получить информацию, не могу поесть, не могу развлекаться, не могу ни за что заплатить или что-нибудь проверить. Я вообще ничего не могу сделать — не прибегая к помощи компьютера. В результате исполнения приговора — как вам, вероятно, известно — я не могу даже взглянуть на компьютер, потому что у меня сразу начинают болеть глаза, а если я прикоснусь к клавиатуре, на руках у меня появляются весьма болезненные раны. Я даже использовать свою кредитную карточку не в состоянии. Меня тошнит от одной только мысли об этом.
— Да, мне все это известно, — ответил Голд. — Я знаю, что вам дали вполне солидную сумму денег, которой должно хватить на все время наказания, и что власти обратились к населению с просьбой, чтобы оно оказывало вам помощь и выражало сочувствие. Надеюсь, именно так дело и обстоит.
— Мне это не нужно. Я не хочу, чтобы меня жалели и помогали. Я не хочу быть беспомощным ребенком в мире взрослых. Мне не нравится быть неграмотным в мире, где все умеют читать. Помогите мне! Мой приговор должен быть отменен. Вот уже почти месяц я живу в аду. Я не выдержу еще одиннадцати.
Голд задумался, а потом сказал:
— Я возьму с вас аванс, чтобы стать вашим официальным представителем, и постараюсь сделать все, что в моих силах. Но должен предупредить: шансы на успех не велики.
— Почему? Я всего-то перевел пять тысяч долларов…
— Вы планировали перевести гораздо больше — к такому решению пришел суд, но вас поймали прежде, чем вы успели это сделать. Гениальное компьютерное мошенничество, вполне достойное вашего всемирно известного таланта шахматного игрока, и все же — преступление. Вы сами сказали, что в нашем мире все компьютеризировано и ни один шаг, пусть даже самый незначительный, не делается без компьютера. Следовательно, мошенничество, совершенное с его помощью, есть попытка расшатать основы цивилизации. Страшное преступление. Нужно сделать все, чтобы больше ни у кого не возникло желания повторить ваши подвиги.
— Кончайте проповедь.
— А я ее и не начинал. Я просто вам объясняю, как обстоят дела. Вы посягнули на систему, и в наказание система разрушена — только для вас одного, — а в остальном вам ведь не сделали ничего плохого. Если ваша жизнь кажется вам невыносимой, в некотором смысле это должно показать вам, какой она стала бы для всех остальных из-за того, что вы совершили покушение на существующий порядок вещей.
— Но год — это слишком много!
— Ну, возможно, меньший срок тоже послужит хорошим примером для тех, кто задумывает аналогичное преступление. Я попытаюсь вам помочь, но боюсь, мне известно, что скажет суд.
— Что?
— Они скажут, что, если наказание должно соответствовать совершенному преступлению, ваше подходит просто идеально.
Золото
Джонас Уиллард посмотрел по сторонам и постучал жезлом:
— Теперь понятно? Это лишь тренировочная сцена, и ее назначение — выяснить, понимаем ли мы, чем занимаемся. Мы отрабатывали ее достаточно долга, и на сей раз я ожидаю профессионального исполнения. Приготовиться. Всем приготовиться.
Он вновь посмотрел по сторонам. Трое сидели за синтезаторами голосов, еще трое — за аппаратами проекции образов. Седьмой отвечал за музыку, а восьмой — за фон. Остальные отошли в сторону, дожидаясь своей очереди.
— Хорошо, — продолжил Уиллард — Помните, старик всю свою жизнь был тираном. Он привык, что любая его прихоть мгновенно исполняется, а когда он хмурится, все сразу дрожат. Ныне все это в прошлом, но он об этом пока не знает. Ему противостоит дочь, которую он считает покорной девушкой, согласной выполнить любое его желание, и никак не может поверить, что теперь перед ним властная королева. Итак, начинаем с короля.
Возник Лир — высокий, седой, слегка растрепанный, с резким и пронзительным взглядом.
— Не сутулить его, не сутулить, — сказал Уиллард. — Ему восемьдесят лет, но он не считает себя старым. Пока что. Выпрямите ему спину, он король до последнего дюйма. — Фигура изменилась. — Вот так, хорошо. И голос должен быть сильным, а не дрожащим — пока. Понятно?
— Понятно, шеф, — кивнул звуковик, отвечающий за голос Лира.
— Прекрасно. Теперь королева.
Возникла королева — чуть пониже Лира, прямая как статуя, каждая складочка платья строго на месте. Ее красота казалась холодной и непрощающей, как лед.
— А теперь шут.
Появился худой и хрупкий человечек, похожий на испуганного подростка, если бы не его взрослое лицо, где доминировали пронзительные глаза — такие большие, что словно занимали все лицо.
— Прекрасно, — сказал Уиллард. — Подготовьте Олбани, он очень скоро появится. Начинаем сцену. — Он вновь постучал по подиуму, бросил быстрый взгляд на лежащую перед ним исчерканную пьесу и произнес: — Лир! — Жезл Уилларда указал на звуковика Лира и плавно качнулся, указывая каденцию речи, которую он хотел услышать.
— Здравствуй, дочка, — произнес Лир. — Чего бровь насупила? Часто ты стала хмуриться[16].
Его прервал голос шута, писклявый, словно дудочка:
— Молодец ты был раньше — чихать тебе было на ее хмурость…
Королева Гонерилья медленно повернулась к шуту, и ее глаза на мгновение вспыхнули огнем, но эта вспышка была столь краткой, что зрители скорее уловили впечатление, чем заметили сам факт. Шут завершил свой монолог со все нарастающим страхом и, пятясь, укрылся за фигурой Лира, отыскивая хоть какую-то защиту от этого яростного взгляда.
Гонерилья заговорила с Лиром о делах в государстве, и во время ее монолога слышалось тихое потрескивание льда, а едва слышимая музыка играла негромкими диссонансами.
Требования Гонерильи соответствуют этой атмосфере, потому что она хочет привести придворные дела в порядок, а порядка нечего и ждать, пока Лир продолжает считать себя тираном. Но Лир не в том настроении, чтобы прислушиваться к доводам. Он поддается гневу и начинает бушевать.
Входит Олбани. Он консорт Гонерильи — круглолицый, простодушный, удивленно озирающийся по сторонам. Что тут происходит? Он полностью под каблуком властной жены и гневливого тестя. Именно в этот момент Лир разражается одним из самых едких осуждений в истории литературы. Его реакция чрезмерна. Гонерилья пока еще не сделала ничего, чтобы заслужить такое, но Лир перегибает палку:
Услышь меня, великая природа! Взываю к каре божией твоей. Бесплодием ей запечатай чрево, Деторождение в ней иссуши. А если дашь ребенка этой твари, То выродка лютейшего, чтоб мучил Ее без жалости и без конца, Чтоб изморщинил молодость ее, Изрыл лицо горючими слезами, Чтоб радости и боли материнства В издевку обратил и в едкий смех, — Чтобы почувствовала на себе, Насколько злей змеиного укуса Неблагодарность детища.Звуковик усилил в этом монологе голос Лира и снабдил легким шипением, а тело его стало выше и каким-то менее осязаемым, словно превратилось в мстительную фурию.
Гонерилья же на протяжении всего монолога не шелохнулась, не дрогнула, не шагнула назад но ее прекрасное лицо, не меняясь явно, словно накапливало в себе зло, и к концу произнесенного Лиром проклятия стало застывшим, как у архангела — но у архангела падшего. С него сползли любые остатки жалости, осталась только опасная дьявольская величественность.
Дрожащий шут все это время прятался за Лиром. Олбани олицетворял собой смущение, задавал бессмысленные вопросы, ему хотелось встать между двумя антагонистами, но он откровенно боялся это сделать.
— Хорошо, — произнес Уиллард, постучав жезлом. — Сцена записана, и теперь я хочу, чтобы все ее просмотрели. — Он поднял жезл, и синтезатор, расположенный возле задней стены студии, начал воспроизводить запись.
Ее смотрели молча, затем Уиллард сказал:
— Получилось хорошо, но, думаю, вы согласитесь, что недостаточно хорошо. Прошу всех выслушать меня внимательно, чтобы я смог объяснить, что мы сейчас попробуем сделать. Всем вам известно, что компьютеризованный театр далеко не новинка. С голосами и изображениями научились работать так, что результат превосходит возможности актеров-людей. Уже не надо прерывать монолог, чтобы сделать вдох; диапазон и качество голосов почти неограниченны, а синтетические образы можно менять, подстраивая их под слова и действия. Однако до сих пор эти возможности использовали, можно сказать, по-детски. Мы же намерены создать первую серьезную компьюдраму в мире, и меня — не знаю, как вас — устроит только один результат — превосходный. Я хочу поставить величайшую пьесу, написанную величайшим драматургом в истории: «Король Лир» Уильяма Шекспира.
Я желаю, чтобы ни одно слово не было изменено или опущено. Я не хочу модернизировать пьесу. Не хочу удалять архаизмы, потому что в пьесе — в том виде, как она написана— звучит восхитительная музыка, и любые изменения ее исказят. Но как нам в таком случае довести ее до широкой публики? Я имею в виду не студентов, не интеллектуалов, а всех. Я говорю о людях, никогда прежде не смотревших Шекспира и чье представление о хорошей пьесе сводится к пошлому мюзиклу. Эта пьеса действительно местами архаична, и люди действительно не разговаривают пятистопным ямбом. Зрители не привыкли слышать его даже на сцене.
Поэтому мы должны перевести для них архаику и все непривычное. Голоса, чьи возможности превышают человеческие, станут интерпретировать слова тембром и ритмом. Меняющиеся образы усилят воздействие слов.
Сейчас мне понравилось, как менялось лицо Гонерильи, когда Лир произносил проклятие. Зритель сумеет оценить, какой разрушительный эффект произвело на нее проклятие, хотя железная воля королевы удержала ее от словесного выражения своих чувств. Следовательно, зритель ощутит этот разрушительный эффект и на себе, пусть даже некоторые слова Лира прозвучат для него странно и архаично.
Поэтому не забудьте, что шута следует делать старше при каждом его появлении на сцене. Он и так с самого начала выглядит слабым, болезненным человечком, его сердце разбито после потери Корделии, он напуган смертями Гонерильи и Реганы, потрясен бурей, от которой Лир, его единственный защитник, не смог его защитить, — а под бурей я подразумеваю и погоду, и реакцию дочерей Лира. И когда он последний раз выходит на сцену в шестой сцене третьего акта, зрителю должно стать ясно, что шуту предстоит умереть. Шекспир этого не говорит явно, и про это должно сказать лицо самого шута.
Однако с самим Лиром придется еще поработать. Его голосу совершенно правильно придали некоторое шипение. Лир брызжет ядом; это человек, у которого после утраты власти не осталось ничего, кроме злобных и резких слов. Он стал коброй, неспособной нанести удар. Но это шипение должно стать заметным не ранее определенного момента. Меня больше интересует фон.
За фон отвечала женщина по имени Мэг Кэткарт. Она занималась созданием фона с самого зарождения технологии компьюдрамы.
— И какой же фон вам нужен? — небрежно поинтересовалась Кэткарт.
— Змеиный мотив, — ответил Уиллард. — Создайте его, и можно будет уменьшить шипение в голосе Лира. Разумеется, я не хочу, чтобы вы продемонстрировали зрителю змею. Это настолько очевидно, что не сработает. Мне нужна змея, которую зрители не увидят, но смогут ощутить, не совсем понимая, почему у них возникает это ощущение. Я хочу, чтобы они знали, что змея здесь есть, не понимая, откуда она взялась; тогда это напугает их до глубины души — а это именно то чувство, которое должен вызвать монолог Лира. Так что когда начнем переделывать эту сцену, Мэг, выдайте нам змею, которая на самом деле не змея.
— И как это сделать, Джонас? — спросила Мэг, считая себя вправе обращаться к нему по имени. Она знала себе цену и была уверена, что Уиллард ее тоже знает.
— Понятия не имею. Если бы имел, то был бы специалистом по фону, а не каким-то паршивым директором. Я знаю лишь, что хочу. А воплотить мои желания — ваша работа. Мне нужны извивы длинного тела, образ змеиных чешуек — но до определенного момента. Вспомните, как Лир произносит: «Насколько злей змеиного укуса неблагодарность детища». В этих словах мощь. К ним подводит весь его монолог, и это одна из самых знаменитых цитат из Шекспира. И эта фраза шипящая. В ней есть «с» в «насколько» и «укусе» и «з» в «злей» и «змеиного». Такое можно прошипеть. Если как можно больше сдерживать шипение во всех его предыдущих словах, то тут его можно выдать на полную катушку, сфокусировать его на лице Лира, придать его словам ядовитость. А на этом фоне может появиться змея — хотя словами про нее ничего не говорится. Мгновенная вспышка, образ распахнутой змеиной пасти, и еще зубы, зубы — когда Лир произносит «змеиного укуса», должны на долю секунды появиться зубы.
Уиллард внезапно почувствовал, что очень устал.
— Ладно, — сказал он. — Попробуем снова завтра. Я хочу, чтобы каждый из вас мысленно прошелся по всей сцене и попытался выработать стратегию будущей работы. Все ваши задумки должны взаимно состыковываться, поэтому советую пообщаться друг с другом и все предварительно обговорить, а самое главное — прислушиваться ко мне, потому что я не работаю за инструментом и представляю пьесу целиком. И если я кажусь вам тираном не хуже Лира, что ж — такая у меня работа.
Уиллард приближался к сцене бури, к самой трудной части этой труднейшей пьесы, и ощущал себя полностью выжатым.
Дочери выгнали Лира на улицу в сопровождении одного лишь шута, под ураганный ветер и проливной дождь, и от такого обращения он едва не сошел с ума. Ему даже буря показалась лучше дочерей.
Уиллард указал жезлом, и появился Лир. Новый взмах — и возник шут, цепляющийся за левую ногу Лира. После следующего взмаха загремела буря — выл ветер, хлестал дождь, вспыхивали молнии и громыхал гром.
Разбушевавшаяся стихия невольно притягивала к себе внимание, но и фигура Лира начала увеличиваться, пока не стала огромной, как гора. Буря его эмоций не уступала буре природной, и его голос перекрывал вой ветра. Его тело утратило осязаемость и начало колыхаться на ветру, словно превратилось в грозовую тучу и состязалось на равных с безумием атмосферы. Лир, преданный дочерьми, бросал вызов буре и голосом, перекрывающим возможности человеческого, взывал к ней:
Дуй, ураган, пока не треснут щеки! Дуй! Свирепей! Ярись! Клубитесь, хляби Земные и небесные, пока Не захлебнутся флюгера на башнях! Вы, молньи — огненные вещуны Раскалывающих дубы ударов, — Спалите белые мои седины! Ты, всесокрушающий гром, разбей в лепешку Брюхатый шар земли, размолоти Природы кладовую, уничтожь Неблагодарное людское семя!Его прерывает шут, чей пронзительный дрожащий голосок делает слова Лира более героическими по контрасту. Он умоляет Лира вернуться в замок и помириться с дочерьми, но Лир его даже не слышит и продолжает греметь:
Греми, хлещи, раскатывай, рази! Я не отец ни молниям, ни вихрю. Я не давал вам царств, не звал детьми. Я не виню вас — тешьтесь надо мной, Одряхшим, презираемым и слабым. И все же неужель не стыдно вам С двумя мерзавками объединяться Против седой и старой головы? О, это подло, по-холопьи подло!Граф Кент, верный слуга Лира (хотя король изгнал его в припадке ярости), отыскивает Лира и пытается отвести хоть в какое-то укрытие. После интерлюдии в замке графа Глостера действие возвращается к Лиру, и его приводят — вернее, затаскивают — в хижину.
И тут Лир наконец начинает думать о других. Он настаивает на том, чтобы шут вошел в хижину первым, а затем бродит вокруг, размышляя (несомненно, впервые в жизни) об участи тех, кто не является королем или придворным.
Его изображение становится меньше, а дикость на лице сглаживается. Он подставляет лицо дождю, а слова его кажутся отстраненными и исходящими как бы не совсем от него, словно он прислушивается к кому-то другому, произносящему его монолог. Ведь говорит, в конце концов, не прежний Лир, а новый и лучший Лир, очищенный и изменившийся после страданий. Встревоженный Кент смотрит на него и пытается увести в хижину, а Мэг Кэткарт, заставив развеваться на ветру их лохмотья, удается создать впечатление, будто оба они нищие. Лир говорит:
Вы, голытьба Бездомная, бездольная, — все те, Кого сейчас нещадно хлещет буря! Как терпят эту злую непогоду Ваши оголодалые тела, Глядящие в прорехи, в окна рубищ? О том я не заботился. Лечись, Роскошество, подставь бока, почувствуй, Что чувствует под бурей нищета, И с нею свой избыток раздели, Чтоб стала явью правосудность неба.— Неплохо, — сказал через некоторое время Уиллард. — Мы схватываем идею. Только вот что, Мэг, — одних лохмотьев недостаточно. Можешь ты создать впечатление пустых глаз? Не слепых, а пустых — глаза есть, но они глубоко запали.
— Думаю, что смогу, — ответила Кэткарт.
Уилларду с трудом в это верилось. Денег тратилось больше, чем он ожидал. Времени уходило значительно больше, чем он ожидал. И общая усталость оказалась гораздо больше, чем он ожидал. Но все же проект приближался к завершению.
Ему еще предстояло записать сцену примирения — настолько простую, что она требовала самых деликатных штрихов. Там не будет ни фона, ни искусственно измененных голосов или образов, потому что здесь Шекспир становился простым. Ничего, кроме простоты, и не требовалось.
Лир теперь стал просто стариком. А отыскавшая его Корделия — просто любящей дочерью, без королевской величественности Гонерильи и жестокости Реганы.
Лир, в котором выгорело безумие, постепенно начинает осознавать ситуацию. Поначалу он едва узнает Корделию, считая, что он умер, а она — небесный дух. Не узнает он и верного Кента.
Когда Корделия пытается вернуть ему здравомыслие, он говорит:
Не смейтесь надо мной. Я глуп, я стар, Мне за восемьдесят… ни часом больше, Ни меньше… Надо напрямик сказать — Я, видно, не в себе. Как будто бы узнал я вас, его, Но сомневаюсь — ибо не пойму я, Куда попал, и, хоть убей, не вспомню Одежды этой — и где ночевал. Не смейтесь только, но мечом поклялся б: Она — моя Корделия.Корделия говорит, что это она, и Лир отвечает:
А слезы твои мокры? Мокры впрямь. Не плачь, не надо. Яду дашь — я выпью. И как меня любить? Ведь, помню, сестрам Твоим я ненавистен без причин. А у тебя причина есть.И бедная Корделия способна ответить лишь: «Нет! Нет причины!»
Наконец настал момент, когда Уиллард смог глубоко вдохнуть и сказать:
— Мы сделали все, что могли. Остальное в руках публики.
Год спустя Уиллард, теперь уже самая знаменитая личность в мире индустрии развлечений, встретился с Грегори Лаборианом. Произошла эта встреча почти случайно и в основном благодаря усилиям их общего знакомого.
Он поздоровался с Лаборианом, изобразив всю вежливость, на какую был способен, и тут же многозначительно скосил глаза на часы-полоску на стене.
— Не хочу показаться вам невежливым или негостеприимным, господин… э-э… но я действительно очень занятой человек, и у меня мало времени.
— Не сомневаюсь, но именно поэтому мне захотелось с вами встретиться. Вы, разумеется, собираетесь поставить еще одну компьюдраму.
— Конечно, собираюсь, но, — и Уиллард сухо усмехнулся, — очень нелегко подобрать материал на уровне «Короля Лира», а я не намерен выдать публике нечто такое, что по сравнению выглядело бы халтурой.
— А что, если вы никогда не найдете материал, способный сравниться с «Королем Лиром»?
— Я уверен, что никогда его не найду. Но я подыщу что-нибудь.
— А у меня есть это что-нибудь.
— Вот как?
— У меня есть роман, который можно превратить в компьюдраму.
— Понятно. Но я не могу работать с выброшенным за борт материалом.
— Но я не предлагаю вам нечто из мусорной корзины. Роман был опубликован и довольно высоко оценен.
— Извините. Я не хотел вас обидеть. Однако когда вы представились, ваше имя показалось мне незнакомым.
— Лабориан. Грегори Лабориан.
— Нет, и сейчас не припоминаю. Я не читал ничего из написанного вами. И никогда о вас не слышал.
Лабориан вздохнул:
— Хотел бы я, чтобы вы были единственным, но это не так. Но я могу оставить роман, чтобы вы его прочли.
Уиллард покачал головой:
— Вы очень любезны, господин Лабориан, но я не хочу внушать вам ложных надежд. У меня нет времени его читать. И даже если бы оно у меня было — я просто хочу, чтобы вы поняли, — у меня нет на это желания.
— Но я могу заинтересовать вас, господин Уиллард.
— Каким же образом?
— Я вам заплачу. Я не считаю это взяткой, я лишь предлагаю вам деньги, которые вы более чем заслуживаете, если станете работать с моим романом.
— Кажется, вы не понимаете, господин Лабориан, как много денег требуется на создание первоклассной компьюдрамы. Насколько я понимаю, вы не мультимиллионер.
— Нет, но я могу заплатить вам сто тысяч глободолларов.
— Если это взятка, то как минимум совершенно бессмысленная. За сто тысяч я не смогу сделать даже одной сцены.
Лабориан вновь вздохнул, и его большие карие глаза стали задушевными.
— Понимаю, господин Уиллард, но если вы уделите мне еще пару минут… — добавил он, потому что взгляд Уилларда вновь скользнул по часам-полоске.
— Ладно, еще пять минут. Больше и в самом деле не могу.
— Больше и не потребуется. Я не предлагаю вам деньги на создание компьюдрамы. Вы знаете, и я знаю, господин Уиллард, что вы можете обратиться ко множеству людей в этой стране, сказать, что делаете компьюдраму, и получить любую необходимую сумму. После «Короля Лира» вам никто не откажет и даже не спросит, что вы планируете сделать. Я предлагаю сто тысяч глободолларов лично вам.
— Тогда это и в самом деле взятка, а со мной такие номера не проходят. До свидания, господин Лабориан.
— Подождите. Я ведь предлагаю вам не электронный обмен. Я не хочу, чтобы я поместил свою денежную карточку в одну щель, а вы свою — в другую, и эти сто тысяч были бы переведены с моего счета на ваш. Я говорю о золоте, господин Уиллард.
Уиллард уже встал, готовый распахнуть дверь и выставить Лабориана, но, услышав последние слова, нерешительно застыл.
— Что значит «о золоте»?
— Я имел в виду, что могу получить в свое распоряжение сто тысяч глободолларов золотом — это около пятнадцати фунтов. Быть может, я не мультимиллионер, но неплохо зарабатываю, и эти деньги не краденые. Это будут мои личные деньги, которые я сниму со своего счета в виде золотых монет. Тут нет ничего противозаконного. Я предлагаю вам сто тысяч глободолларов монетами по пятьсот глободолларов — двести штук. Золото, господин Уиллард.
Золото! Уиллард задумался. Деньги, когда дело касалось электронного обмена, не означали ровным счетом ничего. После достижения определенного уровня доходов они переставали порождать ощущение богатства или нищеты. Мир превратился в набор пластиковых карт (каждая закодирована на ДНК владельца) и щелей, куда эти карты вставляли, и весь мир переводил, переводил, перечислял, перечислял…
Но золото — штука совсем иная. Его можно потрогать. Каждая монета что-то весит. Кучка блестящих монет попросту красива. Уиллард никогда не видел золотой монеты и уж тем более не держал ее в руке. А тут целых двести штук!
Деньги ему не были нужны. Но вот золото…
— А что это за роман, о котором вы говорили? — спросил он, слегка устыдившись собственной слабости.
— Фантастика.
— Я никогда не читал фантастику, — скривился Уиллард.
— Значит, настало время расширить ваш кругозор, господин Уиллард Прочтите мой роман. Если вы представите, что между каждыми двумя страницами лежит по золотой монете, как раз и получится две сотни.
И Уиллард еще больше презирая себя за слабость, спросил:
— А как называется ваша книга?
— «Три в одном».
— И у вас есть экземпляр?
— Я принес его с собой.
Уиллард протянул руку и взял книгу.
Назвав себя занятым человеком, Уиллард ничуть не покривил душой. Время прочитать книгу он выкроил лишь через неделю, хотя его и манили две сотни мерцающих золотых монет.
Затем он посидел и немного подумал. Потом позвонил Лабориану.
На следующее утро Лабориан вновь сидел в офисе Уилларда.
— Мистер Лабориан, я прочитал вашу книгу, — грубовато произнес Уиллард.
Лабориан кивнул, не в силах скрыть тревогу в глазах.
— Надеюсь, она вам понравилась, господин Уиллард?
— Более или менее. Я вам говорил, что никогда не читал фантастику, поэтому не могу судить, насколько она хороша в рамках своего жанра…
— Но разве это имеет значение, если вам понравилось?
— Не уверен, что понравилось. Я не привык к текстам подобного рода. В вашей книге речь идет о существах трех полов.
— Да.
— Вы назвали их Рациональный, Эмоциональная и Родительский.
— Да.
— Но вы не описали их.
— Я не стал их описывать, господин Уиллард, — смутился Лабориан, — потому что не сумел. Это инопланетные существа, воистину чужие для нас. И я не захотел изобразить их чужаками, просто снабдив их синей кожей, парой антенн или третьим глазом. Видите ли, я хотел, чтобы они остались неописанными, поэтому и не стал их описывать.
— Получается, что вам не хватило воображения?
— Н-нет. Я не стал бы так говорить. Скорее мне не хватает такого вида воображения. Я вообще никого не описываю. Если бы я стал писать рассказ о вас и обо мне, то скорее всего не стал бы утруждаться описанием любого из нас.
Уиллард уставился на Лабориана, даже не пытаясь замаскировать презрение. Он подумал о себе. Среднего роста, располневший в талии, что следует подправить, с намеком на двойной подбородок и родинкой на правом запястье. Светло-каштановые волосы, темно-синие глаза, нос картошкой. Неужели так трудно это описать? Да такое по силам любому. А если у тебя вымышленный персонаж, то представь кого-нибудь реального и валяй, описывай.
Вот сидит Лабориан — смугловатое лицо, тугие черные кудри, вид такой, словно ему не мешало бы побриться (наверное, он все время так ходит), кадык заметно выдается, на правой щеке небольшой шрам, довольно большие карие глаза — единственная приятная особенность его лица.
— Я вас не понимаю, — сказал Уиллард. — Что вы вообще за писатель, если не в состоянии ничего описать? О чем вы пишете?
Лабориан мягко заговорил, и стало ясно, что ему не впервые приходится защищаться от подобных обвинений:
— Вы прочитали «Три в одном». У меня написаны и другие романы, и все в том же стиле. В основном разговоры. Когда я пишу, то ничего не представляю; я слышу, и мои персонажи в основном обсуждают идеи — конфликтующие идеи. В этом отношении я силен, и моим читателям это нравится.
— Пусть так, но куда это заводит меня? Я не могу создавать компьюдраму, отталкиваясь от одних разговоров. Мне нужно создавать образы, звуки и подсознательные внушения, а здесь работать попросту не с чем.
— Значит, вы решили сделать «Три в одном»?
— Нет, даже если мне не с чем будет работать. Подумайте сами, господин Лабориан, подумайте! Этот Родительский — он же тупица!
— Не тупица, — нахмурившись, возразил Лабориан. — Он целеустремленный. В его сознании есть место только для детей, как реальных, так и потенциальных.
— Тупой! Если вы не употребили это слово по отношению к Родительскому в романе, а я сейчас не могу вспомнить, так оно или нет, то у меня возникло именно такое впечатление. Он кубический. Это так?
— Ну, во всяком случае, простой. Прямые линии. Прямые углы. Не кубический. Больше в длину, чем в ширину.
— А как он передвигается? У него есть ноги?
— Не знаю. Честно говоря, даже не задумывался над этим.
— Хм-м. А Рациональный? Он умен, понятлив и быстр. Каков он? Яйцеобразный?
— Согласен. Я над этим тоже не задумывался, но согласен.
— И тоже без ног?
— Я их не описывал.
— Теперь последняя из троицы. Ваш «женский» персонаж, поскольку остальных вы именуете «он».
— Эмоциональная.
— Правильно, Эмоциональная. У вас она получилась лучше.
— Разумеется. Над ней я думал больше всего. Она пытается спасти разумную жизнь — то есть нас — на чужой для них планете, Земле. Симпатии читателей должны быть на ее стороне, хотя она и терпит неудачу.
— Насколько я понял, она похожа на облачко, не имеет постоянной формы и способна сжиматься и расширяться.
— Да-да. Совершенно верно.
— Она скользит над землей или плывет по воздуху? Лабориан подумал, затем покачал головой:
— Не знаю. Придумайте сами, когда дело дойдет до нее.
— Понятно. А как насчет секса?
— Это очень важный момент, — с неожиданным энтузиазмом сказал Лабориан. — Во всех своих романах я упоминал секс лишь тогда, когда это становилось абсолютно необходимо, и даже в этих случаях мне удавалось обходиться без его описания…
— Вам не нравится секс?
— Почему же, нравится. Он просто не нравится мне в моих романах. Его вставляют в книги все подряд и если честно, то, по-моему, для читателей его отсутствие в моих романах становится как бы освежающим; по крайней мере для моих читателей. Должен вам напомнить, что мои книги пользуются большим успехом. Если бы это было не так, у меня не нашлось бы для вас ста тысяч глободолларов.
— Хорошо, хорошо. Я вовсе не пытаюсь заткнуть вам рот.
— Однако всегда находятся и такие, кто утверждает: я, мол, не включаю в романы секс, потому что ничего в нем не смыслю, поэтому я — наверное, из принципа — написал этот роман исключительно для того, чтобы доказать им, что я могу про него писать. Весь роман пронизан сексом. Но это, конечно же, чужой секс, не такой, как наш.
— Совершенно верно. Поэтому мне и хочется выяснить у вас подробности. Как все это происходит?
Лабориан на мгновение растерялся.
— Они сплавляются воедино.
— Да, вы использовали именно такое слово. Вы имели в виду, что они сливаются воедино? Проникают друг в друга?
— Пожалуй, да. Уиллард вздохнул:
— Ну как вы могли писать книгу, не имея ни малейшего понятия о столь важной ее теме?
— У меня не было необходимости описывать детали. У читателя возникают собственные образы. Вам ли задавать подобный вопрос, когда компьюдрамы сейчас немыслимы без подсознательных внушений?
Уиллард сжал губы. Тут Лабориан оказался полностью прав.
— Ладно, они сливаются. Но как они выглядят после слияния?
— Я не стал затрагивать эту проблему, — покачал головой Лабориан.
— Но вы, конечно, понимаете, что я не смогу этого избежать?
— Да, — кивнул Лабориан. Уиллард тяжело вздохнул и сказал:
— Послушайте, господин Лабориан, если я соглашусь делать такую компьюдраму — а я пока еще не принял решение, — то стану делать ее исключительно по-своему. Я не потерплю никакого вмешательства с вашей стороны. Работая над романом, вы уклонились от такого количества авторских обязанностей, что я не могу позволить вам участвовать в творческом процессе, даже если у вас внезапно появится такое желание.
— Я это прекрасно понимаю, господин Уиллард. Я прошу лишь об одном: как можно ближе придерживаться сюжета и диалогов. Что же касается визуальных, звуковых и подсознательных эффектов, то их я полностью оставляю на ваше усмотрение.
— Надеюсь, вы понимаете, что мы не можем ограничиться простым устным или письменным соглашением, которое кто-то из моих коллег полтора века назад назвал «не стоящим бумаги, на которой оно записано». Нам придется подписать контракт, составленный моими юристами и полностью исключающий вас из участия в работе.
— Мои юристы будут рады с ним ознакомиться, но могу сразу заверить, что я не собираюсь прибегать к различным уверткам.
— И еще, — жестко произнес Уиллард, — я хочу получить аванс из той суммы, что вы мне предложили. Вдруг вы передумаете, а у меня нет настроения ввязываться в долгую судебную тяжбу.
Услышав это, Лабориан нахмурился:
— Господин Уиллард, те, кто меня знают, никогда не стали бы подвергать сомнению мою финансовую честность. Вы этого не знали, поэтому я прощаю вам подобное замечание, но прошу его не повторять. Какой аванс вы желаете получить?
— Половину, — бросил Уиллард.
— У меня есть предложение получше. Как только вы договоритесь с теми, кто пожелает вложить деньги в создание компьюдрамы, и как только мы подпишем контракт, я выплачу все сто тысяч даже прежде, чем вы начнете работу над первой сценой.
Глаза Уилларда широко раскрылись, и он не сумел удержаться от вопроса:
— Почему?
— Потому что хочу вас поторопить. Более того, если компьюдрама окажется для вас слишком сложна, если у вас ничего не выйдет или, к моему невезению, возникнут обстоятельства, которые не позволят завершить работу, то вы сможете оставить эти сто тысяч себе. Это риск, на который я готов пойти.
— Почему? В чем здесь подвох?
— Никакого подвоха нет. Я делаю ставку на бессмертие. Я популярный писатель, но никто и никогда не называл меня великим. Скорее всего мои книги умрут вместе со мной. Сделайте из моего романа компьюдраму, сделайте ее хорошо, и тогда хотя бы «Три в одном» станут жить дальше и заставят мое имя прогреметь в веках, — он печально улыбнулся, — или хотя бы несколько веков. Однако…
— Ага, — встрепенулся Уиллард. — Вот мы добрались и до «однако».
— Гм, да. У меня есть мечта, ради которой я готов на большой риск, но я все же не дурак. Я заплачу вам обещанные сто тысяч, и даже если ничего не получится, вы сможете оставить их себе — однако вы получите их в электронной форме. Но если, однако, вы создадите продукт, который удовлетворит меня, то вы вернете мне электронный дар, а взамен я вручу вам сто тысяч глободолларов в золотых монетах. Вы в любом случае ничего не потеряете — за исключением того, что для художника вашего масштаба золото наверняка будет иметь гораздо большую ценность, чем записанные на карту цифры.
— Я все понял, господин Лабориан! Мне тоже предстоит рискнуть. Я рискую потерять зря немало времени и усилий, которые мог бы потратить на более «верный» проект. Я рискую, создавая компьюдраму, которая может провалиться и погубить репутацию, заработанную после «Короля Лира». В моем бизнесе репутация у человека высока ровно настолько, насколько успешным оказался его последний продукт. Но я посоветуюсь кое с кем…
— Только конфиденциально, прошу вас!
— Разумеется! А затем мне придется серьезно подумать. Сейчас я готов согласиться на ваше предложение, но вы никоим образом не должны считать эти слова моим согласием. Пока что. Мы еще встретимся и поговорим.
Джонас Уиллард и Мэг Кэткарт встретились за ленчем на квартире у Мэг. Когда они пили кофе, Уиллард с явной нерешительностью человека, затрагивающего вопрос, который ему затрагивать не хочется, спросил:
— Ты прочитала книгу? — Да.
— И что ты про нее думаешь?
— Не знаю, — ответила Кэткарт, взглянув на него из-под темной рыжеватой челки. — По крайней мере недостаточно, чтобы судить.
— Значит, ты тоже не знаток фантастики?
— Ну, я читала фантастику, в основном про «мечи и колдовство», но ничего похожего на «Три в одном». Однако я слышала про Лабориана. Он пишет то, что называется «твердой научной фантастикой».
— Да, он подбросил нам весьма твердый орешек. Не знаю, как нам его раскусить. Эта книга, несмотря на все ее достоинства, не для меня.
— А откуда ты знаешь, что она не для тебя? — спросила Кэткарт, пристально глядя на Уилларда.
— Всегда важно знать предел своих возможностей.
— И ты с самого рождения знал, что не сможешь справиться с фантастикой?
— У меня на такое инстинкт.
— Это ты так говоришь. А почему бы тебе не представить, что можно сделать с тремя не описанными автором персонажами и что можно сделать на уровне подсознательных эффектов, а уже потом спрашивать инстинкт про то, что тебе по зубам, а что нет? Например, как бы ты изобразил Родительского, которого постоянно называют «он», хотя именно он вынашивает потомство? По-моему, это явная глупость.
— Ничуть, — мгновенно отозвался Уиллард. — Я согласен на «он». Лабориан мог бы изобрести третье местоимение, но оно наверняка прозвучало бы глупо и лишь развеселило бы читателя. Вместо этого он сохранил местоимение «она» для Эмоциональной. Она центральный персонаж и поразительно отличается от двух других. Это «она», примененное по отношению к ней, и только к ней, фокусирует на ней внимание читателя, а именно на ней оно и должно фокусироваться. Более того, на ней оно должно фокусироваться и в компьюдраме.
— Значит, ты все же думал об этом, — улыбнулась она. — А я так бы этого и не узнала, если бы не уязвила тебя.
Уиллард неловко поерзал.
— Вообще-то, — сказал он, — Лабориан говорил что-то в этом духе, поэтому не могу утверждать, что идея здесь полностью моя. Но давай вернемся к Родительскому. Я хочу поговорить о нем с тобой именно по той причине, что если решусь попробовать, то все будет зависеть от подсознательных внушений. Родительский выглядит как блок, как прямоугольник.
— Кажется, в стереометрии такая фигура называется прямоугольный параллелепипед.
— Меня совершенно не волнует, как эта фигура обзывается в стереометрии. Суть в том, что мы не можем изобразить просто блок. Нам нужно сделать из него личность. Родительский есть «он», который вынашивает детей, поэтому мы должны придать ему черты существа общего рода. Голос его не должен быть ни чисто женским, ни чисто мужским. Не уверен, что точно представляю нужные звучание и тембр, но, думаю, нам со звукооператором придется подобрать его методом проб и ошибок. Голос, разумеется, не единственная проблема.
— А какие еще?
— Ноги, Родительский перемещается с места на место, но в книге его конечности даже не упоминаются. Он должен иметь и эквивалент рук, потому что способен совершать определенные действия. Он похищает источник энергии, от которого подпитывается Эмоциональная, поэтому нужно придумать ему руки — не человеческие, но тем не менее руки. И ноги. Любое количество крепких коротких ног, чтобы быстро передвигаться.
— Как гусеница? Или как многоножка?
— Не очень-то приятные сравнения, правда? — поморщился Уиллард.
— Что ж, тогда мне придется создать подсознательный образ многоножки, не показывая ее реально. Просто понятие цепочки ног, этаких мерцающих закорючек, сделать их визуальным лейтмотивом Родительского и включать при каждом его появлении.
— Я понял твою мысль. Надо будет попробовать и посмотреть, что из этого получится. Рациональный — это овоид. Лабориан согласился с тем, что он может быть яйцеобразным. Можно изобразить, как он перекатывается с места на место, но такое решение, на мой взгляд, совершенно не годится. Рациональный гордится своим разумом, он полон достоинства. Он не может совершать смешные действия, а перекатывание смотрится смешно.
— Можно сделать ему плоский, но слегка выпуклый живот, и он станет на нем скользить, как пингвин.
— Или как улитка по слизи. Нет. Такое тоже не годится. Может, сделать ему три выдвижные ноги? Другими словами, в состоянии покоя он будет гордым и гладким овоидом, но, когда захочет переместиться в другое место, у него появятся три крепкие ноги.
— Почему три?
— Это соответствует тройственному мотиву, объединяющему весь роман; три существа трех полов. Передняя нога упирается и поддерживает тело, а две задние выдвигаются с боков.
— Что-то вроде трехногого кенгуру?
— Точно! Сможешь создать подсознательный образ кенгуру?
— Попробую.
— Эмоциональная, разумеется, самая трудная из трех. Ну что можно сделать с существом в виде облачка газа?
Кэткарт задумалась, потом сказала:
— Как насчет идеи объемных драпировок? Их можно сделать колышущимися, как в «Лире» в сцене бури. Она будет ветром, воздухом, и изобразит это тонкая полупрозрачная ткань.
Уилларда привлекло такое предложение.
— Совсем неплохо, Мэг. А подсознательный образ… ты сможешь сделать Елену Троянскую?
— Елену Троянскую?
— Да! Для Рационального и Родительского Эмоциональная — прекраснейшая из всех существ. Они с ума по ней сходят. Вспомни о сильном, почти непреодолимом сексуальном притяжении — их эквиваленте секса. Надо, чтобы зрители ощутили его так, как ощущают его они. Если тебе удастся внушить им образ греческой женщины с гладко зачесанными волосами, в свободно ниспадающем одеянии — а оно станет прекрасно сочетаться с образом Эмоциональной, — и сделать ее похожей на знакомые всем картины и скульптуры, то это и станет лейтмотивом Эмоциональной.
— Не так-то это просто. Даже кратчайшее вторжение человеческой фигуры в образ уничтожит все настроение.
— А ты этого не делай. Будет достаточно лишь намека. Это важно. Человеческая фигура действительно может уничтожить настроение, но нам придется на протяжении всей пьесы создавать намеки на человеческие фигуры. Зрители должны воспринимать эти странные существа как людей. Обязательно.
— Я подумаю над этим, — с сомнением произнесла Кэткарт.
— Далее появляется новая проблема — слияние. Тройной сексуальный акт этих существ. Насколько я понял из книги, их тела объединяются в единое целое, и Эмоциональная — ключ ко всему процессу. Без нее Рациональный и Родительский не могут слиться. Она — важнейший компонент процесса. Но этот дурак Лабориан, конечно же, не описывает его детально. Сама понимаешь, мы не можем показать, как Рациональный и Родительский бегут к Эмоциональной и запрыгивают на нее. Такая глупость мгновенно погубит всю компьюдраму.
— Согласна.
— В таком случае — это только что пришло мне в голову — мы сделаем вот что: Эмоциональная начнет расширяться, ее ткань зашевелится и обовьет Рационального и Родительского. Тогда ткань их скроет, и мы не увидим, что именно за ней происходит, но все три существа станут сближаться все теснее и теснее, пока не сольются.
— Тогда нужно выделить движения ткани, — решила Кэткарт. — Она должна перемещаться как можно грациознее, создавая впечатление красоты, а не просто эротизма. И подчеркнуть эффект музыкой.
— Только не увертюрой из «Ромео и Джульетты», умоляю. Быть может, подойдет медленный вальс, ведь слияние займет много времени. И музыка не должна быть знакомой — я не желаю, чтобы зрители принялись ее напевать. И вообще лучше сделать ее прерывистой, пусть у зрителей возникнет лишь впечатление вальса, и этого вполне хватит.
— Но мы не увидим, как все получится, пока не попробуем.
— Все, что я сейчас говорю, — лишь исходные сырые идеи, их можно будет как угодно менять и переделывать по ходу работы. Да, а оргазм? Надо же его как-то обозначить.
— Цветом.
— Гм-м-м.
— Это лучше, чем звук, Джонас. Нельзя изобразить взрыв. Но и нечто вроде извержения — тоже. Цвет. Беззвучный цвет. Может получиться.
— А какой цвет? Но только не ослепительная вспышка.
— Нет, конечно. Попробую начать с нежно-розового, который станет медленно темнеть, а под конец резко превратится в насыщенный красный.
— Не уверен. Придется попробовать. Эффект должен стать безошибочным и трогательным и не заставлять зрителей хихикать или испытывать смущение. Не исключено, что мы переберем все цвета и оттенки спектра, а под конец выяснится, что без подсознательных внушений ничего не выйдет. Теперь займемся тройным существом.
— Чем?
— Вспомни. После последнего слияния взаимопроникновение становится постоянным и порождает взрослую форму жизни, состоящую из трех исходных компонентов. Тут, как мне кажется, нужно придать им больше сходства с людьми. Запомни, не человеческий облик, а лишь сходство. Легкий намек на человеческое тело — и не только подсознательный. Потребуется новый голос, напоминающий три исходных, и я даже не представляю, как звуковик с этим справится. К счастью, тройные существа почти не появляются в романе. — Уиллард покачал головой. — Но все это подводит нас к тому печальному факту, что из этого проекта ничего не выйдет.
— Но почему? Ты же предлагал возможные решения самых разных проблем.
— Только не самой важной. Послушай! В «Короле Лире» все наши персонажи были людьми, да еще какими людьми! Буря эмоций. А что мы имеем здесь? Смешной набор из куба, овоида и занавески. И теперь скажи, чем «Три в одном» будет отличаться от мультфильма?
— Хотя бы тем, что мультфильм двумерен. Каким бы качественным ни был рисунок, он остается плоским и раскрашен без полутонов. Он неизменно сатиричен…
— Мне все это известно, и я спрашивал не об этом. Ты пропустила важное обстоятельство. То, что имеет компьюдрама, но не имеет мультфильм, — это подсознательные образы, которые могут быть созданы только мощным компьютером, подвластным гениальному программисту с гениальным воображением. Короче говоря, мультфильму не хватает тебя, Мэг.
— Но я никогда не зазнавалась.
— Не надо скромничать. Я пытаюсь тебе внушить, что все, буквально все, будет зависеть от тебя. Сюжет романа очень серьезен. Наша Эмоциональная пытается спасти Землю из чистого идеализма — ведь это не ее планета. И терпит поражение. В моей версии она тоже потерпит поражение. Никакой дешевки со счастливым концом не будет.
— Но все же Земля не уничтожена.
— Верно. Еще есть время ее спасти, если Лабориан соберется и напишет продолжение, но в этом романе ее попытка терпит крах. Это трагедия, и я хочу, чтобы к ней относились как к трагедии — не меньшей, чем в «Лире». Никаких смешных голосочков, юмористических сценок, сатирических штрихов. Серьезно, серьезно, и еще раз серьезно. И в этом я полностью полагаюсь на тебя. Именно ты должна сделать так, чтобы зритель реагировал на трех инопланетян, словно они люди. Все их странности должны постепенно раствориться, и зрители должны признать в них разумных существ, равных, а то и превосходящих нас по интеллекту. Сумеешь?
— Похоже, ты станешь на этом настаивать, — сухо отозвалась Кэткарт.
— И уже настаиваю.
— Тогда запускай шар в игру и оставь меня пока что в покое. Мне нужно время подумать. Много времени.
Первые дни съемок стали цепочкой откровенных неудач. Каждый член команды получил по экземпляру романа — осторожно, почти хирургически сокращенного. Но ни один эпизод не был полностью опущен.
— Мы станем как можно ближе придерживаться сюжета книги и по мере наших сил улучшать его по ходу дела, — уверенно заявил Уиллард. — А первым делом мы займемся тройными существами. — Он повернулся к главному звукооператору: — Ты над этим поработал?
— Я попытался сплавить три голоса в один.
— Давайте послушаем. Внимание, тишина в студии.
— Первым даю Родительского, — сообщил звуковик. Послышался высокий тенор, совершенно не согласующийся с угловатой фигурой, созданной имажистом. Уиллард даже слегка поморщился от этого несоответствия, но Родительский и был ходячим несоответствием — матерью мужского рода. Рациональный, медленно покачивающийся на ходу, оказался владельцем несколько самодовольного легкого баритона и с подчеркнутой тщательностью произносил слова.
— Поменьше раскачивайте Рационального, — вмешался Уиллард, — а то у зрителей начнется морская болезнь. Пусть он покачивается не все время, а лишь когда размышляет.
Затем он кивнул, увидев колыхающееся облачко Дуа (так в романе звали Эмоциональную). Ее облик получился весьма удачным, равно как и голос — поразительно нежное сопрано.
— Она никогда не должна кричать, — сурово напомнил Уиллард, — даже когда охвачена страстью.
— Не будет, — пообещал звуковик. — Но когда я синтезировал голос тройного существа, фокус оказался в том, как сделать каждый из трех прежних голосом смутно узнаваемым.
Все три голоса звучали негромко, не очень четко выговаривая слова. Потом они словно сплавились, и четкость произношения сразу повысилась. Уиллард немедленно покачал головой:
— Нет, совершенно не годится. Нельзя просто переплетать три голоса, иначе речь тройного существа станет смешной. Нам нужен один голос, в котором каким-то образом ощущаются три исходных.
— Легко сказать, — оскорбился звукооператор. — Но как это сделать?
— Очень просто, — жестко произнес Уиллард. — Прикажу тебе. Когда результат меня удовлетворит, я дам тебе знать. Так, Кэткарт… где Кэткарт?
— Я здесь, — отозвалась она, показываясь из-за своих инструментов. — Там, где и должна находиться.
— Мне не понравились подсознательные образы, Кэткарт. Насколько я понял, ты пыталась создать у зрителя впечатление мозговых извилин?
— Символ разумности. У этих инопланетян тройное существо есть вершина разумности.
— Да, понимаю, но вместо этого у меня возникло впечатление червей. Придется придумать что-то другое. Да и внешность тройного существа мне тоже не нравится. Он похож просто на большого Рационального.
— Но он и есть большой Рациональный, — возразил один из имажистов.
— Он именно так описан в книге? — резко спросил Уиллард.
— Не очень подробно, но у меня создалось впечатление…
— Забудь о своих впечатлениях. Решения тут принимаю я. С каждым днем Уиллард становился все раздражительнее.
Как минимум дважды он с трудом сдерживал эмоции, и второй раз это произошло, когда он заметил в дальнем уголке студии какого-то человека, наблюдающего за съемками. Вспыхнув, он тут же направился к нему:
— Что вы здесь делаете?
— Смотрю, — ответил Лабориан.
— В нашем контракте записано…
— Что я не имею права вмешиваться в процесс. Но там не сказано, что я не могу спокойно сидеть и смотреть.
— Если вы останетесь, то наверняка огорчитесь. Компьюдраму снимают по определенной технологии. Приходится преодолевать множество сложностей и неувязок, а съемочная группа начнет нервничать, если автор будет наблюдать и высказывать неодобрение.
— Я ничего не собираюсь высказывать. Я здесь только для того, чтобы ответить на ваши вопросы, если вы пожелаете их задать.
— Вопросы? Какие еще вопросы?
— Не знаю, — пожал плечами Лабориан. — А вдруг вас что-либо озадачит, и вам потребуется мой совет.
— Понятно, — протянул Уиллард, не скрывая иронии. — Получается, вы сможете научить меня моему же ремеслу.
— Нет, я могу ответить на ваши вопросы.
— Прекрасно, у меня уже есть вопрос.
— Очень хорошо. — Лабориан достал из кармана диктофон. — Вам осталось лишь произнести в микрофон, что вы задаете мне вопрос и желаете, чтобы я ответил, причем это не станет нарушением контракта, и я к вашим услугам.
Уиллард долго молчал, глядя на Лабориана с таким выражением, словно ожидал от него подвоха, но все же произнес в диктофон нужные слова.
— Замечательно. Так что у вас за вопрос?
— Работая над книгой, вы хоть как-то представляли себе облик тройного существа?
— Совершенно не представлял, — радостно ответил Лабориан. — Но как такое возможно? — Голос Уилларда дрожал от возмущения, словно лишь сила воли не позволила ему добавить в конце слово «идиот».
— Да очень просто. То, что я не описываю, читатель домысливает сам. Полагаю, каждый делает это по-своему — так, как ему нравится. В этом преимущество писателя. Аудитория у компьюдрамы может оказаться гораздо многочисленнее, чем число читателей книги, но за это вам приходится расплачиваться, создавая подробнейшие образы.
— Это я и без вас понимаю. Значит, спрашивал я вас зря.
— Ничуть. У меня есть совет.
— Какой же?
— Голова. Снабдите тройное существо головой. Ни Рациональный, ни Родительский и ни Эмоциональная не имеют головы, но все они считают тройное существо гораздо умнее любого из них. Именно в этом и заключается разница между тройным существом и его исходными компонентами. Интеллект.
— Голова?
— Да. Интеллект у нас ассоциируется с головой. В голове находится мозг, органы чувств. Безголовые устрицы или мидии — это моллюски, которые нам кажутся не разумнее травинки, но их родственника осьминога, тоже моллюска, мы воспринимаем как существо потенциально разумное именно из-за его головы. И глаз. Пусть у тройных существ будут еще и глаза.
К тому времени всякая работа в павильоне, разумеется, остановилась, и каждый из специалистов приблизился на безопасное, по его мнению, расстояние, чтобы послушать разговор директора и автора.
— Какая нужна голова? — спросил Уиллард.
— Какая вам понравится. Достаточно будет выступа или шишки, создающей намек на голову. И глаза. Зритель обязательно поймет идею.
Уиллард повернулся к помощникам.
— Всем за работу, — повелительно произнес он. — Кто объявлял перерыв? Где имажисты? Беритесь за дело, пробуем варианты голов.
Внезапно он обернулся и почти смущенно сказал Лабориану:
— Спасибо!
— Спасибо скажете, если получится, — пожал плечами Лабориан.
Остаток дня они потратили на головы, подбирая вариант, не выглядящий как карикатурная шишка и в то же время как копия человеческой, а затем форму глаз — не удивленные кружочки, но и не зловещие щелочки. Наконец Уиллард объявил рабочий день завершенным и хрипло произнес:
— Завтра попробуем снова. Если кого-либо ночью осенит блестящая идея, звоните Мэг Кэткарт. Все, достойное внимания, она сообщит мне. Думаю, она так и не позвонит, — негромко пробормотал он.
Уиллард оказался и прав, и не прав. Прав в том, что блестящих идей ни у кого не появилось. А не прав потому, что такая идея родилась у него самого.
— Послушай, — сказал он Кэткарт, — ты можешь наколдовать цилиндр?
— Что?
— Это такая штука, которую носили на голове в викторианские времена. Понимаешь, когда Родительский проникает в логово тройных существ, чтобы украсть источник энергии, вид у него не очень впечатляющий, но ты мне говорила, что натолкнулась на идею шлема и длинной линии, символизирующей копье. Он как бы отправился в рыцарское странствие.
— Да, помню. Но из этого может ничего и не получиться. Мы же пока не пробовали.
— Конечно, но твоя идея подсказала нужное направление. Если ты сумеешь создать намек на цилиндр, то создастся впечатление, будто тройное существо — нечто вроде аристократа. Тогда точная форма головы и вид глаз станут не столь критичными. Такое можно сделать?
— Сделать можно что угодно. Вопрос лишь в том, сработает ли идея.
— Попробуем.
Как это всегда получается, одно потянуло за собой другое. Услышав о цилиндре, звукооператор спросил:
— А почему бы не снабдить тройное существо британским акцентом?
— Зачем? — не понял застигнутый врасплох Уиллард.
— Понимаете, когда британец говорит, в его речи больше тонов. По крайней мере в речи верхних классов. Американская версия английского стала как бы более плоской, и это справедливо также для речи всех трех исходных существ. Если тройное существо заговорит как британец, его голос заиграет подъемами и спусками интонаций — тенором, баритоном, а иногда даже сопрано. А именно это мы хотели выразить тремя голосами, из которых формируется голос тройного существа.
— Ты сможешь это сделать? — спросил Уиллард — Думаю, что да.
— Тогда попробуем. Совсем неплохо — если получится.
Было интересно наблюдать, как захватила всю группу работа над Эмоциональной, особенно сцена, когда Эмоциональная мчится через всю планету после краткой встречи с другими Эмоциональными.
— Эта сцена станет одной из самых драматичных, — напряженно говорил Уиллард. — И мы поставим ее с максимально возможным размахом. Повсюду будут мелькать ткани, ткани, ткани, но они ни в коем случае не должны перепутываться. Каждое существо должно быть четко видно. Даже когда все Эмоциональные разом полетят в сторону зрителей, каждая должна выделяться. А Дуа обязана выделяться среди всех. Я хочу, чтобы она чуточку поблескивала, чтобы отличаться от остальных. Она же наша Эмоциональная. Понятно?
— Понятно, — сказал главный имажист. — Сделаем.
— И еще одно. Все остальные Эмоциональные щебечут. Они птицы. Наша Эмоциональная не щебечет, она презирает остальных, потому что умнее их, и она это знает. А когда она мчится оттуда… — он смолк и задумался. — Мы можем как-нибудь обойтись без «Полета валькирий»?
— Но мы не хотим отказываться от этой музыки, — без промедления ответил звуковик. — Ничего лучшего для этой цели еще не написано.
— Верно, — согласилась Кэткарт, — и пускать мы будем время от времени лишь короткие фрагменты. На слух они создадут тот же эффект, что и целое произведение, к тому же я могу добавить образ развевающейся гривы.
— Гривы? — с сомнением произнес Уиллард.
— Обязательно. Три тысячи лет общения с лошадьми вбили людям в головы, что мчащийся галопом жеребец есть олицетворение бешеной скорости. Все наши механические экипажи, несмотря на их огромную скорость, слишком статичны. И еще я могу сделать так, чтобы грива лишь подчеркивала и усиливала эффект колышущейся ткани.
— Звучит неплохо. Попробуем.
Уиллард знал, где его подкарауливает последняя преграда — в сцене слияния. Он собрал всех на инструктаж — отчасти чтобы убедиться, что все понимают, над чем они сейчас работают, а отчасти, чтобы продлить время на обдумывание и оттянуть момент, когда идеи начнут воплощаться в звуки, образы и внушения.
— Итак, — сказал он, — Эмоциональная хочет спасти другую планету, то есть Землю, потому что ей невыносима мысль о бессмысленном уничтожении разумных существ. Она знает, что тройные существа выполняют научный проект, необходимый для благополучия ее мира, и их совершенно не волнует опасность, которой они подвергают чужой мир, то есть нас.
Она пытается предупредить землян, но безуспешно. Наконец она узнает, что цель слияния заключается в том, чтобы произвести на свет новых Рациональных, Родительских и Эмоциональных, а затем произойдет окончательное слияние, после которого они тоже станут тройным существом. Это всем понятно? Три различных пола — это как бы личиночная форма, а тройное существо — взрослая форма.
Но Эмоциональная не хочет слияния, она не хочет порождать новое поколение. Больше всего ей не хочется становиться тройным существом и участвовать в начатой ими разрушительной работе. Однако ее хитростью вовлекают в окончательное слияние, и она слишком поздно понимает, что превратится не просто в тройное существо, а в то из них, которое больше остальных будет ответственно за научный проект, обрекающий другой мир на уничтожение.
Все это Лабориан сумел описать словами, словами и словами, но нам предстоит повторить его результат более быстро и резко, пользуясь образами и внушениями. Именно этим мы сейчас и попробуем заняться.
Они пробовали три дня, пока Уиллард не остался удовлетворен.
Измученная Эмоциональная, охваченная неуверенностью, отчаянно рвется наружу, а подсознательные внушения эту неуверенность нагнетают все больше и больше. Рациональный и Родительский уже наполовину слились, гораздо быстрее, чем при предыдущих слияниях, — они торопятся завершить процесс, пока его не прервала Эмоциональная, а та слишком поздно понимает, что это слияние окончательное, и вырывается… вырывается…
Все, конец. Обессиливающее ощущение поражения, когда после слияния возникает новое тройное существо, гораздо более близкое к человеку, чем любой другой персонаж компьюдрамы… но гордое и безразличное.
Научный проект будет продолжен. Земля покатится все дальше навстречу гибели.
И вдруг непонятно как, но у них получилось — то была суть всего, что пытался сделать Уиллард — стало ясно, что внутри нового тройного существа сохранилась частичка прежней Эмоциональной. Едва заметное колыхание ткани, и зритель начинал понимать, что поражение пока не окончательное.
Эмоциональная, запертая внутри существа более высокого порядка, еще не сдалась. Борьба будет продолжаться.
Вся группа смотрела завершенную компьюдраму — впервые целиком, а не в виде набора отрывков — и внимательно оценивала, не требуется ли где перестановка или редактирование. («Не сейчас, — подумал Уиллард — только не сейчас. Потом, когда приду в себя и смогу оценить работу более объективно».)
Сгорбившись, он сидел в кресле. Он вложил в это слишком большую часть своей души. Ему казалось, что компьюдрама содержит все, что он хотел в нее вложить, и что он сделал все, что хотел; но насколько его благие пожелания отличаются от действительности?
Когда действие завершилось и последний трепещущий подсознательный крик побежденной, и в то же время непобежденной Эмоциональной стих, он произнес лишь одно слово:
— Итак?
— Это почти так же хорошо, как «Король Лир», Джонас, — сказала Кэткарт.
Все вокруг забормотали, соглашаясь, и Уиллард недоверчиво огляделся. А что им, в любом случае, оставалось сказать?
Он поймал взгляд Грегори Лабориана. Писатель молчал, лицо его оставалось бесстрастным.
Губы Уилларда сжались. От него по крайней мере он мог услышать мнение, подкрепленное — или не подкрепленное — золотом. Уиллард уже получил его сто тысяч. И сейчас он узнает, суждено ли им остаться электронными деньгами, запертыми в его карточке.
Он поднялся и повелительно — от неуверенности — произнес:
— Лабориан, я хочу поговорить с вами в моем кабинете.
Они сидели наедине впервые с того дня, когда началась работа над компьюдрамой.
— Итак, что вы думаете, господин Лабориан? — спросил Уиллард.
— Женщина, которая создавала подсознательный фон, сказала, что получилось почти столь же хорошо, как и в «Короле Лире», — улыбнулся Лабориан.
— Да, я слышал.
— Она совершенно не права.
— Таково ваше мнение?
— Да. А сейчас важно именно мое мнение. Так вот, она совершенно не права. «Три в одном» получились у вас гораздо лучше, чем «Король Лир».
— Лучше? — На усталом лице Уилларда появилась улыбка.
— Гораздо лучше. Посудите сами, с каким материалом вы работали, создавая «Короля Лира». Уильям Шекспир снабдил вас поющими словами, которые сами по себе музыка; он же одарил вас персонажами, которые, независимо от того, добры они или злы, сильны или слабы, умны или глупы, верны или склонны к предательству, всегда и во всем ярче и крупнее обычных людей; Уильям Шекспир переплел две сюжетные линии, которые взаимно усиливали друг друга, и тем самым полностью овладел сердцами зрителей.
Каким стал ваш вклад в «Короля Лира»? Вы добавили нюансы, о которых Шекспир не имел, чисто по техническим причинам, ни малейшего понятия и даже мечтать о них не мог; но все эти изощренные технические штучки, оказавшиеся по силам вашей команде и вашему таланту, лишь кое-что добавили к шедевру литературного гения всех времен, трудившегося на вершине своего таланта.
Но, взявшись за «Три в одном», вы стали работать с моими словами, которые отнюдь не пели, с моими персонажами, которые далеко не величественны, и с моим, далеко не блистательным сюжетом. Вы работали со мной, писателем-ремесленником, и создали нечто великое — то, о чем будут помнить еще долго после моей смерти. Благодаря вам хотя бы одна моя книга обрела бессмертие.
Верните мне мои электронные сто тысяч, господин Уиллард, и я вручу вам это.
Когда сто тысяч глободолларов были переведены с одной карточки на другую, Лабориан с усилием поднял пухлый портфель, поставил его на стол и открыл. Из него он достал коробку с крышкой на крючочке. Он аккуратно отодвинул крючочек и поднял крышку. В коробке заблестели золотые монеты с отчеканенным изображением Земли — Западное полушарие на одной стороне, а Восточное на другой. Двести крупных золотых монет, каждая стоимостью пятьсот глободолларов.
Восхищенный Уиллард взял одну из них. Она весила примерно унцию с четвертью. Он подбросил ее и поймал.
— Какая красота, — сказал он.
— Всё это ваше, господин Уиллард — сказал Лабориан. — Спасибо, что сотворили для меня компьюдраму. Она стоит каждой из этих золотых монет.
Уиллард помолчал глядя на золото, и сказал:
— Вы соблазнили меня создать компьюдраму по вашей книге, предложив это золото. Чтобы получить его, я до предела напряг все свои таланты и превзошел самого себя. Спасибо вам за это. И вы правы — такое наслаждение стоило каждой из этих золотых монет.
Он положил монету в коробку и закрыл крышку. Потом поднял коробку и протянул ее Лабориану.
Примечания
1
Повествование начинается с главы 6. Это не ошибка. У меня есть на то свои глубокие причины. А потому спокойно читайте и (надеюсь) получайте удовольствие.
(обратно)2
Silver — серебряный (англ.).
(обратно)3
Разные типы фойе именуются в отелях различными цветами. «Зеленый зал» — артистическое фойе.
(обратно)4
Cony — по-английски «кролик», silicony можно перевести как «глупый кролик».
(обратно)5
Предлагаемый вниманию читателя рассказ написан в 1956 г., когда еще не были уточнены периоды вращения Меркурия вокруг своей оси и его обращения вокруг Солнца, позже стало известно, что каждая часть поверхности планеты в тот или иной момент времени освещается Солнцем.
(обратно)6
См. рассказ «По снежку по мягкому».
(обратно)7
Библейский Пояс — районы Среднего Запада США, расположенные в Аппалачах, население которых отличалось суровостью, высокой религиозностью, демократичностью и консерватизмом.
(обратно)8
Калтех — Калифорнийский технологический институт.
(обратно)9
Не следует из вышесказанного (лат.).
(обратно)10
Римский мир (лат.).
(обратно)11
Тсрогмортон — улица в Лондоне, на на которой расположены крупные банки; Бэнкхед — глава банка.
(обратно)12
Нижинский Вацлав Фомич (1889–1950) — русский артист балета, балетмейстер.
(обратно)13
Катодно-лучевая трубка, названная в честь сэра Вильяма Крукса (1832–1919), английского физика и химика.
(обратно)14
Мальтус (1766–1834) — английский экономист и священник, автор книги «Опыт о законе народонаселения». Нищету масс он объяснял быстрым ростом населения.
(обратно)15
Дуодециллион составляет 12х1033.
(обратно)16
От Рождества Христова.
(обратно)17
Генри Уодсуорт Лонгфелло (1807–1882) — американский поэт.
(обратно)18
Биоробот.
(обратно)19
Имеется в виду ковш для сбора межзвездного газа.
(обратно)20
Чтобы перенестись из одной точки Вселенной в другую, отдаленную на многие световые годы, автор «пользуется» пространством сверхбыстрых тахионов (от греческого «быстрый») в отличие от тардионов (от латинского «медленный»), составляющих привычный для нас мир.
(обратно)




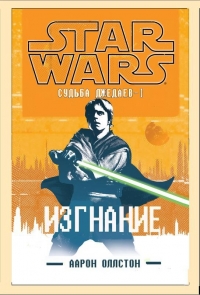



Комментарии к книге «Избранные произведения. II том», Айзек Азимов
Всего 0 комментариев