Клим Жуков, Екатерина Антоненко Солдат Императора
Посвящается Дмитрию Гордевскому и Яне Боцман, а также моим друзьям, без которых эта книга никогда не была бы написана.
Пролог
Скоро, уже совсем скоро начнётся.
Солнце беспощадным желтым пауком выползает из-за края земли, стремясь занять центр ярко-синей паутины небес. Колокола на башне Санта Мария делль Мар молчат, еще нет девяти утра, но жаркое марево испанского лета уже разлилось по земле. То ли еще будет. Слабый ветер с моря приносит душную влагу, которая заставляет свет преломляться, искажая идущие вдалеке фигуры.
Чуть дальше на запад начинается совсем другой мир апельсиновых рощ. Там среди деревьев прохладно и воздух напитан упоительными ароматами свежей листвы, ухоженной земли; зрелые, сильные ветви готовятся первый раз в этом году дать жизнь сладким плодам. Все в том далеком мирке наполнено радостью любви и возрождения.
Но тот мирок эфемерен, а мир, который я сейчас вижу перед глазами более, чем реален. Здесь нет прохладного тенька и сладостных запахов. Когда свирепое солнце заставит гору Монсеррат накрыть все своей тенью, даже тогда здесь не будет ничего кроме духоты, жары и пыли. Тот мир радуется новому утру, готовится любить и дарить жизнь. Мы здесь собираемся заняться прямо противоположенным: мы готовимся жизнь отнимать.
Люди, шагающие впереди, люди, шагающие позади, – они излучают уверенный плотоядный интерес и ни капли страха. Чужая – не своя, – смерть здесь и сейчас возбуждает в них древнюю, как мир, жажду крови.
О, мы с Франциско – два достойных соперника, сильных и опасных, наша схватка будет захватывающей. Если одному из нас суждено выжить, что маловероятно… о нем позаботится полковой палач посредством нехитрого деревянного устройства и хорошо намыленной веревки.
Я не знаю, что лучше в моем положении – победа или смерть от клинка моего соперника, ибо именным указом императора любые дуэли в действующей армии караются повешением, не взирая на знатность рода, звание и заслуги. Но мы, два упорных болвана, идем вперед, чтобы снять друг с друга кровавую стружку и потешить немногочисленную публику, которая понимает толк в игре клинков.
А потом, если победитель не успеет смыться до появления караула, то он спляшет гальярду с безносой прямо на центральной площади нашего славного лагеря. Ха! Суд у нас скор, в «Аудиенсию»[1] идти не придется.
Мы идем вперед, взбивая пыль добротными башмаками. Кто мы? Если отбросить актеров второго плана – четырех секундантов, вечно пьяного доктора, то главные роли исполняют двое, как вы уже догадались. Это я, германский мещанин Пауль Гульди, и блистательный испанский офицер из знатного рода де Овилла. Дон Франциско де Овилла, вот он идет впереди. Тонкий, гибкий и прямой, как и толедская шпага на его бедре. И поверьте, нисколь не менее смертоносный. Яркий представитель молодой аристократии, не успевшей еще обзавестись гемофилией, голубой кровью, белой костью и привычкой к кровосмесительным бракам.
Красивый и сильный потомок нескольких поколений бесстрашных воинов и самых прекрасных женщин, которых только они смогли покорить. В каждом его выверенном движение сквозит многолетняя привычка владеть оружием и людскими душами. Прирожденный кавалер, командир, заводила, душа компании, любимец женщин – и один из опаснейших убийц из всех, что мне доводилось встречать.
Любимец женщин? Так точно, именно женщина явилась причиной нашей с Франко ссоры. Моя жизнь снова катится к черту под хвост из-за женщины. Зарекался же, не раз и не два – бесполезно. Мне нельзя погибать, только не сейчас, не здесь и не так.
Однако, будь у меня возможность переиграть все сначала, вернувшись на два месяца назад, я клянусь, что повторил бы то, что привело к нынешнему положению вещей.
Ради лучистых миндалевидных черных глаз и тонкого стана моей цыганской колдуньи, подобного нежному стеблю диковинного цветка. Ради той, что вернула мне давно забытое и, казалось, потерянное навсегда чувство. Ради той, что хоть ненадолго сделала эту грешную кровавую землю, раздираемую на части смутами, голодом и болезнями, моим вторым домом. Ради нее я был готов на все, и смерть – лишь малое.
Поймите меня правильно, я не поклонник дуэлей, всю жизнь старался их избегать, это глупое и очень опасное развлечение, особенно, когда приходится иметь дело с такими, как дон Франциско. За все годы, проведенные в армии, мне лишь дважды встречались фехтовальщики, равные этому испанскому молодчику.
Я предпочитаю держать оружие наготове, но не трясти им почем зря. Но! Я должен, слышите, должен поступать по неписаным канонам нашей братии, чтобы ландскнехты принимали меня как своего!
«Свои» никогда не спустят оскорбления. Тем более, когда в дело замешана самая желанная женщина от побережья и до противоположенного берега Эбро. На оскорбление «свои» отвечают вызовом и отточенной яркой сталью.
Я вынужден был вызвать де Овилла на поединок, а он выбрал оружие. Шпаги и кинжалы. Не мой конек. Но все бы ничего, если бы мой противник не был тем, кем он является. А он, знаете ли, не дерьма кусок, а признанный лучший клинок всей испанской армии. Герой трех дюжин дуэлей (это к двадцати-то пяти годам!) и двух военных кампаний.
Какая жалость, что раненая честь и хмель выстлали мои глаза багровой яростью: хватило бы мне ума спровоцировать испанца вызвать меня, тогда в дело пошли бы двуручные мечи. Наш испанский жеребчик оказался бы на короткой корде, вынужденный играть по моим правилам.
Двуручный меч помимо умения требует недюжинной силы, я же заметно сильнее моего визави, как и всех, кого, я встречал в армии до сего дня. И длинные руки ему не помогли бы. Да что там, всем известно, что утонченные испанцы не блещут в сложном искусстве управляться спадоном.
Ха, весь цвет Европы видел, как на турнире в Мадриде в честь коронации Карлоса I (любимого нашего императора Карла V) рыцари из Тироля и Баварии гоняли по ристалищу расфуфыренных испанских сеньоров, вышибая из них дух и спесь прославленными клинками из Пассау, и лопни мои глаза, если там были мечи короче пяти футов!
Видит Бог, я не стал бы убивать благородного дона. Похромал бы с недельку и всё. Для тела убыток, для ума прибыток, как говаривал мой знакомый купец из торгового города Любека.
Опасная это штука – сослагательные наклонения. Расслабляет. Мне нельзя расслабляться. Двуручники стоят в оружейных пирамидах, где и положено, а на поясе у меня мой «кошкодер»[2]. Широкий и короткий клинок, простая гарда из двух витых дуг в виде замкнутой буквы «S».
Тяжелое и надежное орудие войны. Совершенно непригодное для поединка против узкой и легкой шпаги с витой гардой и широкой крестовиной. Клинок не менее трех футов, гибкий как гадюка. Превосходная толедская работа.
Именно такое приспособление висит на перевязи дона. Они оба выкованы для убийства. Можно было бы попытаться сломать, перерубить узкий клинок, но с одной стороны в доле его написано: «Juan Ernandes Toledo», а с другой: «Espadero dell Rey»[3], а на пяте хмурится полумесяц с горбатым испанским носом. Это означает, что сломать этот клинок мог бы архангел Гавриил своим огненным мечем, но не простой смертный.
Я не питаю иллюзий, насчет его намерений: никакой пощады, никакого «боя до первой крови». Первая кровь, скорее всего, польется из разрубленной артерии.
Холм надежно закрывает нас от любопытных глаз в лагере, полянка глинистая, плоская, песка почти нет, рытвины и кусты не мешаются. Идеально. Пора начинать. Дон Франциск снимает камзол и рубаху, ну что же, разоблачимся и мы, неторопливо, пуговка за пуговкой. Пальцы дрожат от страха или с похмелья, не разберешь, это плохо. Да, пить я тоже неоднократно зарекался.
Глядя на размытые в солнечном свете фигуры зрителей, я в который раз за многие годы задаюсь вопросом: а что я здесь, собственно, делаю? Как меня занесла нелегкая в столь нелепую и опасную передрягу?
Немного времени осталось, чтобы поразмыслить над прожитой жизнью. И я размышляю, натягивая плотные перчатки черненной свиной кожи, размышляю, слушая мягкий шелест клинка, выползающего из своего убежища в ножнах, размышляю, занимая позицию в центре невидимого круга, описанного нашими ассистентами. Еще несколько секунд и мысли уйдут. Место разума займет холодная, тщательно дозированная ярость.
А на самом деле, как же все началось?
Хм…
В год 1534 от Рождества Христова я, Пауль Гульди, мещанин, служивший при Павии гауптманом пехоты, был призван Карлом V, Божьей Милостию Императором нашим, под знамена испанской армии, куда в преддверии Тунисской кампании со всей Империи сходились храбрейшие рыцари, множество Божьих солдат – ландскнехтов, добрых пушкарей и мушкетеров, и всяческого прочего воинского люда без счета.
Кого же только не было среди любимых Богом и Императором ландскнехтов! И разоренные крестьяне и бедняки в поисках лучшей доли, мелкие рыцари, измученные ростовщиками, городские ремесленники, пущенные по миру минувшей войной… даже преступники, спасенные от виселицы или топора барабаном вербовщика. Их всех приносил под золотое знамя с черным имперским орлом горячий ветер близкого сражения, сшибал с них спесь или приниженность, уравнивал их в едином строю.
Среди них был и я, Пауль Гульди, бывалый солдат, которого лютеранские выродки едва не сожгли на костре, подозревая в колдовстве. Ха! А говорили, бесовы лютеране не признают Дьявола. Ведьм жгут за милую душу!..
Нет, пожалуй, на самом деле все началось гораздо раньше, примерно двенадцать земных лет назад, совсем в другом месте. Звали меня тогда Этиль Аллинар.
Глава 1 Этиль Аллинар крадёт невесту и превращается в Пауля Гульди
Когда земляне в своем далеком туманном будущем вычислят скорость света и может быть найдут на небосводе совсем неприметную отсюда золотистую звездочку моего родного дома, дадут ей имя или номер в классификаторе астрономических тел, потом ради интереса вычислят расстояние, которое мне пришлось преодолеть в уплату за юношескую глупость, моя история покажется им просто бредом свихнувшегося наемника. Немало психов шастает по Европе в наши смутные времена. Но я не фанатик, не мессия иль Антихрист – я несчастный идиот, вынужденный сидеть на захолустной планете у идунов на куличиках и писать нуднейшие отчеты, которые никто никогда не читает.
Я – наблюдатель.
Моя задача конспектировать исторический процесс для дальнейшей передачи сведений ученым. На Земле нас сейчас вроде бы двое таких приключенцев, но второго я не видел и едва ли увижу: для сохранения инкогнито наблюдателям воспрещается контактировать между собой. Наблюдателям так же предписывается находиться в гуще событий, но не привлекать к себе особого внимания. В остальном мы вольны жить как нам заблагорассудится.
Двенадцать земных лет назад я был студентом ксеноисторического факультета Академии гуманоидных миров в городе Сулле, что на планете Асгор. Я пошел по стопам отца, деда и прадеда, не имея тяги к профессии, но равно иного выбора. Семья рассудила, что в армии без меня остолопов хватает. Юношеские мечты о дальнем космосе накрылись пудовыми фолиантами науки.
Учился я средне, но числился в подающих надежды. Мне светила непыльная должность в НИИ с перспективой ученой степени, а дальше как повезет. Не самое плохое будущее. Повезти мне могло крупно: Асгор показывал всему нашему рукаву галактики пример сильной державы-пастыря отсталых миров, ксеноистория снова входила в моду, наряду с прочими этнологическими дисциплинами. Но не повезло.
Руководил Академией эрл Хоган из Астиленнов, что приходились недальней родней правящему дому Ториадов, и на мое несчастье у него была дочь.
Гелиан, красотка с рыжими косами. Именно Гелиан стала женщиной, ради которой я пустил под откос свою карьеру и жизнь. Но она того стоила. Первые годы на Земле я проклинал ее сильное гибкое тело с тонкой талией и упругими бедрами, ее груди, что так уютно ложились в мои ладони, а пуще всего – чуть раскосые глаза ее, зеленющщие, как всполохи северного сияния над моими родными островами. Двенадцать лет прошло – до сих пор помню ее в мельчайших деталях. Такую забудешь, как же. Смириться мне пришлось, а вот забыть – увольте.
Итак, мне едва стукнуло девятнадцать и я был по уши влюблен в женщину, которой не суждено стать моей. Как минимум потому, что я не принадлежал к дворянскому роду. Однако решил попробовать.
Мои поначалу робкие ухаживания довольно скоро увенчались успехом. Гелиан на людях вела себя со мной сдержанно, с оттенком высокомерия, как подобает знатной особе, но стоило нам остаться наедине, от ее холодности не оставалось следа.
Мне хотелось большего. Я видел, как подле Гелиан вертятся мужчины ее круга, и готов был уничтожить каждого из них любым способом из своего довольно обширного арсенала. Ее отец не принимал меня всерьез, я был для него лишь очередной забавой его единственного чада. Впрочем, я испытывал к нему за это некоторую благодарность, ибо выбирать не приходилось.
Не помню, кто из моих друзей подкинул мне идею с древним ритуалом похищения невест, по которому украденная девушка либо в течении ста дней соглашается стать женой похитителя, либо по окончанию срока с почетом и подарками возвращается своей семье. Оно и не важно. По всем правилам я подкараулил Гелиан в переулке, затолкал в авиетку и увез на свои родные острова. Дурень стоеросовый. Не учел, что она привыкла к совершенно иному качеству жизни, нежели я мог ей дать.
Поначалу, естественно, все шло замечательно. Мы упивались свободой и собственным счастьем, сутками не вылезая из постели. Я напрочь забросил Академию, Гелиан училась готовить. М-да, пожалуй, готовка была единственным, что она делала отвратительно. Тогда.
А потом изнеженное создание понемногу начало ныть, пока сказочным образом не превратилось в злобную мегеру. Ей не нравился утренний ветер, ее пугала тишина, она скучала по балам и приемам, а наши семейные вечеринки вызывали на ее пухлых губках презрительную усмешку. Гелиан жаловалась на мою мать и мою сестру, которые якобы косо на нее смотрят и ненавидят. Все ее здесь ненавидят, а я – обманщик, решивший воспользоваться ею, дабы выбиться в знать. Она сетовала на отсутствие служанок и массажистки, плакала, что ее золотисто-рыжие косы тускнеют от здешнего сырого климата, и все чаще закатывала мне истерики, дескать, как я осмелился привезти ее, одну из знатнейших дам Асгора, в приполярную глухомань, где всех достопримечательностей – заснеженные скалы, темень, да хронический насморк.
Я пытался ее успокоить и клялся, что найму для нее служанку, когда мы поженимся.
– Поженимся?! – взвизгнула Гелиан так, что у меня едва не заложило уши. – Ты вконец сдурел?! Ты что, думаешь, я готова навсегда остаться в этой идуновой заднице с историком-недоучкой? Разбежался! Мой отец…
Я не выдержал, хлопнул дверью и ушел, не дослушав ее тирады. В тот же вечер, когда она немного успокоилась, подсыпал снотворного ей в чай и отвез ее обратно эрлу Хогану, не дожидаясь конца положенного по ритуалу срока.
Эрл Хоган встретил меня на пороге своего дома и явно не стремился приглашать внутрь.
– И как мне это понимать, Этиль? – обманчиво ласковым тоном спросил он, проигнорировав мое приветствие; все студенты знали эту его слащаво-ядовитую манеру задавать риторические вопросы перед бурей.
А во гневе глава Академии был страшен.
Я предпочел промолчать. Выволок сонную Гелиан из авиетки и вручил слугам. Та сквозь дрему попыталась было возмутиться, ввернула пару крепких словечек по поводу моих несбыточных надежд, но вновь обмякла и затихла. Я беспомощно развел руками.
– Этиль, ты идиот. Нет, ты дважды идиот, – эрл Хоган заметно повеселел и перспектива бури вроде временно отступила. – Во первых – ты спер мою дочь и не удосужился подумать о последствиях. Во вторых – ты вернул ее раньше срока и без надлежащих извинений, так что репутация моей девочки малость пошатнется. А в третьих – ты трижды идиот, потому что я этого так не оставлю.
– Понимаю, – сказал я.
В ранний предутренний час на улицах шумного Сулле почти не было прохожих, но я почему-то не сомневался, что уже сегодня наша история станет главным городским анекдотом.
– У тебя прямо здесь и сейчас на выбор есть два варианта дальнейшего развития событий, – продолжил эрл Хоган с нехорошей улыбочкой. – Первый: ты вылетаешь из Академии со свистом, а твой отец теряет место в научной коллегии по самому неблаговидному поводу, который мы сможем придумать. Фантазия у нас богатая, долго не отмоетесь. Второй: я по счастью вспомнил, что у нас на Земле недобор персонала, а ты писал научную работу о влиянии эмиссаров Асгора на ранние стадии формирования северных культур. Хорошая работа, кстати, герцог Леданэ одобрил. Так вот, довольно давно один наблюдатель погиб в заварушке с каким-то цветочным названием. Не помню, каким, не важно. Второй в одиночку не справляется. Лететь туда никто не хочет, шумно там, войны постоянные, антисанитария. И находится в идуновой… ладно, бывает и хуже. Планетка забавная, скучать не придется, жалование вполне приличное. Академию закончишь по возвращению. И – твое решение?
А что еще я мог ему ответить?
Так я оказался в Альвхейме на годовом инструктаже у двух альвийских герцогов – Леданэ и Хаэльгмунда, – и Тиу-Айшена, столь же бессмертного, как они, воспитателя рода Ториадов. Эта веселая троица много веков назад курировала асгорские миссии на Земле, и с тех пор питала к этой далекой жутковатой планетке особо нежные чувства.
Сейчас, прожив двенадцать лет среди землян, я многое осознал, но многого так и не постиг. Например, странный парадокс: на Асгоре испокон веков прекрасно уживаются две абсолютно разные цивилизации, не похожие ни менталитетом, ни биологией, лишь общим физическим строением тел – люди и альвы. А здесь, на Земле представители одного и того же биологического вида радостно сносят друг другу головы из-за различий в цвете кожи – да что там: из-за религиозных догм. Зачем им такая пакость? Никогда этого не пойму. Глуп, наверное.
Междоусобные войны царьков, князьков и мелких феодалов я могу понять: власть, деньги, земли, – у нас самих в истории хватало местечковых конфликтов, еще веков двадцать назад. Но религиозные – нет. Почему-то асгорцам никогда не приходило в головы устраивать геноцид альвам, которые верят в каких-то своих богов или идун знает, во что еще?
Нам и так хорошо. Нам вообще-то не мешает, что альвы практически бессмертны и что их цивилизация по развитию превосходит нашу на сотни тысяч лет. Их родной мир погиб в незапамятные времена, альвы переселились на Асгор на заре нашей истории, когда Великий Ясень был еще тоненьким деревцем, а первому из Ториадов, сыну Души Древа и безымянной альвийки, едва исполнилось пятнадцать лет. В уплату за гостеприимство научили нас летать к звездам. Всему научили. Неплохая, я считаю, сделка с пожизненной арендой половины материка.
Мне повезло родиться в на редкость уравновешенном мире с централизованной монархией. У нас за много тысячелетий никто не осмелился даже заикнуться о реформе власти, ибо надо быть психом, чтобы пытаться сместить род Детей Ясеня, естественных симбионтов великого Древа, укрывающего наши миры от всяких напастей из космоса. Без Ториадов все наше громадное государство обречено. Так пишут в книгах, так говорят в школе, и пока ни у кого не возникало энтузиазма проверить легенду на истинность.
– Удачное стечение обстоятельств, не более, – ответил мне Хаэльгмунд, когда я попытался изложить ему свои выводы на второй день после приезда в Альвхейм. – Асгор – уникальный мир. У нас есть символ – Ясень. Остальное подстраивается под него в максимально комфортном для всех ключе. У нас единая история и единая мифопоэтика. Что было сперва? Пришли некие ассуинн, бессмертные, и привели с собой народ. Кальмару понятно, что где-то что-то стряслось – катастрофа или перенаселение, – что послужило отправной точкой колонизации Асгора. Где – оно по сей день не ясно, колонистам основательно почистили память. И кто такие ассуинн – тоже не ясно. Леданэ вон помнит одну из них, Печальную Королеву. Именно она отдала альвам земли по западному берегу реки Дэллит в обмен на обещание пестовать цивилизацию людей. Я родился на двести с лишнем лет позже Исхода, уже на Асгоре, потому довольствовался его рассказами. Зато предельно понятно другое: один из ассуинн остался чтобы стать Душой Ясеня и оставил здесь своего сына, чтобы тот продолжил генетическую преемственность связи с гигантским биологическим артефактом. В остатке мы имеем двухкомпонентное общество, целостное изначально. А на Земле все сложнее. Начать с того, что она задумывалась как совместный проект с разобщенной ментальностью и полным отсутствием искусственных коммуникаций, и была реализована из рук вон плохо. И наверное потому она мне всегда нравилась. Совершенные творения скучны. Если тебя это утешит, я тебе даже завидую.
Я хотел было спросить, почему в таком случае он торчит на Асгоре, а не сидит на распрекрасной своей Земле, но вовремя прикусил язык. Мы давно не замечаем наших различий с альвами, но различия от этого никуда не деваются. Альвы прекрасны тонкой инфернальной красотой нелюдей, но более всего их выдают глаза. Длинные раскосые глаза, лишенные белков и зрачков, словно наполненные сияющим цветом. В них совершенно не хочется смотреть дольше одной секунды.
– Ступай к Тиу-Айшену вниз. Начнет учить тебя верховой езде и проверит что ты умеешь. Хоган говорил, ты увлекался фехтованием, – герцог прищурился и отодвинул пальцем тяжелую бархатную штору, рассматривая двор за витражным стеклом. – Ты же видел лошадей? Мы завезли с Земли в свое время. Они так и не стали популярными на Асгоре, только как красивые экзоты. Жаль. Эстетика имеет свойство частично отмирать в угоду техническому прогрессу. С появлением авиеток у нас даже койры почти вымерли, никто на них уже не летает. Так, молодежь в основном балуется. Помнится, мы их сдуру на Землю приволокли, так они разлетелись. Потом их со временем понемногу перебило местное население. Так что рыцарские сказки о драконах – не только отражение хтонических образов из глубин бессознательного, хотя сдобрены известной долей творческой гиперболизации.
С улицы донеслось приглушенное ржание инопланетного животного, с которым мне предстояло научиться управляться.
– И много вы еще оставили землянам… хтонических образов? – попытался сострить я.
Альв рассмеялся и произнес какое-то непонятное слово на одном из земных языков. Наверное тем самым хотел сказать, что много.
В последующие несколько месяцев я неоднократно благословлял своего отца, который с детства привил мне любовь к боевым искусствам. Я хотел в армию – армия требовала серьезной физической подготовки.
Армия, правда, не хотела меня.
Когда поступил в Академию, подзабросил, конечно. Не до того было: между учебой и девушками оставался короткий промежуток времени на сон. Ходил иногда поразмяться в спортзал, но приличных соперников средь будущих ученых так и не обнаружил. Приличные соперники водились в военной академии на другом конце громадного Сулле, а туда меня заносило крайне редко.
Тиу-Айшен гонял меня до седьмого пота. Многочасовые лекции по культурологии, лингвистика, верховая езда, курс полевой хирургии, биологии – все это показалось приятнейшим времяпровождением по сравнению с тем, что творил ежедневно по нескольку часов с моим несчастным организмом седой бессмертный. По виду – старик, а на проверку… я по сравнению с ним смотрелся хуже древней развалины.
Тиу-Айшен двигался скупо, едва не ленясь, но непостижимым образом вдруг оказывался вне досягаемости опасного металла, а мой меч раз за разом находил пустоту либо скашивал сизо-зеленые травы лугов Альвхейма. Если он всех Ториадов так пестует, то я им сочувствую.
– Да в общем не все так плохо. Я думал, будет хуже, достанется мне какой-нибудь увалень, – резюмировал он после очередной тренировки, любовно осматривая чудовищных размеров двуручный меч на предмет зазубрин. – К концу года дотянем тебя до вполне приличного уровня.
Я развалился на скамейке в полном изнеможении и прикидывал, сколько этот старик мне сегодня наставил синяков. Порядком, левое бедро разве что не отваливается. У нас на Асгоре владение холодным оружием уже давно не жизненная необходимость, а скорее дань традиции. Церемониальные мечи носит на поясах аристократия. Двуручники отошли в безнадежно далекое прошлое и скрылись за пеленой тысячелетий, редко кто ими увлекается. Я как раз в свое время увлекался по настоянию отца (он аргументировал свой выбор равномерным развитием мускулатуры без правосторонней асимметрии) – и кто ж знал, что пригодится? Вывезла кривая куда меньше всего ожидал.
А земные мечи все-таки чертовски тяжелые, наши полегче будут. Штука, которой старик орудовал, как если бы она была сделана из бумаги, звалась спадоном и представляла из себя громадный, почитай в мой рост, двуручник с овергардой в виде длинных загибающихся книзу усов и кованным шаром навершия рукояти.
– Приличного – по чьим меркам?
Тиу-Айшен изогнул бровь, словно я сказал какую-то нелепицу и отложил спадон.
– Нашим, разумеется. По земным ты уже более чем хорош. Там сила тяжести на треть меньше нашей – двигаться ты будешь легче и быстрее, чем здесь. Главное не расслабляйся, а то быстро адаптируешься. Ты на генно-физиологическом уровне гораздо сильнее большинства землян, наши приемы боя, равно рукопашного и мечного, совершеннее, но здоровый перфекционизм никто не отменял. Согласись, нам не улыбается, чтобы какой-нибудь уникум тебя все-таки пришиб, пока Хоган не сменит гнев на милость и не отзовет тебя обратно. Этого, кстати, может вообще не произойти, – он издал сухой саркастический смешок и потянулся, расправляя спину; под складками мешковатой серой хламиды с вышитыми символами Ясеня обозначились абрисы рельефных мышц вовсе не стариковской фигуры.
– Но почему тогда именно двуручник? – я кивнул в сторону смутно поблескивающего на утреннем солнце чудища оружейной мысли.
– А очень просто, – бессмертный ехидненько усмехнулся. – Понимаешь, в том месте, куда ты отправляешься, спадон – элитное оружие для немногих. Владение им автоматически присваивает тебе статус… альфа-самца.
О перспективе быть однажды убитым я дотоле как-то не задумывался, потому взялся за дело с удвоенным рвением. Через полгода мне даже удалось свести один из наших тренировочных поединков к моей победе, и именно эту победу я до сих пор, по прошествии многих лет, которые я провел бурно и небескровно, считаю самым большим своим достижением.
До меня иногда доходили обрывочные сведения о Гелиан. Она затерялась в круговерти светских раутов и вовсе забыла о моем существовании. А я вот не мог. Когда отошла обида, ее образ еще долго тревожил мои сны. По сей день тревожит. Земляне и асгорцы говорят, что любят не за что-то, а вопреки.
От нее так и не пришло ни весточки за весь год, в течении которого два альва и один человек пытались сделать из меня землянина, ни за все двенадцать лет, пока я пытался стать землянином самостоятельно.
Челнок высадил меня в предгорьях Альп во время страшной грозы, недалеко от маленькой германской деревушки. Экипировали меня убористо, но славно: в седельных сумах лежали две перемены одежды, неприкосновенный запас лекарств, позволивший бы вылечиться от любой местной хвори, от которой мне по случайности не делали прививку, изрядная сумма подъемных и множество мелких вещиц, призванных облегчить мне жизнь и связь с теперь уже далекой родиной. Дали мне и коня, выращенного на Асгоре, а потому гораздо более выносливого, нежели земные лошади. Меч наказали по возможности не терять, во избежание исторических казусов в будущем: сплав существенно отличался от тех, что использовали на Земле.
То была ранняя весна 1522-го года. Венгрия воевала с турками, султана Селима I Явуза недавно сменил на троне его сын Сулейман I; Мартина Лютера отлучили от римской католической церкви указом папы Льва Х; датского короля Кристиана II осыпала проклятиями вся Европа за Стокгольмскую кровавую баню; экспедиция Магеллана заканчивала первое в истории кругосветное плавание; испанские конкистадоры в поисках наживы громили древние города ацтеков, инков и майя; на Руси шли сражения с Казанским и Крымским ханствами, подходила к концу война с унией Ягеллонов; Священной Римской империей правил Карл V, восшедший на престол после деда своего, покойного Максимиллиана, и по славной традиции германских императоров в очередной раз принялся покорять Италию; английский престол занимал добрый король Генрих VIII – безжалостный кровавый протестант. Вот такое это было время.
Мне показали дорогу, повторили предписание «не сдохнуть, но лучше сдохнуть, чем существенно засветиться в земной истории», пожелали удачи и отпустили.
То, что мои соотечественники означили гордым словом «дорога» в лучшем случае тянуло на грязную разбитую тропку между скальными отрогами; некое направление неизвестно куда сквозь темень, прорезаемую вспышками молний, и хлещущий холодный дождь. Перестарались наши с маскировочной грозой. Гроз здесь в марте быть не должно, автохтоны наверняка решат, что приближается конец света. Что там Тиу-Айшен говорил про здоровый перфекционизм?
Хм! Хорошо бы местные не связали страшную грозу во внеурочное время с появлением чужака, иначе моя миссия рискует закончиться, толком не начавшись. Меня, правда, обнадежили на последнем инструктаже, что народу здесь негусто. Кстати, если задуматься, и не факт, что это хорошо – мне грозит стать объектом повышенного внимания.
Задумывался я про всякое.
У меня было достаточно времени перебрать десятки вариантов скоропостижной кончины, пока я хлюпал по грязи, ведя на поводу ошалевшего от чужих запахов коня. Его перед высадкой предусмотрительно напоили успокоительным, потому толку от него не было никакого, разве что не мешал, только прижимал уши и всхрапывал, иногда застывая на полушаге.
Спустя три часа, промокший до костей и продрогший, я оказался у дверей неказистой придорожной корчмы амбициозно поименованной «Герб Эрбаха», каковой, по всему видать, и болтался на одной петле над входом. Что он из себя представлял, в темноте разобрать не удалось. Я и не пытался.
Внутри было душно, темно и дымно от чада масляных фонарей – и непередаваемо, феерически грязно. Каминная труба, которую я приметил с улицы, судя по всему выполняла исключительно декоративную функцию, так как дым выходил куда угодно, только не в дымоход. Однако пространства внутри наблюдалось значительно больше, чем могло показаться снаружи.
Вопреки заверениям разведки, в таверне оказалось удивительно людно. Центр зала занимала шумная вызывающе одетая компания, с энтузиазмом поглощающая еду. Мне сразу бросилось в глаза устрашающее обилие разнообразного холодного оружия, которым были увешаны постояльцы и которое в избытке расцвечивало пейзаж кабака. Между остальными посетителями таверны и центральной компанией существовала хорошо заметная дистанция – простой люд опасливо жался к стенам и старался не попадаться молодцам на глаза.
Дождь прекращаться не собирался, деваться мне было некуда, и я решительно зашагал к кабацкой стойке. М-да, самое время для первой языковой практики. Так, я вроде в Германии, значит надо говорить по-германски… то есть по-немецки. И какой из шести языков, кои Тиу-Айшен впихнул в мою голову, – немецкий? Ага, разобрался. Ну, поехали.
– Хозяин, мне б пожрать, попить и переночевать. В идеале – без клопов, – я попытался придать своей физиономии максимально независимое выражение.
– Парень, тебе попить или выпить? – хозяин мрачно насупился. – Попить – бесплатно с конями. Поилка во дворе.
Компания сзади дружно заржала.
– Пива, – обреченно сказал я. – Кстати о конях, мой у коновязи. Позаботьтесь.
В качестве подтверждения своих требований я шлепнул на стойку несколько мелких монет. В мутном взгляде хозяина мелькнул намек на гостеприимство.
Мест не было, я остался ждать еду и пиво около стойки.
Хозяин принес плоскую деревянную тарелку, наполненную неаппетитной бурой массой, призванной, видимо, обозначать кашу, огромный шмат хлеба и устрашающих размеров кружку пива. Так я познакомился с местной едой. На вкус отвратительно, но весьма питательно. Как говорила моя матушка, голод – лучшая приправа.
– Спать будешь на сеновале, – пробурчал кабатчик. – Там как раз клопов нету.
Реплика была встречена новым взрывом громоподобного хохота.
Вообще, с моим появлением в зале стало заметно тише, если не принимать во внимание разряды бурного веселья от «остроумных» колкостей хозяина таверны. Я спиной чувствовал изучающие и вовсе не дружелюбные взгляды, бросаемые на меня землянами.
В свою очередь, я принялся осторожно из-за плеча разглядывать весельчаков. С ними хозяин держался совсем иначе, нежели со мной. Ни намека на шутку, очень быстрое обслуживание, улыбка во всю ширину немаленькой сальной рожи. Ничем не прикрытое раболепие, так бы я это охарактеризовал.
А компания вызывала интерес.
Прежде всего, в ней отсутствовали женщины. У нас не принято так четко дифференцировать посиделки по половому признаку, и женщины являются естественным морализатором и прекрасным украшением любой попойки; у землян, видать, иначе. Мужики как на подбор – здоровые, усатые, с крепкими натруженными руками, разряженые в… Я как ни силился, не мог вспомнить, чтоб мне на лекциях рассказывали про подобные одеяния – да какое там вспомнить! Мне в страшном сне не могло присниться, что люди в здравом уме могут так одеваться.
Это было что-то трудновообразимое. Их могучие торсы облекали метры самых ярких тряпок в самых чудовищных сочетаниях. Куртки покрывало множество разрезов, сквозь которые виднелась подкладка, головы украшали огромные береты и шляпы (тоже, кстати, все разрезные) с целыми ворохами перьев.
А когда один из них встал из-за стола, я увидел, что к штанам спереди приделан гротескный гульфик как бы не больше моей ладони длиной. На гульфике красовался щегольский бант. Ткани, насколько я успел рассмотреть, явно не относились к разряду дешевых: шелка, бархат, парча, тонко выделанное сукно. И когда первое шокирующее впечатление сгладилось, я вынужденно признал, что все это им удивительно шло.
Кажется, я чрезмерно увлекся разглядыванием, и не заметил, что сзади у меня появился сосед.
– Слышь, господин, ты откуда будешь? – в гнусавом ломающемся голосе слышалась неприкрытая издевка.
Ага, вот уже вполне знакомая по злачным местам моей родины беседа. Все-таки мышление гуманоидов чрезвычайно однотипно.
Я нарочито неспешно обернулся и обнаружил худенького паренька лет четырнадцати, нагло ухмыляющегося с видом полной безнаказанности. Во рту его не хватало переднего зуба.
– Дрезден. Слыхал такой город? – я старался говорить как можно более небрежно. – А ты кто, и для кого интересуешься?
– Ты не нравишься мне и моим друзьям, – проигнорировал мой вопрос паренек и растянул ухмылку еще шире.
– Гуляй, малец. Твои друзья, небось, сами говорить горазды.
Все-таки перелет и гроза меня основательно потрепали, ибо я не заметил, как с другого боку от меня нарисовался еще один персонаж. Этот-то мальцом не был.
– Одет вроде как крестьянин, черт его знает, не разберешь, а меч на поясе ландскнехтский, – протянул второй, дыша пивным перегаром так, что я еле подавил желание сморщиться. Мой новый знакомый обладал удивительной манерой говорить мне в лицо, обращаясь словно в пустоту. – И трещит не по-нашему… А с кого ты, любезный, меч снял?
На сей раз реплика была адресована непосредственно мне и сказана узнаваемым тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Я машинально отметил, что землянин был выше меня на полголовы и шире едва ли не вдвое. Связываться с ним мне категорически не хотелось.
– Не снял, а купил, – поправил я деликатно. – А ты, надо полагать – те самые друзья, которым я не нравлюсь?
– Ага. Мне очень интересно, на кой крестьянину, или кто ты там, такой хороший меч?
– Зачем да про что – мое дело. Я неприятностей не ищу…
– Уже нашел, – перебил меня верзила. – Есть мнение, и не только мое, что меч ты, любезный, не купил, а украл, аль с трупа снял. Труп же тот был нашего брата-солдата и никого иного. Не люблю мародеров. И воров не люблю.
Я хотел было что-то возразить, но здоровяк повернулся к своим и трубным голосом пророкотал:
– Верно говорю, парни, не любим?
– Не любим! – дружно взревел центр таверны, оказывается, успевший за нашу недолгую беседу вылезти из-за столов и разойтись полукругом.
И тут верзила, неожиданно развернувшись обратно, резко и страшно влепил мне кулак в лицо.
«Ну, и где моя реакция?»
Эта мысль успела промелькнуть в моей голове, пока я летел по направлению к стене. Еще я подумал, что неплохо было бы сгруппироваться, но не успел.
Когда мой взгляд наконец сфокусировался, я разглядел сквозь радужные пятна, что землянин снова навис надо мной, намереваясь угостить добавкой, но уже по-настоящему. Добавки не хотелось; жесткий носок моего ботинка впечатался чуть пониже роскошного гульфа моего нежданного оппонента. Некрасиво, но действенно: мне показалось, что он вдруг вдвое уменьшился в размерах, а потом с грохотом свалился на пол. Ему явно было нехорошо. Я чувствовал себя немногим лучше.
Пока я силился встать, опираясь руками на стену, компания взревела и дружно двинулась ко мне, расшвыривая на ходу мебель. В руках заблестели ножи. Кажется, дело начинало принимать скверный оборот. Мысли о преждевременном окончании моей миссии грозили оказаться пророческими.
И угораздило же меня в первом попавшемся кабаке наткнуться на подгулявших солдат! Ситуация до смешного походила на случай в армейской забегаловке, куда меня по дури занесло на первом курсе. Я решил выпендриться перед товарищами, уселся за стойку и, слово за слово, разговорился с симпатичной барменшей и еще более симпатичной соседкой справа. Барменша оказалась зазнобой здоровенного матерого космолетчика из дальней разведки, а соседка справа – новобранца отряда орбитального патруля.
Обе стороны узрели во мне угрозу душевному спокойствию их подруг и вознамерились повыдергивать мне конечности, на что я, каким-то чудом сохранив спокойствие, предложил не затевать мордобой и цивилизованно пройтись за угол. Прежде, конечно, так же отлетел в стену. С разведчиком мы впоследствии подружились, с патрульными все же подрались. Но там, далеко-далеко, на Асгоре, никому бы и в голову не пришло меня убивать.
Здесь же ситуация иная. Эти люди жаждали моей крови. Я прикинул, скольких могу вывести из строя, пока не порешат меня, – двоих-троих, если сильно повезет, – и перспектива обрисовалась совсем уж мрачная.
Спасение пришло с совершенно неожиданной стороны. Из-за спин ярящейся солдатни раздался негромкий голос, разом перекрывший шум в зале:
– А ну стоять, сукины дети! Разберутся, не маленькие. Ножи попрятали быстро, и по местам.
Солдаты как-то разом успокоились и расступились. В образовавшемся просвете я увидел бритоголового бородача, который единственный из компании остался сидеть на прежнем месте. По левую руку от него на столе покоился внушительный меч. Бородач размашисто опрокинул кружку пива себе в глотку и басовито рыгнул.
– Кабан дело начал – он и закончит. Но на улице, – для пущей убедительности он хватил кружкой по столу. – Во двор. Оба.
– Какого черта, Конрад, там же льет! – просипел из-под стойки тот, кого видимо и звали Кабаном.
– Самое то. Охладитесь, – лысый добавил длинное цветистое выражение, смысл которого от меня ускользнул. Какая-то комбинация из кошачьего дерьма и странного генетического сочетания собаки и свиньи.
И что-то в негромком голосе Конрада было такое, что ноги сами понесли меня на улицу. Вслед за мной вышел Кабан и вся честная компания, расположившаяся под навесом с коновязью. Из приоткрытой двери высунулась любопытная физиономия кабатчика.
Дождь хлестал еще пуще прежнего.
– Donnerveter, вы когда-нибудь видели грозу в марте? – проворчал кто-то под навесом сквозь общий гомон.
– Ох, ну только не начинай опять старую песню, что нам сие кара за грехи поганых лютеранских еретиков! – ответили ему.
Шутка была встречена дружным гоготанием. Посыпались не совсем понятные мне скабрезные замечания на околотеологические и физиологические темы.
Конрад оттеснил кабатчика и вальяжно выбрался на улицу.
– Ну, и чего мы ждем? – недовольно спросил он, морщась от падающих на лицо холодных капель.
– Мож я его того, выпотрошу? – предложил Кабан.
Кажется, он вполне оправился от моего пинка и вся его багровая рожа так и полыхала боевым духом.
– Не годится. Снимай меч. И ты, кстати, тоже, – Конрад посмотрел на меня. – Побудут у меня от греха подальше. Хоть насмерть друг друга уделайте, но ручками, ручками. Как начали.
После того, как мечи перекочевали к Конраду, я решил не церемониться. Двигаться здесь и вправду было очень легко – сказывалась пониженная гравитация, – словно я стал легче на треть. Кабан был невероятно крепким парнем здоровой деревенской закваски. Два первых удара в корпус он почти не заметил, а мне показалось, что я пытаюсь прошибить кулаком древесный ствол.
Мне нисколько не улыбалось покалечиться в первый же день на Земле, и я благоразумно помог ему поскользнуться на грязи, когда он попытался повторить свой фокус с ударом левой в голову. Я резко присел, перехватывая летящий на меня кулак и фиксируя локоть. А дальше все просто: Кабан споткнулся о мою услужливо выставленную ногу и полетел мордой в грязь. На этом, собственно, наш поединок и закончился, так как я упирался ему коленом в спину, аккуратно заламывая плененную руку.
– Лихо! – неожиданно радостно пробулькал Кабан приподняв лицо из лужи; навес одобрительно ухнул.
Конрад, с крыльца наблюдавший за нашими упражнениями, хлопнул в ладоши.
– Хорош. Эй ты, как там тебя, руку бойцу не вырви, она ему скоро пригодится. Все в дом, – он открыл было дверь, но снова обернулся ко мне. – А ты подсядь-ка за мой стол. Есть разговор.
Я слез с Кабана и помог ему встать. Ландскнехты потянулись в корчму, я же продолжал стоять под струями дождя. Меня здорово поколачивало. Первый раз попал в настоящую переделку. Хорошенькое начало.
– Чего встал как примороженный? Пошли, да! – Кабан дружески хлопнул меня грязной лапищей по плечу и бодро потопал за своими товарищами.
А я поплелся за ним.
Компания солдат как ни в чем не бывало продолжила прерванный ужин. На меня уже никто не обращал внимание. Кабан, раздевшийся по пояс, сидел во главе стола и шумно делился впечатлениями. Мелкий задира-барабанщик волчком вертелся рядом, норовя урвать со стола кусочки повкуснее и не попасть под затрещины. Прочего люду в таверне значительно поуменьшилось, предпочли утечь под шумок, как только в воздухе запахло дракой, дабы не нарваться на разгоряченных вояк. Оно и верно. Я бы сам с удовольствием куда-нибудь утек.
Конрад перебрался за маленький столик в углу за камином, прислонил к стенке мой меч и повелительным жестом указал на стул перед собой.
– Звать тебя как?
– Пауль, – ответил я. – Из-под Дрездена. Фамилия у папаши была Гульди, стало быть и я Гульди.
– Садись, Пауль Гульди. Второй раз просить не буду, – Конрад нахмурился и метнул на трактирщика тяжелый взгляд. Тот с небывалой скоростью понесся в кладовую.
– Приходилось мне бывать в Саксонии, и будь я проклят, если ты родом оттуда.
Я опешил. Хорошо же у нас работают наблюдатели, что первый попавшийся необразованный солдафон моментально раскусил мою легенду.
– Но мне плевать, – мудро добавил ландскнехт. – Парень ты странный, одет как пугало, и правда не разберешь, то ли крестьянин, то ли из города. Говор твой вообще не узнать, окаешь как швед, но картавишь почти как француз. Видно, издалека.
Ха, если б он знал, насколько издалека!
Я открыл было рот, но Конрад взмахом руки остановил.
– Я продолжу, а если ошибусь – поправишь. Значится так, ты нездешний, повторюсь, откуда ты – мне плевать, не хочешь – не рассказывай. Одно вижу – ищешь куда б прибиться, а прибиться тебе некуда. Я пока солдатствовал, бродяг много повидал. Вот что еще скажу, – промолвил он, не получив от меня возражений. – Мы, ландскнехты, тебя ничуть не лучше. Даже те, у кого есть теплый дом и толстый кошелек, ищут, куда приткнуться, а друг от друга все одно никуда не деться. И выходит по всему, самое тебе у нас и место. Здесь тебя никто не спросит, кто ты и откуда, всем насрать. Лишь бы не бздел и мечом владел. Штуку не просто так носишь?
Я утвердительно мотнул головой, все более удивляясь проницательности простоватого рубаки. Конрад, видимо, удовлетворился ответом и вытянул мой клинок из ножен, повертел так и сяк, попробовал клинок на изгиб, проверил пальцем заточку. На коже тут же выступила кровь.
– У-у, твою мать, ну и наточили! Кабан!!! А ну хорош заливать, иди сюда, посмотри, какого чуда ты лишился! – заорал он на весь зал так, что сидящие рядом подпрыгнули. – Да ты, Гульди, и в самом деле странный тип. Такие клинки я видел только на императорской оружейне в Пассау, да у испанцев в Толедо. Мне на такой за год не заработать при хорошей войне. Только ни там ни там этот меч не ковали. На такой бы мастер клеймо поставил и гордился б всю жизнь. Где ковали?
– В Альвхейме, – сказал я, не придумав, что соврать.
– Шведы или, прости Господи, датчане? – Конрад изогнул бровь. – Не больно-то похоже на их работу. Ну да Бог с ним, захочешь – потом расскажешь, где ухватить такое чудо.
Меч пошел по рукам под восторженные возгласы и цоканье языками.
Трактирщик между тем поднес нам еды и питья. На сей раз это был аппетитный кабаний окорок с чесноком и кувшин вина. Я удивился, насколько хозяин кабака боится этих шумных пестро одетых людей. Мне еще предстояло понять причину этого страха.
– Вот тебе мое слово, – Конрад принялся за окорок. – Ты пока жри и думай. Не знаю как там у вас… ха-ха!.. в Саксонии, а здесь все, у кого есть глаза и уши знают: скоро начнется война. А значит снова придет нужда в добрых ландскнехтах. Я точно знаю, что Георг получил императорский патент и собирает под Мюнхеном армию. Нам, стало быть, туда. А тебе предлагаю с нами. Ты парень отчаянный, здоровый, не сробел перед нашей бандой выступить. Ты ж не дурак, понимаешь, что если б не я, то прикололи б тебя как свиненка. Ну что, согласен – или еще подумаешь? Смотри, под Георгом служить хорошо, жалование в срок, что награбим – делит честно, и не заскучаешь. Наш старик от драки никогда не бегал.
Мой собеседник тактично отвлекся на еду, оставив меня моим мыслям.
Конечно, на счет перспективы не заскучать у меня было иное мнение. Я уже тогда понимал, что сходу загреметь в действующую армию – не самое спокойное начало миссии. Но с другой стороны Конрад был абсолютно прав: бродяга я и есть, галактического масштаба бродяга, мой мир выкинул меня, как и этих людей выкинул их мир. Наемники они везде одинаковы, а деваться мне действительно некуда. Когда я еще найду себе теплое местечко, где каждый встречный не будет интересоваться моей персоной? Легенда моя ни к бесу не годится.
Халтурили наблюдатели, оно и не удивительно. Несмотря на год подготовки, здесь я был чужаком. А этим людям что чужак я, что свой – все едино. Мечтал же я не так давно об армии – домечтался. Армия меня нашла сама в лице ватаги нетрезвых наемников и бородатого Конрада.
Как скоро мне пришлось убедиться, наемники эти были не совсем обычными, сильно выбиваясь из привычных штампов.
Я глотнул для храбрости подогретого вина, щедро сдобренного диковинными местными специями, и бухнул:
– Согласен.
– Ну и молодец. Пойдем знакомиться, – он сгреб меня за плечи и потащил за общий стол.
Разогнав всех во главе стола, Конрад тяжело плюхнулся на жалобно скрипнувший табурет и усадил меня рядом с собой, панибратски уложив ладонь мне на плечо.
– Парни! – возвестил он громовым басом; как же быстро он переходил от негромкого размеренного говорка к сокрушительному реву, призванному перекрывать шум битвы! – Вот новый кусок свежего мяса для доброго старины Георга!
Я счел за лучшее не переспрашивать, кто такой «старина Георг», и правильно сделал: очень скоро я узнал, что Георг фон Фрундсберг в Европе в представлениях не нуждался. Рапорты наших наблюдателей пестрели чудовищнейшими прорехами в самых важных местах. Почему все знают этого Георга, а я – нет?!
Ландскнехты одобрительно взревели и со стуком сдвинули кружки. Ошметки пивной пены оросили кости кабанчика, огрызки хлеба, грязную столешницу и ворох разноразмерной боевой стали.
Конрад занялся представлением своих спутников. Как оказалось, в таверне пила лишь небольшая часть его отряда, остальные дожидались в Мюнхене в общем лагере.
– Я – Конрад Бемельберг, гауптман его императорского величества Карла V. На будущее: со мной лучше не ссориться и точно выполнять приказы. А своих я даже черту не выдам. С Кабаном ты уже познакомился, звать его Эрих, парень он надежный, хоть и глуповат по младости лет. Ему всего восемнадцать.
Я обалдело воззрился на дюжего краснолицего детину Эриха, демонстрирующего своему соседу хитроумный фехтовальный выпад обглоданной свиной голенью. Вот уж воистину – Кабан. Земной и асгорский год разнился незначительно, меня предупреждали, что на Земле взрослеют гораздо раньше, но я не думал, что настолько! Эрих выглядел лет на тридцать, не меньше.
Народу в компании было человек сорок, имена у них зачастую повторялись, и постепенно все эти Эрихи, Генрихи, Гансы, Рудольфы и Альбрехты, а так же их удивительно меткие прозвища, перемешались у меня в голове. Узнать их получше мне еще предстояло.
– Пива! Вина! И мяса побольше! – взревел кто-то из землян, когда был назван последний. – Да не вздумай подсунуть тухлятину, а то знаешь, что будет!
Трактирщик, видимо, знал, потому резво бросился выполнять немудреный заказ.
Кружке к третьей меня окончательно разморило. Сказался перелет, долгая дорога под дождем, пережитая опасность, неожиданно сменившаяся обильной едой и выпивкой во вполне доброжелательной атмосфере. Малосимпатичные рожи моих собутыльников неожиданно показались мне милыми и располагающими. Я не заметил, как уснул.
Глава 2 В которой собирается армия и рассказываются старые истории
Из отчета наблюдателя Пауля Гульди за 1522 г. от Р.Х. по местному летосчислению.
«…Военный лагерь под Мюнхеном стоил того, чтобы его увидеть. Более того, он заслуживал того, чтобы им любовались. С высоты окрестных холмов открывался величественный вид. Адам Райсснер[4], образованнейший человек, с которым я свел знакомство и даже близко приятельствовал, говорил, что такого эти земли не видели с тех пор, как полторы тысячи лет назад здесь проходили легионы властителя Ойкумены Гая Юлия Цезаря. В самом деле, собранная армия сделала бы честь любому владыке. Это был великолепный инструмент, выкованный в горниле тяжелых войн, жестоких битв и дальних походов, закалённый в холодной и бурной реке времени. В руках искусных мастеров он мог решать любые вопросы международной политики, развязывая, или, скорее, разрубая, сложнейшие узлы противоречий. Право, взглянув на лагерь, раскинувшийся у подножья гор, самый мужественный и жадный до драки военачальник или государь, трижды подумал бы, стоит ли бросать вызов такой мощи.
Сколько я не размышлял, разглядывая ровные ряды шатров и палаток, казавшиеся бесконечными, на ум приходило только одно сравнение: лагерь был похож на плотину, которая до поры преграждает путь полноводной реке. Стоит только мановением руки отворить створки шлюза, как рукотворное озеро обратится грозным ревущим водопадом, чья неизмеримая ярость сметет любое препятствие. Смотрителю плотины всегда необходимо помнить, что слишком долго сдерживать и копить эту силу нельзя, ведь она вполне способна сокрушить и саму плотину. Так и наше войско. Один раз собравшись, оно должно было выплеснуть свою мощь на лопасти великой мельницы, которая завертится, заставляя взлетать и падать огромные водяные молоты, выковывая новое историческое полотно, сминая и формируя заново судьбы стран и народов.
Боже, сколько же здесь собралось людей! Учитывая слуг, маркитанток, пажей и прочих некомбатантов не менее 20 000! А ведь в Италии к нам должны были присоединиться еще и основные силы испанского войска, шедшие из неаполитанского королевства. У коновязей под навесами стояли лошади. Боевые и вьючные животные – настоящие крылья армии, обеспечивавшие скорое продвижение, стремительный маневр на поле боя, неотразимый лобовой удар и быструю разведку. Здесь стояла наша кавалерия. Рыцари и дворяне со своими отрядами, и простые наемники, предпочитавшие сражаться в конном строю. Повсюду слышалась отрывистая немецкая речь, часто перемежавшаяся мелодичным испанским говором. В основном, традиционно, германцы формировали тяжелую конницу, в то время как испанцы – легкую. Все относительно, но рядом с закованными в сталь людьми и конями германского рыцарства, испанские идальго выглядели не столь внушительно. Хотя, положа руку на сердце, признаемся, что не менее трех четвертей конных из германских земель не носили полного доспеха и пренебрегали защитой для коня.
Чуть в стороне располагался плац, где ротмистры муштровали свои подразделения, добиваясь четкого выполнения команд, равнения в строю и быстрого развертывания. Тут же конные бойцы могли упражняться во владении копьем и мечем, проносясь на галопе мимо специальных мишеней. Слуги споро устанавливали треноги с подвешенными маленькими кольцами, которые нужно было снимать точным уколом копья или шпаги; на столбы выкладывали бабки из сырой глины, которые беспощадно указывали на ошибки в мечной рубке – неровный срез и готово дело: командир, надрываясь, орет на молодого бойца, чтобы тот ровнее вел оружие и не расслаблял кисть в момент удара. Как же хороши были испанцы в этих упражнениях! Их кони, ведомые умелыми всадниками, наверное, лучшими, из всех, что я видел, с места поднимались в яростный галоп, мгновенно останавливались, быстро пятились назад или рысили вбок, били копытами, поворачиваясь на месте, и снова неслись вперед. Легкие копья казались живыми в руках испанцев. Они быстро и точно жалили остриями по обе стороны, раскручивали их над головой, отбивая вражеское оружие, а потом, зажав древко под мышкой и уперевшись в луку седла, наносили настоящий рыцарский удар, который, как писали восторженные поклонники, мог прошибить крепостную стену. Больше всего это напоминало балет, так легко и красиво кони и наездники проделывали свои экзерции.
Тем не менее, конницы у нас было не много, около трех тысяч, и не она была нашей главной силой. А главная сила – основа армии – пехота, стояла в некотором отдалении, чуть дальше лагеря конницы. Именно эта стоянка и делала лагерь необъятным. Двенадцать тысяч бойцов, не считая прислуги. Пикинеры, алебардисты, мушкетеры и арбалетчики – честь и слава Империи, все были здесь. Над рядами солдатских палаток возвышались шатры оберстов и гауптманов[5] с высокими флагштоками, на которых развевались значки подразделений и большие полковые штандарты. В центре лагеря на большой площади виднелись роскошные шатры военачальников. Там же под неусыпным караулом высились главные воинские святыни – знамена. Черный императорский двуглавый орел на золотом поле соседствовал с бургундским пламенеющим крестом Святого Андрея и испанскими львами и башнями в расчетверенном поле.
Каждый полк имел свой участок, причем немногочисленные испанцы располагались отдельно от ландскнехтов. И правильно, ведь азартные игры, будь то карты или кости, до которых были столь охочи наемники, легко могли спровоцировать ссору, а это, что искра для пороховой бочки. Сколько раз в прошлом солдаты устраивали из-за пустяка настоящие побоища! Специально для игр выгораживались площадки, где всегда дежурили караульные, куда нельзя было пронести даже маленького столового ножа.
Питание было организовано в полковых кантинах, где солдаты три раза в день получали винное и хлебное довольствие. Если казенный паек казался не слишком сытным – пожалуйста, рядом с лагерем всегда имелся рынок, где можно было разжиться любой снедью. Цены там, правда, были заоблачные.
Главное вооружение: пики и алебарды – помещались в стойках под навесами возле палаток. Там всегда прохаживались бдительные часовые. Не хватало еще, чтобы рота перед походом недосчиталась оружия! Воровство, надо сказать, считалось смертным грехом. Не было ничего более позорного, чем обокрасть своего брата по нелегкому солдатскому ремеслу. За это вполне могли отрубить руку или повесить. С другой стороны, кража у гражданского вообще не считалась чем-то зазорным. Ведь гражданский – трутень, трус и лентяй, которого честный солдат оберегает, проливая свою кровь. Вот такая немудреная мораль.
Ландскнехты старались приходить со своими доспехами, ведь за это полагалась прибавка к жалованию. Тем не менее, неимущие новобранцы всегда могли получить казенный доспех в хозяйстве офицера-фельдцехмейстера. Тот их тщательно переписывал и вносил в реестр. Впоследствии, накопив денег, солдат мог выкупить свой панцирь. Надо ли говорить, что за порчу, или, не приведи Господь, утрату его полагался немаленький штраф. Тут же стояли походные кузницы, обеспечивавшие ремонт и правку любого снаряжения.
Пехотные полки, так же как и конные, имели свой плац. Ротмистры с помощью фельдфебелей и капралов занимались здесь вечным, как сама армия делом – строевой подготовкой. Новобранцы, разбитые на десятки, учились держать равнение и маршировать ровной линией, выполняя разнообразные повороты. По команде капрала они брали пики наперевес, разом кололи на месте или на ходу, возвращали оружие, когда раздавалось „Auff die Achsslen“ („на плечо!“). Сработанные десятки собирались в сотни, и оказывалось, что все тоже самое большим строем делать гораздо сложнее. Только что сотня ровно шла вперед, и вот, при повороте строй превращался в толпу из ста человек, заставляя капралов изрыгать проклятья и древками алебард лупить по спинам и плечам нерадивых солдат. Когда строй роты казался вполне сработанным, собирался весь фанляйн[6] – во главе с гауптманом. А потом, потом рокотали полковые барабаны, и на плац выходил весь полк – четыре тысячи человек, или около того. Под звуки флейт начиналось слитное движение огромной квадратной колонны, от размеренного шага которой дрожала земля. Тысячи башмаков, как один, вбивали сваи шагов в усталый истоптанный грунт, и каждому шагу вторила барабанная дробь. Несколько секунд и вся масса, не теряя равнения, разворачивалась фронтом в ту или иную сторону и продолжала идти. Опытный оберст заводил строй на препятствие, будь то кустарник или группа деревьев, и тогда солдаты быстро обтекали его, снова сбиваясь вместе и равняя ряды. Густой лес пик и алебард опускался в сторону врага и поднимался обратно, послушный единой воле, которой, казалось, обладало это тысячеглавое существо. Точно в центре несли полковое знамя. Там же располагался оберст с адъютантами и полковой оркестр. Их охраняли сорок – пятьдесят трабантов – самых искусных воинов с двуручными мечами или секирами.
С обеих сторон баталии шли стрелки, составлявшие приблизительно четвертую часть полка, т. е., около тысячи человек. Повинуясь специальной команде, они выбегали вперед, разворачиваясь цепью перед строем, готовые обрушить шквал свинца, или отступали в тыл баталии, освобождая место для рукопашной схватки. Все они носили каски под шляпами, а на поясах неизменно красовались мечи и кинжалы. Так что в драке они не были легкой добычей. Да и приклады тяжелых мушкетов и аркебуз были грозным оружием в умелых руках».
«Сим постановляю, передать благодарность наблюдателю Э.А. за содержательный отчет. Впредь напомнить, что отчет является информационным документом, литературные излишества и эмоциональные отступления в котором излишни. Педалировать более серьезный подход к делу и напомнить, что гиперсвязь – дорогое, ответственное мероприятие, не предназначенное для баловства.
Старший куратор…»
Один Бог знает, сколько мне пришлось провести в лагере ландскнехтов за годы военной службы. А тогда, когда я увидел его впервые, мною овладели смешанные чувства. Несомненно, красивое, я бы даже сказал, грандиозное зрелище человеческого муравейника, исполненное скрытого смысла и суровой эстетики. А вот становиться частью этого механизма… Не так, не так я представлял начало своей миссии.
Ведь эта мощь собрана для удара, а значит, где-то собирается другая сила. Всякое действие рождает противодействие. Это всем известно. А значит, рано или поздно, а скорее рано, произойдет столкновение, и я окажусь в самом его центре. Нехитрые умозаключения показывали, что шанс бесславно откинуть копыта, окочуриться, пасть на поле брани, завернуть ласты, словом, героически подохнуть был очень и очень высок. Это с одной стороны.
С другой – лучшего места для исполнения моей работы придумать было нельзя, да и для «легализации» в здешнем обществе перспективы открывались самые широкие. Вывод напрашивался простой: остаться в армии, завоевать авторитет, для чего у меня были все необходимые данные. И не подвернуться попутно под какую-нибудь особо смертоносную каркалыгу, которыми, как я понял, богаты были местные военные.
Путь от памятной корчмы «Герб Эрбаха» занял пять дней. Поднял нас Конрад ни свет, ни заря и погнал скорым маршем на север, в направлении Мюнхена. Все ландскнехты, видимо, были небедными людьми, так как поголовно ехали на лошадях увешанными вьюками с доспехами, оружием и личными вещами. Это был костяк конрадова отряда, который он спешно собирал перед походом.
По дороге к нам присоединились еще пятеро, двое из которых, были новобранцами, а остальные – старыми сослуживцами нашего командира.
– Остальной молодняк в лагере дожидается, – прокомментировал Конрад появление очередного «нового куска свежего мяса для старины Георга», – не так плохо, из старой нашей банды под три сотни собралось. Будет кому задать жару жабоедам со пристными. Если только, гы-гы-гы, – тут он радостно заржал, – если только половина не передохнет от пьянки, меня дожидаючись.
«Жабоеды» – это он так французов называет, догадался я, припоминая лекции по прикладной лингвистике. Помимо занятных этнонимов в пути я обогатился сведениями о хитросплетениях местной политики. В разгаре была очередная война, в ходе которой французы со швейцарцами и немцы с испанцами пытались выбить друг дружку из Италии, не особенно заботясь о мнении местного населения о совершаемых маневрах. Местные активно включались в военные действия. Без особого, правда, успеха.
– Из итальяшки солдат, как из говна пуля, – таково было авторитетное мнение Конрада Бемельберга, опытного вояки.
Венеция поддерживала французского короля Франциска I, последняя, правда, здорово раскаивалась в скоропалительном своем выборе. Да деваться теперь было некуда. Германия до сих пор припоминала, как в 1508 г. венецианцы не пустили в Рим Максимилиана I для коронации императорской короной. В Генуе правила профранцузская партия, но эмиссары Карла V так повернули дело, что все шло к скорому перевороту и установлению дружественного Империи режима.
Целью готовящегося похода была французская армия, которая закрывала путь на Милан. Её надо было устранить. Из Неаполитанского королевства собиралась выйти основная часть испанского войска. Нашей задачей было соединиться с нею и вместе навалиться на французов.
Французы были очень сильны. У них была масса обученной и отменно вооруженной конницы, как, собственно французской, так и итальянской. Но главная опасность представляла их артиллерия, традиционно очень мощная и, само собой, швейцарская пехота.
– Чертовы дети, – сказал Конрад как-то на привале за чаркой подогретого вина, – эти пастухи, трахатели коз, сучье семя – самое опасное, что нас ждет, – бывалые солдаты встретили его слова согласным ропотом. Командир адресовал свою речь «молодняку», в том числе и мне, но все кто слышал слово «швейцарцы», моментально подобрались и сделались неприятны с лица. Швейцарцев люто ненавидели и заметно побаивались.
– Не дай вам Бог попасть к ним в плен, – вставил один из ландскнехтов. Весь облик его выдавал бывалого воина, насколько я успел разобраться в местных индикаторах социальной символики.
Лицо его украшали: чудовищных размеров усы и страшный шрам от виска до челюсти. Красный бархатный вамс[7] с вырезанным на груди косым «андреевским» крестом был снабжен глубоким декольте, прикрытым плиссированной рубашкой тонкого шелка. Облик его органично дополняла массивная золотая цепь восьмизвенной толщины, – не дай Бог, – повторил он, и увидев одобрительный кивок Конрада, продолжил: – Будь я проклят, если вру, лучше вам воткнуть кинжал в шею, если попадетесь к ним в лапы. Это смертный грех, конечно, но Бог простит, он все знает и видит. Они, выродки, такое делают с пленными… Снимут кирасу и вспорют брюхо, а кинжал сперва в дерьмо окунут. И тогда считайте, что вам повезло. Зверьё, никаких понятий об обычаях честных воинов.
– Га-га-га, – это заржали сразу трое ветеранов, уютно выпивавших и закусывавших, расположившись на попонах, постеленных прямо на землю, – на себя посмотри, честный ты наш воин! – добавил один из них, – Забыл, что сам вытворял с раненными райслауферами[8] под Мариньяно?! Что б я сдох, давно так не веселились!
– Иди к черту, Курт! – огрызнулся первый оратор, – это месть, месть за погубленных наших товарищей! – его рожа заметно покраснела, – а месть – в наших обычаях!
Веселье заметно прибавляло градус:
– Ага, Ральф, дружище! – Курт заметно давился от еле сдерживаемого хохота, – Особенно в наших обычаях трахать в жопу пленного барабанщика, ха-ха-ха-ха… вот отомстил, так отомстил!
– Заткнись, – прошипел Ральф, причем его корявая изрубленная ручища нащупывала рукоять меча, – лучше заткнись! Я не трахал никакого пленного барабанщика!
– Ага, – отозвался голос с другого конца стоянки; народ живо прислушивался к нарастающей перепалке, – всем известно, что он был не пленный, а уже дохлый, га-га-га-га! – на этот раз поголовно все покатились со смеху, причем, наш доблестный командир возглавлял веселье, лежа на спине и бессильно стуча кулачищем по земле; безудержные раскаты ухающего смеха затопили полянку, на которой мы обедали. Эти люди любили вот так вот безудержно хохотать, хотя, шутки у них были те еще… Тут кто-то запел:
A тот кто труп врага ебет, едва затихнет бой, доспех пускай в обоз сдает, а труп берет с собой, его работой елдака разделать под орех, поскольку выебать врага и дохлого не грех![9]Смеяться больше никто не мог, весь наш славный отряд совершенно потерял боеспособность: кто-то постанывал, согнувшись в три погибели, кто-то катался по земле, кто-то обессилено обнимал дерево: личный состав стонал и всхлипывал. Глядя на товарищей, Ральф оставил свои кровожадные намерения и начал заметно прыскать.
– Знаете что, kameraden, идите-ка вы все к черту! Я посмотрю, как вы будете ржать, когда три колонны озверевших козопасов наваляться с пиками и алебардами наперевес!
Вот такими милыми и незатейливыми шутками мы скрашивали досуг на отдыхе и в походе. То и дело поднималась тема предстоящего противоборства со швейцарцами. И, хотя, перспектива была относительно отдаленной, даже испытанные ветераны далеко не всегда склонны были над нею шутить.
Надо взять на заметку, и аккуратно выспросить, отчего бывалые ландскнехты заметно опасаются грядущей драки? На них совсем не похоже, вроде бы…
Я очередной раз мысленно проклял нерадивость моих предшественников, которые не снабдили Управление такой важной информацией. А мне снова приходится хитрить и отмалчиваться, притворяясь, что я в курсе дел. Конечно, я точно знал, кто такие швейцарцы, и где они проживают, местную географию мне вдолбили буквально в подкорку. Но, отчего их все вот так бояться? Чем они так особенно опасны? Важные сведения, особенно, если учесть, что нам, а значит и мне, с ними вот-вот предстоит схватиться.
В лагерь мы прибыли ранним утром. Возле частокола нас остановили часовые, Конрад назвал пароль, и мы въехали в расположение армии. Стоянка удивила многолюдьем и продуманной до мелочей планировкой, и неприятно поразила дикой вонью от переполненных выгребных ям. Последнее, впрочем, похоже, совершенно никого не смущало. Придется привыкать, сказал я себе. Хорошо бы, чтобы это было самым страшным препятствием на моем пути.
Меня записали в отряд гауптмана Конрада Бемельберга и поставили на довольствие.
– Жалование будешь получать после присяги и смотра, – проговорил интендант, словно делая одолжение, предельно душным голосом, свойственным, кажется, всем чинушам во всех концах галактики.
Мой командир придирчиво оглядел меня и сказал:
– Так-с. Так-с. И что мы видим? Отвратительное пугало. Значит так, позорить фанляйн не позволю. Конечно, в ландскнехта тебе еще рановато переодеваться, но задрапировать тебя как-то надо… деньги у тебя есть?
– Есть, – ответил я, благословляя изрядный запас серебра и золота, которым меня снабдили.
– Это хорошо… я думаю, кожаный дублет спасет положение…
– А может я сразу и доспехом обзаведусь? – вспомнил я наставления насчет этого важного предмета воинского обихода.
– Э-э, да ты шустрый малый, – Конрад удивленно на меня воззрился, – это ж совсем недешевое удовольствие. Впрочем – твое дело. В казенном воевать, и правда – не здорово. А со своими железками и спокойнее и жалование выше. Ладно. Не годится гауптману с каждым солдатом возиться, но я же тебя из дерьма вытащил и теперь, вроде как, за тебя в ответе. Мне все равно в город нужно. Пред ясны очи командования предстать. На обратном пути заедем в лавку, помогу тебе приодеться.
Мюнхен производил сильное впечатление. На него хотелось смотреть со стороны, но ни в коем случае, не заходить на улицы. Прекрасной, какой-то легковесной архитектуры здания располагались на узеньких, кривых, замызганных улочках, буквально потрясавших воображение своими запахами. И пахло там далеко не фиалками. Похоже, кошмарные запахи будут самым сильным моим впечатлением от первого знакомства с этим миром.
Горожане, уже несколько недель соседствовавшие с беспокойной солдатней, немного попривыкли и не шарахались от нас, как я ожидал. Однако все почтительно расходились по сторонам, уступая дорогу Конраду Белембергу и его представительным спутникам, за которыми плелся и я, ощущая себя пятым колесом или вообще, как говорят здешние моряки – баластиной. В роскошном и относительно чистом двухэтажном доме с высокой стрельчатой крышей под красной черепицей обитал вождь всей нашей армии.
– Здесь вот поскучай, – бросил мне через плечо Конрад, – мы к самому!
«Здесь вот» – оказалось небольшой таверной, из которой отлично просматривался вход в дом. «Сам», надо полагать, и был знаменитым Георгом фон Фрундсбергом, которому должны были представить доклады его офицеры.
А «поскучать» мне пришлось не менее полутора часов. Их я скоротал в обществе кружки пива размером с полведра и невеселых мыслей. Ко мне никто не приставал, надо полагать, что общество, в котором я явился, само по себе не располагало к проявлению любопытства.
А любопытство прямо таки било через край. Посетители во главе с трактирщиком чуть затылок мне насквозь не проглядели: еще бы! Чужой, пришел в компании расфуфыренных вояк, допущенных до персоны самого Фрундсберга, одет один Господь знает во что. Но с мечем на поясе. Словом, вязаться с расспросами никто не рискнул.
Вышли господа офицеры не совсем твердо. Глаза у большинства масляно блестели. Видно, вождь очень обрадовался своим испытанным соратникам и изрядно угостил. Боже мой, сколько можно пить?! Куда лезет только?! Хреновая компания, что и говорить, так с ними и до хронического алкоголизма недалеко.
– Эй! Гульди! – заорал Конрад своим неподражаемым басом, – пшли в-в-вружаться!
– Я рассказал Г-ергу, к-кой ты ловкий п-рень, – он обнял меня за плечи и навалился всем свои немаленьким весом, как только я оказался на улице, – он пр-казал ли-ично, пааешь, ли-ично, пр-следить, чтоб тебя пр-стойно в-ружили, – да, таким я господина гауптмана за наше недолгое знакомство еще не видел, изрядная порция спиртного снабдила его речь новой особенностью, он напрочь поссорился с лишними, на его взгляд, гласными.
– Тебя, болвана, теперь сам Фрундсберг знает! Ты с-сзнаешь от-от-ответственность?
Я покивал, изобразив на лице полнейший восторг от такого доверия и крайнюю степень осознания ответственности.
– От то-то же! Г-спада – фицеры! – воззвал он на всю улицу, – п-жалуйте со мной!
Пр-контролир-вать снаряжение нового свирепого м-стера меча! А то, он, х-ть и мастер, но такой болван!
И мы дружной гурьбой пошли вниз по улице, распевая лихую песню про берет, перья и кожаный вамс, разорванный уколами пик, словом, про нелегкую жизнь ландскнехта.
В лагере мы очутились, когда часы на башне ратуши пробили четыре пополудни. Я был зверски голоден. Передо мной в палатке лежали мои новые сокровища, которые должны были защищать меня от разнообразных превратностей ратного ремесла.
Сокровища облегчили кошелек на освежающе крупную сумму в двадцать четыре полновесных серебряных гульдена. И это при том, что подвыпивший Конрад проявил чудеса жадности и искусно торговался битый час, скостив изначальную цену раза в полтора. Доспех, что и говорить, был хорош.
Я – дитя развитой индустриальной цивилизации, покорившей звездный простор, был восхищен и прямо таки ошарашен. Как, скажите на милость, без точных измерительных приборов и специальных станков, можно было примитивными инструментами вручную создать такую красоту?
Скупая, но изящная линия, все пластины притерты так, что между ними и волос не просунуть, ни грамма лишнего веса, на теле сидит как вторая кожа. Очень продуманная конструкция. Надежная кираса надевалась поверх ожерелья с пластинчатым воротником, руки были полностью прикрыты латами, включая пальцы, которые помещались под защиту стальных рукавиц.
Шлем «штурмхауб» с подъемным козырьком и подвижным подбородником, застегивавшимся поверх воротника горжета. А вот ноги были прикрыты только выше колен пластинчатыми набедренниками, которые крепились к подолу кирасы. Ну и конечно, между набедренниками красовался стальной, очень мужественный гульф, или, как его называли в этих местах «латц». Он превосходно защищал пах и своим задорным видом всегда напоминал о постоянной и полной боеготовности его обладателя. Во всех отношениях.
Дьявольщина, но, напялив все это, я сам собой невольно залюбовался. Настоящий демон войны! К доспеху в придачу полагался дублет из двух слоев бычьей кожи, покрытый неизменными для ландскнехтов многочисленными разрезами. И кожаный провощенный мешок, в котором его было удобно хранить и переносить. Кажется, я начинал обживаться и превращался в настоящего вояку. Женатого на алебарде и имеющего в любовницах собственную шпагу. Шутка.
Нагулянный с таким трудом аппетит я ублажал в кантине. Группа огромных навесов и шатров с установленными внутри столами и скамьями.
Это же надо подумать! С утра маковой росинки во рту не было… если, конечно, не считать таковой кружку пива в таверне. На ужин собралась развеселая компания из разных рот, в том числе и из нашей. Все бы хорошо, приличный шмат копченой оленины, кусок ароматного, только из печи хлеба, кусок сыра, но, кажется, здесь совершенно не употребляли воды. Её благополучно заменяли пиво и вино. Все понятно, антисанитария, но нельзя же утолять естественную жажду организма одним только спиртным!
– Эй, новенький! Как там тебя? – давай к нам! – прошу любить и жаловать, это мой ротмистр Курт Вассер, тот самый, что давеча на походе так ловко подначивал кровожадного Ральфа, по фамилии, кажется, Краузе.
– Меня зовут Пауль, – подсказал я, усаживаясь рядом.
– Да ладно, не бери к сердцу, у меня таких как ты целая сотня, поди всех запомни. А главное, – ротмистр наставительно поднял палец, – зачем? Все равно из двадцати двух сопляков, что пригнали в мою любимую роту, из похода вернется, дай Бог, десяток! Вот их то я точно запомню!
– Ты смотри, – вставил один из ландскнехтов, я не помнил его имени, хотя он происходил из того отряда, что оказывал мне гостеприимство в корчме «Герб Эрбаха», – ты смотри, – повторил он, – а парень-то становиться человеком понемногу. Дублет, бычья кожа, красота! Тебе бы еще шляпу с пером, будешь совсем как солдат! – у этого-то суконный берет украшало щегольское перо, кажется, фазанье.
– Хватит уже, а? – встрял третий из соседней роты, – давай, кто пожрал, пойдем девок найдем? А то скучно, – на призыв откликнулись сразу три голоса с разных концов стола:
– Отцепись, дай похавать.
– Попожжа.
– Ха, помнишь, как французский насморк мышьяком травил, а?
– Ладно вам, как же без девок! Подумаешь, насморк, один хрен скоро помирать! – идея раскрепоститься сексуально, видимо, накрепко засела в голове солдата.
– Девки – это хорошо, – согласился ротмистр, – да только завтра подъем ранний – полковая маршировка!
– А чего сразу помирать-то, – задал я наводящий вопрос, жуя мясо, кстати, отменно прокопченное, но очень жёсткое.
– Так ведь война, паря! – ответствовал ротмистр.
– Это понятно, так ведь не первый раз, авось пронесет! – подначил я.
– Э-э-э, война войне рознь, – он почесал бороду, задумчиво рыгнул и пустился в долгожданные пояснения: – ты, парень, в войсках впервые, на войне не бывал, ведь так? – и получив утвердительный кивок, что, мол, точно, не бывал, продолжил, – война разная бывает. Иной раз от хвори какой или обычной дристотни на походе народу больше дохнет чем от вражеских пик. Все бы ничего, но нынче нас ждут швейцарцы, а значит быть Плохой Войне, – офицер сделал такое лицо при этих словах, что иначе, чем с заглавной буквы их было не воспроизвести: Плохая Война!
– Это что значит? Пленных не будет, вот что это значит! У нас со швейцарцами давние счеты. Они нас в грош не ставят, говорят, что ландскнехты только коров трахать могут, а никак не воевать. А все отчего? – на сытый желудок Курт умел бесподобно задавать риторические вопросы, – козопасы нас давным-давно воевать учили на свой манер, еще во времена молодости нашего доброго императора Максимилиана, пусть земля ему будет пухом. А потом, так получилось, что воевать мы стали не хуже, и нанимать нас стали не реже чем швейцарцев. Вот они и посчитали себя обкраденными. И кем! Германскими скотоложцами! С тех пор, как ни сойдемся – резня. Швейцария, что там говорить, добрых солдат рождает. Дерутся как черти. И в плен никого не берут. А уж нашего брата, просто как свиней режут. Так что у нас с ними дельце есть, – и бравый воин опрокинул в глотку остатки вина из своего дорогого серебряного кубка, – а еще, шесть лет назад, э-э-э-э-э, все верно, шесть, мы им перца под хвост насыпали. Все там же в Богом проклятой Италии. В 1516 г. под местечком Мариньяно[10]. Они с французишками нашу позицию в лоб взять не смогли. Как не тужились. Насыпали им свинцовых слив из аркебуз полные подойники, ха, и из пушек добро угостили. Пусть знают наших! Словом, поле наше – победа наша. То-то радости было! Но до настоящего дела так и не дошло, швейцарцы теперь окончательно на нас злые. Чует мое сердце, в эту кампанию все решится. Сойдемся с ними грудь в грудь, кто кого, вот тогда не зевай!
Озабоченный солдат пробурчал что-то вроде: «ну-сколько-можно-пойду-конец-парить». После чего, в самом деле, ушел. С ним удалилась группа ландскнехтов, которые давно собирались пойти играть в кости.
Возле нашего стола собралась изрядная толпа, человек с полсотни, а то и больше. В основном новобранцы, не бывавшие, как и я в настоящем деле. Сплошь молодые лица, на которых читался страх и любопытство. Страшные швейцарцы казались такими далекими, а интересные байки про чужую смерть прямо сейчас будоражили воображение. Я в полной мере ощутил в себе тоже самое чувство и попытался отмести его, как недостойное. Тем более, что мой интерес был вполне утилитарным.
– Господин ротмистр, – спросил я, – а нельзя ли подробнее? Интересно знать, что они за люди эти швейцарцы, как воюют, есть ли слабости у них? Нам же скоро вместе в бой.
– Это даже я тебе точно не скажу, – ответил Курт, – беда в том, что мало кто из товарищей, что здесь собрались, ведались с ними в большом деле. Это надо у старого Йоса поспрошать. Он лучше расскажет. Гы-гы-гы, если у тебя уши раньше не скиснут, гы-гы-гы, – и он рассмеялся, довольно злорадно, надо сказать.
– Я всё слышал, Курт Вассер, – раздался хриплый, сорванный голос из-за соседнего стола, – чтоб у тебя селезенка лопнула! – к нам шел невысокий, кряжистый старик, совершенно седой. Ветеран, сразу видно. Лицо его было покрыто черными точками, какие, как я знал, бывают при близком пороховом взрыве, правый глаз был наполовину прикрыт из-за багрового шрама от брови до щеки. Другое мужское украшение пересекало половину шеи. Даже не понятно, как с таким ранением он умудрился выжить. Одет ветеран был в шелковый желтый фальтрок[11], отделанный золототкаными парчовыми лентами, четырехчастный разрезной берет с павлиньими перьями и узкие черные чулки. На широкой вышитой золотыми буквами перевязи висела длинная сабля с витой гардой.
Колоритный старик растолкал новобранцев и уселся на стул. Ему тут же поднесли кувшин вина. Он промочил горло, и начал свою речь. Все, включая бывалых офицеров, почтительно помалкивали, предвкушая интересный рассказ. Как оказалось – не зря.
– Ты, Курт, повоюй с моё, а потом рот разевай, твою мамашу растак. Мне шестьдесят три стукнет этим маем, а я с пикой в первом ряду до сих пор стою. И так уже сорок лет! Я, черт возьми, заслужил, могу говорить сколько хочу, потому что слова мои – золото! Чепухи не несу, а изрекаю умные вещи, не то что некоторые. Во-о-от, а уши от знания киснут только у дураков, таких как ты, дорогой мой товарищ! – старый Йос говорил медленно, неприятно поводя подбородком в сторону. Надо полагать, ранение в шею даром ему не прошло и оставило не только роскошный шрам.
Он уселся поудобнее, и перестал обращать внимание на откровенно зубоскалящего ротмистра, которому явно было что сказать, насчет того, что йосовы слова – «золото».
– Мариньяно – тьфу! Сказал Йос веско, – ни гордости, ни радости от такой победы, – Что за дело? Отсиделись за бруствером, постреляли в свое удовольствие. Только и пользы, что знатную добычу потом с трупов и пленных поснимали!
А со швейцарцами кровный счет у нас пораньше начался. Кончай, сука, лыбиться, а то смотри, морда треснет! – это он все-таки окрысился на Курта, сидевшего напротив, подперев голову, и радостно скалившегося, – Пораньше, твою мать! Тебе, малец, сколько годков? Двадцать? Ну да, ты тогда еще свисал мутной каплей с конца своего папаши, а старый Йос уже топтал поля сражений и носил пику.
Дело было в тот год, когда доброй памяти кайзер Макс[12] снова задумал присоединить швейцарские кантоны к своему австрийскому домену. Швейцарцы уже тогда смотрели на нас косо. Да и мы в долгу не оставались. Учителя хреновы. Уже в 1487, когда мы вместе надрали задницу венецианцам, в одном лагере селить нас было опасно. Никакие угрозы нас не останавливали. И их тоже. Только дай повод – готово дело – поножовщина. До таких побоищ доходило! Или отловить ночью пьяного козопаса и прирезать – запросто. И виселицей нас пугали, и плетьми, да все без толку. Легче было раздельные лагеря выставлять. Но дрались они хорошо. Было чему поучиться, что и говорить. Всегда в атаке, храбро и яростно. Зарезали товарища? Плевать, наступи на него шагай дальше, и коли! – смотреть на разошедшегося перед благодарной аудиторией старого солдата была занятно. Недостаток мимики на изрубленном лице он замечательно восполнял жестикуляцией. В результате, рассказ его по-настоящему завораживал:
– Ну, так вот. В 1499 году от рождества Господа нашего Иисуса Христа призвал кайзер на службу своих добрых ландскнехтов и пошли мы воевать швейцарские горы. Всем известно, кавалерам там развернуться негде, вся надежда на нас, на мать пехоту. А по правде, против швейцарской баталии даже на самом ровном поле от конницы никакого, на хрен, толку. А уж в горах!
Сперва все удачно складывалось. Погромили мы несколько замков. Разнесли из пушек стены, и будь здоров, взяли их на пики, чтоб я сдох. Так месяц прошел. Повернули мы на Цюрих, всей нашей армадой. И тут горцы расшевелились. Сообщает разведка, что движется к нам навстречу все конфедератское войско. Нам только того и надо. Пошли навстречу. Дорога-то одна, не разминуться. Ну и не разминулись. Встретились. Кто из ландскнехтов не помнит этого места? Деревенька Хард на берегу Боденского озера, прямо возле трижды проклятого города Брегенц.
Шел февраль, если я ничего не путаю, было здорово холодно. Кое-как отоспались и пошли на бой. Мы по славному обычаю построились в три баталии, уступом. Впереди – стрелки густой цепью. И тут смотрим, мама родная! Выходят из теснины сучьи козопасы. Красиво шли, гореть им в аду! Тремя колоннами, плотно, пик и алебард – лес; если яблоко упадет – точно напорется на острие! Знамена развеваются, барабаны гремят. Вел их тогда один вояка из Унтервальдена – Арнольд Винкельрид. Он, слышь, еще с нашим Георгом служил вместе, было дело… У нас ревет труба. Общая команда: Стой! Равняй ряды! Вперед пошли стрелки. И еще пушки выкатили. Дали залп, и еще один. И еще. Швейцарцы сперва почти бежали, а тут пошли медленно, чтобы значит, строй не потерять. Ядра свищут, пули, болты арбалетные. Иные ядра целые просеки пропахивали. Глядишь, одно под ноги падает, от мерзлой земли рикошетит, и как лягушка, прямо в центр. А там только ошметки кровавые. Мясо к кускам доспеха прилипшее. И брызги во все стороны. Пожалуй, с десяток сразу выкашивало. А им хоть бы что, только строй смыкают теснее. Все идут. В ответ, конечно, тоже постреливали, но все больше по нашим арбалетчикам, которые им здорово досаждали. Я тогда в главной баталии стоял, под знаменами самого кайзера Макса и отца всех ландскнехтов Георга фон Фрундсберга, дай ему Бог сто лет жизни. Так вот не помню, чтобы до нас что-нибудь всерьез долетело.
Конфедераты все ближе. До стрелков шагов двадцать. Они стреляют последний раз и бегом в тыл и на фланги. Наше время пришло, стало быть. Первыми сцепились авангарды у нас по левую руку. Что там было, я не видел, потому как далеко. Но треск стоял изрядный.
Но тут и нам заскучать не дали. Весь их гевельтхауф[13] начал разворачиваться, чтобы, значит, схарчить наш форхут сбоку. Мы им наперерез в лоб ударили. Что тут началось, я уже тогда сколько раз воевал, а такого не припомню. Ведь оно как обычно? До настоящей драки дело ведь не всегда доходит. Кто-то забздит, кто-то в штаны наложит пока строй на строй идет. И глядишь, как пики в ход идут, кто пожиже, уже бежит. Строй разваливает и бежит. Или пятится, если соображения хоть капля есть. Потому как страшно очень. Не все сдюжить могут.
А тут не так. Мы не робкие, и как строй держать знаем, а уж что про швейцарцев говорить! Сошлись! Сошлись, мать их! Коли, бей, руби! Они спервоначала думали, что мы сразу пятки покажем, и навалились всей толпой. Но мы их на пики приняли, а где шеренги промялись, так там алебардисты отработали. Страшно было так, что я аж забыл, как бояться. Кругом пики мелькают, пастухи их нарочно покороче перехватывали, чтобы поближе подступить и сунуть наверняка в горло или подмышку. И ведь подступали! И кололи, чтоб им провалиться!
Да только и мы непростые оказались. Не побежали. Всех такая злость взяла! Стоим, рычим кровью умываемся, а никто ни шагу назад не отступает, и линию добро держим! Ха, как сейчас помню: один шустрый парень отбил сразу две наши пики в сторону и вперед кинулся. Ну думаю, выручай доспех и Дева Мария, сейчас приколет! Ан нет. То, что они пики чуть ли не за середину держали, дурную шутку с тем шустряком сыграло.
Оно так, накоротке колоть сподручнее, да только не заметил он, что до него уже наши алебарды из заднего ряда достают. Сзади кто-то подпрыгнул и всадил ему с размаху крюк глефы в башку. Тот стоит передо мной, сипит, а из глаз кровь льется, чисто чудотворная икона, загляденье, ха-ха-ха!
Не знаю, сколько мы дрались, казалось, что вся моя грешная жизнь до того короче была. Словом, пришлось швейцарцам отойти назад и перестроиться. Глядь, диво-дивное, на флангах та же история. Отбились.
И вот смотрим мы друг на друга, на древки опираемся, дышим. А ведь рукой подать, шагов двадцати нету между строями. Раненных да сильно уставших подменили резервом из центра баталии, а там швейцарцы снова полезли. Загремел барабан, они как один человек: spiess voran[14]! Мы уже все на кураже, можно перед швейцарцами выстоять, можно! Бей, коли! Руби, убивай! Как заговоренный, колю и колю. Сквозь мельтешение всеобщее вижу, что с фланга нас обойти пытаются, но вышли навстречу сразу два фанляйна, и там каша заварилась.
Отбились и второй раз.
Один момент, правда, все на волоске повисло, когда пошли в прорыв их доппельзольднеры с двуручными мечами. Углядели маленький разрыв в строю, где пики не так густо торчали и бросились. Как бросились? Шагом вышли вперед трое. Руки к подмышкам прижаты, клинки на уровне лиц, и никуда их не уколоть, кругом латы. И прямо в разрыв. Вижу, а у них за спинами целая банда собирается, чтоб, значит, на расчищенную площадку зайти. Беда.
Тот, что впереди шел, отвел от себя пику и без замаха так рубанул наискось, что с первого удара свалил одного из наших, а потом, повел меч обратно и прям еще одному укол в лицо.
Вот так.
Секунда и двое лежат. Тут я сам пику отбил и, заместо того, чтоб вперед колоть, уколол в бок и зарядил этому ловкачу прямехонько в свод стопы. Как тот заорал! Упал своим под ноги, они споткнулись, а тут товарищи мои родные успели дыру заткнуть. Ничего у швейцарцев не вышло. Пришлось им в скором времени снова отойти.
Сколько ж мы тел навалили тогда! Что твой бруствер. В доспехах не перелезешь.
Кайзер Макс толковый воин был и Георг Фрундсберг тоже, даром, что тогда совсем еще молодой. Видят, что в лоб спор не решить, и пошла по рядам команда: назад марш! А как отошли шагов на сорок, так оставили два фанляйна фланг наш правый охранять, чтоб, так их раз этак, пастухи все же через вал трупов не перебрались, а сами обходим их слева. Их оберст тоже не дурак. Живо к нам фронт развернул и снова в атаку. Они уже наученные были, да и устали все. Никто больше дуром вперед не лез. Стоим. Перетыкиваемся. Никто не уступает. То тут, то там кто-то падает. Нашла его, значит, матушка пика. По бокам строя тоже драка, никак не обойти друг друга.
И тут гляжу вверх… у меня аж все обмерло. Понял: кажись отвоевались, конец пришёл. Весь наш форхут бежит! И прямо на нас! А за ними в полном порядке целая баталия швейцарцев! Всех, перед собой топчут и колют. Смяли нам фланг за пять минут, сбили нас в кучу, так что руки не поднять и начали резать. Мы стояли сколько могли. Но двойного удара не сдюжили. Начали гнуться. Слышу, кричат: спасай короля Макса! А что оставалось? Бросились мы вперед, только думали, как жизнь подороже продать. И ведь смогли козопасов остановить! Ровно на столько хватило, чтобы король собрал остатки войска и ушел. А как увидели мы, что наши знамена исчезают в дымке, поняли, что кончилась жизнь. Что должны были – сделали. А теперь – все едино. Окружили нас швейцарцы. И стали молча добивать.
Не многим удалось из того кольца уйти. Я был среди них. Хотя клейма памятные на всю жизнь мне тогда оставили, чтоб не забывал, значит.
Я и не забуду.
Ландскнехтов загоняли в озеро и держали там пиками, пока не околеют или не утопнут. А сами стояли, ржали. Целыми шеренгами концы доставали и ссали нашим на головы. Сдирали с раненых кирасы и животы вспарывали. Был у них такой способ: кишочки поддеть на кинжал и вытянуть медленно из живого еще человека. Или вот еще: в задницу кинжал втыкали по рукоять и спорили, как скоро нутро на снег высрется. Носы отрезали, уши. Глаза выкалывали. К пушкам привязывали и стреляли, словом, как могли веселились.
Девять тысяч добрых ландскнехтов туда пришло. А ушло всего три. Остальные там остались в страшной брегенцкой могиле. И этого я никогда не забуду и вам забыть не дам. Когда встретимся со швейцарцами пика на пику, все припомню. В первом ряду пойду. А потом, считай, жизнь удалась. Можно и в могилку.
Под навесом стояла мертвая тишина. Никто не зубоскалил, в обычной ландскнехтской манере, не переговаривался. По небритым щекам седого ветерана текли слезы, капая на стол и в забытый кубок с вином. Глаза его были где-то далеко, и смотрели они не на нас, а в далёкий февраль на свинцовые серые воды холодного озера Боден, где в старину свершилось кровавое и страшное дело.
Глава 3 Георг фон Фрунсдберг выпивает со своим секретарём, а император отправляет армию в поход
По мюнхенским улицам, не вполне ещё проснувшимся, не спеша, шел высокий худой человек. Он увлеченно задирал голову вверх, непонятно что разглядывая. То ли его радовало прозрачное весеннее небо, раскрашенное ранними лучами солнца, то ли интересно ему было глядеть на верхние этажи зданий, а может быть, веселая возня воробьиных стаек столь завораживала?
Как бы то ни было, под ноги и перед собой человек совершенно не глядел, уверенно шагая при этом по узким кривым улочкам, легко, словно танцуя, перешагивая через грязные лужи и, избегая столкновения с прохожими. Был он молод, просто и неприметно одет с какой то небывалой, прямо таки волшебной аккуратностью.
Ни одного пятнышка, ни одной неопрятной складочки не было на его узких темных штанах, черном суконном камзоле, остроконечной тирольской шляпе зеленого фетра и коротком плаще. Даже ботинки его, совершавшие ловкие пируэты между лужами и кучами нечистот, отличались первозданною чистотой. Камзол, кстати, был застегнут на все три дюжины маленьких пуговок, и ни одна не была перекошена или вставлена не в ту петлю.
Его можно было бы признать за студента, но плащ сзади сильно оттопыривался, а спереди на левой стороне пояса виднелась и причина этого: витой эфес тяжелой шпаги. На правой кисти имелся шрам, уходивший глубоко под рукав камзола, а левая кисть была вообще некомплектна – не хватало половины мизинца.
Эти черты выдавали если не солдата, то, по крайней мере, бывалого дуэлянта и драчуна. Хотя, какой студент в наше время не носит шпаги и не размахивает ею по поводу и без!? Словом, господин был не вполне понятного происхождения и рода занятий.
Оказавшись перед красивым двухэтажным домом, непонятный господин остановился. Перед дверью дежурили двое солдат, в красных бархатных бригандинах[15] и островерхих айзенхутах с пластинчатыми нащечниками[16]. Один начал было замахиваться древком алебарды, открыв редкозубый рот для дежурного рыка, что-то вроде «эй, чего встал, проваливай!», но вдруг, расплылся в улыбке и, явно признав, услужливо распахнул перед ним дверь.
В особняке молодой человек, видно, бывал не раз; он уверенно направился через зал к спешившему навстречу слуге, скинул ему на руки плащ и шляпу. На безмолвный вопрос, образовавшийся в глазах нашего незнакомца, слуга ответствовал:
– У себя, у себя! Ждет! Уже позавтракали и ждет! Вы, как всегда, вовремя. Я сейчас доложу, – и засеменил вверх по лестнице.
Молодой господин пошел за ним и очутился перед резной дубовой дверью, из-за которой то и дело раздавались хэканье, тяжелый топот, стук и глухое посвистывание. Вежливо постучавшись, он отворил створку. В комнате, отменно большой и освещенной, обнаружился богатырского сложения краснолицый бородач в съехавшей на бок широкорукавной плиссированной рубахе и облегающих чулках.
Занятие его вполне объясняло описанный шум: он воинственно размахивал здоровенной шпагой, то и дело длинным уколом, вонзая её в ростовую мишень на стене. При этом он резко выпускал воздух из бочкообразной груди, из-за чего и получался тот самый загадочный «хэк». Появление гостя его совершенно не смутило и не оторвало от сего увлекательного времяпрепровождения.
– Здравствуйте! Доброго утра, герр фон Фрундсберг! Как спалось? – осведомился тот, совершено не стушевавшись, как можно было ожидать, что еще раз доказывало: он постоянный посетитель этого дома и давний знакомец его хозяина. Хозяин, не прерывая избиения мишени, откликнулся:
– Дьявол, Адам! Хэк! Сколько можно! Я две проклятых тысячи раз просил называть меня по имени! Георг! Хэк! – Вжик, Вжик, – шпага убедительно просвистела, крутясь в его руке, словно подтверждая сказанное, – Я! Для! Тебя! Георг! Хэк! – Цзвен-н-ньк! Острие глубоко впилось в кварту[17]. – Я же не буду звать тебя «герр Райсснер», ведь так? Хэк! – на этот раз шпага поразила секунду[18].
– Что новенького, Адам? – Георг с натугой извлек слишком глубоко вошедшее острие, – и что слышно в лагере?
– Новенького слышно много! На днях прибывает император, но, да это вам известно, наверное. Молодая баронесса фон Швайнфурт чрезвычайно восторженно о вас отзывалась, и велела справиться, не соизволите ли вы оказать ей аудиенцию? Соизволите? В пятницу вечером? Очень хорошо, – продолжил господин, которого звали, судя по представлению хозяина дома, Адамом Райсснером, – бургомистр жалуется, что солдаты регулярно нарушают порядок в городе. За неделю четыре дебоша в кабаках и шесть жалоб на э-э-э-э-э, как изволил выразиться господин бургомистр: «на успешное покушение на девичью честь». – Георг временно перестал упражняться и бросил на Адама из под высоко поднятых бровей полный удивления взгляд, в котором ясно читалось, что он думает про такие беспорядки, что солдаты – просто ангелы, и что не из-за чего поднимать шум, а так же адрес, куда бургомистр может затолкать себе свои жалобы.
– Далее, – продолжил Адам, – из Милана прислали поверенного, который сообщает, что французская армия соединилась со швейцарцами, а значит, венецианцы все-таки дали золота забияке Францу[19]. Кстати, Венеция прислала пушек, полторы тысячи аркебузиров, две сотни копий кавалерии. И припас. Так вот, в Милане паника, всем ведь ясно, куда французы направятся в первую очередь после прошлогоднего конфуза[20]. Срочно просят выступать. Умоляют помочь.
– Трусливые свиньи. Хэк! Передай поверенному, что раньше конца марта мы не выступим. Никак не возможно! Хэк! Во-первых, не вся артиллерия в сборе. Хэк! Во-вторых, испанцы с нами раньше не смогут встретиться. А воевать в одиночку с армадой, (ХЭК!) нашего Франца – слуга покорный! Хэк! А в третьих, четвертых и пятых соври что-нибудь поприличнее, как ты умеешь! Хэк! – Георг последний раз вонзил шпагу, после чего подошел к массивному резному шкапу, где имелся рукомойник и принялся поливать себе шею и лицо из бронзового с облезшей позолотой акваманила[21] в форме дельфина.
– Все ясно, сделаем, – ответил молодой человек, сквозь медное журчанье воды и шумное пофыркивание своего шефа. – Но! Поверенный в лагере и вам, как это ни печально, придется с ним увидится. Прикажете присутствовать? Нет-нет, не получится, – отреагировал он на недовольный взгляд Фрундсберга через плечо, – поверенный имеет письма к самому кайзеру и будет его дожидаться, во что бы то ни стало. Значит, вам придется с ним переговорить, – сказал Адам, напирая на слово «придется», – деваться некуда.
– Точно так, некуда. Обложили, как чертова вепря, – побурчал недовольно полководец, который терпеть не мог чиновников и любые официальные переговоры.
– Кстати, насчет артиллерии. Вчера подтянулись последние два пушечных обоза. Все, больше не будет. Итого у нас двадцать три кулеврины, не считая мелочи. И еще испанцы приведут… никак не меньше дюжины стволов. Прилично. – сообщил Адам, подходя к пюпитру возле окна и выкладывая на него какие то бумаги и маленькую книжечку, которую достал из обширной поясной сумки с шелковыми помпонами по краям. Фрундсберг, тем временем уселся за письменным столом, вытирая свою обширную черную бороду льняным полотенцем с синей перуджианской вышивкой.
– Кой черт! «Прили-и-ично», – передразнил он своего секретаря и помощника и выбросил полотенце в угол, не забыв предварительно скомкать, что выдавало нараставшее раздражение, – у Франца будет не менее сорока пушек, да Венеция подсыплет с десяток… – видимо, это была его давняя головная боль. – Так, а какие приятные новости, столь чудесным утром?
– Не знаю, как насчет приятных, но вот интересная есть. Вы помните, с неделю назад вы принимали доклады ваших офицеров? По комплектации полков? – Адам говорил и делал пометки в бумагах, то и дело обмакивая гусиное перо в чернильницу. Фрундсберг помнил:
– А то как же! Когда эта рыжая скотина Дитрих, мать его, Бюлов заблевал мне всю лестницу? До сих пор воняет!
– Ну, – рассудительно протянул секретарь, оторвавшись от бумаг, – и угостили вы их изрядно… за добрую службу… и сами угостились… ну да дело не в этом, – и он поспешно перешел к сути, награжденный тяжелым начальственным взглядом:
– Гауптман Бемельберг докладывал о новобранце, который де очень здорово управляется с мечем, а в борьбе просто Гектор. Помните? – Георг не помнил, но не прерывал, посему Адам продолжил: Так вот, это был не пьяный треп Конрада, на который тот обычно горазд. Парень – настоящий клад. Точно говорю, сам видел. Со спадоном обращается, как жид с чужими деньгами. Десятифунтовый цвайхандершверт[22] вертит как детскую рапиру. Школа, правда, о-о-о-очень редкая. Я такого не видел ни в Италии, ни в Англии, нигде вообще. И точно не германская. Но, несомненно, эффективная. Здоров и вынослив при этом, как испанский жеребец. Бился с пятью трабантами[23] подряд. Чисто уложил всех. И даже не вспотел. Такого укола даже ваша милость не сумеет сделать. Я бы рекомендовал его вам. Пусть ваших парней натаскивает.
– Как зовут этот ваш клад? – поинтересовался Фрундсберг, казалось, весть о новом бойце его тронула сильнее чем итальянские дела и приезд императора вместе взятые. – Пауль Гульди, говоришь? Что-то припоминаю, Конрад трепался… думал цену набивает… Ладно! Решено! – и он повелительно помахал указательным и средним пальцами в воздухе, направив их на секретаря, – запиши и напомни мне посмотреть это чудо, а то я точно забуду. – Он помолчал, пожевал губами, потом решительно взгромоздил ноги на подоконник, откинулся на спинку кресла и проговорил:
– Займемся делами. Насчет пушек. Пиши! Его императорскому Величеству, Божьей Милостью и так далее, сам знаешь, Карлу V, или нет, к дьяволу… нет-нет, это не записывай! Так. Нам нужно еще три дюжины бочек с ядрами для полукулеврин, и порохового припаса к ним. Напиши еще, что недостает пеньковых канатов для обвязок. То, что прислали с предыдущим обозом – дерьмо и гниль. Так что, канаты нужны. Чем мы пушки таскать будем? Записал? Хорошо. Дальше напиши еще вот что: если коротко, то для похода нужна жратва и питье. Солонины бочек тридцать, а лучше сорок. И рыбы вяленной тридцать бочек. И вина не менее двух дюжин… и три дюжины пива. Тех запасов, что в наличии сейчас на все время не хватит. Если солдат не кормить, они буду кормить себя сами – это непреложный закон войны! Нам бы только до Италии добраться, а дальше сам знаешь, ха-ха-ха. Записал? Так. Нужен свинец для пуль. Пятого дня я проверял лично, свинца мало, а для мушкетов и аркебуз нужен свинец… что ты говоришь? Подвезли свинец? Тридцать пудов еще? Да, тогда, пожалуй, довольно… Запиши все, перебели, оформи, как положено и вечером ко мне на подпись. Потом разошлешь по адресатам. Вот еще. Напомни нашему уважаемому фельдцейхмейстеру, что до начала похода, он должен закупить запасных древок для пик и алебард. К тому, что есть уже нужно сто связок для пик и двести для алебард. Да не штук! А связок! И чтобы из доброго ясеня, хорошо высушенного. Или из вяза мелколиственного. Скажи, что лично проверю. Если проворуется – убью. Вот клянусь своей правой рукой. Заколю паразита. – Фрундсберг собрал все свое обличье в угрожающую гримасу и сделался страшен. Потом гневные морщины разгладились, он помолчал немного, видимо мучаясь какой-то мыслию, а когда чело его победительно просияло принятым решением, изрек:
– Чёрт, совсем не думается с утра. Вроде и поупражнялся, а вот не думается, и все тут, голова, как деревянная! Слушай… а давай выпьем? – Фрундсберг поймал полный укоризны взор Адама Райсснера и, даже, снизошел до оправданий. – Да не кисни ты, как старая бабка! В поход скоро, на войну, а война – кислых не уважает, не-е-ет! Война веселых уважает! Да не гляди ты, как девочка полонянка, ты мне так дырку проглядишь. Знаю, что утро! Я же не предлагаю нажраться до поросячьего визга. Только так… символически, здоровья для. – Тут опытный и веселый воин, видимо, стараясь не потерять уважение дамы Войны, вскочил и полез в шкап, плотоядно облизываясь и подмигнув Райсснеру, пожалуй, заговорщически подмигнув.
– Вот! – он торжественно вытащил из нижнего отделения шкапа пузатую, аппетитно булькавшую бутыль. – Вот! От этого даже ты не откажешься! Этого даже таким видным философам, и образованным людям, как мы с тобой с утра не грех причаститься. – Тут Фрундсберг прищурился, повернул бутыль к свету и прочел, наклоняя голову на бок, уродуя рот в попытке выговорить незнакомое слово, что было начертано на бумажке, прилепленной к бутылочному боку:
– К-х-к-хреноффка… хренофка, черт знает что такое! Короче говоря, – испытанный солдат наставительно поднял палец и пустился в разъяснения: – Мне купцы, вернувшиеся из Московии, знаешь, где это? Вот и я тоже… в общем, прислали два бочонка этой штуки. Spiritum Vini[24]! Его там здорово научились возгонять и настаивать на каких-то кореньях. Крепости невероятной! Чистоты просто божественной! Но требует сытной заедки. Так просто глушить невозможно. – И он схватил колокольчик, намереваясь позвать слугу, чтобы тот принес «сытной заедки». А пока наши знакомые ждут требуемых для успешного потребления иностранного продукта ингредиентов, необходимо оглянуться, и посмотреть на воинский лагерь, с которым оба были неразрывно связаны, что же происходило там.
Лагерь жил своей обычной жизнью. Конница занималась истязанием своих лошадей, фельдфебели и капралы – истязанием новобранцев, которые маршировали на плацу и тыкали пиками в соломенные чучела, пушкари чистили пушки, проверяли орудийные лафеты, смазывали оси. Но везде поднималась какая-то волна, вносившая разнобой в размеренную жизнь. Это чувствовалось по внезапно ставшим более резкими окрикам унтер-офицеров, по тому, как рейтар куда сильнее, чем нужно то и дело вонзал в конские бока свои латунные шпоры, по тому, как стрелки придирчиво оглядывали новомодные мушкеты и старые испытанные аркебузы, по как-то внезапно стихшим разудалым песням, которые раньше день-деньской раздавались в кантинах, наконец – по исчезнувшим почти совершенно любителям карточной игры и игры в кости, что совсем было не похоже на разгульную солдатскую братию. Везде витала Перемена, вполне ожидаемая, но все равно, нервирующая своим приближением.
А Перемена, именно так, с заглавной буквы, означала только одно: скоро поход! А значит, скоро будет война, будет битва: слава и лихая добыча для одних и безымянные могилы, поросшие травой на чужих полях, для других. В числе первых хотели оказаться все, а судьбы вторых все, само собой, надеялись избежать.
Никто об этом явно не распространялся, но, начиная от молоденького барабанщика, заканчивая могучим и искушенным рыцарем, все знали и видели некую особую мету, печать, павшую на лица товарищей.
Молодые бойцы, уверенные в себе, которым, кажется, принадлежит весь мир, как-то разом превратились в тени на границе двух миров. Одной ногой они твердо попирали матушку землю, а другой – уже находились в ставке Господа Бога, ожидаючи приказов ангельского оберста Гавриила. Наверное, только там, в ставке Господа Бога и могли сказать точно, кто вернется домой, а кого уже призвали в небесное войско. Но, если попасть Туда очень легко, особенно солдату, то получить Оттуда разведывательные данные решительно невозможно. Так же как демобилизоваться.
Нельзя сказать, что неизвестность пугала, нет. Став воинами, эти люди ясно знали, на что идут, и что сыграть в кости со смертью обязательно придется, они тоже прекрасно понимали. Но ожидание самой интересной и азартной игры, когда на кону стоит жизнь, ожидание, несомненно, угнетало. Еще далеко до битвы, и поход еще не завтра, но уже не ясно, кто стоит рядом.
Может быть тот, кому выпал черный жребий? А может быть и сам ты уже не совсем живой, ибо где-то, возможно, заготовлен для тебя именной пропуск на небо в виде острой глефы, коварной пики или слепой пули? Оттого и делались солдаты раздражительны, оттого и шла по лагерю невнятная, но уже вполне заметная волна Перемены. Но все же, такова судьба честного зольднера. Войско ждало своего часа. Ведь как пели ландскнехты:
Лучше лежать под зеленой травой И слышать, как полк над тобой идет, Как гремит барабан и флейта поёт, Чем главу уронить под камень глухой, Когда нищая старость тебя заберёт!Все это, на что ушло так много слов, прекрасно понимали, без всяких пояснений три испытанных бойца, стоявшие на краю плаца. Был с ними и четвертый не такой испытанный, которому, возможно, такие пояснения и требовались. Только кто бы стал приставать к нему с разъяснениями? Думается, что половины он не понял бы, и, скорее всего, послал бы доброхота черту. Причем, вполне возможно, что послал бы в прямом смысле, посредством кинжала или меча, что имелись у него на поясе.
Да только не водилось поблизости таких умников! На счастье себе и к вящему спокойствию самих ландскнехтов.
Первых троих звали Конрад Бемельберг, Курт Вассер и старый Йос. Четвертый – самый молодой, можно сказать даже юный, звался Эрих, но все его иначе как Кабаном не погоняли. Был он высок, широк в плечах и могуч руками. И было ему всего восемнадцать лет. Все четверо увлеченно пялились, как на плацу потеют и изнывают под тяжестью доспехов сразу два соседских фанляйна и вели неспешную беседу. Причем, старый Йос иногда давал товарищам приложиться к своей объемистой фляжке.
– Кабан, ты чего вчера не играл в кости? – спросил старый Йос, мы вчера отменный банк сообразили.
– Я отослал матушке в Вюрцбург пятнадцать флоринов, мне сейчас не до игры, – насупился Кабан.
– Вот! Молодец! – одобрительно закивал Йос и, видимо, для поощрения, выдал ему фляжку, – не забываешь стариков своих. Это хорошо. Человеку нельзя стариков забывать. Чем на девок потратить, пропить да проиграть, лучше помочь своим… оно и вернуться будет куда, если служба осточертеет.
– Врет, – уверенно сказал Конрад, – Точно врет. Какой матушке! Всю неделю его видят по вечерам на хуторе у трех дубов. Каждую ночь таскается. Бьет клинья к хозяйской дочке. Вот там нашего Кабана мошна и тощает. Гы-гы-гы, и златоносная и живодарящая, верно говорю, Кабан?!
Эрих заметно зарделся, причем, первыми покраснели уши, и принялся прятать глаза, опустив взор на широкие концы своих ботинок, как будто нашел там что-либо интересное или не виденное ранее:
– Не ваше дело, товарищи. У меня может любовь! – пробубнил он, все более смущаясь. Теперь и толстенная шея, вслед за ушами сделалась вовсе неотличимой от ярко-алого ворота его вамса. – А деньги я точно матушке отослал, правду говорю.
– Ну как она? Хороша? – с заметным оживлением спросил Курт Вассер, силясь поймать взгляд молодого ландскнехта, ради чего оставил даже любимое развлечение всех солдат – смотреть, как другие работают или служат.
– Отстаньте, Господом Богом прошу!
– Да брось, расскажи, она тебе уже дала?
– …
– Конрад, скажи своему бойцу, пусть повеселит товарищей байкой! Что может быть перед походом ободрительнее, чем байка про старый добрый трах?! – не унимался Курт. Ему одновременно ответили Йос, Конрад и Кабан:
– В самом деле, мог бы и поделиться, что жалко? – таково было мнение гауптмана Бемельберга.
– От прилип, как дерьмо к коровьему хвосту! – не согласился старый Йос.
– Да, дала, дала, – выпалил Кабан, уже совершенно вся физиономия которого, пламенела сочным алым цветом. – Что же мне на войну уходить не налюбившись?!
Курт Вассер, понятное дело, потребовал подробностей, Йос и Конрад одобрительно закивали, а неожиданно подошедший солдат спросил недоуменно:
– А что шлюх вокруг мало? Или к маркитанткам не сходить? И вообще, в походе, что ли баб не найти?
Разгорелась оживленная дискуссия, предметом которой был антагонизм между практичностью и высокими чувствами. Диспут подогревался терпким содержимым фляжки старого Йоса, а особый шарм ему придавали команды и ругань капралов и дружный топот восьмисот пар башмаков на заднем плане.
Курт Вассер и новый собеседник с утраченным для истории именем отстаивали практический подход к любви и ставили во главу угла плотскую её составляющую; Кабан, неожиданно поддержанный Конрадом, который решил не выдавать своего солдата, защищал духовную составляющую, не отрицая, впрочем, важности чувственных утех; старый Йос исполнял роль арбитра морали. Его реплики часто игнорировались обеими спорящими сторонами под самым неблаговидным предлогом, основанным на том, что Йос – старый, и не может считаться авторитетом в практике обсуждаемого предмета. Отвергаемый арбитр обиделся и пригрозил отлучить всех участников дискуса от содержательной стороны его фляжки.
Поскольку, эта составляющая являлась важным катализатором, поддерживавшим спор на высоком уровне, Йос был с извинениями утвержден в роли непререкаемого авторитета в силу признания его прошлых заслуг на любовной ниве, коих, по утверждению самого Йоса, имелось столько, что хватило бы на половину неблагодарного молодняка во всем войске.
Постепенно, спор перешел в сферу количественных показателей. А именно: безымянный солдат и Курт принялись с цифрами на руках доказывать, что услуги шлюх и развеселых маркитанток не в пример дешевле, чем «гулять честную давалку», согласно введенной ими дефиниции.
Кабан настаивал, что производимый эффект любви «честной давалки» на порядок выше в сравнении с «давалками корыстными». Конрад поддержал Кабана, сказав, что «честную девку один раз гуляешь, а потом она сама дает, как ветряная мельница», (не совсем ясна оказалась семантическая нагрузка красочного сравнения с мельницей, но прозвучало солидно). А старый Йос веско заметил, что честная девка лучше только тем, что отличается малой использованностью, ведь у опытной шлюхи «в щель ведро со свистом пролетает – никакого удовольствия».
Кабан хотел вернуть спор в русло абстрактных материй, приготовившись защищать духовную составляющую любви, которая и производила, по его мнению, основной эффект, распространяясь и на любовь плотскую.
В это время столь плодотворная дискуссия, могшая привести к рождению нового знания о величайшей тайне Вселенной, была в грубой форме прервана подошедшим капралом, который попросил всех «при всем уважении к офицерскому званию» убираться с плаца нахер.
Распалившиеся спорщики, в самом деле, начали уверенно заглушать команды фельдфебелей и мешать успешному проведению строевой подготовки, так что плац пришлось покинуть. Так в очередной раз прикладная военная необходимость возобладала над развитием фундаментального знания.
Вся группа двинулась по главной улице лагеря, которая делалась все оживленнее, не хуже чем в любом большом городе. Конрад вслух рассуждал, правильно ли он поступил, не двинув в ухо капралу, за хамство, чтобы тот не забывал, на кого повышает голос.
Правда, решил он, что с формальной точки зрения, капрал был совершенно прав и он, Конрад, как верный ландскнехт, поступил по обычаям, не уронив своей солдатской и офицерской чести. Старый Йос сказал, что отправляется в палатку спать, ибо упражнения в маршировке с утра, а потом словесные излияния совершенно его подкосили. Курт условился с ним о вечерней игре и тоже ушел, ему надо было выводить новобранцев на плац для упражнений с пикой и алебардой. Незнакомый ландскнехт, между тем, пристал к Конраду и Кабану с расспросами:
– А что правду говорят, что у тебя в отряде есть какой-то новый боец, что просто зверюга? – вот именно так вопрос и был поставлен, не вполне грамотно, но предмет вопроса был вполне ясен. – Что, прям, говорят двадцать поединков подряд двуручником победил?
– А то! Правда! Только не двадцать, а пять, но все одно – отменно! – с заметной гордостью пробасил Конрад. – А знаешь, кто нас с ним познакомил? А! А вот этот детина красномордый, скажу я тебе! Кабан с ним в кабаке подрался, так тот его уложил на три счета. Хотя, наш ему сперва морду кулачищем разъюшил. Так поднялся на ноги и в ответ Кабана заломал. Думаю, надо его к нам, надо его в войско.
– И что?
– А ничто. Если Конрад Бемельберг находит кого, то, точно говорю, этот кто-то наверняка человек стоящий.
– Ну-у-у!
– А вот тебе и «ну-у-у!» Я много повидал на своем веку, и сам не последний человек в драке, с мечем ли, с пикой ли, но такого мастера не видал. Танцор, чисто танцор! Как будто родился со спадоном. Школа странная, правда. Никогда такой не встречал. Где учился – не рассказывает. Всем свистит, что родом из Дрездена, да только свист это и есть. Мало я что ли саксонцев видел?! По его басне выходит, что и учился где-то там. Что точно вранье.
– А кому какое дело?
– А вот тут ты прав. Главное – хорошего бойца заполучили прямо перед войной. Надежный товарищ не помешает.
– Э-э-э-э, братья, – скептически протянул Кабан, – какой он надежный только война и покажет. – Надо сказать, что его немного покусывала обида, что он, такой огромный и сильный, был на глазах у всех легко побежден плохо одетым незнакомцем. А незнакомец оказался вдобавок невероятным мастером фехтования, таким, что ему самому и через годы учения не стать. Оно конечно, такому человеку и проиграть не стыдно, но все же где то в глубине простецкой натуры Кабана явственно говорила самая недостойная зависть и ревность. – Мужик неплохой, компанейский, это точно. И боец преизрядный. Только вот как бывает? Весь из себя хорош, с мечем – герой, а как попадет, скажем, под копья французской конницы, так в штаны наложит, с пересеру и ударить ни разу не сможет. А как из пушек выпалят, так вообще на землю хлопнется или утечет с поля. Ведь бывает и так? И тогда какой прок с того, что он мужик неплохой, и со всего его фехтования?
Конрад, со свойственной ему проницательностью ответил, хитро щурясь:
– Кабан! Сдается мне, что ты на Пауля до сих пор обиду держишь или завидуешь? Брось, брось, не перебивай старшего! Я же вижу, у тебя же на роже все написано, что в твоей маленькой голове происходит, да. А мне спасибо скажи, да выпить поставь. Ведь если бы я тебя не остановил, и ты полез бы на Гульди с железкой, сдается мне, что он бы скорее тебя выпотрошил, чем ты его – тут он стер с лица хитрую усмешку и серьезно промолвил: – Но и прав ты, прав, братец. Пока не выстоит с нами плечо в плечо, ничего про него точно не сказать. Ты хоть возрастом малец – а брат мой, брат ландскнехт. А Гульди этот пока так… недоразумение. Хотя и многообещающее. Я слышал, его сам Георг придет посмотреть. – Конрад замолчал.
Потом, резко поменялся в лице, подтянулся и тоном, не терпящим препирательств, отправил Кабана-Эриха «вычистить латы, промаслить ремни на доспехе, проверить древки пик, идти на плац, колоть чучело пока не посинеет» и обещал лично проследить исполнение. Потом попрощался с безымянным солдатом и ушел в неизвестном направлении по своим важным гауптманским делам.
Город и окрестные села полнились слухами. Слухи, падая на благодатную почву, обильно рождали разговоры, разговорчики, беседы и пересуды. Главные форумы городских всезнаек – рынки и церкви, где так удобно было шептаться, сидя на скамеечках во время мессы, буквально истекали любопытством и кажущейся осведомленностью.
Мнения, касательно происходящих событий, высказывались самые разные. От невероятных, до скептически осторожных. Но главное было понятно всем: армия уходит! На днях ждали приезда императора.
Император лично должен был принять присягу и провести строевой смотр. А потом – поход!
В лагере непрерывно раздавался перестук молотков, визг напильников и надфелей – это кузнецы в походных мастерских последний раз подгоняли и правили снаряжение. Туда сюда сновали гонцы, адъютанты и вестовые, которые связывали части огромного организма воедино.
Отовсюду тянулись обозы. Скрипучие телеги везли для армии провиант, боевой припас и всякие незаметные мелочи, вроде пресловутых пеньковых канатов, без которых, однако, не живет армия, и не выигрываются войны.
И деньги. Золото – кровь войны, как говорил известный флорентийский политик Николо Макиавелли. Под особым конвоем в полковые казначейства поступало золото, серебро и медь, которые на войне были так же необходимы, как пушки и алебарды.
Важность этого звонкого ручейка отлично знали и сам Карл и его испытанные полководцы. Ландскнехты – отменные воины, храбрые и верные, но и у их терпения есть предел. Если задержать жалование слишком долго, достаточно будет одного неосторожного слова и армия станет неуправляемой. Сколько раз командиры становились заложниками своих солдат?!
Однако, в этот раз все было продумано и тщательно подготовлено. Немалую помощь оказал даже сам Папа Римский Лев X, хотя, совсем недавно, Рим был злейшим врагом императора. Теперь же дипломатия Карла заставила смотреть на него, как на защитника обездоленных и борца с лютеранской ересью. И наместник апостольского престола не замедлил наполнить императорский кошелек из своих объемистых закромов.
Нельзя забывать, что Папа собирал десятину со всех приходов католической Европы, а его эмиссары бесстыдно торговали индульгенциями во всех закоулках христианской ойкумены. Служение Богу стало доходным делом и император, вполне в духе своего прагматического века, считал возможным этим доходом пользоваться.
Золото текло в жилах армии, разгоняемое могучим сердцем императорской воли. Армия начинала оживать и уходила в поход, исполняя свою историческую судьбу.
Горожане, конечно, вздохнули с облегчением. Еще бы! Не самое спокойное соседство – два десятка тысяч отпетых головорезов и живодеров под боком! Однако живодеры, помимо головной боли приносили несомненную выгоду.
Рынки выметались начисто, солдаты скупали провиант, запасаясь в дорогу. Все кабаки и таверны за месяц сделали пятилетнюю выручку, ибо армия – это население очень большого города, собранное в одном месте. Причем, в отличие от городского населения, где есть и дети и старушки и просто святоши, которым не требуется прикладываться к кружке, в армии, естественно, собирались только зрелые мужики, не обремененные моральными запретами, и которых вечно мучила жажда. Настоящий подарок для разномастных городских шинкарей.
Если в городе были оружейные лавки, а в Мюнхене они, конечно же, были, постой армии превращался в затяжной денежный ливень. Офицеры покупали себе дорогое оружие, фельдцейхмейстеры запасали снаряжение на целые полки, хитро перемигиваясь с поставщиками и отваливая им неслыханные суммы из казенных кладовых. Среди ландскнехтов, кстати, было немало вполне обеспеченных людей, так что и рядовые солдаты регулярно захаживали к оружейникам, стремясь как можно лучше подготовиться к грядущим опасностям.
Город богател, деловые колеса его вертелись все быстрее. Особенно на последних порах, когда войско снималось, и когда предпринимались последние судорожные приготовления перед походом.
И, тем не менее, горожане, начиная почтенным бургомистром и заканчивая последним кабатчиком, тихо облегченно крестились, подсчитывая барыши. Право, хорошего – понемножку и тише едешь, дальше будешь.
Солдаты приносили прибыль, но были уж очень взрывоопасным материалом. В самом деле, кто согласится размахивать факелом, стоя на пороховой бочке, даже если его озолотить? То есть, если ты не робкого десятка и вознаграждение весомо, то почему бы и нет, но только совсем не долго, ведь иначе некому будет это вознаграждение тратить. Поэтому, когда замаячил исход, весь город и окрестности его умиротворенно вздохнули.
Георг фон Фрундсберг в сопровождении своего поверенного лица, секретаря и соратника Адама Райсснера очередной раз лично объезжал лагерь, проверяя и вникая в каждую мелочь, как и положено опытному полководцу. Его интересовало все: питание в кантинах, качество ткани на солдатских палатках, смазка тележных осей, корм лошадей и волов, приписанных к артиллерийскому парку… ничего не ускользало от его выверенного глаза.
Не смотря на разгульный нрав, он был настоящим отцом солдат. Многих он знал в лицо и помнил по предыдущим походам, для каждого находил слова ободрения. Но и спрашивал строго. Особенно с офицеров. И тут не было различия между давними соратниками, друзьями и собутыльниками. Нагоняи за дурную службу сыпались на всех, одинаково с милостями за службу добрую.
Естественно вождь ландскнехтов заглянул и в оружейное хозяйство и на плац, где ему показали нового бойца из фанляйна Конрада Бемельберга. Искушенный воин только крякнул от удовольствия, глядя, как новобранец управляется с его любимым оружием – двуручным мечем.
Он похлопал его по плечу, узнал имя и даже произнес несколько одобрительных слов. После чего, неслыханное дело, подарил двуручный меч из собственной коллекции и приказал занести в ведомость на жалование доппельзольднера.[25]
В скором времени не замедлил появиться и сам император. Без всякой пышности с малым кортежем он ураганом влетел в город. Занял лучшие покои в лучшем доме, принял доклады, разобрал текущие дела и назначил строевой смотр. Который и состоялся через два дня.
Армия выстроилась на поле. Солнце вызолотило стальной панцирь бесконечной змеи броненосной конницы, заиграло на остриях пик и алебард трех огромных пехотных ежей, ласково согрело смертоносные орудийные стволы и облило светом маленькую фигурку императора, который сидел на коне, с восторгом осматривая собранную под его рукой мощь. Потом была всеобщая присяга, был салют из всех орудий, были дружные крики: mit Gott fur Keiser und Fatterland! Hoсh Keiser! И марш всей армии, грохот шагов которой был также оглушителен, как орудийные залпы. А потом, как-то незаметно, солдаты свернули лагерь, погрузились в телеги, сели на коней, взяли ноги в руки и ушли. Остался только вытоптанный луг, прогоревший дерн на местах костров, неубранный мусор, и чуть присыпанные выгребные ямы. И воцарилась тишина.
Глава 4 В которой Пауль Гульди пробует крови первый раз
Война… Всю свою безусую юность я мечтал оказаться в армии, а значит, рано или поздно, на войне. И вот теперь я оказался в рядах наступающей армии. Ничего приятного, хотя, некоторое время все было тихо и мирно, насколько это вообще возможно. То есть, до поры, непосредственно меня никто не пытался убить. И мне никого убивать не приходилось.
Мечталось и грезилось, конечно, совсем о другом. Геройский подвиг, всеобщая любовь и уважение, отвага, самопожертвование, патриотизм и любовь к Родине, гражданский долг, стремительная атака – вот примерный список понятий, с которыми я ассоциировал это недоброе, гавкающее слово «война». Недоброго оказалось гораздо больше, чем я мог себе представить, при том, что я историк, хоть и недоучка, и много-много читал о настоящей войне.
Оно, конечно, представлял я себя совсем в другой армии, но, если быть честным с самим собой до конца… какая разница? Лететь в межзвездном мраке на огромном крейсере и гвоздить по мирным городам ничего не ожидающих планет ракетами с плазменными БЧ, или вот так пешком наматывать мили, и своими руками грабить и лишать жизни незнакомых и тебе ничего плохого не сделавших людей? Второе, по-моему, выходило честнее.
Что приятнее, или, лучше сказать, не так ужасно: гореть заживо в штурмовике с заклинившей катапультой, мечтая только о том, чтобы рванул маршевый реактор, положив конец боли и страху, или получить в живот полметра ржавого железа; дрожать от ужаса, вжавшись в землю, глядя как истребители заходят для атаки, чтобы пустить тебя в распыл вместе с тяжелым штурмовым скафандром зарядом позитронной антиматерии, или оказаться под копытами и жадными до крови копьями чужой конницы? Трудный выбор, в любом случае, не очень здорово. Прямо скажем – на любителя.
Если рассуждать с точки зрения этики, а последнее время я оказался весьма склонен к самокопанию, видимо, обстановка настраивала, моя война оказывалась… человечнее, что ли? Если так вообще можно сказать.
По крайней мере, никто из моих нынешних коллег не мог погубить нажатием кнопки несколько тысяч человек. А уж если припрет погубить кого, то жертве придется взглянуть в глаза, услышать последний её вздох и ощутить последний трепет уходящей жизни.
Такая перспектива заочно накладывала персональную ответственность за содеянное именно на тебя. Нельзя ведь сказать, что это не я убиваю, а алебарда, или, скажем, пика?
Хотя и здесь начали бурно цвести целые заросли прежде незнакомых для этого мира слепых орудий войны, вроде пушек и мушкетов. Когда-то мы тоже прошли этот путь, и, учитывая молодую свирепую страсть новой цивилизации, скоро, очень скоро, они улучшат их, усовершенствуют. А там, глядишь, выйдут и на межзвездные трассы.
Вот поэтому мудрые наши повелители и рассылали наблюдателей по планетам, погруженным в счастливые пучины архаики. Если отжать прекраснодушную розовую водичку из общих положений, делалось это для того, чтобы точно представлять, чего именно ждать от молодых дикарей, если они из этих пучин вынырнут.
Ведь для овладения космическими технологиями требуется смешной срок, а вот чтобы перестать быть дикарями, иногда и ста тысяч лет цивилизации недостаёт. Моя родина, во всяком случае, хоть и гордилась респектабельным донельзя обличием, но, говоря честно, была весьма беспокойным звездным соседом. В смысле, весьма далеким от счастливого созерцательного гомеостаза.
Вояки наши кичились постоянно обновляющимися коллекциями нашивок за боевые вылеты, штурмовые атаки и ранения. Откуда бы им взяться в мирном космосе? «Огневые» списки убыли личного состава никогда не отличались стабильностью, постоянно удручающе вырастая. А рейдеры дальней разведки рвали неподатливую материю пространства в самых отдаленных уголках галактики. Кто бы назвал наши рейдеры мирными кораблями? Ха-ха-ха, таких наивностей я не слыхал даже на Центральном Канале Государственного Вещания…
Кстати, интересно, местные, оказывается, уже дали название нашему общему космическому дому, понятия не имея, что говорят о галактике. Видимый в ясную ночь блестящий рукав огромного спиралевидного скопления звезд, на окраинах которого и ютилась эта неприметная планетка, здесь назывался Млечным Путём.
Метко.
В самом деле, мириады светил, лентой пересекавшие небосвод с заходом Солнца, здорово походили на разлитое неведомым шалуном молоко. Яркое, серебристо-белое молоко на чёрной скатерти небес.
Если бы они только знали, если бы могли хотя бы вообразить, как прекрасен и как грозен этот пейзаж, если прорвать жалкую кожуру атмосферы и уйти на пару миллионов километров от плоскости планетной системы?!
Тем не менее, звезды здесь любят. Они манят людей, которые мечтают летать, подобно птицам. Даже самые грубые и неотесанные солдафоны, с которыми я имею удовольствие общаться, нет-нет, да и поднимут глаза к небосводу. И во взгляде тогда нетрудно прочитать, что место этого курта-адольфа-генриха именно там. Среди звезд. А ведь симптом недвусмысленный. Надо бы не забыть записать в отчет.
Но что это я все о звездах, о галактике, о рейдерах наших доблестных? Они вона где! Высоко!
А я – простой солдат, и я здесь. Попираю задницей зеленую травку красивой и теплой итальянской земли. И мне очень хреново. Прямо таки словами не передать как. Аж душу выворачивает.
Содержимое желудка вывернуло немного раньше и тоже основательно. Я первый раз в жизни убил человека. Самым приземленным, честным, воспетым мною несколькими строками выше, самым, что ни на есть персональным способом. Со всей личной ответственностью. И ответственность эта меня беспощадно мучает. И будет мучить, наверное, всё отпущенной мне время… Дело в том, что я убил не просто человека. Я убил женщину. Зарезал. Так получилось. Я, можно сказать, вовсе и не виноват, но мне от этого не легче.
Случилось это так.
Мы попали в засаду в деревне, куда шли на постой. Мы – это рота Курта Вассера и рота полусписс[26], которой командовал эльзасский дворянин Марк де ля Ги. Сто семнадцать человек ландскнехтов и шестьдесят пять – легкой конницы.
Эту страшную силу отрядили на разведку.
Чем мы и занимались на протяжении последних трех суток. Только разведкой. Мы никого не грабили, не насиловали женщин, не убивали крестьян, словом, по меркам армии на чужой земле, вели себя очень пристойно. Даже на постое за еду платили. По твердым ценам, которые, правда, устанавливали войсковые интенданты, то есть очень далекие от справедливых.
В основном местные были и этому несказанно рады, так как прекрасно знали, что мы могли бы делать и, что мы могли бы себе позволить. Они хорошо помнили бесконечные походы, прокатывавшиеся по этой измученной земле уже два поколения без перерыва. И хорошо представляли, на что способна наемная солдатня, которой давно не платили жалования, или, которой приказано устрашать население. Или не приказано. Достаточно молчаливого согласия начальства.
В данный момент, вся наша армия дисциплины не нарушала и шла в образцово показательном порядке. Во-первых, и в самых главных, нам регулярно платили звонкой монетой. Никаких долговых расписок. И очень прилично кормили. От этого солдаты охотно подчинялись приказам. А приказы, это во-вторых, были недвусмысленны: никаких грабежей, насилия и мародерства. Мы идем по императорской земле! То есть по нашей земле; и крестьяне эти, и горожане, и дворянчики мелкие – все суть подданные Божьей Милостию Императора Карла V.
А значит, всякое насилие будет караться смертью через повешение или, в самом легком случае, побиванием розгами. Так мы и двигались. Не чиня безобразий, хотя руки у многих чесались. Крестьяне с тревогой слушали, как по улицам сел и деревень шли нескончаемые ряды солдат, распевавших свои весёлые, грозные песни, которым согласно вторили барабаны и флейты.
Uber die Heide wehen die Fahnen, wehen und wehen von Ort zu Ort. Uber die Heide schal et es weithin, schal et und hallet es fort und fort: Die Landsknecht kommen an, hab' acht du Bauersmann. Landsknechte bringen Tod und Verderben, sengen und brennen die ganze Heid. Wo sie gehaust ist Klagen und Trauer, allerorten Kummer und Leid. Drum wart auch Hab und Gut vor Landsknechts Ubermut. Fliehet all wenn die Landsknechte kommen, Landsknechte schonen nicht Weib und Kind. Viele schon haben ihr Leben gelassen. Uber die Heide klagt es der Wind, im Land ist grosse Not, im Land herrscht Konig Tod. В небе над пустошью взвились знамёна Плещут по ветру они тут и там В небе над пустошью крики и стоны Ветер несет к деревенским домам: «Ландскнехты к вам идут! Крестьянин жди беду!» Ландскнехты приносят смерть и страданья Палят и жгут, ничего им не жаль Там где они, лишь плач и рыданья Всюду от них только горе-печаль! Добро скорее скрой! Ландскнехт несёт разбой! Всё убегает завидя ландскнехта, Жён и детей он, злодей не щадит. Многие света уже не увидят, В небе над пустошью ветер скорбит. Земля издала стон, Здесь Смерть взошла на трон![27]Так или примерно так пели ландскнехты. Но дальше вокальных упражнений дело не шло. Добро и сама жизнь аборигенов оставались нетронутыми.
Встретились с испанцами. Их вел знаменитый воин и проницательный военачальник – маркиз Пескара. С ним же пришел и военный чин из Рима – Просперо Колона. Армии объединились и пошли на юго-запад, покорные воле императора, который внял испуганным попискиваниям миланцев, придавленных железной дланью Франциска I, его венецианских и швейцарских союзников.
Кроме самих миланцев в провинции стояли имперские гарнизоны, а их бросать на произвол судьбы было никак нельзя. Бог с ним, что сограждане, это чувство, насколько я успел понять, было здесь мало знакомо и не в большой чести. А вот то, что это солдаты, члены одной корпорации – меняло дело в корне.
Солидарность на уровне гильдии была на высоте. Сильнее чем в иной стране среди единокровных родственников. То есть, ландскнехты запросто могли передраться друг с другом, но при любой угрозе извне, тут же сплачивались и ощетинивались во все стороны, не хуже южного дикобраза или местного ежа. Обижать нас ландскнехтов могли только такие же ландскнехты. А с мнением солдат приходилось считаться даже императору. Ведь мы были его руками в большой игре, которая называется политикой.
Пойти-то мы пошли, да вот французов никак не могли отыскать. Все знали, что они рядом, но где именно? Вопрос… Полководец «кайзера Франца» – Од де Фуа виконт Лотрек, искусно маневрировал, не давая нам поймать себя за хвост.
Он ждал, что у наших полководцев кончаться деньги и ландскнехты сами разойдутся по домам, по пути натворив немало бед, возмещая недостачу в жаловании, разозлив и отвратив от императора жителей Милана и окрестностей. Это с одной стороны.
С другой, Лотрек сам мог остаться с тощим кошельком, а швейцарцы были требовательны к золоту ничуть не меньше ландскнехтов. И Милан, хочешь, не хочешь, а надо было отбивать, восстанавливая подорванный престиж французской короны. И еще: швейцарцы рвались поквитаться с ландскнехтами. А опытный полководец обязан пользоваться такими моментами.
Боевой дух, подогреваемый личной ненавистью, бывает сильнее любого оружия, любой выгодной позиции и маневра. В таком состоянии солдаты делают чудеса. Тем более, когда речь идет о швейцарцах, для которых честь[28] райслауфера была превыше всего! То же самое можно было сказать и про нас. Ненависть к швейцарцам накалило войско, как ядро накаляют в жаровне перед выстрелом из пушки.
Выстрелом можно было бы считать решительное столкновение, битву, которой обе стороны страстно желали, по крайней мере, на уровне рядового состава. Полководцы, естественно, не испытывали такого энтузиазма, относительно возможного побоища.
Даже наш главнокомандующий, будучи фанатичным ландскнехтом, говаривал не раз: «Дай мне, Боже, сто лет войны и ни одного сражения». Ведь в сражении можно было быстро потерять все. И победу, и жизнь, не смотря на, казалось бы, выгодные условия… А победа вовсе не гарантировала выигрыш войны или, хотя бы, кампании. Риск был огромен, при весьма смутных перспективах выгоды.
Тем не менее, командование осознавало необходимость решительной развязки. Но, до поры, не торопило её. Естественно, это я о французах. Наши вожди: и Фрундсберг и Пескара, в этот миг стремились к бою, ведь враг уже ходил по имперской территории. Но вот враг пока ускользал, выискивая удобных условий и выжидая и подходящего момента. А нам что оставалось? Конечно: маневр и разведка!
Вот и слали во все концы лазутчиков, дозоры и дальние разъезды. И наказ был один: глядеть в оба! Слушать во все уши! Не вступать и не поддаваться (само собой, в боевой контакт и на провокации, ха-ха-ха). Кто первый вскроет положение и маневр французов – награда! Деньги! Золото! И всеобщая любовь, конечно…
Здешние военные не догадались еще, что маленький латунный кругляшок, или, скажем, звездочка, может здорово удешевить процесс награждения. Солдаты рвались бы получить эти копеечные значки. Чтобы иметь, так сказать, зримый, четко определяемый количественный показатель их силы, отваги, доблести, удачи, словом: необходимых для всякого самца качеств.
Но для этого мира идея орденов и медалей была в будущем. А пока мы резвились на зеленых холмах Северной Италии. Красивая земля. Благодарная к людской ласке и вниманию. Приложи руки, любовь, умение и она отблагодарит не хуже смуглой, темноокой итальянской девушки, которые были страсть как любвеобильны. По словам моих коллег, конечно… мне было не до утех.
Я все еще видел перед глазами прекрасное лицо моей далекой Гелиан. Не мог я её забыть. Уроженки местных полей, в самом деле, очаровательные, и главное, не в пример более близкие, не могли вытравить её образ. Или хотя бы заставить его потускнеть и поступиться. А ведь Гелиан отныне была для меня не более чем далекой сказкой, миражом любовной пустыни. Такой же недостижимой, как горизонт.
Я надеялся, что опасности солдатской жизни помогут нарушить баланс ощущений, но напрасно. Память о моей красавице пока уверенно перевешивала все прочие впечатления.
Лотрек и Фрундсберг с Пескарою играли нами, как фигурами в шахматы. Никто не предполагал, что фигурки могут выйти из под контроля, и начать играть самими игроками. Но это я забегаю вперед. Пока все развивалось поступательно и логично. Мы постоянно находили следы вражеской армии, но ни разу не видели её самой.
Лотрек оказался опытным шахматистом. Его войско было больше и лучше оснащено артиллерией. И у него был в запасе ферзь – швейцарцы – весьма весомый аргумент на войне. Но он не торопился. Он изворачивался, как змея, выцеливая и, выжидая, чтобы нанести один неотразимый удар и наверняка вонзить зубы в жертву.
Мы же играли, точнее, пытались играть, партию мангуста, есть тут, говорят, такой зверек, который, будучи меньше змеи, умеет ловко избежать смертоносных клыков и одним движением челюстей перекусить шею ядовитой твари.
Десятки отрядов высылались на разведку. «Вы – глаза и уши нашей армии» – так напутствовал Пескара. Как будто мы и сами не знали. Но любил он напыщенные фразы – не самый большой недостаток.
«Уши и глаза» были разные. От маленьких, но острых «мышиных» буквально в несколько человек, до вполне слоновьих лопухов или совиных зыркал, типа нашего разъезда почти в двести солдат.
Я читал в старых хрониках, что в Европе лет триста назад умудрялись с чуть большими силами целые кампании выигрывать. Да и Адам, мой бесценный приятель, много интересного рассказал, приоткрыв бездонные кладовые своей памяти. Но нынче времена другие. И масштабы другие. И солдаты здорово поменялись. Только смерть все та же, и могилки в полях. Хм… что-то меня после напутствия маркиза тоже на выспренний слог потянуло.
Но про могилки это я не зря. Это прямо моего рассказа касается. Ибо в могилки мы чуть не улеглись дружно все. Шансы были хорошие.
Ехали мы почти трое суток. Не война, а пикник какой-то. Дороги хорошие, прокладывали многие из них еще во времена Римской Империи, когда понимали толк в дорогах. Тепло, погода сухая, есть еда и вино, в кошельках водятся денежки. В селах принимают настороженно, но вежливо. Что еще нужно солдату!?
Я размечтался, что до самого конца войны так проездим. В само деле, так воевать можно! И вроде бы служба идет и война своим чередом, а ты занимаешься конным[29] туризмом и дышишь свежим воздухом. Гы-гы-гы, что особенно заметно, в сравнении со здешними вонючими городами. …Что за «гы-гы-гы»… Я, кажется, начал заражаться от своих товарищей манерой ржать как лошадь по каждому поводу. Вместо привычного «ха-ха-ха» из глотки то и дело стал вырываться необузданный гогот явно местной чеканки: «гы-гы-гы» или даже «бу-го-га!». Заразительно, черт возьми.
В свое оправдание скажу, что расслабился не только я. Даже на многоопытных ветеранов благорастворение воздусей повлияло не лучшим образом. В смысле поддержания воинской дисциплины и бдительности.
То есть, конечно, отряжать дозоры во все стороны и выставлять часовых везде, где только можно, мы не ленились. Но по сторонам народ стал все больше глядеть восторженно, а надо бы настороженно. И в седлах стали с удовольствием дремать, а надо бы без удовольствия и чутко. Все-таки война. Вот так мы чуть не попались. Если бы не дозорные…
Заезжали мы в деревню. Это было немаленькое поселение дворов с полсотни. Общего тына видно не было, и дома другу к другу жались не так чтобы плотно. Аккуратная, почти игрушечная деревенька. И сады вокруг, сады-сады, оливковые рощи – благолепие!
Село стояло между холмов, и когда мы заехали в тень одного из них, оно совершенно скрылось из виду. Спасибо Курту, моему любимому ротмистру, который подъехал к лейтенанту полусписс монсеньеру де ла Ги, и о чем-то долго шептался. После чего отряд остановился, а вперед поскакали несколько расторопных кавалеристов на самых резвых лошадях.
Мы расположились у подножия холма, который правильнее было бы назвать небольшой, пологой горушкой. Он был весь покрыт оливковыми деревьями. Отсутствие подлеска явно выдавало искусственное происхождение высадки, а так же позволяло без труда просматривать рощицу.
Отряд состоял в основном из опытных вояк, да и обучен был неплохо. Все как-то сами без команд встали в полном порядке, не сбиваясь в кучу, по своим десяткам. А кавалеристы – те и вовсе отъехали чуть поодаль.
Строя, как такового, не просматривалось, но было ясно, что в случае опасности, он возникнет в одну секунду. Дежурные отделения, стоявшие впереди, в свою очередь были полностью вооружены. Во всех доспехах, только пики и алебарды покоились в тороках у седел. Таких у нас каждые два часа выставлялось два десятка. Предполагалось, что они, если что, дадут время остальным привести себя в надлежащий вид.
Только вот в это «если что» не только не верилось, но даже и не думалось. Сколько мы уже проехали таких деревень?! И все обходилось.
Я слез с коня, уселся на наземь, и принялся жевать травинку. И не я один был такой. Мы с моим соседом завели шепотом разговор о всякой дежурной чепухе, какая замечательно помогает убить время. Погода, жратва, то есть, конечно, излюбленные рецепты, тяжкая солдатская доля.
Постепенно, к нам подключились еще двое. Мы расселись кружком, для пущего удобства. И правда, когда разговариваешь, пусть даже о пустяках, не слишком ловко общаться с задницей товарища, ведь так? Куда сподручнее с его лицом.
Умеренно сквернословя, мы спорили о способах приготовлениях конины, которую солдатам приходилось периодически кушать.
– Ничего вы не понимаете, товарищи! Конина – не более чем жратва, которой можно утолить голод, если припрет. А вообще – дерьмо.
– Не скажи. Ты готовить вообще не умеешь, потому что дурень, гы-гы-гы!
– Пошел ты! Сам дурень!
– Ага, а готовить все равно не умеешь! Скажи, что не так? А? Что примолк? Скушал хренка? Если конину нарезать тонкими ломтиками, и как следует посолить, а потом завялить… м-м-м-м-м… для пива лучшая закуска! Ну может быть не лучшая, но вкусно очень!
– Конина и жаренная ничего.
– Все верно, в конине самое главное, правильно нарезать. Тоненько – тоненько!
Конь – вот он! Здоровый, жилистый, одни мускулы. Оттого и жесткий очень. Нам ведь когда коня жрать приходится? Правильно! Когда в осаде или на походе голодуха припрет, а в таком случае, какой конь есть, такого и жрешь. Жеребенка не больно-то раздобудешь, где его взять? У него мясо нежнее должно быть. Во-о-о-от, так что дашь дорогому товарищу алебардой промеж ушей и поминай как звали. Потом главное – правильно приготовить. Тонко нарезать и отбить, как следует. И под пиво отменно идет!
– Ну ты, на хер, сказанул! Ты себя слышишь вообще? Ты когда видел, чтоб люди в осаде так развлекались: «конина под пиво, не изволите ли?» Твою мать, слушать гадко!
Прошлый-то раз помнишь, крыс жрали сырыми, только поймай! За счастье было! Лишь бы ноги не протянуть. И ты жрал, гурман, твою мать!
– Не занудствуй. Я про сам подходец говорю. Любая хавка, она подходец любит. Если подходец есть, то и конина в руках знающего человека заиграет.
– Ну может быть.
– Не спорьте, братцы, – это я подал голос, решив блеснуть, – у нас, благослови Бог нашу землю, конина не принятая обычно еда, вот и все. А есть на востоке и на юге народы, которые в седлах живут. Кочуют с места на место. Так что вся жизнь на коне проходит…
– Это вроде как гребаные цыгане? Ненавижу цыган.
– Вроде того. Так вот, у них кроме конины вообще иногда бывает в рот положить нечего…
– Бу-го-га-га, а бабы у них красивые, слышь, студент? Если красивые, так я б им всегда нашел, что в рот положить, гы-гы-гы, – все заржали, не хуже тех самых коней, которых так живо обсуждали. Сами обсуждаемые предметы мирно щипали травку и укоризненно нас разглядывали своими влажными, неподражаемо выразительными глазами, словно понимая, о чем мы ведем речь.
– Не знаю, про ихних баб подробностей, не знаю. Так что они научились здорово их готовить…
– Кого? Баб? Гы-гы-гы!
– Гы-гы-гы!
– Тише, твою мать! Не на прогулке, сучьи дети! – шикнул Курт, растянув, правда, физиономию в широченной улыбке. Ему было интересно и явно весело.
– Нет! Конину! Чтоб я сдох! Вы гоготать будете или слушать?! Короче, конину так можно сварганить, что и сырая будет просто блеск. Что эти номады делают?
– Кто, кто?
– Какой же ты тупой, все-таки! Ну, кочевники, которые вроде как цыгане! Короче, нарезают конину тонкими полосками, тут ты прав, – кивнул я первому ландскнехту, – и кладут под седло. Прям под потник, лошади на спину. Это с утра. Весь день лошадка скачет и человек, значит, жопой об седло бьется, знаете ведь, как это бывает! Лошадка потом исходит, а пот у неё соленый, куда солонее человечьего. А седло, которое весь день от жопяных скоков вверх-вниз ходит, мясо отбивает чуть не в бумажку. А от пота оно просаливается насквозь. Так лошадь сама конину и приготавливает. Сама собой.
– Во загнул!
– Не скажи. Ловко придумано, что б им пусто было! Вот люди, как припрет, до чего только не допрут своей думалкой. Обычно тупые, как овцы, а иногда такое вывернут, что только диву даешься.
– Неплохо бы попробовать… А точно, сейчас завалим в деревне лошадку, нарежем мяса, и всей роте выдадим. Пусть, значит, жопами поработают, гы-гы-гы!
– Ты откуда такое вызнал?
– А читать надо уметь. Не ленился в детстве, не то, что некоторые. И теперь почитаю за честь в умную книжку нос засунуть, – бессовестно соврал я. Всё это я услышал впервые пять дней назад от секретаря нашего предводителя, от Адама Райсснера, разумеется. Мы разговорились на привале, и он поведал много занятнейших диковин. Впрочем, кочевники моего родного мира в архаические времена имели схожие обычаи, хотя и не знали что такое лошади. Так что, я не сильно кривил душой.
– Пауль у нас голова! Что ты со своей башкой в солдатах забыл? Пошел бы в учителя… – и тут нас грубо прервали. Позади раздался бешеный перестук копыт. Прямо с холма во весь опор, низко пригнувшись к гривам, на нас летели дозорные. Резко осадив возле командира, они принялись что-то наперебой объяснять, размахивая руками в полнейшем возбуждении. Монсеньер Марк повернулся к своим, и отдал короткий приказ. Его мы хорошо расслышали: «Alarm!» – вполне прозрачно.
Мы, наконец, нарвались!
Никаких дополнительных вводных не требовалось. Все бросились распутывать седельные сумки и мешки, извлекая на свет божий латы, снимая с седел оружие. Господи, неужели началось?
Началось!
Не прошло и пяти минут, как вся наша рота уже стояла в полной готовности. Хвала Создателю, что «германская заклепка»[30] так здорово продумана. Даже одному, без помощи пажа, одеваться удобно и легко.
Сперва, горжет на шею – раз! А к нему уже пристегнуты руки – два! Потом кирасу лямками через горжет и на талии ремнем схватить – три! А к её подолу заранее пристегнуты набедренники – четыре! Ремни на налокотниках застегнуть и наручи на кнопку захлопнуть, а это дело двухсекундное – пять! Набедренники ремнями сзади застянуть – шесть! Шлем на голову – семь! Перевязь с мечем и кинжалом на бедра – восемь! Рукавицы (у кого они раздельные с наручами) на руки – девять! Пику, или что там вместо неё в лапы – десять. И все. Готов убивать!
Мы споро построились по отделениям, когда к нам подъехал ротмистр. Лицо его было злое и перекошенное.
– Парни! В деревне – засада! В рощице слева – спрятан секрет. Рыл под сорок. Сколько в деревне – неясно. Не меньше сотни. За деревней – конница. Два – три десятка! Дозорных наших не заметили, вроде бы. Сейчас мы им будем делать сюрприз. Значит так. Строимся. И бегом в лес. Коней там оставим. Вилли! Пять коневодов из молодых на тебе. Дойдем до конца рощи и шагом выходим, направление – деревня. Вперед шагов двести, смещаясь налево, пока не зайдем за уровень рощицы, где секрет. В это время конница обходит их стороной с тыла. Когда, они наваляться на секрет, я командую: налево, и все идем рвать гадов в засаде. Пока еще из деревни до нас добегут! А там – по обстановке. Всё ясно?! Тогда вперед!
– Погоди, Курт! – сказал кто-то из капралов, – у тебя бартель[31] не застегнут, пропадешь из-за дурости! Ротмистр пошарил железной клешней у шеи, пробормотал благодарность, и что-то поправил. После чего спешился, взял алебарду и встал на правом фланге нашего построения. Конница, между тем, колонной по два на рысях уходила в обход холма.
– Когда жабоедов почистим, примемся за село! Если хоть одна сука местная с ними – всех перебьем, а деревню пограбим! – воззвал господин ротмистр, после чего, воинственно потряс алебардой и скомандовал: Впере-е-е-е-е-д бего-о-о-о-о-м марш!
И мы побежали. За нами поспешно суетились коневоды, выделенные расторопным капралом Вилли. Как они пятеро управятся с сотней коней, я тогда не думал. Я вообще не думал. Я дико боялся.
Рота взошла на холм и остановилась. Впереди лежала деревня, такая мирная, и уютная.
– Внимание! – подал голос Курт, уже нисколько не скрываясь. – На поле марш! – лязгая латами, ландскнехты выбежали из под покрова оливковых деревьев и быстро построились. По команде равнять ряды капралы принялись сбивать линии древками алебард, в преддверии драки отдавая последние наставления и отпуская соленые шуточки.
Я поводил руками, проверяя очередной раз, нормально ли ходят наплечники, не заклинит ли их в самый решительный миг. Мои товарищи занимались приблизительно тем же самым, с небольшими поправками на другие детали снаряжения. Кто-то тревожился за набедренники, кому-то вдруг перестало нравиться крепление шлема к горжету.
Сто двенадцать солдат стояли плотным строем: впереди три ряда пикинеров со своими страшными длиннющими орудиями убийства, за ними – четыре ряда алебардистов, вооруженных разнообразно.
Больше всего было, конечно же, алебард, но встречались и глефы, и кузы, и редкие гутентаги. И двое несли двуручные мечи, в том числе ваш покорный слуга. Мое место было в четвертом ряду на левом флаге.
В случае чего мой неотразимый клинок должен был прикрыть угол строя – самое уязвимое его место. То есть, по замыслу начальства должен был, а что получится на самом деле, еще предстояло выяснить. Меня так трясло, что я рук не чувствовал. В настоящий момент, ценность моя военная стремительно приближалась к нулю. Тут чья-то тяжеленная лапа ударила меня по плечу, да так неожиданно, что едва не подпрыгнул.
– Не трясись так, – я обернулся и увидел обнадеживающий взгляд алебардиста Ральфа, с которым был немного знаком еще по памятному мне походу к Мюнхену. – Сейчас мы им всыплем! Если что – я рядом, помогу.
– Оружие к но-о-о-о-ге! – и сто двенадцать человек со смачным хрустом вонзили подтоки в землю возле правых стоп. – Оружие на пле-е-е-чо! – сто двенадцать древок и клинков разом рванулись вверх, чтобы потом с шумом и звоном упасть на облитые сталью плечи. – Вперед шаго-о-о-м марш!
Казалось, слитное движение, в которое пришла вся рота, дружный удар сотни башмаков в землю, выбили слабость из моего сердца и дрожь из рук. Я шел в свой первый бой, со мной шагали мои товарищи. Шагали как один, чтобы победить или умереть.
Когда я понял, что не один, когда я ощутил этот единый порыв, чёрт возьми, мне стало легче! Я словно забыл про себя, перестал думать о своем существе, слившись с многоруким телом моего отряда. Только теперь до меня дошел смысл бесконечных строевых упражнений, которые отучали мыслить самостоятельно и превращали тупейшую совместную маршировку в своего рода ритуал.
Тело работало самостоятельно без участия головы. Ноги сами отбивали такт, выполняли команды капралов, которые резко выкрикивали все, что приказывал ротмистр, руки придерживали длинный клинок меча на плече. Я даже перестал обращать внимания, какой жалкой горсткой смотрится в поле наша сотня.
Между тем, мы добрались до того невидимого рубежа, от которого и начиналась тактическая задумка наших командиров. В рощице слева, вдруг раздались вопли и лязг железа, иногда заглушаемые редкими выстрелами. В секрете сидели аркебузиры! Повезло же нам!
Если бы по строю отработали все сорок аркебузиров, или сколько их там пряталось, пришлось бы солоно. Стрелков-то у нас совсем не было! Но неожиданный удар конной роты спутал врагам все карты. Они не ждали атаки с тыла, и теперь, судя по доносившимся звукам, наши спасители занимались резней.
– Правое крыло вперед марш! – заорал ротмистр, разворачивая строй, и мы дружно ломанулись в коварную рощицу, горя справедливой местью. Особенно это касалось левофланговых, которые при другом раскладе поймали бы первые пули.
– Оружие к бою! Пики вперед! – и мы разом ворвались под тень деревьев. Работы для нас почти не осталось. Полусписсы полностью реализовали убийственный потенциал внезапного нападения с тыла. Стрелки не могли ничего противопоставить внезапному натиску шести десятков копий и клинков, которые внезапно обрушились на их спины и головы. Когда я, тесно сжав зуба и выкатив глаза, приготовился к смертоубийству, оказалось, что схватка выиграна.
Всю землю устилали изрубленные трупы. Справа вязали немногих пленных. В центре несколько отчаянных голов попытались пробиться из ловушки, в которую вдруг превратилось их укрытие, но что они могли сделать против пик тяжелой пехоты?! Время для меня замедлилось, и я с небывалой четкостью видел, как опускаются стальные граненые наконечники, вспарывая кожу, сукно, протыкая кольчуги, буквально вынимая жизнь из тел наших визави. Не успел я выдохнуть, как еще с десяток трупов разлеглись на земле рядом со своими товарищами.
Не ушел никто.
А события развивались своим чередом. Они буквально галопировали! Стоило посмотреть на поле перед деревней, как в моментальной вспышке озарения во всей незатейливой простоте открылись замыслы наших и вражеских командиров.
Из села спешно выбегали смуглые горбоносые люди и строились в боевой порядок. К ним спешили примкнуть несколько десятков конников, скакавших с обратной стороны деревни.
Видимо, французы попрятались за домами, поджидая наш беззаботный отряд. На всякий случай, в рощице посадили человек сорок аркебузиров, которые должны были подождать, пока мы их минуем, и начать палить в спины.
Далее, мы побежали бы под защиту стен, спасаясь от пуль, где нас по одному и взяли бы пехотинцы. Всех остальных на поле легко переловила бы конница, довершая разгром. Простенький план, но если бы не бдительность дозорных, мы бы точно попались, учитывая настроения, владевшие нами всего четверть часа назад. Господи, всего четверть часа, а кажется, что мы тут уже целую вечность!
Замысел наших командиров был не сложнее. Пока секрет не сообразил, что его позиция раскрыта, запустить с тыла конницу, а потом навалиться всей массой пехоты. Избивая стрелков, мы неминуемо подставляли тыл и фланг деревенским сидельцам. Они просто обязаны были ударить, хотя бы ради спасения своих товарищей. Но тогда французы лишались выгодного расположения среди домов, подставляясь под удар.
Словно подтверждая мои догадки. Курт, надрывая глотку, заревел:
– Марк! Давай быстро выводи кавалеров! На фланг! Быстро! Ста-а-а-а-новись! – это уже нам. Равняйсь! Оружие на пле-е-е-чо! Левое крыло вперед бего-о-о-м марш! – что рота послушно и выполнила, выходя фронтом в поле прямо перед французами, лихорадочно сбивавшими ряды для атаки.
– Сто-о-о-й! Равняй ряд! – это правильно, это я уже понял. Пехота бегом правильно атаковать не может. Только шагом и плотным строем. Иначе от всех наших пик толку не будет. А команды сыпались своим чередом: – Оружие к бою! Пики вперед! Впере-е-е-д марш! Благодаря нашему развороту строем, что так умело и вовремя предпринял Курт, французы оказались углом построения прямо перед фронтом и спешно теперь пытались спасти положение.
Было их немного, пожалуй, даже меньше нашего. Вдоль флангового фаса бегал офицер в полированной кирасе и глухом армэ[32] с поднятым забралом. Он что-то кричал и повелительно размахивал огромным боевым молотом. Видимо пытался успеть повернуть фронт своей роты, не потеряв равнения.
Мы не дали ему такой возможности. Вновь заработали пики, и рыхлая масса французской пехоты начала стремительно разваливаться. Я во все глаза смотрел на страшную жатву моих соратников. Понятно, почему их называли «двойными солдатами»! Пикинеры первых рядов этого звания заслуживали.
Нарочито медленно они посылали вперед свое оружие, наваливаясь затем всем весом. Эти неторопливые движения раз за разом находили щели в латах противников, буквально выкашивая их ряды.
Вот пика летит вперед, к горлу вражеского солдата, я вижу, как он резко подбивает древко своею пикой, с торжествующим рыком пытается возвратить укол и тут торжество и ярость сменяется безмерным удивлением; он смотрит как из его подмышки, прямо из проймы кирасы, торчит ландскнехтское древко, которое держит в руках боец второго ряда! Тот успел поразить француза подмышку, когда он бросил оружие вверх, отбиваясь от первого укола!
Алебардистам пока не находится дела, но мы стоим наготове, чуть наклонив оружие вперед. На противоположенном конце строя мелькают алебарды, наконец, и до них дошла очередь. Видимо, нас попытались обойти с фланга. И тут внезапно всё заканчивается. Марк де ла Ги быстро смял малочисленную конницу врага и теперь ударил в тыл французской пехоте, направив своих полусписс по главной улице деревни. Они даже развернуться не успели, как в спины врезался стальной таран кавалерии.
Полная победа.
К нам подбежал ротмистр Курт Вассер с окровавленной алебардой и забрызганной кровью кирасе. Весь его властный облик дышал свирепой радостью.
– Ну как мы их раскатали, а?! Ни одного убитого у нас! Ты представляешь?
– Так это гасконцы, – рассудительно заметил капрал, – чернорожее, черножопое носатое дерьмо! Вспомни как под Равенной они от испанцев драпали, пока мы бились?
Не зольднеры, а мышиный помет. Тьфу!
– Ага. Но как я их из деревни выманил?! Ну не молодец ли я! – Тут его взор и голос вновь обрели металлические командные нотки, он опёрся на алебарду, обвел стальным перстом весь ряд и приказал: – Так, хорош зубы скалить, дело еще не сделано. Вили! Ваша команда считай, что и не подралась, поэтому, хватай свой десяток и прочеши деревню. Вдруг кто прячется. И молодых возьми с пяток. Да, и нашего мастера меча тоже, пускай отрабатывает двойное жалование. Пауль! Слышал?
Я слышал. Капрал показал жестом место подле себя и пошли в деревню. Село было пусто. Судя по всему, жители в полном составе попрятались в окрестных лесах, испугавшись предстоящего боя. Все дворы, стояли покинуты. Следов грабежа видно не было. Одно из двух: или просто французы не успели пошарить среди чужого добра, или крестьяне им добровольно помогали.
Я поделился сомнениями с капралом.
– Конечно, помогали! – ответил он, – сукины дети! Они легко могли нас предупредить! А они что? А они просто попрятались. Французы в это время домов не тронули. Это что значит? Это значит, крестьяне точно сообщили мессирам, что сюда шагает наш отряд. И позволили сесть в засаду. Вот они в благодарность и не стали грабить. Вот сволота?! Еще бы чуть-чуть и мы по их милости кишки бы в рубахи собирали. Зла не хватает. Ну ничего, мы их тоже отблагодарим по свойски. Кого найдем – приколем, что сможем унести – унесем, а дома – подпалим. Пусть вспомнят ландскнехтов, суки! А то позабыли, видать, с кем дело имеют!
Так мало-помалу мы вчетвером добрались до крайнего двора. Два солдата полезли проверять дом, а мы с Вилли зашагали к сараям.
Ну кто мог подумать, что сюрпризы на сегодня еще не исчерпаны?! Бой позади, солнце светит, на поле вяжут пленных, сортируют трофеи, перевязывают раны, мы проверяем последние закоулки, что может еще случиться?! Оказалось, что может и очень даже.
Капрал, обходя сараюшку, повернулся спиной к его раскрытой двери. И тут из темноты на него метнулась стремительная тень. Я так и не снял шлема, поэтому не мог видеть, что именно происходит сбоку от меня. Просто я среагировал на движение и резко полоснул двуручником в сторону.
Длинный клинок затрепетал, замерев в закрытой секунде[33] далеко за спиной, а я пружинисто присел готовый к драке. Вилли запоздало шарахнулся, поднимая ненужную уже алебарду.
И тут я, наконец, разглядел, кого же я так роскошно подсек. Безымянная мишень превратилась в человека, а точнее в высокую худую девушку, которая стояла перед дверью сарая на подламывающихся ногах с воздетым над головою мечем бастардом[34], который тщетно силилась обрушить на то место, где миг назад маячила бестолковая голова капрала.
Клинок достал её самым кончиком, поэтому она была до сих пор жива. Холодное острие наискось рассекло живот, и теперь её простое суконное платье стремительно темнело от крови. Девушка, казалось, никак не могла понять, отчего вдруг руки перестали её слушаться и что случилось с её быстрыми и сильными ногами, которые больше её не держат. Она медленно повернула голову, как-то тихо, по-птичьи, вскрикнула и медленно осела наземь, обнимая меч.
Тяжелое мужское оружие странно смотрелось на фоне тонких пальцев и узких изящных запястий. Страшно располосованный мною живот выпустил на свет Божий кишки и целый водопад крови.
Девушка беззвучно плакала, по смуглому её, быстро сереющему личику, катились слезы. Я отчего-то отметил, что крови льется больше, чем слез, как будто могло быть иначе. Наши глаза встретились: мои серые, ничего не понимающие, и её – большие и черные, исполненные боли и страдания.
За что, за что, Господи, буквально кричали они. Бездонные, красивые и неотвратимо угасающие.
Ужас мой трудно было описать. Что же я натворил?! Хладные пальцы страха и стыда страшно скрутили мое нутро, совершенно лишив воли и сил. Я даже шевельнуться не мог, так и окаменев в грозной боевой позиции.
Я все смотрел и смотрел на загубленную мною молодую жизнь, которой не место было среди грязного двора, лужи крови и кишок, выползающих из-за преграды изуродованной плоти. Откуда, ты здесь, Боже мой, что за злая воля подставила тебя под разящий удар безжалостной стали!? Как ты оказалась, среди смерти и гнева злых мужиков, играющих в свои опасные и бессмысленные игры? Искал ли я ответ в темных озерах её глаз, а может быть пытался найти там оправдание? Трудно сказать.
Одна только мысль билась в моей душе, одно желание, абсолютно несбыточное и неуместное; как я хотел, чтобы моя голова оказалась на пути её меча! Чтобы все тревоги этой проклятой жизни разлетелись на куски в одной молниеносной вспышке очистительной боли! Трусливая, подлая мысль, но отогнать её я не мог, сраженный нечаянным злодеянием своим. Я не сразу понял, что вокруг толпятся десятка два солдат, и, что со мной кто-то разговаривает уже некоторое время.
Я с трудом вырвался из аутичных глубин апатии к настоящему нашему такому жестокому миру, опустил меч и выпрямился. Прямо передо мной стоял вездесущий ротмистр Курт. Когда его сюда принесло?
– …роший удар, молодец! Чисто сработано! С почином тебя, братец! Подрезал, значит, вражьего меченосца!
– Гы-гы-гы, – заржали вокруг сразу несколько ландскнехтов. Оказалось, не вовремя и неправильно они истолковали начальственную реплику. Не осознали важности момента. Бронированный кулак ротмистра сшиб с ног ближайшего.
– Ты что гогочешь, сучий потрох?! Эта тварь сейчас чуть не отправила к чёрту хорошего солдата. Твоего капрала! – он схватил ошарашенного бойца за ворот бригандины и рывком притянул к себе, дыша тому в лицо свирепыми проклятиями: – ты, козлиное дерьмо, хочешь чтобы твоего товарища вот так завалили? Чтобы драная шлюха, да по затылку, так?!
– Н-н-н-ет…
– Ты, сука, где был, а?! Почему командира бросил?!
– Я-я-я, там…
– Молчать! Ты, выблядок, запомни навсегда: сам подохни, а брата прикрой! И если командира прихлопнули, значит, ты виноват! Понял, сука?! Понял, я тебя спрашиваю?! Что блеешь, как овца?!
– С-слушаюсь, герр ротмистр…
– Не слышу, твою мать! Ни хрена не слышу!
– Слушаюсь, герр ротмистр! – гаркнул молодой ландскнехт, зеленый новобранец, прочесывавший с нами деревню. Что и требовалось. Воспитательный процесс закончился.
– Вот так то. – Курт отпустил спавшего с лица солдата, боявшегося его куда больше гасконцев, с которым только что сражался не на живот. – Иди, морду помой. В кровище весь. Вилли! – позвал он капрала. – Я надеюсь, что ты выводы сделаешь верные?
– Какие вопросы? Пауль, ты меня от позорной смерти спас. С меня кувшин лучшего пойла, что только смогу добыть. Дай время, отблагодарю по-свойски. И откуда вообще эта курва взялась?! – фразу он завершил резким недвусмысленным жестом в сторону девушки, что отходила у сарайчика. – Слышь, сходи посмотри, что там в этой развалюхе? Может там еще кто? – направил он одного из своих солдат. В это время Курт всем телом развернулся ко мне:
– Теперь ты. За Вилли – спасибо. Он хороший воин, и такой конец не по нему. – Ротмистр крепко стиснул мою ладонь. – Далее. Ты дельце не докончил, не находишь? Эта прошмандовка – твоя. Давай, кончай её. – Он перехватил мой недоуменный взгляд, полный ужаса и отвращения к самому себе. – Не трястись! Ты на войне, солдат! Тут убивают, как ты заметил. Всякий с оружием в руках – враг! А с врагом разговор один – меч в пузо.
– …Да я… уже…вот… это же девушка… – пролепетал я.
– Да хоть бабушка! Она едва Вилли не уходила! Получила по заслугам. Только не все, что причитается. Давай теперь, исправляй упущение.
– Как же… как же… так, я… – язык меня не слушался, как, впрочем и руки. Если бы какое-то чудо исцелило поверженную воительницу, она могла бы легко меня выпотрошить, я бы даже не шелохнулся.
– Не мямлить! – рявкнул Курт. – Как обычно! У тебя оружия, как шишек на ёлке! Разберешься как! Чучела соломенные в лагере знатно кромсал, и тут разберешься! Ничего сложного. Ты всё умеешь! Да-а-а-а-вай, сукин кот! Убей эту шлюху! Прямо сейчас!!! Делай!!! Да!!! – заорал он мне в лицо, слегка приседая, и тряся головой, – Коли суку! Выпотроши до конца, отрежь башку и сиськи отрежь!!! Твою мать, говно кошачье, свинская собака, ослиный хер!!! Убива-а-а-а-й! – тут господин ротмистр неожиданно заговорил совсем тихо и даже ласково, обняв меня за шею, так что его рифленая латная рука скрипнула вороненой сталью по моему горжету. – Парень, так ей же больно. Посмотри, как она мучается. Не хотел бы я так отходить с выпущенными кишками. Так ведь можно долго помирать, я знаю. Смотри, как ручкой сучит, ты смотри, смотри! Потрошки с земельки собирает. В животик вернуть пытается… помоги ей. Добей. За что ей вот так-то… тебе не жалко Божью тварь, а? Хрен знает, что её принесло, может её гаскончик какой хорошо трахал, а мы их сегодня мно-о-о-го положили, так она отомстить решила? Так мы это понять можем, за такое презирать нельзя, не-е-е-ет. Подари легкую смерть, не мучай. Ты же не жестокий человек, Пауль, я же вижу. Или тебе вот так убивать нравиться? Чтобы долго-долго жизнь уходила? По капельке? – Курт отпустил меня, совсем ошалевшего от тех кошмарных вещей, что изрекал его медоточивый, тихий голос.
Он отошел на два шага и присел возле натужно корчившейся в пыли молодой крестьянки. Помолчал. Посмотрел на неё, нежно гладя густые черные волосы, худенькие щеки, длинную сильную шею, на которой, слабея с каждой минутой, билась синяя жилка. Потом его взор вновь впился в меня, как-то просветлев и исполнившись понимания. Голос его обрел былую силу и звенел от восторга, причем, невозможно было понять издевается он или говорит серьезно:
– Слушай, брат! А может ты не о том вовсе? А я, болван и не понял? Ты её трахнуть хочешь напоследок, так? Чтоб значит последнюю радость подарить? Чтоб, значит, вспомнила напоследок своего гаскончика, если вообще был такой? Или чтобы улетела душенька на небо и всем там рассказала, что у нас у ландскнехтов хрен куда как лучше французского? – тут он снова вскочил и подошел ко мне, потирая ладони, одетые все еще в боевые рукавицы, отчего раздавался то и дело нервический стальной скрежет.
– Ну, это я понимаю! Ну, молодец! Настоящий солдат! У меня самого после боя такой стояк, что штаны рвутся. Иногда, кажется, дерево в дупло поимею, честное слово! А тут девка молоденькая! Теплая! Живая! Пока ещё. Не рожалая, видать, так что дырочка узенькая, такую драть ой как приятно! – он обвел глазами полукруг солдат, подкрутил усы. – А что, парни, Пауль то наш, совсем не простой мужик! С понятием. Ну, давай, чего встал? Распускай гульф, и засаживай ей. Давай, мы посмотрим. А там и сами пройдемся. Или ты один хочешь? Имеешь право, девка твоя по всем понятиям. Трахни её, трахни. Это ничего что кровища, так даже веселее! Что-то ты бледноват, приятель… что, все к херу отлило? Стояк мучает? Так спусти лишнего, не бойся, это приятно. – Он снова взял меня за шею, на этот раз двумя руками и жарко зашептал, растягивая слова: – Ну что, голубок, теряешься? Хочешь – запрыгивай! Вставь ей! Хочешь ведь? Хочешь? – я был почти без памяти от ужаса, стыда и гадливости, ошметков воли моей хватило только чтобы судорожно сглотнуть и отрицательно потрясти головой.
– А раз не хочешь. – он даже не закричал – завыл: – так добей сучку, чтобы не мучилась!!! Ты, тварь, что слепой?! Не видишь как ей больно?! Кишки наружу!!! Зарежь её, или потом гореть тебе в аду и будь ты проклят!
Я неверною рукой освободился от железный куртовых объятий и подошел к распростертой жертве. Ноги подкашивались, перед глазами плавали разноцветные пятна. Против желания глаза мои снова встретились с глазами несчастной.
Я содрогнулся от страшной, нечеловеческой бездны страдания, что излились в меня оттуда. Какие бы грехи она не совершила, в этом персональном чистилище под ногами жестоких наемников она искупила всё сторицей.
Губы её слабо шевельнулись. Раз. Другой. Наконец, девушка смогла выдавить из себя хриплый шепот. Моих скудных познаний в итальянском вполне хватило, чтобы понять: – убей, убей, убей, убей, – шептала она, содрогаясь в рыданиях, а я шепнул в ответ: – прости, прости меня, если сможешь, прости…
И поднял спадон.
Твёрдая, бездушная сталь широкого пассаусского клинка с хрустом вспорола податливую плоть под левой грудью и уверенно нашла сердце. Девушка, чьего имени я не знал и не узнаю никогда. Девушка, которая неизвестными путями рока попала между жерновов войны, последний раз мучительно изогнулась, вздохнула облегченно и умерла.
А с ней умер и я. Студент Академии, веселый завсегдатай разудалых пирушек, немного мечтатель, писавший когда-то неплохие стихи, любимец женщин, любитель задушевных бесед в хорошей компании, добрый и незлобивый человек Этиль Аллинар умирал на чужой земле, содрогаясь от вонючей желчной рвоты, стоя на коленях перед телом убитой им крестьянки.
А когда я, наконец, перестал блевать, с колен поднялось совсем другое существо. В моей бесполезной шкуре отныне жил Пауль Гульди, ландскнехт Его Императорского Величества Карла V повелителя Священной Римской Империи Германской Нации, прямой и жесткий, как двуручный меч.
– Вот теперь, молодец! Так бы сразу! – подал голос Курт Вассер. – А то мытарил тут всех. Я уж думал самому придется доколоть бедняжку. Между прочим, знаешь, что она в сарае прятала? Там арбалет лежал, вот так-то! Только тетива у него лопнула, ей пришлось за меч взяться. Если б не тетива, тут бы конец нашему доброму капралу Вилли! – он запрокинул голову и разразился заразительным смехом, который дружно подхватили солдаты, стоявшие вокруг. Так они и смеялись, выпуская напряжение, скопившееся во время атаки. А Курт, Курт увидел мои глаза и то, что он там узрел, заставило его поперхнуться и замолчать.
Он внимательно, по-новому смотрел на меня, отдаленно понимая, что со мной произошло. Я же сплюнул едкие остатки желчи, вытер рукавицей подбородок, закинул на плечо мой верный спадон и зашагал прочь.
На войну.
Глава 5 Имперская армия сражается при Биккока, а Пауль Гульди становится настоящим ландскнехтом
Совсем немного времени прошло после того, как наш отряд разделался с засадой в деревеньке. Собственно, времени прошло не более трех часов, когда к нам прискакал на взмыленном коне посыльный от самого Георга фон Фрундсберга.
Он успел выпростать флягу с разбавленным вином, после чего задыхающимся голосом передал приказ быстро возвращаться в расположение армии. Все разведывательные и дозорные части отзывались, ибо нужда в них отпала сама собой: французы обнаружились, так как скорым маршем двигались к Милану, а значит, сражение превратилось из туманной перспективы в неизбежный факт ближайшего будущего. По его словам выходило, что всё войско неприятеля находится в двух дневных переходах, и что нам следует поторапливаться.
– У мсье Лотрека вышли денежки, или лопнуло терпение, – прокомментировал новости Марк де ля Ги и кровожадно расхохотался. После чего мы принялись «поторапливаться», а что еще оставалось?
На резонный вопрос, куда держать путь гонец ответил, пуская коня вскачь, и развернувшись в седле:
– На Бикокка! – и скрылся в вечерних сумерках, окатив нас перестуком копыт, комьями земли и хорошей боевой злостью.
Шутки и песни как-то разом забылись. Мы измучили себя и своих коней, но меньше чем через сутки были на месте.
Лагерь встретил нас суетой и нервными окриками командиров. Для нервического настроения были все основания. Не менее тридцати тысяч оснований сидели, не таясь, всего в двух милях к северу. В лице великолепной французской конницы, венецианских аркебузиров, а самое главное – восемнадцати тысячной массы райслауферов, которые жаждали отведать свежих ландскнехтских потрохов. Всякую мелочь на подобие венецианских конников-страдиотов и гасконской пехоты никто во внимание не принимал, само собой, хоть и набиралось много тысяч.
А вот шестьдесят пять пушек, против наших сорока шести настроения не поднимали. Совсем наоборот.
Утешало только то, что французы тащили с собой не менее десятка тяжелых единорогов для сокрушения неприступных миланских стен и вообще любых стен, что встретятся на дороге. А такие махины не очень здорово использовать в полевом бою.
И все равно, всю ночь саперы наши многострадальные перегораживали дорогу и поле глубоким рвом, земля, извлеченная из которого благополучно укладывалась в толстенный вал высотою по плечо взрослому человеку. Левой своей стороной вал упирался в большой охотничий парк, а правой в ирригационный канал, что тянулся на несколько миль. К слову, сзади имелся мост, возле которого должна была встать союзная миланская армия Франческо Сфорца.
Пушкари, надрываясь, спешили установить свои орудия, страшно ругаясь на вынужденную бессонницу и отсутствие плетеных корзин, что так славно укрепили бы землю перед батареями. Кажется, сама Мать Ночь краснела, выслушивая зверские богохульства и площадную, забористую брань злых, уставших, не выспавшихся «богов войны».
Кругом сновали усиленные караулы. Солдаты спали вповалку, благо погода позволяла. Некоторые дрыхли без задних ног прямо в латах, положив шлемы под головы. Эти несчастные только что вернулись с постов и рассудили, что на пару часов сна рассупониваться нет никакого смысла.
В шатрах командиров выстраивались последние ходы большой партии, которые завтра мы должны были выставить противнику шах и мат. Сквозь тонкие пологи тускло сияли свечи и масляные фонари, никто не спал, нещадно срываясь на адъютантах, посыльных и друг на друге.
Посыльные, надо сказать, летали по всему тревожному лагерю, как мухи на случке, то и дело дергая младших офицеров. А младшие офицеры тут же отыгрывались на фельдфебельско-капральской братии, что немедленно сказывалось на недолгом покое солдат. И так сверху вниз во славу и практическое исполнение воинской субординации.
Георг, наш дорогой Фрундсберг, выскочил из командирского шатра, оставив там своих коллег, и вызвал к себе фельдцехмейстера и интенданта. В обширной его палатке некоторое время метались тени, и раздавалась громкая, бессвязная ругань, которую слышали пол лагеря. Оружейник вышел бледный, а интендант так вообще – высеменил, пошатываясь, закрывая ладонью огромный наливающийся спелой вишней синяк на всю скулу. Ударился, видимо, бедняга, об немаленький кулак вспыльчивого военачальника.
Вслед за ними получили свое пушкари, а потом посыльные собрали пред грозные очи всех гауптманов, чьи головы собрали громы, а то и веские зуботычины.
Взбодрив подчинённых, Георг вернулся в командирский шатер, где держали совет прославленные воины: сеньор Фердинандо д`Авалос маркиз Пескара и мессир Просперо Колонна.
Как шли дела у храбрых наших врагов, тогда еще никто не знал, но вид их необъятного лагеря, изъязвившего ночь оспою тысяч костров, определенно внушал тревогу и уважение. Много позже стало известно, какую баталию дали друг другу в большом парчовом шатре Ода де Фуа виконта Лотрека его хозяин и вождь швейцарцев – бывший крестьянин захолустного лесного кантона Унтервальден Арнольд Винкельрид.
Француз шипел и требовал полного подчинения наемников, а Винкельрид надменно отвечал, что будет биться, как велит честь солдатская и швейцарский обычай. Ему вторил молчаливый и непреклонный рыцарь Альбрехт фон Штайн, оберст бернских наемников.
И сколько не ярился именитый француз, брат знаменитого, но несчастливого воина Гастона де Фуа[35], что так нелепо погиб в минуту высшей своей славы под Равенной, а ничего поделать не мог. Райслауферы не получили жалования в срок, а значит, справедливо полагали себя свободными от всяких договоров.
Собственно, именно они вынудили осторожного полководца к немедленному наступлению, пригрозив, в противном случае, убраться восвояси. Анн де Монморанси, граф де Сен-Поль и Лескан потягивали вино из высоких тонконогих кубков зеленоватого стекла, переглядываясь с командиром венецианских союзников Франческо Мария делла Ровера герцогом Урбино. Тот отмалчивался и прятал в усы сочувственную улыбку, при виде торжества товарно-денежных отношений над рыцарской честью, бедная Франция, о-ля-ля!
Теперь уже, когда прошло столько лет, можно честно признать, что разведка имперцев сработала из рук вон плохо. Жгучий красавец Франческо Мария как его там герцог Урбино и так далее, привел не тысячу венецианцев, о которых докладывал Фрундсбергу его секретарь. Далеко не тысячу. Гораздо больше!
Двести копий страдиотов составляли лишь половину его конницы, да еще полторы тысячи стрелков, да пять тысяч пехоты. Кроме того, с ним шел, горя местью, Джованни ди Медичи, который навербовал в Германии и Италии свой знаменитый отряд. Еще пять тысяч аркебуз!
И если Франческо от прямых ответов о его участии в предстоящей баталии тактично уклонялся, то Медичи сто раз громогласно требовал поставить его в авангард! Еще бы! Надо ли говорить, что Сфорца и его приспешников он люто ненавидел. Герцог же Урбино всем своим неприступным видом давал понять, что доволен скромным местом в арьергарде.
У него были свои резоны. Республика и лично он никаких выгод в предстоящем бою не видели. Только воля старого дожа заставила жирных пополанов[36] развязать кошельки и вложить шпаги в руки наемников. Но дож, прямо скажем, дышал на ладан. Он ведь помрет не сегодня завтра, а с молодым и жестоким Габсбургом ссорится по-настоящему совсем не хотелось. Политика!
Делла Ровера думал больше не о сражении, а о своей юной любовнице, для которой он заказал небывалой роскоши ожерелье у флорентийской знаменитости Бенвенуто Челлини. Что же, если мощь швейцарцев переломит хребет имперцам, то слава деве Марии и святому Георгию. Он с удовольствием добьет врага и пограбит лагерь. Если нет, то погибать и посылать на смерть своих парней он не намерен. О нет, только не сейчас. И ради чего? Ради ссоры этих мужланов? Да никогда, гореть им в аду!
Так, не договорившись ни до чего путного, вожди союзников разошлись. Швейцарцы намеревались ударить первыми, чтобы вся добыча в лагере досталась им. Винкельрид и фон Штайн согласились только подождать, пока пушки разметают вал, а аркебузы Медичи подвыкосят авангард имперского войска. Монморанси должен был принять общее командование над швейцарской пехотой. Понтодорми и Лескан получили предписание смести бронированным валом своей конницы правый фланг имперского войска. Лотрек и Сен-Поль возглавляли центр, а венецианцы формировали тыльную линию построения.
На том и порешили.
Но это все было вчера, а сегодня мы стояли в поле, перечеркнув гранью острых пик дорогу на Милан. Месяцы подготовки, споры и переговоры, интриги, предательства, целые реки золота и серебра – все это теперь ничего не значило.
Все теперь решали простые солдаты. Впереди – мсье и их главные козыри: свирепые швейцарские пастухи. Между нами – поле с ниточкой дороги. Поперёк – девять огромных уступов вала с батареями пушек в вершинах и рвом пять на десять футов у подножья. Затем, курящиеся дымом фитилей роты аркебузиров по пять шеренг в каждой: если смотреть сверху, длинный такой пунктир на пять тысяч стволов. Ну а за ними – мы.
Четыре коробки баталий, ощетинившиеся лесом пик и алебард не хуже напуганных ежей. Три ежа, по четыре тысячи ландскнехтов в каждом, приползи из под Мюнхена, а один ежик был испанский.
Большой откормленный, надо сказать, ежик чуть меньше пяти тысяч солдат. Ему, растопырившему вместо игл новомодные испанские пики, а точнее – копья с широкими, в ладонь, наконечниками с загнутыми назад краями, доверили беречь наш левый фланг. Там же держал флаг маркиз Пескара.
Центр и правый фланг облюбовали людские квадраты ландскнехтов. Стояли мы шагах в пятидесяти от вала, что было разумно. Не ясно ведь куда точно ударят французы крепкими руками своих щвейцарских наёмников. А так, мы имеем шанс везде поспеть, прямо таки в любую точку фронта, без промедления. А там, добро пожаловать в гости! Ха-ха-ха.
Да и от огненно-чугунных жал французских пушек подальше.
Сами атаковать мы не собирались, надо ли пояснять очевидное! Ждали мы, ждали атаки. Ну а в тылу, далеко за пехотным строем развернулась вся наша броненосная конница. Три тысячи германских рыцарей и тысяча испанских идальго.
Вдали за кавалерами виднелся лагерь, окруженный вагенбургом.
Еще дальше стоял городок Бикокка, чье имя сегодня кровавыми буквами будет занесено в книгу истории… а еще дальше ждал трепещущий в страхе Милан, опасаясь мести французов, в случае их победы, или радостного буйства торжествующей солдатни, в случае победы нашей. И непонятно еще чего больше.
Для бюргеров что o-la-la, что Hoсh Keiser звучало одинаково страшно. Да в гробу они видали всех нас и всех наших родственников, если честно.
Сколько раз за долгие века старались императоры прибрать к рукам эту золотоносную землю?! В 1176 году у Леньяно сам Фридрих Барбаросса обломал зубы о ломбардское кароччио[37]! А вот теперь свершилось. То, что не удалось Гогенштауфенам, исполнили Габсбурги. Только что за счастье в этом для простых горожан?
А вокруг на нас взирала вся Европа, без преувеличения.
И играли эту нелепую игру по жестоким правилам: каждый за себя. И один только Бог, как обычно, за всех.
В центре поля, как и положено, раскинул черные крылья на огромном золотом полотнище наглая двуглавая птица с короной Священной Римской Империи. Вокруг развевались на свежем утреннем ветерке пламенные кресты святого апостола Андрея с бургундскими кресалами в углах. Подле знамен замерли барабанщики, трубачи и флейтисты, готовые по мановению властной руки оберста, сыграть бодрый марш, который для многих сегодня прозвучит похоронным гимном.
Как же мы были хороши! Без преувеличений. Не хватало на возвышении мольберта, чтобы Тициан или какой другой мэтр запечатлели нас во всей мощи и блеске, не подпорченном еще пулями и пиками.
Грозно смотрят вдаль пушечные жерла, рядом в полном порядке замерла прислуга. Аркебузиры щеголяют сукном и бархатом, начищенными ремнями бандольеров[38], покрытых черной тисненою кожею, блестящими морионами и каскетами, и конечно, долгими ружьями, среди которых не мало попадается «всепогодных», оснащенных колесцовыми замками.
Ландскнехты, мы то есть, и пехота испанцев – чудо как красивы: густой лес пик и алебард скрывает в тени сияющие кирасы и штурмхаубы доппельзольднеров, бригандины, кольчуги и панцири, причем все это надето поверх шелковых и бархатных вамсов и хозе, которые все прихотливо разрезаны и отделаны златотканою парчой. Ну, это у тех, кто побогаче. Ха-ха-ха, не у всех, то есть.
Как говорят знающие солдаты: в первый поход ландскнехт отправляется босой в рваной рубахе, из второго похода возвращается в шелке и золоте, а из третьего в деревянном ящике. Вот такая нехитрая статистика.
Я стою в левофланговой баталии, укрытой по периметру четырьмя рядами пикинеров. В центре стоят алебардисты и иже с ними, и еще пикинеры, и еще – это главная сила пехоты.
В самой середке знамена, полковой оркестр и наш славный вождь Георг с телохранителями трабантами.
Ровно стоим, как будто строил коробочку неведомый архитектор по линейке с циркулем в руках. Только почему неведомый? Вполне знакомый персонаж: вот он стоит рядом со знаменем. И линеечку с циркулем со всей эффективностью заменили окованные древки капральских алебард.
Фанляйны построены довольно давно, уже почти час прошел, а врага все нету. Я думал про себя всякое нехорошее. Старался не вспоминать, что пока на моем счету единственный убитый враг, да и тот… не будем говорить кто.
А ждет меня и всех нас не мелкая стычка, а побоище, где сойдутся десятки тысяч людей.
А еще я опасаюсь пушек, которые в любую секунду могут пройтись чугунной косой.
А густые наши ряды представляются мне идеальной мишенью.
И еще много я придумал себе таких вот «а».
За час ничего не делания в строю можно такого себе нафантазировать! Не один я мандражирую. Все мало помалу начинают перегорать. Да и латы, казалось бы, не тяжелые совсем и удобные, все сильнее давят на плечи. То один то другой украдкой расстегивает шлем, так что фельдфебелям приходится покрикивать и раздавать пинки.
Сами хранители воинской дисциплины тоже не сказать чтобы свежи и бодры, они тоже люди, и им тоже страшно. И доспехи у них ничуть не легче нашего.
Только старые ветераны в полном внешнем спокойствии, замкнуты в броню невозмутимости.
Оберст под стягом замер серебряно-воронёной статуей, оперевшись на спадон, и не шелохнется. Его пузатая рифленая кираса с мощными витыми в жгут отвальцовками на вороте и проймах, гребнястый и козырькастый шлем, длинные ташки набедренников, наручи и рукавицы сработаны в Аугсбурге самим Кольманом Хельмшмидтом и стоят как средних размеров деревня.
Латы кажутся тонкими, почти жестяными, но я уже знаю, что в них можно стучаться хоть мечем, хоть крепостным тараном, хоть головой своей, ни до чего не достучишься. Поножей и наколенников он не надевает принципиально, подавая пример солдатам – ведь в них неудобно ходить в строю и перебираться через завалы трупов, которые скоро покроют поле.
Однако… наши фигуры на своих клетках, причем давно, а где же чужие пешки и все прочие, что там положено? Против кого играть? У меня зарождается плохая надежда, что французы ушли, и партия отменяется, но я гоню её прочь. Ведь от неё слабеют руки, и уходит внимание. Не успеваю я расправиться с душевными терзаниями, или они не успевают расправиться со мною, как туманная утренняя дымка впереди начинает шевелиться. Кажется, дождались, партия всё-таки состоится, хоть и с запозданием.
Жирная, влажная земля под утренними лучами светила обильно парит, покрыв всё негустым туманом, который теперь закручивается спиралями, расступаясь перед выступающей в поле несметной мощью.
Почва, несильно, но вполне ощутимо подрагивает под согласными ударами двадцати с чем-то там тысячами ног и черт знает каким количеством подкованных копыт. Конницы с моего места не видно, хотя я выше всех моих соседей и имею возможность рассматривать поле через ряды пик первых рядов.
Зато слишком хорошо видно, сколько к нам движется пехоты. Лучше бы не видеть.
Три черных слитка, пока они очень далеко и деталей не различить, но, черт забери мою бессмертную душу, это швейцарцы! Плотные колонны их пехоты медленно и упрямо выступают вперед. Что это между ними? И по бокам? Пушки! Теперь можно видеть среди них несколько очень больших орудий, буквально облепленных прислугой.
– Все-таки они притащили единорогов, – замечает один из моих товарищей, кажется, его зовут Адольф, – наш вал точно накроется маминым местом.
Капрал его одергивает, чтобы он де не пугал новобранцев.
– Сейчас их французы напугают, – ободряюще замечает он, после чего по строю прокатывается волна смеха: га-га-га-га-га-га!
Я хорошо помню рассказ старины Йоса, кстати, вот он стоит в первом ряду с пикой и саблей на боку, как давеча и обещал: весь до ужаса колоритный в полированной старинной кирасе со стрельчатым плакартом[39] и остроконечными ташками на подоле, распахнутом на груди парчовом фальтроке, тканном серебряными львами, из под полей фламандского айзенхута с витой тульей виднеются длиннющие усы, седая борода расчесана и заплетена в две косицы.
Не могу не согласиться с его мнением. Наступали швейцарцы красиво! Колоссальные скопища людей около пяти – семи тысяч в каждой баталии были дивно упорядочены и двигались как один, держа шаг и идеальное равнение. Это не жидкие цепи гаскноцев, которых мы разметали недавно, даже не заметив.
Передние шеренги сверкают сталью, длинные пики неслышно покачиваются на сильных плечах в такт шагам, а за ними виднеются грозные головы швейцарских алебард, которые некогда и снискали им славу непобедимых воинов. А надо всем реют древние знамена неукротимых горцев.
Мои искушенные в геральдике товарищи начинают комментировать открывшийся вид, прикидывая, с кем же предстоит вскоре переведаться, и капралы им не мешают, полностью включившись в этот увлекательный процесс.
Вот епископский посох на белом полотнище – это базельцы, синий пояс перетянувший белое знамя принадлежит кантону Цуг, черно-белый флаг принесли из Фрибура, а красный с маленьким серебряным крестом в углу – из Швица, бело-синий – из Люцерна, красно-белый – из Золотурна. Налитыми кровью глазами смотрит на нас черная бычья голова на желтом знамени – это ребята из Ури, вставший на дыбы медведь на белоснежном поле – из Аппенцеля.
Ну и конечно, самая большая баталия, лучшие воины, лучшие доспехи и самые стройные ряды, над которыми взбирается по золотой косой перевязи на червленом поле черный медведь с тщательно вышитым красным фаллосом – это Берн!
Так на вскидку: сто-сто десять бойцов в шеренге и… у-у-у-у… рядов семьдесят в глубину… и все это работает с точностью часового механизма, который любовно и тщательно отлаживали двести долгих лет в непрерывных войнах, uber Bern ist nur Gott[40], только держись.
Вид этой людской волны завораживает. Смотришь и не оторваться, а она все ближе и готова тебя утопить, причем утопить в твоей собственной крови, розовых мозгах и вывороченных внутренностях. В плен не сдаются и в плен не берут. Это надо крепко запомнить, если встал на пути у бешеных козопасов.
Между тем, спокойно ждать атаки наши командиры не планировали. Заревела труба, грохнула барабанная дробь, и сражение началось.
Изо рва выскочили аркебузиры и широкой цепью быстро побежали вперед. Испанские застрельщики собрались пощекотать швейцарцев и поубавить им пылу. Все три баталии разом встали. До позиций им оставалось пройти больше полумили.
Вот наши стрелки остановились, и цепь разом каркнула, окутавшись дымом: т-р-р-р-р-р-р-р!!!
И еще т-р-р-р-р-р!!!
И еще!!!
Туман распадался рваными полосами, а его место занимали белые дымные клубы. Я много раз видел на учениях, как передняя шеренга разряжает оружие по мишеням и отходит назад, чтобы вновь забить в ствол дымную смерть и сильно посыпать пороху на полку. А в это время стреляет свежая шеренга и тоже убегает назад. Пять шеренг таким способом, что прозывается мудреным итальянским словом «караколле»[41], способны доставлять неприятности с частотой десять раз в минуту.
Но, все равно, что-то слишком часто раздается стрельба! Почти без пауз! И тут в дымных разрывах мы видим, что перед баталиями выстроилась точно такая же цепь и садит по испанцам в упор. Так продолжается несколько минут, минут десять. Да какая разница. С той и другой стороны падают фигурки людей. Первые пешки, что пошли в размен.
До меня доносится возбужденный крик Адама Райсснера, который стоит подле своего шефа:
– Черт возьми, герр оберст, я не я, если это не проклятый сукин сын Медичи! Так надо понимать, что за дело взялись его парни.
– Да! Так! – кричит в ответ полковник, – а сейчас, если ты прав, они пустят легкую конницу и смажут испанцам задницы!
– Шеф! Точно, вот они! Смотрите, с фланга! – на поле появляется новое знамя, на котором вышит фигурный конский налобник с шестью круглыми безантами. Оно быстро выносится из-за крайней баталии, после чего становятся видны шеренги конных латников, которые врезаются в испанских аркебузиров.
– Ну всё. Готово дело, сейчас они их потопчут, – говорит кто-то.
– Ага, а потом и за нас примутся, – соглашается другой голос.
– Скоре бы уже.
– Точно, а то я в своей «заклепке» уже весь затек, ноги болят.
– Да уж, размяться было бы сейчас неплохо.
– Разомнешься сейчас, на хрен. Устанешь разминаться.
– Эй, там! Р-р-р-азговорчики!
– Ладно тебе, капрал, дай языком поболтать, невозможно больше просто так стоять!
– Вы меня слышали?! А ну, цыц! Захлопнули хлебала, а то вы меня знаете, ослы свинские! Уши растопырили, слушаем команд! Сейчас начнется. Лучше снаряжение проверь, кому там заняться нечем.
Я не принадлежал к числу «свинских ослов», в том смысле, что рта не раскрывал, но советом капрала не преминул воспользоваться. Поправил кинжал на поясном ремне, так чтобы рукоять точно на ладонь высовывалась справа из-за наспинной пластины. Так, вроде бы тут порядок.
На перевязи мое чудо оружие, wunderwaffe, так сказать, на которое я возлагал главные надежды в ближнем бою. Меч с клинком из высокомолекулярной полистали и микронной заточкой, привезенный из родного мира. Маленькая связь с настоящей цивилизацией. Проверить легко ли выходит из ножен и не сбилось ли их крепление. Я люблю, чтобы клинок лежал почти параллельно земле рукоятью вперед. Так его выхватывать быстрее и сразу можно нанести удар. И тут порядок.
Ну а двуручник в инспекции не нуждается, благо вот он: пять с половиной футов чистого удовольствия в моей правой рукавице. Еще одно wunderwaffe.
Ну а теперь глянем на поле. Что там делается? На поле делалось следующее: остатки испанских пионеров с неправдоподобной скоростью улепетывали к валу. Так борзо улепетывали, что их даже конница не вдруг догоняла. Причем не один не бросил аркебузы, по крайней мере, я таких не разглядел. Вот дисциплина и выучка!
И свое дело они сделали.
В двухстах шагах перед нашими позициями флаг с веселенькими кругляшками[42] круто забрал назад, видимо не желая подставляться под залп основных сил аркебузиров. А может быть пушек опасаясь, не знаю. Словом, забежали застрельщики к своим. Кто успел. А многие на поле остались.
Медичи увел конницу со стрелками, и снова началось ожидание. Но на этот раз длилось оно всего ничего. На той стороне глухо зарокотали барабаны, и швейцарцы продолжили свой путь. А с ними катились и пушки. Насколько я понимал логику войны, сейчас наступала их очередь. И точно, когда до вала оставалось шагов с восемьсот, баталии вновь замерли, а вперед выкатились французские орудия. А вот теперь-то чего ждут наши боги войны?
А они и не ждали.
На валах началась боевая суета, в ход пошли протравники. Канониры последний раз выверяли углы наклона стволов. Ну что? Настал черед пальников? Кто вперед?
Сигнал первыми успели подать мсье.
Б-у-у-у-м! Взвился двойной столб белого дыма: совсем маленький над затравкой и огромный над жерлом. Черный шар разорвал небо над нашими головами и вздыбил землю где-то позади. Перелет. И что тут началось!
Весь фронт окутался густой желтоватой мглою, по сравнению с которой давешний туман выглядел, прямо скажем, бледновато. Одна за другой в очередь все шестьдесят пять французских орудий плюнули огнем, мон-дьё! Б-ум, бу-бум, б-б-б-у-у-у-м-м-м!!! Сказали пушки, и: ры-а-а-а-а-а, – отозвались ядра, пролетая над позициями. Меня обдало горячим ветром, казалось, что даже под шлемом шевельнулись волосы. Это было громко и страшно. Я сказал громко? Ха-ха-ха, химмельдоннерветтер! Я не знал еще, что такое громко!
– Пасти разинули, или уши лопнут!!! – Надсаживаясь, заорал новобранцам какой-то сердобольный фельдфебель. Его крик подхватили и другие: – Открыть рты вс…
Ра-ра-ра-ра бу-бу-бу-бу-м-м-м-м-м-м!!! Кр-кр-кр-бу-у-у-у-м-м-м!!! Да-да-да-да-да-да!!! Бум!
Черт возьми, как будто сорок пять великанов взяли и ударили в барабан, причем в барабан превратилась твоя голова! Дьявол раздери мою задницу, от макушки до прямой кишки, все нутро перетряхнуло! Это вступила в беседу наша артиллерия. А ведь мы стоим в отдалении, и громородные железные вагины орудий смотрят в противоположенную сторону, майн Готт, что же твориться на артиллерийских позициях!?
Но пушкари были людьми привычными. Как будто не обрушилось на землю только что сто тысяч чертей! Пушка отдачей подается назад. Тут же банник в уксус с водой, что в ведре у каждой пушки, и в ствол его! Чтобы ни одной искры! Потом шулфа с порохом и пыж. Потом угольно чёрный мячик для смертоносной лапты. И еще один пыж, чтобы значит, запереть его в стволе. А потом все это прибойником раз-раз-раз. Сильнее, мать вашу, или что-то подобное, орёт канонир, осипший от порохового дыма. А то выстрел просрём! Потом, он подбивает клин, выверяя наводку, силясь разглядеть цель через пороховую завесу, которая пока еще довольно жидкая, все-таки только первые залпы, то ли еще будет! Протравник в затравочное отверстие, и пороху туда, пороху, не жалея! Орудие готово к стрельбе. Пальники замирают над затравками.
– Feuer! – хочет скомандовать канонир, но:
– Б-у-м, р-а-а-а-а!!! – перебивают его французские коллеги, и он падает в сторону, а точнее сказать в стороны, потому что корпус его валится и летит назад, а ноги еще миг стоят на земле. Ядро же продолжает свой путь, даже не заметив хилой преграды бригандины и человеческого мяса. Со всех сторон грохочет канонада. Дым поднимается до небес, накрывая орудийные позиции.
Готов поспорить, что пушкари стреляют почти вслепую, но все равно торопятся как можно быстрее насытить пространство перед собой несущейся смертью.
Дым заволакивает и нас. Сгоревший порох воняет протухшими яйцами, если кто не в курсе. С тех пор для меня это один из запахов смерти. Такой вот я тогда еще был впечатлительный. Что делается впереди видно плохо. Все аркебузиры ложатся на землю, потому что ядра все чаще вспахивают кровавые борозды в их рядах.
Бум-да-да!!! Бум-да-да!!! Бум-да-да!!!
И-и-и – р-ы-ы-ы-а-а-а… снова визжат над нами ядра. Что то давненько мы не получали гостинцев, видно мсье увлечённо крушили наш вал. Впереди мечутся неясные фигуры пушкарей, взлетают столбы развороченной земли. То и дело пороховая завеса закручивается в спираль, провожая очередное, ра-ра-ра-а-а-а-а, ядро. Тогда в разрывах проглядывает содрогающееся от грохота поле, на котором трудятся в поте лица французские канониры, и неколебимо стоят утесы швейцарских баталий, хотя, надо полагать, им сейчас здорово достается.
А вот этот подарок и впрямь от души! Сразу два столба земли вырастают перед первым рядом и два куска чугуна, делают «лягушку», (если вы играли в детстве в «лягушку», бросая плоские камешки в реку, тогда вы поймете о чем я), и вскакивают прямо в нашу плотную колонну… Во все стороны летят куски мяса и кровь, разорванные внутренности и поломанные пики. Дикие вопли на мгновение заглушают даже орудийный гром.
Здоровенный ландскнехт, подброшенный нечеловеческой силой, перелетает почти до середины баталии. У него нету руки и части грудины. И кровь, кругом кровь.
У меня под ногами лежит чей-то смятый шлем, внутри которого, собранные в неясную кашу, мелкие кусочки черепа, ошметки кожи и розоватая жижа мозга. Всё это насажено на разорванный штырь позвоночника.
– Стоим, стоим, м-м-м-ать вашу, никому не ложиться! – Как труба архангела Гавриила в последний день ревет наш оберст, ему вторят гауптманы и ротмистры. И это правильно. Непонятно ведь, когда в этом дыму зашевелятся швейцарцы, а встретить их атаку лежа очень бы не хотелось. И мы стояли. И я стоял, хотя при каждом новом залпе сердце мое начинало трепыхаться где-то в области желудка.
Бум кр-р-р-р-р-р-р-р, бум!
Бу-бу-бу-бум!
Р-ы-а-а-а-а…
Поначалу, я пытался считать залпы, но после первой дюжины сбился. Снова и снова грохотали пушки, и содрогалась земля. Что там делалось с нашим земляным укреплением, я боялся даже подумать. Это ведь не каменная кладка!
В центре нестерпимо ахнуло и почву буквально выдернуло из под ног, как во время землетрясения.
Страшной силы ударная волна разогнала пороховую хмарь, и в голубеющем небе мы увидели высоко подлетевшие куски лафета и медленно кувыркавшийся орудийный ствол, который закончил полет в рядах центральной баталии, породив в своей гибели целый оркестр жутких воплей.
Надо понимать рванул пороховой припас на позиции. Или французы постарались, или искра попала по недосмотру. Кто знает. Хорошо, что не у нас, так хотелось сказать, и уж точно думалось. Кому охота извиваться от непереносимой боли под тяжеленной железной трубой?
То и дело по земле прокатывались ядра, потерявшие летучее упрямство, но вовсе не растратившие злой убойной мощи. Шипя и дымясь, они вертелись волчками, с обманчивой неторопливостью катясь по земле. Один туповатый и неопытный новобранец, жалко парня, внимательно проследил взглядом за круглым гостинцем… и, выбежав из строя, пнул его ногой. Как по футбольному мячу. Никто даже «ой» сказать не успел. Даже бдительный капрал. И что случилось?
А вот извольте видеть: ядро покатилось в одну сторону, парень в другую, а оторванная по колено нога в третью. И фонтан крови, куда без него. Повинуясь повелительному крику ротмистра, недоглядевший капрал подбежал к визжавшему парню. Коротким движением кинжала он оборвал его страдания. Туда и дорога. Все одно, до конца дня не дожил бы. А если бы и дожил? Нечего калек плодить. Кому он потом нужен без ноги?
Бум-бум-ра!!! Бум-бум-ра-ра-ра!!!
Что-то изменилось в стройном рокоте канонады. Выстрелы стали реже. Почти в два раза реже. Громкие и уверенные бах-ба-бах на нашей стороне больше не перекликались с приглушенным расстоянием уханьем на той. И ядра над нами больше не летали.
Дайте догадаться, что бы это могло значить?
– Шайсе! А ну быстро трое вперед на вал! Что там делается, и ко мне! Марш! – забеспокоился Фрундсберг, и тут же три солдата из его охраны порысили в дым. Через несколько секунд они возвращались. Но уже не рысью, и даже не галопом, а бешенным карьером, крича на ходу:
– Швейцарцы идут! Швейцарцы идут!
Им на встречу, послушные призывному рокоту барабанов, уже поднимались аркебузиры, спешившие внести на остатках вала свою лепту в сражение. Видимо маркиз Пескара оказался не менее предусмотрителен, чем его германский коллега, и слава Богу. Чем больше останется швейцарцев лежать перед валом и во рву, тем меньше их доберется до наших глоток.
Разделяя этот резон, пушкари, сделали казалось невозможное: стали стрелять еще чаще, опуская прицел все ниже и ниже, отмечая, таким образом, путь наших врагов. Прислуга то и дело окатывала раскалившиеся орудийные стволы водой, а они шипели и плевались паром, словно какие-то мифические животные.
– Ну, ребята! С нами Бог!!! – заорал Георг, и его крик подхватили наши ряды, а затем и соседние баталии.
– Готт! Мит! Унс! Готт! Мит! Унс! – раскатывалось над полем, и каждое слово подтверждалось убедительным ударом тысяч подтоков по утоптанной земле.
Я как оглашенный орал вместе со всеми, чтобы только не остаться наедине с подступавшим страхом. Я ведь только один раз видел изнутри настоящий бой и не могу сказать, что мне это понравилось. А то что ждало нас в самом скором времени, с той мелкой стычкой даже близко не сравниться, это я прекрасно понимал. И вот, стоим мы, долбим оружием в землю и кричим всему миру, что Бог с нами.
Интересно, что по этому поводу думают швейцарцы? Наши кличи ведь предполагают, что Бог не с ними. И что мыслит сам Пантократор? С кем он? А это мы скоро точно выясним.
Был здесь такой обычай: «Божий Суд», когда два человека с оружием в руках разбирались, кто виноват в том или преступлении. Кто побеждал, тому благоволил Господь, который в неизреченной своей милости не может жаловать преступника. Вот сейчас, совсем скоро, у нас случится массовое судилище.
Я давеча задал риторический вопрос, что думают швейцарцы о нашем боевом кличе? Глупый вопрос. Вряд ли они нас слышали, это во-первых, а во-вторых, было им не до этого, точно. Под валом имела место генеральная репетиция ада.
Козопасы как раз вышли на действительную для аркебуз дистанцию. Так что на поле сделалось жарко. Слитные залпы ружей и пушек косили, вязали снопы и скирдовали людские тела.
С той стороны, разумеется, активно отстреливались, но пушки им помочь больше не могли, потому что горцы сами закрыли сектор обстрела (и что их так рано понесло в атаку?), а аркебузы били с чистого поля, где негде было укрыться от режущих чугунно-свинцовых волн.
Швейцарцы внушали уважение, что правда, то правда. Они ни на секунду не прибавляли шага, чтобы не потерять строя и сохранить возможность правильной атаки. Они не кланялись выстрелам, а когда товарищей забирала костлявая, что случалось все чаще по мере приближения к нашей позиции, ряды их тут же смыкались, хороня под шагающими ногами содрогающиеся тела.
А ведь их еще ждал ров. И пять футов вала, который нарочно был выполнен уступами, чтобы не дать врагам сохранить единую линию при штурме. Вал наш был далеко не ого-го, много ли сделаешь за ночь, да и французские ядра его покромсали изрядно. Но все-таки – неприятная преграда. Тем более неприятная, что сверху бешено палили без малого пять тысяч аркебуз и сорок пять пушек, хотя нет, не сорок пять, уже несколько меньше.
Райслауферов было очень много. Больше нас. И вела их смертельная ненависть. Что начнется, когда дойдет до рукопашной, страшно было представить. Сколько можно накопить ярости, прошагав полмили под ружейно-пушечным огнем, не имея возможности не только схватиться с противником, но даже разглядеть его толком!?
Опять таки, гасконцы, что шли, как я потом узнал на дальнем фланге, собирали четвертую часть пуль и ядер, что могли бы в противном случае убивать швейцарцев. На это и был расчет. Они хотели в полном порядке добраться до наших рядов, уповая, что превосходство в численности даст им некоторую фору, не позволив стрелкам сократить их «поголовье» до неприемлемых размеров… Ну а в ударе на пиках швейцарцы были абсолютно уверены.
Хлопки аркебуз слились в непрерывный треск, который волнами прокатывался от роты к роте по всему фронту. Вместо одиночного тых-тых-тых над полем торжествующе вился единый тр-р-р-р-р-р-р-р, иногда совершенно заглушаемый могучими пушечными бум-бумами. Но вот пушки замолкли и прислуга принялась спешно оттаскивать их с позиций. От вала прибежали наблюдатели, что должны были навести баталию точно против её швейцарского alter ego.
– Внимание! На ле-е-ево! Вперед шагом марш!
– Раз! Два! Три!.. Десять… Тридцать!
– Внимание! Стой, раз-два!
– Напра-а-аво!
– Впере-е-ед марш!
– Стой, раз-два!
На всем поле баталии разворачивались и выдвигались вперед к измученному ядрами валу. На самом укреплении аркебузиры прекратили залповый огонь, сбили строй и теперь палили прямо в ров, кто во что горазд.
Фрундсберг приказал играть в трубы, сигналя стрелкам отступление.
Было понятно, что атакующих швейцарцев им не удержать никакими силами. А вот паническое бегство аркебузиров, которое неминуемо начнется, как только горцы преодолеют вал могло смешать наши ряды, а это был не тот противник чтобы так рисковать.
Трубачи, надувая щеки, разнесли над полем звонкие, тревожные медно-серебрёные трели, повинуясь которым, офицеры бегом повели стрелков назад, втягивая роты между баталиями. Итак, фронт свободен, пожалуйте, господа!
И господа пожаловали.
Все баталии замерли шагах в двадцати пред укреплением. Мы давали возможность врагам выстроить головы своих отрядов. Чтобы точно знать, что атака будет именно здесь, а не где-либо еще.
Швейцарцы были мастера маневра на поле. Они вполне могли форсировать ров в другом месте, предоставив авангарду связывать нас боем, и ударить основными силами с фланга. Так что мы не приближались. По старинному обычаю, так сказать, предоставив часть поля для неприятеля.
После орудийного грохота стрекот барабанов и плач флейт буквально ласкал слух. И раздавался он буквально изо рва! Чёрт, Матерь Божья, все святые, ну где же они?! И вот…
В страшных брешах, что оставили французские ядра, над остатками вала показались кончики пик, еще, еще, еще, все больше! Сотни и сотни. Фигуры людей, облитые сталью, синхронно и ловко выпрыгивали наружу и тут же сбивали плотные шеренги. Не верилось даже, что они только что маршировали в латах под огнем, лезли на стенки, присыпаемые свинцовым градом. И число их совсем не уменьшилось, на первый взгляд…
Так я познакомился со швейцарцами в первый раз. Знакомство не было приятным, но запомнилось навсегда.
Первая шеренга на поле, вторая, третья, пятая, чего же мы ждем?!
– Видал, сучье семя, с тыла пикинеров вперед перекинули! И как успели только?! – восхищенно прошипел гауптман Конрад Бемельберг, персону которого и оберегал мой спадон. – Их же там пушками покрошить должно было немеряно!
– Внимание! – отозвался центр голосом Фрундсберга, которому, казалось, не нужны были никакие глашатаи, – Равняйсь!
– Равнясь-равнясь-равнясь – прокатилось по строю.
– Оружие к ноге!
– К ноге-ноге-ноге! – звучный стук тысяч древок.
– На плечо!
– На плечо-плечо-плечо! – не мене звучный и очень ободряющий лязг древок о латы.
– Оружие к бою!
– К бою-бою-бою – и грозный шелест тысяч опускаемых пик и алебард.
– Внимание!
– Трам! Трам! Трам-тара-та-там! – размерено отозвались барабаны.
– Впере-е-ед марш!
Не знаю, как описать мои чувства. Все слова бледнеют, просто нет в человеческом языке правильных, верных слов. Это можно только пережить.
Ты на всем огромном поле один одинешенек. Перед тобой тысячи беспощадных тренированных убийц, чьи глаза смотрят только на тебя, чье оружие тянется только к твоему горлу, чья совокупная злобная воля вот-вот раскатает твою жалкую душонку в тонкий блин. Они все идут к тебе одному. С целью искромсать, растоптать, убить. Их очень много. Очень, а ты один. Спасения нету, липкий страх заполняет все существо. Потому что убежать нельзя. Надо шагнуть вперед.
Самый мужественный поступок в моей жизни – этот первый шаг. Все равно, что прыгнуть с замковой башни… вниз, на жесткую и жестокую брусчатку, к неминучей смерти.
Но когда ты делаешь этот шаг… когда я его сделал… я вдруг понял, что я не один! Что со мной сотни товарищей, с которыми делили пыльный плац, ругань капрала, плащ на ночлеге, кубок вина, краюху хлеба. Которые идут с тобой плечом к плечу, тоже сделав этот первый шаг. Которых физически невозможно подвести, предать и бросить на поле. И тогда стрела воли срывается с тугой тетивы души и летит вперед, становясь частицей общего роя, который сливается в единое, всепоглощающее ничто. После этого не страшно.
Смерть – основа любого страха, тебя не касается, ты бессмертен, ведь разве может умереть нечто несуществующее? Ты бессмертен, а значит и бесстрашен.
Конрад Бемельберг выражал те же мысли гораздо короче и проще, как я не научусь, наверное, никогда: «Парни! Вы ландскнехты! Солдат часто убивают, скоро убьют и вас! Но! Ландскнехты пребудут вовеки веков, а значит, и вы не умрете никогда!»
Строй шел на врага, что успел вывести за ров шеренг с десять. Нам досталась самая большая баталия, над которой вились знамена Берна и Унтервальдена, та самая, которой я залюбовался в начале битвы. Очень длинный фронт её потребовал, чтобы и мы развернулись, пусть даже в ущерб глубине формации.
И вот они все ближе. Я вижу оскаленные рты и перекошенные лица, доспехи и одежды, запачканные пылью, а у многих и кровью, кирасы, попятнанные пулями и три ряда наконечников пик. С виду очень острых. А над ними целый лес алебард, глеф и куз, словом, всякого страшного шипасто-угловатого железа.
Мы идем коротким шагом. Семьдесят шагов в минуту или что-то в этом роде. Только не смешать линию, остальное сейчас не важно. Швейцарцы медленно выступают вперед: изо рва выбирается новая шеренга, а все передние делают шаг вперед. Мы сближаемся, всего пять десятков шагов, а как далеко!
Тридцать шагов. Двадцать пять. Двадцать. Флейты и барабаны не замолкают. У врага тоже самое. Пятнадцать шагов. Двенадцать. Десять. Пики уже почти касаются друг друга. Семь.
Две чудовищные расчески медленно схлестывают свои зубцы.
Началось.
Пикинеры встают на месте, почти врастая в землю. Их оружие ударяется о древки неприятеля, чтобы сбить их пики в стороны. Берн и Унтервальден осторожно напирают. Им деваться некуда – надо вывести в поле как можно больше людей, иначе их положение очень невыгодно, они не могут развернуть весь строй, который больше чем на половину остался за валом.
Вдоль всего фронта слышится треск и звон, от соударения шести сотен окованных древок и стальных наконечников. Всё это в полном молчании, только слышится сиплое напряженное дыхание ближайших товарищей. Швейцарцы держат пики коротко, ловко отбивая выпады наших доппельзольднеров, они пытаются все вместе подобраться поближе. Пока нет убитых и раненых, пока мы только разминаемся, но это не надолго.
– Vorwerts marsch! – разносится команда, и звучат свистки фельдфебелей – это бернские командиры решили форсировать события.
Весь их огромный строй как-то разом бросается вперед, насаживаясь на пики, впрочем, это обманчивое впечатление.
Вот тут и началось то, о чем рассказывали старшие товарищи.
Не зря пикинеры примеривались своим оружием. В сближении они отбили почти все пики в стороны без ущерба для себя и теперь уверенно достают наших при каждом уколе. Мы не остаемся в долгу. Треск и звон усиливается с каждой секундой. В симфонию войны включаются первые крики умирающих или раненых, им вторит рык разъяренных солдат, команды и свистки офицеров.
Как непохожи наши новые враги на давешних гасконцев, чьи цепи мы сожрали в считанные минуты, как огонь сухую солому! Нынче легкой победы не жди, да и будет ли она?
Я все вижу. Товарищи колют, как заведенные. Никакого фехтования. Один человек сам по себе ничего вообще не значит. Ты бьешь в строй врагов, он бьет в тебя. Ты прикрываешь свой строй, он прикрывает тебя. Укол, отбив, выпад.
Пики удерживаются обратным хватом на уровне плеч, острием направлены вниз. Поэтому отбива всего два: направо и налево. Все просто. Не до изысков. В тебя летит острие, ты отбиваешь, товарищ из второго ряда колет из-за твоей спины. Безрезультатно, как правило. И тут же возвращает пику, прикрывая тебя от укола справа, а ты выпадом тычешь в неприятеля. Уколы сверху, снизу, с боков.
Очень много чего происходит с боков. Не зевай. Оба глаза чуть не к ушам, достать могут в любую секунду с любого направления, а ты даже не увидишь. Одному фронт взглядом не перекрыть, вся надежда на соседей с флангов, со второго и третьего ряда.
Мешанина пик. Скрежет и рев по всему фронту. Начинают падать люди. Некоторые кричат и корчатся, мешая и своим и чужим, другие лежат тихо и уже никому не мешают. Убитые. Раненные. Еще и еще. Впереди кто-то падает, на его место тут же выходит боец второй шеренги. Укол, укол, отбив, выпад, отбив. Треск и звон.
Я вижу, как один швейцарец получает острием в шею, но не падает, а прыгает вперед, дико разинув перекошенный рот, что-то вереща и плюясь кровью. Руками и пикой он пытается сгрести наши древки и прижать их вниз, но кригскнехты отрабатывают двойное жалование. Вторая и третья шеренга на чеку. Сразу три пики ловят его на жала, которые упираются в грудь и рвут подмышки. Швейцарец отлетает назад и падает фонтанируя красным.
Берн давит все сильнее. Унтервальден не отстает. Мы начинаем заметно подаваться назад.
– Стоять, сук-кины дети! Стоять!
Ага, куда деваться, конечно. Будем стоять. Но сколько же ярости против нас! Пики схлестываются все плотнее. Уколы неторопливы, но точны. Если колоть быстро, длинное древко так вибрирует на конце, что хорошо попасть затруднительно. Поэтому медленно и только в конце взрыв! Весь вес и все мышцы на древко!
Как смешно выглядят романтические гравюры, что изображают полунагих древних героев, повергающих врагов в самом центре битвы. Выжить здесь без хороших лат можно только чудом. Да и они не всегда спасают. Враг и свои – опытные солдаты, все норовят засадить туда, где нет железа. В лицо, в подмышки, локтевые сгибы, под кисть, в ноги (туда сложно, попробуй убери пику вниз в этой суматохе), в пах, наконец.
До меня, собственно, пока не добрались, чему я безмерно рад. Я стою в пятой шеренге вместе с алебардистами, держа спадон наизготовку. Так что могу пока осматриваться.
Справа от меня в трех шагах Курт Вассер – ротмистр. Прямо за спиной возвышается гауптман, мой крестный отец в мире ландскнехтов – Конрад Бемельберг. Оба заняты тем же чем и я. Внимательно озираются по сторонам, отдавая команды в нужное время. Передо мной чуть правее виднеется широченная спина Кабана-Эриха, затянутая в бригандину коричневого бархата, а в первом ряду, ого-го! Старый Йос! Еще живой и здоровый.
Эти заняты легко догадаться чем. Йос стоит как скала, выставив пику и вжав голову, так что широкие поля его айзенхута почти лежат на наплечниках. И воюет старик. Мастерство да опыт не пропьешь! Старый конь борозды не портит. Правда, как говорят знающие женщины, и пашет неглубоко. Йос пока никого не свалил. Спасибо, хоть сам на месте.
По всему фронту страшная мясорубка. Четыре баталии сталкиваются на валах с четырьмя баталиями врага. Видимость отличная, светит солнышко, пороховую хмарь растянуло, а мы воюем на заметном пригорке.
Далеко справа что-то происходит. Воют трубы. На наш фланг мчится сияющая стрела французской конницы. Знамена с золотыми лилиями приближаются, а потом и скрываются за крайней испанской баталией.
Неужели обход?!
Да нет. Мы прикрыты каналом, который так просто не форсируешь. Сзади вздрагивает земля, я быстро оборачиваюсь и вижу, как в том же направлении уходит наша кавалерия.
Бог вам в помощь, ребята. Прикройте нас, мы в долгу не останемся.
В отдалении начинают стрекотать аркебузы, видимо французы повстречались с миланским войском герцога Сфорца. Ну что же, пока всё в порядке. Можно работать. Не совсем понятно, отчего не двигаются к нам другие французские знамена, что стоят в центре поля? А за ними еще и венецианцы? Они-то чего ждут?
Сражение рычит, ревет и ворочается, лязгая стальными сочленениями. Зверь голоден и требует еды. Он привередлив. Вкус его изыскан. Он питается только деликатесами: страх, гнев, ярость. Ну и на десерт человечье мясо. Зверь сладкоежка. Десерт грозит затянуться.
Сколько мы уже бьемся? Непонятно. А швейцарцы упрямы! Мы стоим крепко, а они всё давят и давят. Ломят, так сказать. Напирают. Страшно.
Это было только начало.
Берн показал свое настоящее лицо чуть позже. Загрохотал барабан, свистки залились трелями и сразу с двух флангов щвейцарцы бросились на прорыв. Их коронный прием – внезапная атака с флангов.
Пикинеры разом шагнули вперед, не обращая внимание на убитых, обрушив на нашу первую шеренгу совокупную мощь своего оружия. Столкновение было впечатляющим. Что-то трудноописуемое. На такой дистанции каждый укол смертелен. Ломаются пики о нагрудники, падают люди, некоторые в передних рядах выхватывают мечи и кинжалы, где-то бойцы уже схватываются грудь в грудь.
– Алебарды вперед! Вперед! Алебарды! Алебарды! – надрывается Конрад.
– Алебарды, алебарды вперед, драные жопы! – это ротмистр.
– Вперед алебарды, вашу мать, алебарды! – кричат командиры по всему фронту.
– Ты! Передай по шеренгам, к Георгу, чтоб прислал подкрепления, на фланг, тут горячо!
И свистки, свистки фельдфебелей. Как будто и так не понятно.
Мы стоим не очень тесно, чтобы не мешать друг другу и иметь возможность размахнуться или меч вытащить. Рука в латах должна свободно проходить между рядами. Где-то так. Не теперь, конечно. Теперь началось какое-то месиво. Ну да алебардисты как раз для месива созданы. Пришла наша пора.
Конрад толкает меня вперед, и я вклиниваюсь правым плечом между двух пикинеров, которые из последних сил гвоздят куда-то, ухватив оружие за центр древка. Над моим плечом торчит алебарда соседа сзади, тот прикрывает меня. И так по всей линии. Вижу как взлетают и опускаются алебарды. С противоположенной стороны тот же маневр проделывают швейцарцы. Что сейчас будет… Бояться я уже не успеваю.
Мы вырываемся из-за спин товарищей во второй, а кто и в первый ряд, и начинается свистопляска.
Балет фехтования забыт и не нужен, рыцарский поединок – детская забава, каждый удар – грязный и подлый, все служит одной цели: прикрыть брата-солдата и перекалечить как можно больше врагов. Не можешь попасть в человека – отруби ему пику, тоже полезно. Незатейливая философия.
Не успеваю я занять позицию, как мне в грудь впивается острие, оно скользит по кирасе с бессильным скрежетом. Мой ответ сокрушителен и страшен, но не очень эффективен – пикинер-райслауфер ловко уводит оружие из под удара и тяжеленный клинок вспахивает землю, вместо того, чтобы сломать древко. Я еле успеваю вскинуть гарду, чтобы отвести еще один укол. И тут до нас добираются швейцарские алебардисты. Шипы, крючья, топоры, пиковины, все это в полной мере обрушивается на наши ряды.
Главное не терять дыхания. Вдох – защита, выдох – атака. И от бедра корпусом, корпусом, одними руками много намашешь – широкий нагрудник кирасы мешает, несмотря на подвижные изогнутые пластины в проймах.
Как только схлестнулись алебардисты, на поле воцарился звон и грохот. И крики, рык и рев, а так же предсмертные вопли. Глаз не успевает за стремительным полетом стальных птиц, что летают вокруг, а жала стальных скорпионов так и норовят впиться в живую плоть. Вокруг мелькают древки и железо, только успевай поворачиваться.
Я бы был мертв уже раз пять, если бы не товарищи сзади и с боку, я сам прикрываю кого-то и рублю, колю, рублю. Кажется, я кричал что-то матерное, даже не помню на каком языке, в глазах стояла багровая занавесь, лица врагов слились в общую кашу, а их фигуры из человеческих тел превратились в мишени с плаца, которые отчего-то вдруг стали мне сопротивляться.
В голове взорвалось что-то со стальным звоном. Меня бросило на колено, а в наплечник тут же стукнулось острием, причем со страшной силой.
Справа группа райслауферов прорвалась совсем близко, и теперь рубила в капусту всех без разбора. Летела кровь и оторванные куски доспехов, над схваткой повис стон. Я не заметил, как меня угостили сразу две алебарды, а может быть это один горец отработал по мне классическую связку: удар сверху, укол прямо.
Кажется, я ранен, но точно жив, что может в любую секунду измениться. Прямо с колена мой меч подсекает острием ближайшую голень, я тянусь вслед за ним и выпрыгиваю в низкую стойку, прикрываясь на обратном ходу клинком от удара возмездия, который не заставил себя ждать. Клин райслауферов не слишком далеко, как раз для уверенного поражения мечем.
Вот оно военное счастье!
Ну держитесь, мать вашу, долбанные трахатели овец!
Спадон легко отбил алебарду, все-таки это меч, хоть и очень большой, фехтовальные эволюции с ним удобнее. Отвел гардой укол и, упираясь ладонью в железный гриб навершия, бросил острие вперед. Алебардист уверенно парировал, отведя укол.
Не тут то было.
Клинок отлетел вслед за древком, но в последний миг, следуя тонкой блистательной дуге, (как говаривал Челини), проскользнул ниже, после чего я резко послал всего себя в глубокий выпад, на ладонь засадив тому клинок подмышку. Хрусткий поворот отворяет напористый кровяной ключ за кирасой и пронзительный визг из глотки.
В место пристанища моей правой голени, ха-ха-ха, где она стояла целые пол секунды, впивается глефа. Спадон уже на замахе и отбивает далеко в сторону это коварное порождение итальянских кузнецов, а вслед за тем падает на круглую каску с квадратными «ушами».
В удар я вложил весь свой немалый вес с шагом. Клинок скользнул по добротному изделию оставив глубокую пальца в два вмятину, но шея хозяина оказалась не столь прочной, она переломилась как спичка.
Раз-два-три, вы не успели бы даже сказать эти короткие слова: раз-два-три, как я уже был в шеренге, а мои жертвы, устав, наконец, трепыхаться стоя, повалились под ноги.
– Сукивашуматьблядичтосъели, – орал я. Не дословно, конечно, но что-то в этом роде.
Мой почин поддержали. Клин бернских бойцов завяз в упрямой массе наших рядов, задрожал и стал распадаться.
Алебарду отбить вверх и зажать на пол мгновения плечами гарды; тут же снизу вылетает чья-то куза[43] и длинно распарывает изнутри бедро швейцарцу. Паховая артерия обливает нас рудой, а бедный ублюдок падает наземь, он уже на пол пути от здорового быковидного мужика к холодному куску мяса. Та же куза, (интересно кто же её хозяин, да поди потом разбери!?) закрывает мою ногу от удара, а я не теряю времени и колю швейцарской падали прямо в лицо. Вроде бы только ранил.
Мы уверенно тесним врага назад, выравнивая строй. Еще секунды напряженной рубки среди ожившего деревянно-стального леса и он откатывается! Я прыгаю на трупы и раненых, норовя рубануть вдогон, но сильная рука хватает меня за ворот кирасы и тянет назад в строй.
– Равняйсь! По местам! По местам стоять!
– Вашу маму за ногу, – надрываюсь я, – что выкусили?! А козлы драные, не нравиться!
– Гульди! Захлопнись! – это Бемельберг, естественно это он, наш любимый гауптман, что командовал и ставил всех на места и волок меня за шиворот в строй. – Намашешь еще, а сейчас стой и заткнись.
А бой-то замер по всей линии! Мы выстояли, швейцарцы не смогли нас сломать!
– Внимание! Слушай мою команду, – разнеслось по баталии. – Равняйсь! Оружие на пле-е-ечо! Общая команда! Наза-а-ад! Шаго-о-ом! Марш! – это сам Фрундсберг, не спутаешь.
– Что за нахер?! – шиплю я сквозь зубы, – На какой зад?! Добивать надо, вперед ломить, куда мы уходим?! – руки и ноги, впрочем, сами выполняют команды, и я четко под барабан отхожу в своей шеренге.
– Я последний раз говорю, захлопнись! – а потом после маленькой, какой-то снисходительной паузы, – Мы их выманиваем, так надо.
Ну надо значит надо. Баталия делает ровно двадцать шагов и замирает в ожидании. Пики падают вниз, выполняя команду «оружие к ноге». Вперед бегут пикинеры из тыловых рот, заменяя раненных и уставших бойцов.
– Гульди!
– Я!
– Да не ори так… я по-дружески… в общем, молодец Гульди! Все ловко сделал, я в тебе не ошибся. Давай так же дальше. – Ну ты смотри! Гауптман похвалил, что-то небывалое. Обычно от него доброго слова как от козла молока, а тут, такая педагогичность!
Пока суть да дело, оглядимся. Сперва, все ли наши? Нет не все.
Но щегольский фальтрок Йоса все еще в первом ряду, не ушел упрямый старый пень, хотя и меняли его. На шлеме две свежие зарубки.
Кабанья спина по-прежнему излучает уверенность в завтрашнем дне и в непобедимости дела кайзера. На боковине бархат и холщовая подкладка разрублены до пластин, на плечевом щитке кровь, не разобрать чья.
Ротмистр Вассер тяжко отдувается, ему пришлось очень здорово поработать алебардой: швейцарский клин врубился в строй точно напротив него. Бемельберг… а что ему станется? Ральфа что-то не видно, будем надеяться, что не видно только мне.
Ба! А это что за фигура? А фигура эта никого иного, как Адама Райсснера. Секретарь Фрундсберга, эрудит и собиратель знания стоит с пикой в третьем ряду в гладком миланском доспехе с бургиньотом на голове. Он опирается на пику, то и дело привставая на цыпочки, силясь заглянуть через головы товарищей. Что-то я его не помню, видимо пришел с подкреплением и сменой.
На поле затишье. Все наши баталии целы, и равняют ряды, как и мы в небольшом удалении от изначальной позиции. Швейцарцы бодро втягиваются на поле. Места схваток обозначены неаккуратно разбросанными телами.
Отрадно, очень отрадно, смотреть и видеть, что большинство их принадлежит райслауферам. Оно и понятно, швейцарцам пришлось принять бой в крайне невыгодных условиях.
Где-то вдалеке звенит и гремит. Надо понимать, что там продолжается конное сражение.
Между тем по бокам наших баталий и полков швейцарцев появляются аркебузиры и начинают огонь. Дистанция такая, что промахнуться невозможно. Счастье, что они заняты друг другом и пехоте не слишком достается. Залпов с дюжину швейцарцы выдержали, а потом загрохотал барабан и они ринулись на второй приступ. Ну и мы им навстречу.
Описывать второй бой, означает повторить большую часть первого. Все было в точности также. Медленный соступ, удар пикинеров, долгая игра древок, своего рода «строевое фехтование», да простится мне этот оксюморон, потом соступ накоротке, неизбежная работа алебардистов, а значит и вашего верного рассказчика. Швейцарцы вновь отброшены. А мы вновь подаемся назад.
Так повторяется еще два долгих, бесконечных раза.
Помню, что мне невероятно хотелось пить. Руки одеревенели, мозги тоже. Я превратился в механизм, приставленный к спадону. Я работал, когда меня заводила команда и тупо стоял, когда команды не было. Рубил, колол, парировал, маршировал, делал равнение и стоял смирно. Не было сил, чтобы даже оглядываться по сторонам и высматривать знакомых после схватки.
Козырек украсился зарубкой, кираса еще двумя бороздами, правый наручь одной вмятиной, а левая голень длинной царапиной. Царапина, впрочем, была вполне уважительная. С неё непрерывно стекала кровь, которая собиралась в ботинке и начинала мерзко хлюпать при каждом шаге.
Но Бог ты мой, как же хотелось пить! Итальянское солнышко припекало вполне ощутимо, так что обычное стояние в латах постепенно превращалось в пытку. Сколько же времени прошло с начала? Не может того быть! От первых выстрелов до сего момента не менее двух часов!
Если бы не навалилась такая усталость, я бы не переставал восхищаться стариком Йосом. Седой ветеран никуда не уходил из первого ряда и полностью выстоял все четыре схватки. Только пику сменил. Один раз ему пришлось взяться за свою длиннющую швейцарскую саблю, когда древко сломалось. Фальтрок его давно перестал быть щегольским, но усы по-прежнему задорно торчали вверх. Воплощение солдата. Не геройствовал, просто стоял на месте, делал свое дело, четко выдерживая строй и выполняя команды.
Швейцарцы, между тем, полностью вывели свои баталии за вал. Скоро все разрешится в едином сверкающем моменте истины. Здорово мы их отделали, приятно посмотреть.
Они совсем близко, шагов двадцать, так что можно рассмотреть детали. Передние ряды здорово помечены. Кажется, что досталось всем. Если не раненый, то доспех обязательно помят, а значит – побывал в серьезном деле, что, в свою очередь, означает усталость.
Пикинеров в тылу совсем не видно, а на флангах и в центре их совсем немного. Те что перед нами – последние, резервов больше не будет. И численность как-то незаметно растаяла. Многих забрали пушки и аркебузы. Многих нашли пики. Четыре гряды тел ясно показывают, что поле они заняли недаром. Расплатились сполна за каждый шаг. Там где недавно кипел бой, земля пестрит от красно-желтых табаров и разноцветных чулок с нашитыми белыми крестами.
Они все еще смертельно опасны. Если дух силен, если знамена вьются над строем, значит швейцарцы сильны и свирепы. Что такое усталость и раны они не ведают. Но, все таки, это уже не та смертоносная волна, что катилась по полю утром. С этой силой можно тягаться на равных. Что мы доказали и скоро докажем еще раз.
Скоро? Да уже прямо сейчас! Райслауферы бросились в пятую, последнюю атаку.
Барабаны грохотали, флейты пели, все как положено. Мы вновь ощетинились ежами пик и принялись убивать друг друга. Последняя атака была страшной, потому что и мы и они понимали, что она, в самом деле, последняя.
Швейцарцы совершенно озверели и бросались на нас как разъяренные медведи, полностью оправдывая древний городской герб. Вновь и вновь они пробивали бреши в строю, так что вперед приходилось бросаться алебардистам.
Один раз Фрундсберг отправил в бой даже своих трабантов. Меня в этой схватке так хватили по макушке двуручной секирой, что смяли гребень на шлеме. Хорошо еще был этот гребень! Если бы не предусмотрительность неизвестного нюрнбергского мастера, смяли бы мне всю голову.
Лютая была драка. Клинок спадона слегка повело от ударов. Придется нести править. Если доживу.
И вот, как говорил старый Йос, «стоим перетыкиваемся». Когда Георг командует что-то и сразу три фанляйна с тыла и с боков выполняют разворот строем и всей линией бьют в бок швейцарского строя! У нас много пикинеров, а у них и два ряда на фланге не везде набиралось.
Когда минут через пять они отбились, пики там больше не возвышались сплошной грозной стеной. Стена превратилась в сильно погрызенный заборчик. Представляю сколько там перекололи алебардистов с их коротким оружием!
Потом навалились вновь. А мы по фронту их поддержали. Не знаю как, но железные пастухи нас вновь отвадили! Но мы продолжали атаку, не ослабляя напора. Пока алебардисты отдыхали – дела нам не находилось. Швейцарцам было чем заняться и без нас, а основные силы Фрундсберг берег, не бросал пока в решительный натиск.
Случилось то, чего никто не ожидал. Когда в центре наступила небольшая передышка – трупов навалили много и мы не могли дотянуться друг до друга, в рядах швейцарцев началось шевеление, и вперед выступил весьма красочный ветеран.
Высокий и кряжистый с полуседой бородой в превосходной миланской броне. Как и все солдаты без наголенников, зато в великолепном бургиньоте с ребреной витой тульей и распашным бартелем. В руках у него был гутентаг с молотом на обухе, обязательной пиковиной для укола и дисковидной гардой в центре окованного древка. На поясе висел меч и кинжал а на шее – толстенная золотая цепь с эмалевым крестом. Фигура его приковывала взгляд, столько в ней было силы и энергии.
– Георг! С тобой говорит твой старый товарищ. Арнольд Винкельрид, помнишь такого?! – его зычный глас легко перекрыл шум боя, те кто поближе даже невольно расступились, прекратив драку. – Фрундсберг! Старый вор! Выходи, если не трусишь! Я тебя заколю на глазах у твоих шавок! Ну! Где ты! Выходи!
– Ну прямо Самсон, алкающий встречи с филистимлянами, – громко прошептал Адам Райсснер, вышедший из всех схваток почти невредимым. Ему даже не изменила обычная ироническая манера говорить.
Фрундсберг услышал. Еще бы, такой рев! И полез вперед, расталкивая всех и что-то бормоча.
– Я здесь, старый товарищ! Никогда не прятался от драки! Схлестнемся? С Божьей помощью я сам тебя заколю! Становись!
– Никакой пощады! Разойдись, сукины дети!
Два испытанных воина выбрались друг к другу. Георг – в черно серебряном доспехе и сияющий полировкой Винкельрид с двуручной секирой. Сражение стало замирать. Как же, такое не каждый день увидишь.
Хищно напружинившись, они пошли друг на друга, переступая чрез тела. Никакой разведки, никакого танца…
Винкельрид хрипло выдохнул и с раскрутки ахнул Георга молотом по голове. Тот легко парировал высокой примой, тут же нанося укол в лицо. Меня даже передернуло – опаснейший прием. Чудовищный удар молота всего на ладонь не дошел до цели. Я понял еще на занятиях в лагере, основная максима, на которой строиться местная система фехтования, звучит примерно так: «Лучше два трупа, чем ни одного».
Во имя почтенного принципа оба противника со страстью завзятых суицидников молотили друг друга. Первый укол унтервальденец с трудом отвел древком. А сам тут же пырнул ландскнехта в пах острейшим стальным подтоком на обратной стороне древка. Фрундсберг отбил примой. Бойцы разошлись и снова кинулись друг на друга.
Они очень друг друга не любили, судя по всему. Все их оточенные движения кричали: «убить», а о собственной шкуре они не думали. Винкельрид старался влезть в ближний бой, с целью применить кинжал или рукопашный прием. Фрундсберг уверенно отбивался, решая дело двуручником. Рискованные комбинации сыпались одна за другой. Бойцы попались достойные друг друга.
Оружие схлестнулось в терции… перевод в кварту… секира падает в голень ландскнехта, парад секундой, укол снизу и тут же размашистый удар поперёк лица, Арнольд принимает его на древко, клинок сбит вниз…
Все ахают и замирают… острие гутентага скользит по стальному вороту, а Фрундсберга откидывает назад. Он неловко переступает через лежащий сзади труп… почти падает… оба строя замирают…
Винкельрид, как тигр, бросается вперед, но его оппонент тут же твердо встает на ноги и бросает меч снизу вверх от левого бедра в грозную квинту, целя острием в голову. Винкельрид видит цель и с размаху всаживает подток прямо под ташку в бедро легендарного оберста. Вырывает его и заносит над головой свое оружие, чтобы добить врага неотразимым Mordhau…[44]
И тут…
Из квинты клинок спадона синей молнией влетает прямо между разведенных для удара рук в лицо райслауфера. Над бартелем. В рот. Коша и ломая зубы, раздирая гортань и прокалывая позвоночник.
Винкельрид сипло выдыхает в последний раз в своей долгой, бурной, полной опасностей и подвигов жизни. Пузырящаяся кровь вырывается из глотки, и он грузно падает на спину, не выпустив из рук оружия, устремляя невидящий взор к вечному синему небу.
Примерная смерть великого воина. Не знаю, но думаю, что он мечтал именно так встретить конец. С оружием, под ярким солнцем, с верной баталией за спиной, от руки такого же как и он солдата.
Георг повалился на руки пикинеров. Он не сводил глаз с поверженного противника, в соперничестве с которым прошла большая часть его многолетья.
Дальше рассказывать почти нечего. Швейцарцы отбивались отчаянно, но лишенные воли своего командира были раздавлены комбинированной атакой. Гауптманы их знали свое дело. Когда дело было окончательно потеряно, они смогли организовать отход и в полном порядке ретировались за вал и ров, оставив группу прикрытия, которая и полегла вся до последнего.
Их некоторое время преследовали. Но основные силы развернулись к центру, сметая с поля фланговым ударом остальные полки врага. Испанцы к тому времени уверенно теснили своих оппонентов, им даже не пришлось помогать по настоящему. Весть о гибели Винкельрида облетела поле с невероятной скоростью, и швейцарцы здорово загрустили.
Во время этого последнего усилия, я едва не погиб в давке.
Кто-то налетел на меня сбоку, и принялся молотить поясным мечем. Я едва успел абы как подставить спадон, выхватить свой клинок и рубануть того в бедро. Не ожидал, честно говоря, такого эффекта. Все-таки меч мне справили великолепный. Я не имел возможности замахнуться и бил на выходе из ножен, но лезвие легко вспороло плоть и отхватило бедро чуть не начисто. Словом, все чудесно разрешилось. Для меня разумеется. Хотя и залило кровушкой мало по самые глаза. Слава Богу, что не моей.
Так и закончилась битва при Биккока.
Было потом много всего незначительного. К носилкам с Фрундсбергом прискакал на взмыленной лошади кавалерист в дорогущих аугсбургских латах, сплошь покрытых мелким рифлением с травленым полосами цветочным узором. Видно только что из боя и не последний офицер. Он потребовал, чтобы Георг гнал своих людей в след отступающим швейцарцам.
– Хрен на рыло, коллега, – не мудрствуя откликнулся оберст, над которым колдовал лекарь, «ремонтировавший» дыру в бедре. – Там у них половина армии и пушек полно, – прервал он гневную отповедь рыцаря. – Мне недосуг класть ребят за так. Мы ведь отступить быстро не сможем. Не стоит превращать победу хрен знает во что. Нам ведь еще воевать и воевать. Так что давайте-ка сами. Лошадкой сходите. Коллега. – И совершенно перестал замечать всадника. Тот издал невнятный рык, пришпорил благородное животное, с губ которого уже капали хлопья пены, и умчался. Видимо, «ходить лошадкой».
Конница и в самом деле гнала швейцарцев с милю, мы это прекрасно видели. Они отступали медленно, не теряя строя, так что легкая добыча кавалерам не обломилась. Повыбили своими длинными рыцарскими копьями они их преизрядно. Так как в строю почти не осталось пикинеров, да и измотаны были до последнего края.
Но никто не побежал, ясно осознавая, что это конец. От коня все одно на своих двоих не спасешься. Так райслауферы и шли каждую минуту теряя своих десятками, но спасая остатки войска.
Потом сбылось мрачное пророчество Фрундсберга, прозорливца нашего. От французских позиций по рыцарям и иже с ними ка-а-ак шарахнули из пушек и аркебуз, подпустив поближе! Бойцы с коней так и посыпались, а иногда и вместе с конями. Наши быстро припустили назад. И правильно, нечего там ловить.
Мы трое суток стояли на поле. Французы не уходили. Ждали продолжения с нашей стороны. Военный совет логично рассудил, что задача выполнена, и противник не рискнет в повторном наступлении. А нам переть на пушки – совсем не стоит. Мы одолеем и в этот раз, но зачем лишние потери? Наш оберст правильно сказал: кампания в самом начале, незачем терять войско. Да еще и после победы.
Лотрек подождал от нас глупостей, а когда не дождался, разругался вдрызг с Франческо делла как его там, словом, главным венецианцем, и ушел. Забрал лучшие пушки и отступил.
Главная сила его – швейцарская пехота – растворилась как дым. Жалование за месяц они не получили, в сражении потерпели крах, остались без добычи, и убрались в родные горы, отказавшись продолжать войну.
Швейцарцам крупно не повезло. Пришло их восемнадцать тысяч. А ушло только одиннадцать. Такого разгрома Конфедерация не помнила со дня основания. Погиб фон Штайн, сраженный пикой, убит Арнольд Винкельрид – славнейший оберст конфедератов, все поголовно французские офицеры, что пошли со швейцарцами остались на поле.
Повезло только баловню судьбы де Монморанси, который полностью, от и до, прошел сражение и не получил ни царапины. Ни ядра ему не нашлось, ни пули. И пика его пощадила, и алебарда, и рыцарское копье.
Победители, то есть мы, похоронили павших, которых оказалось удивительно мало: совокупно не набралось и двенадцати сотен, что ничтожно при таких масштабах побоища. Над могилами развернули знамена, все войско прошло парадным маршем, грохнули пушки и аркебузы.
А потом мы страшно напились.
В брошенном лагере французов нашлось чем богато поживиться. Все мы здорово разжились деньгами и всяким шмотьем. И вот мы богатые, живые и счастливые выпивали на месте битвы и неудержимо хвастались. Если бы каждый в самом деле убил столько врагов, сколько репрезентовали бойцы… думаю, что о швейцарцах как народе можно было бы забыть навсегда.
Пьянствовали невероятно. Испанцы, ландскнехты, конница, пушкари, аркебузиры все сидели вместе и планомерно нажирались. Тогда же меня посвятили в священный Орден Ландскнехтов. Кровью меня уже полили, да и сам я пролил её немало вместе с товарищами. А потом меня полили пивом и вином и крещение состоялось.
Наутро я проснулся с невероятной головной болью, там же у общего костра, лежа на земле под начинающем уже припекать веселым итальянским солнцем. Подушкой мне служила голень Эриха. Сам Эрих проклюнулся на свет из яйца алкогольного забвения минутой раньше, и теперь пытался выпростать из-под моей головы занемевшую ногу с похвальной деликатностью.
– Тяжелая у тебя башка, Пауль, – ухмыльнулся он, когда я сел, потирая пальцами отчаянно ноющие виски. – Шибко умная, видать. Вона сколько книжек напихал, изо рта лезут. Как зарядили вы вчера с Адамом, так хер вас заткнешь, пока сами не отвалились.
Я обвел мутным взором пространств вокруг холодного кострища. Герр Райсснер почивал неподалеку, благорочинно увалясь ликом в миску каши. Старый Йос уже прохаживался вокруг нас и разминал затекшие за ночь суставы немудреной зарядкой. Ни Конрада, ни Курта я не заметил, видать, ушли еще вчера. Лагерь тихо гудит, начинает просыпаться, кузнечики трещат, птички свистят, как будто не было войны. Оптимистический покой яркого радостного утра.
А башка трещит, как будто в ней всю ночь асгорские идуны с земными чертями знакомились. Ну так оно, в сущности, и было…
– Начали втирать друг другу че-та про звезды, а ты себя в грудь стучишь и орешь про то, что там тоже люди живут, – продолжал Кабан, но уже тише. – Да какие там люди… ну ты сам хоть что помнишь?
Когда смысл его слов наконец с опозданием дошел до моего воющего от абстинентного синдрома мозга, меня прошиб холодный пот, и все остатки хмеля как-то разом испарились. Ох ты, ну надо же, а?! Ну я и придурок! Так… с пьянством надо осторожнее. Раз я еще жив и Кабан глумится, то вчера моя миссия не была провалена окончательно. Ну хорошо хоть на асгорском болтать не начал с перепою.
– Не помню, конечно. Я когда пьяный, такой дурак, – попытался сказать я как можно беспечнее. – И много я еще чего плел?
Эрих осклабился и понимающе покивал.
– Да много… вы еще болтали про разное всякое. Кстати, что такое… ар-ви-ел? И какого хрена ты вчера так нашего кайзера Карла назвал?
У меня потемнело в глазах. Допился-таки.
– Черт его знает. Какой-то королевский титул… кажись, по-литовски или откуда-то еще с севера, – неуклюже отоврался я, запуская пятерню в волосы.
Стоп. А где волосы?!
Вместо пропотевших до мерзости за четыре дня в подшлемнике патл ладонь встретила гладкую лысину с корочкой запекшейся крови на маленьком порезе за ухом. О как… ну и новости… Профессионально побрито, гладенько, не придерешься, хотя вчера я был в таком состоянии, что мог запросто оттяпать себе уши и всю голову впридачу. Нет, уши вроде на месте.
– Ни хера себе…
Кабан звучно заржал, отчего Йос прервал свои упражнения и обернулся, а парочка дотоле мирно похрапывающих тел зашевелилась, машинально нащупывая что-то по земле и одновременно пытаясь продрать глаза.
– Да тебя вчера самолично Вассер побрил, а мы помогали! – прокряхтел Кабан сквозь хохот. – Сказал, что раз уж ты теперь ландскнехт, то нечего ходить пугалом позорным! Гы-гы-гы! Ты что, брат, и этого не помнишь?!
Ну все, приехали.
– Эрих, скажи честно, а я вчера никого не трахнул?..
Вот так началась моя карьера ландскнехта.
Наблюдателям предписывается по возможности обзаводиться семьей – я и обзавелся. Моими братьями теперь были покатывающиеся со смеху Йос и Эрих, гогочущие полупротрезвевшие солдаты по ту сторону кострища и Адам, который все еще дрых, моим крестным – гауптман Бемельберг, мирно храпящий в своей палатке, моим отцом – доблестный Георг фон Фрундсберг, матерью – армия. Все эти тысячи похмельных ландскнехтских рож стали моей семьей.
Мы хохотали под гостеприимным щедрым солнышком священной Римской Империи, вспоминая урывками подробности вчерашней беспощадной попойки и перемывая кости когда-то непобедимым швейцарцам, а впереди нас ждала Сезия и Генуя и еще много чего.
Глава 6 В которой совершается нескучный вояж по Италии
Из отчета наблюдателя первой категории Э.А.
«…наполнение художественных образов данного периода представляется возможным обозначить, как несомненный рост интереса „человека к человеческому“. Если ранее религиозная составляющая живописных полотен, миниатюрной книжной иллюстрации, мелкой пластики, скульптуры и пр. заставляла авторов преследовать цели отображения надмирного существования посредством сознательного или бессознательного удаления реалистических моментов творчества, то современные требования и модные тенденции однозначно заставляют художника обращать внимание на реальность в первую очередь, не взирая на сюжет.
Древние образцы античного искусства подвергаются самому тщательному ознакомлению и переосмыслению, так что новые шедевры далеко оставляют древние оригиналы позади в смысле реалистичности отображения реальности.
Знакомство с исходными образцами, давшими жизнь современной тенденции в искусстве, относящимися к XIV столетию по местной хронологической шкале, заставляет констатировать движение интереса художника от „реальности вообще“, первым провозвестником коей было открытие художественной перспективы в начале XIV в., к человеку и человеческому телу, как главной точке приложения творческого усилия творца.
Ранее, самое реалистичное отображение человеческого тела в художественном полотне, оставлялось на едином уровне с окружающем пейзажем, т. е., реалистичность природы и реалистичность человека ставилась на единый уровень. Современная тенденция имеет противоположенную направленность: человек, его тело, его лицо, его эмоции – вот главный акцент культурного отражения реальности.
Обычным приемом концентрации внимания на человеке является затемнение фона. При полной реалистичности и даже дотошности передачи деталей, фоновый натюрморт остается в глубокой тени, а фигура и, зачастую, лицо главного героя высветляется, становясь центром полотна.
Скульптурное исполнение человеческого начала в общем соответствует живописному…»
Из дневника Пауля Гульди.
27 июля 1522 г.
«Я принял решение вести дневник. Никогда прежде мне не приходилось заниматься ничем подобным, но пример моего товарища и спутника Адама Райсснера, аккуратно заполняющего свою книжечку каждый вечер, натолкнул меня на мысль, что упражнение сие далеко не бесполезно. Помимо прямых выгод для моего дела, систематические записи отлично дисциплинируют разум и не позволяют ему заснуть в однообразной рутине военных дней.
Хотя, как таковая, кампания завершена, и расположение имперских войск осталось далеко позади, но мы все еще на службе, да и война, как нетрудно догадаться, далеко еще не окончена. Так что, насчет „рутины военных дней“ я вовсе не преувеличил.
Мои записи легко могут попасть в чужие руки. К сожалению, быт наш полон беспокойных происшествий и совсем не безопасен. Праздный дворянин мог бы назвать такую жизнь „приключением“, но мы выполняем боевое задание, а я, как вы понимаете, несу здесь не только императорскую службу. Поэтому, я не склонен относится к этому походу как к „авентрюре“.
На тот случай, если тетрадь, что находится сейчас в моих руках, пропадет, я веду записи посредством несложного шифра. Шифр и в самом деле примитивный, вероятный недоброжелатель или случайный человек, что может подобрать записки, без особого труда его расколет. Но за сохранение своего инкогнито я совершенно спокоен и при подобном развитии событий. Ведь чтобы прочесть дешифровку нужно быть не просто опытным криптологом. Надо ли говорить, что записи я веду на родном языке, который здесь никто не прочтёт в ближайшие лет семьсот.
Ровно три месяца минуло со дня памятной битвы при Биккока. Сокрушительное поражение французских войск оказалось камнем, что сдвинул лавину. Просперо Колона повел войска на Геную, которую мы взяли после недолгой осады. Французы, оставшиеся без швейцарской пехоты, отступили в Венецию.
Я слышал, что виконт Лотрек – их главнокомандующий – спешно выехал из Кремоны в Лион для доклада „кайзеру Францу“, а войска оставил на попечение графа де Сен-Поля и Лескана, что так неудачно направлял французских жандармов в памятный день при Биккока.
Кстати, наши испанские коллеги столь часто теперь используют название этого маленького городка в качестве жаргонизма, что я не удивлюсь, если через несколько лет словечко перекочует в конвенционный испанский язык, обозначая что-то вроде „большого приобретения за малую цену“. Наши потери были столь ничтожны, а последовавшие выгоды столь значительны, что этимология вовсе не удивительна.
Я и Адам едем в из Генуи в Венецию. Позади осталась Модена, к вечеру наши кони будут топтать мощеные феррарские тротуары, на что я очень надеюсь. Как же мы оказались вдвоем так далеко от имперской армии?
Все очень просто и очень непросто. Попытаюсь объяснить парадокс: Георг фон Фрундсберг был спешно вызван в Баварию с частью войск. Крестьянское восстание, которое проницательные люди были склонны открыто называть Крестьянской войной, иногда добавляя эпитет „Великая“, разгорелась с новой силою. Императору срочно потребовался авторитетный специалист по быстрому разрешению кризисных ситуаций. Надо ли говорить, на кого пал выбор? Судя по всему, дела там принимали оборот самый нешуточный.
Перед отъездом Георг вызвал своего секретаря и приказал оставаться в Италии. Ему следовало инкогнито отправиться в Венецию с натуральной разведывательной миссией. Имперская агентура… ну насчет „агентуры“ я пожалуй загнул, переделывая местные понятия на знакомый лад, просто доверенные лица, которые получали помощь от канцелярии Карла или непосредственно от Фрундсберга, должны были ввести Адама в курс местных политических хитросплетений.
Дипломаты были у всех на виду, ему же предписывалось провести негласное исследование. Дорожки Франции и Венеции неуклонно расходились. Необходимо было точно знать, что кривая тропка политики вывезет Республику к воротам Империи, а для этого нужна была информация. Много информации.
Райсснеру требовался помощник, а так же, возможно, телохранитель и выбор пал на меня, что было чрезвычайно с его стороны любезно. Ваш скромный повествователь нежданно оказался на должности фельдфебеля, каковую честь заслужил после Биккока и взятия Генуи. Солдаты моего фанляйна вынесли представление, а общий полковой сход его утвердил, и пожалуйте – я уже командир, хоть и невеликий.
На меня тут же свалилось множество разнообразных очень утомительных обязанностей. Почти месяц я мрачно охреневал от караулов, учений и прочих радостей маленького начальника, когда Адам вытащил меня из этой болотины. Ехать ему с кем-то было надо, а образованных людей вокруг раз-два и обчелся.
Миссия деликатная, нужен не просто боец. Хороших рубак вокруг хватало с избытком, но были они в большинстве очень недалекими людьми. Н-да, все-таки в классическом образовании, пусть и неоконченном, есть свои преимущества. Даже на войне.
И вот, вывернувшись из солдатской лямки, я превратился в имперского шпиона или разведчика, называйте как хотите. Официально я был прикомандирован к интендантской роте, ну а суть настоящего задания обрисована выше. Собственно обязанностей никаких, только присматривать, чтобы Райсснера не пристукнули ненароком в какой-нибудь подворотне. Жалование капает, причем повышенное, а мне досталась отличная возможность выполнить мою главную работу. Я же наблюдатель, а задание наше именно в наблюдении и состояло. Удача! Настоящая солдатская удача.
Вступление к дневнику, пожалуй, можно считать оконченным, и я перехожу к нормальным подневным записям…»
Из дневника Адама Райсснера.
27 июля 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
«О Фатерлянде.
Бедная моя Германия! Сегодня дошли вести о разгроме крестьянского войска под Мемингеном. Сколько же христианской крови должно еще пролиться, чтобы на эту несчастную землю снизошел мир и божье благословение?
О моем почтенном спутнике и друге Пауле Гульди, мещанине.
Нельзя не написать нескольких слов о спутнике моем Пауле Гульди. Все еще не знаю, верно ли поступил я, взяв его с собою для совершения этого важного и в высшей степени непростого задания?
Человек он безо всяких сомнений достойный и храбрый. До сих пор вспоминаю, как он орудовал спадоном при Бикока! Зрелище было столь прекрасно, что я поневоле возрадовался, что он воюет на нашей стороне. Есть однако в нем ряд странностей. Он умен и превосходно образован.
Глубина знаний его меня поражала еще во время бесед наших от мюнхенского лагеря до Италии. Где мог простой саксонский мещанин получить такое прекрасное образование? Особенно, если принимать во внимание его неоднократные заверения, что ни один из знаменитых университетов не является его alma mater. Расспросы более подробные в нашем кругу неприличны, так что раб божий Адам пребывает в частичном неведении относительно биографии своего товарища.
Это первая странная черта.
При своем уме и эрудиции Пауль иногда поражает полным бессилием в самых простых делах, с нашей обыденной жизнью связанных. Казалось, час назад он открывал мне воззрения свои на тонкости небесной механики и устройство Вселенной, которые сделали бы честь почтенному доктору Галилею, а потом выяснилось, что он не знает, что такое райхсталер и почему серебряная монета называется гульдинером.
Право, даже какой-нибудь престарелый профессор Сорбоны более находчив чем мой спутник и не столь наивен в житейских вопросах.
Однажды я даже воскликнул в великом смятении: „Господи, Пауль, а не с Луны ли ты к нам свалился?!“, чем вызвал долгий и безудержный смех, сказанного Пауля, ничем не объяснимый, на мой взгляд. Это вторая странность.
Пауль Гульди двадцати лет от роду. Не самый юный возраст для солдата, мне казалось, что в такие годы горячность молодости должна бы начать уступать место рассудительной хладности, свойственной зрелым мужам. Но спутник мой совершенно беззаботен. Вижу, что он склонен относится к путешествию нашему, как к некоему разряду рыцарского подвига или приключения, будто он обчитался древних „chanson de geste“ о деяниях короля Артура и его выдуманных рыцарей круглого стола и тому подобной вредоносной чепухи.
Все это заставляет меня приглядываться к нему с немалой опаскою, ведь миссия наша требует хладнокровия, выдержки и немалого опыта. А ну как он выкинет что-нибудь из своего репертуара в Венеции? Но отступать уже поздно. Кроме того, сказанный Пауль очень быстро учится и впитывает знания столь энергично, что я с надеждою смотрю в будущее и смело передоверяю нас Божьему Провидению и его превосходной шпаге, которой я был бы совершенно рад, случись ей защищать мою спину в переделке…
О Феррарских делах и моих опасениях.
…Вечером сего дня мы прибыли в Феррару. Остановились у моего друга Лукки Джованьолло в его загородном доме. Лукка этот льет пушки для герцога феррарского и весьма преуспевает, являясь одним из почтенных граждан. Досточтимый Лукка, увидев меня, со всей любезностью принял нас, сказав: „я счастлив, дорогой мой Адам, что ты почтил мое жилище своим присутствием“.
Пауль Гульди учтивейшим образом поздоровался и представился хозяину нашего временного пристанища, каковой ответил: „Досточтимый мессер Гульди, я первый раз встречаю столь прекрасно воспитанного и учтивого ландскнехта“, ведь он в полной мере был осведомлен об истинной цели нашего приезда и отлично понимал кто мы на самом деле. Пока мы ужинали с превосходным сладким вином, Лукка излагал интересующие меня сведения, ведь он много путешествует по окрестностям и вхож в самые почтенные дома. Все его очень уважают и стремятся заполучить у него орудийные стволы. Он сказал, как бы невзначай с обычной для него тактичностью: „герцог Феррарский, мой уважаемый сеньор, продал две недели назад дюжину фальконетов моей мастерской французскому поверенному мессеру Жерому де Перпиньяку по восемьдесят золотых скудо за ствол“, на что я промолчал, но подумал, что и три дюжины фальконетов французам не помогут, и им скоро придется убираться из Ломбардии.
Господин Лукка Джованьолло оценил мой такт, что не позволил мне сказать ни одного плохого слова о сеньоре его, и так наша беседа имела самое отличное течение и плавность и несомненную пользу, так как ценные факты сыпались вроде бы сами собою, и даже если бы нас подслушали, никто не мог бы отличить наш разговор от разговора старых приятелей, которыми мы в самом деле являлись.
Все идет хорошо, но взгляды, которые бросает младшая дочь мессера Джованьолло на моего спутника, очень тревожат меня. Ведь Пауль превосходно сложен и силен, а его светлые волосы и серые глаза, столь редкие в этих местах, не могут не тронуть и не притянуть молодую итальянку.
Скажем прямо, что и Гульди на неё поглядывает, так как она отличается всей прелестью невинных пятнадцати лет. А сказанный Лукка человек самых строгих взглядов. Боюсь возможной ссоры. Хотя, признаться, что и я вот уже три месяца не был с женщиной и очень от этого страдаю…»
Из дневника Пауля Гульди.
30 июля 1522 г.
«Сутки прошли с тех пор как мы покинули Феррару, а точнее загородную резиденцию, или как здесь говорят „пьяццо“, Лукки Джованьолло. Лукка – болтливый толстяк, впрочем, весьма обходительный, под вкусный ужин и вино, за час выболтал Адаму столько стратегических сведений, что хватило бы на пожизненную каторгу. Лукка – мастер оружейник. Он льет пушки. Не сам, конечно, он владелец крупной мастерской и исполняет государственный подряд. Так что этих самых сведений у него в голове немало. Перед отходом ко сну у нас с Адамом состоялся примечательный разговор:
– Ты что делаешь, кретин? – осведомился у меня Райсснер, взяв за пуговицу.
– А что такого я сделал? – честно не понял я и аккуратно высвободил плененную пуговицу. Не люблю, когда меня вот так хватают. Даже друзья.
– Не делай мне тут круглых глаз! Невинность ходячая! – зашипел Адам, внимательно поглядывая по сторонам, не видит ли нас кто, но коридор на втором этаже перед нашими спальнями был пуст (о да, нас поселили в разных спальнях с настоящими кроватями и простынями). – Ты видишь, скотина, как на тебя смотрит дочка Лукки?
– Ну… вижу, не слепой, а причем здесь я? Я же на неё так не смотрю?!
– В общем, считай что я тебя предупредил. Не вздумай даже дышать в её сторону! Мало того, что Лукка свою Порцию обожает сверх всякой меры, так она еще и завиднейшая невеста! А если ты её… испортишь… кому она будет нужна? Тогда Лукка не просто обидится. Он будет в ярости. Со всеми вытекающими. Ты понял?!
– Да понял я, что я, тупой? Ей и лет маловато. Не мой вариант в любом случае.
– Ей пятнадцать. Самый возраст. Значит так. Запри дверь изнутри. А то она придет „пожелать спокойной ночи“, а там я вашего брата знаю. Всё. Марш спать!
Надо ли говорить, что дверь я не запер? Нет, нет. Ничего такого я и в мыслях не держал. В самом деле, я даже представить себе не мог, что девочка, почти ребенок, сама полезет в постель к здоровенному солдафону. И потом, я что педофил какой? Младенцы меня не интересуют. Совсем.
Дверь не запер я совсем зря. Проницательный Райсснер оказался прав, как всегда, впрочем.
– Сеньор, – раздался тихий шепот, когда я уже готовился задуть свечу. Проклятый балдахин мешал рассмотреть кто же там у двери, но, на всякий случай, я выхватил шпагу, которую по привычке положил спать рядом с собой.
– Сеньор, не пугайтесь, это я, Порция. Простите, что потревожила ваш покой. Я хотела пожелать вам спокойной ночи и добрых сновидений. – Вот, черт, Адам как в воду глядел. Я быстро юркнул под защиту одеяла, спрятал клинок и сурово нахмурился:
– Спасибо, сеньора, нижайше благодарю за заботу. И вам спокойной ночи и спасибо за гостеприимство. – Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно почтительнее и в тоже время холоднее.
– Что вы сеньор, – тихо сказала она, приближаясь, от её шепота и мягких уверенных движений у меня начали бегать мурашки по спине, – Это лишь малая толика того, что мы могли вам предоставить. Я то вообще, – тут она подошла совсем близко к кровати, – ничего для вас не сделала. – сказала и мило потупила очи.
Я рассмотрел её поближе. Она была невероятно хороша в неверном свете свечи. Невысокая, ладная фигура была укрыта только невесомой преградой шелковой материи нижней камизы на двух лямочках. Некстати, или, наоборот, очень кстати, вспомнилась моя далекая Гелиан, которая отродясь не носила никакого нижнего белья. Под пристальным взглядом Порции Гелиан делалась все призрачнее, а я начал заметно дрожать.
– Сеньор, вам холодно? Вы весь дрожите, – прошептали её полные губы, и девушка опустилась перед кроватью на колени.
– Госпожа, я очень удобно устроен и не стою ваших забот, право. Не подумайте, что я пытаюсь от вас избавиться, вы же в собственном доме, но, я хочу сказать, что со всем уважением к вам и вашему почтенному батюшке, не желая обидеть, но я устал и хочу спать… – я мямлил что-то еще, тщетно плетя защитную завесь из сложных великосветских построений, когда она смела её одним касанием, погладив мои короткостриженные волосы.
– А ты красивый! Ты всегда спишь голый?
– Я не голый… я под одеялом…
– У тебя сильные руки, – и она провела своей теплой маленькой ладошкой по плечу, чуть сдвигая вниз покрывало. Так. Меня форменным образом… клеили, к чему я совсем не привык.
Это следовало прекращать. Во избежание политического скандала.
– Мы уже на ты? – поинтересовался я, отодвигаясь. Девушка неверно истолковала мое движение и легко переместилась на освободившейся край кровати. Её крепкие, ягодицы четко вырисовались под натянувшимся шелком. Она перехватила мой взгляд и усмехнулась.
– Я же хозяйка, как ты верно заметил. Мне все можно.
– Послушай, хозяйка. Ты девочка пятнадцати лет. Зачем ты это делаешь? Тебе не стыдно? Что бы сказал твой почтенный отец?
– Во-первых, мне шестнадцать, – смешно нахмурилась она. Потом перекинула руку на другую сторону кровати, буквально нависнув надо мной, так что я мог легко созерцать почти вырвавшиеся из шелкового плена совершенные полушария её бюста. Очень немаленького, надо сказать. Гораздо больше чем у Гелиан, (тьфу, черт, опять) и очень упругого! – Во-вторых, я разве делаю что-то не так? В-третьих, мне совсем, совсем не стыдно. В-четвертых, мой почтенный отец нализался с Адамом вина и раньше полудня не проснется. – Она хитро улыбнулась, отчего её хорошенькое личико сделалось просто очаровательным, – и потом, где ты видел девочек в шестнадцать лет?
– Я… я…
– Господи, когда ты смущаешься, ты еще краше. Смотри, весь покраснел. – Её губы оказались напротив моих. Совсем близко. Совсем. – Только не говори, что ты еще девственник, а то я совсем зазнаюсь.
– Нет, но нам не следует продолжать. – Придушенно сказал я. И душило меня вовсе не невесомое тело Порции.
– Почему, глупенький? – прошептала она совсем тихо. Я собрал все свое мужество и волю в кулак и изрек, как мне показалось весомо:
– Потому что. Нельзя. Это раз. И я не хочу. Это два.
Порция вскинулась, вскочила на ноги одним ловким и слитным движением. Её густые брови были сведены в грозную дугу, а карие глаза сверкали. Она ответила мне в тон:
– Для меня нет слова нельзя. Я беру все что хочу. Или кого. Это раз. Сейчас я хочу тебя. Это два. – Юная хозяйка большого дома резко выкинула руку вперед и в миг сорвала одеяло, оставив меня совершенно голым, как есть. Я и в самом деле спал без одежды, так как предельно устал за долгие месяцы похода спать не раздеваясь. Она опустила взгляд в геометрический и так сказать физиологический центр моего тела. Лицо её засияло в торжествующей улыбке:
– Ну вот. А говорил „не хочу“! Врушка! – Какое там „не хочу“. Мое естество буквально вопило обратное, направив к небесам свой… э-э-э… рупор. – А ты и в самом деле хорош. Каков жеребец! – Не сделав попыток прикрыться, теперь это было бы глупо, я запоздало прибавил голосу военного металла:
– Развернись и выйди из комнаты, малолетка!
– Развернуться? Да пожалуйста! – одно неуловимое движение и белый шелк стек к её ногам, а девушка осталась во всем своем смуглом великолепии. Не знавшем косметики, химии и пищевых концентратов. Это невозможно, но „рупор“, будем его так называть, сделался еще тверже и уже, казалось, звенел.
Она удовлетворённо обозрела дрожь моей плоти и, танцуя, раскинув в стороны руки, в самом деле развернулась ко мне спиной. О! До чего же она была красива! В полумраке и гуляющих ночных тенях, душный сумрак феррарской ночи обволакивал её молодое, ждущее тело прозрачным покрывалом желания. Она не прекращала своего медленного танца и легко оседлала меня, словно умелая наездница необъезженного коня. Больше она ничего не говорила.
Да и я тоже, потому что все мои слова она запечатала долгим поцелуем.
А потом Порция показала, что она и в самом деле опытная наездница, и что из этого следует логически, давно не девочка. Ушла она только под утро. Все это время мы не спали ни секунды…»
Из дневника Адама Райсснера.
30 июля 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
«И еще раз о моих опасениях.
…готов биться об заклад, что Гульди все-таки познал сеньору Порцию Джованьолло, презрев настоятельные мои остережения. Остается молиться, что Лукка ничего не знает и не узнает, так как большинство феррарок к этим годам давно лишаются невинности, так что неуемный нрав Пауля ничего не испортил. Иначе мы рискуем потерять ценного осведомителя и хорошего друга. В одном я совершенно спокоен, даже напившись пьяным, Пауль не станет трепаться о своих амурах, что выгодно отличает его от большинства наших соратников.
О пути нашем по землям Венеции.
Мы пришли в земли Республики. В самом скором времени нас ожидает город на море, коему покровительствует Святой апостол евангелист Марк, и наше задание, а вернее сказать часть его. После, если Бог даст, и будем живы, мы направим коней в Рим, а потом во Флоренцию.
Феррарскую миссию нашу можно считать выполненной. Предварительный отчет составлен и отправлен ко двору императора с верным человеком. Полные и подробные сведения хранятся у меня, и отвезу их только я или Пауль, если по Божьему попустительству со мной что-либо приключится.
По настоянию моего спутника мы попросились на ночлег в один францисканский монастырь, который очень ему приглянулся. Он сказал, что давно не видел такой совершенной и лаконичной архитектуры. А я ответил, что его вкус весьма состоятелен, и что это, в самом деле, древняя постройка от конца двенадцатого столетия. Я очень хорошо знал эти края и эту святую обитель, посвященную пресвятому апостолу Марку, как многое в землях Республики.
Отец настоятель Фра Альберто, в прошлом тирольский мелкопоместный дворянин, принял нас ласково и предоставил кров. Выспавшись, я и мой товарищ подошли к мессе, а после с наслаждением осмотрели превосходные фрески и иконы. Многие из них, как рассказывал нам настоятель, принадлежали кисти несравненного Амброджо Лоренцетти – из почтенной школы старых мастеров четырнадцатого столетия.
Великолепное Распятие вызвало настоящий восторг Пауля, который и на миг не мог от него оторваться, созерцая блеск итальянского живописца с полчаса, чем чрезвычайно растрогал фра Альберто, не ожидавшего подобной чуткости от случайного путешественника. Спутник мой и товарищ не преминул задать несколько тонких и умных вопросов о манере живописи и традиции изображения.
Часть разговора, в коем я принимал непосредственное участие, заслуживает точного пересказа. Пауль спросил: „отчего римские солдаты, охраняющие Святой Крест, вооружены и одеты столь странно? Я не знаю, как выглядели легионеры Кесарей, но вряд ли они могли одеваться так, как они изображены.“ Фра Альберто ни мало не смутился и продолжал отвечать спокойно и рассудительно, что выдавало знающего и образованного человека: „Дорогой мой гость! Твоя правда, солдаты и горожане, и крестьяне, и весь прочий чин изображаются на иконах, в священных книгах и прочих духовных произведениях, так как видит иконописец или миниатюрист в момент создания полотна или миниатюры. Я сам, просмотрев множество превосходных работ по всей Италии, Бургундии и Германии, изумлялся, отчего старые произведения изображают, скажем римлян, в платьях и оружии своего времени? На полотнах кватроченто мы видим латы того же времени, а картины наших современников показывают нам тех же персонажей одетых точно как рыцари или пехотинцы одеваются в наши дни. А ответ в том, мой дорогой гость, что духовное полотно – не более чем символ, не требующий точной передачи деталей, но служащий возвышению духа в молитве. Детали же служат возвышению разума, который в гордыне своей может победить дух, что в служении веры недопустимо“.
Так он говорил, а я вспомнил весьма к месту, что знаменитые византийские мастера никогда не употребляли и по сей день не употребляют в своих иконописных работах перспективы, показывая тем, что изображенное имеет надмирное значение и бытие, не подвластное нашим земным суждениям и правилам.
Наш разговор так понравился и так растрогал доброго фра Альберто, что он благословил нас на дорогу и подарил по меху доброго монастырского вина. Из этого происшествия я вынес, что путешествию нашему это доброе предзнаменование и знак милости Господней, после чего вознес в сердце своем горячую молитву, и мы тронулись в путь…»
Из дневника Пауля Гульди.
5 августа 1522 г.
«Венеция! Удивительный памятник человеческому упрямству и гению. Посреди морских вод на сваях и насыпях, под защитой дамб стоит прекрасный город, улицами которому служат каналы, а средством передвижения – гондолы. Строения непередаваемо красивы и изящны, а вода в каналах непередаваемо смердит. Говорят, будто весной с дождями вся грязь и вонь уходит. Не берусь судить. Первое впечатление такое, что не любоваться этим сказочным городом и, более того, не восторгаться им также невозможно, как и жить в нем.
Адам целыми днями пропадает у своих агентов. Кажется, он знает тут всех от офицеров городской стражи до сенаторов. Я постоянно при нем, что совершенно не утруждает меня, так как Адам человек умный и глубокий, а сведения, что текут полноводным ручьем, бесценны как для императора, так и для моих наблюдений.
Если отжать ненужные подробности, картина складывается вполне удовлетворительная. Никому в Республике война с Карлом не нужна, боле того, всем осточертела. Выгод никаких, а расходы и опасность огромны.
Нынешний дож стар и тяжко болен. Дни его сочтены. Судя по всему, новым дожем не сегодня-завтра станет „благородный Андреа Гритти“, который заключит мир с Карлом. Адам заверяет всех, что „подарки“ императора в этом случае не заставят себя ждать и будут весьма щедрыми.
Честно говоря, для личного дневника здесь мало материала под запись. Всё настолько благополучно проистекает, что, право, не интересно рассказывать. Для официальной отчетности у меня совсем другие ресурсы, как вы догадываетесь.
Сегодня удалось заглянуть краем глаза в книжечку Адама, где он ведет свой дневничок. Хитрюга тоже все шифрует. Не доверят бумаге, как и я. И правильно делает. Что написал один – узнают все. Шифр правда, вряд ли сложный, но так, с налета, мне его разгадать не удалось. Любопытно, что он думает обо мне? Не знаю, если будет возможность, обязательно почитаю, а если получится и скопирую, хотя это и неприлично и между друзьями не принято. Пусть оправданием мне послужит мой статус наблюдателя и пришельца, не проникнутого местным этносом…»
Из дневника Адама Райсснера.
25 августа 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
«О делах венецианских и пути в Рим, и некоторых римских впечатлениях…
…проклятая суматоха не давала возможности сесть за дневник почти полный месяц. Это слабое оправдание, недостойное доблестного и благородного мужа, ибо невнимание к внутренней дисциплине и послабление её нельзя оправдать ничем, даже самыми неотложными делами, ведь лени, а именно этот червь, безо всяких сомнений, точит нас изнутри, нет оправданий, особенно лени разума.
И вот теперь я с тяжелым сердцем принимаюсь за брошенное по слабости моей писание.
Слава Богу, венецианская наша миссия закончилась более чем успешно. Заверения в преданности получены, авансы и обещания переданы верным адресатам. Итак, семена брошены, остается ждать всходов.
По моему мнению, только чудо, а точнее диавольские происки, могут остановить выход Республики из войны и заключение мира с нами. Сеньор Андреа Гритти прямо мне заявил: „пусть мои глаза лопнут, а в печень ужалит скорпион, если я, став у кормила, не поверну нашу галеру от войны к миру на следующий же день“. Под галерою он образно подразумевал саму Венецию, которая почитается владычицей морей и часто сравнивается с кораблем.
Этот благородный рыцарь произвел на меня самое положительное впечатление, хотя и был в тайном общении с нами менее чем бескорыстен. Скептик, что проснулся в моем попутчике и любезном друге заставил так прокомментировать достигнутое соглашение: „Разумнейший и любезный друг, Адам! Мне кажется, что искренность чувств и заверений вероятного будущего дожа благородного Андреа Гритти дались нам слишком большой ценой и еще большими обещаниями.
Любой государь при таком расположении к себе встал бы на путь дружбы и расположения, но не будет веры такой дружбе, ибо она куплена за деньги, а значит, непрочна“. Рассуждение верное со всех сторон, но малоопытный в дипломатии Пауль, не учел, что фундамент нашего соглашения поддерживает отнюдь не мягкое золото, а грозные острия наших пик, золото же не более чем украшение на фасаде здания нашей скорой дружбы с Венецией.
Я даже поспорил на три гульдена, что не позже августа следующего года будет подписан мир, а скорее всего раньше.
Путешествие наше до Рима заслуживает мало внимания, ибо, что может быть спокойнее и проще, чем сесть на прекрасный, прочный и весьма обширный венецианский галеас и проплыть до Анконы?
Не могу не признать, что море я, хоть и люблю за его первозданное величие, но не всегда сохраняю силы перед лицом качки. Благодарение Богу, что сейчас лето и не коснулись нас своими темными крылами жестокие осенние шторма.
В Анконе мы передохнули и направили наших коней в Перуджу, где поселились у купца, большого друга моего шефа и наставника Георга фон Фрундсберга, который снабдил нас помимо пищи, вина и крова самыми последними сведениями, касательно дел торговых и военных поставок в Риме. Из гостеприимной Перуджи мы переправились в Рим, сплавившись на большой барже по Тибру.
Право слово, рекой, благослови её Бог со всеми святыми, путешествовать куда спокойнее чем морем!
Рим встретил меня суетою великой и скоро уже пять дней, как я не мог приняться за свой дневник, чему не может быть оправдания, о чем я уже писал выше. Военные приготовления здесь ведутся не на шутку.
Укрепляются стены, расширяются рвы, запасаются материалами для постановки валов и больверков, в Замок святого Ангела завозится дополнительная артиллерия и аркебузы с припасом, а также зерно и мука, что подробно записано мною в специальном отчете.
Нет сомнений, что в самом скором времени нам придется попробовать на зуб, сколь крепок сей орех, хотя, пока ничто этого не предвещает. Завтра меня ожидает встреча с одним местным инженером, у которого я якобы консультируюсь по вопросам фортификации. Инженер этот руководит возведением предстенных и предвратных укреплений.
Вечером мне предстоит выпивать и ужинать с офицером, который ведает закупкою порохового припаса, я официально являюсь здесь поверенным лицом одной пороховой фактории. Понятно, что ни первый, ни второй человек на страницах частного, пусть и шифрованного дневника, названы быть не могут, равно как и фактория, что дает мне прикрытие.
Возможно, годы встанут нерушимой стеной между нынешними событиями и этими людьми, что позволит когда-нибудь открыто написать слова признательности в их адрес.
Несколько слов о Пауле Гульди, моем спутнике.
…стыдно признаться, но надо быть честным, хотя бы перед самим собой. Я заглянул в дневник, что ведет мой товарищ Пауль Гульди.
Это недостойно и плохо и требует раскаяния на исповеди, что я не замедлю совершить в ближайшее воскресенье.
К счастью, хоть это и слабое оправдание, Пауль предусмотрительно шифрует свои записи, не доверяя вполне бумаге, ведь что написал один, знают все! Тем не менее, при первой возможности я обязан буду эти записки заполучить, копировать и расшифровать, ибо миссия моя слишком ответственна, чтобы пускать на самотек такие вопросы, как тайные записи моего попутчика. Мало ли что он там пишет?..»
Из дневника Пауля Гульди.
30 августа 1522 г.
«…никогда бы не подумал, что Адам Райсснер, которого я почитал „железным человеком“ так плохо переносит морское путешествие. Я родился на море, мне его страданий не понять. Когда мы встали на волну, хотя, какая это волна, так – легкая рябь, его немедленно начало тошнить. И блевал он так долго, что я не раз подивился, где в человеке помещается столько гадости? Я трижды подумал, прежде чем согласиться идти до Рима по реке Тибр, потому что второго захода его морской болезни я бы не выдержал. Не могу так долго смеяться. Но, все обошлось.
Отдельного слова заслуживают моряки. Они бесстрашно плавают, или, как здесь принято говорить, „ходят“ по морю на таких утлых суденышках, что описать трудно. Наш корабль считался большим и надежным океанским судном. Всего в нем было от кормы до носа сто футов, так что ни малейшего доверия он мне не внушал, тем более, что даже на малой волне его корпус скрипел всеми своими деревянными сочленениями, как будто готовился отдать вот-вот Богу душу, то есть попросту утонуть вместе со всеми нами.
– Ты неплохо держишься, парень, – сказал мне шкипер к концу первого дня пути. – Из тебя бы вышел отличный моряк, если хочешь, оставляй своего заблеванного приятеля и вали ко мне. С виду ты крепкий и не из робких, такие мне нужны. Так что я предложил.
– Прощения просим, но дело мое мне по душе – ответил я, глядя на моряка как можно более учтиво, – и „заблеванного“ приятеля я никак не могу бросить, потому что не приятель он мне, а хороший друг.
– Ну как знаешь. Если что, я Джузеппе Триболо, венецианец. Спросишь любого в порту, тебе покажут. Надумаешь, милости просим.
– Простите любезный, – осведомился я в свою очередь, – Всегда хотел поинтересоваться, но не представлялось случая. Не боязно ли вам, я не вас лично имею ввиду, а коллег ваших по морскому делу в целом, не страшно ли бросать вызов стихии на таких небольших деревянных корабликах?
– Ты где больше-то видал парень? – капитан насупился, сдвинув седые кустистые брови, – моя лохань совсем не маленькая! А что до боязни… – он с заметной гордостью ухмыльнулся и подкрутил ус, лицо его разгладилось, а голос по-молодому зазвенел, – корабли деревянные, да не в них дело! Главное, мы – железные!
– Ладно, парень, бывай, служба зовет, – закончил разговор морской волк и напоследок крепко хлопнул меня по спине.
…
…по сей день в Риме.
Разговоры о нестяжательстве католического духовенства, что вел настоятель францисканского монастыря, на поверку оказываются не более чем словами. Ватикан поражает роскошью. Слов нету, чтобы все увиденное описать.
– Францисканцы, мой друг. Францисканцы, вот в чем соль. – просветил меня Адам, взявший на себя роль Вергилия, – этот орден проповедует бедность телесную, ради богатства духовного. Паписты же превратили веру в доходное ремесло и прикрываются красивыми славословиями. А сами живут в роскоши, торгуют индульгенциями и все такое прочее.
– Не замечал тебя, друг мой, в приверженности идеям Лютера… – вопросил я, так как начал свободнее плавать по морям местных религиозных учений и не преминул отточить свое умение.
– Безусловно нет. Я католик. Но реформировать церковь пора уже давно. Иначе мы пожнем такую кровь, что все нынешние войны покажутся милой детской забавой. Стяжание богатства духовного и земное обогащение – несовместные вещи. Помнишь, что сказано в Евангелии насчет богатого, игольного ушка, верблюда и Царствия Небесного?
– Так Лютер и реформирует.
– Нет, мой друг, нет. Знаешь что такое реформа?
– Ну?
– Не нукай. Реформа есть изменение с целью улучшения. – Согласен?
– Ну!
– Так вот, если так, то реформировал Ян Гус. Больше века с тех пор прошло. Лютер не реформирует, Лютер уничтожает. На месте разрушенного, строит нечто новое. Не совсем христианское, если посмотреть. Или, скорее, совсем не христианское. А помнишь, что сделали с Гусом?
– Ну?
– Его сожгли за ересь. Вот теперь пожинаем плоды „просвещенной“ политики далекого Констанцского собора… Какой-то ты сегодня немногословный?!
Все таки, Адам умнейший человек. Такой ясной манеры выражать свои мысли не часто встретишь даже в стенах моей родной Академии. Даже среди профессорского состава. Когда герр Райсснер не блюёт, поговорить с ним одно удовольствие. В качестве примера приведу наш обмен мнениями по поводу избрания нового дожа Венеции.
– Адам, мне новая имперская креатура не кажется надежной.
– Отчего, позволь полюбопытствовать? С каких пор ты стал разбираться в политике?
– Нечего и разбираться. Гритти и его прихлебатели уже получили кругленькую сумму. А ты вполне прозрачно наобещал еще, так что они естественно будут сдувать с тебя пыль и лить оливковое масло в задницы имперским дипломатам. А как получат всё, что хотели, так снова примутся за старое, сиречь, полезут воевать. Не доверяю я таким „благородным рыцарям“. Торгаш он торгаш и есть. Взял свое и гори всё огнем. Пошлёт он вас в скором времени, ой пошлёт! А если французы предложат больше, так и ещё скорее.
– Пауль, у тебя превосходный выпад в терцию. И удар unterhau несравненный. Вот и занимайся тем, к чему у тебя призвание. Дипломатию оставь знающим людям.
– Ёрничаете, господин секретарь?
– Да, так как ты заслужил.
– Это чем же? – тут Адам устало прислонился к стене дома, а дело было на улице, по дороге к замку Сан-Анжело, придал лицу и голосу поучительное выражение и молвил вполне веско:
– Ты упустил очевидное. Во-первых, сейчас Валуа не в состоянии подкупить даже самого себя, не то что жадных венецианцев. Во-вторых, и это самое главное, пока наши пики щекочут им задницы, эти купчины будут мягче воска и сговорчивее жида, которому предлагают беспроцентный кредит. Война с нами невыгодна. В противном случае, мир стоил бы гораздо более весомых сумм. И те не были бы гарантией. Так что наша задача: одной рукой набивать им кошелек, а другой покрепче закручивать яйца в тисках. Вопросы еще будут?
Нельзя не согласится, – подумал я и помотал головой. В том смысле, что вопросов больше не имеется. Каждое слово, как полновесная гиря. Весомо.
…
Рим – город невероятный. На каждом шагу встречаются следы древней, угаснувшей цивилизации, настолько мощной, что магия её имени до сих пор жива. Этот мир обязан тому, ушедшему Риму многим, если не сказать почти всем.
Основы права, медицина, теория архитектуры… даже воевать здесь учатся по древним римским наставлениям. Я читал некоторые из них. Армия моего родного мира могла бы гордиться такими.
На собственном опыте я узнал, что воевать эти люди умеют. Но армия, как отлаженный инструмент, сейчас сильно уступает древнеримской. Вообще, у меня сложилось впечатление, что все двенадцать веков, минувшие с момента заката старого Рима, Европа, что есть сил, пытается воссоздать утраченное когда-то величие. Чем больше я читаю, чем больше получаю данных об этом мире, тем сильнее мое убеждение.
Завтра мы заканчиваем дела в Риме и отправляемся во Флоренцию. Это союзный город, там уже десять лет правят Медичи, чей престол восстановили алебарды имперских войск. Скрываться и осторожничать особо нам не придется. Я рассчитываю там отдохнуть, прийти в себя, благо времени предостаточно – не менее трех месяцев. Адам не скрывает аналогичных желаний.
Бедняга. Говорит, что за всей этой несчастной свистопляской, закрутившейся с началом кампании, он был занят настолько, что уже четвертый месяц не видел женщины. Тяжеловато для здорового мужчины в двадцать шесть лет. Я его понимаю. Ибо сам просидел на голодном пайке еще дольше. Страшно подумать, больше года.
Кстати, мой друг не так нелюбознателен, как я полагал. Нет сомнений, что он пытался читать мой дневник. Теперь мы квиты. Ха-ха-ха, при случае, я предложу ему поменяться шифрованными нашими записями. Он точно примет вызов. Его шифр против моего. Ну не сволочь ли я?!»
Из дневника Адама Райсснера.
19 сентября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
О Флоренции и некоторых делах.
«Вот уже пять дней мы пребываем в этом замечательном городе. Наконец все письма отосланы, отчеты составлены и дела, требующие моего и нашего непосредственного участия, на время остались позади, так что мы можем вкусить заслуженного отдыха.
Отдых – относительное понятие, но в сравнении с суматошными днями, что так и мелькали мимо меня на всем протяжении этой поистине исторической кампании и путешествия нашего, плавное течение дел во Флоренции – настоящее отдохновение. Живу я со вчерашнего дня под гостеприимным кровом сеньора Тассо, которого зовут редким именем Икар.
Это опытный солдат, который служил под имперскими орлами в нескольких войнах, превосходный знаток оружия и всего что с ним связано. Наш хозяин состоятельный человек и тонкий ценитель искусств, его дом за площадью Сен-Галло похож на настоящий дворец – хранилище рукотворной красоты.
Для собственного удовольствия он держит фехтовальную школу, которая пользуется большой известностью, благодаря воинскому искусству и педагогическим талантам сказанного сеньора Тассо.
Мой друг и товарищ Пауль Гульди вчера выехал в его загородную резиденцию. Не могу раскрыть его странную нелюбовь к городам, в этом есть что-то патологическое. Пауль всегда жалуется на скверные запахи, которые, якобы, донимают его внутри городских стен. Или обоняние его тоньше собачьего, или он просто ищет предлога, чтобы как можно меньше находиться за каменными забралами.
Я склонен подозревать в нём некую ослабленную разновидность клаустрофобии – боязни закрытых пространств, ибо никаких других разумных объяснений для столь странного поведения не могу найти.
Без сомнений, свежий воздух полей и лесов куда милее городской духоты, но право, никакой страшной вони, на которую не устает жаловаться мой компаньон, здесь не обретается.
Теперь Пауль вынужден каждый день проезжать полторы мили от местечка Чинкьяветто до Римских ворот, для того чтобы попасть в город, впрочем, это его дело.
Пауль и Икар Тассо быстро сошлись. Пауль увидел прекрасные шахматы черного дерева и слоновой кости, вырезанные с замечательным искусством, и сказал: „не сыграть ли нам, высокочтимый и гостеприимный хозяин?“ На что сеньор Тассо откликнулся с воодушевлением.
Они весь вечер провели за фехтованием на клинках холодного разума, а на завтра уговорились встретиться в школе Тассо для обмена опытом в фехтовании на клинках холодной стали, так как оба имеют к этому занятию склонность превеликую. Не премину взглянуть, ведь я, не хвастаясь, могу сказать, что и сам не последний знаток сего ремесла.»
Из дневника Пауля Гульди.
20 сентября 1522 г.
«Я не разделяю педантичное отношение к ведению дневника, подобно Адаму. У него день всегда заканчивается обязательным ритуалом заполнения своей книжечки и короткой молитвою. Если по каким-то причинам до пера и чернил добраться в срок не получается, мой друг неизменно приходит во фрустрирующее настроение, как будто ему жмет башмак или донимает бурление живота. Тем не менее, пора и мне приняться за писанину.
Сегодня насыщенный день. С утра великолепно прогулялся верхом. Очень доволен, что могу спать на свежем деревенском поветрии, не вдыхая кошмарных миазмов, коими пропитан в городе каждый мельчайший квадрат пространства.
За шахматами я разговорился вчера с маэстро Тассо и сегодня посетил его школу фехтования; чрезвычайно колоритный персонаж и школа его более чем познавательна. Но обо все по порядку.
Маэстро – крепкий малый лет тридцати, насколько я научился определять на глаз возраст аборигенов. Одевается не без щегольства, что, впрочем, не редкость среди людей военного сословия. Он широколиц, смугл, горбонос, что является прямым следствием нескольких переломов. Переломы, в свою очередь, происходят от его вспыльчивости и склонности к кулачным боям в трезвом и не трезвом виде, а выпить Тассо совсем не дурак.
Адам просветил меня, что алкоголь производит на нашего хозяина двойственный эффект: он или погружает его в пучину пафосного настроения, в котором он может часами разговаривать о мужестве, доблести, воинском этикете и понятиях отношений в мужском коллективе, или же сообщает неисчерпаемый заряд бодрости, которая подвигает его к немедленным поискам приключений мордоразбивательного свойства. Оба эти состояния могут незаметно и резко сменять друг друга.
Другое свидетельство бурной биографии украшает левую сторону черепа Тассо, куда, в свое время, воткнулся топор пикардийского наемника во время разудалой кабацкой драки. Лекарь ловко запечатал дыру в кости серебряной пластиной. Так что Тассо очень легко отделался. Эту историю он мне сам рассказал за шахматами и выпивкой.
В полдень я приехал в школу фехтования. Собственно „фехтовальной“ в узком смысле она не являлась, так как здесь учили и борьбе и кулачному бою, а так же занимались физической подготовкой, увлеченно поднимая каменные гири, метая мячи, набитые песком, вращая тяжеленные палицы и металлические ломы.
Маэстро задерживался – он был очень занятой человек и часто пропадал по делам торговым. Ваш скромный повествователь немедленно познакомился с распорядителем школы, воспользовавшись рекомендацией хозяина, и проследовал в храм смертоносных искусств, что располагался по случаю теплой погоды во дворе.
Там кипела работа. Несколько пар с воодушевлением шваркали друг дружку на песок, отрабатывая броски. Под колоннадой раздавался звон стали. Юные дворяне учились протыкать себе подобных. Фехтмейстеры заставляли их обрабатывать мишени: соломенные чучела или деревянные щиты, расчерченные на сектора и зоны. Трое или четверо кололи маленькие деревянные плашки, подвешенные на шнурках к перекладинам. При каждом попадании легкие плашки начинали раскачиваться, так что поймать их на острие делалось всё сложнее. Другие топотали на размеченных дорожках, или шагали в кругах на полу, осваивая искусство фехтования во всем пространстве: укол – уход – укол, защита – укол – уход. И все такое прочее. Знакомая каждому фехтовальщику рутина.
Мое появление не осталось незамеченным. Предусмотрительный Тассо успел предупредить о прибытии „именитого мастера из Германии“.
– Всем смирно! – раздалась звучная команда фехтмейстера, – нашему гостю салют! – ученики замерли и поприветствовали мою персону воздетым оружием. Мне стало неловко. Не привык к такому обращению. На дворе повисла тишина. Все смотрели на меня и стояли столбами, надо было что-то делать, решил я, чувствуя, как начинаю краснеть.
– Спасибо, уважаемые! Продолжайте занятие, не обращайте на меня внимания! – громко изрек я, стараясь чтобы голос звучал уверенно. „Уважаемые“ только этого и ждали, вновь принявшись наполнять сталь шпаг и свои организмы усталостным напряжением.
Ко мне подошел фехтмейстер и представился:
– Кастор Беневенто, к вашим услугам. Вы, если я правильно понял сеньор…
– Пауль Гульди, к вашим услугам, – и мы раскланялись.
– Не угодно ли присоединиться? Желаете скрестить клинки с кем-нибудь? Или вы просто любопыствуете?
– С удовольствием. Сперва рассчитывал „просто полюбопытствовать“, но у вас такая располагающая обстановка, что руки сами ищут шпагу.
– Благоволите. Выбирайте пару и оружие.
– Позвольте для начала разогреться.
– Извольте, – ответил Кастор и сделал широкий приглашающий жест.
Да, Икар Тассо создал все условия. Это вам не ландскнехтский плац. Стойки с тренировочным оружием на любой вкус, фехтовальные колеты на специальных полках, кувшины с питьевой водой (ого-го, не пивом, не вином – водой!), умывальники, словом – красота.
Я размял суставы, (особенно меня беспокоил левый локоть, что я повредил, размахивая двуручником при Биккока), попрыгал, подышал и пошел „скрещивать клинки“, думая по дороге, что вот это моё, и что, уйдя со службы, обязательно открою точно такую же школу. Или даже лучше.
Фехтовать здесь умели. Первый противник – мальчик лет пятнадцати-шестнадцати, с которым мы сошлись по рекомендации сеньора Беневенто на шпагах и дагах, заставил меня попотеть и даже один раз зацепил голень. Так я развлекался с пол часа, сменив пятерых партнеров. У меня прибавилось хорошего настроения и пара синяков.
Повторюсь: фехтовать здесь умели. Вот только никто даже в зачатке не имел представления о выпаде, неотвратимом, как сама смерть, который так усердно вколачивал в меня Тиу-Айшен во время оно. Аборигены придерживались обычной для этих мест „школы маленьких шагов“, не догадываясь ещё о преимуществах стремительного броска вперёд. Да и рипостной игрой: удар – защита – удар – защита, здесь заметно пренебрегали, предпочитая сочетать парад и рипост в единой оппозиции.
Когда последний противник закончил поединок, схлопотав шпагой в живот и дагой в шею, и отсалютовал, я обнаружил, что за нами наблюдает вся школа, столпившись вокруг площадки.
– Всем разойтись заниматься, – раздался резкий окрик Кастора Беневенто. – Не желаете попробовать большой меч в моей компании? – обратился он ко мне, когда вся расползлись по своим местам, и мы остались в относительном уединении.
– Почту за честь, – последовал мой ответ. „Большие“, сиречь, полутораручные мечи были дивно хороши. Идеальный тренировочный инструмент. От боевых их отличало отсутствие заточки и широкое круглое окончание вместо острия.
Сеньор Беневенто оказался серьезным специалистом. В отличие от моих германских коллег он не кидался в самоубийственные атаки, грамотно смещаясь в стороны и парируя мои выпады. Одно удовольствие фехтовать с культурным человеком, который не норовит после первых двух ударов прыгнуть вперед и навернуть гардой в ухо. Чтобы провернуть подобный фокус с Кастором не могло быть и речи, слишком искусно он сплетал узор из движений клинка.
Все таки, излишняя академичность его подвела. После того как мой соперник трижды попался на укол с оппозицией: дважды в терции и один раз в секунде, чувствительно получив в плечо, подмышку и бедро, он остановился, отсалютовал и промолвил, не скрывая восхищения:
– Сеньор Тассо как всегда оказался прав! Вы превосходный боец.
– Вы преувеличиваете, но все равно, спасибо. Чрезвычайно приятно иметь дело с грамотным фехтовальщиком, – не остался в долгу я. Ох уж мне эти церемонии на площадке. Не привык. Смущаюсь. По мне куда уместнее скупые матерные реплики.
Кастор извинился и оставил меня одного, вернувшись к своим непосредственным обязанностям. Но скучать пришлось не долго.
Пока я стягивал кожаный колет, стеганный на конском волосе, и умывался, у меня образовалась компания в лице невысокого молодого человека с аккуратной бородкой, тонкой ниткой усов и цепким взглядом широко посаженных глаз. Глаза приковывали внимание. В них прямо таки плясали черти, горели огоньки и бились страсти. Очень внимательные глаза, я почти физически ощущал их теплое прикосновение, казалось, что за секунду моя персона была полностью обмерена и взвешена. Интересный персонаж, решил я. Кто бы это мог быть?
„Интересный персонаж“ поспешил удовлетворить мое любопытство:
– Добрый день, сеньор! Позвольте представиться, меня зовут Бенвенуто Челлини, вы изволили скрестить со мной шпагу пол часа назад. – Ну точно, я с ним бился, кажется вторым по счету? Челлини, Челлини, что-то знакомое… во время вояжа по Италии это имя я уже слышал, вот только где и в связи с чем?
– Пауль Гульди, к вашим услугам. Впрочем, сеньор вероятно уже слышал мое имя?
– Слышал, слышал. Кастор так орет, что уши закладывает, – ответил он, очевидно, имея ввиду мое знакомство со школой. – Не буду говорить, какой вы мастер своего дела, боюсь, что восторгами вас уже одолели, но мой интерес к вам вызван именно вашим искусством. Я художник. Скажу, не таясь и не принося ненужных жертв богу скромности, что я именно Художник с большой буквы – в моем деле со мной мало кто сравнится. А так как я по-настоящему велик, то испытываю неодолимую тягу и интерес к тем, кто достиг высот мастерства в чем бы то ни было. Не угодно ли прогуляться в теньке? Я думаю, у нас есть о чем поговорить.
Вот это скромняга! „Художник с большой буквы „Х“, непревзойденный мастер“… Точно! Челлини! Молодое флорентийское дарование, о котором только и разговоров было от Венеции до Рима! Скульптор, ювелир, чеканщик, гравер, живописец, музыкант, поэт. Его дароносицу я видел в Папском дворце, и, кажется, золотого дельфина… Да… если я когда-нибудь достигну таких вершин хоть в чем-нибудь, можно сказать, что жизнь удалась. Ну что же, с таким человеком я не прочь и пообщаться. И мы начали общаться, вышагивая по гулким плитам в тени колоннады.
Надо сказать, что „общался“, в основном, Челлини, а я слушал и мотал на ус. Этот, несомненно умный флорентийский гений, обладал красноречием записного оратора и неисчерпаемым запасом хвастовства.
Я успел выяснить, что Бенвенуто лучший ювелир, скульптор и прочая, прочая. Что его шпаги боится половина Италии, а вторая половина не боится только потому, что не видела его в бою. Что Микельаньоло Буанароти и Рафаэль – великаны искусства, но он уже с ними вполне сравнялся, и это в юном возрасте, а с годами он превзойдет их и не только их. Что у него море заказов от самых знатных и богатых людей Европы. И все в таком духе. Что Торриджани[45] – отличный мастер, но ремесленник и не более того. Что он не имел права бить морду и ломать нос Микельаньоло, потому что тот – гений, в то время как Торриджани – ремесленник. И прочая. И так далее.
Мы договорились встретиться завтра в полдень на площади перед Советом Сеньории, где выставлены картоны[46] божественного Леонардо да Винчи и Микельаньоло, сделанные по заказу Пьетро Содерини, которые я просто обязан увидеть, как человек образованный и тонко чувствующий. После дворца Совета я непременно должен пойти в один кабачок, где собираются лучшие художники Флоренции. И так далее. Короче говоря, на завтра у меня весьма обширная программа.
Когда мы распрощались, вашего покорного слугу слегка пошатывало. Господи, да разве может в человеке быть столько энергии!?
Тассо в школе так и не появился.»
Из дневника Адама Райсснера.
21 сентября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
Флоренция. О посещении дворца Совета Сеньории и знакомстве с художественным сообществом.
«…после того, как Пауль Гульди любезно пригласил меня с собою. Картоны, что хранятся в Совете Сеньории, чудесны, слов нет, чтобы описать их великолепие. Не даром, люди искусства почитают их настоящей школой живописи, ибо два титана, чьим мастерством восхищается вся Европа, в этих работах превзошли сами себя.
Ничтожный Пьетро Содерини, которого наши войска с треском вышибли из Флоренции в 1512 году, этим заказом, пожалуй, навсегда обессмертил свое имя. Пройдёт жалких двести лет, и кто такой Содерини никто и не вспомнит, может быть, кроме нескольких пропитанных пылью служителей Клио[47]. А имена Леонардо и Микельаньоло пребудут в веках, и хитроумный Пьетро навсегда приклеится к их славе.
Право, история сохраняет не только геростратов, чему не может не радоваться сердце образованного человека.
Полотно да Винчи изображает триумфальную победу флорентийской конницы над сиенцами в битве при Ангиларе 1440 г. Момент, когда под ударами мечей падает знамя Сиены предан с великой живостью, так что кажется, что ты оказался там – в пылу сражения, лязг доспехов и звон клинков, а рука всякого настоящего солдата, хоть раз вкусившего смертельной карусели, сама ищет рукоять шпаги.
Микельаньоло живописал битву при Кашине 1364 г.
Из вод реки Арно выбегают обнаженные пехотинцы, поднятые тревожным сигналом труб, и спешат к своему оружию. Как говорил Бенвенуто Челлини, и как я это запомнил: „с телодвижением таким прекрасным, что никогда ни у древних, ни у других современных не видано произведения, которое бы достигало такой высокой точки мастерства“.
Названный сеньор не преминул, правда, восторгаясь картонами, сообщить, что копии, что он снял с них, по его мнению, удались даже лучше оригиналов. К сожалению, сеньор Челлини болтлив и хвастлив, не менее чем талантлив.
Пока мы разглядывали вышепомянутые картоны и другие произведения, к нам присоединились некие господа Луиджи Пульчи и Микеле Реджио – знакомцы Челлини.
Реджио оказался скульптором и тут же принялся уговаривать моего спутника позировать ему, так как, по его словам: „никогда не встречал столь совершенного сложения и воинственной фигуры в сочетании со столь красивым и правильным лицом“.
Мне Реджио не понравился, так как в нем было что-то порочно женственное, а заговорщическое подмигивание и жесты, что посылал мне за спиною у того Челлини, только укрепили мои подозрения.
Пауль, однако, по обычной своей наивности не понял ничего и ничего не заметил, после недолгих переговоров согласившись послужить натурщиком для сказанного Микеле Гусаконти. Согласие его вызвало новый приступ веселья у Бенвенуто и его приятеля Луиджи Пульчи. Надо бы предупредить Пауля о возможной нездоровой природе Реджио.
После мы проследовали в таверну „У трёх корон“, где и пробыли до глубокого вечера в компании художников, их друзей и развеселых подруг. Туда же явился известный ваятель Пьетро Торриджани, который недавно вернулся из Англии, где выполнял большую работу для короля Генриха Тюдора[48].
Я много слышал об этом человеке, который, будучи искусным художником, чаще сражался на войне, чем занимался искусством. И в самом деле, он больше напоминал великого вояку, нежели скульптора, особенно жестами своими, зычным голосом и привычкой грозно хмурить брови, способной нагнать страху на любого храбреца.
Торриджани много и занимательно повествовал о своих приключениях и подвигах „у этих скотов англичан“, как он неизменно изволил их называть.
Вино лилось рекою, и разгоряченный хмелем Челлини умудрился повздорить с Торриджани из-за давней его размолвки с Микельаньоло Буанарроти. Их помирили, хотя, кажется, каждый остался при своем мнении, ведь эти итальянцы горячи как андалузские скакуны и упрямы как ослы, а сеньор Челлини, в обоих качествах вообще имеет мало равных.
Только ссора была прекращена, как он умудрился поругаться с Луиджи Пульчи, ибо некая молодая, привлекательная особа, которую, кажется, звали Пантасилея уделяла персоне Пульчи гораздо больше благосклонного внимания, нежели ему, что вызвало ревность, неудовольствие и серьезную ссору, едва не закончившуюся дракой. Это уже меня мало занимало, так как я смог, наконец, отдаться наслаждению женскою лаской, вознаграждая себя за те долгие месяцы воздержания…»
Из дневника Пауля Гульди.
27 сентября 1522 г.
«…Сегодня уже второй день, как я выступаю в несколько непривычном для меня качестве, а именно позирую для сеньора Реджио. Я не имел времени записать это ранее и теперь восполняю досадный пробел. Микеле Реджио – чрезвычайно вежливый и обходительный юноша, много времени уделяющий своей внешности. Он в самом деле весьма красив и ухожен, что заметно отличает его от коллег по художественному цеху и, тем более, от моих брутальных собратьев по цеху солдатскому.
Адам Райсснер высказывал некие невнятные предостережения относительно его персоны, которые я никак не соотносил с реальностью. В самом деле, какую, скажите на милость, опасность для меня может представлять стройный тонкокостный мальчик? Попытки выяснить что-либо у Челлини, хорошо его знавшего, натыкались на длительные пароксизмы истерического смеха, которые заканчивались неизменным похлопыванием по плечу и словами: „ничего, ничего – позируй спокойно“.
К слову, Адам пропал из городских апартаментов Икар Тассо – его, наконец, отпустило, что выразилось в безудержном наверстывании упущений по части личной жизни. Никогда не видел столь ловкого специалиста по знакомству с девушками, причем самыми разномастными, в широком диапазоне от самых юных мадемуазель до зрелых мадам.
– Прошу прощение за вольность, мадемуазель, не вы ли выступали моделью для Венеры, что стоит в пьяццо герцога Урбино?
– Мадам, ваши прекрасные лопатки перетряхнули всю мою прожитую жизнь, позвольте целовать ваши тонкие пальцы?
– Извольте мадемуазель, я совсем не могу разглядеть браслет на вашей ручке, это олово? Белое золото с жемчугом? Что вы говорите?! На фоне вашего запястья жемчуг смотрится словно булыжники из мостовой…
– Фроляйн, меня зовут Адам, не согласитесь стать на сегодняшнюю ночь моей Евою?
– Тонкая, изысканная красота вашего утонченного профиля затмевает даже несравненное сверкание вашего бюста, который превосходит красотою даже вашу грациозную талию… мадам, вы вся в тени, вас почти не видно!
– Мадемуазель, вы когда-нибудь видели настоящий толедский клинок? В самом деле? Ну что вы, это очень просто и очень красиво. Его главное отличие в его гибкости и одновременно прочности. Его можно согнуть в любую дугу, но он всегда распрямится. Это свойство называется упругостью. Не желаете взглянуть? У меня их два… оба отменно упругие…
К концу второго вечера мне представлялось, что таких „вводных фраз“ у него в запасе несколько тысяч на все случаи жизни.
Но вернёмся к моему позированию. В мастерской Реджио долго и придирчиво выставлял зеркала, добиваясь нужного освещения, подбирал грифели для эскизов, подходяще положение мольберта.
– Паоло, друг мой, вот теперь все идеально. – Он произносил моё имя на здешний мягко-игривый манер.
– Тебе виднее, ты же художник.
– Это точно, это точно… хорошо когда тебя понимают, это такая редкость…
Разденься, Паолито.
– Не понял, как это разденься?
– Пауль, ха-ха-ха, в одежде ваяют только скучных стариков – якобы исторических деятелей. И то для надгробий, в основном. Ты не похож на надгробие, в тебе столько жизни, – эту фразу Микеле произнёс полулежа на рабочем столе, поигрывая длинным хвостом своих угольно черных волос. Я уже осознал трепетное отношение здешней культуры к нагой натуре, поэтому безропотно оголился. Хлопотное же это дело, доложу я вам!
– Божественно, Паолито, божественно! – Заговорил художник, вскочив со стола и обходя меня кругом, – все-таки глаз скульптора – есть глаз скульптора! Я в тебе не ошибся – твое тело – произведение искусства само по себе. Оно стоит увековечения под чуткими прикосновениями моих пальцев. Ты похож на ожившую статую древнего бога далёкой Эллады… тебе никто об этом не говорил? – Мне в Италии наговорили столько разных комплиментов, что всех не упомнишь. И фехтованием моим восхищались, (чего там восхищаться, видели бы они старого Тиу-Айшена, ха-ха-ха) и телосложением, что я понимаю с трудом, и образованием, последнее, впрочем, вполне заслужено. С каменным болваном, правда, еще не сравнивали, это точно. О чём я не преминул сообщить ваятелю.
– Го-о-осподи, Паолито, вы немцы все такие приземленные?! Вечно юный Аполлон, Юпитер, Марс – болваны, как ты можешь?! – он, казалось, рассердился сразу за всё прекрасное, но внезапно сменил гнев на милость, заулыбавшись и поведя кончиком грифеля по моей обнаженной груди, – хотя… рядом с тобой они именно болваны. Мёртвые каменные идолы. С тобой мы создадим настоящую кра-а-асоту… навечно…
– Давай уже создавать, у тебя холодно, чёрт возьми!
Микеле рисовал, ругался, комкал листы, заставлял замирать в разных неудобных позах и постоянно восторгался моей мускулатурой и кожей. Вот далась ему кожа? Что он в ней нашел?! Обычный эпидермис. А ещё ему не нравились волосы на голове, точнее, почти полное их отсутствие.
– Паоло, зачем ты бреешь голову? Ты похож на унылого ёжика!
– Ну вот, – сказал я деревянным голосом, так как я в самом деле задеревенел с рукою, поднесенной ко лбу, поясницей „выгнутою со всем изяществом“ и мужественным выражением лица „древнего героя“. – Ну вот. Пять минут назад у меня была кожа „как у бога“, а теперь „унылый ёжик“. Вас не поймешь, молодой человек.
– Глупый, не обижайся! – Тут он бросил в меня очередным забракованным эскизом, – у тебя чудные волосы, которые бы так эротич… восхитительно ниспадали на плечи вьющимся безумием белокурого водопада! Обещай, что ты отрастишь волосы до плеч. Быстро, давай обещай! Во имя искусства!
Ага, сейчас, подумал я. Разбежался. Ты шлем носил, когда-нибудь, юноша? Через два часа в подшлемнике „белокурое до плеч безумие“ превратится в паклю. Вонючую до последнего предела.
– А ещё тебе бы и бородка пошла и усы. Переставай бриться.
Ну вот еще придумал. Что ему до моего скобленого рыла? Не могу когда волосы на физиономии. Раздражает. Даже сильнее чем местные опасные бритвы.
В общем, так и творили мы искусство.
А вечером напивались в обществе Челлини и его приятелей.
Не устаю поражаться этому безумному человеку. Спит часа по четыре не больше и столько энергии. Настоящий вулкан, больше сравнить не с чем. Утром – боевые искусства в школе Тассо. Потом работа в мастерской над очередным шедевром, которые он выдавал со скоростью фабричного конвейера. Вечером – неизменная пьянка. Ночью – женщина, а то и не одна. А потом все сначала. Успевал рисовать (а просто так для себя), недурно музицировать на флейте и писать стихи. Некоторые его экспромты, правда, казались мне более чем сомнительными:
„О ангелица, дух любви, Спаси меня, благослови“У лучшей половины его вирши пользовались неизменным успехом. Критики Бенвенуто не терпел вообще. Когда я откликнулся на вышеприведенную строфу своим двустишием:
„О дьяволица, о дух тьмы, Погублены тобою мы“– в меня тут же полетел увесистый бронзовый кубок, и если бы не профессиональная реакция, не избежать бы серьёзной травмы.
Не знаю, когда он принимал пищу. Утомленным, при этом, никогда не выглядел.
– Искусство – мой отдых и источник силы, – отвечал он всем на однообразные вопросы о том, как ему на всё хватает времени, и когда он успевает отдыхать.
За неделю в этой неунывающей компании я побывал во всех кабаках и половине домов флорентийской богемы. Вечера часто выдавались буйные. Стараниями Челлини я стал свидетелем трех драк и одной несостоявшейся дуэли.
Адам просветил меня, что у художников такое поведение считается за бонтон. Например, знаменитый германский рисовальщик Альбрехт Дюрер, „тот самый, что написал Fechtbuch, иллюстрации которого тебе так понравились“, участвовал как минимум в двадцати дуэлях, причем, в основном, с коллегами художниками. Отстаивал, значит, свою неповторимость и талант. Насчет двадцати – привирает, уверен. Но, что забияка – понятно».
Из дневника Адама Райсснера.
29 сентября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
Разврат и пьянка – самые утомительные вещи на свете!
«Я совершенно счастлив, точнее был таковым, но теперь немного утомился и больше не испытываю этой благостной эмоции.
Безудержное прелюбодеяние и каждодневное поглощение спиртного изнурили мой организм и без того уставший во время военной кампании, сражений и напряженного итальянского вояжа. Отсутствие обязанностей и почти неограниченные финансовые средства, помноженные на общество прелестных дам весёлого нрава в окружении людей искусства, (надо сказать, что сеньор Тассо оказался большим любителем хорошего вина, так что пребывание в его доме не спасает меня от пьянства), оказались слишком сильным искушением для меня, о чём не без стыда доверяюсь я безответной бумаге.
Боюсь, что исповедь повлечёт неминуемую епитимью. Хорошо бы отделаться недельным постом и сорока „Pater Noster“ перед отходом в объятия Морфея. Иногда даже жалею, что я не признаю практики индульгенций, которая мне кажется прыжком от христианства в некое подобие извращенного иудаизма.
Что творит Гульди?!
Ваш покорный слуга имел доверительный разговор с Бенвенуто Челлини, который с полной уверенностью подтвердил мои подозрения, касательно любовных пристрастий сказанного Микеле Реджио.
По его словам выходит, что женским ласкам тот предпочитает порочные и противоестественные утехи развратных юношей, что наложило заметный отпечаток на его манеру говорить и держать себя в обществе; отсюда же происходит нездоровая страсть Реджио столь тщательно ухаживать за своим телом и нарядом. Так же Челлини сказал, что особого расположения тот добивается у высоких молодых мужчин с развитой рельефной мускулатурой.
Господи Спаситель, что творит Пауль?!
Клянусь матерью Богородицей, он уже неделю позирует ему обнажённый, а от всех предупреждений отмахивается, что от назойливой мухи. На мои слова, что Гульди надо всё рассказать, Бенвенуто только смеется, говорит, что выйдет неплохая шутка. Ему бы всё шутки!
Гораздо больше он озабочен отношениями с распутною Пантасилеей, которая не обращает более на него внимания, увлекшись особой Луиджи Пульчи; а мне, право, не до смеха. Всё таки Пауль мой боевой брат, с которым мы плечом к плечу встречали смерть при Биккока и делили походный хлеб.
Подожду день да поговорю с ним начистоту. Видели бы вы, милостивые государи, взгляды, которыми провожает его Микеле, когда сказанный Пауль удаляется на ночь с девицею! Чистый диавольский огонь! И таскается повсюду за ним подобно репею в собачьем хвосте. Пауля необходимо выручать, нельзя допустить…»
Из дневника Пауля Гульди.
2 октября 1522 г.
«Не знаю, как описать всё произошедшее. Не хватает слов. Впрочем, как говорил мой научный руководитель в Академии: „не знаешь что писать, начинай писать всё по порядку“. Итак, начинаю, хотя порядка во всей этой истории мало. Какой же я был идиот!
Только теперь до меня доходит смысл разговора, что имел место позавчера, который я совершенно пропустил мимо ушей и моего затуманенного вином мозга.
– Пауль, слушай меня внимательно! – сказал Адам, похитив из хмельных объятий одной девицы и шумного угара буйного общества служителей разнообразных муз.
– Адам, я весь внимание, – ответил я, хотя, на самом деле, внимание моё было далеко-далеко.
– Пауль, это серьезно! Слушай!
– Брось, я же сказал, что слушаю, – ответил я, пока любезный друг буксировал меня на балкончик – мы выпивали в доме… а в чьем же доме мы выпивали?
– Пауль, – зашептал он, невольно напомнив схожую ситуацию в венецианском пьяццо сеньора Джованьоло, – Пауль, твой ваятель питает к тебе влечение самого нездорового, низменного свойства!
– Чего питает? Выражайся яснее, я не вполне адекватен…
– Ч-ч-чёрт, вижу! Над тобою потешается вся ваша разудалая братия, скоро это будет самый популярный анекдот во Флоренции! Я, если ты не понял, говорю о позировании у этого… этого, в общем у Микеле Реджио!
– Погоди, Адам, я за тобой не поспеваю, – сказал я, облокотившись на скрипнувшие перила, нависавшие над темнеющим в ночи садиком. – О чём ты, при чём тут Микеле?
– Да при том, что Микеле твой – обычный гомосексуалист! Педерастическая блядь, если так понятнее солдатскому уху! Это все знают и не устают ржать у тебя за спиной!
– А что такое „гомосексуалист“? – спросил я с круглыми глазами, решив косить под психа. Честно говоря, тогда я думал, что Адам испытывает внезапную пьяную зависть моей неожиданной популярности, а кроме того, срочно хотел вернуться под ласковое крылышко моей… как же её звали?
Словом, Адам раздражал, и от него требовалось срочно избавиться. Получилось вполне. Он сделал яростные глаза и окаменел подбородком. Помолчал секунд пять, напитывая воздух ощутимыми флюидами злости, потом смачно плюнул на деревья и очистил балкон, бросив через плечо:
– Я тебя, полудурка, предупредил! – сказал и ушел выпивать, совращая попутно очередную мадемуазель. Я тоже ушел и занялся примерно тем же. Не забывая наблюдать, как Челлини бесится при виде своей бывшей пассии Пантасилеи на коленях Луиджи Пульчи – его бывшего приятеля, с которым они рассорились, из-за „сказанной беспутной Пантасилеи“.
Надо сказать, что Пульчи приобрел великолепного вороного иноходца небывалой стати и резвости, чем хвастался непрерывно, заткнув за пояс даже признанного чемпиона в этой дисциплине – Бенвенуто.
С Луиджи припёрся его кузен по имени Бьякака, (наградили же родители имечком) – богатый молодой хлыщ в парчовом дублете и расшитых золотыми виноградными лозами чулках; даже пряжки на ботинках были не позолоченные, а золотые, о чём он непрерывно всем рассказывал. И эфес шпаги был усыпан жемчугами и стоил как две, нет, как три хорошие лошади. А одна пуговица была дороже чем всё платье вон той деревенщины.
В общем, парочка эта вела себя отвратительно, непрерывно всех задирала, явно напрашиваясь на драку. Драка, что удивительно, в этот день так и не состоялась.
Что-то я отвлекся, pardon, enschuldigen sie mir, bitte и все такое. Очень не хочется, но нужно переходить к главной канве моего повествования.
Утром, после очаровательного фехтовального этюда в школе сеньора Тассо, я расстался с Адамом и Бенвенуто и ушёл позировать Микеле, отметив где-то на краю сознания, что оба приятеля удаляются вместе, о чём-то шепчась и непрерывно поглядывая мне в след.
Настроение было отличное. Ласковое осеннее солнышко заливало нежарким светом флорентийские улочки, казавшиеся такими родными и знакомыми. За спиной скрывались один за другим украшенные фасады и высокие крыши домов. Из труб поднимался дымок, а из дверей неслись вкусные запахи позднего завтрака. Хмель выветрился вместе с трудовым потом, я наслаждался молодой свободой и силой, кипящей в каждой клеточке тела.
В таком приподнятом настроении ваш скромный повествователь заявился в мастерскую Реджио, который встретил меня нежным дружеским объятием, троекратно облобызав щеки. Я прошёл в рабочую залу, где стал привычно раздеваться, слушая в пол уха какую-то веселую чепуху, которую нёс Микеле.
Когда я стоял в центре, приняв очередную „героическую“ позу, он подошёл чтобы что-то поправить, ну вы понимаете, бедро ниже, голову выше и всё такое прочее. А потом, рука его начала поглаживать мою спину, другая же опустилась на плечо. Я почувствовал, что длинные пальцы с идеально отполированными ногтями нервно подрагивают, а в ухо впилось его жаркое дыхание.
– Милый мой рыцарь, как я долго ждал… наконец-то мы одни, вдали от всех твоих докучливых друзей и развратных девок! Я подарю тебе сегодня настоящую любовь, которая сравнима только с моим искусством, милый мой… – жадное поглаживание теперь ощущалось прямо на ягодицах, сиречь на моей обнаженной жопе.
Жопе?!
Наваждение и какая-то одурь, мигом слетели, а в голове молнией пронеслись вчерашние слова Адама, перешептывания Челлини и косые взгляды его приятелей. В глазах знакомо забагровело.
– Ну с-с-с-с-сука, – зашипел я не хуже рассерженной гадюки, стряхнув ищущие руки Реджио, и развернулся к нему грудь в грудь, cor a cor, так сказать.
– Милый любит поиграть грубо? – задорно произнес поганец и попытался силой ухватить меня за шею, устремляясь к моему лицу с выставленным между полных губ отростком языка. Это он зря.
Я сказал:
– Сейчас поиграем, гребанныйсодомитсучаратвоюмать, – после чего чётко шагнул в сторону, подхватил его за локоток и кисть, после чего усилием бедер развернул все свои шесть пудов и, что было сил, ахнул проклятого заманителя лицом в стену.
– Ы-х-х-х, – сказал он, чвакнув поганым ртом о штукатурку, а я ответил:
– Конец тебе, глистопас вонючий. – Кулак вонзился в почку.
– Чвакс, ы-ы-ы-ы…
– Каломес! – за горло и бросок от стены, – долбаный, – левой крюк в печень.
– Чвакс, у-у-у-у-у…
Я даже не знал, что у этого психического расстройства, я имею виду, конечно, гомосексаулизм, имеется столько красочных определений. Но перечислил я их не более половины, сопровождая каждый каким-либо членовредительством.
Остановился, точнее меня остановили, когда я дошел до „погонщика аскаридов“ или „анального разведчика“, точно не помню, причем сам объект висел и скреб ножками, потому что волосы были намотаны на мой левый кулак, а правый готовился своротить скулу. В этот момент дверь с треском вылетела, в залу ввалились закадычные мои приятели: прямой и решительный Адам Райсснер да полумертвый от смеха Бенвенуто Челлини.
– Поря-а-а-док, – простонал второй, – спасать его не надо, ха-ха-ха-ха, готовь золотой скудо, Адам! Ха-ха-ха-ха, проспо-о-орил! Ха-ха-ха!
– Твою мать, Гульди, я, честно говоря, за тебя испугался, – сказал первый.
– За этого, как его, „каломеса“, пугайся! – ответствовал Челлини, веселясь всё сильнее.
– Не понял?
– Мы как раз, ха-ха-ха-ха, вовремя, еще пара минут и он бы его убил! Ха-ха-ха-ха! Разрази меня гром. Таких историй я не слышал даже от Варки[49], ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!!! Лопни моя селезёнка!!!
Н-да, мезансцена образовалась как в хорошем театре. И Челлини опытным глазом художника её вполне оценил:
– Замри, замри, Паолито! Замри! Держи его так! – заорал он вдруг, словно обезумев, бросаясь к столу и хватая бумагу с грифелем.
– Мать моя! Мать моя! Это же Персей!!! Персей!!! Адам! Ты понимаешь! Персей!!!
– Бенвенуто, мягко говоря, удивил. Наверное, даже бесчувственного Реджио, не говоря уж об остальных присутствующих: Райсснера, который просто выкатил глаза и меня, напряженно отдувающегося с повисшей в руке тушкой, и не знающего что сказать. Челлини с бешенной скоростью возил грифелем по бумаге, забыв о смехе, который секунду назад поражал судорогами его конечности.
– Чуть выше голову! Да не свою, дурак, его! – и снова комната наполнилась скрипом грифеля. Требовалось внести ясность, и мы с Адамом одновременно вопросили:
– Какой Персей?! – Это Адам.
– Ты что творишь, ненормальный?! – Это я.
– Творю! Именно! Адам, это же Персей с головой Медузы Горгоны!!! Это будет такая скульптура, это шедевр, это уже шедевр! – и грифель с утроенной скоростью заелозил в искусных руках Челлини.
Надо ли говорить, что я так опешил, что даже забыл послать приятелей по матушке тридцать три раза, как собирался изначально. Я только стоял и тупо хлопал глазами. Что тут сказать? Секунд этак через сто пятьдесят я нашелся:
– Вы тут все свихнутые! Чёрт, угораздило же связаться! – после чего брезгливо бросил, начавшего подавать признаки жизни Микеле, и решительно зашагал к своей одежке.
– Ты бы на себя посмотрел! Нет, ну какая сцена! Какой материал!
Адам хрюкнул. А неугомонный Бенвенуто счастливо рассмеялся, сворачивая изрисованную бумагу в рулон:
– Итак, Медуза повержена, Персей победил, небывалый шедевр создан. Это надо отметить. Адам, пошли пропивать твой, то есть теперь мой скудо!
И мы отправились пропивать. Решительно невозможно сердиться на этого человека».
Из дневника Адама Райсснера.
6-8 октября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
О наших делах во Флоренции.
«Не прошло и дня с момента счастливого прозрения Пауля и наказания, заметим, вполне справедливого, мерзкого развратника Микеле Реджио, как он полностью помирился с Бенвенуто Челлини и, кажется, замышляет с ним некую авантюру.
Мой друг был очень зол, и это еще слабо сказано, хотя, как человек разумный и обстоятельный в рассуждениях, он отлично понимал, что если и есть кто-то, к кому можно питать злобу, то только на него самого, а точнее, на его наивность, невнимание и безалаберную глупость, что чуть не толкнула его к страшному греху и чуть не сделала посмешищем для всей Флоренции.
Но всё закончилось благополучно, я надеюсь, что урок этот пойдёт Паулю на пользу в его дальнейшем жизненном борении.
Теперь Пауль стал чуть ли не героем, и уж точно героем всех кабацких историй на ближайший месяц. Челлини с небывалым вкусом описывает это приключение и счастливое разрешение всей интриги, пользуясь небывалым успехом, сеньор Тассо, например, смеялся так, что чуть не отдал Богу душу, его даже пришлось отпаивать вином.
Микеле Реджио, да порастёт его грязный анус рыбьей чешуёй, хорошо известен в городе, а особенно знаменита его пагубная страсть, и все давно ждали, чтобы кто-либо его проучил, отомстив за позор, которому сказанный Микеле обрек всё художественное сообщество перед лицом коллег и заказчиков.
Теперь он вот уже несколько дней нигде не показывается, что совершенно не удивляет, учитывая какие побои нанесла карающая длань моего друга, ведь длань эта может быть весьма тяжёлой, мне ли не знать этого!
О сеньоре Бенвенуто Челлини и беспутной Пантасилее и о том, как мы вынуждены были покинуть Флоренцию.
Не сложно догадаться какую именно авантюру замышляют и вынашивают душевные мои приятели Пауль Гульди да Бенвенуто Челлини. Речь идёт о возможной мести упомянутому Луиджи Пульчи, который всюду хвастает, что „прекрасная Пантасилея“ бросила „жалкого Челлини“ ради его, Пульчи, невероятных достоинств, богатств, знакомств и возможностей.
Причем, даже слепой видит, а мы, хвала Богу, не слепцы, что похвальба его преследует единственную цель побольнее задеть самолюбие и гордость сказанного сеньора Челлини, ведь сама Пантасилея, по моему убеждению, не стоит доброго слова, а вот с Бенвенуто Луиджи на ножах и использует каждую возможность, чтобы тому досадить. Всем известен темперамент нашего друга, так что его и провоцировать не надо – к ссоре и драке он всегда готов.
Однако хитроумный Пульчи всячески его поносит и распространяет за его спиной сплетни, не давая личного повода к дуэли, причем всюду с ним ходит его кузен Бьякака, который похваляется превратить Бенвенуто в решето, если им доведется скрестить клинки. Бьякака нанял трёх головорезов из неаполитанских бретёров, которые так же не оставляют его ни на секунду, как и он не отходит от Луиджи Пульчи, так что они перемещаются по городу и окрестностям впятером, а сказанный Пульчи разъезжает на своем великолепном вороном иноходце, появляясь где только можно в компании Пантасилеи.
Я думаю, что Бенвенуто не хочет напрасно рисковать, связываясь в одиночку с пятью противниками, и заручился помощью у Пауля. Место и время предполагаемого картеля так же не сложно вычислить, ибо всем известно, что Пульчи с Пантасилеей и кузен Бьякака будут на ужине в доме некоего Ромоло, где и будут, по моему мнению, поджидать их друзья.
Я решил не оставлять их в этом благородном деле, и из таверны, где прямо сказал, что они не справедливо поступают, не посвящая меня в свои планы, мы вместе направились к дому сказанного Ромоло.
Напротив дома имелся сад, обнесенный терновой изгородью, где мы и укрылись в ожидании наших знакомцев. Густой шиповник причинял нам неисчислимые страдания своими колючками, что жалили беспощаднее швейцарских пик, но мы всё стойко переносили и терпели молча.
Души наши переполнялись гневом еще более при виде огней в окнах, а так же от доносившихся оттуда веселых голосов и музыки. Наконец, наше упорство было вознаграждено, ведь все шестеро, включая Пантасилею, вывалились из дверей. Панасилея громко сказала: „мой Луиджи, позволь я тебя поцелую назло этому ужасному Бенвенуто!“ что и сделала со всей возможной страстью, что мы прекрасно видели из нашего укрытия, так как ночь была лунной и звездной.
Бенвенуто не выдержал этого зрелища, тем более, что весь был истерзан шиповником; он со страшным криком прыгнул вперед со шпагою в деснице и кинжалом в шуйце, мы же последовали за ним.
С великим мужеством и отменной яростью мы оттеснили наемников, после чего кузен Бьякака, забыв свою обычную дерзость сказал: „сеньоры, не делайте дурного этой деве, она, видит Бог, не причем“.
На это Бенвенуто поднес клинок к его лицу и как закричит: „если вы сейчас не уберетесь, я заставлю эту шпагу сплясать на вашей голове“ и так страшно он кричал, что от испуга у сказанного Бьякаки, видимо, расстроился желудок, так что он метнулся, словно заяц за куст, стягивая штаны.
Мы с Паулем вновь схватились с наемникам, производя такой шум, как будто здесь сражалось войско в несколько сот человек, наши шпаги грозно сверкали, высекая искры, яркие, как сами звезды. Бенвенуто же встал перед злосчастной парочкой и заорал голосом поистине нечеловеческим: „всем вам конец“.
Луиджи выхватил клинок, но страшный удар обезоружил его, после чего острие шпаги пришлось ему в левую часть груди, напротив сердца. Но, к счастью для юноши, эти мерзкие сатиры обжелезили его под камзолом панцирем или чем-то подобным, так что шпага безвредно скользнула в сторону, ранив беспутную Пантасилею в нос и рот.
Оба повалились на землю, подобно кулям с нечистотами, мы продолжали доблестно сражаться, как подобает солдатам императора, а кузен Бьякака со спущенными штанами вопил и убегал. Тут на шум выскочил сказанный мессер Ромоло с друзьями и слугами, которые отважно взялись за оружие, но мы сбили нескольких с ног и скрылись в ночной тьме.
Весело хохоча, наш маленький отряд беспрепятственно достиг дома Икар Тассо, который, будучи великим знатоком в делах чести, полностью наши действия одобрил и сокрушался, что мы не взяли его с собою.
На утро о схватке знал весь город, причем Челлини в свойственной ему манере рассказывал, что врагов было не менее двадцати, совсем забывая, что и он был не один. По всему выходило, что Бенвенуто в одиночку всех поверг, но рассказывал он так славно, что даже те кто ему не верил и точно знал, как было дело, слушали не перебивая, и радовались такому разрешению интриги.
Радость наша, однако, было кратковременной. Когда подзажили раны у Луиджи и той потаскухи, они пригласили оклемавшегося педераста Микеле Реджио и побежали жаловаться в Совет Восьми.
К сожалению, там заседало много белокукольных совонарольцев[50], что были настроены против Бенвенуто и вынудили Совет принять решение о его изгнании из города. Меня и Пауля постановили арестовать и судить, о чем нас своевременно известил добрый Икар Тассо, так что мы в великой спешке покинули город вместе с Бенвенуто, который принял решение отправиться в Рим.
Теперь я пишу эти строки, сидя под деревом, ибо ночевать нам пришлось, укрываясь одним лишь небосводом. Мы сердечно расстались с Челлини, пожелав тому всяческой удачи и снабдив деньгами на первое время. Пауль сказал, что вояж наш и так подходил к концу, и что хорошо, что мы возвращаемся в действующую армию».
Из дневника Пауля Гульди.
8 октября 1522 г.
«…вот так и закончился наш итальянский поход. Нынче мы держим путь в Геную, оттуда в Милан где нас уже ждёт служба. Адаму придется в самом скором времени отдохнуть от моего общества, ибо его путь лежит в Германию с полным отчетом по нашей миссии. Ну а меня ждут мои солдаты, мои латы и мой спадон.
Три часа назад мы распрощались с нашим душевным приятелем Бенвенуто Челлини, который оказался не только мастером всеразличных искусств, но и выказал небывалые способности к нахождению приключений на свое седалище и седалища своих друзей.
– Вот дьявол, – сказал он, держа в поводу коня, – давно я с таким шумом не вылетал из родного города!
– Тебя что, не первый раз выгоняют? – спросил Адам.
– Смеешься, брат? Меня уже третий раз выпирают на горе моему благонравному папаше.
– Ну хоть будет, что вспомнить, – подбодрил я, в чем Челлини, похоже совершенно не нуждался, так как улыбался во все свои великолепные тридцать два зуба.
– Что не может не радовать, – заключил он. – Ну что, пора прощаться. Мне в Рим, вам – к себе. Клянусь престолом Санта Мария Новелла, никогда не думал, что буду печалиться расставанию с немцами! Чего только не бывает.
– До свидания, – сказал Адам, пожимая его уверенную и сильную руку скульптора, своей изрубленной правой, – постарайся не оказаться в Риме, когда туда придут ландскнехты.
– До свидания, – сказал я и тоже протянул руку.
– Долгие проводы – лишние слёзы. Я поехал. – Он вскочил в седло, не касаясь стремян, и тронул коня. Но потом внезапно остановился, повернулся к нам, пошарил в седельной сумке и достал аккуратно запакованные в деревянную папку листы:
– Вот! Всё забыл, а его взял!
– Да что там у тебя?
– Сам смотри, Адам, и ты тоже погляди Паоло. Я не я, если не поставлю эту статую на центральной площади Флоренции!
С развернутого полотна на нас смотрел Персей, держащий в руках голову Медузы Горгоны.»
Из дневника Адама Райсснера.
8 октября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
«…пыль скрыла и лошадь и седока, и больше мы Бенвенуто Челлини не видели. А рисунок с Персеем очень хорош. Пауль – как живой. Вот только зачем он пририсовал ему смешные кудряшки до плеч и совсем маленький член. Надо не забыть рассказать нашим. То-то будет потеха…».
Глава 7 В которой Пауль Гульди заводит знакомства и вращается маховик Истории
Из отчета наблюдателя первой категории Э.А.
«…таким образом, учитывая несхожесть этно-культурного кода одежды европейских автохтонов и представлений отдела легендирования Академии, предлагаю:
1. Четко дифференцировать социальные различия между костюмами горожан, крестьян, наемников, дворян и аристократии.
2. Невзирая на то, что указанные социальные группы не являются замкнутыми кастами, а следовательно и одежда их так или иначе подвергается межсословному дифундированию, обеспечить максимальное внимание указанным различиям. В противном случае, наблюдатели подвергаются опасности, степень которой нельзя недооценивать. Например, как мне представляется, наблюдатель второй категории А.Г. прекратил работу и исчез из эфира в связи с несоблюдением культурно-социального кода одежды и был убит гуляющей солдатней из наемников.
3. Обратить внимание на военно-бытовые атрибуты наблюдателей: оружие, пояса, перевязи, которые обязаны соответствовать особому представлению местных автохтонов. (Примерное соотнесение видов вооружения и бытовых принадлежностей социальным прослойкам см. Приложения, таб. 2).
4. Проводить дальнейшую работу по фундированию и дифференцированию знаний в этой области. (Примерные перспективные области исследований см. Приложения, таб. 3а.).
Заключение.
Резюмируя итоги данного отчета, остановимся на практических выводах исследования.
Учитывая вышесказанное, элементы солдатской одежды не являются маскирующим элементом, и наоборот, используясь бессистемно в комплекте с инородными элементами костюма, привлекают ненужное внимание автохтонов, провоцируя их на агрессивные действия в отношении наблюдателей.
Необходимо точно дифференцировать хронологические рамки использования элементов костюма и бытовых принадлежностей. Т. е., данные наблюдателей, работавших в XV в. по местному летосчислению, зачастую совершенно не годятся для реалий XVI столетия, в коих приходится работать в настоящее время. (Правки и перспективные направления будущих исследований см. в Приложении, таб. 4).
Обратить самое пристальное внимание на информацию наблюдателя Э.А. отдел легендирования обязан в течении месяца принять к сведению данный отчет и сделать практические выводы.
Отчет в виде реферата рекомендовать к публикации.
Наблюдателю Э.А. рекомендовать более сжатое изложение материала.
Старший куратор…»
– Ну, рассказывайте, голуби, как слетали? – сказал нам Георг фон Фрундсберг вместо «здравствуйте», когда мы с Адамом предстали пред светлым начальственным ликом в его мюнхенской резиденции.
«Светлый лик» был изрядно осунувшимся, совсем не похожим на прежнее, буквально сочащееся здоровьем и силой обличие «отца ландскнехтов». Рана, оставленная на память Арнольдом Винкельридом его донимала, причем донимала сильно, так что Георг вынужден был ходить с тросточкой. Да и события последнего месяца или около того оставляли желать лучшего, что не способствовало торжеству жизни в теле нашего командира.
Он ужасно хромал – граненая пиковина швейцарской секиры – не шутка. Дырки от неё могут вообще не зажить, а если и удастся такую залатать, нет никакой уверенности, что она вновь не откроется.
Трость вполне соответствовала обычаям и пристрастиям Фрундсберга, так как была с сюрпризом. Нажатие неприметной кнопочки и на свет божий с шелестом вылетала длинная узкая шпага. Зачем это понадобилось – Бог весть, но в портрет испытанного воина, пусть даже изрядно попорченный, вписывалось идеально.
– «Гутентаг», твою мать, – ворчал он, ковыляя к резному креслу перед камином, – память о старом товарище теперь на всю жизнь. Каждый день ногу ломит, заснуть не могу![51]
– Ладно, давайте, потешьте старика, как съездили? – сказал он в ответ на наше с Адамом молчание, которое мы из уважения сохраняли на всем его нелегком пути к креслу.
И мы начали рассказывать, а точнее, обстоятельно докладывать. Докладывал, в основном Адам, а я отмалчивался, изредка подтверждая итальянские наблюдения моего товарища. Фрундсберг был прекрасно осведомлен, так как получал все отчеты своего шпиона, да и не одного его, надо думать. Но теперь, по доброй привычки военного человека, лично знакомился с подробностями. Мало ли что?
Как я оказался в Мюнхене?
И правда, мы должны были расстаться в Милане. Адам продолжал путь в Германию, я – оставался с гарнизоном, получая вверенный мне десяток в роте Курта Вассера. План был именно такой.
Ничего подобного не произошло, чему виной стали галопирующие изменения политической обстановки, от которых мы солдаты так зависимы. Крестьянские волнения в Германии приняли поистине угрожающий размах, так что большинство гарнизонов отводилось домой, оставляя города и крепости на попечение испанцев и дружественных итальянских войск. Последнее совсем не радовало, ибо «дружественными» они оставались до поры до времени.
Фанляйн Конрада Бемельберга в полном составе отчалил из Милана, а к нему прибились и мы с Адамом.
Вспоминать обратную дорогу от Милана до Мюнхена не хочется.
Во-первых, это значит описать тысячу и один одинаковый трактир, сеновал, деревню, ночлег. Во-вторых, погода стояла ужасная. Я всегда ненавидел грязь и слякоть, а теперь пришлось месить копытами моего верного коня эту самую грязь и слякоть на протяжении долгих, бесконечных миль под низкой пеленой серого неба, ссавшего на плащи и береты мелким моросистым дождем.
Грязь, правда, сменилась в Альпах снегом, но оттого не легче, ведь со снегом пришел холод, а на пост дождика заступил пронзительный ветер.
В-третьих, и это самое угнетающее, мы превратились из победоносного «Божьего» воинства в сомнительные шайки продрогших бродяг, убегавших домой.
То что не смогли сделать пики швейцарцев и французские пушки, успешно сделали крестьяне, жарко растопившие кровавую баню восстания по всей Германии. Где-то собирались мелкие отряды, где-то просто сбегали с земель, где-то собирали большие армии, которые даже нанимали на службу, подумать только, настоящих ландскнехтов! Полками!
Практический вывод был прост как сапог и незатейлив, как укол алебардой. В имперской казне стремительно иссякли деньги, а значит, содержать многотысячную заграничную группировку стало невозможно. В результате, многие роты просто распустили и сняли с довольствия, часть вызвали домой, так как срочное восстановление налогооблагаемой базы стало делом первостепенной, стратегической важности.
Попросту, ландскнехты должны были давить крестьян, из которых большинство и вышло в солдаты, для того, чтобы император Карл мог дальше собирать с них денежку, чтобы платить им, то есть, чёрт дери, нам, жалование, чтобы мы, в свою очередь, могли и дальше крушить французов и вообще всех кого прикажут, во славу фатерлянда!
Внезапная трансформация, столь ужасно сказавшаяся на нашем статусе и кошельке, прямо таки убила воинскую дисциплину. Уход из Италии совсем не напоминал наше весеннее наступление. Только представьте себе несколько тысяч вооруженных до зубов наемников на чужой земле, которым вдруг сказали: «А теперь вы никто и звать вас никак, вы теперь частные лица, жалования и жратвы больше не будет». Представили?
Итальянцы представили в полной мере. Что мы там вытворяли! Я говорю «мы», потому что никак более не отделял себя от этих людей, с которыми был связан настоящими кровными узами. Кроме того, мы – значит, в самом деле мы, то есть все уходившее войско. Даже исправно получавшие жалование части не отставали от своих менее удачливых собратьев в деле пополнения благосостояния за счет местных обывателей.
Оказавшись дома, ландскнехты утихомирились, но не сильно.
Родные наши крестьяне стали нашими врагами, ведь именно из-за них нас лишили верного заработка и, чёрт возьми, победы! Кому какое дело, что вот конкретно эти землепашцы и пастухи никакой крамолы в скрытых узилищах своей души не носили? Да наплевать! Для ландскнехтов весь мир был предельно прост: есть братья-солдаты, есть все остальные. Если ты крестьянин, значит, ты часть того сообщества, что нанесло нашим ущерб. Теперь, будь любезен, отвечай за прегрешения своих перед нами!
И отвечали, будьте благонадежны. Недобрая песня, что разносилась над полями и горами весной, помните:
Ландскнехты приносят смерть и страданья Палят и жгут, ничего им не жаль Там где они, лишь плач и рыданья Всюду от них только горе-печаль! Добро скорее скрой! Ландскнехт несёт разбой!приобрела новый смысл. То есть новый для меня, а для всех прочих – самый обыденный: «Добро скорее скрой! Ландскнехт несёт разбой!», как прямо сказано в припеве. Там еще много, насчет того, что ландскнехт не щадит ни мать ни ребенка, что добро пора готовить для милых солдатских шалостей. Это все, или почти все, правда. Не буду описывать подробностей, по крайней мере, сейчас, ибо на этих страницах и так слишком много крови.
Нынче наше воинство готовилось гонять восставших, а Георг внимал своим агентам, что привезли из Италии ворох вестей-новостей.
Адам говорил, а ваш скромный повествователь разглядывал обиталище прославленного военачальника. Стол был завален бумагами, которые сталактитами соединяли столешницу с полом. Кругом были заметны следы душевного смятения импульсивной натуры Фрундсберга: недопитые кубки, пустые бутылки и все такое прочее.
– Н-да-а-а-а… – прокряхтел он, когда долгий доклад подошел к завершению, – наломали мы дров. Адам, сын мой, налей-ка нам выпить, и присаживайтесь, что стоять-то столбами?!
За окном по-осеннему быстро темнело, огонь в камине вкупе со свечами в вычурных бронзовых подсвечниках бросали мятущиеся тени на стены кабинета. Обстановочка та еще. Тем еще было и настроение.
– За ваше возвращение! – поднял кубок Фрундсберг и невольно поморщился. Видимо, рана в бедре, как я подумал. – Все сволочи разбегаются, что крысы. Всё хреново, мы, голуби, в глубокой, черной заднице! Только вами, добрыми и верными солдатами живы до сей поры.
– Так шеф, – возразил Адам, отдышавшись от глотка крепчайшего пойла, которым потчевал Фрундсберг, – всё не так и хреново. Как вы понимаете, пока в Италии тихо. Венеция и Генуя скоро окажутся на нашей стороне, французам не до нас, так что…
– Брось, – перебил его Георг, – брось, ты не хуже меня знаешь, что это ненадолго. Я французов имею ввиду.
– Год, как минимум.
– Вот то-то, что год. Карл, наш любимый император, прямо дал понять, что денег нет, и не будет. Всё войско, что стоит в Мюнхене, я наполовину оплачиваю из своего кошелька! Как будто мне больше всех нужно! Солдаты безобразничают, воевать с крестьянами… бред какой-то! А придется, иначе нас сожрет Франц, сожрет и не подавится!
– Готов спорить, что в Германию он не вторгнется.
– Зато в Италию – за милую душу!
– Там отличные солдаты остались, дадут по зубам если что.
– Да. Просперо Колонна – воин испытанный. Жаль только, совсем старый стал. Сколько ему? За семьдесят перевалило… Пожил, дай Бог каждому. В Милане Антонио де Лейва, герцог, мать его, Новоземельский[52], вице-король Неаполя, на него тоже можно положиться, проверен, что называется в боях и походах. Бургундец Ланнуа? Пожалуй тоже. Карл правильно на него все командование в Италии свалил, хотя ему лично я не завидую. Ну и маркиз Пескара, мой дорогой коллега, которому я доверяю, как самому себе. Чёрт возьми, только нами стариками всё и держится! За это стоит выпить. Ну ка, Адам, налей нам еще!
Адам налил, а тихий, незаметный слуга принес полный поднос нехитрой снеди. И тут же исчез бесшумной тенью. Судя по всему, ему крепко доставалось от задерганного хозяина.
– Какие мысли, Адам? Что делать?
– Георг, а что есть много вариантов?
– Дурак. Это был риторический вопрос.
– Ну уж и дурак, – ненатурально обиделся Адам. – Пока есть время – ввалить горячих вожакам крестьян. Потом – заниматься французами.
– Ага. Верно. Эх, старость – не радость. Везде не поспеть, не разорваться. Уставать стал быстро, проклятье… кажется, еще вчера мог сутками скакать на коне, не спать, не жрать. А потом с марша в бой. И хоть бы хны. А теперь… вот ведь жизнь блядская, а?
– Шеф, вашей выносливости мул позавидует.
– Прекрати подхалимаж, друг мой. Я нынче уже не тот. Я нынче развалина! И молчи, не спорь. Я же знаю, чувствую, и это главное. – Георг помолчал, потом внимательно посмотрел на меня и пригубив вина спросил: А что молодежь думает? Как с жабоедами разбираться будем? Куда их ударить, чтобы побольнее?
Я откашлялся, выдержал паузу, как мне показалось многозначительную. Георг в это время добыл из под бумажных завалов и шваркнул на стол карту с забавным сапожком Италии и прилегающими землями. Карта была, прямо скажем, так себе.
– Я мыслю, – молвил ваш скромный повествователь, подтягивая карту к себе, – пока налицо пауза, надо ударить туда, откуда французы грозят нашему флангу. Лучше всего по значимому schwerpunkt. Вот отсюда, – я ткнул рукоять двузубой вилки в надпись «Прованс», – легко можно выдвинуть войска прямо на наши коммуникации в Италии. Значит бить надо вот сюда, – вилка переместилась к Марселю, – крупный порт, дорожная развязка и сильная крепость. Отобьем его, и фланг в безопасности. Стратегически. – Сказал я и замолчал, лихорадочно соображая, стоило ли так развернуто выступать. Не лучше ли было отделаться стандартным набором старательного солдафона в нешироком диапазоне от «громить врага, где прикажут» до «последней капли крови»?
Георг очень долго и внимательно меня разглядывал. Адам тоже. Потом шеф нарушил молчание:
– Стра-ате-еги-иче-ески-и? Глубоко копаете, юноша. Глубоко. Интересно, у Бемельберга в отряде все такие умные, или только те, кому двойное жалование полагается?
Я хмыкнул, а Райсснер пнул меня под столом, в знак одобрения, не иначе.
– Что, Адам, смена-то подрастает? Налей… ага, ну, за смену! У-у-у-х! Крепкое дерьмо! – Фрундсберг влил в свою бездонную глотку содержимое целого бокала и знаками указал на поднос, где высились горы сыров да копченых свиных ребрышек, знаками приглашая закусывать. Мы закусили, а как иначе? Spiritum страшно обжигал глотку. Зато потом, раскаленная волна катилась вниз и взрывалась в желудке, рождая маленькую сверхновую звезду!
Мне было хорошо и уютно. Я первый раз за месяц сидел под крышей нормального дома в безопасности, а по жилам разливалось заемное алкогольное тепло. Здорово было развалиться в кресле, слушая гудение пламени в камине и разглагольствования Фрундсберга, изредка прерываемые меткими замечаниями его секретаря.
Ваш скромный повествователь ранее не сиживал за одним столом с «отцом ландскнехтов» и теперь впитывал впечатления. Этого немолодого, крепко битого жизнью человека стоило любить и стоило им восхищаться. Я все больше понимал, отчего солдаты не чаяли в нем души. Настоящий вождь, он излучал силу и энергию, за ним хотелось идти в бой, его хотелось слушать, даже если он и не говорил ничего важного, а просто хвастался, как сейчас. Хотя, скажем честно, ему было чем хвастаться.
– Послушай, Пауль, мой мальчик, кстати, тебе сколько лет?
– Двадцать один.
– Я в твоем возрасте уже водил в бой армии! Отец вложил в руки меч, когда мне было восемнадцать. Помню, как мы ходили громить Албрехта Баварца в 1492! Эх, весело было служить под знаменами кайзера Макса!
– Вы бы лучше вспомнили Швабскую войну под знаменами того же Макса, – подал голос Адам. Надо сказать, голос был исполнен плохо скрываемого ехидства.
– Молчи, дурак! Ты тогда даже дрочить не умел! А я ходил на швейцарцев и был на берегу Боденского озера! Тебя бы туда… Зато тем же годом мы отлично отметились в Италии! И погромили потом мятежных баварцев! Ну, давайте теперь за молодость! Чтобы было, что вспомнить в старости! Эх, Адам, наполни кубки заново! Что еще сказать? Следующий поход был у меня в 1509 году, когда войска Лиги[53] били венецианцев. И хорошо же мы им всыпали!
– А что толку? Венецианцы все равно потом купили Папу, а потом и французов.
– Купили… проклятые торгаши! Но воевали славно! После штурма Пьяченцы и особенно защиты Вероны я стал знаменит! А виктория при Болонье в 1510 году от Рождества Христова – та вообще прославила германских ландскнехтов на весь мир! И их вел тогда я!
– Зато ни при Равенне ни при Наварре вас не было. Помните, когда мы нанимались к французам против испанцев?
– Как не помнить. «Счастливым Габсбургам»[54] тогда приходилось больше воевать, не то что сейчас, когда стараниями благословенного королевского пениса Филиппа Красивого мы с Испанией стали одной страною.[55] А вот в 1512 настал мой звездный час! Колонна, Пескара, Кордоба тогда впервые соединились и с невероятной доблестью разгромили Венецию!
– Шеф, неловко вас перебивать, но это было в 1513 году.
– Неужели?! А ведь точно…
– Точно. 7 октября 1513 года при Винченце. Вы навербовали шесть тысяч ландскнехтов в свой полк и привели их в Италию.
– Тебе виднее, ты же записи ведешь.
Георг вскочил с кресла и принялся возбужденно расхаживать по кабинету. Правильнее сказать «расковыливать», так как он отчаянно хромал.
– В 1519 я получил под команду все войска швабского союза! И в двух походах разгромил Ульриха Вюртемебгского! Это, Адам, ты уже лично наблюдал. Ты же тогда, кажется, поступил на службу?
– Верно, это был мой первый военный опыт.
– А как мы погуляли в Пикардии в прошлом году? А?
– Погуляли, на мой вкус, не слишком удачно, Георг. Из Пикардии пришлось уйти, как мы все хорошо знаем.
– Уйти, много ты понимаешь! Да за это время мы столько раз били Франца, что подобная ретирада стоит трех удачных наступлений!
– Может и так, зато для дела мы ничего не приобрели.
– А как же слава?
– Разве что только её.
– Скажешь тоже: «разве». Это, черт дери, не мало! Такая слава дорогого стоит!
– М-м-м-м, – растянул Адам с сомнением, на что Фрундсберг зло отозвался:
– Помычи, мальчишка! Слава – это такое же оружие, как пушки и пики! Чем её больше, тем нас сильнее бояться и воевать легче! Да и платят больше…
– Ну, тогда за славу?
– За славу и процветание!
– За ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселей и богаче! – поддержал я почин небольшим стихотворным экспромтом, который так понравился оберсту, что тот щетинисто расцеловал меня в обе щеки после того как мы выпили.
– Скажи, Пауль, – поинтересовался он после короткой паузы, потраченной на неторопливое уничтожение закуски, – как служба проистекает? Врастаешь?
Что сказать? Я врастал.
Конрад Бемельберг встретил меня из командировки не слишком приветливо. Еще бы, фельдфебель болтался где-то и отъедал ряшку за казенный счет, пока он – заслуженный офицер – тянул лямку.
Курт Вассер, как и Бемельберг – были злые и задерганные. Нелепое отступление из Италии, марш по мятежным землям родной страны, размещение в Мюнхене и подступающее безденежье впрыснули желчный яд раздражительности в начальственные души. Курт похудел и прямо-таки сочился чёрной слизью ненависти к окружающему миру.
Вашему верному рассказчику насыпали полный подол невеселых солдатских забот. Я муштровал новобранцев: направо-налево-шагом марш и все такое прочее. Учил немудреному фехтованию пикой и алебардой: длинным коли-коротким коли-отбив вправо-отбив влево etc. Делился куда более мудреными тайнами фехтования спадоном: парад ин кварта и полкруга в терцию, шевелись, клянусь громом, и тому подобное. Стоял в караулах со своим десятком: холод, скука, беспросветная тупость и тому подобное говно, которого мы нажрались по самые гланды.
Когда я начал думать, что все говно уже съедено и хуже не будет, нам подвезли свеженького говнеца полный воз. Причем, было оно таким противным, что то, что мы хавали накануне, показалось олимпийским нектаром и язычками колибри в бургундском соусе.
Денег не было. Жалование платили через раз. Провиант каждый добывал сам, как мог. Спасали только старые запасы, да награбленное добро, оставшееся после славного пиршества жадности во французском лагере под Биккока. Кроме того, у меня оставалось не менее полутора сотен полновесных гульденов, чеканенных еще на Асгоре. Дороговизна, правда, была такая, что все резервы таяли как масло на сковородке. Еще немного и армия просто прекратила бы свое существование. Кто не убежал – умер бы с голодухи.
Так мы провели зиму 1522–1523 годов. Холод, бескормица и нищета. Болезнь и печаль. Тщета и суета.
А потом остатки нашего войска, поредевшего от дезертирства и хворей, бросили в центральную Германию, где мы разметали толпообразную армию крестьян. Солдаты были грязны, оборваны и предельно злы. Только качественное оружие и выучка как-то отличали нас от наших оппонентов.
По дороге туда и обратно ландскнехты, не скрываясь, грабили, жгли, насиловали и убивали. Никакой hoh Keiser, mit Gott fur Faterland, и тому подобная чушь, не могли нас остановить. Что Кайзер, если в кошельке дыра, а что такое доброе мясо ты забыл еще на прошлой неделе?!
Конечно, никто еще не падал и не умирал на холодной земле от голода. До этого не пока докатились. Но самая обычная простуда быстро сводила ослабевшее от зимнего недокорма тело на ту сторону. Всем понятно какую… Мы зарывали товарищей в неглубоких могилках вдоль дорог, скрипели зубами и упрямо маршировали дальше, а в душе всё сильнее разгорался свирепый, темный огонь ненависти. К кому? А кого поймаем!
И шли по землям Германии полки. А над нами летели на своих бледных конях четыре всадника со ржавыми косами в руках, которых так остроумно изобразил великий Альбрехт Дюрер. Позади царил самый разнузданный Makabr tanze, где в одном хороводе плясали крестьяне, солдаты, рыцари и несчетные тысячи скелетов, без различия пола, возраста и происхождения.
Во Фландрии, куда занесла непростая дорога войны полки ландскнехтов я услышал такую песню:
Der Tod reit't auf einem kohlschwarzen Rappen, Er hat eine undurchsichtige Kappen. Wenn Landsknecht' in das Feld marschieren, Last er sein Ross daneben galoppieren. Flandern in Not! In Flandern reitet der Tod! Der Tod reit't auf einem lichten Schimmel, Schon wie ein Cherubin vom Himmel, Wenn Madchen ihren Reigen schreiten, Will er mit ihnen im Tanze gleiten. Falalala, falalala. Der Tod kann auch die Trommel ruhren, Du kannst den Wirbel im Herzen spuren. Er trommelt lang, er trommelt laut, Er schlagt auf eine Totenhaut. Flandern in Not! In Flandern reitet der Tod! Als er den ersten Wirbel geschlagen, Da hat's das Blut vom Herzen getragen. Als er den zweiten Wirbel schlug, Den Landsknecht man zu Grabe trug. Flandern in Not! In Flandern reitet der Tod! Der dritte Wirbel ist so lang gegangen, Bis der Landsknecht von Gott sein'n Segen empfangen. Der dritte Wirbel ist leis und lind, Als wiegt' eine Mutter in Schlaf ihr Kind. Flandern in Not! In Flandern reitet der Tod! Der Tod kann Rappen und Schimmel reiten, Der Tod kann lachelnd im Tanze schreiten. Er trommelt laut, er trommelt fein: Gestorben, gestorben, gestorben muss sein. Flandern in Not! In Flandern reitet der Tod! Смерть на коне, как уголь чёрном Под непроглядным как ночь капюшоном Когда ландскнехты на бой маршируют В первых рядах она гарцует Смерть на коне! Фландрия в беде! Во Фландрии Смерть на коне! Смерть на коне белее снега Прекрасном как херувимы с Неба Когда кружатся в полях хороводы Пляшет вместе со всем народом Фа-ла-ла-ла Фа-ла-ла-ла! Смерть на коне, красней чем пламя, Словно залитое кровью знамя Когда пожаром твой дом полыхает Гордо среди огня выезжает Смерть на коне…. Смерть выбивает дробь барабана Сердцем ее ты почуешь неждано Бить она долго и громко может Молча бьет по натянутой коже Фа-ла-ла-ла! Фа-ла-ла-ла! Когда она первую дробь выбивавет Кровь тут же сердце твое покидает Когда она выбьет вторую дробь Ляжет ландскнехт в холодный гроб Смерть на коне… Третия дробь тиха и неслышна Долго ландскнехту ждать встречи с Всевышним… Третия дробь тиха и тонка Словно баюкает мать ребенка… Фа-ла-ла-ла! Фа-ла-ла-ла! Смерть на коне вдруг промчаться может Может и в танце кружиться тоже Бьет она громче и бьет она тише Мёртвых, мёртвых повсюду ищет!Очень точно, по моему: «Фландрия в беде, Во Фландрии Смерть на коне», или что-то в этом роде.
Ваш покорный слуга личного участия в «бытовых» безобразиях не принимал. Хотите верьте, хотите не верьте. И даже солдат своих по мере сил удерживал, что было невероятно сложно. Но старался, чем сыскал себе известность «самого гуманного ландскнехта», «этого ненормального», «жополиза» (вот непонятно, кому это я лизал жопу, не крестьянам же?), «арбитра дисциплины».
Вот что погано: я настолько очерствел, что никаких, понимаете, никаких эмоций не поднималось во мне горькой, полынной волной, при вести об очередной сожженной деревне или при виде растерзанного обывательского тела.
Шевелилось что-то в глубине души, но колодец моих чувств иссяк настолько, что эхо этого бултыхания почти не достигало поверхности. Я невольно задумывался, а не пересох ли колодец? Может там на дне вместо прозрачной воды осталась только мутная илистая жижа?
Я не закатывал цивильных истерик, не плакал, не заламывал рук, как в самом начале моего пути. Конечно, если у меня на глазах солдат пытался изнасиловать девочку, я это тут же пресекал.
Я апеллировал к воинской чести и дисциплине, рассчитывая, что мой блеф сработает. А потом пришлось признаться, что это вовсе и не блеф… Что страдания невинного ребенка меня трогают куда меньше, чем то, что солдат посмеет ослушаться приказа старшего по званию.
Не радостное открытие. Но мне уже было наплевать, никаких лишних гражданских мыслей моя откровенность перед самим собой не породила. Одно обнадеживало. Я не перестал копаться внутри себя. А значит, когда-нибудь, может быть, война покинет мою душу.
Во Фландрии ваш покорный слуга познакомился с Жаном Артевельде – младшим сыном побочной ветви знаменитого антверпенского рода. Парень, не рассчитывая на неделимый майорат, вынужден был уйти в армию, и уже некоторое время солдатствовал, когда прибился к нам.
В те годы ландскнехты очень неохотно принимали пополнения откуда либо, кроме южно-германских земель: Тироля, Швабии и Баварии – особенно Тироля – наследственного домена императорской фамилии.
По проверенному мнению знающих людей, лучшие солдаты получались именно из альпийских горцев, чему не трудно поверить, ведь швейцарцы тоже жили неподалеку. Высший королевский замысел был совсем незатейлив, ведь это очень благоразумно – набирать войско на своих землях, не подвластных воле князей!
В 1520-ых годах, особенно после виктории при Биккока, слава ландскнехтов возросла настолько, что в наши легионы потянулись отчаянные парни со всей Германии и не только. А что «коренные» ландскнехты? А ничего, но факт остается фактом, пока такие как я (вроде как саксонец) и Артевельде оставались на общем фоне величиной пренебрежимо малой. Слово «ландскнехт» все еще выступало синонимом слова «тиролец».
Я спас Жана от крупных неприятностей, когда тот в компании пятерых антверпенских парней нарвался на приключения.
Приключение нагрянуло в лице пары крестьянских девок, что шли за водою, когда их зажали несколько солдат из соседней роты. Артевельде вступился, теперь уже не поймешь, то ли он сам хотел побаловаться, а его опередили, то ли взыграла в нём элементарная порядочность – не суть.
Трясся ваш покорный повествователь на лошадке, сочиняя очередной отчет для далеких моих работодателей в Академии, будь они неладны. А тут настоящий цирк: крики, шум – явное нарушение воинской дисциплины и армейского расписания, мимо чего я никак не мог проехать.
Я почему это все описываю подробно? Просто в дальнейшей судьбе, что приволокла меня к той самой испанской лужайке, на которой я оказался tet-a-tet с доном Франциском, Артевельде сыграл не самую последнюю роль.
Но все по порядку.
Возле деревенского колодца жались несколько солдат, судя по всему, аркебузиров из недавнего пополнения. Их окружали ландскнехты. Виновницы разлада в количестве двух насмерть перепуганных особей сидели за колодезным срубом и тряслись.
Первые говорили дерзкие слова, а вторые отвечали словами грозными, так что всякие словословия вот-вот должны были уступить место стали. Я уже достаточно разбирался в тонкостях межкультурной коммуникации в военной среде, чтобы разобраться что к чему.
– В чем дело? – Вопросил я громогласно.
– Отгребись. – Ответили мне.
– Это кто такой говорливый? – протяжно поинтересовался я, слезая с коня.
– Ну, я – ответил мне солдат в грязном кожаном вамсе, стоптанных башмаках и задорным кудрявым чубом, выбивавшимся из под берета. Его приятели заоборачивались и, не снимая рук с оружия, немного расступились.
– Ну, я говорливый, – повторил он и подошел ко мне. – А ты кто?
– Я Пауль Гульди, фельдфебель, слыхал может?
– Ну, слыхал, – наглости в голосе его поубавилось, но идти на мировую парень явно не собирался, будучи абсолютно уверенным в собственных силах. Об уверенности в правоте и мыслей не возникало, готов спорить. Над такими мелочами в армии давно никто не задумывался. Кто смел тот и съел, где сгреб, там и въёб.
– Вали своей дорогой Пауль Гульди, фельдфебель. Мы сейчас проучим этих фландрийских выскочек, а потом развлечемся. Если хочешь, давай с нами, ты мужик свойский, насколько я знаю.
– Я для тебя не свойский мужик, падаль, я для тебя фельдфебель при исполнении служебных обязанностей. – Я говорил тихо-тихо, тщательно выводя каждое слово. Рванину требовалось немедленно поставить на место, иначе могло случиться всё что угодно.
– Бу-га-га-га, – заржал тот и сделал рукой недвусмысленный жест, изображая стилизованный детородный орган. – Вот где я тебя видал, ты понял?
– Встать смирно! – заорал я, оставляя шепот, – к профосу захотел?! Я тебе устрою!
– А попробуй, братишка, – с этими словами безымянный хам и нарушитель воинской дисциплины вытащил меч и поднес острие к моему лицу.
Мой ответ был короткий и, наверное, единственно возможный.
Меч с шелестом вылетел из ножен и ударил в плоскость клинка, что угрожающе болтался перед носом вашего скромного повествователя. Поганого качества железка моментально сломалась, и хам с изумлением, плавно переходящим границу с испугом, уставился на образовавшийся в руке обрубок, в то время как я на обратном движении вернул меч на перевязь.
– О ля-ля, как говорят во французском королевстве! Я полагаю инцидент исчерпанным и считаю, что мы все, я сказал все, можем спокойно вернуться к исполнению служебных обязанностей по месту расположения частей приписки.
Приятели моего хамоватого знакомого как-то разом засобирались и потопали «по месту расположения частей приписки» (неплохо это я ввернул, а?!). Сам безобразник, оказавшись один как перст, решил, видимо, что «один в поле не воин» и тоже ретировался.
Крестьянки – те испарились как туман поутру, то есть, быстро и незаметно, а один из фландрийских стрелков подошел ко мне и сказал:
– Спасибо вам. Еще не много и я даже не знаю, чем бы все это закончилось.
– Зато я знаю. Вас бы выпотрошили.
– Это не вполне соответствует… – парень явно не понимал из какой передряги его вытащили, поэтому, я невежливо перебил плавность течения диалога:
– Это вполне соответствует! – сказал я, нажимая на слово «вполне». – Вы бы не успели первых слов Аve Maria прочесть, как летели бы на дно вот этого самого колодца. Заступились за девичью честь, как я понимаю?
– Да… заступились…
– Похвально. Следующий раз попытайтесь убедиться, что в состоянии довести начатое до конца. Или пропадете ни за пфенинг. Поймите, это ландскнехты. Никто не сказал бы «защищайтесь, прекрасный сир», и позицию никто бы не принял. Вас бы просто зарезали. Место безлюдное. Все можно, понимаете.
– Я… – начал мямлить фландриец, когда я приобнял его за плечи и мягко повел в сторону дороги, где меня дожидался верный конь.
– Я так понимаю, вы недавно в настоящей армии? – и откуда в моем голосе столько ветеранской протяжности образовалось? И слово «настоящей» я выговорил так, будто был совершенно убежден, что только ландскнехтская армия настоящая, а все остальное – фуфло.
– Неделю, мы только завербовались, – парню на вид было лет девятнадцать, то есть он на два года был младше. Всего. Но не так мало, если учесть, что на войне каждый год – за три. Был он невысок, рыжеволос и голубоглаз. И очень прилично одет, что и позволило мне смело предполагать, что в армии он недавно. Хреновое у нас сейчас время для щегольства.
– Я понял. Юноша, кстати, как вас величать? – Нет, я определенно начинал сам себе нравиться в роли убеленного сединами ветерана.
– Жан ван Артевельде, сын Якоба из Антверпена.
– Вот что я вам скажу, господин Артевельде сын Якоба. Мне совсем не нравиться то, что происходит в моей любимой армии. Но что поделать, такая нынче сложилась ситуация. Я вас умоляю, не ввязывайтесь больше в подобные приключения. Да-да, приключения, не спорьте. Лучше дать делу служебный ход, обратиться к профосу, тем более, что свидетелей у вас предостаточно. Да. По крайней мере пока. Осмотритесь, обвыкнитесь, наберите, что называется вес. Там видно будет. А пока… держитесь тише, ради Бога. Я по приставке к фамилии полагаю, что вы – дворянин? Так. Не обижайтесь, но ваш дворянский гонор лучше до поры засунуть… в кошелёк. Честное слово.
Рассудительная речь подействовала. Жан залился маком, потупил очи, которые перестали сверкать и метать яростные молнии. Он отстранился, взглянул на меня, как мне показалось, виновато и промолвил:
– Герр Гульди, позвольте вас от всего сердца поблагодарить. Я… кажется не соразмерил силы. Вы все верно сказали. И вы нас спасли. И тех бедных девушек. Позвольте пожать вашу руку. – Рукопожатие у него оказалось хорошим. Крепким.
– Я вам не «герр». Я вам товарищ. Бросайте ваши великосветские замашки. Под одними знаменами служим, значит, господ среди нас нету. Одни товарищи. С этими словами я вскочил в седло и тронул конские бока шенкелями.
– Все равно. Спасибо вам. Я ваш должник, это также верно, как то, что Артевельде всегда отдают долги! В любое время можете рассчитывать на мою шпагу и моё гостеприимство.
– Так ведь война, камрад Жан. Сочтемся. До свидания! – И я пустил коня рысью, думая про себя, что такая шпага мне даром не нужна. Как показало будущее, зазнавался я преждевременно и очень напрасно.
Что было дальше? Дальше были утомительные марши по стране. Было много крови и мало денег. До конца года мы упорно давили крестьянские бунты, не совершали подвигов, теряли друзей и набирали по мере сил пополнение.
Я состряпал два весьма приличных отчета и отправил их куда следует. Ха, один из них получился весьма неплохим, так что я им даже гордился.
Еще, я отрастил усы, а потом сбрил, потому что в них постоянно застревали крошки. Пристрастился к карточной игре, а потом бросил, так как был не настолько богат для подобных развлечений.
Сделался ротмистром, подумать только, то есть сравнялся в звании с самим Куртом Вассером. Но это не на долго, ибо тот через месяц после моего избрания, стал гауптманом, то есть лицом, которого назначал оберст и утверждал сам император.
Я продал старые доспехи и купил новые, точнее, мне их сделал на заказ молодой нюрнбергский мастер Михаель Витц. Клеймо в виде скромной буквы W еще не получило всеобщего признания, посему, его работа была вполне по средствам скромному имперскому офицеру. Но восемьдесят полновесных гульденов, это я вам скажу… зато мое нежное, горячо оберегаемое тело оказалось под защитой весьма и весьма надежной скорлупки.
Мы изредка пересекались с Адамом Райсснером и вели разговоры. Задушевные. Заумные. Пьяные. Душераздирающие. Весёлые. Я привязался к нему. Без него мне было скучно.
Еще реже удавалось увидеться с самим. То есть с Фрундсбергом. Он окончательно выздоровел, и теперь летал от полка к полку, подобно метеору на вечернем небосклоне. Он писал приказы. Орал на подчинённых. Бил морды интендантам. Казнил. Миловал. Казнил. Доставал деньги. Досаждал императору письмами и личными посещениями. Требовал. Угрожал. Лебезил и обивал пороги. Словом – командовал армией.
Бемельбрг – мой непосредственный начальник – напротив, всегда был рядом. Старый служака относился ко мне теперь как к равному, что не мешало, впрочем, загружать мою персону самыми различными заданиями, так что иногда было не продохнуть.
Еще я здорово поссорился с гауптамон Вассером. Чуть не дошло до дуэли. Можно я не буду раскрывать подробности? Потом мы замирились. А потом он спас мою никчемную жизнь Te Deum laudamus[56], да славиться имя Твое, и да будет воля Твоя, чего только Ты не готовишь на нашем пути!
Ха-ха-ха, я бы даже сказал, как подобает разнузданному наёмнику «бу-го-га», я рассчитался с этим должком вполне, ибо потом я вытащил из дерьма его грязную задницу. Причем в прямом смысле.
Зимой 1524 года он упал в канаву, будучи вдрызг упитым, и там заснул. Когда я проходил мимо, мой бывший командир уже практически окоченел.
Словом, если бы не я… у-у-у!
Таким образом, кинжал, который перехватил Курт возле моей шеи, вполне сравнялся с ледяной водой в сточной канаве по убойной силе и значимости на дорогах судьбы. Как говаривал старый Йос: «не умеешь пить – пей воду». И это правильно. Как известно, несвоевременный стакан может свалить так же верно, как пушечное ядро.
Несколько ранее в декабре 1523 г. все мы были ошарашены и прямо таки потрясены вестью о смерти Просперо Колонна, чья фигура казалось вечной как сама армия. Старик просто лёг и умер, устав от бесконечных походов и баталий, предоставив молодежи разбираться с его наследством и расхлебывать липкую кашу итальянской войны.
Потом был новый марш на Италию. На этот раз в силе малой. Там нас принял Шарль де Ланнуа и 30 апреля на реке Сезии мы вновь разбили французское войско адмирала де Бонниве.
Кажется его звали Ришар?[57] Вот интересно, отчего военно-морской министр и главком ВМФ Франции решил, что он может с таким же успехом командовать сухопутной армией? Или я чего-то не понимаю? В общем, результат лично для меня не удивительный.
Колесо истории вертелось в те дни с такой скоростью, что людей непривычных вполне могло стошнить.
Еще один Шарль, на этот раз прославленный французский ренегат, герцог Шарль III де Бурбон, со всех сторон обиженный своим сюзереном и оттого сбежавший под более лояльное покровительство своего германского тезки, предпринял смелую атаку на Прованс и осадил Марсель. Помните, как мы с Адамом и Фрундсбергом напивались и возили по карте вилочками? Мои выкладки полностью оправдались – осада Марселя состоялась.
Неудачно, к сожалению.
Франциск ответил и ответил яростно. В Авиньон прибыла невиданная армия. Я говорю «невиданная» и это в самом деле так. Со времен римских Кесарей Европа не лицезрела подобной мощи. В силе тяжкой двигалась пятидесятитысячная армада. Казалось, что горы содрогнулись от мерного марша бесконечных легионов.
Кто-то хвастался, что если французские пушкари захотят, то обрушат залпами своих орудий гору Монблан.
Десять тысяч конницы. Вспомогательные войска. Саперы. Обозы, обозы, обозы. И ожившие леса пик от горизонта до горизонта. Гасконцы. Страшные в своем желании отомстить швейцарцы. Отряд Джованни ди Медичи. Чёрная банда Франсуа Лотарингского (трижды проклятые предатели – ландскнехты, купившиеся на французское золото, оборотившие пики против своих братьев).
Возглавлял это огромное, роскошно экипированное войско лично кайзер Франц, который решил, что его прославленные полководцы достаточно обосрались, чтобы взять непосредственное управление в свои руки.
Но громких имен и славных биографий в его свите хватало. Даже с избытком. Кто повпечатлительнее, мог бы сбежать просто прочитав титулы.
Кого там только не было! Весь блеск французской армии за целое поколение! Счастливчик Анн де Монморанси и сухопутный адмирал де Бонниве. Луис де ля Тремуй и Шарль де Терселин. Маршал Франции Робер де ля Марк, возглавлявший швейцарцев и граф Ришар де ля Поль. Герцог Шарль де Алансон и ля Палис. Одно слово – целое звездное небо!
Надо ли говорить, что Бурбон и Альфонсо д`Авалос д`Аквино, он же маркиз Пескара и дель Васто, он же кузен знаменитого Фердинанда д`Авалоса, быстро взяли ноги в руки и удрали от Марселя? А вы бы не удрали? Но то были опытные вояки. Без горячки и спешки, они ушли прямиком в Италию, здраво рассудив, что именно там должна вскоре разыграться решающая партия. Самая великая драка в истории Европы.
Глава 8 В этой главе разные люди со всех сторон освещают дело при Павии, а Пауль Гульди пленит короля
«Эти записи сделаны на основе бесед с Георгом фон Фрундсбергом, маркизом делль Васто, герцогом Шарлем де Бурбоном, многими простыми солдатами и офицерами, сражавшимися в великом походе, и некоторыми французскими командирами, попавшими в плен, чьи имена я не могу назвать даже по прошествии стольких лет.
Некоторые сведения могут показаться общеизвестными и не заслуживающими упоминания. Другие, совершенно наоборот – заметно расходятся с общепринятыми мнениями, которые каждый может почерпнуть в официальных хрониках или исторических произведениях. Один Господь ведает всю правду, я же не смею претендовать на истину и посягать на авторитетные суждения людей куда более осведомленных, тем более, что записки сии в немалой мере приватные и, скорее всего, никогда не увидят свет.
Листки, что я пачкаю сейчас чернилами своего трепетного пера – не более чем совокупные воспоминания честных солдат, которые храбро сражались бок о бок со мною, а так же и против нас, отчего мое уважение к ним никак не умаляется.
Я почти вижу, как некий господин, который ныне еще может быть даже не родился, брезгливо отряхнет руки, прочитав представленные строки, и скажет: „Что за бред и враньё написал этот безумный старик!“. И мне нечего возразить ему. Наверное, взгляд со стороны окажется более правильным и не затуманенным неверною дымкой личного опыта, личных воспоминаний и личной боли, что в полной мере напитали меня в те далекие годы.
Носить в себе эту память я более не могу, как не имею права укрывать чужие впечатления, что доверили в свое время мои товарищи и мои враги. Таким образом, я передоверяю их бумаге, и будь что будет. Все равно, большинство достойных людей, творивших историю много лет назад, почили и простят мою выходку. Когда-нибудь записки могут попасть стороннему читателю. Надеюсь, что к тому времени я окажусь среди когорты участников тех великих событий и смогу лично держать перед ними ответ, а так же перед Господом Вседержителем, да не оставит он меня своею милостию.
Я постараюсь честно и без прикрас описать наши действия, действия противной стороны, расположив героев пьесы так, как они стояли на сцене истории, и как я это запомнил. Рука моя более привыкла к рукояти меча, посему рассчитываю, что вы отнесетесь к косноязычию моего пера снисходительно, тем более, что записки эти для ваших глаз вовсе не предназначены.
Не смею более медлить и, помолясь, приступаю во Славу Божию».
Примечание Пауля Гульди:
«Данные записки передал мне Адам Райсснер в Испании в 1535 году. К сожалению, он не пожелал раскрыть автора этих строк, но это точно не Адам, ибо его почерк и его стиль я знаю слишком хорошо. Кроме того, он вряд ли стал бы именовать себя „стариком“, ведь лет этому достойному мужу еще совсем немного.
Считаю нужным присовокупить их к рассказу о битве, в которой я принимал непосредственное участие, из-за чего моё собственное поле зрения, а значит и мои суждения, были предельно сужены. Беседовать же после битвы с пленными командирами французов высшего звена я не имел возможности.
Таким образом, картина, нарисованная безвестным воином, должна органично дополнять мои собственные сведения, и я намерен цитировать его записи, показывая панораму событий на политической арене и на поле боя. Тем более, что, вопреки уверениям, перо вовсе не так косноязычно. Позволю только себе самовольно разбить текст на абзацы, для удобства чтения.
Кроме того, я обращаюсь к дневникам Адама Райсснера, который куда больше моего был осведомлен об общем ходе баталии. Его записи приведены в моем пересказе.
Надеюсь, что подробное описание этого грандиозного столкновения позволит с максимальной точностью определить картину развития наблюдаемого общества и послужит полезным дополнением к моим ежегодным отчетам.
Э.А.»
Из анонимных записок:
«В год 1524 от Рождества Христова в середине октября армия наша вынужденно отступила в Италию перед лицом грозной силы, что привел на помощь осажденному Марселю король Франции Франциск I.
Пылкий сердцем монарх повел свои легионы вослед нам, надеясь догнать и одним ударом решить затянувшуюся войну, что начал еще Карл VIII. Дело оборачивалось скверно для имперских войск. Один за другим Франциск сметал наши хилые заслоны и, перейдя Альпы, устремился к Милану, который и взял решительным натиском. Герцогское кресло Франческо Сфорца занял французский губернатор Луи де ля Тремуй.
Мы же отступили к Лоди, где укрепился наш командующий Шарль де Ланнуа с двенадцатитысячным войском. Девять тысяч ландскнехтов и испанцев он отрядил под команду удачливого воина Антонио де Лейва, которые заняли городок Павию, чтобы обеспечить дороги к Милану, который мы не теряли надежды в скором времени отбить.
Положение ухудшалось с каждым днем, ведь французы в Милане не остановились и, развивая успех, бросились в драку. Павия стала ключевой позицией. Валуа ударил по ней со страшной силой своего тридцатипятитысячного корпуса. Слава Богу, что часть воинов он вынужден был оставить в Милане гарнизоном, а так же разослать по всей Ломбардии, так что не смог привести всю пятидесятитысячную армаду.
Опытные военачальники уговаривали его блокировать Павию малой силой, а главные части послать дальше, но король был настроен на быстрый успех и решился на осаду и штурм.
2 ноября Анн де Монморанси разбил наши разъезды и пересек реку Тичино. С тех пор кольцо блокады замкнулось и храбрые защитники могли рассчитывать только на свои силы. Контрвалационная линия была возведена с похвальною быстротою, на ней установили пушки, и до 21 ноября продолжалась бомбардировка. Крепкие стены Павии уступили совокупной мощи семи десятков орудий. И тогда начался штурм, который наши солдаты сдерживали трое суток подряд.
Кто бы мог подумать, что изнуренные осадным сидением люди смогут отразить вчетверо превосходящего противника?! Но, благодарение Господу, так и случилось. Много подвигов совершили наши воины и заставили Валуа прекратить приступ и продолжить блокаду, которая и длилась до памятного февраля 1525 года.
За это время мы сделали гораздо меньше чем было необходимо, но гораздо больше, чем было в силах человеческих, чтобы помочь нашим товарищам и спасти судьбу всей войны.
Фрундсберг навербовал новую армию из пятнадцати тысяч ландскнехтов и атаковал швейцарские кантоны, что принудило райслауферов покинуть армию Франциска и вернуться домой для обороны родных стен.
Валуа не дремал тоже. Тайные переговоры с папой Климентом VII развязали ему руки на юге Италии и он направил в сторону Неаполя экспедиционный корпус под командованием Джона Стюарта, герцога Албани – шотландского наёмника, чтобы занять этот вожделенный край, принадлежавший испанской короне, а значит и нашему, милостию Божьей императору Карлу Габсбургу. К счастью, Господь ослепил его и вскружил голову частыми успехами, так что он не послушал голоса разума и раздробил свои силы, ввязавшись в это авантюрное наступление.
Шарль де Ланнуа стремительно вышел наперерез и разгромил шотландского искателя приключений под Фьоренцуолой. Страшные потери, что понесла армия де Ланнуа, а так же наступление отряда Медичи, заставили его спешно вернуться в Лоди. Неаполь, как видите, мы отстояли, но воспользоваться плодами победы не смогли.
Сеньор Джованни ди Медичи со своими ротами вернулся к Павии, встретив по дороге пороховой и артиллерийский поезд, что выслал для Франциска Альфонсо д`Эсте, герцог Феррарский.
Тут в полотно нашего повествования вторгается мотив личный, что так часто и неожиданно перекраивает самые тщательно подготовленные лекала большой политики.
Медичи был славным кондотьером и обходительным молодым кавалером, так что победы на свой счет он записывал не только на полях сражений, но и в аристократических альковах. Всем, кто только не глух и не слеп, было известно о любовной связи жены герцога д`Эсте и названного кондотьера, что естественно, не добавляло симпатии первого к Медичи.
Я думаю, что именно это обстоятельство, а не одни только имперские гульдены и возможные политические выгоды, подтолкнуло герцога Ферраского к тайным поставкам своих несравненных пушек и порохового припаса Фрундсбергу. Видимо, он надеялся немного сточить развесистые рога об острую щетку имперских пик. Насколько это задумка удалась, судите сами, но об это позже, ибо ткань повествования не любит, когда её рвут.
Итак, осада Павии шла своим чередом, а на великой шахматной доске началась новая рокировка. Пока Фрундсберг сотрясал Швейцарские Альпы, Уго де Монкада высадил испанский десант под стенами Генуи, надеясь поддержать прогабсбургские силы в их споре со сторонниками Валуа. Но там его уже ждали. С одной стороны десант встретили превосходящие силы французов, а на море появился генуэзский флот под водительством грозы турок – несравненного сеньора Андреа Дориа, что впоследствии оказал столь ценные услуги делу Империи. А пока его корабли оказались последней песчинкой на чаше весов воинской удачи, которая отвернулась от испанцев, так что Монкада принужден был сдаться.
Примерно в те же дни Франциск сумел убедить швейцарцев вернуться на войну, и они выставили двадцать тысяч райслауферов, прекрасно вооруженных и отменно обученных.
Наступил январь 1525 года, когда армия Георга фон Фрундсберга перешла через Альпы и вторглась в Ломбардию. Восемнадцать тысяч ландскнехтов соединились с войсками де Ланнуа, а так же кузенов д`Авалос: маркиза Пескары и маркиза делль Васто.
Только зимние холода и истощение казны, которое вызвало брожение в войсках, помешали немедленно атаковать Валуа. Частные действия все же были предприняты.
Отдельный полк ландскнехтов перерезал коммуникации французского войска, заняв город Бельгийосо. Вездесущий Медичи и адмирал Бонниве вынуждены были отправиться туда и освободить местечко. Тогда-то, прикрываясь маневром на вспомогательном направлении, де Ланнуа и подошел к Павии. Часть сил Медичи и Бонниве в спешке вернулись в лагерь французского войска, пред лицом надвигающейся угрозы.
Дело было сделано – огромная армия Франциска оказалась раздергана по разным участкам фронта, что основательно уменьшило основную группировку под Павией. Король приказал основным силам выдвинуться на север города под защиту стен охотничьего парка Мирабелло, чтобы отрезать гарнизон Павии от соединенного имперского войска. Для продолжения осады он выделил три тысячи швейцарцев.
2 февраля произошла крупная стычка, которую поддержал гарнизон Павии смелой вылазкой. Де Лейва сражался храбро, но его вынудили отступить в город. Мало толку было и от схваток у парковых стен. При этом, правда, феррарская кулеврина, которую отменно нацелил феррарский же канонир, раздробила голень Джованни ди Медичи нелль Бандонегро, который лично возглавлял атаку своего отряда.
Этот славный отряд так измучился во время беспрестанных боев осени и зимы, что тяжкое ранение командира заставило его отойти к Пьяченце. Там и скончался прославленный кондотьер из-за запущенной гангрены. Смерть его была ужасна. Будучи в сознании, он запретил ампутацию голени, понадеявшись на волшебную силу лекарств, втираний и лечебных пиявок. Но кровь его уже была заражена, и день ото дня ему становилось всё хуже. Когда сознание оставило Медичи, врачи решились, все таки на ампутацию, что и было сделано, но поздно. Решать вам, любезный читатель, смог ли обесчещенный муж сеньор Альфонсо д`Эсте отомстить своему обидчику.
Впрочем, к делу это имело маленькое отношение, ибо, что есть жизнь одного, пусть и выдающегося человека, перед лицом грандиозных сил, которые пришли тогда в движение?
Де Ланнуа отступил от стен Мирабелло, но совсем недалеко. Военный совет постановил отвести войска восточнее и ударить с того направления, где французы менее всего ожидали атаки. Армия собралась воедино в назначенном месте 21 февраля и начала выдвижение к Павии.
Воспользовавшись оперативной паузой после ухода авангарда имперской армии, Франциск самым срочным образом вызвал из Милана большую часть гарнизона, справедливо надеясь возместить силы потерянного отряда Медичи.
Для сравнения я намерен привести силы сторон, что столкнула лбами злая военная судьба. Кто-то может не согласиться с моими выкладками, но я всего лишь пересказываю слова людей, которые эти самые силы привели на поле.
Франциск Валуа располагал десятью тысячами конницы как итальянской, так и из числа французских кавалеров. Сила пехоты состояла из двадцати тысяч швейцарцев и шести тысяч ландскнехтов Чёрной банды, что привел Франсуа герцог Лотарингский. Итого двадцать шесть тысяч, из которых не менее шести тысяч являлись стрелками. От этого числа следует отнять три тысячи, которые, как мы помним, были выделены для блокады Павии. Саперы и пушкари – около трех тысяч, причем пушкари располагали семьюдесятью восемью орудиями, из которых двадцать пять были оставлены под стенами Павии, включая тяжелые единороги и мортиры, а пятьдесят три отведены для генерального сражения.
Имперская конница состояла из двух тысяч германских рыцарей и полусписс. К ним следует добавить шесть тысяч испанской и итальянской конницы из неаполитанского королевства. Пятнадцать тысяч ландскнехтов и восемь тысяч испанцев образовывали ядро пехоты, из которой четыре тысячи испанцев и три тысячи ландскнехтов были стрелками. Причем, не менее двух третей были вооружены новомодными мушкетами, вместо привычных аркебуз. Пушек у нас было всего семнадцать, ведь никто не планировал осадных работ, да и скорость передвижения, которую так тормозил тяжелый обоз, была чрезвычайно важна.
Поле великой битвы представляло собой огромное охотничье угодье, обнесенное с трех сторон невысокими каменными стенами, а с запада ограниченное течением реки Тичино. Внутри были живописно разбросаны рощицы, луга и небольшие холмы. Восточная сторона считалась самой неудобной для атаки, ибо всю эту часть покрывал густой кустарник и частая россыпь деревьев, но именно оттуда мы и намеревались атаковать».
Холодное февральское солнце еще не взошло. Небеса были покрыты низкими тучами, которые словно раздумывали, а не посыпать ли пейзаж снежком. Безветрие лишь немного облегчало хрусткий утренний заморозок, укрывший всю округу глубокой, гулкой тишиной. Каждый шаг, каждый всхрап неразумного коня звонко разносились, как казалось, на многие мили. Иллюзия, конечно, но иллюзия пугающая.
Четверо людей в темных суконных плащах с надвинутыми на лица капюшонами, что воровато крались вдоль парковой стены, производили впечатление основательно напуганных. Они поминутно останавливались и заглядывали через невысокую каменную преграду, которая в более спокойные времена охраняла охотничий заповедник от браконьеров. Молчание они нарушали изредка, перебрасываясь неслышимыми словами только придвинув головы вплотную. Да еще позволяли себе подышать на озябшие руки. Не трудно догадаться даже неискушенному наблюдателю, что намерения у них были далеки от благостных.
Таким манером вся маленькая группа, назовем её по военному отрядом, прошла около мили, после чего темные фигуры присели под стеною и стали чего-то дожидаться. Чего-то? Скорее кого-то, ибо, спустя самое малое время, через ограду с той стороны тихо и ловко перемахнули еще двое, которые тут же принялись втолковывать остальным нечто важное.
– Спят. Как есть спят. Полный бонсуар[58].
– Часовые? Наблюдатели? Разъезды? – раздался свистящий шепот одного из отряда, видимо, старшего.
– Никого.
– Точно?
– Мамой клянусь. Никого. Посты только на северной стороне. И в самом лагере. Старший проворчал себе под нос что-то вроде: «ну если кого проворонили, головы откручу», после чего повелительно взмахнул рукой, и добавил для ясности:
– Веди! Быстро!
Пришелец, столь сноровисто преодолевший стену, хотел было спросить: «сюда вести?», но прочел в глазах старшего такой недвусмысленный матерный ответ, что счел за лучшее без лишних слов раствориться в темноте.
Вот овцы, думал про себя старший, глядя, как густой утренний сумрак сомкнул невидимые крылья за спиной его подопечного. Бар-р-раны. Ни черта сами не могут. За каждым ходить и подтирать, потому что если обосрутся, а они обязательно обосрутся без пригляда, начальство снимет голову именно с него. Сначала оттрахает во все дыры, а потом снимет. Фрундсберг – мужик резкий.
– Слышь, Рихард, а нам-то как быть? – прервал его невеселые думы даже не шепот – свист на грани слышимости.
– Заткнуться и сидеть на жопе ровно! – так же тихо, но совершенно непререкаемо отрезал тот.
– Так жопе-то холодно!
– Твою мать! – Рихард ухватил болтуна за край капюшона и подтянул к себе, – еще хоть пикнешь, и я тебя приколю, понял? Лош-ш-шак геморройный. – С этими словами он с силой шваркнул подчиненного затылком об стену. Видимо для понимания.
Понимание воцарилось абсолютное, соперничающее даже с божественной тишиной февральской заутрени.
Kazendrek[59], с кем приходится служить, подумал Рихард Попиус – ни много ни мало лейтенант роты мушкетёров, лично возглавивший разведку. Шайсе, дорогие камрады. Шайсе. При работе с человеческим материалом часто попадается полный шлак. И что печально, чем дальше, тем больше.
Рихард Попиус – исправный служака, тянувший трудную лямку наёмника уже второй десяток лет, умел ценить послушание и дисциплину. Оно конечно, можно и погулять, особенно, когда дело сделано, а в кошельке весело и серебристо звенит. Но чтобы вот так на службе, да еще на задании препираться с командиром… в голове не укладывалось.
Надо сказать, что в голове у него вообще укладывалось немного. Кругозор его ограничивался безупречными ружейными приемами, искусной маршировкой в строю и отличной стрельбой с одной стороны, кабаком и борделем с другой. Любимыми словами, помимо обязательных «шайсе, катцендрек», были «Смирно! Ма-а-а-лчать! Марш!», а так же «Слушаюсь! Так точно! Отставить!». При помощи этого немудреного вокабуляра он ухитрялся образцово нести службу, образцово командовать ротой, образцово разбираться с жизненными неурядицами. Боялся он только профоса и оберста Георга фон Фрундсберга. Трепетал только перед полковым знаменем и словом «служба».
А вот теперь этот идеальный солдат тосковал по былым временам, когда ландскнехт на войне слова поперёк командира сказать не смел, не то что теперь, когда в войска набралось столько отбросов и всяческой шелупони. Если в тяжелой пехоте еще наблюдался определенный порядок, то в стрелки нынче набирали любое дерьмо. Страшно подумать, даже французов и итальяшек, которые, как известно, умеют только жрать и трахаться.
Между тем, даже исполнительная задница Рихарда Попиуса начала подмерзать вполне ощутимо, так что он невольно задумался, а где же, чёрт возьми, все? И не обосрался ли все-таки его солдат, и не привел ли «всех» куда-нибудь не туда? К счастью, Господь обделил его фантазией, так что муками ожидания он терзался слабо.
Герр Попиус как раз начал размышлять над тем, что он сделает с тем недоноском, если он облажается, когда сумрак шевельнулся, а тишина подалась под напором топота нескольких сотен башмаков.
Живи пока, удовлетворенно решил он и встал навстречу вышедшему вперед чёрноколетному строгому испанцу в простой фетровой шляпе, под которой угадывались очертания каскета. Это был командир саперов.
Между тем, тишины как не бывало. К восточной стене парка Мирабелло подползала невиданных размеров человеческо-лошадиная многоножка. Не было слышно песен, никаких лающих громких команд, никаких барабанов, труб и свистков. Но все- таки, судите сами, когда тридцать тысяч человек в доспехах и с оружием начинают одновременно «подкрадываться», шум образовывается изрядный, причем сам собой, даже без особых стараний.
Попробуйте напялить латы, перевязь с мечем и кинжалом, взять в руки пику или аркебуз и куда-нибудь «подкрасться», а мы посмотрим. Нет, нет, да лязгнет пластина о пластину, тяжелый башмак сокрушит сухую ветку на земле, пика или меч зацепится за что-нибудь. Кажется, что перемещаешься ты вполне тихо, но когда такие вот проблемы посещают тридцать тысяч человек одновременно, что тут начинается!
А добавьте лошадей, которым не втолкуешь ни черта, потому что они тупые и волосатые, командиров, которым приходиться управлять всем этим столпотворением, пусть и шепотом, скрипучие лафеты пушек и несмазанные оси зарядных ящиков, и вы поймете, насколько тихо может подкрадываться армия, растянувшаяся во все стороны на мили.
Попиуса и его разведчиков после короткой команды испанца унесло в сумрак, как сухие литься на ветру. Видимо, побежали к своей роте сочно напяливать снаряжение. Было на дворе пять утра 24 февраля.
Под стеной началась возня и суета. Скрипели вороты, стучали кирки, сыпался изнуренный временем камень. Минут через пять от саперов отделился солдат, который бегом направился туда, где в темноте угадывались зачехленный древки главных знамен. Быстро определив начальственные фигуры на конях, он подбежал, уважительно вытянулся и доложил:
– Стена очень толстая. Два-два с половиной фута. Отличная кладка. Если разбирать вручную, на три бреши нужного размера уйдет не меньше полутора часов.
Делль Васто, Фрундсберг, Ланнуа и де Бурбон а это были именно они, мрачно переглянулись.
– Везет как утопленникам, – проворчал Ланнуа, – стенка – тьфу, а попробуй перетащить на ту сторону всю нашу братию? Да еще незаметно?
– Шарль, я ведь предупреждал, – отозвался дель Васто. На «Шарля» командующий имперской армией в Италии заметно сморщился. Он терпеть не мог манеру маркиза, которому не так давно стукнуло двадцать три года, называть его по имени, упуская все имеющиеся титулы и звания. Тем более, что Шарль был старшего его на пятнадцать лет и справедливо почитал себя умудрённым ветераном.
– Нечего болтать – подал голос Фрундсберг, – взрывать надо! И так и так, прощай скрытность. Но полтора часа чесать сраки под стеной – не здорово. Держу пари, что французы нас уже заметили или вот-вот заметят. Так что, хватит жевать сопли, строим людей, взрываем к такой-то матери стену и вперед!
Эта тирада перекосила лица обоих его коллег. Аристократическая натура с трудом переносила манеру Фрундсберга выражать свои мысли.
Только де Бурбон молча ухмылялся.
Но сколь они не куксились, а Георг был прав, и попрекать его грубостью не стали. Он был старше и опытнее их всех, и, хоть не командовал армией официально, всегда оставлял за собой последнее слово. Так что дело пошло по-фрундсберговски.
Заиграли дудки, рассыпались трели капральских свистков, развернулись знамена и вся огромная армия с похвальной быстротой распалась на три эшелона. Впереди мушкетеры делль Васто и легкая испанская конница, потом пушки, позади четыре баталии пехоты и тяжелая конница на флангах. Ну и саперы под стеной, как же без них. Открыватели путей, туда их растуда.
Три дымных столба выросли разом, пощекотав клокастыми бородами низкое брюхо зимнего неба. Недолгое сверкание огня. Фонтаны обломков. К чёрту стену! Под сорванным покрывалом утренней тишины родились три бреши, грохот и жуткий переполох в лагере французов, где, наконец, сообразили, что атаковать их будут вовсе не с севера, как ожидалось, а с востока.
O-la-la, и так тоже бывает, господа военные.
Над расположением французского воинства повис вопль «Alarm!». Вооружались солдаты, разворачивались орудия, ржали перепуганные кони. Матерились командиры, ведь им еще предстояло угадать, откуда именно выйдет имперская армия – покров рощ и кустарника теперь играл на стороне врагов, так как перехватить их в невыгодной позиции они не успевали.
– Мон дьё, – сказал тогда король Франциск в своем шатре, – Господа! А вот и гости, я начал бояться, что они проигнорируют наше любезное приглашение. Но нет, все в порядке. Бал состоится. – Теперь уже не узнать, играл ли он в холоднокровие, или искренне радовался предстоящей битве, но лицо его описывали, как веселое, а голос уверенный.
– С Богом, господа. Вооружайтесь, идите к своим людям. Сегодня мы взвесим удачу имперских шавок на наших весах.
Мгла войны упала и вперед выступила роковая определенность неизбежного кровопролития. В проломы двинулись конница, мушкетеры и пушки. Было шесть часов утра. Вставало солнце.
Из анонимных записей:
«Первым в бой вступил авангард, как и положено. Мушкетеры со всей скрытностью вышли к опушке рощи и укрылись за кустарником, так что французская конница попала под смертоносный залп и вынуждена была отойти. В это время легкая конница испанцев атаковала их, а пушки принялись стрелять в сторону лагеря. Французы беспорядочно отвечали, но в темноте никуда не могли попасть. Наши выстрелы были не многим успешнее, так как расстояние оказалось весьма значительным.
На поле начиналось кровавое дело. Эскадроны конницы налетали друг на друга и раз за разом расступались. Бросаться в решительную атаку в самом начале командиры не рисковали, ибо благоволение судьбы было более чем туманно.
В конце концов, испанцы вынудили французских кавалеров отойти. Отдадим должное, сражались они храбро и превосходно, но постоянный огонь мушкетеров, до которых невозможно было добраться из-за густого кустарника, здорово проредил им левый фланг, так что убраться из под прицела было решением более чем разумным.
Мушкеты полностью оправдали возлагаемые надежды. Тяжелый и длинный ствол с толстыми стенками позволял засыпать столько пороху, что дюймовая пуля вылетала с неописуемую силой, производя адские опустошения в рядах рыцарей. Их легкие доспехи почти не спасали от этого смертоносного оружия, особенно накоротке. Поистине, мушкет оказался сатанинским изобретением, далеко обогнав в этом сомнительном качестве даже арбалет».[60]
Что же происходит, во имя Господа?! – так думал капитан жандармов Гийом де ля Круа. Что-то испортилось, что-то подгнило, не иначе. Он отводил своих пьемонтцев для новой атаки, оглядывая через поднятое забрало поле, медленно светлеющее под лучами восходящего солнца.
Пол часа прошло с тех пор, как они построились перед лагерем, и пошли на рысях навстречу испанским знаменам.
Еще вчера он скептически разглядывал приготовления в лагере и разъезды, что высылались в северном направлении. Он даже здорово повздорил со своим приятелем Пьером де Бомануаром, доказывая, что имперцы далеко не дураки и, обломав зубы один раз, не полезут вновь с севера. Бомануар горячился и доказывал, что с востока атаковать невозможно, ведь там такой кустарник, что, мол, только идиот попрется в непролазные заросли.
Вариантов было немного, всего два. С юга – осажденная Павия – не пройдешь, с запада – река Тичино с единственным узким мостом – то же самое. Восток или север? Сегодня три могучих взрыва раскрыли игру, чётко указав направление. И что? Пока продирали глаза и суетились в темноте, пожаловали испанцы. Успели, мерзавцы, пролезть через хмызник. Вот они, по широкой дуге огибают небольшую рощицу, что стоит между лагерем и восточной стеной.
Гийом с сожалением подумал, что он оказался прав, а Бомануар ошибся. Но дьявол бы с ним, прав не прав, какая разница, когда враг перед тобой в чистом поле и готов скрестить копья! Это бой, это слава, это их жизнь!
Пьемонтские жандармы были прекрасным полком, отлично обученным и вооруженным. Служить в полку было честью, привилегией. Собрались и построились быстро. Тысяча всадников устремилась на тёмную массу вражеской конницы. Три эскадрона – два впереди, один в резерве, в полном порядке рысили вперед. Гийом даже разочаровано присвистнул, когда увидел, кто им противостоит.
Испанская легкая конница – хинете[61].
Бронированный вал жандармов сметёт их, не задержав бега коней, как уже бывало на его памяти при Равенне тринадцать лет назад. Никакой чести и никакого упоения в таком бою, но что делать? Сами напросились.
Он оглянулся напоследок, перехватил унылый взор Пьера и отделил себя от мира стальным клювом забрала. Поднятое копье капитана с ярким квадратным прапором взлетело вверх, приветствуя храброго неприятеля, труба отозвалась радостным гудом и эскадрон сорвался в галоп вслед за своим командиром.
Поначалу он не обратил никакого внимания на частые хлопки, что раздались в кустарнике с левого фланга. Чертовы аркебузиры. Что они могут сделать с четырёх сотен шагов? Потом ими займутся. Они еще пожалеют, что так опрометчиво выдали позицию. Сейчас стальной серп посечет испанчиков на их невысоких лошадках незащищенных латами, а потом Господь примет души стрелков, ни один не уйдет!
Могучий гнедой жеребец, яростно фыркая, набирал ход. Очень скоро его широкая грудь в стальном фартуке сшибет с ног мелкого хинете, а копыта – оружие пострашнее меча – станут вышибать дух из зазевавшихся врагов.
Копье привычно легло на фокр.[62] Глаза выбрали первую жертву – испанец в открытом бургиньоте и бригандине – его силуэт прочно попал в рамку узкой глазной щели, никуда не денется со своей легкой пикой. Зад намертво прилипает к луке седла, стальные башмаки до скрипа вдавливаются в арки стремян, глотка издает торжествующий рев: «Монжуа, Сен Дени!» Рядом надсаживаются боевые товарищи, тесный ряд копий готов испить первой крови, еще три секунды и…
Посвист пуль, обычно бессильных на таком расстоянии.
Но что это?
Ясная картинка в прорези армэ сбивается, его конь прыгает через упавшего под ноги соседа по строю, Гийом видит, как один за другим жандармы вылетают из седел, подхваченные невидимой силой, кувыркаются лошади, ломая ноги и шеи, давя всадников… он едва успевает выровнять своего гнедого.
Вместо сплоченной шеренги, разогнавшейся как горная лавина, в испанцев врезается какая-то пьяная, кривая сороконожка. Сам командир последние футы делает спотыкающимся шагом вместо всесокрушающего, грохочущего галопа.
Удар. Одно название.
Непреломленное копье, какой стыд, летит наземь. Он вздымает в железной клешне клевец и гвоздит ненавистные фигуры испанцев. Что-то бьет его с разных сторон, но славный рыцарь не обращает внимания, доверившись превосходной аугсбургской броне. Короткая пика безвредно скользит по забралу, и он всаживает граненый клюв испанцу между глаз. Готов!
Что же случилось? Черт возьми, как?! Что за стрелки засели в кустах, что за дьявол несет их пули? Атака захлебнулась. Де ля Круа был слишком опытен, чтобы продолжать беспорядочную сечу, и он вырывался из свалки, отводя своих людей, пока еще есть возможность командовать, пока хоть кто-то слышит зов трубы.
Испанцы не осмеливаются преследовать, опасаясь копий третьего эскадрона. Зато из кустарника вновь раздается тр-тр-тр и свистят пули. Страшно, как оказалось, свистят. Еще двое падают, пораженные в спины. Гийом увидел, что второй эскадрон тоже отходит. Третий – даже не окровавив копий, разворачивает коней назад. Что же это?
Далеко слева начинает бухать артиллерия.
За долгую и кровавую свою карьеру ничего подобного он не видел. И ничего не понимал. На поле нет места лёгкой коннице, когда в дело вступает его полк! Один натиск и всё кончается! Всегда, слышите, господа, всегда – это закон!
Эскадрон поредел, а ведь и драки-то нормальной не было. Пьер рядом, слава Богу жив. Страшно сквернословит и требует нового наступления. Ну что же, такое удовольствие он предоставить может. В душе его поднималась бурлящая волна ярости, конь чувствовал своего седока, так же как тот коня. Оба рвались в бой. Эскадрон атаковал вновь.
И вновь откатился.
И еще раз.
После каждого неудачного соступа полк вынужденно отходил назад, медленно, но верно, уступая поле презираемому легко вооруженному противнику. Каждая попытка заканчивалась, когда могучее «Монжуа» натыкалась на невидимую паутину свистящих росчерков, что сплетали с фланга проклятые стрелки.
Падали жандармы, падали их холеные кони, сминались латы, будто под ударами самых тяжелых алебард. Невредимые всадники перескакивали через упавших, кони спотыкались и четкий строй пропадал. До испанцев неизменно доходили истаявшие, рыхлые ряды, которые легко отражались сплочённой силой лёгкой кавалерии.
Третий эскадрон попытался выбить стрелков из кустарника, но безуспешно, только потерял людей, скошенных невероятной мощности пулями.
Итак, Гийом де ля Круа поднял забрало и в четвертый раз оглядел поле. Ярость стремительно уступала место недоумению. Казалось, еще миг и победа наша, но нет. Лёгкие короткие пики испанцев и ненавистные стрелки отбили не меньше половины луга, который располагался между кустарником (будь он проклят) и рощицей.
Победительная волна, что соединяла эскадрон в единое целое перед боем, куда-то исчезла, превратив его в скопление перепуганных людей, чудом сохранявших видимость порядка.
– Клянусь преисподней, – пробормотал Гийом, – с таким настроем нам не выиграть. Но это не мое дело.
В самом деле, долг есть долг. И он снова повел жандармов вперед.
А между тем на поле появилась новая сила.
Под грохот барабанов, который соперничал даже с орудийной канонадой, шеренга за шеренгой из-за кустов и деревьев выходили ландскнехты. Колыхались пики и алебарды, вились знамена. Чёрный орел вёл своих сыновей.
Им на встречу двигалась густая масса швейцарской пехоты. Войска бросили в бой ферзей. Далеко-далеко на фланге виднелись знамена Лотарингии – это шла германская банда герцога Франсуа, чтобы померяться пиками с испанской пехотой.
Всего этого Гийом де ля Круа уже не видел, с головой окунувшись в смертельную круговерть кавалерийской атаки.
Было около семи часов утра.
Адам Райсснер неотлучно находился при Фрундсберге. Ночной марш, взрыв стен, мучительное продирание через кустарник – всё это он воспринял стоически, хотя было очень страшно. Кто знает, может быть там, в поле, их уже поджидают швейцарские пики? Тогда можно было быстро сворачиваться и уходить. Вот так: не построившись, в полном беспорядке на райслауферов не полезешь – глупость, причем, самоубийственная.
Обошлось. Грохот и звон сшибавшейся кавалерии на левом фланге, дружные залпы мушкетеров и пушечных батарей говорили всем, кто умел слушать, что поле пока свободно.
Пехота выбралась из-за живой изгороди, и полки начали строиться, приводя в порядок линии. Сердце Адама затрепетало, когда он обозрел поле. Подобной мощи он никогда не видел, да что там! Без преувеличения, никто не видел! Со времен Александра Великого и древних Кесарей в бой не выходило столько прекрасной пехоты.
Одно дело видеть армию на походе. Огромная вереница: полки, отряды, обозы, пушки. Много миль занимает эта змея. Но войско в поле – это совсем другое дело.
Тем более, что поход выдался тот еще. Холодно, голодно, без жалования… каждую секунду солдаты были готовы поднять бунт, так что только непререкаемый авторитет Фрундсберга удерживал их в узде. Но теперь всё по-другому. Если уж ландскнехты вышли на битву, ничто их не остановит, кроме смерти.
Адам видел, как три германских полка двигаются вперед, и он вместе с ними. Как испанская пехота уходит правее вслед кавалерии, что всей массой двинулась в сторону французского лагеря. Он слышал, как встретила кавалеров орудийная пальба, как в дыму сошлись массы французских и имперских эскадронов. Что там творилось!
Но это их непосредственно не касалось. Навстречу шли швейцарцы! Вот сейчас они коснуться! С Биккока райслауферы накопили такой счёт ландскнехтам, что и подумать страшно. После битвы они насочиняли песен и анекдотов, про то как те зарылись в землю, подобно кротам, вместо того, чтобы выйти в поле. Опозорили свою честь кригскнехтов, и всё такое в том же духе. Немудрёные вирши легко объясняли поражение и обещали, что сделают швейцарцы при следующей встрече. Он запомнил окончание одной из песенок примерно так:
Я буду срать тебе на нос, Чтоб стекало дерьмо по усам, Я буду мочиться на бороду, Пока не усрёшься ты сам!Незатейливо, правда? Вряд ли это дословно, но смысл и рифмы точные. Чего еще ждать от солдатни: «усам-сам» и «дерьмо-говно-мочиться». Но расстроились парни по-настоящему. И обиду затаили лютую. Ну что же? Теперь у них все шансы исправить ошибки прошлого и исполнить обещание насчет «срать-мочиться», ведь Фрундсберг, наконец, вывел кригскнехтов в чисто поле, как велит древняя честь солдатская.
Адам вспоминал ночь перед боем, что провел он в компании Конрада Бемельберга, который теперь оберст, подумать только, Курта Вассера, рядового алебардиста-ветерана Ральфа Краузе и Пауля Гульди. Они мерзли возле потушенной ради скрытности жаровни, стучали зубами и в сотый раз проверяли оружие.
– Засиделся ты Райсснер в секретаришках у Георга нашего дорогого, – сказал тогда Конрад, – давай уже к нам! С твоей башкой дорога тебе прямо в оберсты. Оберст Райсснер, каково звучит! Тебя сам император знать будет.
– Император меня и так знает, – ответил он, – а командовать – не мое это. В строю я с вами. А командир какой из меня? Я же так – студент недоучившийся. Студентом и остался. Вот Гульди у нас – другое дело.
– Я тоже студент и тоже недоучка, какое совпадение.
– Во набежало, так и прут в армию, так и лезут, – криво усмехнулся Курт, поправляя точильным камнем лезвие кинжала, – скоро не продохнуть будет от учёных.
– Толку мало от учёных! – Убежденно отозвался Ральф. – А зато какие парни получились, как в солдаты пошли. И не вспомнишь, что Гульди всего три года назад был сопляк – сопляком. Я уж про Адама молчу. Его-то мы поболе знаем. Золотой парень сделался. Золотой… слушай, а вы с Гульди не родственники?[63] Бу-го-га!!!
– Га-га-га, – дружно заржали все.
– Еще бы жалование выплатили. Наконец. А то тоскливо.
Часа три назад сидели и мирно болтали. Н-да. А кажется, что год прошёл. Вот летит время на войне?! А сейчас «золотой» Адам, временно забыв о невыплаченном жаловании, смотрел, как перед строем скачет Фрундсберг, а за ним следуют знаменосцы с большим имперским стягом и его личным штандартом.
Георг нёсся перед замершими баталиями, воздев воронёную рукавицу. Его прекрасный серый конь с роскошной сбруей, словно специально подобранный в тон высеребренным полосам на латах оберста нервно закидывал голову, словно ждал нехорошего.
А чего хорошего?
На левый фланг, откуда спешно отъезжали испанские хинете, нацелилась баталия швейцарцев и не менее тысячи рыцарей. Во фронт шли еще два полка. Минуты через три здесь разверзнется ад. Правый фланг уже погрузился в пекло по самые ноздри. А скоро там схлестнется испанская пехота и Чёрная банда. Тогда над адским варевом войны и макушек не разглядишь. Ха-ха-ха.
Между тем, Фрундсберг резко осадил храпящего жеребца, уверившись, что все его видят и слышат. Тут же замер и его личный стяг с двумя перекрещенными мечами на черно белом поле, отбрасывая неверную, морозную тень на железную фигуру полковника.
– Солдаты! Братья мои! Наше время пришло! Враг перед нами, Бог над нами! Идём и затопчем всех кого встретим! В лагере золото, вино и бабы! Если кого убьют, Господь позаботится, чтобы в раю выплатили жалование и привели лучших шлюх!
– Георг!!! – взревели полки, так что небеса закачались, – Наш Георг!!! Любая тёлка в лагере твоя!!! Веди нас!!! Вперед!!! На смерть!!!
– Парни! – отозвался он, спешиваясь, – парни!!! Сегодня мы победим, и у меня будут лучшие кони французского короля!!! А если проиграем, конь мне не понадобится!!!
Георг выхватил меч и по самую рукоять вогнал клинок в горло несчастного животного. Бедняга, не ожидавший такого предательства от обожаемого господина, как то совсем по-человечески вскрикнул и упал, перебирая точеными ногами, словно пытался и дальше скакать по полям этой недоброй земли. В самом деле, как оказалось, ничего хорошего коню сегодня не светило.
Кому-то из великих древних подражает, – подумал Адам. Вот только кому не помню.
Ну а ландскнехты словно обезумели, колотя оружием в нагрудники и завывая по-звериному. Жертва принесена. Марс принял кровь. Можно начинать.
Пехота сходилась. Три сияющих стальных слитка двигались навстречу трём таким же. Пики и алебарды смотрят в небо, но долго ли их опустить? Барабаны рокочут, в такт им стройно отвечают тысячи ног, потрясающих холодную февральскую землю. Плачут флейты, отпевая заочно тех, кто не увидит заката. Сколько их будет? Никто не знает. Все они – ландскнехты, швейцарцы, неважно – переступили такую грань, за которой не разберешь живой ли, мёртвый ли. Армии мёртвых идут навстречу друг другу и навстречу судьбе.
Первыми выступили мушкетеры. Каждая баталия словно раскрыла крылья, выведя с флангов стрелковые роты. Стрелков у нас было много. Так что швейцарское пах-пах-пах, у них тоже было кому пострелять, а как же, совершенно потонуло в могучем говоре мушкетных стволов.
Безупречная «улитка», которую исполняли мушкетёры, после каждого залпа откатывалась назад ровно на одну шеренгу, выпустившую пули и чётко ушедшую в тыл для перезарядки. Швейцарцы шли вперед, а мушкетеры назад, стремясь выкосить как можно больше страшных людей с пиками в голове баталий. Аркебузиры горцев ничего не могли поделать против подавляющей мощи тяжелых мушкетов, да и было их ощутимо меньше – швейцарцы всегда презирали смерть на расстоянии. За что и платили нынче по высокой ставке.
Дун-дун-дун! Разносилось над полем, и дым вздымался вверх, вместе с отлетевшими душами райслауферов. Они падали десятками, но упорно маршировали вперед, словно не знали что такое смерть.
Дун-дун-дун! И в ответ такое слабое пах-пах-пах!
Все-таки пять тысяч мушкетов с расстояния пятьдесят шагов оказались даже страшнее чем несколько десятков орудий при Биккока. Тяжелые пули легко находили мишени в густом пехотном строю. И если аркебуз мог и не пробить лёгкую кирасу пехотинца, то мушкет пробивал! И не только кирасы. Безжалостные куски свинца и камня головы отрывали вместе со шлемами, чуть не начисто. Дробили руки и ноги. Убивали и калечили, валя тела друг на друга, перемешивая мёртвых и еще живых.
Но швейцарцы равняли шеренги, вставали на место павших, и неумолимо надвигались. Их стрелки не выдержали первых залпов и отбежали на фланги, подставив страшной громогласной косе хрупкие стебли, что связывали души и тела доппельзольднеров.
Над полем стоял бы стон, если бы не дружные раскаты выстрелов, что носились с края на край, заливая зимний пейзаж кровью, трупами и вывороченными кишками.
Рихард Попиус стоял со своей ротой на левом фланге, прикрывая крайнюю баталию. Все шло по распорядку. Он, конечно, болезненно морщился всякий раз, когда его подопечные неловко выполняли команды «на плечо» или «кругом», но все-таки не мог не признать, что парни изо всех сил стараются.
Ага, стра-а-ашно, – злорадно думал он. Как только отпустила смерть покакать, так сразу на людей стали похожи. Вон как маршируют да палят. Лучше чем на плацу. Почаще б вас так.
– Заряжай! – взмах шпаги и шеренга взводит курки.
– Цельсь! – мушкеты падают на подсошники. Надо же, почти одновременно!
– Пли! – шпагу вниз и шеренга закутывается в дым и грохот. Ты смотри! Всего одна осечка! Ру-у-уперхт, недоносок фламандкий, конечно он. Ну только попробуй дожить до конца. Землю жрать будешь!
– На плечо! – мушкеты взлетают вверх. – Кругом! – шеренга разворачивается. – Марш! – солдаты уходят в промежутки между рядами и занимают место позади строя, где начинают быстро забивать порох-пыж-пулю-пыж в стволы.
Рихард доволен залпом. Двадцать, нет, девятнадцать выстрелов (Руперхт – сволочь) и козопасов стало на двух человек меньше. Отлично!
Едва пополнив запас пороха, который почти весь расстреляли, сидя за кустами, и отваживая французских рыцарей от лёгкой испанской конницы, мушкетёры выбежали на фланг полку ландскнехтов, и теперь садили, что есть сил по ненавистным трахателям овец, что б им в гробу перевернуться. Рота Рихарда Попиуса была там же во главе со своим зорким лейтенантом.
Аркебузирам швейцарским насыпали перцу под хвост. Шагов с двухсот. Не выдержали. Тряпки.
Среди его людей тоже были потери: один убит – голова треснула как спелая тыква (то-то смеху было); один валяется на земле – не понятно дохлый уже, или просто без сознания (один чёрт, толку от него теперь не дождешься); еще один заработал пулю в бедро, но стреляет и марширует, хотя и охромел. Молодец! Сразу видно старую закалку!
Самого Рихарда приласкало в грудину, но спасла добрая кираса. Он еще подумал, что, слава Богу, с той стороны аркебузы. Был бы мушкет – всё. Отвоевался бы. А так – только ребра болят, да вмятина в нагруднике. Так он для того и придуман. Что б, значит, его мяли, а не Рихарда.
– Заряжай!
– Цельсь!
– Пли! – дьявольщина, голос здорово осип. Попробуй поорать вот так, на морозце, вдыхая вместо воздуха пороховой дым, перекрикивая выстрелы с шести утра. Да еще разведка эта дурацкая…
А швейцарцы, между тем, все ближе. Сорок шагов и не шагом меньше. Еще залпа три-четыре и пора отступать на фланговый фас баталии. Оттуда еще постреляем. А то тут сейчас такое начнётся… Вон уже морды видать. Морды злющие, пики острые преострые. И очень длинные.
«Такое» началось гораздо раньше. Кто там вопит не вовремя? Уши совершенно онемели от постоянных звуковых ударов, даже подшлемник не спасает. Ну в чём дело?!
– Пли! – раздражающие крики и вообще все остальные звуки теряются за дружным «ба-бах» двадцати стволов, которым откликается весь фанляйн, да не один! Радость наполняет исполнительную душу, при виде того, как переламываются и падают человеческие тела на той стороне. Как валятся из рук ненужные и не опасные более пики, как брызгает кровь по воле ужасающей силы страшного, но такого любимого оружия…
– Кругом! Марш! – Вот теперь можно оглянуться. Так и думал: Жан Атревельде – молодой выскочка из Антверпена, которого он здорово не любил. Еще бы! Чёрт знает откуда принесло, без году неделя в армии, и на тебе – лейтенант! Никакой дисциплины. А ещё дворяни-и-ин. Ну не военный народ, что говорить!
Стоп. Стоп! Куда, мать его, его понесло!? Со всей ротой!?
Артевельде галопировал впереди своих людей, куда-то назад, оголяя фланг родного фанляйна. И кричал изо всех сил юной глотки, показывая шпагой себе за спину.
– Лом без смазки тебе в жопу!!! – заорал Рихард – Куда?! Наз… – он хотел крикнуть «назад», когда вдруг ясно понял, что лом без смазки сейчас достанется ему. Причем, скорее всего не лом, а тяжеленное рыцарское копьё.
Прямо на фланг летел стальной клин всадников. Тех самых, что они так славно пощипали ранним утром. Им вроде бы подкинули подкрепление, но над такими мелочами он не думал. А зря. Оставалось до смертоносных копий всего ничего.
Бежать? Куда? За спиной целая баталия! Не успеть. Да и смешивать ряды братьев-пикинеров, бросаясь к ним, нельзя.
– Пику на конь! – донеслось из баталии. Ландскнехты уперли свое оружие в землю, выставив на встречу громыхающей волне кавалерии четыре ряда стальных наконечников.
– Задняя шеренга! Под пики, марш! – страшно заорал он и повернулся вперед, не видя, как часть его солдат послушно нырнули под древки и улеглись перед ногами тяжелой пехоты.
Он разворачивал роту для последнего залпа.
– Правое крыло вперед, марш! – железные черепа коней все ближе, от чёрт, успеть бы!
– Первый ряд на колено! – хе-хе, перезаряжать нынче не скоро придется и не всем, хе-хе…
– Цельсь! – Господи, еще чуть-чуть…
– Пли! – Есть залп! Валятся сбитые в упор рыцари… Ну теперь…
– Стоять! – сиплый голос срывался, он видел, как его рота разваливается и дрожит, совершенно бессильная перед приближающейся мощью. – Ста-а-а-ять!!!
Рыцари врезались в мушкетеров, мстя за давешний позор. Копья потыкали тела, а кони валили их и втаптывали в землю, превращая белоснежный иней в красно-коричневую грязь.
Рихард стоял среди обреченной роты, подняв двумя руками длинную шпагу. Он успел увернуться от копья и вслепую вонзить клинок в наваливающуюся злую судьбу. Больше он ничего не успел и ничего не увидел. Лязгнув железом, в его кирасу врезался конский форбух.[64] Мир завертелся, перевернулся и исчез. Стало совсем темно и тихо.
Из анонимных записок:
«Невиданное побоище разыгралось в охотничьем парке. Пушки не умолкая стреляли, и благодарение Богу, что французы не успели выставить свою несравненную артиллерию на позиции как положено. Конница императора – испанцы и мы – атаковала со всем бесстрашием превосходящую кавалерию французов, чтобы не позволить той фланкировать наступавшую позади пехоту.
Нас вел в бой сам Шарль де Ланнуа – блистательный бургундский сеньор, храбрый и умелый рыцарь. Мой эскадрон столкнулся с врагом в первой линии. Боже, что за лютый случился бой! Не надо наград и королевской милости, если можно так воевать! Прекрасные французы шли на нас и не отворачивали коней, как обычно случается при встречных атаках, когда одна из сторон оказывается слабой духом. Но в тот день слабых надо было поискать! А как могло быть иначе, ведь французов вел сам король Франциск!
Я до сих пор вижу во сне, как мы, словно самоубийцы, врубились в шеренгу французов, а они врубились в нашу, и тогда я вскакиваю с криком. И пусть кто-то посмеет сказать, что это крик страха и я, хоть и слабый старик, вспорю его лживую глотку, ибо это вопль восторга!
Когда могучие кони сталкивались на всем саку, всадники вылетали из седел, прямо под копыта. Копья метко били в кирасы и шлемы, древки ломались и трещали, а наше „Gott mit uns“ наваливалось на их „Монжуа“ впереди мечей.
Мне посчастливилось усидеть в седле, и конь мой, которого я ласково называл Тучкой за дымчатую масть, не подвел, хотя и осел на задних ногах до земли. Как славно громыхнули латы! Как славно заржал конь! Я пришпорил его и, выхватив меч, бросился на моего благородного визави, которого и убил с божьей помощью с третьего укола подмышку.
Я рубил и колол еще, и был счастлив, не взирая на то, что сам получил немало добрых ударов, и доспех мой испещрили зарубки. Но труба звала назад, и я вывел своих людей строиться, так как нам угрожали новые эскадроны французов. Отвернули и наши непосредственные оппоненты, повинуясь тем же неумолимым резонам. И была новая атака. Много атак. Меня ранили в ногу, пробив набедренник прекрасно нацеленным уколом копья. Но я остался в седле и продолжал сражаться, вдохновленный примером нашего полководца, который воевал впереди всех, не отдыхая.
В один прекрасный миг мне показалось, что враг начал тесниться назад, но то была ловушка, так как мы всего лишь вышли под прицел французской батареи, что и угостила нас несколькими хорошими залпами со столь малого расстояния, что потери были ужасными. С фланга нас расстреливали пушки, а во фронт навалилась кавалерия. Тогда то де Ланнуа и приказал не отступать и лишь послал к Георгу фон Фрундсбергу, чтобы тот поспешил с помощью.
Испанская пехота не могла нас выручить ибо лоб в лоб билась с Чёрной бандой Франсуа Лотарингского, по левую руку от нас».
– Ральф! Ральф! – Заполошный хрип Адама раздался прямо в ухе Ральфа Краузе. – Посмотри, что с моей ногой! Что там, чертов шлем мешает… не разглядеть…
– По-по-порядок, – отозвался одышливо тот, слегка наклонившись к кровоточащему бедру товарища, – вспороли шкуру, ну и штаны того…
Оба только что выбрались из очередной схватки с райслауферами на переднем краю баталии. Те в своей неподражаемой манере очередной раз бросились вперед и прорвались через пики, так что алебардистам пришлось вступить в дело. Который раз за сегодня! Бой шел более получаса, встречные атаки следовали одна за другой. А тут еще на левом фланге нарисовался полк пьемонтских жандарм, который начал с того, что почти начисто вытоптал целую роту мушкетеров. Спасибо, что остальные успели отойти и теперь злобно отплевывались огнем.
Собственно, мушкетерам мы и были обязаны успешному натиску. Они настреляли множество швейцарских пикинеров, так что райслауферам приходилось нелегко. Иначе до сих пор и шагу вперед бы не сделать. Не то что, сейчас, когда ландскнехты уверенно оттесняли противника. Хотя и с трудом. Вот еще бы конница на фланге не мешала.
Адам, как обычно, воевал с пикою и уже две схватки выстоял в передних шеренгах. Последний раз пришлось тяжеленько. Какой-то резвый швейцарец пронёс мимо «скорпиона»[65] и рванул назад, основательно попортив Райсснеру бедро крюком. Хорошо еще, что снаружи. Порвал бы артерию изнутри – и всё. До свиданья товарищи и прощай молодость.
– Конрад, посылай вперед мушкетеров. Пусть выйдут в бок и ахнут в упор. Иначе мы до завтра провозимся. – Фрундсберг поучал новоиспеченного оберста Бемельберга, который командовал левофланговой баталией. Георг находился тут же и осуществлял общее руководство. Где-то в центре сражался его сын Каспар, постигавший науку воевать с самого, так сказать, букваря.
– Какое там, на фланге конница, что б им сдохнуть! Нарисовались так не вовремя! – На войне все не вовремя. Посылай справа, там конницы нет. – Георг имел ввиду, что мушкетеры должны подойти к вражеской баталии развернутым фронтом, а не так как сейчас, когда они беспорядочно постреливали с боков, точнее с одного боку, так как слева настырно наседали пьемонтцы.
– Справа – риск. Там целая баталия швейц… алебарды вперед! Курт, держи центр, Адольф – правый фланг! – Конрад отвлекся, так как райслауферы вновь попытались прорвать строй. Засвистали капралы и фельдфебели, алебардисты, водительствуемые своими гауптманами, принялись исправлять положение. По всему фасу баталии вновь зазвенело, затрещало и загрохотало. Боевые кличи «Берн!» и «Готт мит унс», а также «Сука!» и «Блядь!» почти не заглушали криков умирающих и раненных. Вместе эти звуки сливались в неповторимую симфонию рукопашной, век бы её не слышать. Пикинеры остервенело кололи, а алебардисты заняли места в промежутках между рядами и поддавали жару, всем, кто пытался подойти ближе.
– Ну вот, – молвил Фрундсберг, рассматривая из под рукавицы положение дел на поле, – ну вот. Это который раз за сегодня? Десятый? А как ты думаешь, надолго людей хватит? Нам еще хер знает сколько драться. Посылай мушкетеров и чтоб никаких.
– Ты думаешь пора? Надо бы втянуть их поглубже. Что б увязли. А там и вдарить из всех стволов. – Конрад кричал во весь голос, силясь перекрыть музыку войны.
Георг намеревался рявкнуть повелительно, для чего набрал воздуху в свою могучую грудь, покрытую непроницаемой скорлупой рифленой аугсбургской стали, когда сзади к нему протиснулся некто.
Некто оказался изрядно помятым кавалеристом из испанских дворян. Он был окровавлен, тяжело дышал и смотрел на Фрундсберга глазами побитой собаки. Молоденький мальчик, скорее всего паж, был на последнем издыхании. Не понять, от страха или от потери крови, что ручьем лилась по наголеннику, пробитому наручу и рассеченной щеке. На тулье бургиньота красовались вмятины, в одну из которых можно было положить два пальца.
– Ну? – спросил Георг. Грубовато, но в тот момент было не до любезностей.
Испанец принялся докладывать, безбожно ломая язык о неподатливую материю чужой, неласковой речи.
– Я быть порученец Шарль Ланнуа. Он быть просит вспомоществовать. Правый фланг – пльохо. Бомбардо, много стреляц. Конница много рубиц, рубит… рубить. Наши не держать. Видел маркиз Пескара по пути. Пехот стоять хорошьо, но там тоже много бомбардо. Бомбардо делать много пльохо. Вы спешить.
Тут испанца согнуло чуть не пополам, насколько позволило кираса, и он с пуповинным надрывом блеванул прямо на великолепный фрундсбергов подол. Досталось и Бемельбергу, и не только ему.
– Вот видишь, – как не в чем не бывало сказал Георг, – мы спешить. Много рубить. А ты «втянуть, поглубже». А там бомбардо много пльохо.
– Да, да! – подтвердил испанец, мучительно исторгая желчь, – Да! Много бомбардо пльохо, конница много, мы не… бу-э-э-э-э…
– Всё. К чёрту. Я посылаю приказ по баталиям. Мушкетеров – в огонь. Ударим разом. А то он нас утопит.
– Бу-э-э-э-э…
– Ты, и ты! Приказ по полкам. Роты мушкетеров строем фронта на фланги. С двух сторон. Огонь не более чем со ста футов. Общий сигнал даст большая труба. Исполнять! Конрад! Ты слышал. Исполнять! Готовность доложить!
– Слушаюсь.
– М-м-м-бу-э-э-э…
– Где вас так приложило, юноша?
– Моя просить простить… э-э-э…
– Ничего. Не сахарный.
– Мой два друг убить по дорог. Француз колоть копьё. Я только дойти. Сеньор простить слабость ваш пьочорный сльуга. Я отправляйся назад, доносить командир… бу-э-э-э…
– Куда вам. Найдем кому «отправляйся».
Тут голос испанца обрел твердость, и он сверкнул из последних сил чёрными очами. Встал прямо, размазал рвотные массы по нагруднику и, закаменев скулами, молвил:
– Долг честь. Я скакать конь.
Фрундсберг внимательно посмотрел на худое безусое лицо, совершенно серое от боли, впрочем, болезненный оттенок был прочно загримирован кровью и потеками желчи.
За пеленой страдания опытный воин разглядел непреклонную волю и решимость. Этот умрёт, но сделает. И спорить бесполезно. Такой взгляд Георг хорошо знал.
– Вы – герой, мальчик. Скачите. Да поможет вам Святой Георгий. – Он перекрестил его и спросил напоследок: – Сколько вам лет? Как вас зовут? Я запомню и отблагодарю.
– Пятнадцать. Франциско де Овилла к ваш усльуг.
– Удачи. Передайте, что мы скоро будем. Держитесь. Эй, кто-нибудь! Парню двух провожатых. А то, не дай Бог, «француз колоть копьё» – Пробормотав последнюю фразу почти про себя, Фрундсберг отвернулся, окунувшись в давно привычную мешанину ломающихся пик, лязгающих доспехов и яростных кличей из которой он как опытный скульптор лепил фигуру крылатой богини Победы.
Гийом де ла Круа потерял счет времени. Мироздание свернулось до его измотанного эскадрона, который он снова вёл в атаку. В который раз? Счёт атакам он тоже потерял.
Сперва – нелепое топтание перед испанцами под прицелом невероятных стрелков. С последними, с божьей помощью, поквитались. Растоптали под сотню, когда те осмелились высунуть нос из кустов. Теперь – баталия ландскнехтов, с ней сцепились швейцарцы, а славный Пьемонт пытается прорвать им фланг. И каждый раз натыкается на пики.
Хорошо, что Шарль де Тьерселин привел подкрепление два эскадрона жандарм, почти шесть сотен человек. Иначе давно бы тут полегли. Просто от усталости.
Гийом вспомнил, как зубоскалил накануне, отчего в армии столько Шарлей? Причем в имперской тоже, ха-ха-ха. Предатель Бурбон – Шарль. Ланнуа – Шарль. Тьерселин вот тоже. И император, у германцев, как не крути – Шарль. Наверное, родители каждый раз хотели, чтобы получился новый Шарлемань. Но что выросло, то выросло. И опять, ха-ха-ха.
Нынче было не до вчерашних хохмочек.
Дураку понятно, что бросать конницу на пики построенной пехоты, да еще такой – лучший способ от конницы избавиться. Но ничего не поделать. Маршал Франции Робер де ла Марк, сеньор Флоранж, требует всё новых атак. Ему вторит и Тьерселин. В бой! На пики! На прорыв! Ну а правы они или нет – не ему судить. Тем более, что оба сражаются неподалеку и в головотяпстве их не обвинишь. Де ла Марк в строю швейцарцев, а Шарль лично водит эскадрон на баталию. Так что и мы не отстанем.
Он в сотый раз выровнял людей, захлопнул забрало и пришпорил коня. Пить Гийом больше не хотел. Глотка спеклась настолько, что даже «Монжуа» не могло прорваться наружу. Жажда мучила его час назад, теперь отболело. Жаль только гнедого, который, того и гляди, протянет ноги. Шутка ли, два часа смертельной скачки, не всякий человек сдюжит. А у лошадок сердце куда слабее, любой кавалерист подтвердит.
Эскадрон без всякой охоты пошел на баталию. С десятого раза ко всему привыкаешь, даже к такому. Ландскнехты, чуть не зевая, выставили пики. Конница подыграла, так же привычно остановившись футах в пятнадцати и завернув коней назад.
Первый натиск был куда как веселее. Вдохновленные расправой над стрелками (что-то у них в руках было непонятное, аркебузы, вроде, но здоровенные), Гийом разогнал жаждущих новой крови людей и бросил на замершие шеренги тирольцев.
И зачем?
Лошади сами начали храпеть и тормозить прямо перед частоколом пик, прядать ушами и пятиться назад. Тех кто смог не потерять разгон – приняли на пики, остановили и принялись со всех сторон колоть. Кое-кто всё-таки прорвался в строй.
Почти всех стащили на землю и без всяких церемоний убили. Гийому повезло вернуться. Он въехал в шеренгу, раздвинув пики, насадил одного на копье и застрял. Спасли только прекрасные латы. Отмахиваясь мечем, он увидел, как в его направлении пробираются алебардисты, после чего стало ясно, что пора возвращаться на исходные позиции, а проще говоря, сваливать. Конь выполнил безупречный каприоль[66] и вынес его назад.
Итог атаки: шесть убитых. Нетрудно посчитать, что оставшиеся двести шестьдесят бойцов хватит примерно на пятьдесят две схватки. Так что больше они не геройствовали. Умирать никому не хочется, да и сил осталось совсем не ого-го.
Зато баталия не могла вести наступление вперед. И с полторы тысячи человек вынужденно стояли и ждали новых атак. И стрелки эти непонятные не могли развернуться и обрушить огонь на пехоту.
Так и воевали.
– Пьер, что там у тебя? – Гийом отвел эскадрон и теперь жадно вдыхал морозный воздух, через поднятое забрало.
– Пить хочешь? – отозвался любезный приятель Бомануар, потряхивая булькнувшей фляжкой, и пока командир маленькими глотками вливал в себя живительную влагу, доложил: – Еще один убит. Застрелили в спину. А так все по-прежнему.
– Спасибо, – де ля Круа вернул фляжку, – эх, нам бы туда, и он завистливо поглядел вдаль, где за месивом пехотных схваток, мелькали знамена и сшибалась конница.
– Не говори. Долго нам тут гнить? – Два свежих эскадрона как раз отворачивали коней от стального леса имперских пик, а вслед им вразнобой хлопали мушкеты.
– Пока не прикажут. Что-то швейцарцы не шевелятся. А то, если послушать, они одни должны были всех убить еще час назад. Хвастались как безумные.
В поле, между тем, что-то происходило.
В «их» баталии долго и надрывно запела труба, на миг перекрывая все прочие звуки. Гийом и Пьер с высоты коней могли различить, как между имперскими полками зашевелилась земля, покрытая шеренгами солдат, маршировавших к швейцарским построениям. Деталей было не разобрать, но предположения за душу взяли самые нехорошее. Все, что нарушает скучную рутину войны, пугает.
Имперцы разом пошли вперед, по всему фронту закипела кровавая каша. Пешки давили и резали друг друга, всё перемешалось, только раскатывался в воздухе журчащий перезвон от тысяч сталкивающихся клинков и древок.
И тут в мгновенной вспышке прозрения Гийом понял, что происходит. На фланги райслауферов вышли стрелки, все что были у ландскнехтов. Очень близко подошли.
Бам-бам-бам, д-д-д-дун-дун-дун!!!
Что же это?! Швейцарцы подаются назад, а их словно подбадривают неумолчным д-д-д-дун-дун-дун!!!
Еще далеко до бегства и паники, но проклятое дун-дун, путает ряды, валит людей, а по фронту напирают ландскнехты! Швейцарцы еще стоят и бьются, но число их тает, клинья тирольцев всё глубже вонзаются, разрывая живую плоть шеренг.
Страшные глаза. Пляшущий конь, весь в крови. Сорванный голос:
– Вся конница в атаку! Смять пешек! Приказ маршала! Все вперед, разом!
Гийом много лет провел на войне и знал, что значит вот такое появление гонца. Это означает, как правило, смерть или победу.
Пора.
Он молча протягивает руку де Бомануару, встает на свое место во фланге эскадрона. Сигнал трубы. Копье к стремени и:
– Эскадрон! Рысью, марш! – Перестук копыт. Мерное громыхание доспехов. Забрало вниз. Копье к стремени, повод набрать.
Конница медленно катится вперед. Ландскнехты уже сообразили, что балет закончился, и больше не зевают. Шеренги на глазах сбиваются плотнее, глубоко вонзают подтоки в землю, направив недружелюбные ряды наконечников им навстречу. Сзади высоко взлетают алебарды.
– Эскадрон! Галопом марш!
Ноет труба.
Перестук нарастает. Шпоры вонзаются в бока, стальные ташки немилосердно стучат в набедренники, а крылья наплечников о кирасы. Храпят кони. И грохочут, грохочут, грохочут копыта.
Последний миг.
Копье падает на фокр. Острие смотрит вперед, конь стрелой несется на пехоту, срывая за спиной ветер.
Весь мир снова в прорези забрала. Он дрожит и подпрыгивает в такт бешенной скачке. Глухо ревут люди, слышаться выстрелы.
Уже видны глаза врагов, их пики рядом, еще ближе, еще…
Удар!!!
Нагрудник коня упирается сразу в четыре пики, но инерция такова, что древки разлетаются в стороны! Топтать, топтать пешую мразь!
Кто-то ловко парирует его копье, в латы тычутся острия. Меч из ножен. И справа налево, получайте, канальи! Гийом вонзает шпоры в бока коня и страшно полосует клинком, не видя половины ударов.
Рядом бьется Пьер, кто еще смог прорваться? Не видно. Только лязг и скрежет насилуемого металла.
Внезапно конь оседает, а его самого валит на землю безжалостная сила.
Чудовищный удар в затылок опрокидывает лицом вниз. Что-то острое разрывает кольчугу подмышкой.
Голос с небес:
– Не убивать! Не убивать! Этих в плен!
Из анонимных записок:
«К восьми утра наше дело на правом фланге, где билась конница висело на волоске. Мы начинали заметно уступать и отходить по всей линии. Испанский центр держался ровно, но мощь артиллерии французов не оставляли шансов и им. Разгром превратился в реальность ближайшего будущего.
Гонец посланный к Фрундсбергу и маркизу делль Васто, вернулся весь израненный. Оказалось, что два его товарища пали от рук французских рыцарей по дороге туда, а обратно та же история приключилась с провожатыми, что выделил Фрундсберг.
Юный дворянин Франциско де Овилла прошёл сквозь все опасности и донёс весть, за что впоследствии был обласкан полководцем, как настоящий герой.
Итак, мы были уверенны, что друзья знают о бедственном нашем положении, всё ухудшавшемся под жестоким огнем метких французских пушек, но мы не знали, когда придёт помощь, и дождемся ли мы её.
Конница короля Франциска атаковала не переставая. Превосходство в людях позволяло отводить части для отдыха, заменяя их свежими. Мы такой роскоши были лишены. Анн де Монморанси снова и снова направлял на нас свои прекрасные отряды, неизменно выступая впереди всех».
Франциск Валуа восседал на белом коне под знаменем с золотыми лилиями. Молодой король был облит сверкающим металлом, ладно сидевшем на его подтянутой фигуре. Вокруг возвышались испытанные полководцы и боевые друзья: Луи де ля Тремуй, сорванный с вожделенного губернаторского кресла в Милане, ля Палисс, адмирал Бонниве, и конечно, Анн де Монморанси. Франсуа Лотарингский и Ришар де ля Поль, хотя скорее последнего следовало бы называть Ричардом, ведь это был английский ренегат – мятежный граф Саффолк, неудачливый претендент на престол Альбиона, последний лепесток Белой розы, вели баталии Чёрной банды. Де ля Марк и Тьерселин справлялись на далеком фланге. Герцог Алансон с арьергардом стоял возле моста через Тичино, готовый бросится и разорвать врага по первому слову.
– А ведь это победа, клянусь Вельзевулом! – сказал Франциск, выслушав очередное донесение от де ля Марка. – Фланг держится отменно. Центр мы вот-вот прорвем. А у нас, господа, дело уже решено. Смотрите – рыцари Карла показывают пятки! Что скажешь, Монморанси?
Вокруг надрывались пушки и шли в наступление волны железных конников. Монморанси покрутил тонкий, холеный ус, выбившийся из под поднятого забрала и ответил, не забыв, однако, выдержать многозначительную паузу:
– Сир, я только что вернулся из самого пекла. Могу присягнуть, что еще одного хорошего натиска они не выдержат.
– Так. Мой дорогой Луи, ты что посоветуешь?
– Атаковать, сир. Всеми силами. Рассеять имперских псов! А потом обрушится во фланг испанской пехоте! А потом соединимся с нашим английским гостем и Франсуа и ударим по Фрундсбергу! – Де ля Тремуй возбужденно ерзал в седле, ему не терпелось вновь окунуться в упоение конной схватки. Сегодня он не вполне удачно выступил, дважды сбитый с коня, так что его пришлось вытаскивать оруженосцам. Монморанси неустанно вышучивал его всё утро, надо было срочно реабилитироваться. Ему вторил Бонниве, год назад нещадно битый на реке Сезии:
– Сир, из парка никуда не сбежать. Маневр ограничен стенами и рекою. Если ударить без промедления мы лишим Габсбурга целой армии и лучших полководцев. После такого падения ему не оправиться. Судьба войны в ваших руках, сир.
Франциск еще раз оглядел содрогавшееся поле, своих военачальников и произнес, горделиво выпрямившись в седле:
– Друзья, вчера перед сном довелось заглянуть в «Записки о Галльской войне». И вот ирония судьбы, сегодня я чувствую себя несравненным Гаем Юлием, что ведёт свои легионы к виктории при Алезии! Как удачно всё совпало: полчища варваров налицо, стены вокруг, как стены римского лагеря! Ну что же, в бой! С Богом! В последнюю атаку я поведу вас лично. Шлем и копьё мне!
Слуги споро приняли шитый золотом бархатный берет и водрузили на голову венценосца армэ с роскошным страусиным плюмажем, что ниспадал, чуть не крупа коня.
– Шлите гонца к Алансону! Не то братец пропустит всё веселье! Трубить атаку!
Заиграли трубы. Вокруг короля сомкнулись его сподвижники и отборные гвардейцы. Глаза рябило от полированного металла, пестрых плюмажей, золота и серебра, парчовых плащей и фальтроков, тканных золотом шелковых перевязей. Лучшие рыцари Европы шли в бой.
Личная охрана Франциска и отряды высшей аристократии сомкнулись в центре конного строя. Повинуясь взмаху перчатки, вновь заиграли трубачи, и вся масса ринулась в гущу схватки.
Сверкающий таран пробил порядки изнуренной имперской кавалерии, и прямо под знаменем началась дикая свалка, лишь отдаленно напоминавшая турнирные меле. В руках бойцов были отнюдь не тупые деревянные дубинки, а острая сталь. Здесь никто не пытался сорвать нашлемник, здесь цель была иная: шлем, да еще с головой в придачу.
Испанские и германские рыцари отчаянно отбивались, но всё новые отряды французов врывались в бой и ясно было, что еще немного и имперская сила иссякнет.
Король был счастлив. Он сломал копье, чётко, как на джостре, отошёл в тыл, взял новое, преломил и его. А теперь рубил и колол во все стороны, неуязвимый в своей броне. Пуще доспехов берегли помазанника божьего его верные гвардейцы, везде следуя за своим господином.
Но прикрывать короля не требовалось, это был великолепный боец. Один за другим падали под его ударами испанцы. Король рвался к знамени с двуглавым орлом с имперской короной. Той самой, что так неудачно уплыла из его рук к коварному Габсбургу. Более всего, Франциск жалел, что не может сейчас, в миг своего триумфа лично приколоть проклятого Карла.
Последние резервы вошли в бой. С минуты на минуту должен был появиться Алансон и тогда судьба сражения решена. Сокрушительная сила рыцарей ударит в тыл испанской пехоте, скованной германскими наёмниками, и тогда, прощайте, маркиз Пескара! А потом, все вместе, они навалятся на ландскнехтов, если их еще не вырезали мстительные швейцарцы. И тогда адью, сеньор Фрундсберг!
Стремительный водоворот всё глубже увлекал короля, он азартно врубался в самую гущу боя, и уже не всегда телохранители за ним поспевали. Рядом неизменно возвышалась только фигура Монморанси – лучшего воина Европы, а может статься, что и всего мира.
Под копыта их дестрие[67] уже склонился не один плюмаж, и только орлиное знамя оставалось недосягаемым. Пока.
– Вперед, Монморанси, коли их!
– Да, сир! До чего же славная схватка!
– Того, что справа не тронь, он мой!
– Сделайте честь, сир!
– Вперед! Монжуа!
И оба снова устремились в сражение, не зная усталости и страха.
Герцог Алансон очень внимательно выслушал запыхавшегося гонца, что прискакал на взмыленной лошади. Он нервно перебирал поводья, ему очень не терпелось вернуться назад, где сейчас решалась судьба сражения и королевства, зарабатывались титулы и состояния. Такой случай отличиться перед очами самого короля в миг высшей победы!
Но герцог не спешил. Он был слишком опытен и слишком много повидал. Еще раз расспросил гонца.
Да, сир, полная победа. Да, сир, король велел поспешить. Да, сир, рискуете все пропустить. Да, сир, еще один натиск.
– Так вы говорите «полная победа», тогда зачем нужен я?
– Но, сир, всего одно наступление!!!
– Еще одно наступление подразумевает, что победа ещё не одержана, тогда зачем нужен я понятно.
– Так точно, сир.
– Я вас не пойму. Победа, или наступление, выражайтесь яснее, мы же на войне!
– Сир, – несчастный молодой рыцарь едва не плакал, так ему не терпелось назад, к славе, – еще одно наступление и мы победили!
– Ага, то есть бой продолжается в полной мере и требуется моя помощь?
– Да, сир!
– А если бой продолжается и моя помощь всё-таки нужна, значит возможно всё, даже поражение, хотя последнее маловероятно?
– Это война, сир, на всё воля Господа.
– Ну наконец-то, розовое настроение кончилось, и вы заговорили по-людски. Я не очень доверяю воле Господа, когда речь идет о войне. Как вы верно заметили, всё может быть. Что у нас на фланге и в центре? – обратился он к своим адъютантам, то и дело разъезжавших по всему полю.
– Пескара и Фрундсберг держатся уверенно сир.
– Вот то-то и оно. А вы говорите «победа». Значит пособить надо. Ну что же. Стройте людей. Стрелков на фланги, конницу в центр. Трубите сбор. Идем выиграем эту небольшую драку для моего братца. А вы, юноша, скачите назад, я вижу вас здорово мучает волокита. Ну простите, простите, я привык к основательности. Скачите с Богом. Скажите, что мы идем. Оставьте нам немного испанского мяса, я всегда был в восторге от валенсианской паэльи, ха-ха-ха… – тут смех его оборвался, а глаза чуть не вылезли из орбит. Алансон привстал на стременах и ткнул пальцем по правую руку от себя.
– Что за чёрт!? Это… это… милейший, вы видите то же, что вижу я? – обратился он к адъютанту.
– Сир, с фланга наступает пехота под имперским орлом и бургундским крестом, сир.
– Значит видите. Жаль. И много их на ваш взгляд?
– Три полные баталии, сир.
– И снова глаза меня не подводят. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Судя по всему, это пехота Фрундсберга? То есть три полка ландскнехтов?
– Есть все основания полагать, что вы правы, сир.
– И направляются они?
– Я думаю, что можно предположить, что они ударят во фланг и тыл герцогу Лотарингскому и монсеньеру Ришару де ля Полю.
– И это всё?
– Никак нет, сир. С их стороны было бы разумно два полка распределить между двумя баталиями Чёрной банды, а один полк и всех стрелков пустить на нашу конницу. Таково моё мнение, сир.
– И каков практический вывод на твой взгляд?
– Сир, я думаю, что мы проиграли.
– Жан, друг мой, знаете что?
– Не могу знать, сир.
– Я с вами полностью согласен.
Гонец потрясенно слушал этот неторопливый диалог с вытаращенными глазами. Ему было нехорошо. Победа, слава, а тут Фрундсберг с тремя полками ландскнехтов и «не могу знать, сир, могу предположить, сир».
– Ч-ч-ч-то мне делать?
– Не знаю. Я лично собираюсь стремительно отступать и сжечь мост, ибо преследования мои люди могут не выдержать. А вы… со мной идти не предлагаю, вы расстроитесь. Так что можете выбрать место и способ расстаться с жизнью самостоятельно. К вашим услугам полный ассортемент: пики и пули пехоты, мечи и копья конницы. Впрочем, можете утопиться, благо река рядом. Уверен, что вам было бы приятно встретить смерть рядом с королём. Трубить отход! Быстро! Жан, распорядитесь насчёт пары бочек с порохом на опорах моста. У нас есть пара бочек пороха?
– Конечно, сир. Слушаю, сир.
Пока Франциск увлеченно громил имперскую конницу, а герцог Алансон вел неторопливые рассуждения, Адам наблюдал и участвовал в не менее значимых событиях.
Маневр Фрундсберга с мушкетерами удался на славу. Занятые яростной фронтальной схваткой, швейцарцы не заметили, как к ним подошли длинные, густые шеренги стрелков, которые немедленно расцвели серым, жёлтым и красным. Залпы следовали один за другим, сметая всё перед собой. И три несокрушимые баталии начали разваливаться на куски и таять.
О, конечно, это произошло не вдруг. Райслауферы попытались порвать мушкетеров, но разрозненные броски успеха не имели, так как отдельные бойцы расстреливались в упор или докалывались на месте. А когда Робер де ля Марк смог организовать атаку, стрелков сменили стройные колонны алебардистов, которые словно клещами сжали истерзанные фланги баталий.
И начался разгром. Когда четыре фанляйна, отряженные против пьемонстких жандарм, вернулись, швейцарцы уже бежали с поля боя, а вслед им стреляли пушки и неслась легкая испанская конница.
– Пауль, ты видел!? – Кричал Райсснер, размахивая обломком пики, – ты это видел?!
– Да!!! Прямо в пах!!! Как он орал!!!
– Только зачем было на древко падать. Сломал, вот сука?!
– Точно! Сам не ам и другим не дам, бу-го-га!!!
– Га-га-га!!!
– Общая команда! – разнеслось над строем. – Поротно, становись! Равняйсь! Оружие на плечо! Правое крыло на месте! Левое – вперед, марш!
Три полка спешно строились, равняли ряды и разворачивали фронт туда, где стонала земля и грохотала сталь.
Удар в тыл Чёрной банде был страшен. Ренегатам не было пощады. Их окружили и принялись методично убивать. Испанцы давили с одной стороны, а ландскнехты с другой. Менее чем за десять минут всё было кончено.
В живых не осталось никого.
Убили сгоряча даже герцога Франсуа Лотарингского и Ришара, то есть Ричарда де ля Поля, герцога Саффолка – последнего йоркиста на планете. Очень удачно положили конец смутным страхам короля Генриха VIII.
Мудрое пророчество адъютанта герцога Алансона сбылось в полной мере. Один полк и все роты стрелков были отправлены в атаку против артиллерии французов, которую они и смяли решительным натиском. А заодно вышли в тыл коннице короля Франциска.
Так что, когда испанцы и ландскнехты дружно навалились на лучшее рыцарство Европы, отступать тому было некуда. Таким образом, сбылось другое пророчество, сделанное адмиралом Бонниве.
К сожалению для последнего, сбылось с точностью до наоборот. То есть, именно ему некуда стало бежать.
А он и не бежал.
В яростной кавалерийской атаке сухопутный адмирал погиб на пиках ландскнехтов. Рядом с ним пали Луи де ля Тремуй и ля Палис.
Адью, господа!
Было девять утра.
Валуа рычал и ревел, как дикий зверь. Облик его сделался страшен. Весь в крови, в порубленных латах, плюмаж сорван… Он не понимал, что происходит и не мог поверить своим глазам.
– Перестроиться! Отводи людей! Монморанси! Проклятье, ничего не хочу слушать! О, Мадонна! Дьявол! Дерьмо! Где Алансон! Отходим к лагерю и перестраиваемся! В атаку! А-а-а-а… Где этот проклятый гонец?! Тысяча четей, где Алансон! Каналья!!!
Между «а-а-а-а» и «каналья» удалось вклиниться, и сделал это незаменимый Монморанси.
– Мост взорван. Алансон ушел. Помощи не будет.
– Что-о-о-о?! Да я его… я его… трус! Предатель!! Каналья!!! Проклятье!!! Так. Артиллерия?!
– Захвачена, сир. В лагере полк ландскнехтов. Из ворот Павии только что вышел Антонио де Лейва. Он атакует швейцарское прикрытие.
– Чёрт! Дьявол! Атакуем!!!
– Сир, разумно ли…
– Атакуем!!! Монморанси, ты со мной?!
– Да, сир.
– Тогда в бой!!! Гвардия, ко мне!!!
Возле рощицы на небольшом холме остатки еще недавно великолепной конницы строились для последней атаки. Вокруг стягивалось полукольцо из трех баталий. Чуть поодаль, имперская кавалерия добивала последние организованные отряды французских рыцарей. Там же в полном порядке ходили роты испанцев, и их пики быстро решали дело.
Трёхтысячный клин под лазуревым знаменем с золотыми лилиями устремился на строй ландскнехтов. Эскадроны не искали спасения, они знали, что его не будет.
И только безумный Валуа на что-то надеялся. Может быть ему виделось, как он разорвет шеренги ландскнехтов и вырвется с поля? Или все же мечтал о победе? Этого уже не узнать.
В ответ на могучее «Монжуа! Сен Дени!» вязкая масса пехоты заревела что-то вроде: «а-а-а бля-а-а-а!!!». И сияющий мир рыцарства в очередной раз столкнулся с тёмным миром наёмной пехоты.
И как всегда неудачно.
Франциск во главе эскадрона гвардейцев налетел на пикинеров. Конь осел, напоровшись на упертые в землю пики. Его спасли только прекрасные латы, как и короля. Из рядов стали выскакивать алебардисты, чтобы рубить, топтать и убивать завязшую конницу.
Преждевременно.
Король заставил коня взять разгон, сбил с ног зазевавшихся смердов и нацелился насадить на копье здоровенного ландскнехта в дорогих латах с двуручным мечём.
Но тот ловко отбил древко, скакнул в сторону, словно и не был закован в панцирь и, резко присев, одним махом отрубил коню передние ноги.
Валуа рухнул на землю.
Когда он собирался встать и выхватить меч, раздался топот копыт и над ним выросла грозная стальная фигура.
– Сдавайтесь, сир! Я вас узнал и не хочу убивать!
– Кто вы?
– Я Шарль де Ланнуа, командующий армией императора в Италии. Или вы предпочитаете, чтобы я отдал вас тому мужлану, что стреножил вашего скакуна? Эй ты? Как тебя? Господи, Пауль Гульди, ну и имена у этих простолюдинов! Сир, вы сдаетесь?
Из анонимных записок:
«Не устаю удивляться, как изменчива воинская судьба. Три часа назад французское воинство было исполнено решимости растоптать нас и смешать с грязью. И где теперь они, сильные и вооруженные?
Страшная участь постигла предателей из числа ландскнехтов, что встали под знамёнами Чёрной банды. Их перебили всех. А кто случайно попал в плен, подвергли самым страшным пыткам и развесели на деревьях с выпущенными кишками. Швейцарцев перебили великое множество, но не стали в этот раз убивать всех пленных поголовно.
Кто-то смог спастись, многие нашли смерть в холодных объятиях Тичино, ведь герцог Алансон, отступая, уничтожил мост. Король Франциск I, Анн де Монморанси и Робер де ля Марк попали в плен, все прочие полководцы великой армии пали смертью храбрых, да примет Господь их души.
В завершение рассказа о битве, иллюстрируя изменчивость судьбы на поле брани, не могу не процитировать два отрывка из писем. Первое написал король Франциск своей матушке Луизе Савойской. Второе – неизвестный швейцарец из кантона Аппенцель. Сравните их.
„Любезная матушка, продолжая рассказ о моей несчастной неудаче, спешу сообщить, что я потерял всё, кроме жизни и чести, которые остались в целости“.
„Уважаемый отец и милые братья, из моих слов вы видите, что натиск не удался, и мы проиграли. Прошу вас как можно скорее собрать выкуп, ибо с нами здесь обращаются как с женщинами“».
Поле было устлано трупами. Мало кто мог выжить с серьезной раной, пролежав на мерзлой земле несколько часов. Но мы все равно ходили, наплевав на усталость, и высматривали знакомые лица.
Господи, сколько же народу навалили!
Если находили умирающих, то мизерикорд оказывал им последнее милосердие, не делая различий между своими и чужими.
В стороне, где утром, кажется, была атака жандармов на левофланговую баталию, послышался смех и кто-то крикнул:
– Глянь, это же старина Рихард!
– Дохлый?
– Я почем знаю. У него спроси.
– Эй, ты дохлый? – вопрос сопровождался звучным пинком.
– Отгребись, дурак. Я сплю. – Раздалось в ответ.
Так закончилась битва при Павии.
Глава 9 В которой Фрундсберг ведёт ландскнехтов на Рим, а Пауль Гульди спешно покидает армию
Альпы. Альпы, кажется, стали моей судьбой. Никак не отпускал меня этот маленький горный массив. С него началось моё знакомство с Землей. И вот я в третий раз за четыре года пересекаю его по неизменному маршруту Тироль – Италия. Разница лишь в том, что цель путешествия изменилась. Раньше мы ходили в Ломбардию, а теперь нацелились на Рим!
Я сказал «мы»? Я не ошибся. Мы – это армия ландскнехтов, которая протоптала глубокую колею через перевалы. Я, конечно, немного преувеличиваю, но зачастила наша братия в тёплые края основательно.
Помню, как в детстве любил бывать в Музее Транспорта на Асгоре. Больше тысячи лет назад в городах большой популярностью пользовался забавный способ перемещения, называвшийся «трамвай». Смешные вагончики ходили по рельсам, проложенным, не поверите, прямо по улицам, развозя людей туда-сюда, согласно установленным маршрутам.
Маниакальная привязанность к путешествию с фиксированным направлением туда (в Италию) и обратно (в Германию) здорово напоминала старый колесный анахронизм.
Очень мне нравилось рассматривать древние вагоны, похожие на жестяные домики. Самым большим счастьем было забраться внутрь и воображать, как залитый электрическим светом трамвай степенно ходил через ночную темноту.
Современные способы гораздо эффективнее, спору нет.
Но зато какой символизм в этой архаике! Какая смысловая нагрузка! Представляете: за окном дождь и ветер, хмарь и сырость. Темно. Неуютно. А по колее летит сгусток света и тепла, который несет людей строго установленным путем, не сворачивая (куда с рельсов сворачивать?).
По-моему, это лучшая метафора судьбы и оптимистического взгляда на неё.
Оптимизма мне, точнее нам, как раз очень не хватало. И от тёплого трамвайчика я бы не отказался. Лучше конечно пассажирский конвертоплан, но в контексте ситуации и рельсовый вагон показался бы мне раем.
Как было бы здорово.
Садишься на скамеечку, а кондуктор объявляет по громкой связи: Следующая остановка Рим. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи при выходе из вагона. А потом двери открываются и вся наша разудалая команда высыпает на тротуарах Вечного Города, шокируя жителей разнузданным поведением и невероятными шелками нарядов.
Как-то очень живо я себе вообразил такую картину, что невольно расхохотался.
– Чего ржешь? – недовольно спросил кто-то. Усатое лицо было обморожено и шелушилось. Усы заледенели, обратившись в унылые понурые сосульки вместо положенных бравому солдату задорных стрелок барометра, показывающего «ясно».
Прочих деталей было не разобрать из-за густой метели и глубоко надвинутого капюшона.
– А не хрен киснуть, – с деланной бодростью ответил я.
– Ну-ну, – ответил незнакомец, – я уж думал, что ты того, умом поехал. – В голосе его звучал весь пессимизм вселенной.
Бодрость моя была деланной на все сто процентов. Поганый выдался март. Под стать иному февралю. Собачий холод дополнялся неугомонным ветром, который иногда сменял реноме на бешеный ураган.
И все время снег.
Снег привносил видимость разнообразия. Разнообразие заключалось в частой и непредсказуемой смене крупных пушистых хлопьев, на мелкие ледяные колючки или невообразимую мокрую дрянь, что вмиг облепляла одежду, лошадей, телеги и вообще все, что попадалось под руку.
Или не руку, что там у демонов зимы вместо рук?
Пройти по горам предстояло еще около восьмидесяти миль. По такой погоде и на самой гладкой равнине удовольствие сомнительное, а на крыше мира и подавно. Да вдобавок приходилось волочь за собой понурого коня, следить за тюками со снаряжением, чтобы не намокли (куда там), не ухнули в очередной провал и все такое.
Иногда, гораздо чаще чем хотелось, мы впрягались в телеги и орудийные лафеты и перетаскивали их через заваленные тропы или ловили на краю ущелий. А ведь не всегда успевали, что и говорить. Сколько телег улетело в воющую бездну?
Даже пушки приходилось бросать, хотя воевать без них совсем не сладко.
Ломались оси, ломались колеса, спотыкались кони. Самое прочное – люди, тоже не выдерживали. Холодная пища, холодные ночевки и усталость выкашивали солдат беспощадной косой. Но мы упрямо лезли вперед, под издевательский каменный хохот горных пиков, что зло ухмылялись зубастыми ртами разломов и пропастей.
– Ты смотри, знакомые места! – стуча зубами, промолвил Ральф Краузе, когда мы остановились на ночь. – Сколько мы волохаемся? Пятый день? Ну все, самое дерьмо считай прошли. Еще два перехода и мы снова в гостях у итальяшек. Если б не чертова погода давно б на месте были.
– Ага, – согласился я. – Ты как в целом? – Мне совсем не нравился Ральф в последние дни. Его явно лихорадило, а голос стал тусклым и безжизненным. Он старался не подавать виду, но разве скроешься, когда у тебя зубы пляшут и мелко дрожат руки?
– Да что мне сделается? Вина не осталось?
– Есть маленько. – Я порылся в седельной сумке и достал полупустую флягу. – На глотни.
– Эх, сварганить бы сейчас глинтвейну. Или пива подогреть.
– Пей, пей. Размечтался. Где здесь дров взять?
– Ну спасибо. Вино хорошее, – и он вновь приложился к горлышку, причем зубы выбили частую дробь по оловянному горлышку.
Войско устраивалось на ночлег.
Возле нас нарисовался Конрад Бемельберг в сопровождении двух незнакомых бойцов. Оберст был предусмотрительно закутан в тяжелое суконное шаубе[68] и двухслойный шерстяной плащ с капюшоном.
– Идиллия прямо. Командир делится последним глотком вина со своим солдатом, – проворчал он, пытаясь расчесать пятерней слипшуюся и заиндевевшую бороду. – Ты, Гульди, теперь гауптман, давай уже ответственнее. Почему люди не спят до сих пор?
– Виноват, герр оберст, – отозвался я казенным голосом. – Сейчас поужинаем чем Бог послал и на боковую.
– Караулы?
– Дежурная рота Адольфа Киссельринга. Караулы расставлены. Я лично проверял.
– Хорошо. Ладно, отдыхайте. Скажите спасибо, что дальний дозор сегодня не ваш.
– Он развернулся и, прежде чем уйти дальше, унося свое нелегкое офицерское бремя, на секунду остановился и бросил напоследок: – Между прочим, Ральф, ты просто отвратительно выглядишь. Смотри мне, не околей.
Солдат может заснуть всегда и везде. Золотое армейское правило: жри, что дают, спи, пока возможно. Следуя ему, мы прижались друг к другу спинами тепла ради, закутались в плащи и принялись клевать носами. Под себя побросали кто что мог: от мешков со сменной одеждой до войлочных конских потников, у кого были.
Эх, костерок бы…
С боков меня подпирали мои алебардисты, совсем как в строю, только гораздо плотнее. Строем воюем, строем гадим, строем спим. А ведь у нас сегодня очередной бой с императором Морозом, так что аналогия с военным построением вовсе не умозрительная.
Проваливаясь в сон, я отметил про себя, что спина Ральфа была горячая, как печка. Ненормально горячая.
Я спал и мне снился Рим. Залитый солнцем, сверкающий позолотой куполов, каким я его помнил с далекого 1522 года.
Интересно, мой любезный собутыльник Бенвенуто Челлини еще там? Неужели я его увижу вновь? Хотя, не дай Бог, учитывая обстоятельства. Не хотелось бы собственноручно заколоть хорошего человека и лишить мир красоты его не созданных еще работ.
Впрочем, он не мог не слышать о нашем походе. Умный человек внял бы недвусмысленному совету Райсснера, которым он поделился при расставании с неуёмным «художником с большой буквы». Как будто вчера Адам говорил эти слова: «постарайся не оказаться в Риме, когда туда придут ландскнехты». Так что, есть надежда, что Челлини мы в городе не застанем.
Шёл холодный март 1526 года от Рождества Христова.
А как всё хорошо начиналось! После Павии голова шла кругом.
Победа!
Французы понесли такие потери, что война казалось завершена. А главное, король, сам Франциск Валуа, оказался в железных лапах Фрундсберга. Было от чего потерять голову. И нам и им. Первым от радости, вторым от огорчения. Неизвестный мне ландскнехт сочинил звучную песню, которая быстро утратила автора и стала, так сказать, народной.
Вот она, я её выучил и частенько распевал:
Jorg von Frundsberg, fuhrt uns an, Tra la la la la la la, Der die Schlacht gewann, Lerman vor Pavia. Kaiser Franz von Frankenland, Tra la la la la la la, Fiel in des Frundsbergs Hand, Lerman vor Pavia. Alle Blumlein stunden rot, Tra la la la la la la, Heissa, wie schneit der Tod, Lerman vor Pavia. Als die Nacht am Himmel stund, Tra la la la la la la, Trummel und Pfeif' ward kund, Lerman vor Pavia. Und der euch dies Liedlein sang, Tra la la la la la la, Ward ein Landsknecht genannt, Lerman vor Pavia. Йорг фон Фрундсберг, в бой ведёт! Тра ла ла ла ла ла ла С ним нас победа ждёт! В городе Павия! Кайзер Франц, тот гордый галл, Тра ла ла ла ла ла ла В руки Фрундсбергу попал! Вздрогнула Павия! Нынче красным всё цветёт! Тра ла ла ла ла ла ла Кто на нас – тот смерть найдёт В ужасе Павия! Нынче снег расцвёл огнём Тра ла ла ла ла ла ла Хей-хо! Мы смерть несём! Под стенами Павии! Встала ночь чуть, над землёй Тра ла ла ла ла ла ла Пели барабан с трубой! Наша ты, Павия! Тот кто эту песнь сложил Тра ла ла ла ла ла ла Сам ландскнехтом там прослыл В городе Павия!Очень хорошая песня. Раскатистая. Когда сотня лужёных глоток затягивает «Tra la la la la la la», у меня вообще мурашки по коже. И аккомпанировать можно одним барабаном, словом, то что нужно для солдат.
А сколько мы награбили, Великий Боже! На фоне добычи жалкие гроши, которые задолжало казначейство, казались мелочью, достойной только немедленного пропивания в кабаках.
Что и было сделано со всем прилежанием.
Не будем говорить, кто именно свалил самого Валуа с коня во время самоубийственной атаки на изготовившиеся баталии.
Мои руки до сих пор помнят, как завибрировал спадон, когда клинок отчленил сразу две ноги державного скакуна. Но сдался-то он целому главнокомандующему Шарлю де Ланнуа! Куда там мне с моим хамским рылом… «Господи, Пауль Гульди, ну и имена у этих простолюдинов!», как остроумно пошутил бургундец в тот памятный день.
Кандидатов на пленение венценосца, как не трудно догадаться, образовалось великое множество. Громче всех выступали некие Алонсо Пита да Вега и Чезаре де Эрколани – итальянские кондотьеры (ха-ха-ха, ну и имена у этих аристократов), но им доступно объяснили, кто в доме хозяин.
Принимая во внимание, что «кайзера Франца» завалил ваш верный повествователь, хоть распространяться об этом не рекомендовалось, де Ланнуа отписал нашему обожаемому монарху в длиннейшей победной реляции, о моем «неоценимом вкладе», «доблестном служении», «беззаветном самопожертвовании» и тому подобном говнище. Ну и Фрундсбергу настоятельно рекомендовал. Отметить. Отблагодарить. Повысить.
Хотя Георг класть хотел на всякие рекомендации, меня в самый короткий срок произвели в гауптманы. Становой хребет офицерства, который назначался оберстами, и не подлежал обычным солдатским выборам.
Денег мне отсыпали с полведра.
Я даже невольно задумался за что.
За «неоценимый вклад» или за молчание? А ещё я получил именное приглашение на королевский турнир в Вене по случаю великой победы и всё такое в том же духе. Так хамское рыло вашего покорного слуги оказалось в столице империи в самой блестящей компании.
Разнообразных «де», «де ля», «да», «делла», «дель» а так же «фонов» и «ванов» в Вену ехало столько, что язык чуть не сломался по дороге. О Фрундсберге и говорить нечего. Душа нашего изысканного общества. Если бы не он, можно было скиснуть, хотя с ним мы чуть не спились.
Ну и Адам сопровождал папу ландскнехтов, куда же без него.
Весь наш путь с шикарным поездом победоносных сеньоров можно описать одной фразой моего верного друга и собутыльника герра Райсснера. Он сидел на скамеечке во дворе одного замка близ города Кнительфельда, где нас принимали, и сыто отдувался.
Еще бы. В обед мы так обожрались, что просто неприлично вспоминать.
– Положительно. Путешествовать задарма с прославленными аристократами гораздо лучше, чем на своих двоих и без денег.
Невозможно не согласиться.
Я слишком поспешно зачислил всех родовитых спутников наших в зануды.
По дороге мы близко сошлись с неким Райнхардом фон Матчем – побочным отпрыском безобразно богатого рода, что владел замком в Южном Тироле и чопорным бургундским рыцарем Рене де Монмартеном, обладателем холеных усов и невероятного запаса стихотворного старья на все случаи жизни.
Последний, не взирая на мнимую неприступность и сухость, оказался скорым на шутку и улыбку, и совсем не чванился принадлежностью к древнему роду.
Оба рыцаря много воевали, причем Райнхард часто сражался в полку ландскнехтов, не чураясь пехоты и, напротив – отзываясь о нас со всем уважением. Де Монмартен, чей дед служил еще несчастному Карлу Смелому, закономерно оказался знатоком сложной турнирной науки и охотно просвещал нас по поводу грядущего события.
Я то, глупый, думал, что турнир – нечто сродни спортивному состязанию в высшей лиге, но прав я был лишь отчасти. Я про себя недоумевал, какого дьявола император в честь победы устраивает соревнования? Не самый очевидный способ отпраздновать это дело. Но Рене меня просветил.
Мог бы и Адам, но он, как оказалось, был «не в теме» и только мямлил что-то про «старые почитаемые традиции».
Оказалось, что турнир был сплавом народного гуляния, фестиваля, вычурного театрального представления, спортивного соревнования; причем все составляющие были замешаны на густом бульоне игры в древность и подогреты на огне азартного соперничества.
– Понимаешь, Поль, – поучал бургундец, коверкая мое имя на французский манер, – турнир придумали, чтобы даже в мирное время рыцари не ленились и всегда были готовы скрестить копья. Но это было давным-давно. Нынче мы в основном развлекаемся.
– Здоровья и денег на такие развлечения уходит уйма, – скептически отозвался Райнхард, который вечно был на мели.
– Вот я к тому и веду, – продолжил Рене, – дорогие игрушки не вызывают более трепетного почтения ни у рыцарей, ни у простолюдинов. Что теперь победитель на джостре? Так, разукрашенный павлин. А раньше, это был сам архангел Гавриил и святой Георгий в одном лице. Уважение мы потеряли. Уважение.
– Зато умелый боец может неплохо заработать, – добавил огоньку хитрый Адам, – призы и выкупы от пленников…
– А что бы я туда попёрся?! – удивленно воскликнул фон Матч, – вышибу дух из пары-тройки расфуфыренных зазнаек и увезу кучу талеров. Не думаю, что это труднее чем ходить на пики швейцарцев. – При этих словах бургундец едва заметно прищурился и неодобрительно покачал головой.
– Не скажи, друг мой. Ты ведь первый раз будешь на турнире? Вот то-то и оно. Император собирает самых лучших бойцов. Это тебе не «длинным коли» и «вперед марш».
– Поглядим.
– Конечно поглядим. Но это всё суета. Какие там женщины, ох!
– Э-э-э, толку то? Эти придворные крали всю душу вымотают, а потом не дадут, тьфу! А если и срастется… скорее всего – бревно бревном, только и умеет, что глаза закатывать, да в обморок хлопаться. И стишки одни на уме. Лучше уж итальянку сграбастать на сеновале. От это я понимаю! Итальянки горячие!
– Ты груб и не отесан, Райнхард! Тонкость! Тонкость, друг мой! Подход и маневр важен, тогда самая холодная красавица заиграет в твоих руках как хорошо настроенная мандолина! Если умело подкрутить колки, она сама будет ночи напролет слагать в твою честь поэмы.
– Надо очень.
– Надо, мой недалекий товарищ! Когда рифмы сплетаются из страстных объятий, сладкой боли и криков восторга! Надо! Эх, жду, не дождусь… – и он мечтательно продекламировал, почти пропел:
Услады я не знаю слаще И не хочу отрады вящей: Приятно сердцу моему, Когда моей любви просящий Охвачен думою томящей – Пристало тосковать ему. И самый стойкий не пройдет Без огорчений и забот Такой искус; Но кто и вправду любит, тот Веселье чувствует, невзгод Подъемля груз. Один, с друзьями ли – грустящий, Покорный мысли цепенящей, Он не внимает никому, Но эту муку настоящей Зовёт он сладостью всё чаще, А отчего – лишь я пойму. Услады я не знаю и т. д. Раздумье точит и гнетёт, Но в нём покой он некий пьёт, Чей сладок вкус. Не прав, кто те мечты прервёт: Едва ль влюблённый проживет Без милых уз. Он грёзой тешится манящей, Ласкающей и веселящей. Довлеющей его уму: В неё он погружен, как спящий. Желания огонь палящий Ему неведом. Потому Услады я не знаю и т. д.[69]Стоит ли говорить, что я и Райнхард слушали всю эту тираду, дегенеративно открывши рты. Годы в окружении простых обращением наемников сказались.
А Рене уже вовсю мчался по зеленеющему майскому лугу, горяча коня шпорами. Дело было на охоте, мы травили кабана, и рыцарь опасался уступить добычу кому-либо. Адам проследил его путь смеющимися глазами и негромко сказал:
– Насколько я знаю, этому молодому охламону в обличье романтического рыцаря больше подходят немного другие вирши:
Не мудрено, что бедные мужья Меня клянут. Признать я принужден: Не получал еще отказов я От самых добродетельных из донн. Ревнивца склонен пожалеть я в чуже Женой с другим делиться каково! Но стоит мне раздеть жену его – И сто обид я наношу ему же. Муж разъярён. Да что поделать, друже! По нраву мне такое баловство Не упущу я с донной своего, А та позор пусть выместит на муже![70]Пока мы дружно хохотали, из лесу выскочил матерый секач, за которым бежали гончие, заливаясь лаем. Позади звенели дудки да рожки, и к обреченному зверю со всех сторон бросились охотники. Но Монмартен опередил всех, взяв кабана на острие меча, легко и изящно, как опытная вышивальщица мечет иглу в пяльцах.
Императорский турнир – это что-то. Под стенами Вены был выстроен настоящий городок из шатров, загородок, турнирных площадок, трибун и разнообразных декораций. Я там даже заблудился однажды. Конечно, по пьяному делу.
Не буду рассказывать, как мы там отдыхали. Не всё, по крайней мере, рассказ не о том ведь, а о том, как нас занесло в Альпы. Турнир же этот злосчастный напрямую с сей историей связан, так что придется немного здесь задержать ваше внимание, м.л.ч. (мой любезный читатель).
Квартировали мы в самой Вене от щедрот нашего обожаемого оберста Георга фон Фрундсберга.
Я и Адам манкировали всяческими скучными на наш взгляд церемониями, где «прекрасные дамы» осматривали гербы, герольдмейстеры проверяли родовитость участников и тому подобное. Надо сказать, что этот «увлекательный» процесс занял целый день! И это был второй день турнира, так как первый был посвящен вносу знамен и шествию участников.
Только грандиозные пиры каждый вечер заставляли мириться с докучливым церемониалом.
Фрундсберг непрерывно зевал и слал в королевский дворец письмо за письмом, которые выводил своим каллиграфическим почерком Адам. У меня рябило в глазах от всеобщего сверкания, от гербов и бейджей, золотых шелков, а в ушах не прекращался звон – эхо громких клятв, здравиц и тостов. Надо ли говорить, что Монмартен оказался в своей стихии и плавал в этом великолепии, как рыба в водах мирового океана?
– Друзья мои, – посетовал он в ответ на наши утомленные жалобы, – друзья, друзья… это разве церемониал? Настоящий блеск был когда-то при дворе герцогов Бургундии, сейчас вы видите только его жалкую тень.
– На том спасибо! – сказал недовольно Райнхард, – я кажется скоро с ума сойду от всего этого. «Шлем мессира де Мелюна, шлем сеньора де Бальбоа»… задница Райнхарда фон Матча… «не посрамил ли кто, не отзывался ли дурно о благородной даме, не опорочил ли?». Да если бы эти расфуфыренные бабы знали, что мы вытворяли всего три месяца назад, гы-гы-гы! Конечно опорочил, гы-гы-гы!!!
Мы хором оскалились самыми довольными улыбками.
– Помню, помню, как же, – включился в разговор я, – в Лоди славно погуляли. Эх, на месте суда прекрасных дам я бы тебя ни за что на пушечный выстрел не допустил бы до турнира!
– Это потому, что хреновая из тебя дама.
– Га-га-га!!! – заржали мои спутники, распугав голубей на улице. Дело было вечером, и мы чинно прогуливались по городу, тщетно пытаясь растрясти сытую одурь после кулинарных излишеств очередного пира.
– Я что-то упустил, Райнхард, ты заявился для завтрашних состязаний?
– Делать нечего. Кольца снимать, да по вертушке стучать. Пускай столичные дворянчики развлекаются. Я на копьях сражусь послезавтра, а потом и на двуручных мечах.
– А на секирах?
– Да хоть на поварешках. В пешем строю я никого не испугаюсь.
Переговариваясь таким образом, мы дошли до развилки, где нам предстояло расстаться. Монмартен подкрутил ухоженный ус выверенным движением руки, он вообще все делал выверено, такое впечатление, что репетировал перед зеркалом каждый шаг и каждый поворот головы.
– Ну что, любезные мои спутники, – молвил он, – до завтра? Погрузимся в целебный сон и отдых. Как там писал Петрарка?
Когда же вечер зажигает звезды Кто в дом спешит, а кто – Укрыться в чаще, Что б отдохнуть хотя бы до рассветаМы попрощались, а Райнхард добавил:
– И будем молиться, чтобы не помереть ночью от вздутия живота, или непроходимости кишок, ха-ха-ха!
Долго ли, коротко ли, но долгожданное послезавтра наступило.
Отстояв заутренею в храме, многочисленные рыцари потянулись на ристалищное поле. Ну и мы с ними.
Фрундсберг недовольно ерзал на своем кресле в ложе почетных гостей и все время ворчал: к императору, де, не протолкнуться, на письма не отвечает, а дело стоит. Дело у него было важное, что и говорить.
Он планировал скорый поход на Рим, чтобы закрепить, значит, успех и не останавливаться на достигнутом. Надо сказать, что хоть Карла V и величали «императором», но юридически он таковым не являлся, оставаясь простым королем Германии, Испании и так далее. Короноваться священной короной Карла Великого он мог только в Риме.
Вот Фрундсберг и беспокоился, полагая, что с помазанием в Вечном Городе и войне конец.
Всё это мне неоднократно рассказывал всезнайка Адам.
Теперь, пользуясь паузой, я сидел и размышлял насколько оправданы чаяния нашего вождя. На турнирной площадке смотреть пока было не на что, вот я и занимал голову. Когда ваш покорный повествователь пришёл к неутешительному выводу, меня неожиданно отвлекли от грустных дум о большой политике:
– Позвольте полюбопытствовать, отчего монсеньер не готовиться к конным ристаньям? – я обернулся. Рядом стоял разодетый бургундский дворянин кто-то де ля какой-то сир де откуда-то. Совершенно вылетело из головы его полное поименование. Я вежливо приподнял седалище с кресла и ответил:
– Не вышел родом.
– Не наговаривайте на себя, право! Я видел ваш герб на представлении позавчера. Вы ведь, кажется, герр…
– Пауль Гульди. И герба моего вы не видели за неимением такового.
Кто-то де ля какой-то покраснел, пробормотал нечто извинительное и исчез. Вероятно, пошел готовиться к «ристаньям».
– Растешь, Пауль, – ехидно усмехнулся Фрундсберг и пребольно пихнул меня локтем в бок, – уже за вельможу принимают.
За вельможу меня принять могли вполне.
Вырядился я настоящим щеголем по местным меркам: красный парчовый фальтрок с широкими рукавами до локтя, тёмно-синий вамс, синие же чулки из фламандского сукна, широкомордые башмаки с позолоченными пряжками, обтянутая шелком перевязь, пояс с расшитым кошельком, приличествующая шляпа с фазаньими перьями. «Могучие перси» украшала массивная серебряная цепь, на которой сверкал новенький рейхсталер с конным портретом самого императора. Ну и кольца поверх перчаток, куда же без них.
Словом – бравый рыцарь на отдыхе. Сокрушитель турнирных шлемов и дамских сердец.
Кстати о сердцах. Я поймал долгий, обжигающий взгляд моей соседки слева – спутницы того самого обознавшегося бургундца де ля какого-то.
Аккуратная головка, густые каштановые волосы, обсыпанные крупным жемчугом, вплетенным в наброшенное сетчатое покрывало, высокая грудь, подчеркнутая златотканым лифом на шнуровке… чудная девка! То есть не девка… графиня… О чем не преминул напомнить свистящим шепотом Адам.
– Не осложняй. Это невеста графа де ля Кревкера. Он родственник самого императора, хоть и дальний…
– Адам, – так же шепотом ответил я, – тебе судьбой назначено быть моей переносной совестью.
– Вот, слушай и делай выводы. Если помнишь, во Флоренции совесть тебя предупреждала, да ты не оценил. В результате пришлось улепетывать из города, смазав пятки.
– А совесть не забыла флорентийский переулок и пьяную поножовщину, в которой принимала самое горячее участие? – отшутился я, но ловить взгляды чудной девки, то есть, пардон муа, графини. Эх, жаль Монмартен сейчас в своем шатре напяливал латы, он точно не потерялся бы.
Взревели трубы, прервав течение беседы.
– Его величество Карл V! – звонко прокричал глашатай. – Король Германии, Испании и Неаполя! – и так далее.
– Его величество Франциск I! Король Франции! – ого, никто не ожидал такого гостя…
Все принялись вставать, кланяться и обнажать головы. Фрундсберг тоже встал, но его роскошный берет остался на своем месте, так как Георг имел привилегию не снимать головного убора в венценосном присутствии.
Мне приходилось видеть Карла на параде в 1522 году, но тогда я не разглядел его по понятным причинам. Он был молод и полон сил. Фигура, как принято говорить, воинственная. Его волевое лицо украшала короткая борода, скрывавшая покатый узкий подбородок. Недостаток в нижней челюсти с лихвою компенсировала выпяченная габсбургская губа – следствие неправильного прикуса, которая придавала всему облику непередаваемую надменность, очень подходившую, впрочем, звучному королевскому титулу.
Об руку с Карлом шествовал его царственный пленник. Глаза грустные, выдающийся нос династии Валуа невесело повешен, но вид, не взирая на контекст обстоятельств, гордый и неприступный.
Интересно, подумал я, королевская ложа на расстоянии вытянутой руки от нас, если заметит, узнает он меня или нет? Куда там, хоть и довелось нам схлестнуться, что называется cor-a-cor.
Ничего подобного. Я недооценил зрительную память неудачливого богопомазанного вояки. Усаживаясь на место подле Карла, он скользнул по мне взором, на мгновение замер, резко выпрямился и бросил что-то пажу, который суетился рядом. Паж порысил в нашу сторону, наклонился над моим ухом и шепнул:
– Его величество Франциск Валуа требуют вас в свою ложу.
Куда деваться? Я мысленно оценил свой наряд, не нашел к чему придраться и последовал представать пред очами.
Снял шляпу, церемонно поклонился и замер, ожидая, что скажут владыки мира.
Франциск выдержал паузу, осмотрел мою персону с головы до пят.
Ч-ч-чёрт, устоять перед его копьем на поле боя было куда легче, чем перед его взглядом. Без доспехов я почему-то ощутил себя совершенно голым. Между тем король прервал затянувшуюся паузу:
– Полюбуйтесь, мой дорогой Шарль, – обратился он к своему победителю, – вот тот герой, что не умеет обращаться с конями.
– Я помню рассказ о вашем пленении. Так это он? – отозвался «дорогой Шарль». – По-моему, с конями он обращается вполне умело, только обращение это несколько однобоко, ха-ха-ха, – и Карл изволил весело рассмеяться. Я же стоял и надеялся, что не зальюсь маковым цветом, как красна девица.
– И все же, я бы предпочел, чтобы ваш солдат не рубил ноги прекрасного животного. Это как-то… неблагородно. Вы не находите? – вопрос обращался ко мне. Я поборол сведенные челюсти и заставил себя как можно тверже произнести:
– Ваше величество, встав перед выбором между ногами коня и вашими, я выбрал ноги коня. Прошу простить недостойного слугу императора за причиненные неудобства.
– Ха-ха-ха, – Карл веселился вовсю, – клянусь святым Георгием, достойный ответ! Уверен, что мой дорогой Франциск с удовольствием поменялся бы местами с конем! Тем более, что в его латах он бы даже царапины не получил, не так ли?
– Истинно так. Если что-то в Германии умеют делать лучше, чем в милой Франции, так это доспехи. Мастера в Аугсбурге сработали великолепное железо. Я получил от ваших рыцарей много добрых ударов, но латы даже не помялись.
– Лучшего комплемента и желать нельзя. Но думается мне, что Монморанси и его несравненный меч послужили вам в деле при Павии не хуже доспехов, выкованных в Германии. Надеюсь, мы увидим его сегодня. Не будем же задерживать моего верного ландскнехта, да и турнир пора начинать. Всего вам доброго, герр Гульди. Я намерен в благодарность за службу преподнести вам доспех из моей личной мастерской в Иннсбруке, на добрую память.
Что и говорить. Обласкали. Столько чести, и за что? Всего один удар спадона…
Турнир шел своим чередом. Гештех высоких седел сменился рененом[71]. Ломались копья, трещали латы, ржали и приседали от могучих ударов кони. Увлекательное зрелище, хотя на мой вкус, несколько однообразное. Первые раз десять очень интересно, а затем, приедается.
Очень поражало взгляд военного человека несуразность турнирных лат по сравнению с полевыми.
Здоровенные сложно изогнутые пластины, что привинчивали к доспехам для усиления, совершенно скрывали благородную линию и соразмерность настоящей боевой брони. Я не говорю о специальных турнирных латах.
Штехцойги да ренцойги, в которых щеголяли некоторые участники, выглядели настоящей насмешкой над самим понятие «доспех».
Но это мое мнение. Здесь не война, законы и требования здесь иные. Тем более, что публике происходящее несомненно нравилось. Удачные удары сопровождались таким ревом, что трибуны, казалось, вот-вот рухнут.
Моя соседка – графиня, ангельское создание, надо сказать, не отставала. Визжала от восторга с отменной пронзительностью, до заложения уха вашего скромного повествователя.
– Анн де Монморанси от партии зачинщиков! – провозгласил глашатай, когда я начал засыпать от накатившей скуки и усталости. Ранний подъем к мессе после разудалого пира меня подкосил. – Ему противостоит Рене де Монмартен!
Ага, а вот и наш любезный друг пожаловал.
– Сейчас Монморанси его завалит, – прокомментировал Фрундсберг. – Я его знаю. Копьем бьет, как из пушки.
– Монмартен тоже не прост, – возразил Райсснер.
– Ставлю четыре, нет, пять гульденов на Монморанси.
– Идет, пять на Монмартена!
Из ворот справа показался Рене, не узнаваемый в своем турнирном облачении. Полцентнера железа, может чуть меньше, и на коне ещё столько же. Монморанси был закован под стать.
В руках бойцов недобро поблескивали острые копья, отличавшиеся от боевых только коротким пером наконечника, заканчивавшегося выступающей площадкой. Чтобы, значит, слишком глубоко не втыкались, ха-ха-ха. Хотя во что там втыкаться?
– Бьются до девяти ударов, – громко сказал Адам, силясь перекричать рев трибун. – Что-то будет сейчас.
– Что будет, что будет! Серебро готовь, вот, что будет, – подал голос наш оберст.
Первая сшибка.
Могучие кони понесли вдоль барьера и за секунду преодолели разделявшее их расстояние. Удар! Копья замечательно пришлись прямиком в забрала бойцов и труско преломились, обдав обоих кучей щепы. Стало быть один-один.
Бой шел на редкость ровно. Вельможный пленник раз за разом разбивал копья о латы своего визави, да и Рене не плошал.
Восьмая сшибка. Бойцы врезаются друг в друга, ломают очередную пару древок, разъезжаются и… флажок судьи со стороны Монморанси не поднимается. Удар не засчитан.
– Ага! – азартно воскликнул Адам – копье преломлено под самым наконечником! Обломок меньше фута! Герр оберст, сдается мне, что ваше серебро теперь мое!
– Еще одна сшибка, сиди, смотри, – недовольно пробурчал Фрундсберг.
– Надежды мало, Георг, давайте глядеть правде в глаза.
– Заткнись.
– Слушаюсь, гы-гы-гы!
Девятая сшибка. Кони пошли хорошо, ходко. Копья нацелены, земля дрожит под копытами, зрители замерли… Удар! Копья вдребезги!
Среди падающих обломков я увидел как блестящая фигура Монмартена приподнялась над низкой лукой седла, кувырнулась в воздухе и нелепо грянулась оземь. Вот это развязка!
– Что, съел?! Давай пять гульденов!
Адам молча отсчитал монеты и сказал мне грустно:
– Не судьба. А как все удачно складывалось. Пойдем, что ли, проведаем нашего приятеля?
И мы пошли. Монмартен обнаружился в своем шатре.
Он отмокал в огромной деревянной кадке с горячей водой в компании понурого Райнхарда фон Матча, потягивал вино и разглагольствовал о превратностях воинской удачи.
– …так что, друг Райнхард, не унывай, смотри веселей.
– Монморанси здоровый черт. Жаль, не попался мне под Павией, желчно проговорил фон Матч, которому вездесущий француз тоже успел намять бока.
– Поздно жалеть. По крайней мере, сегодня подвиги для нас закончены. Окунемся в счастливую лень! О! А вот и Поль с неразлучным своим приятелем Адамом пожаловали! Я думаю, они поддержат мою эпикурейскую программу. Предлагаю залить печаль, Райнхард, ведь у тебя есть печаль? Да-да, можешь не отвечать, я вижу. Так вот, залить печаль добрым вином и погрузиться в сон!
– Рановато ты собрался! – подначил я.
– Не понимай буквально, мой приземленный друг! Сон мысли я имел ввиду, сон мысли! Сон разума! Метафора, эпитет, иносказание! Как писал Карл Орлеанский, э-э-э… вспомнил:
В ворота дум моих не колотите, Забота и печаль, столь тратя сил; Коль длится сон, что мысль остановил, Мучений новых, прежним вслед, не шлите.– По-моему, – с задумчивой насмешкой в голосе сказал Адам, – Орлеанский подразумевал в этих стихах нечто иное.
– По-моему тоже. И черт с ним.
Так закончился очередной день турнира и мы пошли предаваться «сну разума».
Следующий, пятый день начался пешими боями. А закончился аудиенцией, что наконец добился Фрундсберг у Кала V. На нашу и свою голову.
Пока мы шумно поздравляли Райнхарда, славно выступившего с двуручной секирой, и готовились поглощать на вечернем пиру соловьиные язычки, говядину в бургундском соусе, перепелов томленых с яблоками, поросят в сахаре и гусиный паштет с ореховой крошкой, Фрундсберг исчез в резиденции императора, и долго не появлялся.
Увиделись мы только на пиру, куда он явился мрачнее холодной тучи с северных морей. Я побоялся приставать с расспросами, так как в глазах нашего любимого вождя явно читалась жажда крови, а изо рта разве что не капала ядовитая слюна. Борода грозно топорщилась, а лицо сделалось красным.
Словом, Бог с ним, я тогда предпочел разнузданное веселье, и правильно, ведь веселье оказалось последним на долгое-долгое время.
Пир перешел в ту замечательную стадию, когда лёд церемонности уже растоплен обильным винным паводком, но еще не превратился в безудержное хмельное половодье.
То есть, никто более не «мессиркал» перед каждой фразой и не сидел, словно с колом в одном месте, но еще и не падал лицом в паштет, не блевал и не плясал на столе. Все друг друга успели полюбить, спокойно рыгали в голос, кушали пальцами и утирали губы шелковыми рукавами.
Огромная зала на несколько десятков столов безудержно погружалась в болото невоздержанности – турнир закончился, напряжение спало, так что вельможный народ преспокойно нагружался всем подряд.
Обстановочка располагала. Музыканты пиликали, их правда, уже было не слышно, слуги исправно переменяли блюда, пользуясь оригинальной местной методой: дорогущая скатерть с останками предыдущей волны изысканной жратвы просто сворачивалась вместе с посудой и выносилась вон, а стол накрывали наново.
Райнхард фон Матч приволок к нашему скромному месту питания двух не вполне прямоходящих господ, которых накануне сильно отделал секирою. Нынче они вместе вкушали прелестей жизни и неутомимо хвастались. Разговоры их не слишком выделялись на общем фоне. Этому увлекательному занятию, в смысле хвастовству, а так же перемыванием костей, были преданы все поголовно.
Граф фон Матч оказался молодцом. Я внимательно следил за его боями, так вот, у меня бы так точно не получилось.
Чудовищно неудобные турнирные латы с глухими забралами шлемов, что не позволяли ни дышать нормально, ни смотреть, широченные наплечники, что не давали свободно свести руки, длинные по колено подолы «колокольчики» представлялись непреодолимой преградою.
Но тому было всё нипочём.
Райнхард гвоздил двуручной секирой куда попало, не особо озадачиваясь парированием ответных угроз. Удар Mordhau надо сказать у него был чудно поставлен, да и ноги он подсекал с отменной ловкостью.
– Ты слушай, видел как я стук-ик-стукнул этого, как его… Райтенау? Тот аж на задницу сел!
– Не, ничего подобного, не сел. Но вмятина в шлеме осталась в три пальца, клянусь честью.
– Ик. Ик. Не будь я Райнхард фон Матч, если не сел!
– И все-таки, значит это, у меня на всем это турнире, в общем, как это, самый лучший укол, без сомнений, я бы сказал, вот.
– Я твой укол отбивал, как хотел.
– Это, значит не так, я бы сказал. Я три раза попал тебе в нагрудник и один раз в ногу. И в локоть два раза, значит вот.
– Враньё, один раз в нагрудник и один раз в ногу.
– Значит это, вы называете меня лжецом, я бы сказал, так?
– Угомонитесь, господа, неужели вам не хватило потасовок на сегодня?
– От… ик… отстань, Адам!
– Я бы сказал, что если кто усомнился в моей правдивости, вот эта, я, значит, всегда мог бы предоставить некоторую возможность, вот, ибо вопросы, значит, чести, они, можно сказать, как вы сами понимаете, прежде всего, ибо, если кто усомнится в моей, значит, я бы сказал, правдивости, то… господа, я что-то запутался, вы не находите?
– А давайте лучше споем?
– А давайте.
– Но сперва, выпьем за здоровье его величества императора Карла!
– Долгих лет!
– Хох… ик… кайзер!
– Хох!
– Виват!
Выпив, мы начали петь.
Где-то через куплет обнаружилось, что все поют свое и выходит не вполне складно. Вокал «а капелла» осложнялся тем, что Райнхард постоянно икал и пытался заливать икоту вином. От вина у него сделались газы и вдобавок к икоте, он принялся оглушительно пердеть.
Но это уже никого не смущало. Даже Рене де Монмартена и его очередную избранницу – худенькую, высокую с очаровательно огромными фиалковыми глазами и милыми платиновыми кудряшками.
За неё я где-то на краю сознания сначала испугался. Мощные залпы тирольского графа могли снести со скамьи, но она даже ухом не повела. Зачарованно смотрела на Монмартена, который заливал про луну, благородство и беспрестанно читал стихи. Рене кормил её с рук апельсиновыми дольками в сахаре, а сам наворачивал устриц. Судя по всему, ночью доблестный бургундец ожидал нового турнира с невообразимым количеством сшибок.
Ну а дальше пир перерос в могучую попойку.
Райнхард перестал икать и принялся плоско по-солдатски шутить и загадывать загадки.
– Угадай загадку, ответь-ка на вопрос, что ударяет в пятку, а попадает в нос? – это было самое невинное, чем он озадачил публику после очередной звонкой рулады, заставившей его подпрыгнуть на скамье.
Монмартен откланялся, уведя свою даму, предварив свое отступление вполне уместным вопросом:
– Мадам, не кажется ли вашей милости, что здесь несколько шумно?
В ответ последовало ожидаемое: «Мессир, как вы внимательны», на что Рене сказал: «в моем скромном обиталище, которое стоит меньше одного вашего ноготка, я припас превосходное рейнское… кажется, обещал представить вашему суду, о несравненная, мою новую поэму?»
После чего нежная нимфа упорхнула, сопровождаемая коварным сатиром, который всем нам подмигнул. Довольно гнусно подмигнул, надо отметить. Знаем мы его поэму. Из «страстных объятий, сладкой боли и криков восторга» сплетённую.
Вот козел!
Сладкую парочку за столом сменил Фрундсберг. Был он против обыкновения трезв. Зол и очень мрачен.
– Значит так. Завтра уезжаем. Дела наши не вполне блестящи. Советую вернуться в койки пораньше. Разоспаться не дам.
– Что случилось, Георг? – поинтересовался Адам.
– Ничего хорошего. Утром все расскажу.
На сей минорной ноте завершился для нас турнир при дворе Карла V.
Утром выяснилось следующее: император вполне одобрил идею Фрундсберга о немедленном продолжении кампании и наступлении на Рим. При этом он дал понять, что казна пуста, сожранная за два года походов в Италию и против собственных крестьян. Денег на серьезную войну нет, требуется ждать, пока налоги и торговля не пополнят закрома родины.
– Веселиться да просаживать серебро на турнирах они могут. Хватает и денег и провизии, – желчно процедил Георг. – На армию зато не хватает, ч-ч-ч-чёрт!
При этом, император намекнул, что если Фрундсберг по собственной инициативе наберёт войско и довершит начатое при Павии, то троекратное возмещение убытков не заставит себя ждать. Что-то вроде персонального военного займа. Фрундсберг собирался на собственные деньги, при минимальной помощи казначейства, собрать армию и двинуться на Рим.
– Французы нам помешать не смогут. Карл везет Валуа в Мадрид, где он подпишет всё, что подсунут. Осталось раздавить царька в островерхой шляпе, что почитает себя Богом на земле. И тогда войне конец! – в подтверждении своих слов Фрундсберг весомо ахнул кулаком по столу. Столешница жалобно хрустнула.
– Мой полковник, – официальным тоном заявил Адам, – считаю своим долгом предупредить, что это авантюра. Вы в состоянии навербовать армию, достойную Гая Мария, но вы не сможете платить регулярное жалование все время похода. Я слишком хорошо знаю, чем это может закончиться.
– А, проклятье! Поучил бы своего папу детей делать! Мои ландскнехты никогда не взбунтуются!!!
– Герр оберст, даже если вы заложите свое родовое имение…
– Адам, лучше сейчас молчи. Пришибу. Это не обсуждается. Решение принято. Мы идем на Рим!
Вот так наша армия оказалась в Альпах. Георг торопился. Страшно торопился. Но все же раньше февраля 1526 года мы не смогли выступить и оказались на перевалах ранним мартом. А март, как я уже говорил, выдался препоганый.
Двенадцать тысяч ландскнехтов Фрундсберг навербовал за свой счёт. Еще на четыре тысячи раскошелилась казна. И теперь мы упрямо штурмовали ледяные кручи.
Н-да. Это к вопросу о своевольности капризной госпожи по имени Судьба.
Сначала блеск победы под Павией, потом турнир при дворе с роскошными пирами в приятном обществе друзей. А затем – страшный ветер и ледяной камень под задницей, где-то высоко в горах. В животе пусто и в кошельке не густо.
Вроде как с корабля на бал, скажите вы, имея виду резкую смену обстановки.
С корабля на бля, отвечу я.
Дьявол, но до чего же холодно! От воспоминаний о потерянном тепле и сладкой жратве сделалось совсем хреново.
Я, удивительное дело, даже сумел поспать. От сидения на холоде всё тело ужасно затекло. Но сон был необходим, Бемельберг тысячу раз прав. И люди отдохнули, хоть немного. Ведь нам еще идти и идти. Честнее сказать, ползти и ползти.
Морозная хмарь рассветлелась. Где-то в непостижимой вышине поднималось солнце. Но тепла оно не принесет. Яростные вихри термоядерного огня, что сжигают светило миллиарды лет, не в состоянии согреть планету, словно из вредности наклонившуюся вдаль, чтобы остудить пыл своих заигравшихся детей на северном полушарии. Как плохо много знать!
Я тридцать три раза похвалил себя за предусмотрительность. Запас толстых войлочных стелек и шерстяные носки, что надевались поверх сукна чулок, отлично пригодились. Солдат своих я заставил приобрести тоже самое, хотя недовольных было много. Какого чёрта?! Подобной подлянки от мартовской погоды никто не ждал, даже в феврале было теплее!
Но лучше перебдеть, чем недобдеть – поговорка оказалась верной.
Ваш покорный слуга неумолимо просыпался. Зашевелились и мои солдаты. Не двигался только Ральф Краузе. Всю ночь он меня здорово донимал своей дрожью, а под утро вроде бы затих, глубоко и ровно вздохнув, и теперь сидел, уронив голову.
– Подъем, негодяи! – весело прокричал я. В ответ со всех сторон послышалось всякое разнообразное недовольное бурчание, но что делать. Война не ждет.
– Капитан, ты как заговорённый, продрых всю ночь на таком морозе, – позавидовал кто-то.
– Чёртово семя, опять тащиться куда-то!
– Шайсе.
Ну и все в таком духе. Не перечислять же в самом деле все «кацендрек», что услышал я в ответ?
– Подъём, подъем! Разминаем кости, завтракаем и пора двигаться.
– Завтракаем? Это такая шутка, да?
– Разговорчики! Так, все встаем, – я подал пример, – Ральф, тебя тоже касается!
Ральф остался сидеть. Здорово же его разморило.
Взявшись рукой за плечо с намерением грубо растолкать, я ощутил, что под одеждой Ральф совершенно холодный. Очень холодный. Как лёд.
– Ральф? Ральф? Ты чего?
Что с ним? А с Ральфом всё было в полном порядке. Теперь уже в порядке.
До меня вдруг дошло, что тот глубокий вдох, что я слышал под утро, был последним в земной жизни старого алебардиста, прошагавшего со мной в одном строю пол Европы. Нынче он попал в то ведомство, где, как сулил давеча Георг, выплатят всё жалование и приведут лучших шлюх. Ральф Краузе умер.
Мы стояли кружком и тупо молчали. Наконец, кто-то прогнал смурную тишину вполне ландскнехтской эпитафией:
– Лучше ты, чем я.
А что еще сказать возле последнего пристанища опытного наемника? Может быть только: «Прощай, старик», как это сделал ваш покорный слуга.
Армия шла на юг, выстилая путь телами таких же наемников. Старых и не очень, ведь император Мороз не делал различий. Не демоны, не ангелы. Просто люди.
Шестнадцать тысяч ландскнехтов взошли на перевалы. А в долину реки По спустились четырнадцать. Я не хочу сказать, что столько народу в армии перемерзли и умерли с голоду, хватало и дезертиров, но все равно – разница удручающая.
Потом был невообразимый марш по Италии.
Никаких подкреплений мы не получили. Денег хватало едва-едва на поддержание приличных гарнизонов по городам и замкам, что контролировала Империя. С провизией день ото дня становилось еще хуже. Лошадок и осликов почти всех покушали, так что большинство топало пешком и перли на горбу все свои пожитки. О конных разъездах и разведке можно было только мечтать.
Солдаты безбожно мародерствовали.
Всех недовольных из числа местного населения ждала незавидная участь. А заодно и тех, кто попадал под горячую руку.
Чего я не насмотрелся за те дни!
Колодцы, забитые трупами. Сожженные деревни. Въезд в село – аллея повешенных, выезд из него же – аллея посаженных на кол. И на площади перед церковью тихо догорают священник и староста. Женщины, распятые на стенах своих домов. Женщины изнасилованные и убитые. Говорили, что бывало и наоборот, охотно верю.
И трупики детей. Маленькие, жалкие, похожие на поломанных кукол. И что совсем невыносимо, детки живые, тщетно зовущие своих пап и мам. Все это слилось для меня в один бесконечный морозный ад.
И никаких сил этот кошмар прекратить. Идти назад было поздно.
Говорят, на войне человек делается лучше. Я сам читал. Может быть, не обладаю статистикой для построения корректных выводов.
Вот графа: был на войне. Вот: стал лучше. Стал хуже. Не изменился. Не установлено. И диаграммка. И еще одна с хронологической шкалою за …ндцать лет. Осталось только ввести четкий непротиворечивый критерий «улучшения» – «ухудшения». Готовый материал для диссертации по военной антропологии.
Вот дерьмо.
Не знаю насчёт «лучше», но вот не измениться, бредя в мороке смерти и голода было невозможно. Я повидал кое-что, но мозоль на сердце и совести оказалась тонковата. От первого в моей биографии «образцового» похода ландскнехтов, которыми потом детей пугали, я чуть в голос не выл.
Крестьяне в долгу не оставались. Колонны наши были весьма рыхлые, и отбившиеся солдаты, а то и целые отряды, навеки пропадали среди холмов и лесов веселой Италии. Провиантские команды приходилось высылать в полном военном порядке. Доспехи, пики, мушкеты, как в сражение. Иначе мы рисковали никогда не увидеть не только провизии, но и самих «зажитников».
Впрочем, провизии, как правило, они тоже не доставали.
Деревни в полном составе разбегались по лесам, а все, что имело хоть подобие укреплений, моментально затворялось и ощетинивалось всем подряд от самодельных копий, кос и луков, до арбалетов, аркебуз и даже пушек.
Иногда, если овчинка стоила выделки, их штурмовали, и тогда начиналось… впрочем, это я уже описывал. Чаще всего мелкие укрепленные местечки просто обходили стороной и шли дальше. Некоторые сорвиголовы на свой страх и риск сбивались в банды и сбегали в самоволку для «приватного штурма».
Тогда, опять таки, см. выше: «навеки пропадали среди холмов» или «сожженные деревни. Въезд в село – аллея повешенных». И все такое прочее.
От быстрого и уверенного сползания в пучины безумия я удерживался, замкнувшись в маленьком микрокосме: я, мои друзья, мой фанляйн. Все остальное существовать перестало.
То есть не перестало совсем, а отодвинулось, ушло в туман безразличия. Чем дальше от меня, тем туманнее. В этом тумане различимы смутные силуэты братьев по оружию. Все остальные даже не люди, а бессмысленные призраки, боль и стоны которых я не имею права ощущать и слышать.
Иначе – шизофрения. Расщепление сознания. Диагноз гарантированный всем опытным воякам. В этом мире точно – мое глубокое убеждение.
На войне – один человек. Который видит и делает такое, что гражданский не сможет вообразить, а вообразив, осознать, в силу отсутствия адекватного понятийного аппарата. Пришел с войны – другой человек. Почти такой же гражданский, что мыслит в терминах, не побывавших под кровавым резцом токарного станка бога Марса.
Как по-другому, скажите на милость, можно потом поцеловать жену, обнять детей, взглянуть в глаза матери? Только если там был не ты, или не совсем ты.
Доппельгангер. Alter ego. Второе я. Все звериное, темное, инстинктивное, что есть в душе, или, что там у нас вместо неё? Глубины подсознания? Одна херня, применительно к данному случаю.
Характерно, что легенду, про доппельгангеров именно в Германии придумали еще в незапамятные времена. Это я к тому, что германцы повоевать любили и любят, и, стало быть, доппельгангер для них фигура более чем необходимая.
А почему же для них? Для нас, дорогой Пауль Гульди! Не забыл, что ты и есть доппельгангер хорошего человека Этиля Алинара с Асгора?
Доппельгангер для доппельзольднера. Бу-го-га!!!
Мы топали по проселочной дороге. Сверху нас посыпал мерзкий, мокрый снег, а снизу подбадривала холодная, липкая грязюка. Если говорить с академической добросовестностью, топали мои солдаты, а я и еще три офицера уныло тряслись в седлах. Больше лошадок в фанляйне не осталось, кроме пяти изнуренных одров, что волокли пять обозных телег. Вместо двух лошадей и одной телеги на каждые двадцать бойцов, согласно нормам положенности!
Дело было кисло. В Милане, на помощь которого мы ой как рассчитывали, нас форменно отбрили. Франческо Сфорца и Антонио де Лейва в голос клялись, что ни солдатами, ни фуражом нам пособить не смогут. Что сами еле сводят концы с концами. Денег тоже нету. Так что дальше – сами.
Я обрисовывал сложившуюся ситуацию трем своим ротмистрам. Адольф Киссельринг постоянно хлюпал носом и задавал дурацкие вопросы, Петер Трауб кашлял, и вопросов не задавал, Леопольд Гейнц – не сморкался и не кашлял, а вопросы задавал умные.
– Когда жалование будет, я не знаю, так парням и передайте.
– А когда они скажут, что дальше не пойдут, что отвечать?
– Адольф, ты ротмистром на то и поставлен, чтоб, значит, на такие вопросы отвечать! И убедительно! Чтоб шли и дальше!
– Пауль, позволь, серебро – серебром, но что прикажешь кушать? Пуговицы от штанов?
– А вот это, Лео, правильный вопрос. Ты назначен с этой минуты главным провиантмейстером.
– Рад стараться.
– Отставить иронию. Хоть рыбу ловите, хоть на охоту людей посылай, а провиант должен пополняться!
– Рыбу оно конечно можно. Но, Пауль, далеко мы с такими темпами уйдем? Нам ведь к Риму не через год нужно!
– И это вопрос правильный. Приказываю зверей бить по оказии, во время сбора провианта и фуража. Рыбу ловить только во время стоянок.
– Хмр-р-р, тьфу! А если нападут пока они охотятся или рыбарят?
– Адольф, у тебя все мозги вытекли с соплями!
– Хмр-р-р, тьфу! Неправда.
– Да ты на себя полюбуйся! В чем у тебя усы?! И какое твое дело до парней Лео? А «рыбарить» они будут на стоянках, а на стоянках ты будешь лично расставлять караулы. Вопросы есть? Очень хорошо. Киссельринг с этой минуты назначается начальником караульной службы.
– Хмр-р-р, тьфу! Опять?!
– Разговорчики! Советую брать пример с Петера. Едет, молчит, идиотских вопросов не задает. Под раздачу не попал, как следствие.
– Он кашляет.
– Кхе, кхе.
– А ты сморкаешься. Да у тебя даже на седле сопля висит! Оботрись, а то я блевану! Значит так. Разошлись по ротам. Через два часа стоянка. Чтобы все были готовы приступать к исполнению. Я к Фрундсбергу. За… звиздюлями. Вернусь – проверю. И смотрите у меня! Если что – жопы на головы выверну!
– Давай, катись! Щас тебе Георг вывернет. – Так напутствовали меня офицеры.
В грозного гауптмана я, к сожалению, мог только играть, ибо никаких рычагов давления на подчинённых более не имел, кроме авторитета.
Ротмистры слушались меня, им худо-бедно подчинялись капралы, которых пока еще в голос не посылали солдаты. Общественный договор, не более того. Мы пока держимся друг за друга, потому что поодиночке – пропадем.
Но как же все зыбко, ненадежно и погано, Господи!
Трижды погано то, что в армии две трети – молодые солдаты. Кто-то вообще первый раз завербовался. Не ландскнехты, а так – зародыши. Многие отведали кровушки и походной грязи во время подавления крестьянских бунтов, так что почитают себя опытными ветеранами.
Гонору много. А тут их личиком да в такое говнецо.
Плохо, что ретивая молодежь в основной массе оказалась со своими же офицерами в своих ротах. Пока наш «общественный договор» как-то держался, скрепленный грозным именем и славой Фрундсберга, но насколько прочен этот цемент?
Нужно сражение. Как воздух, как вода. Сражение – это победа, это добыча, это убыль лишних ртов, как минимум. Накануне неминуемой драки никто не рискнет бунтовать. После – тем более. Да и не нужно будет. Драка спаяет наше рыхлое воинство. Чугунные молоты пушек пройдутся по сварочным швам. Вражеские пики пробьют пазы и станут нашими шарнирами, а кровушка смажет сочленения. И заработает машина!
Вот только с кем драться?
До Рима еще шагать и шагать.
Нужен враг. Срочно.
Что-то в этом роде рассказал нам Фрундсберг, сразу после ожидаемого дисциплинарно профилактического разноса.
– Дьявол! Я бы даже швейцарцам сейчас обрадовался, как родным! – сказал он в заключение.
Оберст был зол, но при этом как-то излишне оптимистичен. Для него все было яснее ясного: есть война, на лицо неизбежные трудности, которые нужно и можно решать таким и таким способом.
В этом деле он был мастер и посвятил ему всю свою долгую жизнь. Войско вышло в поход – это главное, так рассуждал он. Нюансы, вроде голодных, замерзающих людей и невыплаченного жалования – очень досадны, но фатальной помехой не являются. Он же идет наравне со всеми, значит и все будут идти!
Объявили привал. Я вернулся к своим солдатам. Не успел проверить караулы киссельринговской роты и благословить в путь провиантскую команду Леопольда Гейнца, как прибежал вестовой от Бемельберга. Конрад вызывал к себе.
Гауптманы в количестве десяти человек сидели в промозглом шатре полковника. Я заявился последним.
Ох, и гадкий выдался путь сквозь понурый наш лагерь. Не лагерь даже, стоянку, каких-то мрачных, оборванных бродяг. Чадящие костры, грязь, запахи гнили. Ни шутки, ни песни, только угрюмые тихие разговоры и косые взгляды.
На латах и оружии основательный налёт ржи, которую никто не счищает. Пики и алебарды побросаны прямо на землю, вместо задорных, победительных оружейных пирамид, венчавших обычно место каждого десятка. Плесень на ножнах и перевязях. Драные башмаки и платья.
И никто ни черта не чинит.
Надо бы заставить своих по возвращении пройтись по снаряге, – подумал я. Хуже ничего нету, чем когда солдат так начинает относиться к своему «инструменту». Если в подобной манере продолжать, начнем костры растапливать древками от пик, а до Рима доберемся толпой попрошаек. То-то радости будет.
Грустные мысли о службе оборвал прибывший Конрад:
– Камрады! У нас дело! – сообщил он вместо приветствия. – Завтра будет штурм! – Ответом стал взволнованный гул:
– Какой, кого штурмовать?
– Наконец!
– Рассказывай!
– Дождались!
И прочее.
Бемельберг прошел на середину, пальцами поправил еле тлеющий фитилек в походном жестяном фонаре и раскатал на крышке сундучка карту.
– Вот, – его толстый, корявый палец ткнулся в некое место к северу от Ареццо. – Мы здесь. – Он прокашлялся, пригладил растрепанную бороду и принялся вещать:
– Мы сейчас здесь. Десять миль на юг стоит небольшой замок с очаровательным названием «Зибентодт». Он прикрывает городок с тем же очаровательным названием. Точно известно, что там засели паписты и готовятся сопротивляться. Георг намерен быстро взять замок приступом и войти в городок, ибо других укреплений не имеется. Замок и город – войску на прожитие. Все что найдем – наше. Вопросов нет? Хорошо. Значит выступаем завтра на рассвете. Для атаки нашему полку отводится следующая позиция…
Далее Конрад толково и доходчиво разъяснил маневр полка и обязанности каждого фанляйна, в своей обычной манере, разве что, больше обычно пересыпая речь бранными словечками. Был он заметно возбужден.
Это я понять мог, еще бы! После такого отвратительного похода нашлось хоть какое-то настоящее дело! Сулившее, кроме разминки, возможную добычу и возможную жратву. А если помечтать, то и добрую выпивку.
– Ну что, кровопийцы?! Покажем завтра, что такое настоящие семь смертей?![72]
Мы все одобрительно заверили, что еще как покажем и много кричали и хвастались. Все как обычно. И как же это было здорово, что все вновь делается «как обычно»!
В лагере сотворились суета и шум. Я не удивился и совсем не насторожился. Ведь приказ Фрундсберга к завтрашней атаке получили все, не только мы. Ничего необычного я не подумал, и когда услыхал размеренное буханье барабанов.
Даже когда в шатре показалось бледное лицо бемельбергова ординарца, который почти прокричал: «солдатские выборные требуют всех на общий круг! Фрундсберга требуют! Срочно!», я остался преступно благостен. Подумаешь, какая невидаль «солдатские выборные» и «общий круг»! Сходим, послушаем. Не в первый раз.
В лагере и следа не осталось от заторможенной созерцательности, что так меня раздражала по дороге к Бемельбергу. Солдаты собирались десятками и спешно шагали в темноту, где продолжал ухать барабан.
Мы покинули шатер и устремили стопы в том же направлении. Сумрак отступал. Тысячеглавое людское море все чаще вспыхивало огнями фонарей и простых факелов. Где-то вдали занимались высокие костры.
– Вот они, вот! – Послышалось откуда-то сбоку. К нам бежали трое.
– Конрад, Пауль, слава Создателю, нашёл! – Это Адам в сопровождении солдата из моего фанляйна. Солдат почему-то в кирасе и с алебардой. Адам тоже при параде.
– Что случилось, зачем ты с железками, что вообще происходит? – сердито спросил Конрад, хмуря брови, замедлив несколько шаг.
– Кажется допрыгался Георг. Бунт!
– Уверен?!
– Дак, пойди разбери! Только не ходите туда вот так, умоляю! Лучше вооружитесь, ведь, сохрани Бог, мало ли что! Я такого наслушался!
Конрад резко встал. Приосанился. Покрутил головой, отдирая воротник, словно тот его душил. Смачно харкнул под ноги. И чётко заговорил, будто командовал перед боем:
– Все к своим ротам, это раз. Строить людей и вооружаться, это два. Всех паникеров и бунтовщиков вязать и укладывать рядками, это три. Впрочем, можно просто в рыло. Смотрите по месту. Будут сопротивляться – нож под ребра. Роты должны быть готовы к бою. Пусть половина людей останется, но чтоб через четверть часа были построены. Это четыре. Если солдаты уже ушли, вооружайтесь сами и бегом на круг. Это пять. Адам, хватай всех наших, кого встретишь, и волоки туда. Сейчас будет жарко. Разойдись!
Мне даже полегчало.
Вот что значит вовремя получить четкую, недвусмысленную команду. Испугаться по-настоящему ваш скромный повествователь не успел, хотя стоило бы. О ландскнехстких бунтах я был наслышан, хотя ни разу не видел.
Фанляйн встретил своего командира в растрепанных чувствах. С полсотни молодых успели убежать на зов барабана. Ветераны и просто те, кто поопытнее, угрюмо поджидали развития событий.
– Петер, Лео, Адольф, ко мне, – бросил я на ходу. – Что происходит? Какие выборные? Мы слали каких-то выборных?
– Капитан, я говорил, это ретивые юноши из нового пополнения, их художества. Как только ты ушел на совет, с той стороны лагеря началась свистопляска. Кхе-кхе. Бегают, кричат, палят факелы. Потом Райсснер тебя высматривал, ну я его и отправил с провожатым.
– Спасибо, Петер. Все верно. Стройте людей. Вооружайте и ведите в порядке к месту сбора. Петер – за старшего. Я вперед побежал. – Всю это тираду я произнес, напяливая роскошный полудоспех – императорский подарок. Мне помогли опоясаться перевязью, рука привычно поймала рикасо[73] спадона, и я понесся.
О чём я только думал?!
Только бы успеть, – вот о чём.
Здравый вопрос, а что я один смогу поделать, моей души тогда не растревожил. Впрочем, как оказалось, вряд ли что-нибудь изменил бы и весь мой отряд, явившись в полном составе и с оружием. Иногда карты ложатся так, что ничего уже не поправить.
Я бегу, перескакивая через кострища и сваленные пожитки. Расталкиваю кого-то, мне уступают дорогу, признав по дорогим латам старшего офицера. Впереди нарастает гул, там почти светло от сотен огней. Горят костры, факелы, фонари.
Да какой там гул?!
Я различаю соблазнительные скандальные вопли. То и дело верх взлетают руки, часто в них зажато оружие. Все кричат и волнуются.
Вот и круг. Плотная стена спин. Разойдись. Разойдись, твою мать! Пусти. Пусти, сука! Вот так. Крики нарастают. Я почти дошел и могу разобрать слова. Чёрт, дерьмо кошачье! Лучше бы я их не слышал. Я прорываюсь вперед.
– …ля… деньги… не пойдем… сам штурмуй… какого!!!
– …жалование… вперед… аванс… без жратвы…
– …не пойдем… продал… жополиз!!!
– …сколько прикарманил… вор… украл… продал… тварь.…
– …в Альпах… будь ты проклят… в жопу… твою Италию…
– …сдохнуть тут… деньги вперед… сами возьмём!!!
– …сюды бы его самого… император… в говне… кровь проливать… задарма…
Я прошёл!
Толпа, волнующаяся, разозленная, толпа на грани, какая бы ни была, теперь она позади, лишь несколько спин отделяют меня от освещенного факелами круга, где Фрундсберг стоит перед дюжиной солдатских депутатов.
Он растрепан, но прям. На груди тускло сияет тяжелое золото, а пояс оттянут мечём. Судя по всему, Георг на пределе. Лицо красное, почти багровое, что в обрамлении зыбкого пламени факелов выглядит инфернально. Глаза выкачены. Челюсти сжаты так, что я, кажется, вот-вот услышу скрип зубов.
Депутация кучкуется в трех шагах от Георга, они не кричат даже, рычат, перебивая друг друга. Почти сплошь молодые, незнакомые лица. Очень злые лица.
Они больше ничего не просят и даже не требуют, догадался я внезапно. Они просто себя распаляют и накручивают, а для чего, так, ума большого, понятно для чего! О Боже, где же Конрад с людьми, что же делать!
– Значит так! Слушай, слушай меня! – Вперед выскакивает самый храбрый, а может быть самый безголовый.
Он в грязных штанах, стоптанных башмаках и кое-как заштопанном стеганом вамсе. Утиный нос его украшен шрамом.
– Слушай! Все слушайте, и ты тоже слушай! – Его палец тычется в направлении фрундсберговой бороды. – Ты, гад, нас сюда заманил обманом. Веры тебе нет! Ты – вор! Деньги честных кригскнехтов прикарманил. А теперь за спасибо пожалуйте на штурм! Вам могилки, а я на ваше жалование жировать буду! Так?! Или я не прав?! Так ведь это не я один про это догадался! Так ты, гнида старая, нас обманом извести задумал?! Что замолчал?! Отвечай!
Георг молчит с полминуты, а когда депутация начинает снова гудеть, говорит. Медленно растягивая слова и очень тихо.
– Теперь ты слушай. Я за честь ландскнехтов и за Фатерлянд бьюсь, и вас за собой. На свое золото привел. Завтра мы пойдем на штурм и сами возьмём своё в том городе. И дальше пойдем. Хоть до Рима, хоть до адовых ворот, пока я не скажу. А ты, падаль, еще раз на Фрундсберга пасть разинешь, языком подавишься. Всё ясно?
Георг страшен.
Я достаточно знаком с обрестом. Видел его в ярости. И кричал он, и табуретками кидался, и слюной на нас брызгал. Но такого как сейчас, я даже представить не мог. В сиплом дыхании, что с трудом пробивается морозным паром через сжатые зубы слышится дыхание смерти. Утиный нос натыкается на пики фрундсберговых глаз и невольно пятится назад к своим.
– Угрожаешь?! – визжит он, – мне, выборному?!
– Вы все всё слышали. А теперь, разойдись!!! – Фрундсберг присаживается и страшно ревет на весь лагерь. У него даже корни волос, кажется покраснели. – Р-р-разойдись!!!
– Выкуси! Денег не отдашь, так сами возьмём! Вор! – Утиный нос хватает у пояса меч. Вытащить его ему не суждено.
Несколько последних секунд я внимательно, не отрываясь, следил за его руками и как только ладонь падает на рукоять, мое тело начинает действовать само, совсем не сверяясь с мнением головы.
Я расшвыриваю стоящих на моем пути солдат. Два дюйма стали успевают показаться из ножен, когда свистит спадон, и утконосая голова повисает на ошметке кожи. Тело с перерубленной шеей стоит с полсекунды, а потом валится назад, обдавая фонтанирующей кровью депутацию.
– А-а-а-а-а-а-а!!!
Над поляной повисает крик. Взблескивают клинки. Выборные прыгают вперед, норовя достать то ли меня, то ли Фрундсберга.
Безумие. Смерть.
Я неуязвим в императорской броне. Спадон падает еще три раза, вырывая внутренности и кроша кости. Секунда-две и поляна замирает, замираю и я, прибрав окровавленный клинок назад вдоль правой ноги. Четыре тела распростерты в грязи, двое еще корчатся.
Прав я или нет, поздно рассуждать, но через меня живого до Георга они не доберутся.
Крики нарастают. Стройный людской круг ломается, поляну рассекает клин с Бемельбергом во главе. За его железной спиной виден Адам, старый Йос, Кабан Эрих и еще много наших. Пришли. Успели.
Я позволяю себе обернуться.
Георг медленно оседает на землю. Левая рука бессильно терзает высокий ворот фальтрока, а правая висит плетью.
Господи, как…
Думать я не успеваю, как и весь сегодняшний вечер. Двуручник я вонзаю в землю и подхватываю тяжеленноё тело оберста. Неужели ранен?! Крови не видно, но выглядит Георг совсем плохо.
Нас плотным кольцом окружают солдаты. Почти сплошь из ветеранов.
– Герр оберст, что случилось, вы ранены? Георг!
– Пу-усти, П-пауль, положи на наземь. – Фрундсберг шепчет еле слышно. Некоторые слова угадываются только по шевелению губ. Вокруг напирают наши, со всех уст рвется вопрос:
– Что?
– Что?!
– Ч т о?!
– Что?!
– ЧТО?!
– Отвоевался я, парни. Апоплексия, как у папаши. Мне конец, – отвечает Фрундсберг ровным голосом, совсем спокойно. Над нами склоняется Адам, за его плечом маячит перекошенная рожа Бемельберга.
– Георг, сейчас на носилки и к лекарю, вы ничего не знаете, откуда, кровь отворим…
– Заткнись, Адам. Слушайте последний приказ. Конрад. Собирай своих. Иди в Милан. Рим – не в этот раз. Не вышло у меня. Сброд – к черту. Пусть сами выбираются. Адам. Завещание. Ты знаешь где. Пауль, ты здесь еще? Вали из войска. Прямо сейчас вали. Быстро. Приказ. Или конец тебе. Конрад, Адам, проследить. Дай ему денег, у меня есть. Всё. Парни, мне что-то душно… душно…
Бегство через лагерь в окружении наших. Прямиком к коню. Запомнил я мерный топот ног и свистящий шепот Бемельберга над ухом:
– Хватай самое необходимое, пакуй латы в торок и давай галопом отсюда. Конь твой добрый – вынесет. Через четверть часа разберутся, кто именно выборных порубал, искать будут. Потом суд. Мы тебя не спасем, за такое положен топор. Можешь не сомневаться. Они требовали свое по праву, а ты их прямо на сходе поубивал. Теперь тебе надо как можно дальше оказаться. Куда? Куда угодно. Подальше. И дорогу в эти края забудь. Ты фигура приметная, здесь тебе не жить. Уноси ноги. Есть у меня в Любеке человечек. Он мне должен сильно, – он назвал имя, – езжай к нему. Любек далеко на севере, пересидишь. Ты, брат, тоже отвоевался. На ближайшее время уж точно.
В расположении фанляйна меня дожидались Адам и старый Йос.
– Наделал делов. Эх, молодежь…
– Как Георг?
– Отходит. Если до утра протянет – счастье.
– Пауль, держи денег, это от Фрундсберга последнее спасибо. Здесь в кошеле сто талеров, без мелочи. В Милане все твои сбережения получишь в отделении банка сеньора Датини, ты знаешь, вот держи записку с моей печаткой. И ради Бога, как только сможешь, переоденься! Ландскнехту в одиночку сейчас по Италии лучше не ходить. Как доберешься до тихих мест, чирикни письмо на мюнхенский дом Фрундсберга. Я там собираю всю корреспонденцию.
– Скачи, парень. Пора.
– Не поминай лихом.
– Прощай.
Мы все четверо как-то скомкано обнялись, пряча глаза. Говорить, кроме самых простых «пока-пока» ничего не хотелось, просто не лезло на язык.
Всякую возвышенную чушь, когда в самом деле надо, не дождешься. Она потом приходит, вымачивая глаза и разрывая душу. И прощаешься по сто двадцать раз с далекими лицами милых друзей ты уже в одиночестве. А пока они рядом эти лица, что сказать?
– До свидания, братцы! Может быть повоюем ещё. – Я пришпорил коня, выбив из земли грязь и дробный перестук.
Так я покинул армию.
Я пишу эти строки, спустя год с небольшим, сидя в далеком северном городе Любеке в собственном доме. За окном дождик и ночь. В камине огонь, в кабинете тепло.
Подумать только! В кабинете!
Я тысячу и один раз слышал, что из ландскнехтов путь один – вперед ногами. Стало быть мне повезло. Соскочил невредимый и с серьезным прибытком.
Благоразумный Адам хранил наши сбережения в надежном банке, так что я не мог разом все пропить или потерять. За четыре года скопилось приличное денежное пособие, тем более, там не только жалование хранилось, но и, чего греха таить, приличная добыча, обращенная в безликие, но такие звонкие талеры.
«Человечек», который был «сильно должен» оберсту Конраду Бемельбергу, оказался ни много, ни мало, бургомистром того самого Любека, куда я держал путь, рассчитывая разделить себя и свое прошлое максимальным количеством лиг и фарлонгов. Так что по одному слову мне было оказано всяческое содействие.
Да-да. Ваш скромный повествователь открыл собственную фехтовальную школу, как мечтал давным-давно под флорентийским кровом сеньора Тассо. Сдал экзамены на патент фехтмейстера представителям «Братства Святого Марка»[74] и открыл.
Теперь я живу в здоровенной трехэтажной домине с островерхой крышей и белыми штукатуренными стенами с косой реечной обивкой. Весной на окна забирается толстый зеленый плющ, который накрывает комнаты зеленой тенью в дырочку, ну вы понимаете.
В доме, кроме меня проживают двое слуг: старый хромоногий ландскнехт с супругой.
В маленькой теплой конюшне на заднем дворе квартирует асгорский конь, к которому регулярно водят местных кобыл жениться. Еще здесь обосновался вредный серый котяра, свихнувшийся на сметане. Он должен ловить мышей, но сметана занимает все его воображение.
Так что мыши у меня тоже есть, и не бедствуют.
К мышам я безразличен, а кота не люблю, потому что он постоянно жрёт и не даёт себя гладить. Зато он очень любит играть с моим верным конём, чем и зарабатывает индульгенцию за все прочие безобразия, ведь конь его просто обожает.
Первый этаж дома занимает огромный зал с паркетом, где я знакомлю молодых состоятельных охламонов с нелегкой наукой фехтования во всем пространстве. Если погода позволяет, а она позволяет часто, уроки перемещаются во двор. Состоятельных охламонов много, ибо город торговый и стоит на море.
Море! Оно совсем не похоже на мое родное, но все же жить на морском берегу для меня счастье.
Меня часто спрашивают различные заезжие специалисты, (у нас ведь как? Любой дурак, что отличает удар от укола – уже специалист), что за необычная школа фехтования у меня, имея в виду рисунок боя.
Что там необычного? Но отбрёхиваться надоело, и я теперь отвечаю сочным итальянским словосочетанием: «dolce still nuovo»[75], после чего занудные расспросы моментально сменяются уважительным покачиванием голов и разнообразными вариациями на тему «как-же-как-же-слышал-слышал». Слышали они, хе-х… сколопендры!
В кабинете, смежным со спальней, имеется дубовый стол, возле которого нашла пристанище тренога с моим прекрасным доспехом, что подарил сам император Карл V.
Он навевает воспоминания, так что продать рука не поднялась, хотя и сулили за него больше двух тысяч талеров. Над камином – еще один проверенный друг – точенный переточенный спадон с вытертой кожей на рукояти.
Мой «кошкодер» спрятан в сундук, а его место на поясе заняла длинная легкая шпага пассауской работы.
Кабинет страшно загажен моим любимым «творческим беспорядком», который повергает в шок Грету – служанку. Убираться и вытирать пыль здесь я не позволяю. Книги от пола до потолка, вперемешку с бумагами и свитками, что может быть прекраснее?
Если я не занят в зале, или не пачкаю бумагу своими занудливыми воспоминаниями, вроде этих, что сейчас видишь ты, мой верный читатель, я гуляю на морском берегу, а когда возвращаюсь назад, меня встречает тяжелая дверь и блестящая бронзой табличка: «гауптман Пауль Гульди, учитель фехтования».
Глава 10 Пауль Гульди превращается из достопримечательности города Любека в персону нон грата
Из отчета наблюдателя первой категории Э.А.
«…технологические сложности были решены.
Водяной молот, изобретенный и введенный в оборот в XIII столетии, разрешил главную проблему местного производства индивидуального защитного снаряжения: однородность исходного материала.
Пластины, обработанные ручной ковкой из кричного железа, отличались значительной дискретностью поверхности: большинство древних образцов, исследованных мною, имели разницу твердости поверхности на несколько условных единиц в пределах квадратного дециметра.
В результате, подавляющее большинство предметов защитного вооружения раньше формировалась из кольчужного полотна – не притязательно к качеству отдельных элементов защиты, или мелкопластинчатой конструкции, так же малотребовательной. Единственным элементом снаряжения, изготавливаемым из крупных пластин, был шлем – наиболее дорогостоящее изделие.
Изобретение водяного молота сделало ненужным трудоемкий и сложный труд молотобойца, который в подавляющем большинстве случаев, не мог обеспечить однородность распределения шлаков, или их удаления из состава заготавливаемой пластины.
Кроме того, механический молот сделал возможным заданное распределение толщин заготавливаемых пластин, гораздо быстрее и точнее, нежели это могли предоставить молотобойцы с их ручной обработкой…»
– Погодка – дрянь! Вымок весь, – сказал я, переступая порог дома. Голос, впрочем, веселый, совсем не соответствующий пасмурной хмари за окном. Меня встречает вечно недовольный слуга Ганс, который по своему обыкновению ворчит:
– Вымок он. Конечно вымокнешь, нечего шляться в такое время, когда добрые люди девятый сон смотрят.
– Брось, товарищ! Дело молодое! – Я скидываю плащ и широкую кожаную шляпу, с полей которой тут же обрушивается неслабый водопад.
– Э-э-э, полы попортишь, чёрт! Давай скорее сюда свою мокрень! – Ганс подскакивает и отбирает у меня одежду, кидает на локоть и ковыляет к лестнице, ведущей на второй этаж. Не поворачивая головы, Ганс мрачно скрипит:
– Башмаки сыми, не топай по полу, грязюку не развози. Сколько можно.
Оказавшись в комнате перед жарко натопленным камином, я быстро раздеваюсь до исподнего, заворачиваюсь в плед и плюхаюсь на скрипнувшее раскладное кресло. Подле меня появляется Грета с вкусно пахнущим подносом. Вкусно пахнет изрядный кусок свинины и высокий кубок с глинтвейном. То что надо.
– Пожалели бы себя, хозяин. – Мои слуги давно обращаются со мной, как с непутевым великовозрастным сынком, а вовсе не как с хозяином. Пользуются моей мягкотелостью. А мне наплевать, так даже удобнее.
– Грета, солнце моих дней, не пили хоть ты меня! Дело-то молодое! – Я кажется повторяюсь, но в голову ничего более убедительного не лезет. Грета неодобрительно меня разглядывает, ставя поднос на столик возле кресла, вытирает руки о фартук и заводит свою обычную шарманку:
– Пауль, какое там «молодое дело»! Посмотрите вы на себя. Вы же не мальчик уже. Тридцать три года, а ведете себя как шалопай. И ладно бы, так здоровье-то оно одно, его беречь надо. А от пивопийства у вас пузо сделалось. – Далее следует выученный дословно монолог моей совести: «я ж вас стройненьким пареньком помню, в кого вы превратились. У вас опять раны разболятся. Бросайте вы своих приятелей, от них никакого толку, одно пьянство сплошное. Сколько можно по девкам шляться? Жениться вам надо. Я вам невесту хорошую приглядела, работящая, порядочная.»
И так далее.
Как водится, старая опытная женщина говорит правильные вещи, но так занудно, что никаких практических выводов из её речей точно не последует, что тоже обычное дело.
Все-таки мы мужики иногда на редкость упертые и глупые существа.
А Грета, как обычно права. «Стройненький паренек», которого в далеком 1522 году наперегонки стремились запечатлеть лучшие флорентийские скульпторы, как-то незаметно превратился в мордатого верзилу с заметным брюшком и близорукими глазами.
Пузо – следствие спокойной размеренной жизни. Я регулярно упражняюсь в фехтовании и специальной физической подготовке, но былая стройность никак не возвращается. Возраст, мать его.
Кроме того, тельце мое, отведавшее голода и холода в бесконечном четырехлетнем походе, при малейшей возможности запасает жирок, чтобы был, так сказать, носимый запасец на черный день. Да и пиво в количествах труднопредставимых… н-да.
Близорукость – редкая в этих краях, от постоянного чтения или писания. При свечах и масляных светильниках это дело с непривычки можно заработать в два счета. Ну я и заработал.
Восемь мирных лет в торговом Любеке меня здорово преобразили. Впрочем, военная привычка регулярно уничтожать растительность на голове осталась при мне.
Фигура из вашего скромного повествователя вышла характерная. Настоящий наемник на покое.
О-о-от такая харя, бритая башка в шрамах, здоровенные изрубленные ручищи, брюхо над поясом, ломота в костях к смене погоды, а оттого отвратное настроение, и бездонный источник баек на все случаи жизни.
Картинка, хе-хе-хе.
Впрочем, я не жаловался. Хрестоматийный образ при моей нынешней профессии здорово помогал. Еще бы! Одно дело учиться фехтованию не пойми у кого, а другое дело у отставного капитана ландскнехтов! Получает очередной охламон такую рекомендацию и спешит ко мне. И встречает его лучше всяких ожиданий настоящий, понимаете ли, пёс войны. И всё. Клиент мой.
Соседи уважают и побаиваются опять таки. Сплошные преимущества.
Я менялся и мир менялся вокруг меня и вместе со мной. Или я с ним? Не важно.
Любезный друг Адам сообщил письмом, что Георг фон Фрундсберг после того, как заработал на нервной почве удар, прожил еще почти год. Научился ходить, говорить – могучий организм взял своё, а потом в один не очень прекрасный день лег спать и не проснулся. Мир его праху, великий был человек. Целая эпоха вместе с ним ушла, что и говорить.
Адам теперь обретался при его сыне Каспаре.
В 1527 году Шарль де Бурбон все-таки взял Рим.
Представляю, как там погуляли мои боевые товарищи. Даже жалко, что я пропустил все веселье. Была бы хорошая логическая точка в конце моей военной карьеры.
Хотя, как знать. Вот Бурбон, например, подвел точку не только под карьерой, но и под всей своей жизнью. Заработал пулю из аркебузы при штурме. Глупейшим образом погиб. А ведь это был великий полководец. Что уж обо мне говорить, я легко мог оказаться на его месте. И не вспомнил бы никто.
Адам написал, что упрямый остолоп Челлини оказался в Риме в самую горячую пору и полностью вкусил прелестей осады, штурма и последующих шалостей. Остался жив и здоров, и теперь всюду хвастает, что это именно он застрелил Бурбона. Ну и на здоровье.
Год спустя в Генуе «несравненный сеньор» Андреа Дориа поднял мятеж и выкинул ко всем чертям из города французских лизоблюдов. Поменял на лизоблюдов германских.
Дело кайзера в Италии крепло с каждым днем.
Кстати, Карл V стал императором де юре и все вздохнули с облегчением. Не тут то было. Он имел глупость выпустить на волю своего державного пленника, а именно, Франциска Валуа. Надо ли говорить, что последний моментально наплевал на все договоры и вновь принялся плести интриги и готовить новую войну.
Слава Богу, что я во всём этом больше не участвовал.
А в чем я участвовал?
А участвовал я в городской жизни. Врастал, так сказать.
Привык к неповторимым запахам. Обзавелся репутацией местной достопримечательности и кучей развеселых собутыльников, с которыми еженедельно напивался, чем вызывал потоки брюзжания от моих бдительных слуг.
Учил фехтовать богатеньких сынков. Учил фехтовать талантливых юношей, которые мне лично глянулись. Бесплатно, заметьте.
Попал два раза в уличные драки, так как по ночам улицы нашего городка были тем ещё местом. С тех пор с моим появлением любые драки тут же сворачивались. Репутация у меня была – оторви и брось.
Был очарован высокими сводами и органом кафедрального собора, который местные упрямые архитекторы строили да перестраивали с 1173 по 1341 год, впрочем получилось здорово.
Восхищался витражным многоцветием Мариенкирхе, чьи стекла отражали солнце четырнадцатого столетия. Часами простаивал перед алтарем несравненного Ханса Мемлинга в монастыре святой Анны.
Долго недоумевал о судьбе славянских автохтонов, от которых, с пришествием неуживчивых германских насельников остался только искаженный топоним – Любек[76].
В 1530 году незаметно для меня до города докатилось цунами Реформации, уже изрядно погулявшее по Германии. Личные впечатления от этого события уложились в проводы моего благодетеля – бургомистра, которого вышибли с треском деловые люди Юргена Вулленвевера[77] в 1531 году.
Репутация фехтовальщика удачно накладывалась на репутацию, как бы это поцензурнее выразиться… в общем женолюба. А точнее говоря, всему околотку известного блядуна. Мы с моим верным конём как будто соревновались, кто больше барышень осчастливит.
Ну то есть я осчастливливал барышень, а он – кобыл. Как-то так.
Очень было по началу трудно привыкнуть к небритым женским …э-э-э… подмышкам. И всё такое прочее, вы меня понимаете? Но я поборол себя. Сила воли, так её рас так. Гы-гы-гы.
Крыша над головой. Увесистый кошель на поясе. Жратва от пуза. Пьянка раз в неделю. Разврат по состоянию здоровья, то есть, очень часто. Мечта солдата, а не жизнь. Даже писать не интересно.
Про хорошее вообще писать скучно, да и читать.
Я уж обрадовался, что книжка моя закончена. Замечательная была бы концовка, помните предыдущую главу? «…а когда возвращаюсь назад, меня встречает тяжелая дверь и блестящая бронзой табличка: „гауптман Пауль Гульди, учитель фехтования“».
Хорошая концовка, да вот не вышло. Как легко догадаться, раз пера я не отложил и осмелился занять твое внимание, мой любезный читатель, новой главою, сытая жизнь жирного пополана внезапно закончилась.
Настигли меня новые беды, о которых я и собрался поведать.
Вот, мля, не книга выходит, а сплошное нытье. Поймите меня верно, я не такой зануда, как, например, Пьер Абеляр с его «Историей моих бедствий». Гы-гы-гы, Абеляр меня был куда как умнее, это раз, ну а два, если вы «историю бедствий» читали, то знаете, какая неприятность его постигла, и какая меня минула, слава Богу.
Не знаю отчего так выходит. Пишется в основном про всякие гадости, и как я из них выворачивался. Не хозяин я своему перу, не обессудьте. Одно дело, научная работа, которой вашего покорного слугу специально учили. А художественный текст в неумелых моих руках с определенного момента начинает жить своей жизнью, что может быть и неплохо.
За четыре года войны моя задница сделалась очень чуткой к ветрам перемен. Это очень важно для солдата, заранее чувствовать, когда все, что вокруг имеет место быть, собирается поменять вектор своего существования. На войне, как правило, этот вектор всегда норовит забраться черту под хвост.
Чтобы туда не загреметь, или загреметь с наименьшими потерями, лучше заранее почуять, откуда задувает тот самый «ветер перемен».
Я очень здорово научился распознавать тектонические смещения моей судьбы, но вот незадача, никогда не мог понять, что именно следует делать и предпринимать в связи с этим. Так выходило, что жизнь лупила меня не грубо и внезапно, а вежливо предупреждая: «милейший, вас сейчас хлопнут, например, лопатой, скажем, в подрыльник, попрошу не дергаться».
И на том спасибо.
Механизм предощущения для меня полностью загадочен. А проявляется он всегда одинаково. Просыпаешься утром, оглядываешься из под одеяла, и понимаешь, что всё. Доигрались. Можно не суетиться и попробовать получить удовольствие. Скоро привычный уклад поменяется. Не знаю как, но будем надеяться на лучшее, хотя понятно, что ничего хорошего нас обычно не ждет.
Вот так где-то.
В данном конкретном случае ветер перемен дохнул на меня из-за надломленного сургуча, которым запечатано было письмо Адама Райсснера. Пол года я этого письма ждал, а потом дождался. И ничего особенного там не было написано, но отчего-то я остро почувствовал, что все меняется.
Какая связь между «дорогой друг, с радостью получил твое предыдущее письмо» и так далее и ощущением изменения? Не знаю. Но это была первая весточка с той стороны. Ну вы понимаете, что я имею ввиду. С той стороны. Из-за грани теней, где можно пройти сквозь горизонт и запросто укусить свой локоть.
Послушав первый звоночек, я в своей обычной манере, ничего не предпринял. Просто насторожил нос и стал принюхиваться.
Второй звоночек не заставил себя ждать. Когда вокруг неожиданно появляются знакомые из прошлой жизни, это настораживает, если даже знакомые вполне дружелюбны и приятны в обхождении.
Ваш скромный рассказчик мирно прогуливался по рынку. Без особой цели, просто у нас, коренных насельников городской черты, рынок – нечто наподобие клуба, наряду с церковью. Принято регулярно туда заглядывать. И новостями можно разжиться и прикупить что-либо полезное.
Ну а мне сам Бог велел. Я же наблюдатель… а где лучше всего наблюдать в торговом городе, да еще в городе морском? В порту и на рынке!
Если бы я только знал, каков коэффициент полезного действия, применительно к моей основной профессии кроется в торговле! Я бы точно послал Конрада Бемельберга и всю нашу любимую армию к дьяволу и пошел бы в купцы. Всегда в центре событий, а риска и опасностей в десятки раз меньше.
Словом, вчера я видел, как разгружают в порту трех голландцев. Не трудно догадаться, что уже утром содержимое трюмов окажется на прилавках. А что такое голландцы? Это, во-первых, отменные ткани, во-вторых, отличные предметы быта, наподобие светильников и замков, а в-третьих, ворох новостей с запада. От Англии до Франции.
Купцы всегда всё знают, такая уж у них работа. Купец ведь торгаш-спекулянт только во вторую очередь. В первую – универсальный межкультурный коммуникатор.
Особенность примитивных обществ.
Так о чем это я? Ах ну да. Прогуливался я по рынку, кормил глаза и уши. Купил по случаю отрез красного бархата, так как мой гардероб требовал срочного обновления, а я сохранил устойчивую привязанность к ярким тряпкам.
Настало время, как следует прополоскать уши в чужих разговорах.
Для максимально эффективного «полоскания» был приобретен кулек засахаренных орешков и кружка красного вина с гвоздикой и корицей. Вино было горячее, чтобы не остывало, кружка была снабжена крышечкой, которой я и хлопал регулярно, слушая сплетни.
– …Я точно говорю, железо.
– И что железо?
– А ты слушай внимательнее, француз купил железа по пятнадцать гульденов за пуд. Куда такое железо можно поставить? А на пушки, иначе зачем ему семьсот шестьдесят пудов?
– Ну-у-у!?
– Вот тебе и ну.
– Специи подорожают.
– Не всякие. Ты с чего взял?
– А в Тунисе власть захватил проклятый рыжебородый пират, турецкий паша, Хайраддин Барбаросса.
– Стало быть война?
– Знамения плохие. Оно понятно, что это всё чушь свинячья, только народ верит. Паникует. А если люди нервничают, то начинают скупать все подряд.
– Какие знамения? А ты не ленись на звезды смотреть. Сразу видать сухопутную крысу. Я как в море выйду, так всегда эту звезду вижу. Каждое утро прямо перед рассветом через небосклон ползет. Что ты говоришь, какая Венера! Венера с другой стороны выходит…
– А то как же. И вот что я себе думаю. Торчат оттуда ушки Валуа. Так что следующий год на Средиземном море будет неспокойно. Из Африки специй не будет, из Туниса уж точно, да и корабль провести будет не так просто.
– Ну мне на руку, я запас имею. А Валуа тут причем?
– Он с турками снюхался точно говорю…
– …Отбили у турок. Двадцать стволов в трюме. Все клейменые тремя лилиями.
– Ну?!
– Не просто французские, а с королевского арсенала, во как! Думать надо!
– Говорю тебе, езжай на Готланд, покупай шведское железо, оно нынче недорого, и вези в Гавр! Три цены возьмешь!
– С тебя причитается.
– А специи на годик-то придержи.
– …Скупили в Антверпене все мушкеты. Кто? А испанцы какие-то, я их не знаю.
– Я оружием не торгую, ты ж со мной не первый год знаком.
– Так железо, железо поставить можно! Пока можно.
– Да отвяжись ты, я сукно вожу. Су-у-укно, понимаешь?
– Англичанин точит зуб на француза. Опять.
– Видали уже. Поточит и перестанет. Не будет он воевать.
– Не будет, а шерсть возить лягушатникам запретит за милую душу. Они ж там на острове, как на ладони, не спрячешься…
– Стало быть сейчас, пока не поздно накупить шерсти, а на будущий год задвинуть её во Франции!
– А сукном сейчас же затариться в Голландии, после выкрутасов англичанина, оно ой как вздорожает.
– Мне плевать. Как пушной рухлядью торговал так и дальше буду… из Нойенбург… Ноффгоротт, яволь! И дед торговал и прадед и никогда в накладе не оставались.
– Да иди ты со своим воском! Железо, понимаешь! Железо! Война требует железа, а тут мы с тобой р-р-раз…
– А кто это там сидит?
– Где?
– Да вон в павлиньем наряде. Спина с пол шкафа. И тридцать три пера в шляпе.
– Так это Пауль Гульди. Местный фехтмейстер. Отставной ландскнехт. Гауптман, а может и не гауптман, пойди их разбери.
– Чёрт, врешь, не может быть! Гауптман Гульди?!
– С чего мне врать. Не веришь – подойди да спроси. Только спрашивай вежливо. Этот все ребра пересчитает и бровью не поведет.
– Да я не тебе не верю! Я своим глазам не верю! И правда, Гульди, только закабанел совсем. Я же служил с ним! Вот это встреча!
Я не сразу понял, что это именно моя персона так живо обсуждается. Куда больше меня занимали французские пушки в турецком трюме и цены на железо. А тут на тебе. Далекие от церемонных объятия. Звучные хлопки промеж лопаток. Сколько лет, сколько зим. Поверить не могу, Пауль, это точно ты? И снова объятия.
Тут до меня дошло:
– Жа-а-ан?! Артевельде?! Лейтенант?! – тут уж я в свою очередь отбросил церемонии и сгреб обеими руками призрак из далекого прошлого. Это же именно его я вытащил из нехорошей передряги в свое время, а потом мы вместе дошагали до Павии, где его мушкетеры отменно пособили огнём. Как такое забудешь?
– Я, герр гауптман!
– Отставить герр гауптмана! Пойдем, посидим, перекусим, я на тебя хоть погляжу. Это ж сколько лет не виделись…
– И не говори. Я гадал, жив ли ты. После того похода на Рим ты пропал куда-то и никто ни слухом, ни духом.
Дальше мы обошли все пристойные кабаки в Любеке, начиная от рыночной площади, а потом осели у меня дома.
– Я теперь деловой человек, – рассказывал Жан, – мушкеты – мой хлеб! Я ж по долгу службы разбираюсь… Ранили меня, друг Пауль. Думал конец. Всю требуху пулей перевернуло. Приехал домой помирать. Ан нет. Выжил. Кираса спасла. Но с войной сам понимаешь, пришлось завязать… Вот теперь использую старые навыки, торгую мушкетами, аркебузами, замками, стволами, ложами, в общем, всем что положено. И боевыми и охотничьими. В Антверпене хорошие мастера. Они работают, я продаю. Боевые мушкеты покупает император. Сотнями. А охотничьи ружья – все подряд. Что в Любеке забыл? Да уж тут у вас мне не развернуться. А не знаю. Что-то как кололо. Взял груз ружей и двинул сюда, не зря, как оказалось. А ты все фехтуешь? И правильно, у тебя всегда это здорово получалось. Помню, молодняк со всего лагеря сбегался поглядеть, как ты на плацу чучела двуручником кромсал. Эх было же время… А тебя-то в Любек как занесло?
Я подкинул дров в камин, налил вина, пригубил, уселся в кресло. Помолчал. Мысли сильно разбегались. Были мы уже не вполне трезвы.
– Как оказался? Да сбежал!
– Ты?! От кого?
– От жизни, Жан, от жизни.
– Ну, не хочешь говорить, так и не надо. Я тебя все равно страшно рад видеть.
– Да никакого секрета… Тебя же не было тогда с нами? Когда мы на Рим ходили?
– Не было.
– Но про бунт ты слышал, я уверен. Как тогда у Георга все неудачно сложилось?
– Кто же про это не слышал? Все слышали.
– Вот. Я тогда… когда вся эта каша заварилась… на полковом кругу… словом, зарубил я четырех человек. Солдатских выборных.
– Ничего себе! Так это твоя работа?! Даже до меня слухи дошли.
– Видишь ли. Мне показалось, что они Фрундсберга прямо там убить собираются. А может и правда собирались… А может быть и нет. Не важно. Когда один меч хватанул, меня как подбросило. Пошел рубать на все четыре стороны. Я в латах был. Да вот в этих самых. А они в цивильном. Ну и порешил всех до кого дотянулся. А Георга все одно не спас.
– Да-а-а… судьба видно.
– Ну давай за Георга. Выпьем.
– Давай. Какой человек был! Великан.
Мы опрокинули кубки. И наполнили их снова. И еще не один раз. Потом мы сидели обнявшись и горланили песни. Потом я извлек бутыль руссийского «зелена вина», до которого был так охоч Фрундсберг и всплакнул. Жан тоже всплакнул, и мы её употребили по изначальному назначению, как лекарство от кручины.
Как всякое лекарство, spiritum vini требует тщательной дозировки, а мы злоупотребили. И не слабо.
Не успели мы допеть нашу любимую песню про берет, причем, для лучшей слышимости, исполнение происходило на улице, как появился наряд городской стражи в количестве трех человек и призвал нас к порядку. Попытался.
– Э-э-эй! – заревел я, держась рукой за стену, так как меня штормило с замечательной силой, – это мой брат боец! Мы восемь лет не виделись.
– Тише. Меня это не волнует. И почему это должно волновать жителей всей улицы?
– Ты что, миляга? Пока вы тут ряшку наедали, мы с Жаном пол Италии кровью окропили! За вас, падлы гражданские! По колени в дерьме маршировали. По яйца! В кровище! Ты понял? По яйца в крови! Годами!
– Люди спят…
– Люди за нас не рады? Я сейчас обрадую. Развеселю. Па-а-адразделение! Па-а-адъём! Па-а-а-адъём, сколопендры анальные! Па-а-а-адъём! Угощаю всех! Жан, мы угощаем? Угощаем всех!
– Я бы попросил успокоиться, или я буду вынужден…
– Чего?! Чего ты будешь вынужден?! Козёл! – это Жан голос подал. Заскучал в стороне от основной канвы беседы.
И понеслась.
Свист деревянной колотушки у виска. Кулак в челюсть. Ботинок в пах. Резкая боль в затылке, кровь. Жан впечатывает локоть в скулу второго блюстителя тишины. Галоп по кривым улочкам. Купание в канаве. Бегство дворами к дому. Тяжёлое забвение.
Слава Богу, что никто шпаг не догадался достать, успел подумать я, проваливаясь в омут зыбкого сна.
Нас так и не нашли, это хорошо. По темному времени суток меня, видимо, не узнали. А то бы штраф, да такой…
– Господи, какой серый мир вокруг, – сказал я, когда вновь обрел способность разговаривать. Это счастливое время наступило ближе к полудню. Жан сидел рядом, за столом, уронив тяжелую голову на руки. Он с трудом оглянулся:
– Да-а-а… серый. Никогда не замечал…
– Давай его раскрасим?
– Давай. Я хочу больше зелёного.
И мы раскрасили. Раскрашивали мы ещё трое суток.
Всё хорошее заканчивается. Жану пришло время отчаливать.
Слава Богу.
– Брат, это был самый мощный запой в моей жизни, – молвил Жан на прощание, поднявшись до света. Корабль ждать не стал бы.
Мы крепко обнялись. В теле не было ни одной косточки, сухожилия или мышцы, которая не болела бы и не противилась очередной порции насилия. Последствия драки с ночной стражей, борьбы в кабаке и прочих жестоких и неразумных развлечений.
– Ты приезжай ко мне в Антверпен. Познакомлю с семьей. Погостишь. А то бросай здесь все и давай к нам! Что тут за возможности у тебя? Это ж деревня! С твоим мастерством у нас столько денег загрести можно! Отбоя от учеников не будет. Приезжай, брат.
– Я подумаю. А в гости – жди в любом случае.
– Ну, тогда до свидания, что ли? Ты помнишь: улица Стрелков. Дом Артевельде тебе любой покажет. – Мы ещё раз пожали руки. Жан, с прищуром посмотрел на темное утреннее небо: – Рановато для падающих звезд. Интересно, это к добру или к худу?
– Какое там. Звездопад к августу начинается.
– А ты глянь! Во-о-он. – Он указал пальцем в небосвод, левой рукой задумчиво поглаживая ус. – Хотя это не звезда. Скорее комета. Ползёт с запада на восток, хотя должна бы наоборот. И хвост имеется.
– И правда, – вынужден был признать я. – Близорукий стал, брат, за книжками своими. Ни черта не вижу, пока носом не ткнешь.
Жан махнул на прощание и бодро зашагал по направлению к порту.
Скажите, что нормальный человек углядит здесь тревожного? Какое дурное предзнаменование может заключаться в визите старого полкового товарища? Пусть даже неожиданном? Пока меня не отпускали демоны похмелья у тревоги были вполне ясные, биохимические оправдания. Всем ведь известно, что пьяница даже спит чутко и тревожно. Но потом?
Тревога не отпускала. Я, казалось, слышал, завывания ветра судьбы в трубе моего дома, который вдруг перестал быть надежной гаванью. Шторм вот-вот разразится. Кого ураганом только согнет, а кто сломается? Один Бог знает.
Дела шли своим чередом. Ученики, приятели, книги, писанина, снова книги, опять ученики. Немного личной жизни и все по новой.
Третий звоночек прозвенел, когда я занимался наставлением очередного молодого охламона. Не знаю, почему я решил классифицировать ничего не значащее событие именно так, но это произошло помимо моей воли. Судите сами.
– Раз-два-три. Парад ин кварта, ин секунда с шагом по дуге налево, показ укола ин кварта, перевод в терцию, выпад. Замечательно.
Юноша, старательно пыхтя, топотал в круге, вычерченном на полу и тыкал меня, затянутого в стеганные «тренерские» доспехи тупой шпагой. Позади были изнурительные часы разминки и поднимания каменных гирь.
– Раз-два-три. Кварта, секунда, выпад. Нет-нет, плохо. Выпад я сказал. Сперва посылаем шпагу, а потом толкаемся левой ногой. Не загребаем правой, а толкаемся левой.
Пробуем. Вот так лучше. Точнее укол. Метим в локтевой сгиб или подмышку. Раз-два-три. Усложним. Я в произвольном порядке парирую выпад и провожу рипост[78] в голову.
Так. Раз-два-три. Раз-два-три. Плохо. Удар в голову. Ты сделал выпад, не получилось, так?
– Так.
– Я парировал укол высокой примой, отсюда логически я куда буду атаковать? В голову сверху. Значит выход из атаки с какой защитой?
– Святого Георгия?
– Что? – я искренне не понял. Никогда не мог выучить всех этих красочных эпитетов, которые в разных школах присваивали простым фехтовальным эволюциям. Волюнтаризм и издевательство над основами логики, вот что это такое.
– Защита Святого Георгия. Мэтр Жюст так называет верхний отбив.
– Юноша, вы меня в гроб вгоните. – Я опускаю шпагу и начинаю прохаживаться, поучая: – Какая разница, как называет защиту мэтр Жюст. Мэтр Либери в своей книжке называет то же самое действие «женской защитой». Это позерство и рисовка. Все действия в фехтовании, пойми, абсолютно все, производятся посредством двух ног, двух рук и клинка, относительно положения тела в пространстве. Так? Значит все без исключения действия можно точно и непротиворечиво классифицировать.
– А зачем?
– А затем, что это дисциплинирует голову, это самое главное, а во-вторых, сильно облегчает процесс воспитания молодого фехтовальщика. Чем запоминать все эти «Сен Жорж парад», гораздо проще посмотреть на положение клинка в фехтовальном секторе относительно расположения кисти. Если шпага в верхнем, пятом секторе, а клинок расположен параллельно земле от правого плеча острием к левому, значит это классический вариант пятой защиты, так? Стало быть парад ин квинта. И никакой «защиты Георгия», какого-то…
И тут я осекся. По улице шла компания, судя по звукам, изрядно подгулявшая. И они пели песню, от содержания которой у меня внутри что-то перевернулось.
Wir zogen in das Feld, Wir zogen in das Feld. Do hatt' wir weder e Sackl noch Geld. Strampe de mi A la mi presente Al vostra signori. Wir kam'n fur Sibentod Wir kam'n fur Sibentod, Do hatt' wir weder Wein noch Brot. Strampe de mi A la mi presente Al vostra signori. Wir kamen fur Friaul Wir kamen fur Friaul, Do hatt' wir allesamt voll Maul. Strampe de mi A la mi presente Al vostra signori. Wir kam'n fur Benevent Wir kam'n fur Benevent, Do Hatt'n wir uns die Hand verbrennt. Strampede mi A la mi presente Al vostra signori. Wir kam'n fur Triest Wir kam'n fur Triest, Do hatt'n wir allesamt die Pest. Strampe de mi A la mi presente Al vostra signori. Wir kamen auch fur Rom Wir kamen auch fur Rom, Do schossen wir den Papst vom Thron. Strampe de mi A la mi presente Al vostra signori. В поход раз вышли мы, В поход раз вышли мы, И ни гроша на дне мошны! Strampede mi A la mi presente Al vostra signori Был Зибентод давно, Был Зибентод давно, Там у нас кончились хлеб и вино! Strampede mi… Во Фриуль путь ведёт, Во Фриуль путь ведёт, А голод волком брюхо рвёт! Strampede mi… Триеста видны дома, Триеста видны дома, А в лагере у нас Чума! Strampede mi Мы в Беневент пришли, Мы в Беневент пришли, Конец всем бедам там нашли! Strampede mi… И вот пришли мы в Рим! И вот пришли мы в Рим, Там папский трон мы разорим! Strampede mi…Разорили, стало быть, Папский трон. А до этого пришли к местечку Зибентодт, где кончилось у них и вино и хлеб. Я стоял как вкопанный и молча шевеля губами повторял строфу про «семь смертей». Из задумчивости меня вывел голос ученика:
– Мэтр, что с вами? На вас лица нету. Вам нехорошо?
– Ничего страшного, юноша, – очнулся я и помотал головой, отгоняя наваждение, – ничего страшного. Так… тени прошлого.
– Вы как будто призрак увидели. – паренек вовсю пользовался предоставленной передышкой и разминал затекшие в стойке ноги.
– Определенно. Призрак. В какой-то мере. – И тут в голове прозвонил еще один звоночек. Сегодня ночью ровно восемь лет с того памятного полкового круга, где я знатно отличился. Н-да.
Однако терять лицо перед учеником нельзя. Разнесет потом, что несокрушимый Гульди бледнеет, как девица на выданье.
– Молодой человек, я разрешал вам выйти из стойки? Ангар! Фехтовальным шагом к мишени марш. Низкую стойку принять. Бедра параллельно полу. Я сказал параллельно. Очень хорошо. Сто выпадов с уколом в терцию. Выполнять. Когда закончишь, сменишь стойку на левостороннюю и сделаешь еще сто выпадов. И раз, и два, и три…
Завершив на сегодня с учениками я сел на крыльце и принялся самозакапываться в глубинах сознания. Что происходит? Песенка, конечно, напрямую меня касается, но отчего же мне вдруг сделалось так хреново? То есть почему понятно, непонятно отчего настолько хреново.
Я смотрел, как мимо меня ходили люди и думал.
Напряженное это занятие, доложу я вам.
Я давно подметил, что многие, даже очень серьезные действия, совершаются инстинктивно, по привычке, почти без участия головы. Даже научные изыскания, или писание моих несчастных отчетов.
Сперва, конечно, новое занятие требует предельного внимания и использования всех наличных ресурсов ума и интеллекта. А потом процесс незаметно переходит в сферу гуморальных реакций.
Да-да, и наука тоже.
И вот теперь мне предстояло осознать, что именно меня гложет. Такой мощности ощущения оставлять без внимания глупо, вот я и решил потратить немного серого вещества, чтобы понять себя и решиться на некие конкретные действия.
Первое, что пришло на ум – сексуальная неудовлетворенность. Регулярный оргазм с участием женщины, без всяких там сольных эрзац номеров, в моем организме напрямую связан с душевным равновесием и способностью мыслить трезво. Это факт.
Сие соблазнительное и понятное объяснение пришлось сходу отринуть. К сожалению, а как было бы чудно. И главное, способ решения проблемы налицо. Но нет. Гложет меня непознанное нечто уже два месяца. А я за это время воздержанностью не грешил… отпадает.
Второе – весенняя депрессия. Тоже мимо. Никогда не был подвержен депрессии. Ведь что такое депрессия? Угнетенное состояние духа, типа как с похмелья, но только по трезвому делу. Похмельный синдром я переживал не раз и не два, и точно знал как оно бывает. Не так.
Фрустрация. Она самая. Когда жмет башмак, не будешь думать, что плащ отменно теплый, а вамс сшит точно по фигуре. Будешь думать именно о проклятом башмаке. Ну что же, симптом несчастья определён, осталось найти причину.
Когда я вплотную подобрался к третьему, самому паршивому объяснению из сферы иррационального, меня отвлекли, да как!
Нательная серебряная иконка с образом архангела Михаила принялась заметно вибрировать и сильно нагрелась. Надо ли говорить, что серебряной иконка была только с виду, да и вообще, предметом культового назначения данный объект являлся только формально. Его наполнение составляли несколько кристаллов, далеко выходивших за рамки понимания местной науки и техники.
Это был передатчик.
И теперь этот передатчик настоятельно вопил, что через четверть часа состоится сеанс связи с родиной, так что мне надлежит срочно убраться с глаз людских, уединиться и надежно изолировать себя от окружающих.
Очень вовремя, только вас, господа, мне и не хватало для полного счастья. В чём дело?!
Я в скором порядке прекратил думать на абстрактные темы, взбежал на второй этаж, запер кабинет, перешёл в спальню, запер и её. Теперь меня точно не услышат, если я не буду орать в голос. Я проверял.
Далее окна. Ставни на затвор. Очень хорошо. Теперь меня еще и не видно. Сидим, ждем. Цепочка с иконкой выпростана поверх вамса, связь обещает быть чистой.
Конечно, маленькая штучка на груди не могла быть самостоятельным приемопередатчиком. Это был не более чем терминал, подключенный по СВЧ каналу к могучему пятидесятитонному ретранслятору сверхсветовой связи. Последний был упрятан в Швеции и замаскирован под древний курган.
Не завидую тому слишком жадному расхитителю могил, что покусится на покой старой гробницы. Уверен, что его ждут неприятные сюрпризы. Скорее всего, никто наглеца больше не увидит – охранные киберы шутить не умеют.
Архангел вновь нагрелся. Вспыхнул конический сноп света, вылепивший в сумраке фигуру Хаэльгмунда, моего непосредственного куратора.
Сколько лет мы не виделись? Такое внимание! С чего бы?
Я собирался переправить очередной отчет, получить отзыв по поводу прошлой работы и рекомендации к дальнейшим действиям. Максимум надиктованное стерео послание. А тут визуальный контакт! Не ожидал.
– Здравствуй, Этиль. Хорошо выглядишь. – Фигура качнула головой и подняла к плечу раскрытую правую ладонь в выверенном ритуальном приветствии старшего. Я возвратил куда более глубокий поклон и тоже вскинул руку.
– Добрый вечер, ваше сиятельство. Давно не виделись. Я уже начал забывать это имя. Этиль.
– Да ты одичал совсем в своей глуши! Ты чего меня «сиятельством» ругаешь? Я же герцог, значит я – светлость! – Хаэльгмунд сощурился, а потом заразительно расхохотался. – Не бери в голову, ты же знаешь, что меня глубоко безразлична придворная суета. Рассказывай, как ты там жив здоров?
– Отменно, ваше высочество. Как здесь говорят, «вашими молитвами». – Я намеренно выделил голосом «высочество», хотелось вернуть герцогу его колкость с «сиятельством».
– Все-таки обиделся. Неужто не приятно услышать родную речь и поглядеть на знакомую физиономию? Ведь мы не виделись уже двенадцать лет. Вдумайся, Этиль. Двенадцать! Цифра ничего не напоминает? Командировка подходит к концу! А, какова новость? Не стоит того, чтобы простить старика? – Вот это да. Я и правда, одичал. Двенадцать лет моего изгнания. Кончились. А я и думать забыл, как это ни странно. Умеет герцог ошарашить. Умеет. Ну еще бы, такой опыт!
– Герцог, я даже не знаю, что сказать. Спасибо… я… тронут таким вниманием. Уведомление можно ведь было и текстом прислать, а тут вы лично… Кстати, как поживает наш общий знакомый эрл Хоган?
– Вот другое дело. Узнаю Этиля. Собран, ядовит, всегда готов. Ха-ха-ха. Насчёт эрла не беспокойся. По совокупности трудов обучение в Академии тебе зачтено заочно. Твои отчеты оценены на самом высоком уровне. Понимаешь? На самом. Хогану туда не дотянуться. Ты теперь ценный кадр, за тебя уже драка. Предлагают место на кафедре в Академии. А еще НИИ Истории Гуманоидных Миров предлагает преподавательское место. С другой стороны подключились вояки. Департамент внешней разведки. Отдел стратегического планирования, каково? Так что по поводу фамильной мстительности Хогана можешь не беспокоится, для тебя теперь это не критично. Подумай. Двадцать четыре отчета. Одиннадцать опубликованы в виде статей, а еще четыре засекречены и распространяются только среди военных чинов. Все десять статей, что ты присылал вместе с отчетами опубликованы в академической печати. Как только прилетишь, тебя рекомендуют на монографию. Она же пойдет как диссертация. Блестящее использование отпущенного времени. Колоссально. Поздравляю.
Я признаться обалдел от обилия информации. Да еще такой.
Мою писанину кто-то читал, оказывается. Да не просто читал… Диссертация, монография… Господи, да я и слова такие уже забыл. Кому нужна, скажите на милость, в Любеке диссертация? А вот в Суле нужна… «Блестящее использование отпущенного времени. Колоссально. Поздравляю.»
И это кто сказал, Хаэльгмунд, от которого похвалы не допросишься. На моей памяти герцог никого никогда не хвалил. Может за двенадцать лет он сильно изменился? Ой, сомневаюсь.
Сомневался я не зря.
– Видишь ли, Этиль. Все хорошо, но с твоей эвакуацией возникла заминка. Нет-нет, не подумай, все в полном порядке, только тебе нужен сменщик, ведь так? Да еще такой, чтобы поддержать на должном уровне качество работы… в заданном тобой высоком ключе! Не уронить, так сказать, новую планку отечественной полевой науки! Практические исследования, как критерий истинности теоретических разработок нуждаются в высочайшем качестве наблюдений и первичного анализа информации! Эталон, выставленный за время твоей ссылк… командировки, заставляет нас… – я не выдержал и прервал велеречивые излияния герцога.
Нет, он все-таки не изменился. В такой манере он мог вещать часами.
И похвалил не просто так.
Если Хаэльгмунд сначала похвалил – жди беды. Опытный оратор тут же понял, что его славословия пропали втуне и заткнулся. Посмотрел на мою кислую рожу выжидательно.
Не дождался.
Сделал приглашающий жест, что же ты, мол, уточни, разрешаю. Сколько же необходимо тренироваться, чтобы вот так не моргнув глазом иметь человека во все щели, а потом одним движением кисти сообщить, что он еще что-то остался должен!
– Меня интересует практический вывод.
– Ага. Вывод очень простой. Смену тебе только что нашли. Год на подготовку, адаптацию, потом перелёт… не ближний свет, сам знаешь. Словом, твоя эвакуация назначена на …э-э-э… июнь-июль 1535 года, по земной хронологической шкале.
– А сейчас март 1534. Еще полтора года.
– Прости, Этиль. Обстоятельства. Если хочешь, можешь продолжать писать отчёты. Сверхурочный год оплачивается в тройном размере.
Мне хотелось сказать по солдатской привычке, чтобы свою тройную оплату герцог со присные запихали себе в жопу, но вовремя одумался и не стал хамить своему начальству. Тем более, что опытное начальство всё прочитало на моем лице. Уж очень оно сделалось выразительное.
– Этиль, мой мальчик, раньше мы тебя физически не сможем забрать. Потерпи год, это не много. Тем более, что ты вроде как обжился. Потолстел, разрумянился. Как только выйдет корабль со сменой, мы тут же тебя заберем. А пока в ваших краях ни одной лоханки не болтается.
Занятная это штука скрытые воспоминания. Я вдруг разом понял, что мне так не нравилось все эти дни. Понятно, что я забыл об истечении срока командировки, но это не всё. Моё сознание тщетно пыталось до меня достучаться, и вот теперь достучалось. От злости, видимо.
Болтовня моряков в порту. Разговорчики купцов на рыночной площади. Похмельный Жан, высматривающий комету на утреннем небосклоне. Мои собственные наблюдения. Это что же получается, друзья, господа, товарищи?! За кого меня принимают?! Нельзя же взрослому человеку вот так нагло врать, я же не совсем малохольный в конце концов!
– Н-да? – со всей возможной саркастичностью вопросил я Хаэльгмунда, из всех сил стараясь не сорваться на матерные крики, – ни одна лохань не болтается? Я слепой по вашему, или идиот?
– Этиль, не забывайся. На первый раз прощаю, списав хамское поведение на стресс. Ты ведь меня только что обвинил во лжи. – Герцог сильно выпрямился и задрал подбородок. Передатчик не смотря на искажения, ясно показал, как засверкали его глаза. Но мне было наплевать, я пошёл напролом, ведь я же в самом деле прав!
– Ваша светлость, я не забываюсь, а вот вы, похоже, что-то забыли.
– Потрудись объясниться.
– Уже больше недели на орбите Земли отирается чей-то борт.
– Уверен?
– Да его невооруженным глазом видно! Он ходит по низкой орбите и регулярно светит дюзами, так что местные его регулярно принимают не то за комету, не то за падающую звезду. Я себе тут места не нахожу, соображаю почему за мной не шлют челнок! И вообще – свинство! Хоть бы на связь могли выйти.
Приятно видеть, что тебе удалось начальство огорошить до полного изумления. Хаэльгмунд даже забыл свою обычную вычурную манерность перед подчиненными и принялся что-то суетливо выстукивать на клавишах наручного коммуникатора. Я любовался сиятельным смятением и ждал.
– Этиль, я могу гарантировать, что это не наш борт. Сто процентов! – Сказал наконец герцог. Теперь изумился я:
– Может быть торгаш?
– Какой торгаш, окстись! С кем у вас там торговать, и чем – навозом? Это во-первых, а во-вторых, этот сектор находится в сфере ведения военных, там любые несанкционированные полеты запрещены! Так вот, ни один наш корабль санкции на пролёт не получал! Тем более, долгосрочной визы! Это я точно могу гарантировать. Так. Какой логический вывод напрашивается?
– Идунова срань. Чужак?
– Я пришел к тому же выводу. Кого ж туда могло занести, а?! Так. Слушай приказ. Остаешься еще на год, ведёшь наблюдение. Велика вероятность, что чужак проявится сам. Выясни по возможности кто они. Это приоритет номер один.
– С чего чужаку самому проявляться? С какой радости?
– А с такой, что мы уже полчаса гоняем сверхмощный передатчик гиперсвязи! С открытым каналом! От кого там скрываться в болоте вашем?! Если эти твои загадочные «чужие» не полные лопухи, луч передачи давно запеленгован, а заодно запеленгован терминал. То есть ты, и твое место положения с точностью до тысячных долей градуса. Я думаю, что за полчаса такой фонтан энергии не отследить невозможно. Так что они сейчас гадают, кому кроме них самих эта дыра могла понадобиться. И что за странный тип там сидит и что не плохо бы на него поглядеть. Я бы на их месте именно такими вопросами задавался.
– Хм.
– Вот тебе и «хм». Всё, конец связи. Будь на чеку. Действуй согласно обстановке. Вместе с отчетом вышли свое место положение на лето 1535-го года, нам посадку рассчитывать надо и маскировочные действия. Отбой.
Передача прервалась.
Вот это новости!
А не погорячился ли я? Может никакой это не корабль? Да нет. Природные объекты законов небесной механики не нарушают. Это свойственно другим, искусственным объектам. Разнообразным железякам, управляемым разумными существами.
И ведь как низко ходят, паразиты, практически по головам! Если работа дюз видна! Это вам не гигантский факел подпространственного конвертора. Что же получается? Высота миль, то есть, тьфу, километров… сто. Пусть сто двадцать. Почти граница стратосферы. Ага, на такой высоте корабль должен постоянно «проваливаться» по высоте, вот они и корректируют орбиту, то и дело врубая двигатели. Кто же это, если не наши?
Чёрт, дерьмо, еще одна головная боль.
Ну хоть причина когнитивного диссонанса локализована, и то хорошо. Во какими словами я думать начал! «Коррекция орбиты, когнитивный диссонанс». Возвращаюсь в лоно цивилизации. Век бы не видать…
Хорошо герцогу говорить: «быть на чеку, наблюдать». Это же не бургомистр Любека – хронь беспросветная, и даже не король Франциск Валуа. Как прикажете наблюдать звездолет? У меня даже сраной подзорной трубы нету, прости Господи. Близорукими глазками выглядывать точку на небосклоне?
Ну это мы всегда пожалуйста.
И на чеку побудем, это то же всегда пожалуйста. Капитан ландскнехтов всегда на чеку. Даже бывший, хотя, что я мелю, ландскнехт бывшим не бывает, как не бывает «бывшего» волкодава. «Бывшим не бывает» – не очень ловкое сочетание слов, правда?
Что поделать, именно так я тогда подумал, а учитывая контекст, мыслить выверенными литературно-философскими категориями было трудновато.
Далее: «действовать согласно обстановке». Самая любимая начальственная формулировка. Годится на все случаи жизни. Как будто коварный подчинённый в состоянии действовать как-то еще? Например, чисто из вредности, в разрез с обстановкой?
Последнюю ехидную мысль я тут же отмел, как несправедливую, ведь моё собственное офицерское рыльце было в том же самом пушку по самые ноздри.
Сколько раз я отдавал точно такой же приказ? Действовать по обстановке! И чтобы никаких! Н-да. Армия и военные везде и всегда одинаковые. Ни тысячи парсеков её не изменят, ни тысячи лет.
Просто кантата какая-то должна грянуть в этом месте, я так считаю.
В качестве предварительных мероприятий по усилению бдительности несения службы и повышения эффективности наблюдений, я изрядно приложился к бутылке с… назовем её краткости ради и ясности для: «водкою», и завалился спать, не раздеваясь, только башмаки скинул.
Хорошо хоть местоположение моё на следующее лето можно определить с точностью, подумал я, выскальзывая из дружелюбных объятий Вакха прямиком в нежные объятия Морфея. Куда я из Любека денусь? Хорошо всё будет, хорошо, хоро… Примерно на этом моменте мыслительный процесс вырубился, и я вместе с ним.
Если бы я только мог вообразить насколько сильно я ошибаюсь!
Утро встретило меня умеренной сухостью полости рта и удивительным отсутствием головной боли. Я подавил инстинктивное желание похмелиться, а затем выдул полкувшина холодной воды. Огляделся, потер щеку, наткнулся на изрядную щетину. Провел ладонью по затылку, обнаружил поросль с палец толщиной.
Дальнейший осмотр меня в восторг не привел.
До чего дожил: напился, причём в одиночестве, а голова даже не болит, значит организм отравой достаточно пропитался и больше не протестует; спал в одежде, так что теперь весь мятый и жеванный, как из лошадиной задницы. Ворот и обшлага рубахи засаленные и серые от грязи.
Какая гадость подумал я и разделся. Стало еще хуже, ведь глаза мои против воли увидели, как колыхнулось мощное пузо, начисто скрывшее завязки на брэ[79]. Пора было что-то менять.
– Га-а-анс! – Заорал я. – Га-а-анс! – Не помогло. Тогда я пинком раскрыл двери и вышел в коридор, набрал побольше воздуха в грудь и проревел: – Ганс, твою мать, быстро поднялся ко мне!
Послышался скрип ступенек, шаркающие шаги и появился мой старый слуга, несколько удивленный столь бурным проявлением чувств, на которые я дома всегда скупился.
Изумление ясно рисовалось на его бородатой физиономии и, кажется, даже в хромающей походке, что вдруг стала менее расхлябанной. Бывалый солдат у него внутри услышал командный тон и сразу подобрался, решил я.
– Ганс, топи печь и нагрей воды. Принеси мыла, щетку, помазок, бритву и всё что положено. Пошли Грету за молоком. Что у нас на обед? Пускай Грета приготовит вареной курятины и бульон. Никакой свинины и вообще ничего жирного. Вопросы? Исполнять. Кругом марш.
Пока ваш скромный повествователь «брал ванну» и брился, на ум пришла нехорошая мыслишка. А именно, заноза в душе после вчерашнего откровенного разговора с Хаэльгмундом никуда не исчезла.
Более того, внезапный сеанс связи прочно и органично вплелся очередным звеном в длинную цепочку предупреждений, или, как я их называл «звоночков».
Оказывается, лишний год на этой гадкой планетке не все новости и перемены, которые ждут меня в ближайшем будущем. Ну что же, остается взять на заметку, ждать и готовиться, ведь интуиции я привык доверять. Хотя к чему именно готовиться, я так и не придумал.
Готовился непонятно к чему я знатно.
Ближайшие два месяца были посвящены трезвости, постной пище и активным физическим нагрузкам. Утром я седлал коня и катался до завтрака. Завтрак состоял из двух-трех вареных яиц, изрядного пучка зелени и куска чёрного хлеба. После я тягал гири в зале, кидал тяжеленные мешки с опилками и молотил чучела самой большой тренировочной булавой из своего арсенала.
Местное фехтовальное братство впервые за много лет получило меня не в качестве собутыльника, а в качестве спаррингпартнера.
Ученики стонали. Я делал все что делали они и еще больше, заставляя не отставать. После чего нещадно поколачивал посредством мечей, шпаг, кинжалов или просто палок.
– Почему я фехтую лучше тебя? – следовал обычный вопрос, а когда юноша несчастно тряс головенкой на тонкой шее, всем своим видом показывая, что не знает, следовал такой же типовой ответ: – Потому что ты, свинья, мало занимаешься!
Обед состоял из пары вареных куриных грудок, самого диетического свойства, бульона и неизменной зелени, которую я люто ненавидел, но не прекращал пожирать.
«Леопарды сена не едят», так говаривал Фрундсберг, и я с ним совершенно солидарен. Но что делать, если леопард престал помещаться в кирасу?
С наступлением темноты я не кушал вовсе.
А на пиво даже не смотрел. Грета готовила мне морсы и компоты, а так же приносила молочко от крестьянской коровки.
Пузо, на которое в основном и была нацелена вся эта вакханалия здорового образа жизни мужественно сопротивлялось. Но упорство, как свойство моей натуры, взяло своё и, примерно через месяц, оно заколебалось и стало отступать. Чёрт возьми, я со швейцарцами стоял грудь в грудь, так неужели меня сможет одолеть собственный живот?
Грета, повинуясь материнскому инстинкту завела новую песню: «Господи, что же вы делаете с собой, как мальчишка, право, как же вы исхудали, ведь скоро тень одна останется, покушайте вы как человек, неужто я стряпаю плохо», ну и так далее.
Никогда не пойму женщин. Был толстый, веселый и румяный – плохо, обзывалась пузаном и пилила за невоздержанность. Стал следить за собой, занялся спортом-диетой и тому подобным дерьмом, так тоже не ладно. Мол, худею, на тень похож.
Куда деваться? И ведь оба типа претензий вызваны единственное – заботой и желанием добра, вот пойди, разберись, как угодить.
Увлекательное это занятие – забота о собственном здоровье и внешнем виде. Затягивает. Ничего вокруг не замечаешь, а зря. Я даже думать забыл, про свою тревогу и те самые «звоночки», с которых всё началось.
Сидеть бы мне тихо и прислушиваться, а так же приглядываться, подстерегая грядущие события. Тем более, что событий я ожидал самых нехороших, иначе, зачем вдруг проснулась моя военная интуиция? О хорошем на войне не предупреждают, только о плохом.
Удивительное устройство, человеческая голова!
Я вёл наблюдения и писал отчёты, которые, как выяснилось, были очень даже ничего в смысле подбора информации и аналитической части. Их вон даже публиковали и даже засекречивали… не напрасно, наверное…
А сделать вывод, касательно себя любимого, я ну никак не мог. Перевести, так сказать, теорию в практическую плоскость.
Эта смычка опыта умозрительного, академического и прикладного, оказывается, была моим слабым местом. Я же не откуда-то наблюдал, а из самого центра событий. Но как только требовалось покинуть высокие эмпирии, я превращался в обыкновенного туповатого вояку в отставке.
В.в. р (ваш верный рассказчик) как минимум два отчета и целую статью посвятил нарастанию социальной борьбы, как следствия расслоения общества переходного периода, (тип два по Леданэ, ха-ха-ха).
Что такое социальная борьба, говоря понятным людским языком? А это когда крестьяне больше не могут жрать лебеду вместо хлеба и смотреть, как их родные пахотные земли отнимают, например, под выпас помещичьих овец. И начинают постепенно звереть, и втыкать вилы в живот того самого помещика, а попутно забивают насмерть, как свинью, местного попа, который целыми днями проповедовал нестяжательство, а у самого морда от жира трескалась (как у той самой свиньи), а так же призывал к повиновению и непротивлению.
Крестьянин много может стерпеть, но он не железный.
Когда дети загибаются от голода, причем не от того, что хлеб не уродился, потому как хлеб в любом случае почти весь забирают господа, а оттого, что лебеда не выросла, это крестьяне не очень любят, и я их почему-то понимаю.
Тогда крестьянин приходит в ярость, собирается в отряды и начинает восстанавливать справедливость по-своему, затем, к нему приходят господские солдаты и рыцари и убивают крестьянина, попутно насилуя его жену, дочерей, а если поймают, то и сестру. После крестьяне собираются на сход, и вместо мелких шаек и банд образовывают целые армии, которым лучше не попадаться, если у тебя неправильное происхождение или прошлое.
Крестьянин жжёт усадьбу очередного помещика, грабит, то есть, конечно, забирает свой хлеб, насилует жену помещика и так далее.
А что «так далее», нечего стесняться, в дальнейшем, я принимал самое деятельное участие, потому что если крестьяне выставили армию, к ним приходят ландскнехты. А уж после нас вся случайно выжившая протоплазма надолго замирает в ужасе.
Это я, конечно, загнул для красного словца. Не были мы такими уж зверьми и демонами, если не доводить до этого. Но карательный поход ландскнехтского полка – совсем не то удовольствие, которое хочется повторить, можете не сомневаться.
Итак, я анализировал крестьянские бунты, препарируя их скрытые причины, семантическую составляющую и идеологическое наполнение, применительно к общей картине развития европейского общества. Я лично эти бунты давил, то есть практический опыт имелся, ваш покорный слуга и скромный повествователь был далеко не сторонним наблюдателем.
И что с того?
А ничего, как это ни печально. Когда пришло время сложить два и два, вычислить неизвестный угол прямоугольного треугольника и определить кратчайшее расстояние между двумя точками линейного пространства, моя удивительная голова перестала работать, как будто окружающая реальность, вне научного контекста, не имеет ко мне никакого отношения.
Проще говоря, зафиксировать кол в заднице соседского попа я мог, а так же мог убедительно объяснить, откуда он там взялся. Но вот незадача, в схожих и до боли знакомых обстоятельствах спрогнозировать появление аналогичного кола в заднице собственной у меня не выходило.
Теперь, когда все плохое уже случилось, я с недоверием оглядываюсь на свою слепоту и тупость. Задним умом я оказался куда крепче, нежели умом «передним».
Когда год назад в земле Шлезвиг вышел указ, окончательно запрещающий крестьянам уходить с надела, можно было собирать вещички и валить куда-нибудь, где потише.
После этого, восстание было лишь вопросом времени, причем самого недолгого, благо северные крестьяне не отличались долготерпением и имели неплохой опыт вооруженной борьбы.
Далее, пара-тройка латифундистов договорилась и сильно урезали землю крестьянских общин в пользу своего господского надела. Не трудно догадаться, что собственная прибыль крепостных сильно упала, а увеличившееся время барщинной отработки вообще превратило труд землепашца в невыгодный, так как расходы на содержание своего крошечного участка сильно превысили доходы.
Результат не заставил себя ждать. Первый же урожай осел в закромах помещиков, а крестьяне вынужденно залезли в долги, чтобы ноги не протянуть. Следующий урожай положение лишь усугубил, а долги-то требовалось отдавать! А проценты успели накапать…
В общем, были нормальные крестьяне, а стали – батраки. И это сильно им не понравилось. И загорелся костерок, который тут же залили кровушкой.
Всем известно, что кровушка может потушить, но скорее всего, превратится в горючее с подходящим октановым числом. Так и случилось. Не успели оглянуться, как весь север заполыхал!
Я сильно подозреваю, что поленьев в огонь подбросили датчане, которые много лет точили зуб на эти земли, но уже давно не могли в открытую тягаться с Империей.
Да какая теперь разница?
Я в это время был занят накачкой мышц и сгоном подкожных жировых отложений. Оттачивал выпад и, как говорят французы, «туше», а так же атаку второго намерения. Репетировал укол с оппозицией в высокой приме двуручным мечом, а также оппозицию в секунде. Фехтовал, одним словом.
Правильно говорил, мой первый ротмистр Курт Вассер: «я лучше буду командовать десятком пьяниц, чем двадцатью фехтовальщиками, толку от вас никакого». Он ещё орал на меня в бытность вашего скромного рассказчика фельдфебелем: «Ты чем думаешь, Гульди? Головой? У тебя на этом месте жопа! С-с-студент… хренов».
Не могу не признать его проницательности.
Все верно. Жопа вместо головы.
Лучше бы я и дальше пил. По крайней мере, кабацкие панические сплетни могли бы меня насторожить и образумить. Может быть, тогда я не скакал бы сквозь июньскую ночь, весь в пыли и запекшейся кровище? Да какой прок теперь говорить, что сделано, то сделано.
Крестьянская армия появилась под стенами Любека под вечер, неожиданно и тихо. Никто не успел моргнуть глазом, а округу затопило людское море. Тысячи огней вспыхнули в светлом сумраке. Костры и факела появились с севера и востока. Никто не знает как столько вооруженного народу смогли не таясь подойти к городу.
На мой взгляд секрет не стоит ломанного пфеннига.
В случае неожиданного вторжения чужаков, например датчан, крестьяне сами побежали бы в город и заранее предупредили о начале войны. А тут они столкнулись с войском таких же как они земледельцев, пастухов, словом, братьев-трудяг. И со всей готовностью к нему примкнули. И шума не подняли.
Никакой осады, штурма и тому подобных драматических особенностей военной пьесы. Город даже не стал запирать ворот, и через полчаса над ратушей полоскалось знамя с башмаком, а на перилах балкона поскрипывала добротная веревка. К другому её концу был привязан за шею посредством скользящей петли наш бургомистр. В тот вечер подобные кошмарные украшения можно было видеть по всему городу.
«Бедный Конрад» искал ненавистных богатеев, законников и попов, что благословляли нищету и разорение. Всех их резали и вешали на месте, насколько мне известно, уцелели только те, кому повезло оказаться в отъезде.
Исключение было сделано для шестерых или семерых ростовщиков. Их ограбили (впрочем, как можно ограбить грабителя?), слегка поколотили и приволокли на площадь, где как раз заканчивали вешать бургомистра.
Пред его осуждающими слепыми очами был сложен высокий костер, на который пустили мебель из ратуши. Абрама, Моисея, Ноя и прочих библейских пророков жарили не менее получаса, пока, наконец, их жуткие вопли не стихли.
И пошла гулянка!
Так вот как выглядит со стороны вражеская армия в городе! Раньше никогда не участвовал в оккупации в страдательном залоге, а тут довелось, какой ценный опыт!
Мне, как обычно, повезло оказаться в самой гуще событий.
Я проклинал себя за тупость и слепоту, идя по направлению к своему дому самыми малолюдными и неосвещенными улицами. Когда орда восставших ворвалась в город, ваш рассказчик слонялся у портовых причалов, где его, то есть меня, застала страшная новость.
От порта путь не близкий, я моментально принял решение, сориентировался в мечущейся толпе и двинул к моему непритязательному обиталищу. Как только я узнал, кто именно занимает город, то со всей ясностью понял, что мне, как минимум, требуется переодеться, так как в ландскнехтском наряде, среди вкусивших крови крестьян, будет не очень уютно.
Да и вообще, из города следовало уходить, а точнее, бежать, пока наши новые хозяева достаточно пьяные и не догадались перекрыть ворота. Я со своим прошлым ландскнехтского гауптмана, изрядно отметившегося во время крестьянских восстаний 1523–1524 годов, превратился в нежелательную фигуру.
Возможная участь несчастных ростовщиков меня вовсе не привлекала.
Оказавшись неподалеку от площади я слышал, как они орали. Никогда не видел, как живого человека поджаривают на медленном огне, но зато вот теперь услышал. Очень я не хотел пропасть таким образом.
Бедняги кричали так, что даже временами заглушали глумливую песню, которую горланили несколько сотен глоток.
Была она очень простой, явно придуманной на месте, что-то вроде:
Всех жидов одним гуртом, Мы загоним в деревянный дом, Крышу маслом обольём, Факел поднесём!Но, в основном, песня состояла из постоянно повторяющегося рефрена: «веселей гори-гори, жидяра, йо-хо-хо». Мне подумалось, что песенка с пугающей простотой переделывается в «веселей гори-гори, наёмник, йо-хо-хо», отчего на душе стало совсем тоскливо, и я прибавил шагу, пожелав ростовщикам сильного пламени и скорейшей смерти.
Не подумайте, что я жалую эту братию.
Солдаты никогда не любили ростовщиков, а я особенно, ибо происхожу из такого мира, где торговля деньгами запрещена на протяжении многих и многих веков. В Суле имеется государственное учреждение, которое по аналогии можно назвать банком, там каждый желающий может взять кредит, на какую-нибудь нужную нужность.
Но процентная ставка никогда не превышает трех процентов и взимается государством. Так что финансовых паразитов в моем родном обществе не видели уже давным-давно, почему собственно, мы и смогли покорить звезды. Государство, где заправляют пиявки, присосавшиеся к денежным артериям, никогда не захочет шагнуть за горизонт.
Я вполне разделял отвращение крестьянской братии к ростовщикам, но позвольте, даже такую мразь нельзя наказывать вот так! Ну, пырнули бы ножиком, если уж в самом деле неймётся. Но умирать под аккомпанемент «веселей гори-гори, жидяра»… б-р-р-р…
Впрочем, меня как раз могли счесть достойным объектом для своих милых шалостей. Сгореть или сесть на клинок я не спешил. Поэтому скорее домой, хватать пожитки и делать ноги из города!
Навстречу по улице двигалась толпа нетрезвых крестьян. Многие были в кирасах и с алебардами. Скоро они доберутся до городского арсенала, и тогда вооружаться по-настоящему.
Я быстро нырнул в проулок и прижался к стене. Улица была отменно кривой и тёмной, а крестьяне под серьезными винными парами, так что заметить меня не могли.
Пришлось пережить несколько острых мгновений, когда вся разудалая компания следовала мимо моего импровизированного убежища в тени стены, но пронесло.
Отряд удалился, а ваш скромный повествователь перебежками двинул дальше, скоренько преодолевая освещенные места и вертя головой, как заправский летчик истребитель в самом центре «собачьей свалки».
Так-так-так, думал я, во-первых, как себя замаскировать, добравшись до дома, во-вторых, проклятая близорукость, ни черта в темноте не видно, так что на Асгоре первым делом закажу себе коррекцию зрения…
Одёжка по новой моде была проблемой.
Я пошивал себе исключительно яркие разрезные наряды. Почти все мои одеяния украшал косой андреевский крест на груди, вырезанный в верхнем слое ткани, все штаны снабжались брутальными гульфиками дюйма в четыре, а под полями беретов и шляп, казалось, можно было укрыть целый десяток. Показаться в таком виде… что же, можно выйти на площадь и громко закричать: «а я ландскнехт», и посмотреть, что из этого выйдет.
Была в гардеробе парочка парчовых фальтроков для официальных выходов, а чёрт, тоже не то, уж больно классовая принадлежность нарисовывается рискованная.
Всё же на месте головы у меня жопа! Приоритеты я расставил неверные. Во-первых, надо было озаботиться, как добраться до дома, ведь одет я и сейчас был самым предательским образом. А уж во-вторых и в-третьих, всё остальное. И уж точно коррекцией зрения не стоило забивать внимание. Не до того.
В результате я чуть не выбежал навстречу очень приличной группе новых хозяев жизни человек на пятьдесят. Одна секунда отделяла меня от оверкиля. Но хорошая реакция спасла, ноги сами прыгнули между домами.
Пьяные вояки увидели метнувшуюся тень и побежали за мной, но куда им бедненьким, городские закоулки я выучил как свои пять пальцев и легко утёк. Все-таки в регулярных прогулках от кабака к кабаку есть свои плюсы. Местность узнаешь замечательно.
При желании я мог целую книгу написать о любекских злачных местах, ха-ха-ха.
Бежал ваш покорный слуга, как кролик от гончих. То есть постоянно петляя и приникая к земле. Пока мне везло, прямо таки неприлично везло.
Надо ли говорить, что долго так продолжаться не могло? Я думаю, мой читатель, что ты достаточно проницателен, и достаточно со мной познакомился, чтобы понять, в другом случае я не стал бы столь подробно это все описывать. Сказал бы что-нибудь вроде: «из города выбрался благополучно», и это было бы очень приятно, но, к сожалению, не правда, точнее, не вся правда.
Добегался я шагах в двухстах от промежуточной цели моего нелегкого, нервного путешествия. По улице мимо моего дома шагал достаточно организованный отряд восставших. Эти были худо-бедно построены в колонну по три, все поголовно вооружены и одеты в доспехи. У головных и замыкающих в руках ярко сияли масляные фонари на длинных шестах. Человек сто, видимо гвардия какого-нибудь крестьянского вождя.
Даже пьяных не видно, надо же.
Встречаться с этими не было ни малейшего резона, тем более, что шли они мимо дома не останавливаясь, а значит, никакой непосредственной угрозы не представляли. Я ловко свернул в проулок, что вел к задним дворам нашей улочки и подумал, что еще немного, и я смогу стать настоящим городским партизаном.
Партизан из меня получился хреновенький, потому что я «свинья, мало занимался», если перефразировать мою собственную дежурную хохмочку.
Свернув ещё раз, на параллельной улице – грязной, замызганной дорожке вдоль задников пристойных домов, я нос к носу столкнулся с еще одной группой крестьян.
– А ну стоять, – послышался грубый оклик, и я ощутил сильный толчок в плечо. Сзади вспыхнул свет, кажется факел.
– Ну-ка, ну-ка. Кого Бог принёс? – голос был какой-то высокий, не вполне вяжущийся с обличием здорового парня, преградившего мне путь. Придурки. Факел за моей спиной – это ошибка. Все кто спереди, наверное, считают круги перед глазами и пока ничего не видят, зато я вижу всех. И точно, верзила неловко прикрывал глаза ладонью, как и его товарищ. Итак, двое спереди.
– Будь я проклят, одет богато! – заговорил кто-то сзади.
– Разденем, или ну его? – предложил второй, – просто денег заберем? У него, кстати, шпага на боку, нам пригодится.
– Разуй глаза, дурак! Это же натуральный ландскнехт, да! Вот повезло, так повезло! – итак, трое сзади.
Сладкая парочка спереди, её я хорошо разглядел, один здоровый и высокий, ростом почти с меня, а второй росточка среднего, жилистый, сразу мне не понравился. Такие вот сухие да костистые, как правило, опаснее всего. Оба с мечами на поясах, но без доспехов, спаси Господи. Неплохо бы посмотреть, кто там сзади, так что я принялся играть дурачка, хотя душа ушла в пятки.
– Парни, да вы чего, какой ландскнехт?! – запищал я, испуганно заоборачивавшись и несколько приседая. – Если вы про одежку, так это мода такая… мода, понимаете? У меня деньги есть, я вам все отдам, честное слово, я же простой горожанин! – ну что же, сзади точно трое. Два молодых здоровых парня, поднаторевших в драках деревня на деревню, судя по поломанным носам и основательно побитым кулачищам. Третий – матерый дядька лет тридцати-тридцати пяти, ровесник то есть.
Это он опознал мою принадлежность. Он же как раз держал свет, не факел, а вполне приличный железный фонарь. Лицо злое и нетрезвое, но глаза внимательные и совсем не пьяные. Парни с дубинами и простыми хозяйственными ножами на поясах, а дядька с короткой секирою в свободной руке.
– Стой смирно и не свисти, да – отрезал дядька. – Какой ты горожанин мы выясним. Отведем на площадь и выясним.
– Я не солдат, честно, я из Любека никогда… я дальше Гамбурга не был отродясь! Заберите деньги, только отпустите! У меня много денег! – захныкал я и даже сумел подпустить слезу.
– Складно, блядь, заливает. Ты на руки его посмотри, и на башку, да, – размеренно продолжил дядька. Проницательный какой, гад попался.
– А что такое? – спросил здоровяк с другой стороны.
– А в шрамах, сучара, весь. И над пальцем указательным забавная мозоль. Это от перекрестья меча такая бывает, если долго размахивать, точно говорю, да.
– И правда, – откликнулся жилистый. Голос его тоже был нехороший. Какое-то шипение. – От лопаты такую мозольку не заработаешь. Добегался, браток. Ты зачем так бодро улепетывал?
– Братцы, так испугался я, правда! – я, непрерывно дрожа, сутулился и дергал головой в разные стороны. Старался показать, что испугался сильнее чем на самом деле, а заодно держать всех в поле зрения. Если б только удалось их на жалость пробить… отдал бы кошелек и шпагу заодно и убежал бы, ей Богу, здоровье дороже, а дома у меня всего достаточно. – А шрамы, это у меня с детства, это меня волк порвал, правда! Возьмите деньги, прошу вас, пожалуйста, можно я пойду, а?
– Га-га-га, – заржали оба парня, – Деньги твои мы и так возьмем, козлина тупая, га-га-га.
– Стоять смирно, башкой не крутить! – заорал дядька, когда мои маневры приобрели мельтешащую амплитуду. – Пояс снял! Быстро!
– Хорошо, хорошо… – испуганным голосом ответил я подпустив нервической дрожи и встал смирно, развернувшись спиной к домам, так что обе группы оказались у меня с боков. Я ломкими пальцами скомкал шляпу и, теребя плюмаж, сказал: – Отпустите меня… пожалуйста, – после чего очень натурально разревелся.
– Ну, артист, бля, – сказал дядька, причем его глаза на секунду задержались на шляпе, что и требовалось. – Все, вяжи его и пошли, – скомандовал он.
– Не надо, братцы, – дурно заорал я и сделал попытку бухнуться на колени, ринувшись к дядьке.
Дальше события понеслись галопом и лавинообразно.
Рука здоровяка хапнула воздух, вместо моего плеча, ведь я бросился в другую сторону.
Жилистый шагнул назад, что мне очень, очень не понравилось.
Парни не прекращая ржать пялились на меня.
Дядька попытался отпихнуться локтем.
А я резко надел шляпу на фонарь, отчего вся площадка моментом погрузилась во тьму.
– Сука, – успел выдохнуть дядька, и двинул в мою сторону шипастым обухом секиры. Потом он только что-то булькал, а секиру вообще уронил, потому что занят был дыркой в горле, что проделал мой кинжал.
Я ломанулся вперед, сшибая истекающее кровью и хрипами тело на одного из парней, разворачиваясь к другому и выхватывая шпагу.
Парень ловко саданул дубиной и точно попал бы в голову, если бы не внезапная темнота. Я парировал грубое оружие шпагой и кинжалом в крест, прижавшись к противнику cor-a-cor, и двинул в темноту гардой. Досталось парню как надо. Под крестовиной что-то мерзко хряснуло, он дурно заорал, отваливаясь назад.
Темноты, между тем, как не бывало. Дядька наконец соизволил переместиться умирать на землю и уронил фонарь, так что масло выплеснулось наружу и полыхнуло вместе с моей несчастной шляпой и девятью фазаньими перьями.
Я поблагодарил Бога, что надоумил меня не прыгать на тех двоих, на здоровяка и жилистого. Иначе все могло совсем неудачно сложиться. Жилистый оказался умельцем. Он по кошачьи метнулся вперед и вбок, стелясь над землей. В руке его сверкала тяжелая шпага.
Фехтовать он не умел, это точно, но в движениях читалась природная грация и точность, а так же огромный опыт разнообразных смертоубийств, это уж можете мне поверить. Он не кинулся драться, а схватил второго парня и буквально кинул в мою сторону, совершенно скрыв себя.
Здоровяк в это время только справился со шпагой и теперь выглядывал, как бы ловчее меня запырять, что было непросто, ведь на узкой дорожке уже дергались два тела и горела лужа масла и шляпа, моя, чёрт возьми.
Ваш скромный повествователь а так же не очень юный друг, Пауль Гульди, сильно прыгнул назад, чтобы не завязаться с дубиноносным парнем и не потерять из вида жилистого, который с непостижимой скоростью переместился в право и нанес длинный укол из-за спины своего товарища. Прыжок, без преувеличений, спас мне жизнь. Я отбил укол кинжалом, одновременно резанув шпагой снизу верх по предплечью парня. Тот выронил дубину и отпрянув назад, споткнулся о тело дядьки и упал, но тут же принялся вставать, причем в руках его засверкала секира.
У меня была секунда, чтобы схлестнуться с жилистым один на один. Его худое тонкогубое лицо неприятно подрагивало, а шпага мелькала и перескакивала из руки в руку, как живая. Он резко выхлестнул, норовя попасть в глаз, но в последний миг чуть не упал на землю и рубанул справа налево по низу живота. Мой кинжал сберег лицо, а шпага столкнулась с его клинком в жесткой септиме[80], откуда острие полетело в стремительный полет в кварту, к его груди.
Мужик отличался нереальной быстротой. Только что он почти лежал на земле, но вот он отбивает мой укол размашистым подобием кварты и успевает прянуть назад. Я тоже был не прост. Как только клинки столкнулись, моя шпага скользнула вниз, словно повинуясь силе и напору чужого оружия, обогнула его эфес, после чего я выстрелил себя в глубокий выпад, мощно оттолкнувшись левой ногой. Шпага влетела в терцию, и пронзила плечо жилистого. Тот грязно выругался, скакнув назад, перекидывая оружие в левую руку.
В драке наметилась некоторая пауза. Дядька все еще пытался дышать и скреб руками горло. Видимо рассчитывал заткнуть дырку, откуда выливалось все больше красной влаги. Первый парень корчился у забора и надрывно стонал, ухватившись за лицо, а между пальцами хлестала кровь. Не знаю, что ему там испортила моя гарда, но на голове полно мелких сосудиков, что дают обильное кровотечение. Может быть ничего страшного.
С самого начала минуло секунд пять, но время услужливо сжалось, так что казалась наша схватка часовым побоищем – это как обычно.
Что характерно, никто из домов не высунулся.
До меня добрался здоровяк. Жилистый проорал ему что-то вроде: «стоять, надо вместе», да тот не послушался и со страшной силой рубанул с плеча. Таким ударом быка убить можно. Но я не бык.
Шпаги схлестнулись в квинте, я увел клинок вниз на замах, совершенно открыв голову, на что мужик среагировал вполне естественно: зарядил поперёк лица наискось с такой мощью, будто хотел свалить дерево.
С шагом, с молодецким хэканьем.
Я немного подвинулся встречь, приняв жуткий удар секстою. Кинжал глубоко вонзился в его живот, по самую гарду. Узкий клинок повернулся и пошел вверх, покорный воле моей жестокой руки, которая заставила его замереть лишь в печенках. Я вырвал кинжал и толкнул бывшего здоровяка в сторону парня, что подбирался ко мне с секирою справа.
На меня плеснулась чёрная в свете горящего масла кровь и дикий вопль, лишивший слуха. Здоровяк как то смешно подпрыгнул, а потом упал на колени, принимая в ладони выпадающие внутренности.
Парень увидел и услышал такое дело и расхотел на меня нападать. Он попятился и встал вровень с жилистым.
– Беги, зови наших, – прошипел тот, но я что-то такое и предполагал. Это было бы совсем плохо, даже хуже этой нелепой стычки, которая случилась единственное по моему идиотскому недосмотру. Я нарочито медленно взял шпагу в зубы, слизывая с клинка солёную кровь. Оба должны были увидеть это и испугаться. Оба аж остолбенели на долю секунды. Этого как раз хватило. Я переложил кинжал в правую и беззвучно прыгнул вперед, метнув его в бедро парню. Никуда теперь не побежит.
Мне, правда, чуть не пришлось кисло, так как жилистый, который обеими руками владел одинаково, воспользовался моментом и исполосовал яростными ударами все мое фехтовальное пространство, так что даже подумать было невозможно ни о чем кроме защиты.
Я парировал все угрозы и сумел отойти. Однако.
Его удары были очень коварны, так как он дожимал клинок пальцами после каждого моего парада, незаметно продавливая защиту. Он резанул мне правую голень, поцарапал кисть и предплечье, а так же украсил щеку новым рассечением.
Однако. Восемь ударов какого-то мужлана от сохи и лучший боец Любека, опытный ландскнехт Пауль Гульди обзавелся четырьмя дырками. Однако.
Развитие драки рисковало стать неудачным, так как на звон клинков мог прибежать ещё кто-нибудь.
Подобного развития я ждать не стал. Стремительно крутнул шпагу на кисти, показав удар в голову, и тут же со всей силы рубанул по ноге. Жилистый хищно ощерился и с легкостью отбил атаку, но вот незадача, мой клинок проскользнул под острием и вернулся по кругу, набрав немалую инерцию, которая пробороздила его корпус от ключицы до ребер. Не смертельно, дьявол задери его феноменальную реакцию.
Жилистый вновь успел отскочить, так что я лишь рассёк кожу. Но хорошо рассёк на две ладони в длину, если не больше.
И тут оба моих противника не сговариваясь побежали, причем парню даже не особо мешал кинжал в бедре. Чёрт, дерьмо кошачье, ну отчего так не везет?! Времени теперь совсем мало, они точно приведут подкрепление. Я рванул в другую сторону, под родной кров, который я, кажется, навеки терял.
Позади осталась залитая кровью улочка, два мёртвых тела и стонущий парнишка.
Я ворвался в дом. Дверь черного хода была заперта изнутри, видимо, бдительный Ганс постарался. Но я не стал тратить время на стуки и крики, а просто вынес засов ударом плеча.
– Ганс! Ганс! – он уже ковылял навстречу. В руках его недобро покачивалась взведенная аркебуза, а на поясе висел тесак. Еще не хватало, что б меня собственный слуга пристрелил после всего пережитого. – Ганс! Не стреляй! Это я – Пауль.
– Беда, хозяин, – проскрипел старый ландскнехт, какое тонкое наблюдение.
– Беда, Ганс. Мне бежать надо. Я и так не ко двору, а теперь подавно.
– Порешил кого? От добро! От это хвалю!
– Ганс, милый мой старик, выручай! Седлай коня, и не забудь мешок для доспехов… Нет, доспех я на себе повезу. Крикни Грете, что б пожрать в сумку собрала, ты понимаешь. Давай, пора суетиться!
Хорошо, все-таки, что ко мне сразу Ганс вышел. Бывалый солдат не стал ахать и охать над кровищей и моими ранами, он и не такое видал. С Гретой вряд ли всё бы прошло просто. В обморок такая не упадет, но промывать и перевязывать точно кинется, а на это совсем нету времени.
В кабинете я учинил форменный разгром.
Сорвал окровавленную одежду и кинул в камин. Полил на царапины водкою. Щедро залил водки вовнутрь. Ухватил сумку и затолкал туда две смены белья и запасные чулки. Во вторую сумку скатал теплый плащ, шляпу, перчатки и приличный вамс.
Секунду подумал и добавил пару обуви, мало ли что. Быстро оделся в самый непритязательный костюм: лен с сукном. За пазуху кинул кошель со всей серьезной наличностью, что нашлась в сундуке. Оказалось что-то около трехсот талеров в серебре и золотых флоринах.
Не забыть НЗ с лекарствами! Далее я засупонился в кожаный вамс с долгими ташками и стал судорожно напяливать мой чудный доспех. Идиот, скажите вы. Быть может, отвечу я.
Но на парадоксах многие дела решаются! Авось в суматохе примут за какого вожака, одному Богу ведь известно, что они успели уже награбить! Может и латами приличными кто разжился.
Шпага полетела в угол. Славно послужила, но теперь мне нужен катцбальгер. На стальной талии привычно захлестнулась кожаная змея перевязи с мечем на боку и кинжалом за спиной.
Я сорвал со стены мой верный двуручник, хватанул еще водки и окончательно успокоился. Я вновь почувствовал себя человеком, а, хрен ослиный, как в старые добрые времена! На груди кираса в руках огромный клинок, на башке штурмхауб, сам нетрезвый. Отлично!
Снизу раздался стук-стук-стук, быстро переросший в громкий и настойчивый бах-бах-бах. Кто-то ломился в парадную дверь. Неужели меня так быстро нашли?! Но, черт возьми, как?! Или просто очередное звено в черной полосе неудач?
Я ссыпался вниз по лестнице и обнаружил бледную Грету, мявшуюся перед дверью с подсвечником в руках. Я сделал страшные глаза, приложил палец к губам и, становясь у стены, прошептал:
– Открывай! – Грета мелко покивала, и распахнула ходившую ходуном дверь. В зале показались три человека вполне ясной принадлежности. Один крестьянин в кольчуге и каскете впихнул внутрь двух других, изрядно побитых и порезанных, ввалился сам и заорал:
– Что встала, дура, старая! Не видишь, зачем пришли?! Быстро, воды и тряпок! – Я во все глаза смотрел на новоприбывших и не верил. Кажется мне поперло. Наконец.
На улице было совершенно пусто.
А в зале расположились мои недавние знакомцы: жилистый и парень с моим кинжалом в бедре. Оба выглядели неважно, но держались прямо и чуть не рычали от злости. Меня пока не заметили.
Будет сюрприз:
– Хрен угадали, куда зашли, – сказал я и захлопнул дверь.
– А? – успел спросить обладатель кольчуги, поворачиваясь.
– В жопе нога, – ответил я и со всего маху врезал тому по шее спадоном.
Началась бойня.
Жилистый, надо отдать ему должное, не растерялся и ткнул шпагой в единственное уязвимое место – в лицо. Давний подарок Фрундсберга никогда меня не подводил, не подвел и в этот раз.
Голубая молния ухоженной пассауской стали упала, сверкнув при свечах, и начисто отвалила левую руку с зажатой шпагой. Жилистый открыл рот, глядя на отлетающую часть самого себя, но клинок хотел еще крови. Спадон взлетел вновь, я крутнулся вокруг и перерубил обе голени.
Картинка: одна нога в сапоге стоит на полу, вторая болтается на ошметке коже и падает вслед за своим хозяином. Рядом валяется отсеченная рука, все еще сжимающая шпагу. У стенки сидит нелепое нечто с перевернутой головой, свисающей на грудь. Посредине стоит фигура в великолепном доспехе и воздевает почерневший двуручный меч.
И всё это пляшет тенями в восковом мерцанье свечей.
Какой-то кровавый бред.
Обрубок на полу начинает верещать. Спадон взлетает еще три раза, кромсая плоть и дубовый паркет, расчленяя его пополам от плеча до поясницы. Во все стороны летят куски плоти и деревянная щепа.
Кровь, кажется, даже с потолка капает.
Мерцают свечи.
Я обернулся к парню, все еще зажимавшему рану в бедре. Он от страха был почти мертв, а серость лица пробивалась даже сквозь трепещущий желтый свет. Пусть посмотрит на лицо войны, как она есть. Беззащитных жидов жарить на площади мог, теперь погляди, на поле боя в миниатюре.
Тут я заметил, что его штаны и пол под ним мокрые не только от крови. Ну что же, запах мочи и кала – едкий запах ужаса, отлично дополнил впечатление.
Я двинулся в его сторону. На пол, упала секира, мелко разбрызгав кровь с дерьмом.
– Запомни, что бывает, когда приходят ландскнехты. Расскажи своим, что скоро нас придет десять тысяч. – С этими словами я засветил ему в лоб кованым навершием. Несильно.
Парень рухнул и замер в собственных испражнениях.
– Грета, свет моих очей, приберись здесь, пожалуйста. Это мое последнее распоряжение. Прощай.
Нетерпеливая пляска коня во дворе. Ноги в стременах. Кожаный скрип седла. Старый ландскнехт у поводьев: в одной руке аркебуз, в другой – бутылка.
– Ганс, дай водки. На столе в кабинете кошель с деньгами, на первое время хватит. Там талеров с полсотни будет. В сундуке, что в спальне, купчая на дом со всем содержимым. На твоё имя. Подписи, печать нотариуса и уважаемых свидетелей, никто не подкопается. Всё моё теперь твоё. Если переживете восстание – ты, можно сказать, богач.
– Спаси Бог, хозяин…
– Там в зале валяется один… не стал убивать… скоро очнётся. Свяжи его, что ли, а то наведет на вас… или…
– Разберусь, хозяин, не впервой!
– Дай еще выпить. Прощай, Ганс, больше не увидимся.
Безумная скачка по кривым улочкам. Азарт, ненадолго позаимствованный у бутылки. Ветер в лицо.
Номинальная стража у ворот Хольстентор только оглянулась вслед конной фигуре, облитой окровавленной сталью. Готов спорить, что утром они будут гадать, а не сон ли это был, или может быть призрак?
Куда я летел в ночи? На что надеялся?
Надеялся я на Бога, клинок в руке и верного коня. В такой последовательности.
Конец моего пути я видел в далеком Антверпене. Настало время воспользоваться приглашением моего полкового товарища.
Улица Стрелков, дом Артевельде каждый знает, я запомнил.
Конь уносил меня всё дальше от весёлого Любека, на короткий срок забывшегося в тяжелом ночном кошмаре.
И вот я снова в дороге. Наверное, в самом деле, дорога – это судьба ландскнехта. Путь освещала луна и такие близкие звезды, в том числе одна особенная, что задорно подмигивала мне огоньками маневровых дюз.
Глава 11 Пауль Гульди пробует себя в новых качествах и неожиданно возвращается в армию
В послеобеденную пору, когда солнце уже потихоньку начало склоняться к сизым лесам вдалеке на западной оконечности бескрайних лугов Альвхейма, аспирант Академии Анульд Фриггвин внес в архаичную каминную залу замка герцога Леданэ пухлую обшитую зеленой саржей папку с кипой свежераспечатанных листов.
Аспирант знал дорогу, как знал и ретроградские привычки своих руководителей, ненавидящих читать голограммы, и то, что содержимое папки надобно передать лично в руки герцогу, Тиу-Айшену или Хаэльгмунду в день получения, будь то хоть выходной, хоть конец света. Особое распоряжение относительно именно этой папки предписывало в любой час дня или ночи уведомить начальство о получении новых материалов и доставить их немедля.
Юноша нисколь не тяготился сей обязанностью – напротив: право посещения домов кураторов Академии ставило его негласный статус на несколько ступенек выше остальных студентов и, даже некоторых преподавателей. Вдобавок, герцог Леданэ отличался вовсе не альвийским гостеприимством и любовью поболтать за кружкой чая, обсудить новости по горячим следам в неофициальной обстановке, а болтать с премудрыми кураторами для будущего учёного было крайне полезным во всех отношениях удовольствием.
Ради такого можно пожертвовать выходными и добровольно.
Все трое бессмертных действительно обнаружились в зале, но помимо них в глубоком кресле восседал импозантный красавец средних лет – Бриннар из Ториадов, светлейший правитель всея Асгора и окрестностей.
В простой почти что домашней одежде, без регалий и венцов, с растрепанными рыжевато-каштановыми волосами Бриннар выглядел вовсе не небожителем, каким зачастую представлялся своим подданным, но мимолетный взгляд раскосых зелёных глаз, брошенный в сторону дверного проема, заставил подрастающего учёного склониться в значительно более низком поклоне, чем тот, что предназначался бы его наставникам.
– Этиль опять разродился увлекательнейшим трудом, – вместо приветствия констатировал альвийский герцог. – Уже тридцать девятым за последние двенадцать лет. Хорошо работает. Заходи, Анульд, заходи, не стесняйся, ты очень вовремя. Мы с Бр… его величеством как раз дискутировали по кое-каким вопросам ксеноистории.
– Леданэ, оставь церемонии, мы не во дворце. Я к вам не за тем езжу, чтобы передо мной раскланивались, – поморщился правитель, попутно приглашающим жестом недвусмысленно указывая Анульду на сободное кресло. – Что за Этиль? – Аллинар. Самый лучший наблюдатель из всех, кого мы когда-либо готовили, – откликнулся Тиу-Айшен. – Работает на Земле, вот уже двенадцать лет как. Присылает по нескольку раз в год толстенные отчеты. От других наблюдателей десяти страниц не дождешься, а этот кропает сотнями, по всем правилам научной работы. По материалам его отчетов защищено три диссертации, с частичным заимствованием – восемь, если не ошибусь. Ценнейшие материалы по теории войны, оружию, религиоведению, искусствоведению, сравнительной лингвистике, этнологии, аналитической психологии, много ошибок своих предшественников исправил… могу долго перечислять. Мы имеем как никогда полный материал по европейской зоне Земли со времен миссий.
– Этиль подвизался наёмником и много путешествовал, – подал голос Анульд. – Сегодня он выслал свои дневники…
– И ты конечно же первым засунул в них нос, – с усмешкой дополнил Хаэльгмунд, и, видя смущение студента, развел руками, сим показывая, мол, я же говорил. – Ладно, не красней. Я бы на твоем месте сделал то же самое. Давай сюда папку, попозже ознакомимся. Ты никуда сегодня не спешишь?
– Нет…
Ха, куда он сегодня мог еще спешить?
– Тогда с позволения его величества арвиела Бриннара…
– Хэг, я уже попросил разок отставить экивоки, теперь я на этом настаиваю, – арвиел Бриннар состроил постную мину и потянулся за кувшином с вином. – Говорите, увлекательнейшее чтиво?
– На редкость, – изрек Леданэ, патетическим взмахом пустого бокала подчеркивая свои слова. – Брин, я серьезно, у парня просто литературный дар. Это помимо его научных достижений. Его некоторые отчеты и выкладки серьезно заинтересовали военное ведомство, а в историческом плане им нет цены. Я думал рано или поздно рекомендовать его в качестве будущего ректора Академии. Хоган не вечен.
– Тогда почему работы вашего уникума до сих пор не были представлены мне? – правитель вопросительно изогнул бровь. Вопрос получился риторическим. Анульд заметил, как Тиу-Айшен и Леданэ переглянулись, потом Хаэльгмунд раскрыл папку, прокашлялся и начал размеренным хорошо поставленным голосом:
– Двадцать седьмое июля тысяча пятьсот двадцать второго года. Я все же принял решение вести дневник…
За стенами замка догорало позднее лето Альвхейма, одуряюще благоухая подсушенными солнцем травами. Блики заходящего солнца расцвечивали архаичные витражи, рассыпались по деревянному полу стаями разноцветных солнечных зайчиков. Когда зайчики сбежали на ночлег, вышколенная до полной невидимости прислуга растопила камин и сменила опустевшие кувшины на полные. Ближе к полуночи сменила еще раз.
– И где ж вы его достали такого? – спросил владыка Асгора, когда альв наконец закончил чтение на мажорной ноте бронзовой таблички.
– А нигде, – ответил за всех Тиу-Айшен, потягиваясь. – Его старый идунов хвост Хоган нам всучил. Этиль сподобился спереть его дочку.
– Молодость, гормоны, – хмыкнул герцог Леданэ в практически пустой бокал. – В результате мы получили ценный кадр.
– Ничего в вас нет человеческого, изверги. Все бы вам человеческие жизни эффективностью процесса измерять. Как вернется – желаю с ним побеседовать, – его величество тяжелым взглядом обвел бессмертную троицу. – Когда возвращаете парня?
– Хороший вопрос, – Тиу-Айшен не сдержал смешка и выразительно глянул в сторону безразличного свиду Хаэльгмунда. – За суматохой я как-то подзабыл, что у него максимально возможная командировка закончилась. Хэг, Этиля, кажись, семнадцатого числа месяца оусвейта отсылали. Завтра… точнее, сегодня – третье. И почему я до сих пор никого не мучаю фехтованием и верховой ездой?
– Хэг, а Хэг? – многозначительно протянул Бриннар. – Твоя альвийская светлость ничего мне сказать не желает?
Названный герцог и сейчас не изменил своему отрощенному за много лет профессиональному самообладанию. Анульд, однако, слишком хорошо знал своего куратора, чтобы не заметить крохотных мелочей, вроде того, как указательный палец Хаэльгмунда вдруг начал легонько постукивать по ножке бокала, или как уголки тонких губ альва едва заметно дрогнули.
– Брин, Этиль слишком хорошо работает, чтобы менять его сейчас, когда у нас недостаток желающих. Он не присылал запросов на прекращение командировки. Я рассчитывал сверхурочно подержать его пару лет на утроенном окладе, пока мы не выработаем новый стандарт подготовки наблюдателей и ведения отчётности, – все это он произнес спокойно и как-то слишком убедительно. – Хоган парня не жалует, с годами только больше беситься стал, что вместо загубленной карьеры самолично протоптал Этилю дорожку к научной славе. А Хоган все же пока не последний человек.
Арвиел Бриннар не сказал ни слова, но на его тонком мимичном лице отразился такой неприкрытый мрачный сарказм, что Анульд едва не поежился.
– И некого пока, Брин, банально – не-ко-го, – Хаэльгмунд приобрел почти оскорбленный вид. – Не Тэша же посылать?
– Я б с удовольствием убрался отсюда на пару веков, но кто ж меня отпустит, – не без язвительности хохотнул Тиу-Айшен. – Так-таки некого? А Этиль в курсе твоей инициативы?
– Он его непременно собирался уведомить, – подлил яду Леданэ. – Годика через три. И нас всех заодно.
Взгляд Хаэльгмунда за неимением лучшей мишени обратился на аспиранта, ставшего невольным свидетелем не самой удобной ситуации. Выжидательный такой взгляд, нехороший. От таких взглядов следовало дематериализовываться в срочном порядке из помещения под любым предлогом или без оных.
– Анульд, позаботься завтра распространить по Академии объявление об отборе наблюдателя на Землю, – сухо бросил он.
– А я не подойду? – неожиданно для себя самого брякнул юноша и едва не пожалел о сказанном: лица всех сидящих разом оборотились к нему. Но отступать уже было некуда, и Анульд заговорил быстро-быстро, стараясь не сбиваться под перекрестными взглядами четырех самых высокопоставленных особ всея Асгора. – Я отчеты Этиля наизусть почти выучил. Земля – моя прямая специализация. Я бы очень хотел. Вам, может, это покажется глупостью, но я пошел в историки после того, как прочел первый труд Этиля. Родители настаивали на армии, я выбрал науку…
Что характерно, ответили все четверо сразу:
– Не думаю, – Хаэльгмунд. Кисло и с ноткой желчи.
– Вполне, – Леданэ. Весело.
– О как. Тогда отлично, – Тиу-Айшен. Спокойно, наверняка мысленно ставя галочку в поле «минус ещё одна проблема». – Парень ты вроде крепкий. Фехтованием занимался? Ага, это хорошо. Аспирантуру вполне можешь закончить параллельно с инструктажем. Я за.
– А почему, собственно, нет? – сиятельный монарх. С интересом. – Полагаю, вопрос решён?
Вопрос был решён.
– Кстати, меня интересует личность этого Райсснера, – Бриннар плеснул себе еще вина. – Анульд, когда поедешь работать, попытайся пробить его генеалогию. И личность заодно. Больно он не прост для своей эпохи, как расписывает его Аллинар. Эхх, сам бы съездил…
И как, скажите на милость, я умудрился столько написать? История ведь самая непритязательная: что привело двух благородных донов, точнее, одного дона и одного представителя имперской солдатни на полянку неподалеку от апельсиноносной Барселоны?
И бумаги жалко, право слово и чернил потраченных, но будьте снисходительны к моему многословному, неискусному перу, так вышло. Начал вспоминать друзей-приятелей, с которыми дюжину лет топтал зеленые луга и снежные перевалы и сделался болтлив. Но всё что имеет начало, имеет закономерный конец, и конец моей истории уже всего за одной горой, ибо утренняя тень горы Монсеррат вот-вот накроет носки моих башмаков.
А пока я приехал в Антверпен.
Вроде похоже на Любек. А вроде все немного иначе. С одной стороны и там и там торговля и там и там порты. Один на речке Тарве, второй на Шельде. Но здесь город в самом расцвете, сердце бьется ровно и мощно, это сразу ощущается. Любек – при смерти, Антверпен в самом соку зрелых сил, хотя, формально они почти ровесники.
И люди здесь немного другие. Одежда чуть другая, слова странные. Выходишь на улицу и из любой точки видишь, как рассекает островерхое озеро крыш могучий корабль кафедрального собора, что вознес мачту своей башни на четыреста футов, затмевая даже каменный монолит замка Стен на берегу Шельды.
А название нормальному фрицу и выговорить-то непросто, хотя, кажется, все вполне понятно: Онзе-ливе-Врауэкерк – Церковь Нашей Любимой Дамы – Собор Богородицы, стало быть. Керк – церковь, как у нас – кирха. У нас святой – санкт, у них – синт, у них – «ван», у нас – «фон». Где-то рядом, но чуть по-другому и так во всем.
И конечно, реформаторы-протестанты. Ревностные. Суровые. Породистые. И много, куда не плюнь, попадешь в кальвиниста.
Какие-то они здесь агрессивные. Насмотрелись мы на протестантов ещё в армии. Среди ландскнехтов их полно, что говорить, сам Фрундсберг в свое время потрепал по впалой щеке Мартина Лютера и ободрительно сказал: «нелегкий путь ждет тебя, монашек». И щека та уже совсем не впалая, и путь вполне торный, а до сих пор все вспоминают.
Среди наёмников всё было тихо-мирно, солдатам решительно наплевать католик ты или лютеранин. Не мешай товарищу и он тебе не помешает. Здесь иначе. Не дай Бог решат, что ты папист. Немедленного религиозного диспута, скорее всего, в формате одностороннего наставления, не миновать. И поколотить могут запросто. А могут насмерть убить.
Интересный город Антверпен. Приятно топтать мостовые, осознавая ретроспективу, ведь здешнее эхо помнило еще мягкий шелест сандалий римских граждан и грохот легионерских калиг.
Причастность к несокрушимым орлоносным солдатам древности была особенно приятна, ведь наши баталии, то и дело называли «новыми легионами». На мой взгляд, если продолжить исторические коннотации, мы, ландскнехты, были удачным гибридом сариссофорных[81] фаланг Великого Александра с легионами Кесарей.
Апейрон[82] длинных пик – огромные македонские копья, а тяжеловесные квадратные полки срисованы с когорт Гая Юлия. Хотя, и то и другое мы позаимствовали у гораздо более близких исторических соседей, у швейцарцев, но это как-то не романтично.
Антверпен принял меня в объятия привычной городской вони, подогретой летним солнышком. Я насчет обонятельных впечатлений сделался непритязателен, да и сам пропах за время дороги, и если вы думаете, что это были фиалки, то вы здорово заблуждаетесь, так что гостеприимством остался доволен. Тем более, что Жан Артевельде обрадовался старому сослуживцу, как выпивке.
Жена его, естественно, подозрительно отнеслась к перспективе неопределенный срок делить кров с вонючим солдафоном. Франсуаза держала дом и своего мужа в жестком мундштуке своих нежных рук и тихого голоса с эротической хрипотцой. Поводья были достаточно длинными, но попробуй взбрыкни и наткнешься на шпоры её голубых глаз.
Жан выглядел настоящим главой семьи, еще бы, герой, мушкетер и все такое, но опытный взгляд быстро различал истинного владыку этих стен, как каменных, так и жизнеустроительных.
– Вы надолго к нам? – первое что спросила проницательная мадам, почувствовавшая после обязательных приветствий и взаимных «очень приятно» угрозу семейной гармонии.
– Пауль останется столько, сколько сочтёт нужным, – отрезал Жан, узнавший уже мои обстоятельства, после чего выдержал короткий, в рамках приличий, у Франсуазы все было в рамках, поединок взглядов. И победил, в кои-то веки. Женская сила разбилась об крепость уз нержавеющего солдатского братства.
– Тогда позвольте, герр Гульди, показать вам вашу комнату, – Франсуаза изящно сложила руки на груди и поплыла, шелестя долгим дамаском подола вверх по лестнице.
Потом я слышал, как Артевельде старший шипел: «Если бы не Гульди, наши дети росли бы сиротами, вам это ясно, мадам?». Несравненная Франсуаза парировала стальным «мы поговорим об этом позже, любезный муж», аж зазвенело.
Я помылся, посетил цирюльника, который одолел острым лезвием мерзкую сиво рыжую щетину на щеках и белобрысую поросль на голове, а заодно подверг остракизму траурные каймы под обломанными ногтями. Портной подогнал новый вамс, обрешенкельхозе и хозе, а так же берет, выдержанные в моих любимых жёлто-красных цветах спектра.
Превратившись к ужину в человека, я вновь предстал пред очами, но льда в них не убавилось. Похоже, меня встретили по одежке, и я навсегда попал в тот раздел каталога женской памяти, где обретаются сомнительные личности, сбивающие мужа с истинного пути.
Впрочем, не навсегда!
Всем известно, что к мужскому сердцу дорожка протаптывается через желудок, а к женскому, через её детей. Наследники фамилии Артевельде меня полюбили с первого взгляда и еще раньше, так как ваш верный рассказчик был любимым сказочным персонажем папашиных баек.
В тот первый ужин они буквально сожрали меня глазёнками. Старшенький – четырнадцатилетний Филипп ловил каждое слово, Лютеция – на два года младше, кажется, втрескалась по уши, а соломенноволосая синеглазка Сибилла пяти лет от роду немедленно потребовала сказок.
Когда отзвучала оригинальная лютеранская интерпретация, благодарственной молитвы, Филипп, краснея ушами и страшно заикаясь, попросил, чтобы «мэтр Гульди» научил обращению с двуручным мечем, на меньшее он был не согласен, и при этом едва не открутил пуговицу на своем черном камзольчике.
Юный лютик – Лютеция, зардевшись, пожелала спокойной ночи и убежала к себе.
А с Сибиллой я возился часа полтора, рассказывая о похождениях её папы в компании мрачного служаки Рихарда Попиуса по кличке Шпрехензидойч, веселого пикинера Кабана-Эриха и хитрого писаря Адама Райсснера.
Совершенное детское счастье скакало у меня на коленях, теребило диковинные разрезные узоры на платье, обижалось, когда ему не разрешили поиграть с кинжалом. Потом мы крутились каруселью, прыгали лошадкой и пытались представить, насколько Альпийские горы выше меня. Надо ли уточнять, кто служил каруселькой, лошадкой и сравнительной линейкой для горных пиков?
Франсуаза метала в пяльцах шелковую нить, привычная игра иглы не мешала ей приглядывать за любимым чадом, и я шкурой ощущал, как ледяные колючки постепенно сточились, растаяли и обратились теплым пледом нежнейшей шерсти. И как же мне это понравилось! Хотя тяжеленько было в повествовательном запале не ляпнуть обычное солдатское «твою мать», «кацендрек», «шайсе» или что-то в этом роде.
– Сибилла, скажи господину Гульди спокойной ночи, и пойдем в кроватку, – к этому моменту я для хозяйки стал если не своим человеком, то уж точно переместился в каталоге несколькими полками выше.
– Мамочка, Пауль еще не устал, ведь правда, правда? – лучистые глазки наполнились обидными слезками и маленькая фея сложила рот сковородничком, приготовившись отстаивать очередную порцию сказочного веселья.
– Сибилла, дочь моя, старшим следует говорить «господин», а тебе пора спать, – голос наполнился той нежной суровостью, запас которой неисчерпаем у любящих матерей.
Потом были ожидаемые «еще чуть-чуть, еще одну сказку, ну пожалуйста», а потом семейство удалилось в спальню.
– Счастливых снов, герр Гульди. Надеюсь, вы хорошо отдохнете. Ведь знаете как это бывает на новом месте? Я никогда не могу заснуть в гостях, – и о чудо, твердый абрис ванэйковских губ тронула заметная улыбка! Едва уловимое движение уголков рта, но в положительной верхней дирекции.
– Не стоит беспокоиться, добрая госпожа Артевельде. Если б вы знали, в каких местах мне случалось ночевать! Здесь для меня – рай! Особенно, после такого ужина.
– Зовите меня Франсуаза, – улыбка покатилась выше и согрела её глаза, подарив лицу очарование и спокойствие моей душе. Она удалилась, после чего, удивительное дело, столовая сразу потемнела, хотя свечи продолжали исправно гореть.
Прекрасная женщина. Из той несгибаемой фламандской породы, что дарят мужчинам любовь и детей, а если что, легко могут встать на защиту замковых стен, вдруг мужчины рядом не случится.
Счастливый человек, Жан Артевельде. Честно, завидую. Дом, полный детского смеха, благословлённый такой женщиной, что еще нужно мужчине, особенно солдату, повидавшему огонь и смерть?
Слава Богу, что мне такая баба, то есть, пардон, леди, не встретилась на Земле. Влюбиться и влюбить, с моей стороны большего скотства и представить нельзя, ведь я здесь гость, причем недолгий. Как показали последующие события, с окончательными выводами я опять поторопился.
Интересно, подумал я, сколько бастардов посчастливилось наплодить мне? Удивлюсь, если ни одного, учитывая эротические подвиги от Италии до самого германского севера.
Похожие мысли родились и в голове Жана:
– Пауль, а у тебя детей нет? – добрый глоток вина, разбавленного водою, конечно, в рамках приличий.
– Не знаю, не знаком, – тихий смех и еще пара глотков.
– Ну а мечталось? Семья, дом и все такое, – кувшин в бокалы буль-буль-буль.
– Дом у меня был, а если бы была еще и семья… сам подумай, как все неудачно могло сложиться, – пальцами оплавленный воска со свечи, раскатать в шарик и прилепить к столу.
– Извини, что-то я не то сказал, – отскрести шарик и вернуть в чашечку подсвечника, показав глазами, как будет недовольна Франсуаза.
– Порядок, Жан. Видно ландскнехту такие вещи противопоказаны, рукавом протереть винное озерцо на алтаре столешницы, ведь Франсуаза и дальше должна улыбаться.
– Ну я же как-то справился? – отпразднуем это дело заемным весельем кубков.
– Прости, но ты всамделишным ландскнехтом никогда не был. Порода не та. Да и попал ты к нам уже женатый, ведь так? – снова кувшин говорит буль-буль-буль.
– Твоя правда. Покойный батюшка просватал когда мне семь лет стукнуло. Может оно и к лучшему. – Точно, родителю всегда виднее, хотя и не всегда доподлинно.
– Вот вернусь домой… не исключено, что я тоже остепенюсь. Буду, как ты, верный муж и любящий отец, – зачем я это сказал?
– Домой собрался? Ты же из Саксонии? Из… Дрездена, если память не изменяет? Кто у тебя там? Мать-отец живы? Смотри, не забудь пригласить на свадьбу! – разбавленный по-гречески нектар падает в пищеводы слабым огнем.
– Собрался. И как ты всё помнишь? Сколько нас мимо тебя промаршировало, а гляди-ка, про мой Дрезден запомнил, – скрипнувшее кожей кресло отпускает груз шестипудового тела, мягкие туфли шелестят на половицах, тихий ветер играет полотном шпалер.
– Я тебе жизнью обязан, так что ты – особая статья. И потом… ты же в армии фигура легендарная. Ну почти. Приятель Фрундсберга, при Павии самого Валуа захомутал, говорят. Это, кстати, правда? Да и про свадьбу, я ведь вполне серьезно напрашиваюсь, – показавший дно кувшин удален, его место на дионисийском жертвеннике занимает новый.
– Скажешь тоже «приятель»! Знаешь сколько вокруг Георга таких «приятелей» терлось? Адам – настоящим его другом был, хоть они и лаялись постоянно. А я так… опосредованный собутыльник. Про Валуа – всё точно. До сих пор награду за молчание пропиваю, ха-ха-ха. А насчёт свадьбы… я бы рад… честно… Скажи, я тебе врал хоть раз? Нет. И сейчас не намерен. Я очень далеко уезжаю. Очень. Ты ко мне домой за три тысячи лет не доберешься на самом быстром коне и под самым полным парусом. В Дрездене я никогда не был. А мать-отец живы, дай Бог здоровья, но живут они не в Саксонии. Где? Я боюсь, что даже объяснить толком не смогу, этих мест на картах нету. Я не пытаюсь интересничать, я правду говорю, пойми. – Разум хмелен домашним теплом, с ним в сравнении вино – водичка, я несу лишнее, но ничего не могу поделать.
– Говоришь правду, да видно не всю, ну и ладно. Тебе виднее. Я страшно рад, что ты приехал, – рубиновые брызги стекают по желтоватому стеклу бокалов.
– Точно, не всю. Не могу. Это секрет. Да не мой в придачу. Жан, если бы я мог… выписал бы тебе бессрочную визу на родину. Тебе бы понравилось. Какое там небо, какие женщины, хотя все необходимые женщины у тебя уже есть. Скажу только, что не позже июля следующего года я уеду. Исчезну. Как ни грустно, навсегда, – ладонь греет стенки бокала, желтые свечи ломают свет в благородной темноте красной жидкости.
– Во загнул. Но, Пауль, ты взрослый мужчина, если молчишь, значит так надо. Ха, а что там с небом у вас? Какое оно? – скрипит старый дом, ветер гуляет в дымоходе, мысли летают от головы к сердцу и обратно.
– Зелёное! Ха-ха-ха! Устал я очень. Давай по последней и в койки? – Текучая червлень сбегает в глотки, и мы уползаем навстречу утру.
Утро, новый день, новая жизнь. Как я надеялся на ближайший год.
Семья Жана Артевельде проживала в солидном доме – не доме, скорее, особняке, от которого за пять минут можно было дойти до замечательно красивой Синт-Якобскирк, в смысле, церкви во имя Святого Якова.
Это если двигаться на север. А если на запад, то через пятнадцать минут неспешного шага мимо плыли воздушные контрфорсы кафедрального собора и тебя встречал основательная трапеция центральной площади Гроте-маркт, ограниченная гильдийными домами, жилищами знатных горожан и строящейся ратушей.
Гроте-маркт, как легко догадаться, значит «гроссе маркт», то есть большой рынок, что вполне соответствует её изначальной функции.
Еще дальше стоял замок Стин, вроде как наш «штайн», то есть – камень. Недавно его обновили по последней моде, рожденной пушками и ядрами, а никак не штурмовыми лестницами и рыцарскими мечами.
Ну а за ним текла судоходная Шельда, давшая городу жизнь и процветание.
По доброй традиции первый этаж дома занимала «контора», где трудился Жан и его помощники. На втором и третьем – жили мы.
Просто так жить я не собирался, хотя трех сотен талеров мне бы хватило на год за глаза. Устраивать фехтовальное предприятие было неразумно, ибо я в скором времени засобираюсь.
Чтобы не загнить я помогал Жану с его мушкетно-аркебузным парком, а также гонял Филиппа до седьмого пота на дворе. И себя заодно. Жан смотрел-смотрел, не выдержал, и тоже принялся «трясти стариной».
Я купил отличные рейнские тренировочные дюсаки[83], шпаги и мечи «бастарды» с полукруглыми концами и тупыми кромками. И началось. Ну люблю я это дело, да и привычка. Филиппа, правда, ваш покорный слуга до «бастардов» допускал ограниченно, ибо юношеский костяк не был готов еще к свирепым нагрузкам длинного железа.
Местные умельцы, конечно, на такие условности плевали и запросто приучали к двуручному оружию лет с десяти, но я не так воспитан. Постепенность нагрузок – вот залог успеха в фехтовании. А то и не научишься ничему и покалечишься. Оно надо?
Вечерами я тетешкался с Сибиллой.
До чего чудная девочка! Хоть и баловная.
Постепенно сказки из меня посыпались, как из дырявого мешка. Разобрался в механике образования и врать стал очень ловко и увлекательно. Ребенку же счастье! И для загрубевшей почвы пустынного мужского сердца не без пользы. Расцвело оно оазисами, честное слово. Даже угрюмый матершинник Рихард Попиус превратился во вполне обаятельное существо, не без вредности, но все же. Вот бы он удивился!
Франсуаза ван Артевельде все мне прощала за Сибиллу.
Я и сам к ней привязался сверх всякой меры. Никогда не мог вообразить, что буду так носиться с дитём, да еще не своим. Словом, поселился в доме на правах того противного серого котяры, что столовался у меня в Любеке в награду за любовь к верному моему коню.
Конь, кстати, помер. Двадцать лет – срок для скотины, пусть даже акселерированной. Да и получил он от жизни и в хвост и в гриву свою черную. Из каких передряг мы вместе выезжали, не передать. Даже я чуть живой остался. Вот сердечко и не выдержало.
Похоронили мы его с Жаном в лесу за городской чертой.
Мы – пехота, нам далеко до той привязанности, что испытывают к лошадям кавалеристы. Но все же, все же. Я вполне искренне всплакнул и лично высек на камне: «здесь лежит конь по имени Дым».
А когда крошка Сибилла, которая успела покататься на его крепкой спине, сквозь рыдания спросила: «Дядя Пауль, правда Дымок попал в рай для коней?», я с трудом сдержал повторный заряд слез, честное слово.
Сколько мы лошадок забили и сожрали в походах? Сколько приняли на пики и порубали алебардами на поле при Павии? Никогда ничего внутри не шевелилось, а тут… Старый товарищ, что поделаешь.
Ну а Дыму суждено было поселиться в вечерних сказках.
Торжество протестантской торговли происходило у меня на глазах.
Труждаясь на нивах, Жан превращался в страшного скупердяя, прижимистого скрягу и беспощадного дельца. Так и надо, наверное. Мне это всё было чуждо. Магия дебета-кредита не возбуждала в душе священного трепета, а без этого служить Гермесу запрещается.
Ведь каждая работа в идеале должна быть служением, или можно такого напороть! Жизнь по-разному складывается, но общее направление такое. Я готовился стать жрецом Клио, а попутно загремел в марсовы жертвователи, как бы сказали древние греки- римляне.
У Жана я трудился по смежной профессии в храме вечной конкурентки Ареса Афины. Когда я озвучил свои соображения хозяину предприятия, он долго смеялся.
– Вот правильно тебя студентом в армии погоняли! Что у тебя в голове, Господи! Почему Афины? Почему не Марса, мы же ружья делаем-продаем!
– Э-э-э, тут тонкость есть! Марс – бог воинов…
– Афина то же, не ерунди, какая разница?
– Афина еще и мудростью заведует. Только не той, которой блещут старые люди, а скорее, секретами технологии. Если хочешь, ружье – технология на войне – самое что ни на есть афинино хозяйство.
– Тьфу, дерьмо, может мне пойти петуха в жертву принести? Все-таки вы католики малохольные все! Что ты языческой мутью голову забиваешь? Христа тебе мало?
– Тут еще одна тонкость. Если с точки зрения чистой логики рассматривать греческий политеизм, то его нельзя относить к религиозному учению в полном смысле. Это, на мой взгляд, философская система, отражающая воззрения на материалистическое устройство мира в религиозных терминах. Это псевдорелигия, понимаешь? Применительно к нашему уровню познания, конечно. Ты обратил внимание, что у греков понятие души разработано крайне слабо, а понятие посмертного воздаяния вообще отсутствует?
– А чёрт лысый! Знаешь что, давай я тебе Адама выпишу, а? Будешь с ним языком чесать, у меня сейчас голова лопнет! Как ты так можешь!? Слова почти все знакомые, а нихрена не понятно!
Так мы и жили.
Я принимал ружья от мастеров, следил за качеством стволов, замков, общей сборки. Хотя, жесткое цеховое устройство практически исключало появление дурного товара, но лишний опытный глаз в таком деле не повредит.
На примере местного примитивного огнестрельного оружия отлично прослеживалась спираль истории. Казалось бы, дульнозарядное, недальнобойное, неприцельное, ненадежное, а вот поди ж ты.
Во-первых, это только начало. То ли еще будет. Во-вторых, я как историк прекрасно знал, что мой мир много тысяч лет назад прошел через стадию освоения точно таких же кривых корявок.
Потом наступило всеобщее военное благоденствие унитарного патрона, да и то, тяжелая артиллерия лет через сто перешла на раздельное заряжание. Еще через полвека ученые теоретики и суровые практики в голос завопили о безгильзовом устройстве выстрела.
Сперва погрузили пулю в цилиндр взрывчатой смеси и вновь наступило благорастворение. Носимый боезапас больше, патронов в магазине больше, убивай не хочу!
Но не тут то было. Быстро выяснилось, что при адской скорострельности ствол нагревается и пороховой цилиндр легко взрывается преждевременно. Да и снаряжать магазины приходилось только в фабричных условиях, а в поле – фигушки. Проблемка та еще.
А потом наступила эпоха ЖВМ – жидких воспламеняющихся материалов. Пули подавали в замок, и туда же из двух баллончиков поступали компоненты взрывной смеси. Какое счастье! Мощность ого-го! Скорострельность ого-го!
А ведь это, как не крути, то самое раздельное заряжание, с которого все началось давным-давно. И держалось оно с вариациями тысячу с лишним лет. Во как. С ним и глубокий космос покоряли и воевали с беспокойными соседями. Только недавно последние образцы ЖВМ ружей ушли в музеи.
Теперь личное оружие все сплошь рельсовое. На страшной силе электромагнитного поля основанное. Метает пулю с направляющей, понимаете ли, разница напряжения поля.
А это уже полная архаика, выполненная на современном уровне. Вроде лука или арбалета. Ведь снаряд разгоняет не высвобожденная мощь химической реакции горения, а скрытая сила физической субстанции, только не механической природы, а электрической.
С доспехами тоже самое.
Совсем скоро грохочущее торжество огнестрельного оружия избавит земных вояк от тяжести лат, которые потеряют всякую актуальность.
И у нас так было. А представьте современного пехотинца без штурмового скафандра? Ха-ха-ха. Тяжелые варианты любому турнирному доспеху фору дадут в смысле веса. Килограмм по полтораста всяческих удовольствий. Без экзоскелета или электромышц с места не тронуться. Но это так. К слову.
Слава Богу, я ни разу не напился настолько, чтобы Жану, или еще кому, все это вывалить. Дисциплина ума, мля.
Беда пришла в город откуда не ждали.
То есть ждали, наверное, но эпидемия всегда приходит внезапно.
Хреновая вода. Антисанитария такая, что любой асгорский врач, даже неизбалованный военный «шприц», повесился бы. Плюс плотность населения, что проживало в городе на грязных улицах буквально на головах друг у друга.
Сточные воды с разнообразными нечистотами, а проще говоря, говном, что сливали в Шельду, а потом оттуда же пили. Кипятить воду, что за глупость! Руки-то помыть перед едой не всегда догадывались.
И вот вам результат – моровое поветрие.
Мы с Жаном были в отъезде по делам в Льеже. А когда вернулись, ноябрьский город встретил нас траурным крепом унылого колокольного звона и десятками трупов, что лежали перед домами. Специальные команды по утрам собирали их и сваливали во рвы за городом.
На этом профилактические мероприятия заканчивались, если не считать весьма условного карантина, заключавшегося в том, что явно больных в город не пускали и из города не выпускали. Что такое инкубационный период, понятное дело, никто здесь не подозревал.
Люди сделались злыми и замкнутыми. Все на всех косились, подозревая зараженного, но поделать ничего не могли, а от того свирепели еще больше. Никто не понимал, что происходит.
Сперва грешили на чуму, но любой мало-мальски сведующий лекарь отметал такой диагноз сходу.
Заболевший бедняга страшно дристал, раз по тридцать на дню. Пардон за подробность, дристотня, то есть стул, делался жидким, с какой-то пенистой дрянью хлопьями, наподобие неведомого злакового отвара. Жар и бессонница в ассортименте. Потом больной начинал блевать почем зря.
Ну а после всего тело становилось очень холодным, наступали судороги одышка и смерть. Иссушенное обезвоживанием тело с выступающими ребрами и пергаментным лицом выносили на улицу, накрывали тряпкой и ждали похоронной команды.
Какая там чума?! Зараза была не такая убийственная, но за ноябрь население похудело человек на триста, не считая бедноты, которую кто когда считал? Выздоровевших было очень мало.
Если дело доходило до тошноты – можно было смело читать отходные молитвы.
Лютеране обвиняли папистов, а паписты кляли еретиков лютеран.
Вторые служили молебны и усердно молились, а первые с кальвинистским фатализмом ждали пока Бог не укажет гневным ветхозаветным перстом на очередного грешника, которому наказание за грехи на роду написано. Проклинали ведьм и колдунов, несущих дьявольские козни, хотя публично лютеране в дьявола вроде как не верили.
Не самые действенные приемы борьбы с пандемией, да других не знали, хотя лично мне более человечным и христианским казался подход католиков.
Как бы то ни было, в январе болячка пошла на убыль, то ли молебны сработали, то ли, мор не жаловал холода. Но ещё полторы или две сотни несчастных успели покинуть этот мир совсем нелёгким способом.
Не было семьи, которую не побила бы болезнь. Жан лишился среднего брата, племянника и двоюродной сестры. Франсуаза оплакала сестру и тётю. Среди жуткого пиршества смерти отдельные потери как-то скрадывались, пока темный ангел не накрывал крылом твой собственный дом.
Я записался в похоронную команду.
Запретил Жану даже думать об этом, а сам пошел. Мне-то с гуся вода, местная бацилла была жидковата против убойных антител, что обосновались заёмным образом в организме вашего неумелого рассказчика. Трупов я в жизни навидался, причем всяких разных, так что внести посильную лепту было святой обязанностью.
Тем более, что я даже душевным равновесием не рисковал.
Числу к пятнадцатому, когда люди с облегчением завздыхали и стали появляться на улицах, та самая ветхозаветная страшная месть поразила жилище Жана ван Артевельде. Как это часто бывает, стрела вонзилась в хрупкое тело самого чистого существа из всех возможных. Я вернулся домой вечером и узнал, что малышка Сибилла слегла с кошмарным диагнозом.
Господи Боже, лучше бы заболел я!
Эта фраза тысячу и один раз повторялась убитыми родителями каждый день. Ничего не помогало. Да и могло ли? Слабенькое еще здоровишко не в силах было справиться с коварной заразой.
Франсуаза, бедная мать, превратилась в тень, а Жан носился по комнатам бессильным львом, мешая невообразимые богохульства с самыми строгими обетами своему далекому, безразличному протестантскому Господу. Юный Филипп плакал в голос и ходил в город к разным лекарям, которые по-пилатовски умывали руки. Лютик-Лютеция не отходила от кроватки сестры, что вот-вот должна была превратиться в смертное ложе.
Храбрая маленькая девочка боролась как настоящий воин за каждый лишний день и каждый вздох, ухитряясь слабеющим голосом утешать мать и сестренку. Она была обречена и быстро уходила от нас. Эпидемия вырубила здоровенного мясника Якоба, нашего соседа, за десять суток, у Сибиллы времени было куда меньше.
Что делалось со мной!
Я все чаще подходил к сумке с НЗ, но не смел прикоснуться, ведь на этот счет имелись самые строгие предписания. Я нёсся сквозь пелену слез к Сибилле, омывал её худенькое, дрожащее тело, а потом шел к себе и вновь мрачно пожирал глазами НЗ.
Крошка шепотом просила меня рассказать про веселого пикинера Эриха-Кабана и смущенно извинялась, если её тошнило, или она пачкала кроватку. Плакать малышка больше не могла. Нечем было. Почти вся вода, вместе с солью вымылась с поносом и рвотой.
Чего нельзя сказать про меня. Я много плакал. Запирался в комнате и самым постыдным образом ревел от бессилия. Огромный, здоровый мужик с руками по плечи в крови.
При Сибилле я держался, не знаю как, но держался, ей хватало слёз матери и брата с сестрой. В её комнатке я даже смеялся, сыпал шутками, врал, что она скоро поправиться и мы поедем в Льеж на ярмарку, где так много сладостей и веселых представлений.
Не знаю, что было страшнее, сидеть за мертвым, немым столом, где призраком пустовало место Сибиллы, смотреть в безжизненные глаза её матери, или вот так врать ребенку на пороге смерти.
Ребенок, впрочем, быстро повзрослел и не верил ни одному моему слову. Она сама меня подбадривала и благодарила за каждый новый рассказ или байку, называя «мой любимый дядя Пауль». С каждым часом голосок её делался все слабее, а глазенки видели, кажется, уже не только вонючую свою комнату.
Что мне было делать?
Не мог я сказать этому против воли повзрослевшему младенцу с рыцарской душой: «скоро ты умрешь», хоть и было это правдой. И отец не мог сказать, а Франсуаза вообще разговаривать перестала.
И я продолжал лгать, а Сибилла, по молчаливому уговору продолжала делать вид, что верит, фантазируя вместе со мной, как мы повеселимся в Льеже весной. Которую она никогда не увидит.
– Её больше не тошнит, – сказал как-то Жан, – она поправляется? Жар-то спал! Я ничего не стал говорить и пошел с ним наверх.
– Привет, папа, привет дядя Пауль. Хочу сказку, расскажи, как вы с папой взяли в плен короля. – Она одышливо покашливала и сипела. Очень нехорошо сипела.
Я приготовился к очередной байке, ясно понимая, что это, наверное, последняя. Черты её маленького личика заострились, губ почти не было видно, а большие глаза превратились в огромные озера чуть не с пол ладони. Лоб под рукой был холоднющий.
Жар спал, это слабо сказано. Так примерно градусов тридцать пять. Организм перестал сопротивляться.
– Отец, отец, – послышался озабоченный крик Филиппа с первого этажа, – лекарь пришёл! Мэтр Перпиньяк!
Какой доктор, – подумал я, – священник нужен.
Вошёл классический образчик эскулапа – лет сорока, среднего роста, худой, с орлиным носом и ухоженной бородкой. Движения уверенные, одет дорого, хоть и неброско. Он быстро и сноровисто осмотрел девочку и сказал хорошо поставленным скрипучим голосом сильно грассируя:
– Что я могу посоветовать. Необходимо пгименить влажное обегтывание. Внутгь пгинимать отваг когы дуба. А самое главное, необходимо пустить кговь, а потом поставить пиявок.
Когда послышалось «пустить кговь» мне всё-всё стало ясно. Это за гонорар пустит что угодно кому угодно. Я молча взял светило под локоток и вывел в коридор.
– На пару слов, – бросил я оставшимся в скорбной комнате.
Вместо пары слов ваш покорный слуга отволок светило к лестнице, не обращая внимания на «что ви себе позволяете, ггубиян».
– Иди коровам «кговь» пускать, козлина, – сказал я и пинком задал светилу направление полёта. Светило засучило ножками и послушно приземлилось на четыре кости.
– Если ты, узловатый хер, покажешься на расстоянии выстрела от этого дома, я из тебя говно выколочу всех цветов радуги! Пшёл отсюда! Дерьмо кошачье! Филипп! Проводи мэтра, он нас покидает. – Для убедительности мой кинжал впился в чавкнувшее дерево перил, что подействовало лучше любых слов.
Я вернулся. Сибилла посмотрела на меня преданно. В глазках читалось очень много, но она сказала просто:
– Дядя Пауль, а конь Дымок сможет покатать меня в раю?
Это был мой край. Прости Господи, я не выдержал. Да чего я ждал вообще столько времени?!
В комнате собралась вся семья. Все смотрели на меня и не понимали, зачем я так обошелся с доктором. Тишина была беременна бессмысленными вопросами и готовилась разрешиться лишними словами.
– Когда-нибудь, девочка. Лет через шестьдесят. Но пока рановато. – Я заложил ладони за пояс, качнулся на носках и как в былые времена офицерства лязгнул мечами и латами, выводя самого низкого обертона: – Все вон из комнаты. Быстро! – Потом голос сделался нежен, насколько я мог: – Сибилла, крошка, никуда не уходи, я сейчас.
Все ошарашено, словно против воли потащились вслед за мной. Никто и не подумал возражать, все испугались, что и требовалось в данный момент.
– Марш в столовую. Франсуаза, проследи. Жан, ко мне.
Пока онемевшая семья спускалась вниз а Жан исполнял команду «ко мне», скромный ваш рассказчик и недоделанный моралист, Пауль Гульди, он же Этиль Алинар, закрыл глаза, ахнул кулаком в стенку, так что штукатурка посыпалась и сказал длиннейшую, проникновенную фразу.
Если отжать нецензурщину и поминовения родственников, я объяснял герцогу Хаэльгмунду куда он может затолкать себе все свои инструкции и наставления. Потом я рассказал все что думаю про тех кто их писал, и что я с ними при встрече сделаю. Вспомнил тех, кто меня сюда послал. Институт наблюдателей вообще. Себя, какой же я глупый и безвольный. Тряпка. Снова Хаэльгмунда.
– …Хоть штрафуйте, хоть сажайте, можете даже расстрелять! – закончил я и только тут сообразил, что все это я высказал очень громко и на родном языке. Не на немецком. И что весь выводок ван Артевельде глядит на меня широко разинутыми глазами. Именно так: разинутыми.
Я глянул на младших и женщину так, что их сдуло. Взял Жана за грудки. И нырнул в омут должностного преступления:
– Брат, я сейчас буду лечить Сибиллу по-своему. Многое может показаться странным, но не смей мне мешать, я и так слишком долго медлил. Ты понял? Запри все двери и не мешай. Н-е м-е-ш-а-й. И прости, что я только сейчас решился. Исполнять. Да. И водки.
– Это для Сибиллы?
– Нет. Это для меня.
НЗ на сундуке.
Что мне нужно? Инъектор. Универсальный антибиотик. Универсальный солевой концентрат. Витаминный комплекс. Стимулятор. Антисептик. Диагност. Хотя диагноз и так на лицо с первых дней пандемии: холера. Нечто уносившее сотни тысяч жизней и давно забытое моим миром, но что лечиться, как апчхи.
– Будьте вы прокляты, – сказал я, не имея ввиду никого конкретно, потому что имел ввиду я слишком много людей. И альвов. И пошел спасать жизнь. В первый раз. Раньше только отнимал. Пора начинать.
– Сибилла, дядя Пауль принес волшебное лекарство. Мне только что один добрый эльф в дымоход его скинул. Ты только никому не рассказывай, хорошо? Пусть это будет наш секрет. – Понятно, что расскажет. Дай только добраться до подружек на улице. Я буду герой всех детских басен на этом берегу Шельды. И если бы только детских.
Наплевать. Уже наплевать.
Острая инфекция желудочно-кишечного тракта. Возбудитель – вибрион холеры. Так сказал мне цилиндрик-диагност приятным женским голосом. Как мы и думали. Антибиотик внутривенно. Капсулу в инъектор. Секунда на активацию капсулы. Готово.
– Сейчас будет немножко больно, девочка. Потерпи. Дай ручку.
Протереть место укола антисептиком. П-с-с-к. Ой. Вот и все.
Он «кговь» пускать собрался. Пиявок ставить. Козел. В теле и так ни грамма жидкости не осталось. Не знаешь, не можешь, так и скажи. Сука жадная, сколько ж ты народу на тот свет успел отправить за гонорар?
Универсальный солевой концентрат. Капсулу в инъектор. П-с-с-к. Теперь витаминов. Стимулятор. Общеукрепляющее. Три раза п-с-с-к. Сибилла не поморщилась. Молодец, храбрая девочка. Даже улыбается. Умничка моя.
Ну теперь только молиться. И о-о-очень много воды!
– Теперь ты поправишься.
– Спасибо, дядя Пауль. А как зовут того доброго эльфа?
– Хаэ… то есть я хотел сказать, – что бы соврать на этот раз? – Святой Николай. Он всех больных жалеет и тебя тоже.
– А разве Николай – эльф? – хитро прищурилась Сибилла.
– Он лучше любого эльфа, детка. – Что правда, то правда. Среди альвов, эльфов, какая разница, такие типы попадаются, что просто нет слов. – Попроси его от души, и он никогда не бросит. А пока поправляйся. Я пойду, твоих обрадую.
Теперь займемся старшенькими.
– Фрасуаза, – непререкаемо сказал я, отсекая вопросы, – сейчас девочка захочет пить. Очень захочет. Возьми котел и вымой его мылом изнутри. Тщательно. Не спрашивай зачем, просто вымой. Потом вскипяти воды. Я сказал вскипяти. Понимаешь о чем я? Это когда вода булькает и пузырится. Давать пить только кипячёную воду. Только.
В первый день она выпьет много. Не меньше двадцати лит… сорока пинт. Поить постоянно. Ты поняла меня?
– Она поправиться? – в глазах столько надежды, что чуть не расплакался от жалости и облегчения.
– Да. Франсуаза, теперь все хорошо. Ты здесь самое разумное существо. Слушай меня внимательно и запоминай. Никогда… то есть, всегда мыть руки перед едой. С мылом, тщательно, по локоть. Мыло ваше – дрянь, но это лучше чем ничего. Для готовки и питья употреблять только кипяченую воду. Фрукты-овощи и прочее мыть только кипятком. Кипятком, я сказал! Немытых плодов не есть! Запомнила? Это залог выживания. Меня следующий раз может не оказаться.
Теперь профилактика.
Я мысленно показал небу межрасовый жест, обозначающий эрегированный член.
Одну спас, я если кто ещё заболеет? Сколько они с инфицированной провошкались?
– Все подошли ко мне. Закатали рукава по локоть. – Картинка из меня та еще. Ворот расстегнут, в одной руке сияющий нержавейкой пистолет инъектора, в другой руке бутыль с водкой. В глазах боевая сталь напополам с алкоголем. – Протереть руку вот этим. – Бутылка звенит донцем по столешнице. – Хорошо, по одному ко мне. Будет больно, не дергаться.
Жан, Филипп, Лютеция, Франсуаза. П-с-с-к, ой. Четыре раза. Теперь всё.
– Свободны. Франсуаза, марш кипятить воду. Поить девочку, как коня перед кормежкой. Разойдись.
Хозяйка наша подошла ко мне, взяла за руку, заглянула в глаза снизу вверх, хорошо так снизу вверх.
– Кто ты, Пауль?
– Капитан ландскнехтов его императорского величества Карла V. – Я спрятал инъектор и хлопнул водки из горла. Грамм двести. А что еще мне было говорить? Я же не добрый эльф!
Вы думаете, что все закончилось?
Я имел наивность расслабиться, но не тут-то было! Иначе, зачем я так всё подробно расписывал? Как водится, фортуна потянула из меня жил и завила в веревочку только для разминки. Я мыслю, что лимит спокойной жизни окончился для меня в жирном любекском восьмилетии.
А быть может, ландскнехту просто не пристало так долго салом обрастать, для чего испекли для меня где-то там, где вершатся судьбы мира, замечательный кус напряжения. Чтоб порастрясти, значит, а что растревоженная душа при этом запросто могла с похудевшим телом расстаться, так это забота для высших сфер слишком мелкая: попрыгай солдатик.
Нельзя не учитывать людскую зависть, это силища сокрушительная.
Сибилла шла на поправку, я был счастлив, вместе с новой моей семьёю. Поглядывали на меня теперь по-иному, статус изменился. Раньше меня любили за что-то, за совместные годы «по яйца в крови», за геройский ореол, за детей, наконец, я Франсуазу имею ввиду.
Теперь меня любили не за что, а почему. Теперь меня боялись. Любили и боялись, даже Жан, так как из полкового приятеля, дежурного няньки и все прочее, я за полчаса превратился в бога, или ангела, или иное какое сверхъестественное существо. Причем не сошедшего Христа, или святого Николая, которого лютеране не почитали, а ожившее суеверие, что навсегда прописаны в тёмных языческих глубинах германских и кельтских душ.
Ожившее суеверие какими качествами обладает, помимо силы?
Правильно, оно капризное, своевольное и мстительное по мелочи, что в помножении на власть произвольно казнить и миловать, дает убедительный резон для страха. А может и не страха, но трепетной бдительности уж точно.
Ведь сегодня я захотел и вылечил девочку от смертельной болезни, почти с того света достал, а завтра припомню косой взгляд или, например, неласковый прием, озлоблюсь и прихлопну кого-нибудь на свой выбор. Или проклятие нашлю хитрое, что через поколение будет аукаться.
Словом, пораженное воображение способно напридумывать много страшненьких вариантов, тем более, что и придумывать ничего не надо – все в старых сагах написано.
Такого персонажа сама мать осторожность велит любить. На всякий случай.
Оно конечно, новоиспеченные лютеране кажутся людьми носорожьей толстокожести, но это только кажется.
Подумайте, эти люди так ревностно отрицают религиозность, что за свое отрицание готовы умереть со всем счастливым фанатизмом. Religio – я верю, если же за веру в неверие жизни не жалко, значит неверие это – самая настоящая религия и есть, хороша, плохая – неважно.
Самая основательная лютеранская лобная кость, стоит попасть за грань естественного, мгновенно распаутинивается трещинами и сыплется во все стороны кусками яичной скорлупы. За покровом ненадежного панциря часто оказывается визионер самого чокнутого свойства, ведь и сам Лютер кидался чернильницами в черта, реальность которого показательно отрицал.
Визионер, как правило, не тот парень, которому можно спокойно доверять опасную бритву, или, скажем, заряженный мушкет.
Как представишь себе: «Герр фельдфебель, считаю своим долгом сообщить, что мушкет бойца имярек снаряжен по-боевому и взведён», так на душе делается тревожно. А уж если их собирается много… хотя много и не нужно, вполне достаточно одного, в качестве искры для пороховой бочки.
Семья ван Артевельде, по моей милости, как раз за грань привычного порядка сходила в полном составе.
Бедняжке Сибилле положено было умереть, а я захотел и выгнал настырную нищенку с косой. Смерть девочки, даже перспектива её, была ужасным испытанием, но спасение было неправильным, вы понимаете, к чему я клоню, не так ли?
Я нарушил течение вещей, круговорот воды в природе и закон всемирного тяготения. О, конечно, за это преступление правил семья меня боготворила, описанным уже образом. Франсуаза глядела с таким обожанием, что скажи я: «Любезная мадам, выпейте яду», она бы только спросила где его взять.
Только крошка Сибилла все правильно понимала. Её внимательные глазёнки заглянули на тот свет вовсе не умозрительно, и всякая шелуха с окружающего облетела. Я остался «любимым дядей Паулем», который все знает и может. И сказку рассказать и у чёрта холерного отнять.
Она просто меня любила, как умеют только младенцы, за всё разом. Чудесное излечение было еще одним моим качеством, наряду с увлекательными байками и конём Дымком, через запятую, просто немного больше.
Во-первых, перемещение в сверхъестественный ранг в глазах близких людей для простого, самого обыкновенного человека, вроде меня, вовсе не приятная вещь, массой обременительных функций обременяющая.
Во-вторых, и это самое главное, несчастные Артевельде были не единственными свидетелями чуда, если так можно классифицировать мой шприц с антибиотиком.
Все вокруг знали что Сибилла заболела и определена райским кущам. Все вокруг знали, что неожиданный гость спустил подлого коновала Перпиньяка с лестницы, после чего девочка вдруг поправилась.
Логическая цепочка выстраивалась самая неприятная, не кошерная, как сказали бы покойные ростовщики из Любека. Особенно, если вспомнить сколько народу вокруг успело отдать концы, а в доме Жана все остались невредимы, что очень обидно для соседей, я ведь недаром помянул зависть в начале.
– Ну, спаси Господь, утренний пудинг сегодня бесподобен. Я у вас обратно растолстею, Франсуаза. – Конечно, конечно, герр Гульди, то есть Пауль, всегда пожалуйста, как скажете, то есть скажешь.
– Жан, торговля-то еще не ого-го, отпустишь меня из конторы? Пойду, погляжу, что там за дела в похоронной команде. Заодно и ноги разомну. – О чём речь, Пауль, конечно, Пауль, будь как дома, Пауль.
– Еще раз, спасибо за завтрак. Я пошёл, к обеду вернусь, не принести ли чего из города? – Ноги мыть, воду пить, герр Гу… то есть, Пауль, не извольте беспокоиться, ничего не нужно, ноги мыть, воду пить.
Нет, ну каково?
Тяжеловато жить идолом. Хорошо хоть жертвенной кровью не окропляют и не кормят сердцами юных девственниц, гы-гы-гы. Вот дерьмо!
Мостовые Антверпена подернуты инеем, на карнизах растут морковки сосулек, крыши сияют льдом восходящего солнца, ветер взял отпуск, красота. В такую погоду даже трупы таскать не в тягость, как сказали бы добропорядочные горожане, или «не в падлу», как сказали бы буйнонравные, жестоковыйные ландскнехты.
Мертвяков, тем более, не предвидится, ведь уже три дня в городе никто не отдавал Богу душу, кроме старушки Луизы, что жила за Домом Мясников, но это смерть почтенная, чистая – девяносто семь годков, пора и честь знать.
Да ещё пьяница Базиль убился, сверзившись из под стрехи, куда полез на спор.
Ну и хорошо, а то долбить мерзлую землю под братские могилы – то ещё развлечение, благодарю покорно, накушались. Видимо дружина могильщиков собирается последний раз, отчего не посмотреть на примелькавшиеся рожи и не откинуться на дембель с чистой совестью?
Полдесятого утра, добрые люди приканчивают завтраки и готовятся жить заново. Трубы отдымили, проталины на катках крыш опять прихватывает морозцем. Мороз – это здорово, охлажденное… э-хм-м-м… говнецо, на которое город богач, не так воняет. Вот как это все растает по весне, держись человек со свежего поветрия!
Улица Стрелков остаётся позади, рука привычно крестится на могучий шпиль собора, попирающий тучи Святым Распятием, а башмаки сами сворачивают в западном направлении к площади Гроте-маркт. Мимо проплывают дома, я ловлю себя на том что глаза привычно цепляются за пороги, выглядывая новую порцию холодного груза, а его и нету, чему я искренне рад.
Ноги-ноги, куда же вы? Я вовсе не хочу резать угол, выбирая короткую дорожку изотропного пространства! Я хочу прогуляться мимо Онзе-ливе-Врауэкерк (надо же, выговорил с первого раза!), насладившись ажурной красотой пространства анизотропного.
Это же так здорово, когда все равно откуда и все равно куда, а также когда, ведь там царит готический континуум истинной бесконечности, где нет места суете, связанной с шестернями времени.
Я иду в стрельчатой тени кающихся грешников, наследующих землю миротворцев, радующихся мучеников, мучающихся злодеев, куда же без них.
Дивлюсь, как в первый раз, на скованное воздушным камнем заостренное соцветие витражей, подмигиваю нахохленным горгульям, вполне языческим, но таким уместным. Истово склоняю голову пред торжеством Бога Живого и выхожу на рыночную площадь.
Которая Гротте маркт.
Под лесами ратуши, (когда же её достроят), как обычно собирается команда могильщиков. Я ещё удивился, что народу многовато, но отсутствие телег-труповозок радовало и широкий шаг отнёс меня к организованной нашей толпе.
А толпа-то немаленькая, как бы не с триста, а то и четыреста рыл, во понабежало! Обычно-то сорок человек, много пятьдесят. Будут потом все кому не лень хвастаться «как мы в мор мертвяков таскали», индульгируя этим последним, вполне мирным днём, ну и плевать.
Привычно ввернувшись в рыхлый людской строй, я принялся раздавать привет-приветы Петерам, Якобам, Гельмутам, Янам, Рогирам и разнообразным ванам. Только дойдя до самой середины, ваш наивный друг нечаянно обратил внимание, что привет-приветы никто не возвращает, а народ вокруг брусчатого топота моих башмаков как-то неестественно расступается.
Я бы даже сказал, противоестественно.
Народец напряженно молчал и по-плохому косился, упорно не смотря при этом в глаза, что странно. Хоть бы кто плечом толкнул, мол, лезешь куда, обругал бы дежурной матерной скороговоркой не выспавшегося бюргера, по морде хоть свистнул бы, с меня не убудет, все не так скучно.
Заскучать не дали.
Как по команде вокруг образовался отменной плотности круг, явно низводя персону рассказчика до постыдного нон грата. Трансформация общественного статуса требовала прояснения, я же вот с этими рука об руку тридцать с хреном суток таскал мерзлую мертвую плоть, так что воздух, все еще благорастворённый в моих легких, завибрировал вопросом:
– Что случилось, господа мужики?
«Господа мужики» попрятали глаза, насупившись не хуже тех горгулий, задвигались и еще сильнее замолчали. В привычном озере мужских голов наблюдалось изрядное количество голов женских, что меня слегка обескуражило – не место лучшей половине на этой отвратной страде, да лучшая половина обычно и не претендовала, а вот сегодня что-то поменялось.
– Ну и?
Густое молчание тоже поменялось. Из задних рядов покатился неясной волной шепоток, доросший к рядам передним в отчетливый девятый вал:
– Пришёл! Колдун! Чёрт! Одержимый! Чужак! Пришёл! Чертов сын! Язычник! Нечистое семя! Чертолюб! Пришёл! Содомит! Гад! Погубитель! Дьяволопоклонник! Антихрист! Хватай!!!
– Хватай? Я не понял, какой колдун, вы чего?! Кто? – Шёпот толпы был такой, что его уже приходилось перекрикивать. До меня не вполне еще дошло, но холодок в низу живота затрепетал, и зимний мороз был тут совсем не причем. Толпа дрожала и волновалась, а я стоял в середине, как дурак, все спрашивал что-то, а кулаки-то начали сжиматься.
И тут чей-то крик взорвал плотину:
– Не давайте ему говорить! А-а-а-а!!! Зачарует, заколдует!!! Руками его бери!!! Давай, не робко!!! Колдун!!! На смерть его!!!
Стройно и мощно поднялся согласный женский визг.
Замелькали воздетые кулаки.
Толпа дрогнула, качнулась и бросилась.
Тут я, наконец, получил в рыло. А еще по затылку, в ухо, в печень, и по почкам, в крестец, и много куда, а еще мне отдавили ногу, и я принялся сопротивляться и всячески давать сдачи, но куда там.
Секунд через шесть я был замечательно расхристан, завернут в бараний рог, схвачен, и от…уячен. Надо сказать, что били совсем не сильно, не насмерть и вообще по-детски, меня скорее старались обездвижить, нежели вырубить, что при подавляющем численном превосходстве удалось вполне.
– Потащили! Судить его! Убей колдуна! Йо-хо-хо! Заломали! – разнеслось торжествующе, отразилось эхом, замерло и вновь: – Завалили! Взяли! На смерть его! На суд! Йо-хо-хо!!! – Похоже суд и смерть слились синонимически, но хотелось бы знать за что и в чем дело. Может это шутка такая? По случаю избавления от морового поветрия, скажем.
Все оказалось проще пареной репы, до которой столь охочи добрые бюргеры. Не слишком добрые по случаю. Окончание мора было вовсе не при делах, причина и следствие крылись с противоположенной стороны истории – в начале поветрия, that`s point, как говорят братья англосаксы по ту сторону пролива и по эту. А шутками здесь даже не пахло.
– Суд! Смерть! Суд! Смерть! Йо-хо-хо! – как заведенная скандировала толпа. Меня отволокли к ступеням ратуши, надежно схватили сзади за одежду, сунули для понимания серьезности момента еще пару раз, после чего бюргеры расступились и начался суд.
Импровизация какая-то, честное слово.
Вперед вышли очень почтенные дяденьки и святой отец Ян Якоби – главный кальвинистский заводила в околотке.
– Как будешь оправдываться? – Обвинительно указующий перст с.о. Яна воткнулся в побитый абрис моего бюста. Я схаркнул кровь с разбитой губы, проморгался и выдохнул:
– Да в чём?
– Я спрашиваю! – С.о. Ян вовсю самоутверждался. – Кайся, грешник! – да я бы рад, конечно грешник, только в чём? Я заговорил прямо, безобинячно и нахально, что может быть и не лучшей идеей было:
– …Что вам нужно, что я сделал, хотелось бы знать?
– Грешник не раскаивается, ожидал. Объясню по доброте. Ты папист, все знают. Колдун, пришел в город мор колдовал, людишек морил! – Вот новость, так новость! А храм Артемиды тоже я?
– Тьфу, докажи…те! – слизняк худосочный.
– Грешнику доказательств? Полно. И почтенный свидетель магии грязной, чертова волхования, гадания, греха лютого, что как стрела летящая и зверь рыкающий, алкающий пожрать кого! – Похоже заправлял тут Ян Якоби, а дяденьки авторитетно помалкивали и важно кивали, дули щеки и напирали брюхами. – Лучше сам! Кайся! – Вот, спасибо, пояснил! Это я уже понял. Не дождешься.
– Я бы послушал, хотя вы уже все решили, или я ошибаюсь?
– Папист дерзит пред гееновыми вратами! Напросился. Слушай и трепещи, кара ибо близко! Папист, раз! Все знают? – Да! Да! Все знали!
– Как приперся, так и мором повеяло, два! Заметили? – О да! Заметили! Хотя между приездом и холерой прорва времени лежала, но это же такие мелочи!
– Трупцов грузил, не заболел ни разу, три! – И это вместо спасибо за помощь, герр Гульди, подумать только!
– Семью доброго Жана ван Артевельде колдовством заколдовал, черной магией, Люцефера, Асфарота и Азазеля помощью сильной Сибиллу ван Артевельде лечил, пять! – Н-да, считать мы не умеем, зато демонологию выучили отменно. – Как оправдываться будешь, а?
– Слова, слова. А доказательства где? – Да пожалуйста.
– Свидетеля! – Ух ты, недооценил я квалификацию и широту взглядов мэтра Перпиньяка. Он еще и стукач. Мэтра вытолкали вперед, он важно кашлянул, призывая к вниманию и заграссировал:
– Истинно пгавду говогит святой отец. Сибилла ван Агтевельде была пги смегти, что и было засвидетельствовано мною, уважаемым вгачевателем. Стоящий пгед почтенным собганием гегг Гульди не позволил облегчить стгадания гебенка, посгетством физического насилия, выпговодив меня вон, нанеся побои, следы коих вы, почтенные, можете по сей день лицезгеть. Понуждаемый покинуть болящую, я возносил молитвы о бессмегтной душе её, но Сибилла ван Агтевельде вдгуг нежданно попгавилась, в чём каждый может убедиться. Я свидетельствую, что никакая сила, кгоме пргямого Божественного вмешательства не могла её спасти, исключая лишь магические сатанинские пгиемы. – Всем спасибо за внимание. Поклон на четыре стороны. Перпиньяк уносит свое аскетическое тело со следами побоев за спины толпы.
– Вот! Какое вмешательство Бога, когда грешник – папист! Значит колдовал, как сукин сын! И не кается, дерзит! Кто еще скажет? – Городская демократия в действии.
– Да! – донеслось из толпы, – сильный как лошадь и мечём дерется, как черт! Человек так не сможет, я точно говорю!
– Вина доказана! – торжествующий перст с.о. Яна, торжествующе взлетает к торжествующим небесам, знаменуя триумф религиозной юриспруденции.
– Эй, уважаемые, а меня выслушать? – Это лишнее, за явностью состава преступления.
– Трепещи! Я доказал, теперь грешник весь ваш. – Реверанс авторитетным дяденькам и толпе.
Дяденьки шептались о чем-то, надо сказать долго шептались, хотя, может быть я страдал тогда ситуационной субъективностью. Но не я один, с.о. Ян тоже заметно нервничал, аж подпрыгивал, решительно включился в неслышный спор, который и разрешил в минуту своим ораторским напором.
Эхо доносило до моего слуха недалекое уханье барабана, видно марш этот тоже был по мою душу.
Я вдруг понял, что допрыгался. И сильно испугала меня эта мысль.
Die Trommel слышался все ближе и к его задорному бам-ба-ба-бам, явственно добавился Pfeifer spill.[84]
Толпа гудела яростными шершнями. Хорошо что холодно, подумал я, а то бы не поленились наковырять булыжника из мостовых и закидать вашего неудачливого рассказчика безо всяких там «вина доказана».
Как выяснилось после оглашения приговора, вот это было бы очень хорошо.
Вперед важно выступил один из бородатых авторитетных заседателей, или точнее, застоятелей, и трубным гласом провозгласил, оспаривая громкость у гула толпы и всё приближавшегося барабана:
– Приезжий Пауль Гульди, мещанин, признан виновным по следующим обвинениям: колдовство, гадания, чёрная магия, хиромантия, кабалистика, богохульство, волхование, сатанизм, жертвоприношения, вызывание нечистых духов, элементальная магия, наведение морового поветрия посредством колдовства, отравление колодцев и водоемов, покушение на убийство почтенного мэтра Перпиньяка, шпионаж и проповедь католической ереси, лечебная практика не сертифицированная городским магистратом и цеховыми мастерами! Повинен смерти!
Это просто какой-то сюрреалистический кошмар!
Меня не покидало ощущение нереальности происходящего, всё это просто не могло происходить со мной! Фарс судебного разбирательства, идиотические обвинения, как, скажите на милость, я ухитрялся совмещать проповедь «католической ереси» и сатанинские ритуалы?
Обвинительное выступление святого отца – нечто невообразимое.
Однако, приходилось признать взаправдашность здешнего цирка и свое объектное в нём участие. Ветеран битв за Империю, капитан, схвачен на площади и очень скоро его будут казнить, (стоило ради этого пронзать парсеки пустоты?).
Толпа постепенно прибывала. По брусчатке мела еле заметная поземка, а громадный неф собора безразлично продолжал свое вековое путешествие между городских крыш под сиюминутный аккомпанемент барабана и флейты.
Коллегия пузатая и бородатая, с тощей мачтой с.о. Яна Якоби снова засовещалась. На этот раз совсем не долго, полное согласие и единение. О, если бы я только знал, что именно мне приготовили!
– По настоятельной рекомендации, – все тот же основательный бородач в долгополом шаубе, – авторитетного священника, святого отца Яна Якоби, мы постанавливаем казнить колдуна через сожжение на медленном огне! Приговор привести в исполнение немедленно!
– Йо-хо-хо, – взревела толпа, раздалось, взметнулось и понеслось народное ликование, виновник мора найден и будет сожжен, – Йо-хо-хо!
Вот и дождался.
Любекские эпитафические опасения над кострами ростовщиков оказались пророческими, скоро я услышу то самое: «Веселей гори-гори, наёмник, йо-хо-хо», или какую местную вариацию на тему.
И мне будет все равно, ведь тело будет противно верещать и корчиться от щекотки медленных и слабых язычков костра. И защекочут меня до смерти, я увижу, как отваливается плоть от костей, если глаза раньше не лопнут от жара. И толпа вокруг будет вести свой неистовый брандль[85] с обязательным «йо-хо-хо».
А я им подпою.
И барабан с флейтой, я уверен, включатся, кто же такую забаву пропустит?
Господи, лучше было погибнуть от швейцарской алебарды, или под копытами жандармских меринов. Даже медленная смерть от холода в Альпах казалась высшим счастьем. Это же как засыпаешь… а тут… не знаю даже с чем сравнить. Вам когда-нибудь доводилось обжечь палец? Правда больно? А тут всё тело, до мяса! И очень не быстро…
Иисусе, жить-то как хочется!
Народ борзо взялся разбирать леса ратуши на дровишки. Меня по-прежнему держали на ступенях. Кто-то рачительный заорал:
– Вы не ума ли лишились? Не смейте палить рядом со стройкой! В минуту полыхнет! Айда в центр площади, вот сюда!
Ему откликнулся кто-то предусмотрительный:
– Веревка-то, веревка? Нету! Давай, кто-нибудь, сгоняйте за веревкой, его ж вязать надо будет!
Инженерно подкованный некто заключил:
– Столб треба! Потолще, столб! К чему вязать собрался, голова?! Вон ту балку вынимай. Пойдёт!
На площади воцарилась симфония согласного труда.
Груда дров в серёдке разрасталась и толстела по мере худения строительных приспособлений. Десяток мужичков покрепче, подбадриваемые сердобольным бабьем (надорвутся, бедненькие!), отволакивали мощную опорную балку от многострадальных лесов.
Как же изматерятся завтра прорабы!
Мимо меня сплошным потоком тёк ручей народа с палками и досками. Потом, тот самый инженер догадался организовать цепочку и дело заспорилось. Барабан задавал ритм работе, совсем уже близко задавал.
Праздные ленивцы располагались вокруг, выбирая наиболее выгодные ракурсы.
Святой отец носился по площади и всем мешал: ленивцам – лениться, а трудягам – работать. Это был час его наивысшего триумфа, куда там разным помпеям.
Флейта всплакнула за поворотом на площадь. Барабан отозвался бодрым речитативом.
В поле зрения показалось живописное пятно, трудно различимое в деталях из-за суетящейся толпы и проклятой близорукости. Какая-то мешанина ярких, вырвиглазных пятен и клякс под дирижерскими взмахами целого пернатого облака. Пятно медленно, но неколебимо рассекало людское копошение.
Вот и городской оркестр прибыл, – решил я.
Хотелось выть в голос, но я держался. Успею ещё.
– Готово дело! Давай дотаскивай дрова! И этого сюда, уж скоро докончим!
– Хворост нужен! И маслица бы, иначе хрен растопим – такая сырость! Растопку давай! И маслица, маслица!
Конвой сократился до двух верзил, куда я сбегу с заполнявшейся площади? Кажется, из цеха мясников верзилы, я ведь их знал в лицо по нелегким будням в похоронной команде. Вот как жизнь обернулась.
Меня вели вдоль древоносной цепочки, а я думал про себя, что очень эти цветные кляксы мне что-то напоминают, особенно в контексте дуэта барабана и флейты. Не хотелось на костер, вот слабый разум и цеплялся за всякую мелочь.
Мелочь.
Мелочь ли?
И тут… до сих пор не могу поверить. Оборачиваюсь назад и не верю.
Барабан смолк. Над площадью разнесся новый звук. Кто-то хрипло, но очень громко принялся вещать:
– Народ, мля! Кто хочет жить, ни о чем не думая, и умереть быстро? Записывайтесь в армию! Добро пожаловать под знамёна императора Карла V!
Бог любит пехоту.
Очень любит.
И меня заодно.
Я вмиг всё понял. Перья, барабан, знамена…
Зря конвоиры забыли, что я чертовски здоровый.
Выждать секунду и…
Мой башмак обрушился на свод стопы одного верзилы. Не успел он дурно заорать, а как еще может орать такая мразь, только дурно, как локоть врезался в нос второму, после чего ваш покорный слуга рванул, словно олень на случку.
Вы думаете собрался бежать, а зря! Я побежал сражаться, все равно так просто не уйти, хоть пошумлю напоследок.
Короткий спринт через ошалевшую бюргерщину закончился возле добровольных пиротехников.
Я ухватил приличную жердину и принялся делать то, к чему у меня призвание. Крушить с двух рук на пра, на ле.
Как же я разозлился!
Мне бы только места поболе, чтоб размахнуться! Место нарисовалось само собой. Никому не хотелось получить жердь в колено, а тем паче в черепушку. Поглазеть как человека жарят – это пожалуйста. А если человек вдруг норовит оглоблей в ухо – ну уж, дудки.
Остановить меня всё же пытались.
Бюргеры, если соберутся – народ серьезный.
Петер Хольст, суконщик, остался лежать со сломанной ногой, я отбил еще три шага, не помню кто, с рыжими баками, получил горячего в ключицу и осел, ещё три шага, добрый соседушка Жана пытался даже пофехтовать припасенной шпагой, но не учел превосходной массы и длинны жерди, проиграл соединение и просрал выпад, заработав боковой миттельхау[86] в челюсть, после чего исчез в медицинском направлении, а я выиграл еще пять шагов.
Куда я ломился легко догадаться. Подальше от костра и поближе к своим.
Своим!
Ландскнехты пришли!
Посреди эллипсоидов спасительной жерди, кто-то ловкий умудрился подскочить ко мне и обеими руками яростно схапать центр древка.
Какое счастье, с.о. Ян Якоби собственной персоной! Какой неугомонный попик. Я прикрыл бедром свои нежные тестикулы, куда тыркалась его коленка, весь откинулся назад и с наслаждением ахнул лбом в харизматическое лицо прокурора-любителя. Тот оставил впокое жердину и занялся своей перекошенной личностью.
Я размахивал палкой, пинался, бежал, прыгал, скакал и очень много разговаривал, всего и не вспомню.
Кажется я говорил «г-р-р-р-р», «ы-ы-ы-ы-р-р-р», «н-а-а-а», по-моему было еще «х-ы-ы-ы», и точно «бля-а-а-а».
Меня почти заломали, но я вырвался. Почти затоптали, мечущиеся горожане, но я ушёл. Находчивые бюргеры придумали кидаться дровами, что так торопливо запасали, но верному прицелу здорово мешали бюргеры ненаходчивые, что бегали по площади.
Таким образом, ваш везучий повествователь, лишившийся рукава, двух зубов и пары миллионов нервных клеток, но сохранивший жердину, жизнь и честь, что остались в целости, совсем как у кайзера Франца после Павии, выскочил из толпы прямо на имперских вербовщиков.
А кто это ещё мог быть?!
Полурота – сорок алебардистов и десяток мушкетеров. Краса и гордость ландскнехтских баталий. Вамсы в разрезах, рукава шириной с Ла-Манш, огромные береты с павлиньими и страусиными оперениями и, конечно, эпатажные гульфики.
Развернутое знамя с родным андреевским крестом и четырьмя кресалами. Два флейтиста. Писарь.
А под знаменем на барабане… лопни мои глаза!
Слегка погрузневший, украсившийся колоссальными огненными усами до ушей и шикарным косым шрамом на морде, здорово возмужавший, если не сказать, постаревший, ветеран великих сражений и удалых кабацких драк, герой детских сказок – веселый пикинер Кабан-Эрих!!!
Кабан восседал на барабане, те теряя достоинства, взирал маленькими свинячьими глазками на суету жирных бюргеров. Завидев мою попорченную персону, он собрался что-то рявкнуть, но вдруг с треском захлопнул свою обширную пасть и так вылупился, как будто очень хотел, но совсем не мог снести большое яйцо.
Я браво щелкнул каблуками, безукоризненно выполнил «к ноге» моей жердью и, не давая опомниться отрапортовал, поводя челюстью в такт словам:
– Герр гауптман! Пауль Гульди, умелый солдат, для прохождения службы прибыл!
– Эрих скривился, что обозначало самую дружелюбную улыбку, но быстро вник, что обстоятельства вербовки, мягко говоря, не самые штатные. Сзади собиралась туча разозленного народу, постепенно приходившего в себя.
Опытный ландскнехт начал действовать:
– Гельмут, – писарю не поворачивая головы, – этого зачислить на довольствие.
– Встать в строй, – это мне.
– Чего надо? – Это горожанам, протягивая «н». И выразительный плевок под ноги.
Стена людей колыхнулась, выпуская самых говорливых.
Впереди образовался давешний бородач, настроенный воинственно и решительно в компании с.о. Яна, настроенного мстительно. Настоящая фурия с залитым кровью лицом и новоприобретенным гасконским носом.
– Солдат, я Себастьян ван дер Виртенбрюк, заседатель городского совета. А это святой отец Ян Якоби, уважаемый священнослужитель! – как будто кто-то интересовался их именами.
В ответ снова долгое «н» дуэтом с «у»:
– Н-н-у?
– Этот человек, – пальцем в меня, сколько можно тыкать в меня пальцем, – опасный преступник, уличенный в колдовстве и отравлении водоемов, повинный в моровом поветрии, поразившем город, приговоренный к смерти через сожжение на костре!
– И?
– Что, «и»? Что, «и»!? Солдат, вы издеваетесь?! Вам не понятно кто перед вами?! – Ван дер кто-то срывается на крик и почти топает ногами, он в ярости, бедняга, – вам надлежит немедленно, вы слышите, немедленно, выдать этого человека в руки правосудия! И побыстрее! Как вы смеете передо мной сидеть?! Встать!!!
Кабан, еще прочнее устраивая надежный зад на барабане:
– Не хочу. – Просто все не хочет, неужели не ясно. Ни выдавать, ни, тем более, вставать.
– Что?! Что?! Молчать! Немедленно, я сказал! В руки правосудия! – Как много лишних движений тазом и конечностями. – Или… или…
Страшно нахмуренные брови и угрожающее пузо.
– Или что?
– Не дерзить мне! Не дерзить! Или мы сами его возьмём! – Заседатель слегка прыгает вперед, руки делают вверх-вниз, а борода только верх, в тылу с.о. Ян умело тянет октаву гнусавым, отныне и навсегда гасконским носом: «Саби возьбёб! Саби возьбёб!».
Кабан медленно с расстановкой встаёт навстречу, оказываясь почти на голову выше меня и на все полторы выше ван дер кого-то. Он упирается шёлковой эрекцией гульфика в заседательское брюхо и приглашает:
– А ты попробуй, отрыжка маминого места.
И еще один длинный плевок.
Home, sweet home[87], как говорят братья англосаксы по ту сторону пролива и по эту.
Глава 12 В которой описано, как Пауль Гульди находит любовь и неприятности
Здравствуй Испания! Иберийская могила восьмивековых арабских завоевателей, родина быстроногих коней и ловких наездников, пыточный станок экзальтированного еврея фра Томазо[88], великий порт великих географических открытий.
Ну, здравствуйте, здравствуйте, так ответила нам Испания, шевеля холодными губами зимних штормов, ветров и дождей. От такого приветствия мы едва не потонули тысячу и два раза, сильно переблевались от качки, а я порадовался отсутствию любезного друга Адама Райсснера. Вот уж кто волны на дух не переносил!
Перед Геркулесовыми Столпами все наши три каракки собрались после чудовищного шторма и нырнули в легендарный бассейн Средиземноморья со всеми его Харбидами, островом Сицилия, которым Афина в своё время прихлопнула какого-то титана и сказочными змеями, что до сих пор усеивали старые карты. Ну а дальше: Малага, Альмерия, Картахена, Аликанте, Валенсия, мыс Тортоса и Барселона, куда нам и нужно было. Привезли шесть сотен свежих тушек для непобедимой испанской армии.
Я помню, как удивился названию Картахена – Новый город. Сколько же было таких! Карфаген ведь тоже «Новый город». В Московии, как рассказывали, Новых городов имелось три. Про один точно знаю, много купцов оттуда видал в Любеке. Об остальных врать не стану, ибо земли там незнаемые и таинственные.
Если подумать, название вполне оправданное и логичное. Построил город, а название уже готово, город-то новый! Но это к слову.
Куда же нацелилась армия на этот раз? Да еще так вовремя для меня, учитывая не вполне мирное прощание с Антверпеном. Никакого секрета, еще просиживая штаны в Любеке, я со дня на день ждал начала войны с Турцией.
Французы активно сносились с Блистательной Портой, сулили помощь и нейтралитет, норовя чужим жалом поразить Карла V. Турецкий паша, в прошлом берберский пират из династии пиратов, Хайраддин Рыжая борода, захватил Тунис. А в Тунисе-то правили дружественные Империи людишки, которые тут же заверещали и потребовали помощи и восстановления законного порядка.
Наш обожаемый кайзер два раза просить не заставил – Турка он люто не любил, да и крестоносная романтика покоя не давала.
И понеслись гонцы по Европе!
Очередной «Вечный мир» благословлён папой. Французы (даже) разрешили своим солдатам наниматься для столь богоугодного дела. Сами, правда, в это время продавали пушки и порох туркам и Хайраддину лично, но прищучить их не удавалось, а на нет, как известно, и суда нет.
Мы же собирали силы. В Испании собиралась огромная армия и еще одна в Италии. В мае объединённый флот, водительствуемый несравненным Андреа Дориа выступал в поход на Тунис.
И я вместе с ним. Тем более, что война – лучший способ «пропасть без вести» под шумок, что мне предстояло проделать.
Как удачно я унёс ноги из Антверпена! Слов нету.
Когда Эрих (в самом деле гауптман, подумать только!), выматерил и послал ко всем чертям жаждавших крови бюргеров во главе с ван дер кем-то, пришлось для острастки пальнуть из мушкетов и выставить алебарды.
Связываться побоялись, и наш маленький отряд счастливо дотопал к дому Артвельде на улице Стрелков за пожитками вашего покорного повествователя. Что меня там держало кроме НЗ, записок, меча (который нельзя было терять ни в коем случае, помните про полисталь внеземного происхождения?) и памятного доспеха? Да ничего.
Попрощались с Артевельде. Жан завздыхал, но с нами не ушел, сказал только:
– Нельзя всю жизнь драться, Пауль. Прощай и да поможет тебе Бог.
Кабан, понятно дело, удивился, это далеко превосходило грань его фантазии, как так, солдат не идет воевать? Я пояснил:
– Свин ты мой ненаглядный, Жан пулю в живот получил, он не боец больше! – На что Эрих долго бурчал что-то вроде: – Так бы сразу и сказал, а то: «нельзя драться, нельзя драться». Конечно можно!
Все плавание от устья Шельды до Барселоны, в промежутках между сеансами вербовки в портах, тошнотными спазмами на волнах и попытками выспаться, были заполнены разговорами и разговорчиками.
Как же мало нас осталось!
От той компании, что я застал в 1522 году под Мюнхеном, осталось человек с пятнадцать, вряд ли больше. Старый Йос дошел до Рима и там умер, сразу после успешного штурма. Курт Вассер погиб в пьяной драке с наваррскими наемниками. Рихард Попиус, всему полку известный матерщинник и хам, пропал где-то и от него ни слуху, ни духу.
Мои лейтенанты, что участвовали в памятном походе Фрундсберга на Рим, погибли все до одного. Точнее, двое погибли, а Петер Трауб подхватил сифилис и благополучно загнулся. Адам при особе Каспара Фрундсберга, стал важный и слишком высоко летает. Его в армии давненько не видели. Конрад Бемельберг – в строю. Кабан в его полку гауптманом.
Вот такой расклад, как говорят картежники.
Армия – мой дом родной, как не крути.
Попал в полковой лагерь, и уютом пахнуло: пот, грязюка, вонизм выгребных ям, материальная ругань, незатейливые подколки – все мое, родное. История вернулась на круги своя, а точнее завершила очередной виток спирали. И я вновь оказался на том же месте, откуда начинал дюжину лет назад, только повыше.
Еще бы! Теперь-то я «умелый солдат», как минимум, а тогда был кусок коровьего помета на штанине старших товарищей.
Я изменился, и все вокруг.
Нет-нет, не подумайте, шуточки и песенки остались прежними. Как прежде маршировали на плацу ландскнехты, как прежде надрывались капралы и сыпались удары фельдфебельских алебард на бестолковые спины новобранцев. А вот лиц знакомых почти не увидишь. И знакомый швабский говор нынче то и дело разбавляется чем угодно, от саксонского наречия, до голландского, чего в тяжелой пехоте раньше и представить нельзя было.
Одежка осталась самой яркой, но рукава теперь шириной с Ла-Манш, что я уже писал, штаны – не штаны теперь, а штанищщи, мордатые же ботинки пропали, уступив место гораздо более скромным туфлям с узким квадратным носом.
Мой доспех – роскошная вещь – весь в мелком рифлении с благородной полусферой кирасы, вызвал завистливой цоканье и причмокивание.
Я было задрал нос, но очень быстро понял, что зависть эта имела природу восхищения перед настоящим антикварным шедевром. Больше никто не стремился ходить на войну в рифленой стали, кроме разнообразных ретроградов, или стильных модников.
А все мушкеты.
В бытность мою, частые ребра замечательно отражали удары клинков и пик, делая ненужным увеличивать толщину пластин. Теперь же тяжелая пуля легко застревала в рифлении и выворачивала лучшие латы наизнанку вместе с владельцем.
Новые германские доспехи все были гладкие с остроконечными тапулями[89] на кирасах. Итальянцы все сплошь принялись сменять пузатые свои латы на яйцевидные конструкции с осиными талиями, тоже гладкие. В армии отныне правил царь Рикошет!
Наклонные листы, причем кирасы в центре доходили до пяти миллиметров, то есть, тьфу, одной пятой дюйма. Я таких толщин ранее и вообразить не мог, нахрена?! А рыцарские шлемы? Весом в пол наковальни?
Да-а-а. Эпоха мечей уходила стремительно.
– Это ничего, – утешил Кабан, поностальгировав над моей кирасой, – мы ж не с французами воевать идем, с турками, а откуда у турок мушкеты? От легкой пули защитит, не бзди!
Да я как-то и не бздел. После счастливого изъятия моей персоны из Антверпена, я даже не знал чего вообще теперь можно бояться. Отбоялся.
Когда мы добрались до лагеря, начались неожиданные встречи.
Первым я встретил, кого бы вы подумали? Моего крестного отца – оберста Конрада Бемельберга, в точности разыгравшего антверпенскую пантомиму Эриха на тему насестки с непомерным яйцом в яйцекладке, или беспросветно какающей мышки. Отзвучали «эй-ге-го», отхлопали чечетку ладони на спинах, вытерлись сопли и слюни с бород, после чего Конрад буркнул:
– И что мне с тобой делать? В фанляйне Эриха рядовым оставить? Позорище! С другой стороны, свободного фанляйна по твоему званию у меня нету. – Он сильно задумался, теребя совсем уже сивую бороду: – Ладно! Зато роты есть свободные! Мы тебя с учетом потери квалификации с понижением зачислим в ротмистры! Будешь служить пока суть да дело в кабанячьем фанляйне, во! Ну, иди сюда, я на тебя погляжу, или пойдем выпьем вообще?
Закономерность и ожидаемость предложения вовсе не подвергли инфляции его приятство. Тем более, что в кантине меня ждала еще одна неожиданная встреча.
За столом сидел, мусолил кружку и что-то писал в книжечке, пользуясь утренним светом, мой любезный друг, собутыльник, товарищ и наставник – Адам Райсснер!!!
– Твою мать! – Только и сумел сказать ваш покорный. – Твою-то мать так! Конрад, что же ты молчал?!
Пока я распинался и придумывал, как ловчее приступить к телу тыщщу лет невиданного задушевника, тело услышало, подняло голову, сыграло ртом и глазами в какающую мышку, после чего мы вознамерились лихо перемахнуть стол, в результате оба попрали его ботинками и принялись обниматься, разнообразно ругаясь и подвывая.
От радости, конечно, а вы как думали?
– Адам, м-мать, ты откуда здесь? – затянул я обычную песенку после долгой разлуки.
– Ты думал я пропущу такое модное собрание?! Сливки общества со всей Европы, а я в стороне, да? Хренушки! – его пальцы очень по-фрундсберговски сплясали перед моим носом танец «нет-нет-нет». – Ты то сам, какими судьбами?
– Случайно, Адам, случайно! Меня, представляешь, хотели сжечь в Антверпене как колдуна, а тут Кабан нагрянул с вербовочным отрядом, ну я и дал деру. – Меня переполняли слова и вопросы, рассказы и еще вопросы. Хотелось столько всего поведать и о стольком узнать, что Бемельберг, опытный со всех сторон, молвил:
– Ага. Я вижу сегодня мы в должность не вступим. Разгильдяй ты Гульди. Как был студентом, так и остался, хотя уже в кирасу поди не влезаешь. Хорошо, в честь давнего знакомства, слушай мою команду: до утра пить! Чтобы авансом на будущее. Потом дел больно много, некогда языком трепать будет. Исполнять!
– Есть исполнять! – гаркнули мы с Адамом, а Конрад хмыкнул, что намерен возглавить лично.
Да со всей нашей радостью.
– Колду-у-ун значит. Значит колду-у-уешь, – протянул Конрад часа через четыре, сидя в отменном кабаке неподалеку от барселонской Аудиенсии. Он катал по лопате своей ручищи бокал подогретого вина и ковырял острейшую местную паэлью. Все мы были уже не вполне того. – Н-н-у, рассказывай, как мы докатились до жизни такой? От честного капитана, до поганого сатаниста?
– Па-а-ашел ты, герр оберст, – отбрехивался я, растекшись локтями по столу.
– Докладывай, а то в будку получишь, – посулил Конрад, не изменивший капральским замашкам за много лет. А с чего бы ему?
– Да-да, докладывай, – подъехидничал пьяненький Адам из пьяненького угла, – а то в будку получишь.
– И ты тоже па-а-ашел ты. У-у-у-у… чем тут поют? Трусит меня чего-то… Да короткий рассказ. Помните у нас служил Жан ван Артевельде в мушкетерах? К Павии уж в лейтенантах ходил, шустрый такой парень? Во-о-от… о чем это я? – Несколько минут мы отдали чтобы точно удостовериться, что все вспомнили Артевельде, а потом чтобы вернуть румпель разговора на изначальный курс. Меня меж тем понесло, вино местное уж очень сносило бошку, моя уже болталась на одном шарнире:
– Слушайте, словом. Любекские паразиты, с которыми я имел пофехтовать, если можно так сказать, о чем я вам уже в общих чертах имел честь рассказать, словом, я их всех почти убил. То есть убил почти всех, а тех, кого убил, тех насмерть, вдребезги, а одного отпустил, чтобы боялись, значит. А город-то захватили крестьяне, те самые, с которыми, некоторыми из которых, я имел пофехтовать, и которых я всех почти убил, то есть убил не всех, так что мне из города пришлось линять нахрен, пока меня не нашли и не сделали, как с ростовщиками: «веселей гори-гори, жидяра, йо-хо-хо», в том смысле, чтобы не завалили меня нахрен жестоким и необычным способом, что было бы справедливо, но лично для меня неприемлемо, ведь так? И вот порубал я их и давай из Любека, только пыль столбом, а куда мне? А за месяц до этого у меня бухал дома тот самый Артевельде, которого мы все хорошо помним и позвал к себе вроде в гости, а то и пожить, вот я и метнулся в Антверпен к Артевельде, ведь тот сам звал, так, это раз, старый товарищ, это три, то есть два, и вообще, какого чёрта, звал – получи, вот я и приехал, потому, как было больше некуда, а мне ж еще год кочумать, сами понимаете до чего, ага, так, ну вот и приехал я в Антверпен. Там мы торговали ружьями и напивались каждую субботу с Жаном, а потом началась у них холера! Вы не знаете что это такое, но гадость жуткая типа чумы, только все дрищут, вроде как при дизентерии, но – это холера. Я, ясно дело, в похоронную команду, потому что мне все по хрену, ведь я ландскнехт, а людишкам помочь треба. Ну и напомогался, пока дочка Жана Артвельде не подхватила холеру и не стала помирать, а тут приходит, сука, доктор Пер-пер-перпиньяк и говорит, давайте ей кровь пускать, а мне, в смысле ему, денег. Я говорю, братишка, какая кровь, пошел на хер, коновал долбанный и дал ему натуральных звиздюлей, все как мы любим, а девочку вылечил, потому что я не сраный коновал, а имперский гауптман, и все умею, причем могу и бесплатно. И звиздюлей выписать и рецепт, значит вот, понимаете? Ну и она, значит, поправилась, я еще в похоронной горбатился, как черт, туда-сюда, трупов-то немеряно, а мне насрать, натурально, однако… и что вы думаете? Стали на меня гнать, что я колдун, что девочку вылечил, и на похоронной не заразился ни разу, хотя какой там «ни разу», там, раз заразился и считай, что уже на том свете. И взялись меня обвинять, что я колдун и еще черт знает что, был там у них один борзый поп-кальвинист, так вот почти под монастырь подвел, когда появился Кабан с вербовщиками и вытащил мою жопу из под этого дела, за что я ему безмерно благодарен, хотя я и сам не лыком… своротил пару рыл оглоблей, вломил тому борзому попу, что чуть меня не угробил и не подвел под монастырь, в нюхальце, я про попа говорю, а не про кого еще, хотя и кому еще тоже досталось, в общем мы утекли. Во-о-от, а я думаю, что вот оно как обернулось, что с козлами этими месяц пахал, землю грыз, а они неблагодарные ублюдки, или как еврейчики в Любеке говорили «барабухи»… – свои излияния я сопровождал ручной пантомимой типа «театр теней», а так же плавным ножным смещением, типа медленный танец соло.
Я так довольно долго вещал, совершенно загипнотизировав своих товарищей, а заодно и себя, пока, наконец, Конрад не захлопал глазами и не сказал, распугав морок:
– Э-э-э… я ничего не понял. Что он говорит?
– Поясню, – ответил Адам, – в Любеке он кого-то убил, сбежал в Антверпен, где его приняли за колдуна, так как он вылечил дочку Жана. Хотели сжечь на костре, а тут Кабан его спас. По-моему, все просто.
В таверне (какая-то очередная испанская «Таррагона», точно не помню) было полно солдатни: ландскнехтов и испанцев, некоторые меня знали и слушали, развесив уши.
Реплику Адама – торжество критического разума, встретили овацией.
Далее отдых, повторное врастание, так сказать, в армейскую атмосферу, прошло в направлении проблескового сознания. Легко догадаться, что чем дальше, тем короче делались проблески.
Один проблеск был достаточно длинным и нёс содержательную составляющую, помимо: «ты-меня-уважаешь-я-тебя-уважаю» и тому подобного кала. Не скажу точно кто её автор, но идея была высказана.
– Камрады, сегодня у нас… у нас… ё-о-о… 22 февраля, во как! А значит, значит… послезавтра 24! – тонкое наблюдение, что и говорить.
– Н-н-у? – спросили все.
– А еще нынче 1535 год, во как! – Еще одно открытие. Мы уж начали покидать пароксизм ясного сознания, когда некто нас просветил и вообще одернул, он, оказывается, толковую вещь пытался донести.
– А 1525 год был десять лет назад! Во как! Стало быть, послезавтра… главное не сбиться, будет ровно десять лет с 24 февраля 1525 года! Во как!!!
Мы, конечно, напились, но дата начала пробивать дымовую завесу алкогольных паров. 1525 год 24 февраля… так ведь это же Павия! Павия, друзья и товарищи! Величайшая битва эпохи! Десять лет минуло!
Первым нашелся Райсснер, который развил в меру возможностей бурную активность:
– Так. Ищем ветеранов. Всех кто выжил и нынче в армии. Испанцев, ландскнехтов, пушкарей, рыцарей, саперов – плевать. Всех. Собираем в кантине вечером 24… и… я не знаю… празднуем! Господи, чуть не прохлопали такую дату!
Не подумайте плохого, мои верные читатели, мы не искали повода, чтобы выпить, это мы могли всегда и безо всякого повода. Но не вспомнить такое побоище мы не могли.
Это невозможно объяснить, но мы помнили, как шли в атаку в составе колоссальной военной машины, которая никогда ранее не собиралась, причем, напротив была точно такая же машина. Столкновение было ужасным… забыть такое нельзя. Тем более, что над полем реяли настоящие боги войны: Шарль де Бурбон, маркиз Пескара, Шарль де Ланнуа, Антонио де Лейва, Анн де Монморанси, Франциск Валуа, о Фрундсберге я уж и не говорю.
И кто из них пережил эти десять лет? Монморанси и Франциск I, но – это враги. А наши все поголовно на том свете. С ними легион простых ландскнехтов. Вот их то мы и собирались вспомнить по-простому, по-солдатски.
Домой возвращались уже утром, хоть и затемно. Я шел коренником, подпирая Бемельберга и Адама. Мы гундосили песенку про поход на Рим, ту самую, которая так напугала меня в Любеке.
Выяснилось, что мы трое знаем три разных её варианта. Конрад ругал нас «сукиными детьми» и «проклятыми жопниками» и клялся, что его учил словам сам автор. Когда разобрались со словами, началась неразбериха с мотивом. Так, преодолевая трудности, мы плелись в лагерь, добиваясь симфонической слаженности. Выходила какофония, но мы честно старались. А ревели вообще отменно громко.
Не понимаю, что еще нужно в музыке? Если душа поет, она должна петь без стеснения! А всякие там «фальшиво-нефальшиво», по-моему, придумали зануды и завистники. Ноты какие-то… суета и глупость. Главное – громко чтобы! И слова, что б за печенки хватали.
– Не отвлекайся, лысый удод! – окликнул меня Конрад, который, ха-ха-ха, был образец обладания прекрасными локонами, – пой давай!
А отвлекался я не просто так. Ветер раздернул тучи, и я сквозь пелену близорукости, которой алкоголь сообщил непредсказуемое двоение и троение, наблюдал небо. Там было на что посмотреть: моя любимая звезда, обрастая хвостами пламени с разных сторон, проползла чрез горизонт с востока на запад четверть часа назад.
Как бы тебя назвать, думал я краешком сознания. Любекская звезда, вроде как Вифлиемская, но рангом пониже, да ведь и я не Христос. Жаль только трех волхвов с дарами я в Любеке не дождался, пришлось бежать от гнева тамошнего ирода налегке.
– Ты сбиваешься, родной, – это Адам на чеку, – давай вместе: – вир коммен цу Триест…
Сбиваюсь, сбиваюсь конечно. Трудно не сбиться, если челюсть только что чуть не вышла из зацепления.
Со стороны могло показаться, что я так неудачно зевнул, и это будет правда, но не вся. Я, в самом деле, зевал, но в пиковом состоянии челюсть замерла и чуть не пошла ниже, уже от изумления. Я, кажется, даже протрезвел: любекско-вифлиемская звезда возвращалась! С северо-запада на юго-восток. Теперь это была совсем большая горсть огня с ноготь большого пальца.
Вот паразиты! Мало им на низкой орбите болтаться, так они прямо на глазах у аборигенов развернулись и поползли в обратную сторону! А тут кое у кого уже и телескопы имеются! Это же элементарные правила: НЕ! ДОПУСКАТЬ! АКТИВНОГО! МАНЕВРИРОВАНИЯ! В ЗОНЕ! ВИДИМОСТИ! ПРИМИТИВНЫХ! ПЛАНЕТ! Что же это за уродцы?
– Да, брат, есть на что посмотреть! – мой взгляд перехватил Адам. – Я, если хочешь знать, уже который месяц развлекаюсь ночами. Слежу за кометой. Иногда, кажется что их две или даже три, но нет, это одна, но летает как хочет. Потом она надолго исчезла, а теперь вот снова появилась. Я в приметы не верю, но что это такое, убей меня Бог, не знаю. И выглядит зловеще. Поневоле станешь суеверным.
– А ну хватит! Поём дальше! И-и-и… А ля ми презенте аль востра… – Конрад принялся терзать итальянский припев, уже достаточно истерзанный полуграмотным автором-ландскнехтом.
Как наша братия отпраздновала десять лет Павии, я даже описывать не буду. Легче было рассказать про саму битву, больше порядка. Скажу только, что ветеранов собралось со всего войска человек сто или меньше. Зато потом под шумок набежало народу самое устрашающее количество. Наш начальник – молодой герцог Альба[90], устрашился и прислал роту испанской пехоты из Барселоны, где держал штаб-квартиру. Решил, что бунт.
Не угадал. И роты временно лишился. Их лейтенант тоже сражался при Павии!
Я пропил за день невероятную для обывателя сумму в двадцать пять гульденов. Согласитесь, копить мне было не с руки. Не с собой же увозить, а так… стоимость очень качественного доспеха за день – в народ! Народ был доволен, я тоже.
Испанских весельчаков возглавлял дон Франциско де Овилла.
Этот высокий молодой человек регулярно забирался на столы и возводил в мутном воздухе сложные лабиринты пространных южных тостов. Я никак не мог вспомнить, где я видел это худое лицо с узкой ленточкой усов. Адам меня просветил:
– При Павии ты его видел. – Я удивился:
– При Павии? Ему сейчас, дай Бог, двадцать пять, ты хочешь сказать, что…
– Да-да, ему было при Павии пятнадцать. Он тогда добрался через все поле от де Ланнуа к Фрундсбергу с донесением, и смог вернуться обратно.
– А-а-а! А я то думаю, – включился Конрад, разворачиваясь на скамье всем телом, припечатав столешницу ладонью. Лицо его наполнилось узнаванием. – Точно! Как сейчас помню: приковылял в центр баталии к нам с Георгом. Весь порубленный, в шлеме вмятина с кулак, ноги заплетаются, руки дрожат, но стоит прямо. По-нашему едва лопотал, хрен разберешь. Заблевал ещё и меня и Фрундсберга… паразит. Мелкий был, совсем тощий. А теперь, гляди – ястреб, прям орел! Э-э-э-й, миляга, тащи сюда свой костлявый испанский зад, есть что вспомнить! – заревел Конрад своим фирменным, неподражаемым басом, которому нипочем была пушечная канонада, не то, что гул солдатской пирушки.
Так я очно познакомился с доном Франциско.
Попойка массовая, всегда раскалывается айсбергами небольших компашек, когда подтаивает основной ледник официальной части. Невозможно, право слово, бухать в три сотни жал одновременно. Десять – куда ни шло, хотя тоже сложновато.
И начали мы постепенно расползаться маленькими группками. А куда солдаты, особенно офицеры, любят идти после доброй пьянки? Конечно же к артисткам! В номера!
Вариантов было два: бордель или натурально артистки с рыночного театра. Бордель отвергли с ходу, ибо опасались разных нехороших болезней амурного свойства. Кроме того, все кто меня знал поближе, помнили, что шлюх я на дух не переношу. А так как платил за все я… Словом, направились к рынку.
Дружная сводная бригада из дюжины единомышленников, в том смысле, что единые мысли могли бы сделать из нас великолепных соучастников чего угодно.
Дюжина военных фрицев в чужом городе – почти всегда вариант неприятностей. Другой вариант возможен, но когда на рынке появились в ночи нетрезвые жлобы с закатанными рукавами и обычным своим: «матка, млеко, яйки», а также «фроляйн, вы не заразная» постоянные обитатели начали давить косяка в нашу сторону. И я их понимаю.
Впрочем, дурных не оказалось, никто не полез выяснять отношения с двенадцатью ветеранами, вооруженными с головы до самых пяток.
До ярмарочного балагана, где квартировали заезжие жонглеры, а что важнее жонглерши, акробатки и танцовщицы, мы не добрались, точнее не добрался я. Из-за прилавочной пустоты раздался голос фатума, моего личного Рока, Фортуны и предначертания в одном. Очень приятный голос, скорее, голосок, нежная песня, чудо воздушной вибрации. Все это сложилось в едином словесном солитоне, чуть хрипловатом и отменно громком:
– Ай, красавчик, ай соколик, дай погадаю, судьбу-правду открою, ай ручку дай не пожалеешь, ай орел, ай удалец, позолоти ручку!
– Ненавижу цыган, – прошипел один из наших по имени Йохан Шредер. Тот самый любитель конины, памятный по разведочному походу перед Бикокка.
– Погоди-ка, – одернул его я и удержал гневный порыв, так сказать, физически. Почему, не знаю. Просто положил руку на плечо и одернул. – Чего надо? – Спросил я, шагнув в темноту навстречу «позолоти-ручку-ай-соколик».
Шагнул… и превратился в непослушную жену старика Лота под городом Содомом. Остолбенел, то есть. Как есть остолбенел.
Из теней под навесом соткалась квинтэссенция женской красоты. Та самая равновесная система, откуда не убавить и куда не прибавить ни одного элемента. И даже это – чушь, потому что красоту описать невозможно, только увидеть. Я увидел и… я даже не знаю, что со мной произошло.
Какой-то девятый вал чувств, восторга, ожидания, любования, гормонов и самого банального свойства немедленного стояка. То есть остолбенел не только я. Собственно, геометрически я состоял из двух базовых столбов, если рассматривать смысловую нагрузку: мое тело, от макушки до пят, и наш любимый половой орган, который звероподобно устремился на двенадцать часов и затикал.
Так в мою жизнь вошла Зара. Лучшее, что случалось в моей жизни. И той и этой.
Так получилось, что я давал исключительно описательные названия главам своей книжки. Но эту главу я назову один словом, причем заглавными буквами:
Глава 13 ЛЮБОВЬ
В цыганском балаганчике было темно и тепло. Это была маленькая лачуга на окраине рынка, куда гадалки водили погадать или переночевать по случаю. Здесь было все необходимое: низкий потолок, земляной пол, скамья и широкий сундук, накрытый шерстяными пледами, маленький столик и колченогий табурет. В углу тускло дотлевала углями железная жаровня, над которой коптил светец.
Трудно сказать, что рассчитывала увидеть на ладони цыганка при столь скудном освещении, но водила острым ноготком по линиям моей судьбы она со всем прилежанием и что-то шептала. А я пожирал её глазами, пользуясь случаем. Раздевал, ласкал, почти облизывал, и все, представьте, глазами.
Только в те божественные секунды я понял, что все или почти все многочисленные дамы, девушки, барышни, frau и frolein, что дарили мне свои ласки, были воплощением далекой, потерянной, забытой, но не до конца, и вечно моей, но не в реальности, словом – моей Гелиан.
Всегда светлые волосы, желательно с отливом в рыжину, всегда светлые глаза, желательно зеленые, лицо всегда худеньким треугольничком, желательно ямочка на подбородке, белая, нежная кожа почти прозрачной тонкости, рост средний, а можно и повыше, грудь желательно маленькая, можно чтобы и средняя, но лучше – маленькая.
Передо мной сидел точный позитивный отпечаток Гелиан. Мне еще подумалось, что если Гелиан – негатив, и все у меня начало складываться не вполне удачно после знакомства с ней, то это – явный позитив, и все теперь будет хорошо.
Высокая, навскидку пять футов десять дюймов, смуглая с оливковым отливом кожа, в темноте почти черная, огромные черные глаза, основательно раскосые, колоссальная копна чёрных волос чуть не до колен, узкое, тело, не худое, скорее, жилистое и грудь, едва не разрывающая темницу простого суконного лифа.
Про самое интересное для любого нормального мужика, про попу и ноги, я тогда ничего не мог знать даже приблизительно – широкое, длиннополое платье, главная приманка здешней моды, очень стимулирует фантазию.
Но походка… лебедь по воде плывет не так изящно, с такой походкой ноги должны быть самыми чудными, ведь простой смертной можно обрести такую плавность и соразмерность только за десять-пятнадцать лет непрерывных пти-гран батман, плие, фуэте, релеве, и прочих ведомых только балетному люду заклинаний.
Только это все ерунда. Воздух вокруг неё буквально вибрировал. И, кажется, да нет, я уверен, светился. Волны света гуляли вокруг при каждом её вздохе, при каждом движении, а глаза её черные, при каждом взгляде, даже мимолетном, загоняли в душу мою и тело неимоверный клин тепла, который крутил водовороты в самых потаенных закутках естества моего.
Я влюбился. Двадцать секунд, чтобы дойти до каморки и сорок секунд внутри смрадной, душной комнатенки, и я влюбился. Звучит глупо, но чувство никогда не бывает рациональным.
Со всей ясностью проступило то, что Гелиан я хотел, как хотят престижную дорогую яхту или как спортсмены вожделеют кубок высшей лиги. Она была красива, и она была из другой лиги, понимаете? Я хотел её, безумно хотел. Она была недоступна, а я молодой дурак, бессознательно решил выиграть этот приз. Не мой приз, чужой, не любый. И выиграл себе на голову.
Эту смуглянку я бы и пальцем не тронул, без её разрешения. Мне было достаточно смотреть на неё, дышать рядом, знать, что она просто знает, что я люблю. А ведь тогда само имя её было тайной. И все равно, я влюбился. В безымянную, безродную, темную бродяжку, дочь бродячего народа на чужой планете.
Милое видение прилежно делало вид что колдует, как это принято у гадалок и прочих рыночных шарлатанов, но мне было все равно. Лишь бы быть подле, рядом, близко к расстоянию нанесения поцелуя, если вы понимаете, о чем я.
– Как тебя… вас зовут, – собрался спросить я на вполне приличном испанском, но слава застряли в глотке.
– Кто вы и откуда, где растят такие цветки, – и вновь подавился словами.
– Вы так прекрасны… так свежи… – и опять не смог.
– Уедемте отсюда и будем счастливы, – не вышло.
– Выходите за меня замуж, – и еще одна неудача.
Даже спросить, что готовит мне судьба и сколько я должен за нелегкий магический труд и растрату эктоплазмы, или что там у колдовской братии, у меня не получилось. Пропал Пауль, подумалось мне. И слава Богу, подумалось в ответ. Я даже рта не смел раскрыть, чтобы не потревожить обворожительного наваждения.
Наваждение, между тем, явно заканчивало положенный заезжему лоху ритуал, так что замаячила страшная угроза расставания. Позолотил ручку и вали своей дорогой, солдатик. Солдатик был готов позолотить не только ручку, но и ножку, и не позолотить, а инкрустировать, помчаться во Флоренцию, найти Челлини и золотую статую в полный рост заказать, наворовав по дороге денег. Только бы не расставаться. Не расставаться, только бы. Не отходить, не покидать, ощущать её жар, её свет, её тонкий пальчик на моей бугристой ладони.
Пока я составлял экстренный план по завязыванию знакомства и, если повезет, головокружительных отношений, темноглазая прелестница подняла свои томные очи и затянула что-то вроде: «Вижу, вижу, судьба твоя – дальняя дорога и ждет тебя на перепутье камень, дерево и колодец», когда с улицы раздался дружный рев заждавшихся товарищей:
– Пауль, мать твою за ногу, сколько можно?! – отчего у меня моментально прорезался голос:
– Дальше без меня, камераден, я остаюсь, – на что камераден загоготали, высказали много непристойных предположений и потребовали вашего покорного слугу срочно на свет божий.
Я помолился, чтобы чаровница не поняла боевого лязганья швабского диалекта, и приласкал друзей-приятелей сильно по матушке, изругал площадно, пригрозил расправой и противоестественным совокуплением, словом, попросил оставить наедине со страстью. Друзья-приятели быстренько вошли в положение да ретировались, возвестив отступление громким спором на предмет, кто сейчас в лачуге сверху и в какой позе.
Господи, подумал я: 1 – хорошо бы девушка все-таки не понимала тонкостей нашего грубого языка; 2 – вот козлы; 3 – хорошо, что быстро убрались; 4 – насчет «сверху», было бы очень неплохо, впрочем, неплохо было бы и снизу, или же, положим, сбоку; 5 – как избежать немедленного посыла по известному всем солдатам адресу.
Красотка тактично переждала короткий диспут, вперила в меня магниты черных глаз, и начала по новой, ничего нового, естественно, не сообщив. Обычный набор «вижу-знаю-ведаю», «судьбу расскажу, беду заворожу», «ждет дорога, ждет беда» (а что еще солдата может ждать на войне?), «выбирай с оглядкой, а если что не так, то думай на рябого».
И все такое прочее, стандартный гипноз для нетрезвого прохожего.
Но как она пела! Как складно и красиво вела меня к выплате гонорара! Сколько нежности и чувства, пусть даже профессионального.
Чистый восторг!
Ненаглядная моя незнакомка плавно покачивалась, оседлав табурет, ловко модулировала голосом и что-то рассказывала, то и дело, подтверждая слова вонзанием острого ноготка в линии судьбы. И не на миг не отпускала моей руки и моего взгляда.
Она уже собиралась сказать: «а теперь позолоти ручку», а я собирался от нежности грохнуться в обморок, как среди чуланной затхлости родилось нечто новое.
Не то.
Потустороннее.
Даже моя грубая шкура это ощутила в моментальной вспышке, а девушку, вдруг буквально перекосило. Её пальчики до костяного хруста, до боли струбциной стиснули мою кисть, а глаза впились в мои. Она громко охнула, я, кажется тоже.
На этот раз все было по-другому. По-настоящему, хотя, я понятия не имею, как это «по-настоящему» бывает. Никакой игры, никакого театра. Не знаю до сих пор, что случилось, но это произошло. Безо всяких предисловий и смешных ритуалов. Слияние. Четыре глаза стали двумя, два взгляда одним, а мозг разлетелся мириадами сияющих солнц, чтобы собраться воедино, не принадлежа более мне, не принадлежа более ей. Единой судорогой свело наши руки, а легкие задышали одним воздухом. Секунда растянулась в вечность, а вечность коллапсировала в сингулярность секунды. Короткий миг длинною в жизнь, когда моя жизнь стала её, а её – моей.
Я увидел все, и мало что понял, ведь чужая душа – потемки, но я дышал пряными травами андалузских полей, скакал без седла нагой в пене прибоя, спал, укрывшись звездами, трясся в кибитке, прятался от озверевшей испанской солдатни с кровавыми мечами и кровавыми глазами, видел десятки рынков и балаганов, видел любовь десятков мужчин, а напоследок мелькнуло предо мной смутно знакомое, узкое, сильное лицо с черными усами и коротким ежиком черных волос.
Я взял её жизнь, а она взяла мою. Зеленые зарницы моего неба, мой остров, гулкие аудитории Академии, шальные красавицы, увенчанные диадемой с именем Гелиан, вечный дрейф созвездий, стартующие крейсера, грозный марш штурмовой пехоты в тяжелых скафандрах, непрекращающаяся юность и бездонные глаза альвов, дурманящее зазеркалье подпространственного прыжка, и самое главное: могучий ствол бессмертного Ясеня, буквально подпирающий небосвод.
Это страшно, когда чужая душа и жизнь за мгновение наполняет сосуд твоего тела.
Я испугался.
Что же говорить о цыганочке за секунду познавшей целый мир, который оказался больше всего, что она даже приблизительно могла вообразить? Мы оба умерли. И воскресли, сплетаясь в бесстыдных объятиях. Стыдиться нам было более нечего, мы стали не любовниками, даже не родственниками, не братом и сестрой, не мужем и женой, а одним телом.
Мы любили друг-друга так, что скрипели ветхие стены, тела наши содрогались от страха и нового, неизведанного восторга. Не каждый день такое случается, что мы изведали. Народившиеся чувства, настоящая буря чувств, требовала выхода и разрядки, а мы и не сопротивлялись. Какое там!
Я не мальчик, к сожалению, не мальчик, причем давно. Но! Сотни и сотни ночей не значили ничего, я только тогда понял, что такое настоящая любовь и страсть, вспышка сверхновой и рождение черной дыры, черт возьми, только в эту ночь я превратился в мужчину по-настоящему, хотя кто бы мог подумать.
Тоже с моей желанной. Ко мне она пришла опытной воительницей на фронтах отношений. И словно в первый раз оказалась с мужчиной – парадокс! В тысячу раз приятнее, что счастливым парадоксом оказался ваш скромный рассказчик.
Я привык раз за разом взбираться на плато любви, и заводить туда свою подругу, чтобы потом вместе сорваться в пропасть. По многу раз, каждый новый, забираясь всё выше.
Тогда все сложилось иначе. Никакого пологого восхождения, никаких горных троп, никакого любовного альпинизма. Моментальный взлёт выше любых горных пиков, судорожное парение в сияющей заоблачной вышине и ярчайший стратосферный взрыв гигатонной мощности, всего один, но непередаваемо долгий, сокрушительный, испаряющий сталь, плоть, землю и даже само время.
Потом мы лежали, обнявшись, лицо к лицу на сундуке, мягко целовали глаза и губы, старались унять дрожь рук, лаская наши тела, внезапно оказавшиеся знакомыми до подробностей дактилоскопических.
Мы говорили что-то, кажется, даже более глупое, в сравнении с обычным лепетом после одновременного оргазма. Дурацкие, но уместные вопросы, вроде: «тебе понравилось» и прочее, были отброшены, так как испытанное наслаждение находилось далеко за пределами доступной терминологии.
Я не мог сказать обязательное – «какая же ты красивая», а она – «как же ты хорош», за полным бессилием этих слов. Осталась полная чушь, без которой можно бы и обойтись, но без которой обойтись часто невозможно. Не знаю, сколько мы так лежали, согревая друг друга, медленно паря над грешной землей, не спеша покинуть покоренную и покорившую высь.
Под конец я сказал:
– Меня зовут Пауль Гульди. – Ведь даже головокружение не должно препятствовать вежливости. – А как зовут вас?
Девушка громко и заливисто рассмеялась, откинувшись всем телом, позволив еще раз лицезреть совершенную тяжесть её груди, после чего щелкнула меня по носу и ответила:
– Меня зовут Зарайда. Для тебя – Зара, и можно на ты, дурачок! – После чего подарила долгий, чарующий поцелуй.
Вот так мы и познакомились. Настоящая ведьма, которую боялся весь цыганский табор и не только (в смысле, не только боялся и не только табор), и я – ландскнехт его величества, пришедший наниматься на службу из чужедальних далей.
Что было дальше? Дальше, как и обещано названием главки, была любовь. Зима умерла, родилась жаркая испанская весна и любовь наша расцвела буйными цветами.
Чёрт возьми, товарищи перестали узнавать своего боевого друга, брата-бойца и так далее. На службу я не задвинул, конечно нет. Но попойки регулярно пропускал, манкировал карточной игрой и игрой в кости. Служба днём, а затем… очаровательный домик за городскими стенами, что я, плюнув на рачительность, купил. И Зара, Зара, Зара. И еще тысячу раз она.
Как я раньше обходился и вообще жил без этой чудесной девушки и без настоящей любви? Я понимал, да и она тоже, что такой силы огонь не сможет гореть долго, тем более, что назначенный на май поход неумолимо приближался, выставляя естественную границу нашего недолгого рая. Тема эта была под запретом. О скором расставании мы почти не разговаривали и не строили планов, хотя я сам себе иногда клялся насрать на все и вернуться из Туниса с победоносным флотом императора, навсегда поселившись под этим ласковым солнцем.
А что, в самом деле? Денег мне бы точно хватило, тем более, если продать мой чудный доспех. Открыл бы школу фехтования, как в Любеке и осел бы… Во сне я уже видел счастливое гнездо с кучей детишек, плющом на окнах и моей цыганской колдуньей. Мечта? Быть может, но ради чего мы живем, если не мечтать? Впервые за всю сознательную жизнь я не задумывался над завтрашним днем, наслаждаясь вечным сегодня и сию секунду.
За короткий месяц март Испания превратилась в мой дом, без дураков, как говорится. Служба стала работой, на которой я проводил много времени, соратники в простых коллег, а несколько сотен камней на деревянных перекрытиях в Дом с большой буквы. Ведь там меня ждала та, чье имя звучало музыкой: Зарайда, Зара, Зарушка.
Она, кстати, ждала не всегда. Ни о чем не предупреждая, Зара пропадала на день-два каждую неделю. Я в меру переживал. Ревность? Ни в коем случае. Кто сказал, что ревность непременный атрибут любви? Ха-ха-ха, я много читал в прошлые годы, рыцарская культура однозначно отрицала ревность, клеймя её, как самое низкое, что может испытывать влюбленный. Вспомните «Фламенку»[91]. Я вовсе не собирался превращаться в унылого дрочилу Арчимбаута, сожженного ревностью к его Фламенке. Как представлю:
И на себя в безумной злобе, В жару дрожит он и в ознобе, Рвет волосы, кусает губы, Бьет по щекам, сжимает зубы…Кошмар, правда? А ведь:
Следить за дамой – зряшний труд, Коль не свести её в тюрьму, Куда нет хода никому, Лишь господину или стражу, Тогда предотвратишь покражу.Вот это правда и ревновать – бесполезно. А если отдашься этой мстительной стерве, тогда рискуешь остаться в дураках и превратиться в нечто подобное:
Увы! Ты скорбен, зол, угрюм, А сердце от любви горит, Взлохмачен, шелудив, небрит, Твоей щетине безобразной Фламенка предпочла бы грязный Хвост белки или терна ветки.Ну уж дудочки, верно?
Вы скажете, что этот роман написан двести лет назад и будете правы. Скажете, что настоящее рыцарство умерло, и это тоже правда. Но ведь ландскнехты себя частенько величали рыцарями, а я ландскнехт… Теперь влюбленный, и ведет меня по жизни Амор – ироничный, веселый, строгий и заботливый владыка влюбленных. Такая вот приятная для меня эклектика.
Вот чёрт, что-то я на патетику сбился! Но таково было мое состояние в те счастливые дни, я просто пытаюсь в меру сил передать мое состояние, далекое от боеспособной бдительности.
На мир ваш неумелый повествователь смотрел тогда через всеобъемлющие розовые очки, которые нацепили мне на нос властные руки поднебесья. Причем, на одной линзе было написано большими буквами «Люблю», а на другой «Хочу», и соединялись они дужкой в виде недвусмысленного знака «Х» – умножить. А вы говорите «ревность», хотя вы, вроде бы ничего и не говорили.
Как показало время, я вновь ошибался, и ревновать было к кому. Тем более, что с той стороны генератор ревности работал с гудением, аж искрился.
Я вряд ли сумею ловко описать наш с Зарой роман. В рисовании жарких постельных сцен не силён, а опускаться до дорожного дамского чтива – увольте. Кому интересно узнать сколько раз и в каких позах мы бились на половых фронтах? Уверен, что кому-то интересно, но фигушки – это наше и только наше. Я помню каждое объятие, каждый поцелуй, каждое движение тел, и не расскажу. Вот такой я гад, собственник и жадина.
Или рассказать, ведь рассказ играет на устах и на кончике пера? Бог знает, как получится.
Она очень мало разговаривала. В основном я – монологом. Мы любили поехать на берег моря на лошадках. Зара с конем делала, что хотела, не трогая поводьев и не одевая седла. Я только сзади пыхтел, догонял. Ну пехота я, пехота!
Скачка в прибое, а потом любовь до упаду. Первый раз не повторялся больше никогда, и мы смогли проявить ненасытность, во всю широту наших не узких натур. Чего мы только не вытворяли! Впрочем самые целомудренные наслаждения с Зарой были жарче любого разнузданного разврата, которого полной чашею испито было в прошлые годы.
Замечательный контраст, знаете ли. Днём – армия, грубая, приземленная форма существования белковой жизни, а вечером – любовь, в полном объеме, от непременных и продолжительных эскапад шалуна Эроса, до томного единения в бытовом беспросвете: натаскать воды, наколоть дров, сготовить покушать, вымыть посуду, протереть пыль, подмести пол.
Зара замечательно колола дрова, кстати. Колун в её изящных ладонях играючи разваливал самые узловатые-сучковатые пеньки, словно она точно знала куда нужно ударить и как, впрочем, она и в самом деле знала. Бочка с водой наполнялась ею стремительной пробежкой к колодцу и обратно, будто два ведра полные воды весили не больше, чем два ведра от воды свободные. И снова, впрочем, для её сильных рук и крепкой спины это была небольшая разница. Впрочем, какое там впрочем!? Вернуть с небес на землю разбушевавшегося андалузского жеребца, или передвинуть двухметровый сундук полный барахла, кажется, требовало от неё не больших усилий, чем подвязать веник. А однажды я видел, как она руками выпрямила погнувшуюся кочергу, что для верзилы вроде меня вовсе не достойный упоминания подвиг, но для девочки-стройняшки, согласитесь, нечто из ряда вон.
Я не стремился сыграть в льва саван и повелительно разлагаться, пока самка обустраивает лежбище, но моя Зара почти всегда с тихим, ласковым смехом ограждала от бытовых забот.
Размяться на ночь выходило, только когда она вольным ветром вырывалась из нашей райской клетки в неизвестном направлении. Как всегда без единого слова или намека. Она прекрасно владела тремя языками (испанским, французским и итальянским, не считая классической латыни, где только умудрилась?!), даже писать умела, но о записочках «милый-я-там-то-вернусь-тогда-то-что-купить-в-городе» даже речи не шло.
Возвращалась цыганская красавица в полном соответствии с исчезновением – неожиданно. Затрудняюсь сказать, что было приятнее: тягучий конфитюр ожидания или сладкая нуга воссоединения.
Может быть, поэтому каждый день с ней был как первый, он же и последний? То есть исполненный ответственности за каждую секунду вместе? Быть может. Зара умело вела корабль нашего счастья, хотя сомневаюсь, что она и на мгновение задумывалась над этим. Все у неё получалось как бы само собой, спонтанно, и неизменно на сто процентов здорово.
Для меня одинаково дороги были минуты совместного молчания, редкие слова, которых за время нашей любви она не сказала и пяти сотен, её спорая возня по хозяйству, её тихий, недолгий сон, когда доверчивая её голова упокаивалась на плече вашего покорного слуги, а дыхание незаметно пробивалось через полуоткрытые медовые губы, её стремительные пробуждения с трепетом длиннющих ресниц, кошачьим потягиванием и роскошной утренней любовью.
Долгие часы острого, мускусного исступления, легко было заменить на минуты или даже секунды, или растянуть на недели и месяцы – радости для нас не убавилось бы. Когда я смотрел на неё, все тело тут же стремилось к утехам: в постели, на столе, стуле, полу, сундуке, на траве или песке. Зара это отлично знала и никогда не спешила, всегда приходя беззвучно, внезапно, бессловесно.
Первый раз в моей вовсе не целебатной жизни острый финиш любовной игры уравнялся полностью с влажным марафоном разнообразных предварительностей. Собственно, марафон сейчас будет или короткий спринт всегда выбирала Зара и только она. Как только темный, почти вычерненный солнцем до африканского эбена шелк её кожи касался моей бледной, северной оболочки, липкий финал немедленно и властно стучался в ворота и бился у самого выхода.
Но «властно» было раньше, теперь властно решала Зара. Иногда она выпускала наружу накопившееся едва заметной игрой ловкого своего язычка и полных губ, несколькими касаниями кошачьих лапок, которые часто выпускали коготки, или резким речитативом бедер. Несколько движений и все.
А иногда она купала мое естество в озере страсти часами, а может быть и годами, я не уверен, в последний миг, отдаляя извержение персонального моего Везувия. Как это получалось, не знаю. Наверное, на то она и ведьма? Самые дикие позиции, чуть не сказал «стойки» по фехтовальной привычке, и самые непристойные способы она с непостижимым искусством уравняла с миссионерским «мальчик сверху», когда мы и на миллиметр не двигались, но внутри Зара-затейница прокатывала волны такой плотности, что мне оставалось только стонать, подвывать и кусать губы, свои или её.
Сколько же в её стройном теле помещалось страсти! Было, правда, куда поместить, ведь чтобы поцеловать меня она лишь немного поднимала лицо, а росту во мне шесть футов три дюйма, или, говоря сухим метрическим языком, метр восемьдесят восемь.
Как только дело доходило до дела, от тихой кошечки не оставалось и воспоминания, наружу вырывалась неукротимая пантера – настоящая Зарайда, какой она бывала разве что во время безумной скачки на коне. И еще безумной скачки на мне или подо мной.
«Беззвучно, тихо» и прочие термины, что прикреплены к её портрету несколькими строками выше, отлетали со звоном. Она любила кричать и даже рычать низким грудным голосом. Ногти то и дело впивались в мою спину, мою грудь, мои бедра, или полосовали их безжалостно, даря боль и даря наслаждение. Крупные белые зубы смыкались на моей шее, плече, подбородке и вообще, где попало, так что утренние появления в лагере часто вызывали смех и подколки товарищей. Завистливые от корней до ветвей.
Зара билась и извивалась в моих руках, успевая яростно кончить по три, пять, десять раз, пока я старался один единственный, правда, последний раз, она всегда без исключений совмещала с моим. Как я говорил, бывала она и внешне недвижимой и внезапно аккуратной, но настоящая любовь любимой Зарайды – необузданная амазонка, бившая пятками в мои бедра и зад, заставляя вонзаться в неё все глубже и быстрее, до хруста сжимавшая мои бока, властно помещавшая императив острого, крупного соска в мой жаждущий рот, непререкаемо склонявшая к покорности моё лицо у сладкого портала между крепких бедер, выгибавшаяся вольтовой дугой в острые моменты, и разрешавшая обсуждаемый вопрос так бурно, что я то и дело оказывался вытолкнут наружу неодолимой силой сокращения всего и вся.
А какое у неё тело, братья-бойцы, поверить невозможно! В моем родном мире женщины часами пропадают в оздоровительных салонах, спортивных центрах и даже клиниках пластической хирургии, за что им честь и всяческая хвала. Овации стоя. Ведь они не в последнюю очередь ради нас стараются!
Зара не нуждалась в этом. Её жизнь в непрерывном движении, свежий воздух, соленое море и море солнца выковали из непостижимо удачного генетического материала непостижимую красоту. Я думал, что ей лет девятнадцать-двадцать при первой незабываемой встрече.
Извините, я все время повторяю префикс «не» в сочетании «непостижимо-незабываемо-невообразимо» и так далее, но что поделать, если «не» в превосходной степени только и может чуть-чуть приоткрыть сияние её души и тела в беспросветном лесу моих косноязычных страниц!
Так о чем я? Ах да! После, заглянув в умные, много повидавшие всякого глаза, я отодвинул границу до двадцатипятилетнего рубежа максимум. С высоты возраста и опыта я постоянно учил её жизни и всячески просвещал, пользуясь молчаливым вниманием, пожиравшим каждое мое слово, и восхищенным взглядом, любящих глаз, которые тоже пожирали, но не только слова. Однажды Зара вновь удивила меня до полного онемения.
Я шептал после горячего сеанса всякую милую ерунду по славному обычаю удовлетворенного от и до мужского пола:
– Господи, ты невероятная любовница, Зара, милая моя девочка, моя любовь. Я на тебя гляжу и не могу наглядеться. Где такое тело еще увидишь, это же для нас самцов очень важно. М-м-м-м, – (поцелуйчики), – у тебя такая кожа, такая гибкость, – (еще поцелуйчики), – ты мое чудо, ты хоть понимаешь, какое ты чудо? Ты моя девочка, ты такая молоденькая, я… не могу… я таю от твоей юности… – (еще немного поцелуйчиков: шейка длинная, лебяжья, круглые налитые плечи, уютная ложбинка между лопаток).
Зара внезапно нарушила обычное свое молчащее согласие, повернулась ко мне, сбросила долгую прядь волос с лица, погладила меня по щеке и спросила, ловя взгляд:
– А сколько мне лет? – её стройная нога обвила мою, грудь прижалась к груди.
– Чего гадать, говори уж. – Скажешь двадцать пять и угадаешь. Обидится ещё. И я ляпнул первое, что пришло на ум, благодарно приняв шалунишку-ногу. – Ну, двадцать два.
– Мне тридцать семь, Пауль. И у меня взрослая дочь. – Зара грустно улыбнулась, расколов мое изумление. – Ты меня больше не любишь? – Все-таки Зара – женщина, хоть и не обычная. Что за вопрос?! Типично женский.
– Ты… ты… как ты подумать могла, – гневно воскликнул, отстраняясь, – чушь какая! Конечно, люблю, люблю как жизнь и даже больше! И дальше буду любить, навсегда!
– Не говори таких долгих слов, любимый. Навсегда – долгое слово. Слишком. – Она в миг поборола возникшую дистанцию и доверчиво прижалась ко мне, закрыв глаза. Каскад её чуть волнистых волос накрыл нас обоих.
– Брось, – попытался возразить я, ныряя в живую, благодарную теплоту её тела.
– Еще у меня был сын, – сказала она, все так же затворив веки, под которыми явственно набухали слезы, – его больше нет. Его убили испанцы. Была ночь. Прискакал отряд кавалерии. И стали резать всех подряд. И всех порешили бы, да один испанский офицер вступился, спас нас всех. И меня тоже.
– Как его звали? – спросил я, непонятно кого имея ввиду: то ли покойного сына, то ли своевременного офицера.
– Не важно, – ответила Зара.
Она отвернулась и больше не сказала ни слова, лимит на сегодня был исчерпан. Но любви потребовала. Немая просьба была недвусмысленна и настоятельна. И не один раз, хотя любовь в ту ночь получилась медленной и печальной.
Умеет огорошить! Тридцать семь! Старше меня. И двое детей. Никогда бы не подумал! Ни единого предательского следа на теле, познавшем муки родов и кормления. Дал же Бог здоровья, и Богу слава!
Сына убили испанцы. И никакого желания холодной южной вендетты. Умная женщина. Не отождествляет всех испанцев с тем безобразным наемником, что забрал жизнь её кровиночки, видимо, при подавлении очередного восстания моранов[92]. Цыганам частенько доставалось в таких случаях заодно. Для профилактики.
Зарайда очень любила танцевать и прекрасно умела. Никакой школы, но природная пластика делала её танец завораживающим. Она частенько танцевала в свете луны, одетая единственно волнами волос. Её удивительно маленькие стопы с длинными пальцами и очень высоким подъемом сплетали сложные узоры, в которые включалось постепенно все тело от крепких икр и немаленького мускулистого задика, до кончиков пальцев, причем двигались все части как бы сами по себе, но послушные командам невидимого балетмейстера, траектории органично соединялись в единый, магнетический рисунок.
Я обожал смотреть на тонкую талию моей любимой и гибкую спину, по сторонам которой то и дело виднелись тяжелые колыхания крупных, по-девичьи крепких грудей.
Как можно сохранять юную красоту так долго, среди такой нелегкой, а подчас и опасной жизни? Зара как-то расщедрилась на ответ, указательно постучав пальцем по виску:
– Власть над телом живет здесь. Я не состарюсь, пока не придет срок. Спасибо бабушке, научила.
Бабушка по её словам дожила до ста двадцати трех лет. Ничего себе в таких условиях существования!
Тело моей чаровницы я изучил до мелочей. Как это часто бывает с влюбленными, я начал замечать мелкие изъяны в её совершенстве, а потом осознал, что без них она не была бы той, кого я люблю. Скулы широковаты. Пушок над верхней губой. Брови слишком густые. Рот слишком крупный, а подбородок маловат. Глаза чуть косят. Плечи широковаты, что дисгармонирует с узкой грудной частью, на бедре длинный шрам. Форма ног без изъяна, но бедра, как и икры бугрятся мышцами, а коленки совсем узкие. Сиськи посажены слишком низко, хоть и торчат задорно вверх и чуть в стороны.
Словом – не идеал женской красоты. Ни греческий, никакой вообще. Изваяй статую и зритель удивится через века, что собственно художник хотел сказать? Я лично знаком с одним человеком, что смог бы передать тот жизненный свет, что превращал обычную симпатичную женщину в богиню.
Но любезный приятель Бенвенуто Челлини далеко, а жаль – он бы сумел.
Армия и Зара, Зара и армия. Я уже говорил, что противопоставление вышло забавное. На контрасте ощущения получались особо рельефными.
Утром я муштровал новобранцев. Учил и пестовал, как суровый отец. Или даже хуже. Отец никогда не скажет своим детям (по-идее) «узловатый хер, кошачье дерьмо, ты – насрано, пидор чесоточный, подзалупная перхоть». Самым приличным словом, которое слышали от меня рекруты, было слово «говнюк».
Обычно в ходу, кроме строевых команд, обращались такие популярные среди офицеров перлы: «что вылупился, грызло конское?!», «бегом сюда, мондовошка, роняя кал», «жопоголовый хрен», «я тебя сейчас в череп через глаз трахну», «что схватился за древко, как старая дева за дармовой хрен?!» и так далее. Как мы любим. И регулярные оздоровительные звиздюли направо, налево.
С Зарой я превращался в сахар-сахарович, хотя в выражениях при ней мог бы не стесняться. Она сама при случае так загибала по-испански, что уши вяли. Но тем не менее. А только стоило пересечь урез лагеря, во мне словно шлюз отворялся! И неслось матерное половодье на свет божий!
Как прикажете еще из кучки уродов сделать людей, а потом из людей боеспособную роту? Хорошо, что ветеранов было много и капралы как на подбор.
Я вспомнил старый фильм, что крутили по сети в Суле, про штурмовую пехоту и их нелегкие будни в учебке. Оттуда я бессовестно передрал одну молитву, которой начинался и заканчивался день моих новобранцев. Может быть, вы узнаете слегка переделанные слова:
«Это моя алебарда. Таких алебард много, но эта алебарда – моя! Моя алебарда – это моя жизнь. Эта алебарда мой лучший друг. Я должен научиться владеть моей алебардой также, как я владею своей жизнью. Без меня моя алебарда бесполезна, без моей алебарды я – мертв. Я должен метко колоть и рубить. Я должен первым заколоть врага, пока он не убил меня. И я это сделаю. Клянусь перед Богом, что я и моя винтовка – защитники Отечества и Императора. Мы не боимся врага. Мы – спасители жизни. Да будет так, пока не останется больше врагов, и не наступит мир. Аминь!»
Ну и женские имена заставил дать всем алебардам, для полноты цитирования. А как же!
– Сегодня вы, ходячая блевотина, дадите своим алебардам женские имена, потому что никаких других баб вам больше не достанется! Прошли те дни, когда вы совали пальцы своим подружкам в сладкие места. Отныне вы женаты на этом оружии из дерева и стали, и, клянусь Девой Марией, вы будете ему верны!
Отныне мои парни маршировали с Гретами, Мартами, Хуанитами на плече, а не просто так.
Словом, жизнь била ключом.
Я часто возвращался в мыслях к нашему первому свиданию с Зарой. Еще бы! Она непостижимым образом проникла в самую сердцевину памяти вашего рассказчика. Колдовство? Я в него не верил.
А мои дорогие наставники уверяли, что гипнотические блоки, выставленные специальными операторами и специальными аппаратами делают невозможным никакое психо-сканирование.
Для любого доморощенного мастера месмеризма, буде этому гипотетическому персонажу удастся меня захомутать, я – Пауль Гульди и ничего более. Такая вот оптимистическая теория.
На практике, цыганская гадалка вдруг, непонятно как, обошла все хитрые защитные барьеры и узнала обо мне все вообще. Причем за несколько секунд. Вот и катайся теперь наблюдать далекую Землю…
Без сомнений, Зара даже с моими объяснениями не поняла бы и половины увиденного, но сам факт, чёрт дери! Предположим, что она оказалась злоумышленницей.
Донос мог бы очень много хлопот доставить. Скорее всего, знаменитая испанская инквизиция сыграла бы со мной в аутодафе. Если бы поймала. Да и родные товарищи шарахались бы при встрече, кроме Адама может быть.
А как местные шарахаются, я уже видел в Антверпене, напоминать, надеюсь, не нужно?
Эта тема у нас была не под запретом, нет. Но до поры умалчивалась, по обоюдному благословению. И вот настала пора сорвать покров немоты.
– Пауль, – сказала Зара, уже на вполне узнаваемом швабском наречии, которое стремительно осваивала под моим руководством. Не так чисто, конечно, но позвольте я своими словами перескажу все очаровательные «ты есть, я быть, моя видеть». – Что я видела тогда? Ты ведь не наш. Нет-нет, не ври мне, это лишнее. Я знаю, что ты пришёл со звезд. Наш народ хранит память о таких, как ты. Не все, но такие как я, понимаешь? Те Кто Знает. Бабушка говорила, что она девочкой еще видела, как упала звезда и был сильный бу-бум. Это не в Испании было, дальше на Востоке. Звезда упала, а потом из огня появился человек. Очень высокий и сильный, он потом ушел куда-то. А прабабка, моей бабушки слышала от баро нашего рода, что когда-то давно люди со звезд строили целые города за морем. Что они были неприступны и убивали огнем всех, кто пытался приблизиться. И они умели летать. И еще несколько историй слышала. Это похоже на сказки, это и есть сказки. Уже сказки, понимаешь? Но есть и правда. Те Кто Знает, и я тоже, иногда видим, не глазами, а по-настоящему видим далекие звезды и далеких людей на них. Я не могу объяснить, не хватает слов. Но вот появился ты. Я сразу поняла, что-то с тобой не так и решила погадать. А когда гадала… ты сам все помнишь. Я увидела. Сразу и много, больше чем за всю жизнь, больше, чем знаю из старых историй. Очень ясно увидела. И это правда. Скажи, ты тоже умеешь летать?
Я сидел в нашем домике и задумчиво вертел дыру в полу острием меча. Разговор назрел и перезрел, но все же был неожиданным. И не то чтобы желанным. Я бы лучше всласть потрахался. Перед такими глазами врать было бессмысленно, и я принялся за импровизацию этюда «Откровенность»:
– Я жил на звездах давно. Очень далеко и очень давно. В той другой жизни меня звали Этиль Аллинар. Этот человек умер. Ты видела его воспоминания. Теперь я тот, кого ты знаешь – Пауль Гульди, гауптман ландскнехтов.
– Пауль, я читала книжку Платона. Идея метемпсихозиса[93] показалась мне глупой, – при этих словах я выкатил зенки не хуже Бемельберга давеча. Зара полна сюрпризов. Платон, метемпсихозис… и этюд мой провалился, судя по всему. – Ты – тот кто ты есть. И Пауль и… Этиль… красивое имя, кстати. И ты прилетел к нам со звезд. Я знаю.
– Да, Зара, я прилетел. – А что еще было отвечать? – Гиперпространственный конвертор рейдера «Заря Ториадов» пронзил расстояние в сто пятьдесят световых лет. Свет моего Солнца будет идти до Земли сто пятьдесят лет, понимаешь? А мы управились за месяц в совокупности. Я живу здесь и наблюдаю за вами. Пишу доклады в родную Академию, чтобы наши точно знали, когда вы научитесь летать к звёздам, и не будет ли с вами неприятностей. А вы научитесь обязательно.
Зара смешно потрясла головой, растрепав непослушные волосы и сказала: «я ничего не поняла».
Еще она снова спросила: «Ты умеешь летать?»
И еще она спросила, точнее постановила утвердительно: «Я хочу от тебя ребенка, Пауль. Это будет сын».
И мы начали увлеченно заводить ребенка. Весна на дворе и весна на душе. Было тепло и светло, мы были счастливы.
Враг, однако, не дремал, как сказал бы наш мудрый капеллан Иоганн Шлезингер, имея в виду, козни Врага рода людского вообще.
Скоро я узнал куда, а точнее к кому исчезала моя Зара.
В кои-то веки выбрался с друзьями в Барселону с целью посетить один премиленький кабачок на окраине. Конрад быстро рассосался, сославшись на службу, ушел и Кабан, и Адам тоже нас покинул. Что-то старик совсем стал нестоек на алкоголь, не то что раньше.
Под утро осталось нас совсем немного, причем ваш покорный слуга неумолимо трезвел с каждой выпитой дозой сладкого яда. А так хотелось превратиться в овощ, тупо нажраться и вообще повысить градус существования, чтобы он потом стремительно понизился до уровня плинтусов. Зары дома не было, меня никто не ждал и не любил, по крайней мере, сегодня.
И тут.
Как обычно, лавинообразно, как снег на голову.
Когда никто ничего не ждал и все стали очень добрыми. Говно упало в вентилятор Господа Бога, которым он наполняет паруса наших судеб. И основательно забрызгало окружающих, причем, особенно меня. И еще одного человека, который не замедлил явиться.
Мы собирались выпить за победу.
– За нашу победу! – провозгласил я.
– За нашу победу! – откликнулись друзья, – Хох Кайзер!
На улице послышался нехороший, соблазнительный гам. На самой патетической ноте тоста, когда слова еще звенели в воздухе, а вино еще не перекочевало из поднятых кубков в глотки, дверь распахнулась под чьим-то безжалостным пинком, и в таверне появился изрядно расхристанный испанский офицер.
Офицерство угадывалось по дорогому парчовому камзолу (золото по черному шелку) с частыми пуговками (жемчуг по серебряной скани), башмакам с серебряными пряжками и позолоченному эфесу шпаги.
Кроме того, кто еще мог расчищать себе дорогу вот так? Если пинается – скорее всего, офицер.
Расхристанность угадывалась в основном в растрепанных чувствах и отсутствию головного убора. В остальном платье пришельца было в полном порядке, если не считать расстегнутого чуть не до пупа ворота. Глаза смотрели дико, ищуще, я бы сказал, алчуще.
Алкал офицер крови, на что несомненно указывали выкаченные очи, невнятные, но грозные проклятия всему белому свету, а так же рука ласкающая эфес. Кого он искал, стало ясно, спустя секунды.
Мы замерли с кубками в руках и любопытно обозрели новоприбывшего. Он отплатил нам тем же, и мы его тут же узнали. Это был дон Франциско де Овилла собственной усатой персоной и без охраны.
Охрана, впрочем, ему не требовалась.
Испанец одним махом преодолел разделявшее нас пространство, и принялся рассеивать сомнения, а так же удовлетворять любопытство:
– Ты-ы-ы-ы, – заорал на своем родном языке, но тут же перешел на хороший южно-германский, – ты, гнида, мразь, каналья! – тут до меня дошло, что черный палец перчатки тычется в сторону моей, пардон, хари. Я удивился. Я осведомился, в чем дело. Я начал расстраиваться, так как при коллегах солдатах нельзя обращаться к офицеру вот так, если не жаждешь неприятностей. Неприятностей дон жаждал, в чем быстро уверил меня и публику, хотя, сперва, просто много ругался.
– Ты, блядь паскудная, ты, похотливый козел, ты спал с моей женщиной, тварь!
Я удивился еще сильнее и засомневался.
Не припомню в моей постели ни одной благородной донны достойной благородного дона. Может быть раньше? Любекских подруг я даже по именам-то не всех помнил. И то, вряд ли. Что делать в такой дыре благородной донне, достойной благородного дона? И какого черта он так плохо про меня говорит при всех. Это надо было прояснить.
Я с расстановкой допил вино и поставил бокал на стол.
– Плоскогрудые испанские доски не в моем вкусе, – сообщил я, вытирая губы. Все редкие утренние обитатели кабака во главе с хозяином незаметно растворились. Уперев руки в стол, я закончил: – хотя, быть может, я и поимел кого в прошлом году, разве всех упомнишь?
– А-а-а!!! – Франциско прямо зашелся, сделал попытку выхватить шпагу и вложить её в новые ножны моих кишок. Не вышло. Бдительные товарищи при первых признаках дебоша аккуратненько обошли стол и теперь висели на плечах де Овилла. Он ловко раскидал двоих, но еще с тремя не совладал. Настало время объясниться.
– Дон Франциск, из уважения к вам, я прямо сейчас не сворочу вам физиономию на сторону, хотя словами меня угостили вы очень опрометчивыми. Если вы дадите слово не размахивать железкой и объяснить суть дела, вас отпустят и выслушают. Ну? – вся сия тирада стала возможной к декламации спустя минуту возни, воплей, богатой мимики, жестикуляции и темпераментных испанских проклятий.
После дон Франциско осознал, что попался крепко, утихомирился и очень гордо кивнул высокородной головою, что надо полагать, означало перемирие и начало переговоров. К окончания оных, я был вишнёв и яростен не хуже самого испанца, так что товарищи бдительно поглядывали и на меня, не ухвачу ли рукоять?
Зара?
Зара.
Зара!
Так вот куда она ходила каждую неделю! Проклятая многостаночница! Чёртова двустволка!
А как же любовь и «хочу сына»? А я – дурак, надо же было…
Но, черт возьми, я люблю её! И не отдам этому испанскому петуху.
Плевать на ревность, хотя даже самый стойкий поборник свободы отношений вряд ли сдюжит, когда узнает, что его мечта регулярно вульгарно трахалась вот с этим вот напротив. Но, плевать, это ерунда.
Главное, что между нами стоит стеною выскочка-дворянчик, дон, разрази его гром, Франциско де Овилла, мать его! А проклятый разлучник тянулся напряженной струной и сквозь зубы выплевывал слова обвинения:
– Я точно знаю, что ты спал с Зарайдой, которую я давно считаю своей. Не стоит оправдываться. Вас многократно видели вместе. Не отрицаешь? Вот и ладно. Тебя, проклятый развратный эфиоп, я убью. Ты будешь плавать в своих испражнениях, тварь, а Зарайда останется со мною!
– Э-э-э, братцы, – в плавность монолога встрял один из бдительных, кажется, его звали Герхард, ротмистр из соседнего фанляйна, – знаете что полагается за драки по императорскому указу? От поножовщины до самой законной дуэли?
– Этот мне не «братец», – отрезал испанец, топорща усы, после чего стянул левую перчатку и величественно хлестнул меня по щеке. – Это если есть сомнения в моих словах. И, быть может, храбрости добавит, а то я слышал, что ландскнехты нынче здорово скурвились.
Я зарычал. В глазах расплясались багровые черти, а рассудок провалился в задницу.
– Вызываю тебя на бой. – Слова я буквально чеканил, со звоном бросая четкий строй германского языка в воздух, – немедленно.
– Шпаги и даги, – приосанился де Овила. – Немедленно.
– О! Ого! – раздалось с разных сторон, – добрая драка!
– Три гульдена на Гульди!
– Пять на петушка, Гульди, говорят, только с двуручным мечом красавец!
– Принято!
И так далее. Народ заметно ободрился.
Бдительный Герхард высказался здраво:
– Только не здесь, умоляю. Ровно через три минуты припрется патруль и всех повяжут. И за доктором надо послать, чтобы все было по чину. Эй, вы! Тут за углом квартирует наш лекарь, вы знаете. А ну тащи его сюда! Или нет, погодите, я с вами!
Де Овилла ненавидящим взором обвел все наше собрание, отдельно выделил глазами, не предвещавшими ни черта хорошего, вашего верного рассказчика, крутнулся на каблуках и пошел на выход, бросив через плечо:
– Прошу за мной. За городом есть прекрасная полянка.
Вот так, друзья мои и товарищи. Незаметно мой корявый рассказ дошел до того, с чего и начался. Это довольно давно было, много страниц утекло для вас, а для меня тем паче, так что позвольте напомнить, как все было.
Солнце беспощадным желтым пауком выползает из-за края земли, стремясь занять центр ярко-синей паутины небес. Колокола на башне Санта Мария делль Мар молчат, еще нет девяти утра, но жаркое марево испанского лета уже разлилось по земле. То ли еще будет. Слабый ветер с моря приносит душную влагу, которая заставляет свет преломляться, искажая идущие вдалеке фигуры. Чуть дальше на запад начинаются совсем другой мир апельсиновых рощ. Там среди деревьев прохладно и воздух напитан упоительными ароматами свежей листвы, ухоженной земли; зрелые, сильные ветви готовятся первый раз в этом году дать жизнь сладким плодам. Все в том далеком мирке наполнено радостью любви и возрождения. Но тот мирок эфемерен, а мир, который я сейчас вижу перед глазами, более чем реален. Здесь нет прохладного тенька и сладостных запахов. Когда свирепое солнце заставит гору Монсеррат накрыть все своей тенью, даже тогда здесь не будет ничего кроме духоты, жары и пыли. Тот мир радуется новому утру, готовится любить и дарить жизнь. Мы здесь собираемся заняться прямо противоположенным: мы готовимся жизнь отнимать.
Холм надежно закрывает нас от любопытных глаз в лагере, полянка глинистая, плоская, песка почти нет, рытвины и кусты не мешаются. Идеально. Пора начинать. Дон Франциск снимает камзол и рубаху, ну что же, разоблачимся и мы, неторопливо, пуговка за пуговкой. Пальцы дрожат от страха или с похмелья, не разберешь, это плохо. Да, пить я тоже неоднократно зарекался.
Глядя на размытые в солнечном свете фигуры зрителей, я в который раз за многие годы задаюсь вопросом: а что я здесь, собственно, делаю? Как меня занесла нелегкая в столь нелепую и опасную передрягу? Немного времени осталось, чтобы поразмыслить над прожитой жизнью. И я размышляю, натягивая плотные перчатки черненной свиной кожи, размышляю, слушая мягкий шелест клинка, выползающего из своего убежища в ножнах, размышляю, занимая позицию в центре невидимого круга, описанного нашими ассистентами. Еще несколько секунд и мысли уйдут. Место разума займет холодная, тщательно дозированная ярость.
Ну как, припомнили?
Мы сошлись. Испанец покачивал острием на уровне лица, а дагу прибрал к выставленному вперед левому бедру. И танцевал, танцевал, танцевал вокруг меня. Взгляд ловил мои глаза, вперенные в грудь противника.
Я стелился низко, держа кинжал и меч вместе, справедливо опасаясь за кисть, не закрытую надежной гардой. Народ вокруг безмолвствовал, как земля и горы вокруг. Все затаили дыхание и ждали развязки.
Франциско надоела игра в гляделки. Толедская молния сверкнула над моим клинком и устремилась вниз к беззащитным пальцам, как я и предполагал, а башмаки выбили первую пыль.
И началось.
Первую атаку я отбил играючи, но Бог мой, как же быстр был испанец! Его гибкий клинок буквально оплетал катцбальгер, рвясь к живой плоти. Я никак не мог достать его из-за длинной шпаги и длинных рук, которые вновь и вновь направляли в меня заостренную смерть.
Я кружился, отскакивал, безуспешно атаковал, а Овилла легко парировал уколы тяжелого оружия дагой, одновременно полосуя меня по глазам, по шее, по рукам, по бедрам. Он буквально тек над землей, как вода, моментально пресекая попытки пройти в ближний бой.
Совершенные перемещения, совершенная техника, совершенная сталь, которая раз за разом била в мое оружие, заставляя поднимать его, потом сверкал очередной выпад фейерверком колючих, острых брызг, несших боль и смерть.
Франциско атаковал в лицо уколом, я закрылся дагой и рванул меч вдоль его руки. Поворот кисти на дюйм отвел угрозу, а следующий поворот полоснул в колено, так что я едва успел уйти сменой стойки. А испанец все наседал, не разрывая постоянной музыки звенящих мечей. Укол, еще один, еще и еще. Атака в шею и длинный выпад с правой, его дага сталкивается с моей гардами, на пядь не дойдя до вожделенного сердца.
Я все еще жив.
Это была долгая схватка. Самая долгая из виденных мною.
Обычно такого темпа хватает секунд на десять, и один уже захлебывается кровью. В глазах врага я прочел явственное удивление, и даже восторг. Но никакой пощады. Он тянул упрямой нитью бледные губы, все разгоняя выверенный механизм смерти.
Ваш неумелый повествователь оказался, к счастью, гораздо более умелым бойцом. Я продолжал уворачиваться, рубить и колоть, мерзко потея предательской винной жижей. Мой визави был совершенно трезв и свеж, как огурец первого урожая.
Очередной раз, уходя из капкана намерений, воплощенных смертельными траекториями, я вынужденно размахнулся и крепко вдарил в основание толедского клинка.
Длинная шпага длинно завибрировала, едва не вырвавшись из неприятельской руки, но тренированная цепкость победила, а я воспользовался моментом и вывернулся из боя.
Мы вновь принялись кружить грифонами. Пора было что-то менять, еще одного такого схода я могу не сдюжить. Неожиданный секундный успех подсказал новый путь.
Я нападал, намеренно широко замахиваясь, что есть мочи избивал батманами узкую шпагу. Она дрожала под дождем ударов, что давало мне определенные шансы. Правильность фехтования с таким противником, таким оружием в противном случае неминуемо привело бы к летальному финалу.
Франциско не показал удивления, хотя блаженство с его лица определенно исчезло – что-что, а бить я умел сильно. Он пытался наказать размашистые удары уколом в руку, но дага моя неизменно оказывалась настороже.
Пару раз я почти достал испанца!
Но его проклятые ноги каждый раз выделывали спасительные па невозможной скорости и точности. Зрители наши благодарно ахали при каждом красивом с их точки зрения выпаде, а я ничего красивого в происходящем не находил. Опасная, ненужная игра, ошалевших от любви дураков.
Выпало рубить, и я рубил в голову, так что клинки сплелись в квинте. Отработанный перевод вращением кисти снизу в высокую приму, под руку Франциско обратной стороной оружия. Будь проклята его дага! Получи же в голень, сын испанской шлюхи! Будь проклята твоя реакция и твоя блестящая секунда, которой ты отбил удар.
Я здорово наседал. Новая тактика приносила дивиденды в виде центра полянки, перманентного отступления врага и восхищенного улюлюканья публики. Даже доктор наш изволил прийти в себя. Однако я зарвался и поплатился. Новый каскад шагов, батманов, кинжальных финтов, породивших почти симфоническое журчание стального перезвона и выпад! Сияющий момент истины, когда я смог пройти на дистанцию еще раз!
Удар восходящий косой дугою в скулу, клинки скрежещут в высокой импровизированной секунде, моя дага подбивает шпагу Овилла вверх, а меч летит полукругом стальной смерти в бок, поперёк живота, молоть ребра и мочалить кишки…
Летит?
Никуда он не летит. Испанец, оскалившись, довернул шпагу и мое оружие оказалось в недолгом плену его широкой гарды, сбившей хищный полет. Ну а дага его нырнула прямо под воздетую левую, которой я так ловко развивал атаку.
Время встало. Жуткий дырокол тягуче тянулся к груди, скрывавшей до поры бестрепетный трепет моего трепетного сердца.
Дырокол алкал применения по назначению, а я понимал, что защититься мне нечем, и что даже испанца я с собой в могилу не уволоку – атака иссякла, я попался. Дага вдруг показалась очень, очень острой, а ведь так и не скажешь.
А я вдруг невероятно захотел пожить еще чуть-чуть. И когда время сорвалось в обыденность бешенной скачки, а кинжал вонзился, раздирая плоть, я резко развернул корпус, так что железный хищник смог всего лишь лизнуть вожделенной влаги, снабдив клубившуюся пыль первой кровью, а меня косым шрамом под левым соском. Впрочем, про шрам я погорячился, для этого еще требуется выжить.
Франциско с торжествующим хриплым ревом занес шпагу, а я подло, но очень сильно пнул его ногою в живот, хотя норовил, конечно же, поразить его нежные яички. Не попал, но учитывая ситуацию – неплохо.
Мой нетяжелый оппонент отлетел, а я, окутанный пылью и звенящим молчанием зрителей, прыгнул вперед, совершенно открывшись в плечевом замахе. Умелый противник, презрев боль в отбитом нутре, вытянулся уколом, который, учитывая совокупную встречную скорость, должен был превратить меня в экспонат гербария.
Размечтался.
Кинжал увел его шпагу в сторону, а я хэкнув по-фрундсберговски, обрушил жуткой силы удар на благородный череп дона. Тут и конец бы ему. Он успел, скрючившись, поднять оружие в корявую шестую защиту, он же парад ин секста, так что меч, вместо того, чтобы завязнуть в районе диафрагмы всего лишь стесал ему кусок скальпа.
Франциско скакнул назад, издавая упоительные сосущие звуки боли, и умудрился зацепить меня кончиком клинка в правое бедро. Штанина незамедлительно заалела. Не знаю, как ему это все удалось. Не даром, видать, первая шпага Испании.
Не ведаю, чем бы это все обернулось, но на сцену выступили новые персонажи.
– А ну, стоять, сучье семя! – раздалось над поляной, так что мы разом замерли и даже сделались чуть ниже ростом.
– В рот вам фунт печенья и бочку пива в жопу! Что вы, мать вашу, устроили возле моего любимого лагеря?! Я вам глазья на очки натяну, голубятня ваша хата! Указы не про вас писаны, мамино несчастье?! Я вас, блядей, спрашиваю?!
Конрад Бемельберг, мой родной душевный друг и старший товарищ, прошу любить и жаловать. Во главе десятка алебардистов, где тоже сплошь знакомые лица.
– Та-а-ак, кто тут у нас? – протянул он и издевательски засюсюкал: – Гу-у-у-льди, герой любовник, как и было докладено. То есть доложено. О! Дон Франциско, – насмешливый поясной поклон.
– Н-н-у? Куда изволите вас расцеловать, голуби сизокрылые? Ты мне не кукарекай, павлин испанский! – это в сторону де Овилла, который как раз, вскинувшись, собрался напомнить о недопустимом тоне обращения к родовитому дворянину. – Накукарекаешься на виселице! Я тут с тобой плясать не намерен, я не умею. Я те сразу рыло сворочу, ты понял?!
Дон понял. Конрад умеет быть чертовски убедительным. Он прохаживался мимо нас, пугал карами и нехорошо ругался. Заслуженно, надо сказать. Интересно, кто у нас такой предусмотрительный?
– И скажите спасибо Герхарду, он тут у вас один еще мозги не пропил, – продолжал меж тем Бемельберг, разрешая сомнения. Я то удивлялся, почему за доктором побежали трое, а вернулись только двое. Вот в чем дело. Ну что же. Заслужил Герхард по мордасам за стукачество и кувшин лучшего пойла за разумность. Не премину. Хотя, по зрелом размышлении, обойдемся пойлом.
– Что же мне с вами делать, паразиты? Неплохо бы вздернуть всю веселую компанию, за пособничество. Очень соблазнительно! А главное, поучительно. Только вот не хватало лишить армию разом толкового командира и лучшего бойца, чёрт. – Конрад занял геометрический центр арены, покачивался на каблуках, заложив широкие ладони за пояс. Лицо, прошу заметить, имел злое и глумливое.
– На первый раз прощаю. Вы мне, мля, до конца жизни оба проставляться будете. И напоследок: вам что, баб вокруг мало?! Р-р-р-азойдись! Федерико, почини их сиятельство, а ты, Гульди, ко мне в шатер, ко мне, я сказал! Рысью, марш!
Вот так все удачненько обернулось. Могло быть хуже.
Сначала мы рассказывали сказки для публичного пользования, что, мол, я порезался по пьяни, возвращаясь из кабака, а Франциско врал, что упал с лошади. Ровно через час о дуэли гудел весь лагерь и вся Барселона, а профос нехорошо косил лиловым глазом. Но поделать ничего не мог. Каждому несчастному случаю нашлось по две дюжины свидетелей.
А дуэль… Какая дуэль, вы о чем, собственно?
На следующий день мы оба, я и дон Франциско обтекали пред очами Зарайды, сделавшейся на редкость говорливой. Она приволокла нас по очереди к моему домику и принялась костерить по-испански, так что Бемельберг обзавидовался бы.
– Щенки! Мальчишки! Что вытворили, а?! Гульди – пьяница! Пиво вместо мозга! Ты постарше, мог поумнее быть, а?! Скотина! Чуть не угробил мальчика! А ты, чем думал, кретин! Что ты себе позволяешь?! Я тебе что вещь?! Мог спросить, сперва, я бы тебе ответила! Я бы тебе пальцы переломала, вдруг поумнеешь! Hiho de peruenta puta, cabron![94]
Она довольно долго ругалась, топала ножками и кидалась утварью, мы даже заработали по три увесистых пощечины. Рука у Зары была ой-ой-ой, в ушах моих потом полчаса звенело, левая скула налилась лиловым, а у дона открылась рана и потекла кровь. Потом она сменила тон, всплакнула, как умеют только любимые женщины, очень жалостливо. Наново перевязала испанца и принялась уговаривать.
– Мальчики, ну что вы как маленькие! Я вас вообще не понимаю! Бросьте эти игры, я вас обоих люблю. Очень сильно. Обоих. Правда, мальчики. Вы же такие хорошие, добрые, умные, что взъелись друг на дружку? Вам что мало? Кто хоть раз недовольный уходил? Можно подумать, что я малая девочка, что у меня до вас мужчин не было. Ха! Наказаны оба, дуралеи. Я теперь сама решаю когда, куда и с кем. Что б не смели за мной хвостом ходить. Сама приду, если захочу. Когда захочу. И если увижу хоть один косой взгляд… всё. Отлучу от тела навсегда. Локти кусать будете. После меня у вас ни на одну девку не поднимется, слово мое крепкое, вы знаете. Ну иди сюда, глупенький.
Она как-то очень по-матерински обняла и погладила Франциско, а потом поцеловала, совсем не по-матерински. Испанец был ни жив, ни мертв, очень бледен. Насупленность его и общая сторожевая нахохленость под словами, глазами, губами Зары разгладилась и превратилась в мягкую податливую вату. Взгляд его вместо мушкетного прицела приобрел туманность и наполнился слезами, не могу поверить, но это так. Зара наконец оторвалась от де Овилла, подошла ко мне, взяла за руку, подвела к испанцу и непререкаемо постановила:
– А теперь мириться. Пожмите руки, и чтобы никаких. Навоюетесь еще, бедненькие. – Тут она снова собралась пустить слезу, но тут же собралась, встряхнула своими чудными волосами и заулыбалась.
– Ну, как там у вас говорят? Жать руки, марш!
И мы первый раз обменялись взглядами без немедленного желания убить-сожрать-закопать. Медленно протянули ладони и скрепили вынужденный мир крепким пожатием.
Зара, наблюдавшая это все, прыснула и проворковала голубкой:
– Ну и умнички. Берегите и защищайте друг дружку. Вы ж теперь родственники. Молочные братья, ха-ха-ха!!!
Она обняла меня за талию, толкнула к лошади, и сама устроилась на своем андалузце.
– Поехали, Пауль, прогуляемся. А ты, не скучай, можешь переночевать здесь. Домик очень уютный. Поехали, н-н-о!
Вот такая женщина. Невероятное что-то. Как Франциско отреагировал, не знаю, а я даже обидеться по-настоящему не смог. Только чувство вины, заглушаемое растущим восторгом и преклонением перед моей красавицей.
На дворе стоял апрель 1535 года от Рождества Христова. Через два дня ожидалось прибытие императора. А там – не за горами отплытие.
В тот вечер, мы премило развлекались в одном сеновале милях в семи к западу от Барселоны. Зара вновь включила свой немой режим, знай только очами посверкивала. Ничего кроме стонов и сладких криков я от неё не добился. А что еще надо собственно?!
Налюбившись очередной и далеко не последний на сегодня раз, мы валялись на конской попоне и моем плаще в стогу под навесом. Тепло и хорошо. Запах травы, запах разгоряченного женского тела, острый запах конского пота, стрекот разных инсектов, огромный купол неба без единого облачка. Прекрасно! До чего же хорошо жить!
У нас с Зарой наступил своеобразный экватор. Чуть больше месяца позади, и впереди чуть больше месяца, потом: вещьмешок-галеон-Тунис. Драка с Франциско оказалась своеобразным межевым столбом. Знаково, что и говорить! А потом… и думать не хотелось, да я и не думал. Жил настоящим, радовался совершенству растительной жизни.
Порадовался, порадовался, и полез к Заре. Она была не против, и тела наши соединились, то есть пока еще только соприкоснулись. Стало жарко. В районе ключицы просто очень жарко, аж больно. Что-то не то. Как будто уголь попал. Уголь… Зара вскрикнула от боли, я тоже, и вскочил. Надо же посмотреть, что у нас там прилипло такое? Я собрался солёно пошутить насчет раскаленного семени. Собрался и подавился.
Архангел меня обжег, вот что. Иконка белого металла. Архангел сиял. Архангел вибрировал так, что цепь дергалась. В чем дело? Срочный вызов? Но какого дьявола?! Да и какой к бесу вызов с такими эффектами?! Мелькнула нехорошая мысль о встроенной системе самоликвидации, а заодно и меня ликвидации. Мысль была отвергнута за явным идиотизмом.
Я нелепо прыгал, стараясь отодвинуть жжение насколько позволяла недлинная цепочка. Зара сидела, подобрав ножки и вовсю меня глазастила. Смешно, наверное, но сверкающий архангел в испанской ночи XVI века располагал к серьезности. Да что от меня хотят!?
Иконка полыхнула дрожащим конусом света. Излучение постоянно меняло интенсивность, прыгало и шло рябью. Как будто коммуникатор пытается передать сигнал неизвестной кодировки. Чудовищной силы сигнал.
Конус приобрел известную стабильность и поплыл картинкой, постоянно искажаемой помехами.
Я увидел громаду космического крейсера, парящую в звездной выси. Именно крейсера. Не наш это был корабль, я ничего подобного даже на картинках не встречал. В каждой черточке корабля сквозило чужое, но судно военное, никаких сомнений. От кормовых дюз до носовой оконечности тяжёлой бронёй и сталью было написано обещание скорости, манёвра и быстрой смерти. И смотреть не нужно на орудийные башни и люки пусковых шахт – стремительные лаконичные очертания могли принадлежать только грозной боевой машине.
Так вот кто нас беспокоит! Любекская звезда! Хаельгмунд, порази его проказа, как водится, оказался прав. Чужаки меня выследили и теперь шли на контакт. Сумели даже передачу организовать.
Что же, значит, техника на уровне и развивается в одном с нами ключе, иначе, как бы коммуникатор разобрал сигналы? Это во-первых, во-вторых, намерения мирные. Что им стоило при желании меня просто прихлопнуть? Правда, никто и теперь не мешает. Посмотрим, как пойдёт. Я же тут вроде часового, который нужен единственное чтобы упасть под ножом неприятеля достаточно громко, чтобы переполошить товарищей.
Часть обшивки чужака отодвинулась. Из отверстия показалось подобие челнока, отвалившего от борта и ухнувшего вниз в пламени дюз. Картинка сменилась. Подо мной плыли очертания Пиренейского полуострова, который стремительно увеличивался. Полет замедлился, изображения шло теперь параллельно близкой земле и понижалось. Мелькнули очертания знакомого города. Барселона! Мы ползли теперь, притираясь к земле, и тут я увидел… да-да, наш сеновал! Картинка сместилась на запад метров на пятьсот-шестьсот и встала. С небес упал красный луч, высветивший точку между холмом и рощей. Изображение продержалось с полминуты, дрогнуло в последний раз и исчезло.
Пантомима более чем прозрачная. Я бросился судорожно одеваться.
– Твои родичи пришли за тобой? – спросила Зара очень спокойно.
– Что? Какие родичи? Ах, нет, нет. – Я бросил застегивать вамс и крепко взял Зару за локоть. – Милая, слушай меня внимательно. Это не мои родичи. Это… словом, чужие, я не имею представления кто это, и что им нужно. Они могут быть смертельно опасны. Смертельно. Ты сейчас очень быстро садишься на коня и уезжаешь. Сейчас, немедленно. И скачешь не оборачиваясь. И никому ни слова, все равно не поверят. Все. Уходи.
– Я… помочь…
– И думать не смей. Беги!
В черном небе нарастала рокочущая вибрация. В рокоте родилось сияние огня. На горизонте показался болид, приближавшийся неописуемо быстро. Плазменная подушка полностью скрывала корабль. Болид шел тихо, значительно обгоняя звук.
Челнок успешно вошел в атмосферу и теперь уверенно снижался. Никаких сомнений, это был именно челнок, или как там его, в общем – аэрокосмический аппарат. Он шел к поверхности в аккуратной, образцовой манере, которая могла бы сделать честь любому гвардейскому экипажу моей далёкой родины.
Огненная точка приближалась, превратившись постепенно в сияющий тюльпанчик, подмигивавший огнями габаритный огней. Когда он заложил вираж, явно прицеливаясь на посадочный круг, я даже залюбовался.
Ну? И кого это нам принесло?
На поляну заходил конвертоплан. Вполне себе приемлемая аппаратина с архитектурой летающего крыла. Два двигателя в подвижных обтекателях по краям кормы, плюс выставившиеся с кормы лепестковые дюзы, которые дружно исторгали синеватое пламя.
Никаких внешних признаков вооружения, хотя… два наплыва спереди крыльев… я не я, если за ними не скрывается нечто смертоносное: или энергетические орудия, или обычные ТТПшки (твердотельные пушки). Не любят, судя по всему, внешних подвесок. Следовательно, внутри планера запросто может скрываться все что угодно, вплоть до ракет тактиков, машина-то не маленькая.
Мой основательно заржавленный технически отсталым окружением мозг со скрипом вспомнил умное определение: малый десантно-штурмовой бот. То есть, и отделение десантировать и огнем поддержать – запросто. Ни отделения, ни, тем более, огня мне не хотелось.
Кто же это?
Корабль последний раз качнулся на столбах пламени и замер, выдвинув посадочные салазки. От него веяло жаром и, одновременно, холодом космических просторов. Черный корпус слегка потрескивал, остывая. Наплывы на крыльях с тихим шелестом подались назад, обнажив хищного вида стволы. Внизу что-то лязгнуло, и наружу показался шестиствольный агрегат самого прозрачного назначения – скорострельная пушка калибром миллиметров на тридцать. Военная машинерия слитно качнулась, нарисовав воображаемый треугольник с моей персоной в качестве вершины.
Теперь одно неверное движение и возможны варианты: бесшумный стрекот под корпусом – окровавленные ошметки разлетятся в десятиметровом радиусе; бесшумная вспышка излучателей на крыльях – хорошо, если горстка пепла останется.
Бежать и прятаться было бессмысленно, поэтому я просто побрел вперед, стараясь не делать ничего резкого и подозрительного. Руки на виду. Ребята, видимо, серьезные и предусмотрительные.
Оказавшись вблизи, я немало изумился. Поверх камуфлированного борта вились на ветру термопереводной картинки два флага. Вполне знакомых, то есть, совсем не чужих.
Один нёс серебро косого Андреевского креста на лазоревом поле, а второй, ой мама, черного двуглавого орла на золоте! Снизу белая непонятная надпись почти понятными буквами, среди которых бросалась в глаза чёткая арабская цифирь. Надпись гласила: ВОСХОД 092.
«Боксод 092»[95], это что за дьявольщина?
Я ошалело таращился на пришельца, забыв от изумления даже о пушках, вперенных в мое хрупкое тело. Пока я силился сообразить, что это всё, чёрт дери, значит, занудели сервоприводы и брюхо корабля отворилось широкой десантной аппарелью.
Створ выпустил наружу десяток фигур, споро окруживших челнок.
Все они были затянуты в боевые скафандры, неуловимо менявшие цвет в зависимости от фона. У каждого в руках имелась устройство с коробкой позади рукояти, невзирая на незнакомый внешний вид, я тут же опознал автоматические винтовки. Пара бойцов помимо личного оружия была снабжена мрачными трубами, покачивавшимися над плечами на поршневых опорах – явно какой-то аналог ПРК (переносного ракетного комплекса).
Пришельцы имели две руки, две ноги, одну голову и ходили прямо. Родные, стало быть, гуманоиды.
Два гуманоида остались у пандуса, нацелив на меня стрелялки, как будто мало было штатного вооружения челнока. Забрала глухих шлемов угрожающе посверкивали однопрозрачным пластиком, за которым я почти физически ощущал красные точки прицелов.
Проделано все было стремительно, тихо и слажено. Никакой возни и суеты, видно, что люди просто делают свою работу.
Прошли томительные секунды и с аппарели сошли еще трое. Эти были облачены попроще – обычные комбинезоны и высокие ботинки. На головах виднелись странные двускатные шапочки, лихо заломленные на затылок. Возле уха каждого виднелась плоская коробочка, переговорное устройство, что ли?
Да, это были гуманоиды, ничем от меня не отличавшиеся. Вполне человеческие лица, стандартной, так сказать, комплектации: нос, уши, подбородок, короткие ежики волос и внимательные глаза. Один из пришельцев, что стоял посередине, разразился очень музыкальной повелительной тирадой, изобилующей гласными. Главный здесь, надо понимать. Речь, кстати, очень знакомая, хоть и не ясно ни слова.
Ну что же, пора вступать и мне, а то еще пристрелят ненароком. Что бы такого сказать?
– Уважаемые, я ни слова не понимаю! Что вам угодно?
Старший помотал головой, приложил руку к коробочке и вдруг над полянкой разлилась знакомая германская речь! Универсальный переводчик это был, а не просто коммуникатор, вот что!
– Ваше имя! Государственная принадлежность! На кого работаете?
Я опешил и призадумался. В самом деле, втирать этим про то, что я простой ландскнехт бесполезно. Они же смогли мой передатчик запеленговать, а откуда у простого ландскнехта средства межзвездной связи?
Пришлось выкладывать всё как на духу:
– Меня зовут Этиль Аллинар. Наблюдатель первого класса, планета Асгор. Исполняю научную миссию по заданию Академии. С кем я говорю?
В ответ послышалось:
– Военный флот России, Содружество Наций, планета Земля, капитан первого ранга Алексинский. И вопросы здесь задаю я! Советую отвечать честно, если хотите жить! Ещё раз, кто вы и что здесь делаете?
– Господин капитан, я уже всё рассказал. Я работаю под прикрытием легенды, исполняю научную миссию. Виза выписана Академией планеты Асгор… – тут до меня дошли слова моего невежливого собеседника: «Военный флот России, Содружество Наций, планета Земля»… Что, заберите их черти, здесь твориться?! Какой военный флот на планете Земля в шестнадцатом веке!? Они же не на галере приплыли, они же с орбиты у меня на глазах упали! Какого …?!
Пока я таращился, трое в комбинезонах принялись переговариваться. Они забыли выключить переводчики, поэтому я понял каждое слово.
Первый: «Палыч, не верь, это американец. Устроили цирк специально для нас, как я и говорил. Хотят заполучить действующий образец».
Второй, перебивая: «Хорошо если американцы! Я думаю, это МГБ. Проверка. Мы ни хрена не знаем полной вводной по испытанию. Если весь этот маскарад их рук дело? Хотят посмотреть на наши действия в непредсказуемой ситуации».
Капитан I ранга Алексинский, хмуро: «Подите оба к черту! Американцы, МГБ… Кто такое мог сотворить? Вся поверхность планеты – какой-то бред! А ваши „действия в непредсказуемой ситуации“ свелись к недельному запою на орбите. Потом сорвались до самых границ Солнечной, ни хрена не нашли и полетели обратно – орлы, нет слов!».
Второй: «Этот тип, говорит, что он с Асгора. С этой планетой имеются контакты уже лет пять. Это секретно, американцы ещё ничего не знают. Он точно из МГБ. Ишь, клоуном вырядился!»
Я не знал, кто такие американцы и что это за эм гэ бэ. Я понял одно, что если я не сошел с ума, эти парни из будущего!
– Прошу прощения, – сказал я, причем капитан поморщился и буркнул что-то вроде «чёрт, забыл переводчик выключить», – Прошу прощения, какой сейчас год?
– Не пытайтесь вилять! Сейчас 2643!
– Мне жаль вас разочаровывать, но это ошибка. Сейчас 1535 год, апрель месяц.
Они не поверили. Они задали много гневных вопросов. А когда услышали ответы, гнев сменился крайней растерянностью. И вот, мы уже сидели на травке в окружении ошарашенных бойцов и делились новостями. Ребята, как оказалось, попали в положеньице, не чета моему.
Вот что я узнал.
Это были далекие праправнуки тех новгородских и прочих московитских купцов, которых я неоднократно встречал в Любеке, оттого и язык показался знакомым. Линкор «Восход», пункт приписки космодром Плесецк, совершал орбитальный рейс.
В ходе его планировалось испытать новейшую установку радиолокационной и визуальной невидимости. Звездолет должен был быть укутан коконом некоего силового поля, который искривлял лучи света, делая его абсолютно невидимым. И вот, как они его назвали, генератор «Тесла» был запущен, вышел на расчетную мощность, и… всё вокруг исчезло. Вообще всё.
Когда испуганные звездоплаватели вырубили напряжение, всё вернулось, но на Земле они увидели то, чего не могло быть. Полная потеря инфраструктуры, отсутствие космодромов, подавляющего большинства городов и так далее.
В соответствии с темпераментом, звездолетчики сильно пили около недели. Потом полетели по известным координатам звёздных баз искать своих. Не нашли, как и следовало ожидать. Зато, вернувшись назад, они запеленговали остаточное излучение некоего передатчика, благодаря которому разыскали вашего покорного слугу.
Появилось подозрение, что это провокация таинственных северо-американских сепаратистов, стремящихся захватить новейшее оборудование, которое могло превратить любой корабль в почти абсолютное оружие.
Другая версия гласила, что этот розыгрыш дело рук их родной спец. службы – то самое МГБ – Министерство Галактической Безопасности. Решение было принято, и мои новые знакомые решили навестить обладателя передатчика, меня то есть. И теперь мы увлеченно общались.
– Вы понимаете, что это такое? Это не генератор невидимости! Это машина времени! Невозможно, но это так! Вы изогнули пространство, разорвали временной континуум и провалились на тысячу лет назад! Вроде гиперперехода, но по другой оси координат.
– Я участвовал в разработке этой проклятой штуки. Она на такое не способна, это какой-то сбой. Может быть, в совокупности с природной аномалией неизвестно рода. Мощность генератора сама по себе ничтожна, – тряс головою «первый», которого звали Дмитрием Александровичем. – Для транс-перехода требуется колоссальная мощность. Видимо, мы попали в некую гипотетическую «слепую каверну» пространства, а наша установка инициировала скачок.
– Факт на лицо. Вы здесь. Имело место перемещение во времени.
– Нам бы только назад уйти. Э-э-э-э-х. – Это «второй» – капитан II ранга Чистов, старший помощник. – Хорошо, всё-таки, что ты не американец, я их страсть как не люблю!
– Надо попробовать сменить полярность элементов генератора, так сказать, запустить его назад… найти точку выхода, это мы можем с точностью до миллиметра, все данные есть… врубить установку… быть может, выберемся, ведь мы теперь знаем наши, так сказать, темпоральные координаты, спасибо товарищу Аллинару! И время, время выставить точно! В 10-32-43 вышли, тогда же и возвращаться надо! Ну что, Палыч, рискнём?
– А куда деваться? Ты у нас наука, ты и решай. Ладно, Этиль, как там тебя по батюшке. Прощай. Здорово помог. Надо возвращаться. Слушай, ты же здесь в солдатах и у вас война скоро? Давай мы тебе оружия подкинем, а то много толку с твоей ковырялки!
Бери автомат, пистолет и патронов, ведь сам понимаешь.
– Спасибо огромное, товарищ капитан, вынужден отказаться. Научная этика и всё такое. Нельзя. Тринадцать лет ковырялкой обходился, и сейчас обойдусь. Спасибо.
– Уважаю. Ладно. – Он встал, скомандовал «на борт, марш», а когда личный состав скрылся в чреве корабля, повернулся, почесал затылок и молвил:
– Не хочешь оружия, не надо. Держи тогда по нашему обычаю в благодарность. Это тебе этика точно не запретит. Спасибо тебе, братец, выручил.
Капитан залез в объемистый транспортный карман на бедре и вытащил на свет высокую плоскую фляжку прозрачного стекла. На боку имелась бумажная наклейка с изображением красных башен с пятиконечными рубиновыми звездами на шпилях.
– На выпей за удачу, это тебе не местное пойло. «Столичная»! Прощай. Капитан Алексинский со странным именем Палыч, сильно хлопнул меня по плечу и ушел на борт.
Корабль улетел, а я остался в компании изрядно удивленного коня и стеклянной бутылки в руках.
Познакомился с наблюдаемым населением. В перспективе, если вы меня понимаете. Бывает же!
Глава 14 В которой имперская армия высаживается в Тунисе, а Пауль Гульди прощается с близкими людьми
Из отчета наблюдателя Пауля Гульди за 1534 г. от Р.Х. по местному летосчислению.
«…Таким образом, перспективы прогресса земной цивилизации, а конкретнее, её самой рационально развитой в техническом и, если так можно сказать, прагматическом регионе, а именно – Европейском континенте, представляются следующим образом.
1. Знания о звездной механике для архаического общества здесь чрезвычайно развиты. Разумеется, среди простого большинства населения могут бытовать странные легенды о плоской планете и каких-то слонах, которые стоят на черепахе и держат спинами всё мироздание. Более того, многие вообще не задумываются о столь абстрактных материях. При этом, люди практические, зависящие от расположения звезд на небе с точки зрения профессии, например – мореплаватели, отчетливо представляют сферическое устройство Земли, кстати, недавно подтвержденное опытным путем – речь идет о первом кругосветном путешествии экспедиции Магеллана (см. Приложение 7). Карта звездного неба в видимой невооруженным глазом части составлена со всей возможной подробностью и на практике используется безукоризненно. Более того, преступно не замечать, что ученые теоретики в значительной массе исповедуют вполне реальную картину мира. Они точно описывают центральное расположение светила, и планеты, вращающиеся вокруг него. Отметим также, что гелиоцентрическая конструкция системы была известна и использовалась на практике более тысячи лет назад. Будучи в Италии на вилле местного магната мы с Адамом Райсснером наблюдали удивительный механический прибор, который род сего магната – большого собирателя и знатока древностей, хранит уже несколько веков и содержит в полном порядке. Прибор представляет собою шкатулку из бронзы, выложенной золотыми пластинами. Механизм прибора также сработан из бронзы, серебра и золота. В основе его действия лежит спиральная пружина, которая приводит в движение своеобразный календарь. Прибор показывает текущий день и месяц, оборот земли вокруг своей оси и положение её относительно Солнца, а также текущую фазу спутника – Луны. Кроме того, прибор показывает расположение шести планет системы (из восьми существующих) по отношению к Солнцу. Сработано устройство было, судя по надписям на боковой панели в 256 г. от Рождества Христова в пересчете на бытующую ныне систему летосчисления (см. приложение 1), то есть, около 1400 лет назад. По утверждению хозяина, использовалось оно для нужд морской навигации и, якобы, было отнюдь не уникальным явлением на флоте Римской Империи. В подтверждение своих слов он привел описи находок с некоторых поднятых со дна морского древних галер. Столь быстрое развитие астрономических знаний нельзя не принимать во внимание, особенно, учитывая изложенные мною выше факты. (Конкретные выкладки по данной теме см. в сводной таблице приложения 3 бис.)
2. Наблюдаемая цивилизация довольно типична в плане применения передовых технологий. Как и большинство известных, данная цивилизация в техническом плане развивается под воздействием военной необходимости. Достаточно объемный материал вещественных и письменных источников, собранных и изученных мною, а также долгое пребывание в действующей армии, где я мог изучить последние достижения научной мысли в действии, позволяют сделать вывод о направленном военном акценте эволюции прикладных и фундаментальных отраслей местной науки. Война является важнейшим стимулом развития человечества. Она сводит народы вместе, заставляет изобретать новые орудия, непрерывно их совершенствуя, изыскивать новые материалы, приручать животных. Самые передовые знания внедряются, в первую очередь, в области вооружения и военного снаряжения, и только потом перекочевывают в мирные жизненные страты.
Война, как форма социального насилия, требует специальных материальных средств, к которым здесь бытует отношение именно как к инструментам. Недаром, существует устойчивое лексическое обозначение войны, как „ратного труда“ – почти уникальное культурное явление, малохарактерное для нашей цивилизации, равно как и для большинства известных. Обозначение это в рассматриваемом культурном контексте, напротив – весьма распространенное. Это ясно указывает на то, что аборигены, пусть подсознательно, но имеют представление о характере эволюционного развития своей цивилизации.
Итак, здание технического прогресса строится на фундаменте практических и теоретических знаний о боевых средствах. Логично предположить, что прогноз общей технической эволюции необходимо рассматривать, анализируя именно военную технику в ретроспективе. Земная цивилизация наблюдается уже восемь столетий. За этот период техника уничтожения шагнула далеко вперед: были изобретены новые металлические сплавы, широко внедрена сталь, появилось огнестрельное оружие на пороховой основе. Защитное вооружение превратилось в высокоэффективные специализированные средства с широким использование стали, изготавливаемое с применением весьма совершенных способов термообработки. Жесткие монолитные конструкции, шарнирные соединения, точно рассчитанные углы рикошетирования, система дифференциации индивидуального бронирования – вот основа местного защитного снаряжения.
Накопленный массив информации заставляет предполагать, что количественные изменения в самом скором времени дадут мощнейший качественный скачок. Европа без преувеличений находится на пороге индустриальной революции, которая выведет цивилизацию из разряда „архаических“ в разряд „развивающихся“ по принятой академической классификации. Имеющиеся данные сведены в таблицы, на основе которых произведен статистический расчет по уравнениям прогноза технического прогресса. Полученные данные, конечно, приблизительны и требуют более точного расчета при помощи спец. техники Академии. (Общие данные и результаты сведены в таблицах приложения 12, 12 а – 12 с). Общий вывод таков: учитывая скорость накопления теоретических знаний и претворения их на практике, а также на основе анализа революционных научных скачков, зафиксированных ранее, можно утверждать, что цивилизация Земли не позднее второй половины XX – первой половины XXI вв., по местному летосчислению, войдет в фазу ранней колонизации Космоса. На этот же срок прогнозируется освоение энергии ядерного и термоядерного синтеза, а также концентрированного светового излучения. Принимая во внимание вышеизложенное, не приходится сомневаться, что, в первую очередь, новые знания будут воплощены в создании оружия, которое молодая цивилизация естественно понесет в Космос. В те же сроки можно прогнозировать, как минимум, теоретическое обоснование существования антиматерии, управляемого гравитационного поля, возможности прорыва метрического пространства. Как скоро данное знание может быть воплощено в жизнь, расчету со сколько-нибудь приемлемыми допусками точности пока не поддается. На текущий момент исходных данных не хватает. Кроме того, чисто технические аспекты, в данном случае, неминуемо подвергнуться воздействию культургенезиса, то есть любое прогнозирование будет лишено механистической линейности. Примерный расчет показывает, что в это время население Земли возрастет до уровня 6 000 000 000 человек или более. Неотвратимо наступит дефицит ресурсов, которыми данная планета и так не богата. Таким образом, остается открытым вопрос: не поглотит ли цивилизация самое себя в борьбе за передел скудной ресурсной базы? Вполне возможный вариант, учитывая, что ведущая и наиболее агрессивная часть человечества уверенно вступает на путь развития „потребительского“ типа (тип 2а по Леданэ: „периферийно-потребительская цивилизация“). Глобальная война или серия войн, неизбежно вытекающих из подобного развития событий или уничтожит земное население вовсе, или отбросит его на многие века назад, вернув в период архаики, или заставит замкнуться в спасительной автаркии, которая, скорее всего, переведет человечество на биологический путь развития. Последний вариант: цивилизация объединится под руководящим началом наиболее здоровой её части (форма объединения более чем спорна), и тогда, в течении века мы встретим её на межзвездных трассах. Вспомним, что местная техника лучше всего эволюционирует при обслуживании военных нужд. Так что, после глобальной войны неизбежно прорывное, революционное изменение земной боевой машинерии. При этом, планета будет в любом случае изуродована военными действиями, так что межзвездная колонизация не заставит себя ждать. Таким образом, чрезвычайно короткий срок в 600–700 лет отделяет Асгор от возможного появления весьма энергичного галактического соседа с крайними экспансионистскими устремлениями. При благополучном для землян варианте, они будут иметь средства межпространственных переходов, средства доставки термоядерных БЧ тех или иных форм, высокоэнергетические лучеметы с достаточным КПД для их боевого использования, рельсовое оружие, и, возможно, излучатели антиматерии первого или второго рода. Такую возможность нельзя упускать из виду. Прекращать наблюдения за Землей в данный период было бы неосмотрительно и, более того, преступно. (Спец. прогноз военного развития см. в приложении 11, таблицы 1-19, диаграммы 1-23)
3. Перейдем к аналитике культургенезиса европейской цивилизации. Этапным может считаться движение так называемой Реформации, в ходе которой явственно создается идеологическая база для перевода архаического общества к развивающемуся. Характер новых религиозных воззрений указывает, что новый путь – будет путем потребительского общества с крайне выраженной ксенофобией. Вполне вероятно, подобное несколько раз уже наблюдалось (см. цивилизационные сравнительные характеристики в приложении 4.), что изначально ксенофобия укоренится в самом обществе, породившем Реформацию. Уже сейчас оно стремительно расслаивается, превращаясь из архаическо-сословного в модернизированное классовое с выраженным горизонтальным разделением социальных прослоек. Можно основательно предполагать усиление этого процесса и интенсификацию его. Таким образом, изначальная ксенофобия неминуемо будет обращена внутрь, причем точками её приложения сделаются межклассовые границы. Впоследствии, данный тип общества, скорее всего, сможет вывести „внутреннюю войну“ вовне, начав стремительную экспансию менее развитых и менее агрессивных народов. Уверен, что не пройдет и пятисот лет, как данная тенденция найдет свое логическое завершение. Это выразится, по моему предположению, в новом несословном, классовом объединении такого общества на основе инаковости всех остальных, или некоторых народов, которые, таким образом, превратятся в „чужих“, которых можно и нужно будет уничтожать или эксплуатировать для нивелировки межклассовых различий внутри самого общества. Трудно судить точно, но, скорее всего, подобное цивилизационное устройство станет типичным для европейских народов, которые, предположительно, смогут объединиться по географическому признаку, создав один из основных центров политической активности на Земле. Экспансия и вынос классовой войны на периферию европейской цивилизации неизбежно приведет к глобальному военному столкновению, о котором я писал выше. Характер его, исходя из общего анализа, может быть как собственно боевым, так и „холодным“ с опорой на первоначальное широкое использование культурной экспансии…»
«…Постановляю:
1. Вынести благодарность за плодотворную работу наблюдателю Э.А.
2. Премировать указанного наблюдателя.
3. Донести рекомендацию публикации данного отчета в виде статьи для ежегодного Академического Вестника по разделу „Ксеноистория“. Таблицы и приложения, касающиеся военных прогнозов подвергнуть цензуре.
4. Создать реферат полного отчета, включая таблицы и приложения для отдела Военного Планирования. Реферат закодировать шифрами „ДСП“ и „СС“. Установить среднюю категорию допуска по классу ДСВА.
5. Рекомендовать наблюдателя Э.А. по истечении срока командировки к дальнейшему прохождению службы в Отделе Научной Разведки.
Старший куратор…»
Непобедимая и необозримая наша армия высаживалась на тунисском берегу. Если бы любезный друг и ревнитель всяческой старины Адам был с нами, он бы неминуемо вспомнил Пунические войны и десант римских войск Сципиона. Мы как раз в тех самых краях обретались, да и руководил нами не кто-нибудь, а римский Император собственной персоной. Кайзер – Кесарь, даже звучит похоже.
Но герр Райсснер убыл по своим неотложным делам, а мы убыли по своим, так что вспомнить старину Сципиона было некому. Хотя, если подумать, дорогой наш и обожаемый монарх был бы в восторге от такой исторической параллели. Некто умный и находчивый, вверни подобное в нужное время легко мог бы заработать заметный политический и золотой капиталец. Отчего хорошие мысли приходят исключительно не вовремя? Мне-то капиталец был более не нужен, вот я и помалкивал.
Пронзительным шипом бредило сердце воспоминание о Заре и о нашем прощании. Очень нелегкий вышел разговор. Долгий, косноязычный, неискренний. Так всегда, когда нужно немедленно сказать нечто важное дорогому человеку, язык прилипает к гортани, а в мыслях остаются никому не нужные пустяки. И давишь из себя возвышенную пустословицу что есть сил, пряча глаза, ковыряя землю носком ботинка. С вами такого не бывало? Со мной – частенько. Не скажу, что постоянно, но гораздо чаще, чем хотелось бы.
Берег моря, закат, мягкий ветер, колыхание волос, тепло ладоней. Сплошная романтика.
– Любимая, я завтра отплываю.
– Я знаю.
– Я вернусь.
– Не вернешься.
– Я клянусь!
– Зря клянешься.
– Во-первых, перестань дразниться рифмами. Во-вторых, что мне помешает? Закончим поход, я вернусь, уйду из армии, отошлю ходатайство о продлении полномочий наблюдателя и останусь с тобой, никуда не полечу. Я же тебя люблю, что я делать буду без тебя?
– Милый мой! Я вовсе не о твоем отлете печалюсь, а о твоей смерти! Улетай куда хочешь, только живи! Мне сон был…
– Ага, конечно, ты видела, как я сидел за столом и ел мясо, что явно указывает на мою скорую кончину. Ха-ха-ха!
– Дурачок, я же ведьма, не смейся, это очень серьезно. Береги себя, будь осторожен.
– Зара, когда я не был осторожен за все эти годы?
– Тем более обидно в последнем походе… Улетай, Пауль. Улетай. Это не твой мир, не твой дом. Улетай к своим родичам, где тебя ждут. Я хочу, чтобы отец моего сына жил, все равно где, поэтому, улетай. Тут тебе не место. Этот мир более не хочет тебя. Он убьет тебя. Тебя ждет дом. Просто живи.
– Женщина, я сам решу, где мне место, и где меня ждут… что?! Сын?! Когда?!
– Месячные должны были кончиться две недели назад. А они даже не начались. Т-с-с, не перебивай, я точно знаю. Я чувствую. И он точно твой. Нет-нет, Франциско не причем, я знаю.
– Да куда же я теперь денусь! Счастье-то какое, теперь я точно приеду назад! Сдам документы своим и вернусь! Слава Богу! Зара!
– Пауль, не говори лишнего. Поцелуй, как ты умеешь, по-настоящему и прощай.
– Приходи завтра, когда мы будем отплывать.
– Прощай, Пауль.
– Я бы сказал, до свидания, ведь я вернусь.
– Прощай.
Зара стремительно развернулась, сильно наклонив голову. Она всегда так делала, когда желала скрыть слезы за густым покровом волос. Быстрые ноги унесли её в тень рощи, откуда послышался вскоре дробный перестук копыт. Провожать нас в порт она не пришла, или пришла, но на глаза показываться не пожелала. Больше Зарайды я не видел.
Выгрузка продолжалась несколько дней. Шутка ли перевезти шлюпками содержимое нескольких сотен кораблей на дикий берег! И суда-то самые разные, от стремительных венецианских галер и многопушечных галеонов, до неуклюжих пузатых карак, арендованных у купцов в добровольно принудительном порядке, и служивших для перевозки людей и грузов.
Андреа Дориа держал флаг на великолепной галере. На не менее великолепном галеоне вился императорский штандарт. Между ними непрерывно сновали раззолоченные шлюпки, доставляя вести, послания, а то и самих дирижеров этой сложнейшей симфонии.
Первыми на берег сошла легкая пехота и саперы, выстроившие за сутки подобие пирса, способного принимать коней и серьезные грузы, наподобие пушек. После этого разгрузка пошла быстрее, но все равно, провозились ещё трое суток.
Вокруг постоянно сновали разъезды итальянских страдиодов – легкой конницы из славянских наемников. В подвижности они вряд ли уступали турецкой, прекрасно стреляли из луков на всем скаку, а отличные миланские бригандины и шлемы давали возможность продержаться некоторое время даже против тяжеловооруженных спах[96].
Вскоре подоспела испанская конница. Пока вся эта кентаврианская братия ходила разведкою и дозором, пехота со страшной скоростью укрепляла лагерь. Все превратились в кротов, не только саперы. Кому охота попасть под атаку, скажем ночную, при десантировании? Да и днем не очень-то это здорово, если не топорщится надежный вал орудийными стволами, если не тлеют фитили, если не смотрят в даль сотни часовых, если нету дежурного подразделения, затянутого в сталь по-боевому, готового в любую секунду дать по зубам.
Вокруг лежала великая пустыня. Сахара. Узкая полоса берега, оживленная влажными ветрами моря, но даже здесь умеют ценить и беречь воду. Постоянно пересыхающие речушки и озерца – живое и постоянное напоминание о жарком дыхании песчаного великана, живущего по соседству. Здесь бывает много деревьев, я даже потрогал ночью настоящую пальму, очень здорово смахивавшую на воткнутый в землю огромный ананас.
За относительным благополучием побережья начиналась полоса саваны – полупустыня. Мало воды, мало зелени, мало деревьев, а речные останцы гораздо чаще сухи, чем на побережье.
А дальше – пустыня. Заведи туда войско и потеряешь его так же верно, как если бы мы вознамерились переплыть море на плотах.
Народ в этих краях круто просолен, суров и молчалив. С лошадями управляются замечательно, еще бы, ведь они на них живут. Им все равно с кем воевать, и воевать они умеют. Христиан не любят, так что скоро, я уверен, все эти пастухи встретят нас в рядах турецкой армии, и тогда держись. Что делать с массой легкой конницы, которая не вступает в бой, постоянно посыпая издали стрелами, готовая мгновенно бросится на потерявшего порядок врага, я плохо представлял. Все равно, что рубить мечом воду.
Ну что же, справлялись с подобным противником и десять тысяч греков Ксенофонта во время своего знаменитого анабазиса, фаланги Александра Великого, вонзившие македонскую сариссу до самой Индии, легионы Максимина Фракийского, и много кто еще, я читал. Воду ведь не нужно рубить. Её можно вычерпать, можно развести огонь и испарить. На каждую силу есть другая сила. Управимся как-нибудь.
Воинственные размышления напомнили занятный случай из армейской моей жизни, что произошел за пару дней до императорского смотра.
Случай, конечно, забавный, а с другой стороны посмотреть – ох какой был хороший шанс оконфузиться! Давненько не припомню такого в моей уже тринадцатилетней карьере, наполненной неуставными поступками, нарушениями легенды и секретности.
Пригнали последнее пополнение. Раскидали ровным слоем по ротам. Естественно, за такое время ничего путного из новобранцев сделать не выйдет, но хоть посмотреть, познакомиться. Вдруг опытный народец затесался ненароком на наше счастье? Ветераны… Словом, выстроил я свою роту и начал наводить культурную коммуникацию.
Всего в довесок мне досталось от щедрот Конрада шесть человек. Двое с виду полные охламоны. Снаряжение на них все сплошь казённое и сидит как седло на корове, и как козел на заборе. Ладно, оставлю в тылу построения, авось не пропадут сразу же… а там – на войне людишки быстро плохому учатся, если выжить удалось.
Остальные, на первый взгляд, ничего себе. Крепкие мужички, трое даже в своих латах. Ветераны, стало быть. Побывавшие. Повидавшие. Таких и учить особо не надо. Лишь бы с парнями смаршировались, но это у нас ещё будет возможность.
Стали знакомиться. Я прохаживался вдоль строя и торжественно басил:
– Ну что, ослы свинские? Повоюем? Правило у меня одно: дерутся все, как звери. Если кто струсит, или, не дай Бог, побежит, зарежу. Словом, стоять крепко и слушать команд. Тогда останетесь жить. Добро пожаловать в мою любимую роту!
Два новобранца дрожали листками на ветру моего голоса, совершенно бледные. И как их занесло в армию? Напоили и заволокли? Быть может. Парни в своих доспехах, которых я определил как ветеранов, рассматривали меня с явной насмешкой, ещё бы, они разных командиров повидали уже. Ну ничего, дурь из башки я выбивать научился. Ещё один, неопределимого качества новобранец, смотрел спокойно, я бы сказал, с интересом. Глаза хорошие. Взгляд твердый. Сам роста среднего, рыжий.
Я полез в ротный список.
– Гюнтер Шильд, умелый солдат, пришел с полудоспехом и своей алебардой. – Я глянул поверх листа, вперед вышел один из ветеранов. – Ты где служил?
– В Италии, герр ротмистр.
– Встань в строй. Та-а-а-к, Петер Файнер, умелый солдат, нанялся со своим доспехом, айзенхутом, алебардой. – Второй латник вышел вперед. Хорош. Этому в бою спину доверить можно без опаски. – А ты где служил?
– В армии трухзеса его императорского величества фон Вальдбурга, герр ротмистр.
– Фон Вальдбурга? Крестьян, значит, гонял?
– Так точно, герр ротмистр!
– Встань на место. Йозеф Годой, новобранец, «заклепка» выдана из арсенала вместе с алебардой. Вербовался со своей шпагой. – Трясущийся рекрут вышел из строя. Молодой совсем. И ладно, все мы рано начинали, я тоже. – Что за фамилия? Ты что, швейцарец?
– Т-т-т-а-к, герр р-р-ротмистр, папаша наполовину швейцарец из под Ж-ж-женевы, г-г-гер ротмистр.
– Не трясись, г-г-г-г-ер Р-р-р-ожа, передразнил я, мерзенько поводя плечами и уродуя губы, чем вызвал довольных гогот своих парней. – Помнишь, что у нас с трусами делают? От то-то же. Встань на место. Следующий… кто тут осчастливил своим присутствием мою ненаглядную пехоту? Юрген… не понял… Это что шутка? Юрген Шайсе?
Бойцы зашлись в бу-го-га, переходящем в судороги, я не выдержал и тоже начал прыскать. Вперед вышел второй рекрут, ковырявший в носу, и сажавший козявки по краешкам пластин набедренной ташки. Харя туповатая и нагловатая. Весь в оспинах.
– Дед был золотарь и прадед и папаша – золотари. И я – говночерпий. Фамилия наследственная. – Народ ржать уже не мог и тихо скулил. Рекрут Шайсе невозмутимо добыл еще одну сухую соплю и устроил поверх пластины.
– Встань в строй. Еще раз забудешь сказать в конце «герр ротмистр», тут же получишь в морду. Юрген Шайсе, гы-гы-гы… Следующий. Так. Ещё один клоун? Теодор Инсбрук, умелый солдат. Что за чёрт, что за фамилия? Если ты Инсбрук, то я тогда Пауль Мюнхен.
– Герр ротмистр, служил в Италии и Шлезвиге, герр ротмистр! Счастлив присоединиться к войску, герр ротмистр!
– Он счастлив… я рад, что ты счастлив… ты смотри, Инсбрук, мне все равно от какого дерьма на гражданке ты тут прячешься, всё что было, осталось вот за этим порогом, – я размашисто перечеркнул песок острием меча, – здесь все начинается заново, в армии ты всё равно, что младенец. Главное, не обосрись в бою и будет у нас мир да любовь. В строй. Т-а-а-к, Пауль Гульди, саксонец, умелый солдат… не понял?
Я был здорово ошарашен, хотя после Инсбрука и, тем паче, человека по фамилии «говно», кажется, нужно быть готовым ко всему. Но чтобы вот так… Полный тезка, да еще саксонец – это явный перебор. Надо же, встретить свое собственное легендарное прикрытие нос к носу! В тысяче миль от Саксонии, да еще так неудачно перед ясными очами всей моей доблестной сотни.
Впереди строя стоял тот самый, понравившийся мне парень со спокойными глазами.
Надо было срочно спасать положение:
– О как! Пауль Гульди! Саксонец! И я Пауль Гульди, саксонец. Земляки, стало быть. Может даже родственники. Ты не из под Дрездена?
– Я из самого Дрездена, герр ротмистр. А вы, герр ротмистр?
– Но-но, поговори мне. Не забывайся, земляк, мы в строю. Ты где служил?
– В войске курфюрста Саксонского. – Он сделал паузу, под моим внимательным взглядом понял, что кое-что важное упустил и тут же поправился, – герр ротмистр.
– Вот то-то. В строй встань. – Далее надо было сказать что-то очень бравурное и начальственное, чтобы сгладить впечатление и избежать немедленных расспросов, что я и сделал.
– Значит так, обращаюсь ко всем, и к новому пополнению и к старичкам. Скоро выступаем. Когда дело дойдёт до дела, слушать команд и выполнять беспрекословно! Идём мы, как вы знаете, за море, в Тунис. Земля там чужая – это вам не шуточки. В случае чего, там даже в плен сдаться некому, нас ждёт «плохая война». Не забывайте, что мы сражаемся под священными знамёнами Империи! Под ними сражались и погибли многие славные ландскнехты. Так что памяти павших будем достойны! Хох Кайзер!!!
– Хох! Хох! Хох!
– Со своей стороны обещаю: все отличившиеся будут награждены, а все обосравшиеся, соответственно, примерно наказаны… – и так далее. Стандартная по-военному звонкая ахинея. Я так научился говорить буквально часами.
Но что я могу сказать по делу? Только: о-па! Чуть не засыпался на ровном месте! Спасибо, дорогие мои коллеги из группы легендирования. Прикрытие составили на высшем уровне. Никакого Пауля Гульди по идее не должно было существовать ни в Дрездене, ни рядом. Сволочи, больше слов не хватает. Выкручивайся тут за них.
За выгрузкою последовал марш на восток. Воля императора заносила острую шпагу его армии над городом Тунисом, в прошлом – финикийским Карфагеном, с одной стороны, и дагу флота с другой. Флот шёл в видимости берега, готовый прикрыть армию огнем, подкинуть припасов или обеспечить эвакуацию, если запахнет жареным. Ну и во время осады прибрежных укреплений его многочисленные пушки – неоценимое подспорье.
Ведь что такое корабль, как не огромная орудийная платформа с парусами? Пара судов – сорок пушек, или около того – сравнимо со всей сухопутной армией. Таскать за собой несколько десятков стволов весьма затруднительно, а тут никаких помех, море все выдержит. Так что судов у нас не пара и есть весьма большие со страшным количеством орудий.
Несколько раз на марше нас тревожили летучие отряды конницы. Как и предполагалось, местные с радостью навербовались в турецкую армию. А у кочевников всегда замечательная легкая кавалерия. Простите, что постоянно синонимизирую понятия конница и кавалерия, я знаю, чем они различаются[97]. Это я с целью литературных красот, не более.
К счастью, разъезды всегда оказывались начеку, и мы обошлись без серьезных потерь. Человек с воображением и не чуждый военного дела, легко представит, как это могло быть.
Ночь, палатки и шатры. Полыхает огонь неожиданно, по лагерю разливается пожар. Люди в исподнем выскакивают на улицу и тут же падают, пронзенные стрелами. Кто-то хватается за оружие, но мимо проносятся невнятные тени, сумрачными молниями сверкают сабли, рассекая позвонки и затылки. Минута – лагерь охватывает паника. Где враг не понятно, пожар ширится, начинают рваться бочки с порохом.
Когда с противоположенного конца подходит бронированная стена пехоты, когда выскакивает конница в полном вооружении, невидимого врага уже и след простыл. А заодно половины орудийного припаса и сотни человек, обреченных на плен и рабство. И убитых с полтысячи.
Обошлось. Этот пессимистический сценарий был абсолютно реален, но не воплотился в жизнь, благодаря многочисленным часовым и частому неводу легкоконных дозоров.
В ходе столкновений мы на практике выяснили, что мушкеты заметно дальнобойнее любых луков, а густая цепь пеших стрелков создает такую плотность огня, что стрельба по площадям без особого прицела приносит заметные результаты. Самое главное, неуловимые конные лучники побаивались заезжать в зону эффективного поражения, и, как следствие, посылали тучи стрел в белый свет без особой пользы для них и вреда для нас.
Плотные шеренги баталий то же отлично показали себя под дождем стрел. Один раз нас атаковали на марше и весь полк минут десять посыпали жалящей смертью. Мы успели в полном порядке построиться и начать неспешную атаку. Естественно, никого не поймали, но и потерь было куда меньше, чем можно было представить, глядя на тучи стрел, заслонявшие солнце.
Не так страшен черт. Если пехота не из робких и дисциплинирована, воевать можно. Во-первых, конная лава не в состоянии обеспечить сплошного поражения на единице площади, банально из-за разряженного построения. Во-вторых, та же редкость построения не позволяет вести прицельный огонь всей атакующей коннице. В любом случае, задние шеренги не видят куда стреляют, а то и находятся достаточно далеко, чтобы примитивное их оружие полностью теряло эффективность. В-третьих, промахнуться по целой баталии, конечно, не возможно, но навесная стрельба поражает головы и плечи, надежно прикрытые шлемами и горжетами, которые не по зубам даже лучшим бронебойным стрелам на такой дистанции. В-пятых, поближе легкая конница не суется, или суется не надолго, ведь пять шеренг мушкетеров – достаточно острый соус, чтобы отбить вкус их атаке. Главное держать строй и не бежать. Как только побежал – пиши пропало. От стремительных всадников не уйти. Все вместе с разгона они легко покромсают любую тяжелую пехоту, в любом количестве, ни доспехи не спасут, ни пики с алебардами.
Короче говоря, за десять минут обстрела полк потерял убитыми, ха-ха-ха, одиннадцать человек, и то, почти всех пока не успели построиться. И раненых чертова дюжина. Большинство – легкие, без потери боеспособности.
Чужих тел мы собрали с земли три дюжины, почти все попятнаны пулями. Кто-то поломался при падении с коней. Двоих порвало ядрами – пушки успели сделать несколько залпов. Плюс еще восьмерых порубали во время контратаки нашей конницы. Итого, одиннадцать против сорока четырех. Неплохой размен, я считаю.
Полезный опыт. Тогда стало совершенно ясно, что серьезную угрозу могут представлять лишь собственно турецкие войска: спахи и, конечно, янычары. И очень хорошо, потому как разведка доносила, что в районе Туниса концентрируется черная туча наемной местной конницы. Не менее тридцати пяти тысяч. Загибают, скорее всего, но число внушает уважение, в любом случае. Если бы с ними надо было серьезно считаться, то поход можно было смело сворачивать. У нас вся сухопутная армия двадцать три тысячи, плюс пять тысяч десанта испанской пехоты на кораблях. Ловить нечего. А так – нормально – повоюем.
Армия шла на восток. Все время было поглощено рутиной обязанностей. Механическая работа: подъем, марш, дежурство на походе, привал, опять марш, ночевка, часовые, пароли-отзывы, подъем, марш. Голову подключать к этим увлекательным занятиям не требовалось. Голова была занята другим. Я непрерывно думал о Заре и о своем обещании вернуться. И о том, что она ответила.
Такие мысли неминуемо приводили к неразрывно сплетенному с нашей судьбой человеку. Догадаетесь сами, или подсказать?
Пока мы плыли, пардон, шли по спокойному Средиземному морю, ровному как стол, я очень близко сошелся с моим неожиданным противником и, ха-ха-ха, молочным братом доном Франциско де Овилла.
Мы оказались на одном судне, запертые со всех сторон волнами. Деваться было некуда, в конце концов, более близких людей вокруг не нашлось и мы принялись дружить. Так бывает, когда люди пытаются убить друг друга. Возникает какая-то связь. Если повезло остаться в живых, связь никуда не пропадает. Есть шанс подружиться, а ведь нас не только потухшая вражда и смертельный поединок объединяли. Еще и память о Заре… не ведаю, что крепче.
Первые дни диалоги не отличались разнообразием и оживленностью.
– Доброе утро, – говорил я.
– Утро доброе, – говорил Франциско.
И все. Лучше б в морду дал, так обычно комментировал подобные разговоры Кабан. Вроде того, что чувства более ярко проявляются. Интереснее.
Потом я принялся подкалывать моего навязанного приятеля.
– Привет. Ты с утра похож на жопу. – Я сам выглядел немногим лучше, и ощущения были те еще, так как накануне мы всем воинским контингентом устроили на борту тихую, но очень вдумчивую попойку.
– Здорово, гад! – Беззлобно приветствовал испанец. – Тебе никогда не говорили, что ты ужасно храпишь? Как с тобой женщины общаются?
– Это я только с перепою.
– А с перепою ты почти всегда!
Ну что же, это уже похоже на беседу, если не друзей, то коллег по опасному ремеслу.
Постепенно испанец влился в коллектив, и я перестал на него крыситься. А он на меня. Де Овила обладал невероятно выразительным взглядом и, так сказать, аурой. Если ты ему не нравился, вокруг создавалась настолько душная атмосфера, что мухи на лету дохли. Сей неприятный эффект, столь заметный по началу, более не проявлялся.
Утро на корабле начиналось с дежурных взаимных упреков ритуального свойства.
– Ты опять храпел.
– А ты опять пердел.
– В Испании мыться не принято? От тебя воняет.
– А у тебя волосы в носу!
– Ну?
– А у меня на заднице. Давай свяжем?
И так далее, если рядом оказывались бойцы, неизменно раздавалось громогласное бу-го-га, распугивавшее даже дельфинов. А они оказывались часто, я бойцов имею ввиду, ибо, куда на корабле спрячешься?
Нашлось у нас о чем по общаться. Он в армии был не новичок, да и я успел послужить, дай Боже. И знакомых общих отыскали. Много разговоров было о Павии – самом сильном военном впечатлении молодого испанца. Еще бы, в пятнадцать лет загреметь в самый центр такой мясорубки!
После ему довелось дойти до Рима под началом Шарля де Бурбона, штурмовать его, биться на улицах, лезть на стены замка Святого Ангела под свинцовым дождиком. И после победы замечательно погулять среди покоренного населения.
Как и ожидалось, большинство россказней про зверства ландскнехтов и испанцев оказались враньем. Естественно солдатня вела себя безобразно. И грабили и насиловали, даже поубивали кого-то. Непорядок, но очень далеки эти эксцессы от того, что в самом деле могли устроить наши в завоеванном городе, зная их способности. А так… ну побегали под окнами папской резиденции с чучелом понтифика и кучей ландскнехтов, наряженных кардиналами. Сожгли потом чучело. Погорланили песенок. Напились. Велика беда? А разговоров-то было! Вот если бы не чучело сожгли, а папу, тогда другое дело!
– Знаешь, Пауль, в Риме все тихо было. Есть с чем сравнить. Было дело, давили мы восстание моранов. Тогда солдаты отличились. Я не барышня, но от такого аж наизнанку выворачивало. Всех одной гребенкой мели: мужиков, баб, детей. И евреев и цыган, даже крестьян наших бывало по ошибке… Кто под руку попадет. Я ж тогда с Зарайдой познакомился… Не дал её на пику надеть…
Вот так новость! А она ничего и не рассказывала. Она, правда, вообще очень мало рассказывала. Молчала в основном, или расспрашивала.
С того разговора началась настоящая дружба. Я так был благодарен испанцу, что спас Зару! Если бы не его чувствительность, странная для профессионального солдата, никогда бы нам не встретиться. Лежать бы к тому времени Заре в земельке обглоданным скелетом, рядом с её сынишкой.
Признательность заставила открыть душу испанцу. А он ответил тем же. И стали мы не разлей вода, тем более, что времени было хоть отбавляй. Армада едва плелась, то и дело бессильно врастая в неподвижную штилевую синеву. Делать на борту было нечего, только настоящие моряки об нас спотыкались, ругали рыбьим кормом, сухопутными крысами и балластом. Вот мы и общались, пока возможно.
Подумать только! Этого умного, тонко чувствующего, незлобивого и даже жалостливого человека я чуть не располовинил мечем! Судьба… Женщина… Чего они только не сотворят с нашим братом!
Однажды перед сном де Овилла держал меня за пояс, пока я мочился «про запас» в волны с наветренного борта. Я упоенно журчал, а он сказал задумчиво: «не могу я, Пауль в солдатах. Не могу, противно. Людей жалко. Сколько их полегло у меня на глазах! Иногда, кажется, брошу все, а никак не выходит. Раньше не замечал, а теперь после боя трясет всего».
Я перекрыл фонтанчик, недоуменно гладя на испанского забияку. За изумлением билась мысль, а не отпустит ли он в задумчивости ремень, но билась все слабее. Сойдя на палубу, ваш покорный слуга поинтересовался, какого черта Франциско делает в армии в таком случае. На что он ответил: «Традиция. Да я и не умею больше ничего. Дома противно сидеть».
– Слушай, Франко, я тебя не вполне понимаю. Ты же потомственный воин, не то что я. Давненько меня после боя не трясло. Даже не припомню, когда последний раз. Привык вроде бы, ко всему привыкаешь.
– А я отвык, – де Овилла оперся локтями на фальшборт и покрутил усы, – сначала нравилось. Страшно очень, но удовольствие непередаваемое. Как же! Я в армии! Рыцарь! А чем дальше, тем мерзее. Я даже не о войне речь веду.
– А о чем? – разговор оказался интересным, я настроился на расспросы.
– Да, – он покрутил рукой, зачерпнув половину небосвода и треть горизонта, – обо всем этом! Жизнь у нас – война, понимаешь? С самого детства.
Далее, я узнал, каково жить маленькому бастарду в замке вроде как отца среди выводка ублюдков постарше и чуть меньшего выводка заносчивых законных наследников. Матери он не помнил, она оставила младенца попечению наиболее состоятельного кандидата на отцовство и исчезла с жизненного горизонта навсегда. Как только его голова стала возвышаться над столом, то есть года в четыре, он попал в поле зрения родственничков, которые с наслаждением принялись тюкать беззащитного мальца.
Единственным близким человеком оказался вроде как дядя – младший брат графа, опытный воин, в промежутках между походами учивший его незатейливой жизненной науке: верховой езде, фехтованию, кулачному бою. Жизнь приобрела поганенькую стабильность. Драки с братьями, неизменно заканчивавшиеся побоями, жалобами отцу и наказаниями. Уроки у грубоватого солдата. Скудная еда. Книги в библиотеке. Мечты.
Все резко поменялось с появлением мачехи – молодой, блядовитой бабенки, непомерные запросы которой никак не мог удовлетворить старый граф – всей округе известный импотент. Она моментально заприметила высокого смуглого юношу и однажды его элементарно совратила, трахнула, говоря простым языком. Через несколько месяцев нараставшее пузо невозможно было прятать. Граф был доволен и горд. А все вокруг чуть не в голос ржали, так что пришлось молодому Франциско уносить ноги в Италию под крылышко маркиза Пескары, у которого служил дядя. И попал он как раз в исторический момент, в разгар кампании, закончившейся делом при Павии.
После была гарнизонная служба, стычки, несколько дуэлей, драки в кабаках. Потом поход и штурм Рима. Де Овилла возмужал, сильно разбогател и вернулся в Испанию, где мигом обломал рога всем своим обидчикам. Много дуэлировал, дрался, имел успех у женщин. Служил в кавалерии, разгонял восстание моранов под началом герцога Альба. И тогда вдруг понял, что так жить невыносимо. Серьезно думал о самоубийстве, что ему было очень нетрудно выполнить: подставился на очередной дуэли, или пошел на войну и поймал пулю.
Он искал смерти, отчего прослыл невероятным храбрецом. Только знакомство с Зарой сообщило новый смысл жизни и удержало на плаву. И тут появился ваш покорный слуга, то есть я. Последовал взрыв давно забытой ярости, много опрометчивых слов и поступков, увенчавшихся незабываемым фехтовальным этюдом на той самой полянке.
– Вот так, приятель. Так я и жил. – Закончил он свое повествование, несильно хлопнув ладонью об планширь. – Теперь плыву к чёрту на рога.
– Не один ты, много таких бедолаг. Тысяч под тридцать! – подбодрил я, точнее попытался ободрить. Парень здорово углубился в прожитое, и вытащить его оттуда было не так легко. Он очень внимательно поглядел на меня, прекратил теребить усы и взялся за мочку уха. Нервничал, видать. Какой-то у него вопрос рвался с языка, но он молчал. Я вежливо выдержал паузу, вроде как, поощряя к дальнейшей откровенности, но не дождался.
– Пойдем спать, – только и сказал Франциско. И мы ушли.
Что именно вертелось на кончике высокородного языка, я узнал немного позже.
– Докладывай, сколько убитых, сколько раненных, – угрюмо пробурчал Конрад после памятной стычки с легкой конницей врага на марше. Оберст был зол, взъерошен и хмур. На лице читался хронический недосып и страстное желание кого-нибудь порешить, или, на худой конец, что-нибудь сломать.
– Герр оберст… – начал я, но был прерван.
– Кончай, Гульди. Говори по делу.
– Люди в строю. Полный порядок. Двоих зацепило стрелами, но их даже раненными не назвать. Царапины.
– Точно?
– Точно так.
– Хорошо. В кабаньем фанляйне трое убитых. Дольше всех в строй ползли. От я ему очко-то разверну… – и Бемельберг умчался, весь такой грозный, на поиски эрихова очка.
Мы расположились на ночлег. Караулы были выставлены в соответствии. Только что вернулись кавалеристы, что преследовали отступавшую турецкую конницу. Говорили, что взяли двух пленных, которых теперь допрашивали.
Нас атаковал немаленький отряд тысяч в пять-шесть. Никаких целей, кроме разведки боем, они не имели. Изрядно отхватив по мозгам, конница ретировалась, а обнаружив преследование, в полном порядке скрылась в направлении пустыни, где наши командиры по здравом размышлении догонять их не решились. И правильно.
По южному стремительно смеркалось. Только что солнышко светило изо всей мочушки, как вдруг вознамерилось отвесно ухнуть за горизонт и ухнуло.
В сгущавшейся темноте, разрываемой частым светом сторожевых костров и фонарей, я выстроил роту. Никаких особых заданий мы не имели, но просто завалиться спать я позволить не мог.
– Слушай мою команду! Даю пол часа на чистку снаряжения. Потом капралы проверят и доложат мне. Я лично все проверю. Если обнаружу непорядок, счастливчики получат по внеочередному караулу. Ясно? Исполнять!
– А пожрать?! – Донеслось из строя. Я резко повернулся на голос, но с того направления долетел смачный звук фельдфебельской зуботычины. Кто-то упал.
– Я вам дам «пожрать», сволочи! За сегодняшнее выступление я вас сгною всех! Песок жрать будете! Вместе будем! Что думаете себе, а?! По вашей милости, наш фанляйн строился дольше всех! И это перед лицом неприятеля! Да я вас задрочу!
И все такое в том же духе. Бегал вдоль стоя, приседал, вращал глазами, тряс кулаками и головой, хлопал по ляжкам, пугал, короче говоря. Обычное дело.
Повезло еще, что погоды теплые. Правда, ветерок с моря исправно приносил ржавчину, да и марш в доспехах означал едкий пот в количестве трудно представимом. И опять таки ржавчину. Ненавижу ржавые доспехи. Сегодня боец не почистит кирасу, а завтра уснет на карауле и нас всех перережут. А может не всех. Но сам факт требуется пресечь заранее. В корне. Вот я и пресекал.
Подвалил Кабан. Обличие его выражало страдание. Добрался до тушки разъяренный Конрад, судя по всему. Этот может.
– Здорово, Кабан.
– Здорово, студент.
– Бемельберг?
– Он.
– Слышал, его сам император вызывал к себе.
– Ага. Выражал благодарность. За умелые действия пехоты на поле боя.
– Во как! А нам, как обычно, досталось, и не подумайте, что это были пироги.
– Как водится. Нам не привыкать. Хорошо, что жалование выплачивают исправно. Пока. – Эрих опустил свои телеса возле костерка, поправил опостылевшую перевязь с мечом и кинжалом и взялся философствовать, а так же строить прогнозы. – Знаем, как бывает. Нам тут бежать некуда, это ведь не Италия. Туркам, да и местным черномордым все равно, ушли мы из войска, или нет, платили нам, или нет. Поймают и прирежут за милую душу, и это в лучшем случае. Мыслю, что в связи с этим на жаловании можно здорово сэкономить. Все равно драться будем как черти. И чего я сюда поперся? Сидел бы себе… С другой стороны, кто если не я?
– Хы-хы-хы, – я тихо заржал, – можно подумать, что кроме тебя дурных мало! Я ведь тоже поперся. И не только я.
– Не говори. Зато какой смотр под Барселоной закатил Император! М-м-м-м! – Кабан восторженно замычал. По всему видно было, что он вполне искренен и по-настоящему наслаждается. – За такое зрелище и жизни не жалко!
Я поддакивал, а Кабан ударился в воспоминания.
Все-таки, воображение моего боевого друга оставляло желать. Но понять его можно было. Что он видел? Презрение бюргеров, глухую беспросветную жизнь, которая расцвечивалась только на войне. Какое-никакое разнообразие. И заработок, который потом можно с наслаждением просаживать до следующего похода. И так большинство ландскнехтов, своеобразно воплощавших настоятельный совет Христа жить сегодняшним днем, как птицы небесные и цветы полевые. Кабану еще повезло, что он так долго протянул, сохранив здоровье. Три-четыре года в ландскнехтах – почти гарантированная могилка или недолгая нищета калеки. И обратно – могилка.
Смотр, в самом деле, был чудо как хорош.
Под знамена собралась блистательная армия, призванная императором и традиционной крестоносной завлекашечкой, насчет полного прощения грехов.
14 мая на поле Ля Лагуна император восседал на прекрасном жеребце, латы которого были обтянуты красно-золотой парчой, в тон фальтроку самого Карла. Рядом стояли сто отборных трабантов в бело-желтых шелковых вамсах и чулках, все в алых беретах. Вокруг надрывались трубачи с подвязанными к их голосистым инструментам орлёными прапорами. И вилась подле сверкающая река рыцарской конницы.
Кого там только не было! Из Германии, Испании, Португалии, Неаполя, даже из Франции прибыли лучшие кавалеры! Колонны возглавляли верховный главнокомандующий маркиз дель Васто, герцог Альба, Андреа Дориа, Антонио Сальданья, сменивший временно каравеллу на арабского скакуна, другой прославленный моряк – кастильский флотоводец Альваро де Базан. Среди могучих бородатых воинов забавно смотрелся маленький португальский инфант Луис, брат императрицы и герцога Альба.
Пехота, пехота, бесконечные ленты пехоты. Где-то в середине стоял я со своей ротой, вычищенной по такому случаю до блеска котовых яиц. Э-э-э-х… сиротливо только было без штандарта Фрундсберга – черно белое поле с перекрещенными красными мечами…
Знамена, пики, алебарды, копья, мечи… даже более образованный человек, чем мой дорогой Эрих-Кабан, не мог не поддаться очарованию величественных военных приготовлений. Незабываемый для любого нормального мужчины театр.
Ладная фигура Карла Габсбурга сияла на солнце зеркалами невесомых лат с тонким узором золотой насечки. В руке жезл полководца, на поясе – меч. Рядом стоял в тени дерева скромный молодой человек с темным пушком на щеках.
Адам ткнул в его сторону подбородком и спросил:
– Знаешь кто это?
– ?
– Это автор того самого великолепия, что напялено на обожаемого монарха. Филиппо Негроли, молодой миланский кудесник[98]. С железом делает все что захочет. К нему уже очередь стоит из самых породистых герцогов. Это после того, как он выковал для Франческо де ля Ровера шлем в римском стиле, а Карл узнал и заказал для себя такой же только лучше. Ну, народ это дело увидел, ахнул и бросился с деньгами к Негроли, сделай мол, и нам красиво. Мода, етить её! Есть, впрочем, на что посмотреть. Шлем невероятный: из цельной детали выкованный, спереди борода отчеканена, как настоящая, волосок к волоску, на оплечье орден Золотого Руна. И ко всему прилагается щит с Медузой Горгоной. Все в золоте и серебре. Насечка! Красота!
– Красиво жить не запретишь, да… а это что за персонажи?
Поблизости на всхолмье старались у мольбертов два человечка, совсем маленьких на расстоянии.
– Запечатлевают. Один, кажется Питер ван Эльст, второй Ян Корнелий Вермейен[99]. Выписали специально ради такого случая из Нидерландов. Потом по их картону[100] выткут шпалеру. На память.
Было что вспомнить.
К сожалению, после смотра я комкано расстался с Адамом, которого спешно вызывали в Германию. Очень, очень жалко. И его пика бы нам пригодилась, и легкий характер не повредил бы, и бесконечный запас баек про всё на свете. Самое поганое, что опять и опять главные, нужные слова не отыскались.
– До свиданья, брат.
– До свиданья. Хотя, что-то мне подсказывает, что правильнее сказать прощай. На этот раз, кажется, прощай. – Это Адам из себя выдавил. А я не смог. Отделался оптимистичным и трусливым «до свиданья».
Путь на Тунис прикрывала сильная крепость Гулетта. Она же стерегла уютную бухточку. Все это оставлять в тылу никак не хотелось. И полумесяц на стенах раздражал, и флоту оперативная база требовалось. Не нужно было быть стратегом, чтобы догадаться – скоро штурм.
Вдали от родных берегов, армия не могла позволить себе осадного сидения. Никак не могла. То, что было в порядке вещей в Европе, да и то часто оборачивалось неприятностями, здесь могло стать необратимой катастрофою. Риск был неприемлемый. Лучше потерять пару тысяч солдат во время приступа, чем всю армию. Ведь припасы были не бесконечными, и погода могла испортиться, тогда о правильной эвакуации и речи быть не могло. Поэтому штурм.
Сухопутная армада споро обложила крепость. Над её укреплением в свое время знатно потрудились итальянские инженеры, что явно читалось в приземистых бастионах с угловатыми контрфорсами.
С моря выстроился грозным полумесяцем флот. Несколько десятков самых мощных кораблей ощетинились орудийными стволами. Всякая мелочь пряталась во второй линии, там, на палубах точил клинки испанский десант.
Через сутки блокада была оформлена по самым строгим требованиям. Против привратного больверка[101] стояли флеши с тяжелыми единорогами. Легкие фальконеты нацелились на боевые галереи и амбразуры, мортиры приготовились обрушить смерть на внутренние постройки.
Целую ночь канониры по отвесам выверяли углы наводки. С первыми лучами солнца настало время проверить результат их стараний на практике.
Никаких переговоров и почетной сдачи туркам и их пособникам из числа местных ренегатов и алжирских пиратов Хайраддина не предлагали. Пришёл черед дипломатии пушек и пик.
20 июня грянул гром.
Пол дня бог войны увлеченно молотил в стены чугунно-каменными молотами. Летели во все стороны куски укреплений, пыль и дым заволокли окрестности на милю. Ничего было не разобрать, только со стороны моря то и дело сверкали багровые зарницы, сопровождавшиеся гулкими раскатами.
Защитники крепости ясно понимали, что давать слабину нельзя. Пощады не будет, не будет «доброй войны» с выкупом пленных. Да и с чего бы? Император расценивал местных, как предателей, а с пиратами разговор всегда был короткий.
Со стен неслись дружные ответные залпы. Ядра бились в осадную фортификацию, вырывая столбы песка, сокращая исправный орудийный парк и поголовье пушкарей. Над морем поднялось чадящее зарево. Туркам удалось поджечь огнем одну галеру, которой ничего не оставалось, кроме как выбросится на песчаную отмель.
Залпы с нашей стороны стали еще яростнее и чаще. С трудом представляю, что творилось сейчас на орудийных палубах кораблей, среди грохочущих металлических монстров, порохового угара, чада фитилей и потного смрада, которые не могли вытечь через скудные бреши пушечных портов. Полуголые, почерневшие люди, матерная ругань старшин, метания пороховых юнг… слава Богу, что я служу в пехоте на вольном воздухе. Хотя и у нас воздух был далек от альпийской свежести.
Над крепостью взметнулся фантастический столб дыма и пламени. А затем еще один. Затмивший первый, как зрелый дуб хилый росток. Громовой рев беснующегося пороха заставил зрителей в партере, то есть нас, пасть наземь, или, как минимум, пригнуться, включая самого императора.
Я все это не просто так расписываю, я все видел лично, так как наша рота стояла подле персоны Карла, усиляя его немногочисленных телохранителей. Свидетельствую: кайзер зажал богопомазанные уши царственными ладонями и рухнул на колени. Плоть слаба.
Канонада на минуту стихла, а потом возобновилась с новой силой. Со стороны моря прибежал некто, пропитанный острым запахом сероводорода с воплями: «Ваше величество! Ваше величество! Мы взорвали пороховой склад! Взорвали! К городу идет десант! Извольте командовать приступ!» Его величество, уже вполне оправившийся, изволил. Он отдал необходимые распоряжения, разослал адъютантов, выхватил меч и ринулся в дым. Спустя секунду следом скрылись герцог Альба и несколько трабантов, которые буквально силой приволокли самодержца.
Вперед под прикрытием густого дыма и пыльных клубов, полностью исключавших прицельный огонь со стен, пошла пехота и спешенная конница. Пошли саперы, тащившие штурмовые лестницы и кирки, дабы разбирать завалы битого камня, пошли мушкетеры, заботливо взводившие курки. Артиллерия немедленно подняла прицел, швыряя воющие куски металла высоко вверх, норовя сбить неприятеля со стен, или прихлопнуть кого, если повезет, во дворах крепости.
Мы до поры оставались на месте, оберегая тылы и особу кайзера. Где-то позади стояла основная часть кавалерии и подразделения пехоты на тот случай, если коварный враг окажется настолько хитер, чтобы подвести деблокирующий корпус и неожиданно атаковать штурмующую армию. На самом, так сказать, интересном месте.
Я уже привычно слушал редеющие залпы и начавшуюся под стенами мушкетную трескотню, вспоминая, как совсем недавно на море, со страхом внимал недалекой канонаде, и что было потом.
Надо ли говорить, что турки сильнее жизни жаждали перехватить десант в море? Как заманчиво, утопить всю армию, не дав высадиться и развернуть порядки!
Замысел был хорош, но они немного не рассчитали силы.
– Эй, ротмистр! – Раздался бодрый, звонкий окрик. – Кончай давить ухо, подъем!
Я недовольно разлепил глаза, заворочался в уютном гнездышке в тени фальшборта. Хотел изругать неугомонного морячка, а это мог быть только моряк, никто из моих бойцов не осмелился бы вот так меня тревожить. Открыл было рот, да так и закрыл, увидев капитана.
– Ну ты здоров спать! Все проспал! Боцман орет, матросы бегают, а ты дрыхнешь, хоб хны!
– Привычка. Чего надо? – Поинтересовался я не слишком вежливо.
– Нас топить приехали, ротмистр! На горизонте черно от парусов. Турки, или пираты не разберешь, но эт по нашу душу. Сам смотри.
– Fiken scheisse[102]! – только и смог простонать ваш рассказчик спросонья. Посмотреть было на что. В нашу сторону направлялось великое множество судов, суденышек, кораблей и корабликов. Опытный человек сумел бы, наверное, их счесть, но только не я. Судя по голосу капитана и безмятежной возне матросов, ничего страшного или из ряда вон выходящего не происходило, но я на всякий случай перепугался, что не укрылось от бдительного ока морского волчары.
– Не боись! Наших-то во-о-он сколько! Не дадут в обиду. А мы в пекло не полезем, мы что? Мы корыто грузовое, у нас и борт тонок и пушек – тьфу. Наше дело людей довезти.
– Утешил, чёрт! «Борт тонок»! – Я протер глаза, и спешно подпоясался мечом, соображая, что же мне надлежит предпринять, как ответственному командиру.
– Ну! А я о чем и говорю! – Оптимизму капитана можно было позавидовать. – Они подерутся, а мы посмотрим! Ты не пузырься, пехота! Нас если только абордажем какая мелочь взять попробует, не более!
– Обратно утешил. Абордаж… нам-то, что делать?
– Как что? Отбиваться! А там, глядишь, повезет, так еще и пограбим вволю! Смотри веселей, пехота! Морячков на борту у меня семь десятков с половиной, твоих остолопов сотня, да кавалеров испанских с пол сотни. Народишко как на подбор фартовый, оборонимся! Не хмурься, абордаж дело веселое, оно хмурых не любит!
– Да, тысяча чертей, разрази меня гром, – я невольно начал выражаться в тон моему собеседнику, – мы как-то на палубе непривычные, а вдруг что?
– Вдруг бывает только пук! Гы-гы-гы! Ты брось прибедняться. Я ж тебя помню. Я на толкового человека глаз наметанный имею. Что уставился? Не узнал? Э-э-э-э, а я тебя сразу. Лет десять назад, а может и все двенадцать, катал тебя с ветерком от Венеции до Анконы, тебя и приятеля твоего, который мне всю палубу загадил! Я Джузеппе Триболо, венецианец, вспомнил? Вот где судьба свела!
Я вспомнил. Тот самый шкипер, что звал меня бросить «заблеванного приятеля», разумеется Адама Райсснера, в счастливые деньки нашего апенинского вояжа, и идти к нему на службу. Был он тогда не молод. Седоватый такой кряжистый мужик, что-то между сорока и пятьюдесятью годами. Время его пощадило, что ли, или просолился он настолько, что течение лет не оставляло более отпечатка. Даже седины в бороде не прибавилось, и глазки смотрели по-прежнему весело и хитро. Довелось же встретиться, в самом деле!
Мы закончили брататься, и я побрел строить «остолопов», уверяя себя, что на борту «народ фартовый» и уговаривая «не пузыриться». Как скажите на милость тут можно воевать? В такой тесноте на вечно качающейся палубе?
Между тем корабли выполняли сложные маневры. В первую линию ушли могучие многопушечные суда, а за ними спрятались всякие «грузовые корыта», перегруженные людьми, лошадьми и припасом.
Спустя пару часов началось представление. Грохотали пушки, сходились в ближнем бою борт в борт корабли. Видно было плохо из-за завесы порохового дыма. Судя по восторженным воплям морской братии, дела наши шли блестяще или около того.
Впрочем, долго услаждаться зрелищем нам не дали. Стая вертких фелюк обошла основное побоище и бросилась, подобно ястребу на жирного тетерева.
Наш капитан приказал смело встретить супостата метким огнем артиллерии, после чего все четыре пушчонки по правому борту принялись азартно бабахать. Нам ответили тем же. Без особого успеха.
– Эх, погуляем, – заорал Джузеппе, раздевшийся для такого случая по пояс. – Эй вы! Пехота, а ну, марш к борту!
Мы мрачно потели в стальных своих скорлупках, гадая, как же тут можно развернуться. Нас явно брали в клещи. Две фелюки заходили с разных бортов. На палубах стояли смуглые люди, увешанные холодным оружием и готовили абордажные крючья.
– Слышь, ротмистр. Ты брось свою дуру. Тута с коротким мечем сподручнее, – посоветовал боцман, так же босой, голый по пояс с широченной чикведеа[103] в руке и шестопером за поясом. Дополнял вооружение впечатляющий набор разномастных ножей.
– И лучше босиком. Хотя, по херу, разуться уже не успеешь. Гы-гы-гы, – боцман радостно заржал.
Абордаж запомнился смутно. Низкобортные фелюки не давали пиратам запрыгивать на палубу, им приходилось карабкаться вверх. Наши дружелюбно скалились и встречали гостей сталью. Алебарды пришлось побросать и взяться за мечи и кинжалы.
В какой-то момент алжирцы ворвались на палубу. Полилась кровушка. Доспехи жутко мешали в толчее на ненадежной палубе. Парни мои, все как один «сухопутные крысы», старались, как могли. Дон Франциско летал демоном смерти. Его шпага то и дело пронзала беззащитные тела пиратов, которые и рады бы выбрать противника попроще, да куда денешься!
Нас теснили, мы не уступали. Я понял, что пора что-то менять, плюнул, спрятал кошкодер, подобрал двуручник, заорал своим «разойдись», и прыгнул в саму гущу под грот-мачтою.
Неловко было ужасно, не передать. По кирасе и наплечникам то и дело скрежетали сабельные клинки, я прикрывал лицо и надеялся, что никто не додумается сунуть железку подмышку или по голеням. Но натиск мой увенчался успехом. Когда спадон развалил третье тело, вокруг образовалась пустота, пираты дрогнули, а морячки вперемешку с ландскнехтами и кавалеристами де Овилла волной захлестнули палубу.
Потом мы захватили обе фелюки, разграбили подчистую, изрядно поживившись. Всех пленных пиратов покидали за борт, напутствовав: «Аллах поможет». К тому времени, морская баталия в основном закончилась. Враг бежал, а мы гордо продолжили путь, зализывая раны.
Ваш покорный слуга сидел на палубе, разглядывал тоненькие царапины на несокрушимой стали доспехов и неустанно благодарил императора за щедрость. Рядом расположился Франко, балагурил и умеренно хвастался. Потом мы выпили и заснули.
С утра матросы драили палубу. Поправляли такелаж и вообще приводили судно в порядок. Сеньор Триболо расхаживал довольным котом, непрерывно улыбался и баюкал раненную руку. Он частенько перевешивался за борт, удовлетворенно глядя на сильно просевшее корабельное пузо – результат обильной добычи, взятой на фелюках.
Вино, порох, несколько пушек, куча холодного оружия, в том числе драгоценного, ружья, два ящика с монетами, провиант, вода, что важно, ну и гора разнообразных необходимых мелочей, что прибарахлили хозяйственные моряки, прежде чем поджечь пленённые корабли.
Расплата оказалась удивительно низкой. Четверых парней Триболо, и одного испанца навеки упокоили воды моря. Так всегда, победившая сторона отделывается сравнительно легко. А уж если довелось проиграть, готовься, что половину войска легко можно потерять. Это на суше, где есть возможность смыться. А куда, скажите на милость, смоешься посреди волн? Отчаянных алжирских головорезов в живых не осталось никого. Туда им и дорога, впрочем. Не жалко. Терпеть не могу пиратов и прочих разбойников, особенно, если учесть, что они выделывали в случае победы.
Ночь я провел на палубе ахтердека. Не знаю точно, как это место называется у венецианцев, у меня дома – именно так. Засыпать в смрадном трюме вповалку среди потеющих солдат было невмоготу.
Палуба в теплую погоду – это хорошо. Расстелил плащ, скатал под голову мешок и дрыхни. Воздух теплый, ветерок свежий – одно удовольствие. И хмель к утру гарантированно выветрится. Жестковато спать, правда, но мы привычные. В данном конкретном случае добавлялись некоторые неудобства в виде недоприбранных последствий абордажной схватки, но я постарался, чтобы отрубленных пальцев и луж крови возле моего гнездышка под фальшбортом не наблюдалось.
Вечером народ увлеченно праздновал победу. Особенно морячки, которым не светила высадка и марш по африканскому берегу. Для нас виктория была промежуточной, но все равно, все кто выжил сильно радовались, и дразнили раненных неудачниками. Беззлобно, впрочем.
Выпили. Покушали. Снова выпили. Поорали песен. Устроили дикие пляски. Камрад Шайсе едва не вывалился за борт. Выстроились в ряд и пугали голыми задницами товарищей на соседних кораблях. Кидались прошлогодними яблоками в аналогичные задницы над чужими бортами. Ссали строем в море. Капитан Джузеппе внезапно обиделся, сказав, что так мы оскорбляем морских богов. Задабривали морских богов швырянием объедков и винным душем. Дельфины сожрали объедки, и Джузеппе увидел в этом явный знак благоволения, после чего мы напились уже по настоящему. Пара моих новобранцев подралась с испанцами. Разняли. Помирились. Выпили за дружбу. Блевали за борт.
Словом, нормальная военная гулянка.
Хорошо хоть сознательные вахтенные несли службу и не предались соблазну. Завистливо цокая языками и неодобрительно покачивая чернявыми головами, они мужественно вели судно посредством сложной комбинации парусов и кальдерштока[104].
Флот шёл на Африку, а мы устроились спать, и скоро под кострами звезд раздалась мощная храповая разноголосица.
Я неумолимо проваливался в беспамятство, рядом посапывал дон Франциско. Так кончилась ночь, и начался новый день.
С самого утра, пока похмельные матросики прибирали судно, я слонялся по палубе, отлавливал бойцов и заставлял чистить оружие и ремонтировать ремни на доспехах. Де Овилла был занят примерно тем же. Иногда мы сталкивались, и он дарил мне чрезвычайно интригующие взгляды. Что бы все это могло значить?
«Не приставал ли я к нему во сне?»
Чушь! Отставить! Мы тут на службе!
Садилось солнце, наступала ночь очередного дня. Я тупо пялился на закат и ни о чем не думал. Вымотался, четно говоря за день. Не знаю отчего, но нешутейно устал.
Наилучшее место для отдыха и поглощения пользительного морского воздуха находилось на баке, который я и оккупировал, вальяжно привалясь к фальшборту. Солнышко дарило миру последние на сегодня сполохи, неумолимо погружаясь в багровеющий горизонт. И с чего я додумался в свое время сравнить ласковое светило с пауком? Я положительно отношусь к паукам, они мух и комаров поедают, но сравнение априори неверное, оскорбительно даже.
Хорошо-о-о-о-о то как…
Наслаждался я относительным уединением не очень долго. А может быть и долго, не помню. Потом я заметил, что рядом стоит дон Франциско и занимается тем же самым.
Некоторое время мы стояли молча и впитывали неповторимые флюиды безбрежного морского заката. Через некоторое время, совсем надо сказать небольшое, молчание сделалось неловким.
Бывает такое, вы знаете, стоит человек и помалкивает, совершенно наедине с собой. Подходит другой и, если они знакомы, совместное присутствие само собой образовывает из двух разных человеков компанию. А молчать в компании долго невозможно – неосознанные культурные табу срабатывают. Вот почему, скажите, два друга-приятеля, оказавшись рядом, не могут совместно помолчать? Не знаю. Я вот не могу.
– Вечер добрый.
– Buenos noches, ага.
Не то, что бы мне хотелось избавиться от испанца, но о чем говорить на фоне вечности, было решительно не ясно. А говорить что-то было надо. Я положил локти на фальшборт, сделал себе участливое лицо, и начал нести дежурную вежливую чушь.
– Раненных у тебя, я слышал, немного?
– Немного.
– Все в порядке? Промыли, перевязали? Сам знаешь, царапина тоже бывает смертельной.
– Все хорошо. Ты как будто не знаешь.
– Я просто спросил. Нам еще до-о-о-лго воевать вместе. Считай это профессиональным интересом.
– Послушай, корабль не так велик, друг мой. Ты сам прекрасно знаешь, что и как с раненными. Твои ребята точно так рядышком обретаются и получают точно такой уход. Обязательно говорить ни о чем?
Ну знаете… какой требовательный.
Ваш верный рассказчик перестал лепить из физиономии маску благожелательности, повернулся к испанцу, оставив левый локоть подпирать планширь, а правый поместив в уютную развилку между рукоятью кинжала и собственным боком. Точно такую же позицию занял Франциско. Весь облик его говорил о продолжительной и серьезной беседе.
Я откашлялся.
– Говорить ни о чем я сам не люблю. Ты тоже? Ну тогда начинай говорить о чем-нибудь. – Прозвучало немного агрессивно, но, в конце концов, я к разговору его не приглашал. Де Овилла помялся, поковырял пальцем обшивку борта. Размышлял, видимо, обижаться или нет. Не обиделся.
– Послушай, Пауль. Ты человек опытный. Много повидавший. Хочу знать твое мнение, зачем это всё? Что мы делаем? К чему?
Начина-а-а-ется…
– А ты не в курсе? Идем в Тунис, будем бить турок. – Отшутиться не вышло.
– Я не о том.
– А о чем?
– О том, что в мире творится. – В ответ я собрался сказать что-то вроде «мир слишком большой, о себе подумай», но Франциско оказался настойчив. – Империя наша… с одной стороны католики, с другой лютеране и иже с ними. Я – католик. Был и буду. Лютеране – язва. Но разве за это их стоит убивать?
– Так. А что ты предлагаешь?
– Погоди. Не о них одних речь, хотя и о них тоже. Ты самолично гонял восставших крестьян. Они у вас все поголовно лютеране-кальвинисты-мюнцериты, черт ногу сломит. Я искоренял в Испании моранов. Тоже ничего хорошего. Да и мы оказались… А еще католики называемся. А зачем? За что? За что мы с тобой людей убивали десятками, а если наши потери счесть, так и сотнями? Они молятся по-другому, да. Верят неправильно? Возможно. Так это же дело-то внутреннее! Духовное! У каждого свое! Не нам судить! И уж точно не резать и не сжигать. Тем более, что сами-то мы ой как не ангелы.
Палуба уверенно ныряла вверх-вниз, широкие скулы корабля медленно резали податливую водную ткань, снасти скрипели, море вздыхало на разные лады, солнышко казало из-за горизонта последний на сегодня свет, а мы решали великие проблемы мировой истории.
– Что скажешь, Пауль? – Де Овилла – весь воплощение вопроса. Похоже наболело по-настоящему.
– Послушай, какие-то мысли у тебя для верного католика и христианского воина пораженческие.
– Правда. Я уже говорил, что не могу так больше! Пол жизни в крови и грязи. Молюсь, мессу наизусть, исповедь, причастие… а в душе – пустыня. Чем мы лучше лютеран? За что убиваем? И евреев этих несчастных… Они просто другие, не хуже нас, так пусть будут! Мы сами по себе, они сами по себе. За что воевать? Разве вот это вот различие стоит смерти? И ведь Лютер-то, положа руку на сердце не так уж и не прав! И Мюнцер ваш бесноватый тоже. Христос проповедовал служение и веру, а наши попы только с жиру не лопаются. Кругом золото, парча, бархат… Кажется иногда, что это не церковь… домовина это. Внутри – вонь, тлен и разложение. А мы маршируем по земельке и земельку кровушкой поливаем. За эту самую домовину. Ведь не Христу я служу своим мечем!
Ну, ладно. Сам напросился.
– Франко, я сейчас скажу тебе несколько неприятных вещей. Как я это вижу. Ты послушай, если я не прав – поправь. Хорошо?
Испанец подобрался, совсем как перед боем, замер, покусал нервически усы и кивнул, вроде как соглашаясь. И я начал под аккомпанемент волн и ветра.
– Ты католик. Настоящий, верный, по рождению и по духу. Ты плоть от плоти католической церкви. Так?
– Так. А ты?
– Я… Мне легче, я на это могу со стороны взглянуть, почему, не спрашивай, я не смогу объяснить. Читал очень много. А ты изнутри. И страдаешь поэтому вместе с церковью. Ведь не думаешь, что ты такой особенный?
– Куда уж мне.
– Согласен? Хорошо. Слушай же неприятные вещи, как я и обещал.
И меня понесло. Взобрался на кафедру. Реликтовое эхо академического прошлого.
– Церковь была единой изначально. Апостолы и Семь Вселенских Соборов определили жизнь церковную и догматы и Символ Веры, на Святом Писании основанные.
– А как же Иисус? Учение-то его.
– Учение… Иисус не только и не столько учить прибыл. Сын Бога воплотился за тем, чтобы смертью искупить первый грех. И учение его – не добрые вести из Иерусалима, а Жертва. Так, не перебивай, я потеряю нить…
– Прости, продолжай. Ты остановился на неприятном. Весь внимание.
– Да. В XI веке, как ты помнишь, случился раскол, Запад отделился от Востока. Папа провозгласил себя главой Церкви, а Византия не согласилась. Мы называем их схизматиками и еретиками. А правда в том, что мы, католики, настоящие схизматики еретики. Дослушай! – Прервал я мгновенно ощетинившегося Франциско.
– Никакой религиозной догматики, одни факты. Папа Римский никогда не был главой Церкви, как не было никогда старшего над Апостолами. Глава Церкви один – Бог. Он вечный первосвященник, он тело Церкви, и никто иной. Читаем Евангелие. Любое, например, Матфея: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, вы же все – братья; и отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на Небесах». Вроде правильно процитировал?
– Все точно. Евангелие от Матфея, глава XXIII, стих 8. – Мне бы память испанца! И как у него в голове все эти номера удерживаются!? Франциско не выдержал и встрял с репликой:
– А как же апостол Пётр? Христос сказал ему сам: «Ты – Петр[105], и на камне сем Я создам Церковь мою, и врата адовы не одолеют её», Матфея, глава XVI, стих 18–19.
– А что Иоанн Златоуст говорит по этому поводу, помнишь? «На камне сем Я создам Церковь мою, то есть на вере исповедания. А в чем исповедание апостолов? Вот оно: Ты есть Христос, сын Бога Живаго». Кстати, Пётр, скорее всего не был римским епископом, иначе, зачем ему было писать все эти бесконечные послания «к римлянам»? А папа римский на всех соборах рассматривался только как один из епископов. Один из. Не глава. И председательствовали на соборах всегда самые разные люди, даже один раз вполне светский император Константин. Так что главенство папы – позднейшее изобретение. Это исторический факт. Никак не обоснованное, идущее в разрез и с проповедью самого Христа, и с Соборными уложениями, и со Святоотеческим учением. Продолжаем?
Франко промолчал. Сказать ему было нечего, отчего в душе разгорался нешуточный конфликт, зеркально отраженный на его живом, подвижном лице.
– Продолжаем. Основа веры, то, как мы верим – Символ Веры. Как мы, католики, его читаем? Так же как и все остальные, за маленьким исключением: «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца и Сына исходящего». Восточные христиане, как ты знаешь, говорят «иже от Отца исходящего». Мелочь для непосвященного. А вопрос наиважнейший. Вопрос о природе божественного триединства. Христос говорил апостолам: «Когда придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит». И специально добавил, заметь, «который от Отца исходит». С самого Первого Вселенского Собора в Никее христиане молились «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца исходящего». Все христиане. И на Западе тоже. Еще в IX веке в базилике Святого Петра в Риме стояла серебряная доска с Символом Веры на греческом и на латыни, и там не было слов «и от Сына». Таким образом эта часть католического учения – позднейшее искажение изначального догмата, а значит – ересь.
Мы долго еще говорили в звездной темноте средиземноморской ночи. О всем, от непорочного зачатия Богородицы, до сверхдолжных заслуг святых, на которых основана была омерзительная торговля индульгенциями. По всему выходило, что даже невероятно начитанный и памятливый де Овилла, не смог мне существенно возразить. И, хоть и не согласился с очевидным, но прирезать не попытался, и даже в глаз не дал.
Эту часть мы завершили жизнеутверждающим словом Августина Блаженного: «В догмате единообразие, в обрядах разнообразие, а в остальном – любовь».
– Ты, конечно, не признаешь, что католичество – ересь, да я и не прошу. Но пока, прими как доказанную данность. Так?
– Противно, но допустим.
– Далее одно к одному. Где есть одна ересь, жди и другой. В виду явных ошибок в католическом учении, его много раз пытались реформировать. И в XIV, и в XV веках. И вот, на наших глазах появился Лютер. А за ним и наш бесноватый Томас Мюнцер подтянулся, которого братья ландскнехты торжественно прирезали 27 мая 1525 года после битвы при Франкенхаузене.
– Туда и дорога, хочется заметить.
– Да, непростой был человек. Так вот, я к чему клоню? Лютеранство, как оно есть – логическое развитие католичества.
Франко заблистал очами и начал возражать.
– Что ты говоришь?! Неправда! Ты посмотри и послушай, что они говорят и к чему призывают…
– А что они такого говорят? – Перебил я, усмехаясь, – Лютер ничего особенного не предлагал изначально. Обычный набор по оздоровлению ситуации: Папу долой, индульгенции долой, роскошь духовенства долой. Ты сам с большинством тезисов согласен! И не он их первый озвучил. Можно подумать, что индульгенции и зажравшиеся попы – это нормально? Вернёмся к родству заблуждений. Католики откололись от изначальной, истинной христианской традиции, причем, в немалой мере, по политическим мотивам откололись, заметь! То есть, говоря по-человечески, из шкурных интересов! Не удивительно, что именно в теле католичества вызрела эта язва – протестантизм. Это от общего нездоровья, в гнилом теле ничего, кроме язвы, в конечном итоге родиться не может. Раскол XI века, а затем и XVI, которому мы все свидетели. Так что, никого, кроме самих себя, «благодарить» не надо.
– Тебя послушать, так лютеране и все последующие – овечки!
– Передергиваешь, друг! Я такого не говорил. У нас половина войска – лютеране. Мы вместе и в Италии и в Германии ох как некрасиво выступали! И католики и протестанты. Вот Мюнцера и его сплошь протестующих сподвижников, кто бил? Ландскнехты. Протестанты. За деньги. Лютеранство – опасно! Очень! Ведь нету у них верховного авторитетного мнения! Уже сейчас полно сект и каждый сам себе голова. А чему они учат? Предопределению к спасению одних и вечному аду других. От рождения. Простой вывод напрашивается: если ты богат и здоров, значит, Бог тебя любит и предначертал спасение, а если ты сир и убог, значит, проклят Богом и никак уже не спасешься. Это если в корень зреть, не обращая внимания на разнообразных фанатиков и маргиналов, которые готовы все вокруг жечь и рушить. Ничего не напоминает? Все верно – это концепция богоизбранного народа Израилева в измененном виде. Только теперь не народ богоизбранным получается, а определенные люди, которые, помяни мое слово, очень скоро объединятся, да хотя бы по имущественному признаку, и всю Европу кровищей умоют. Да так, что и нам и вам не снилось! Уже сейчас костры по всей земле горят, ведьм и колдунов сжигают. Меня вот тоже едва не запалили… Куда там святой Инквизиции. Но это только начало. Людишки-то темные в основном, как оказались «во тьме внешней», из церкви изринувшись, так от страха и одиночества творят зверства. Это не надолго. Скоро на место стихийного сорвиголовства придет продуманная политика и все, что с этим связано. Уже пришла, одни огораживания и «Кровавое законодательство» в Англии чего стоят! Не слышал? А ты поинтересуйся – полезно. Надеюсь, мы с тобой не увидим пришествия нового «Израиля». И не будет среди него места рыцарям и воинам. Это будет новый народ, народ ростовщиков и торгашей. А получается, что мы, католики, сами все это породили и подготовили алчностью да упрямством. И следует из этого… ты только руку с кинжала убери, а то мне тревожно… Следует, что вся история Западной церкви от самого раскола есть долгий прыжок от христианства в иудаизм через католичество. Вот такие мои мысли.
Испанец задумчиво гладил рукоять кинжала. Довольно долго гладил и молчал, смотря в палубу. Несколько раз набирал воздуха в грудь, но потом выдыхал, так ничего и не сказав. Наконец, он прервал свои думы, нелегкие, надо предполагать, и изрек:
– Страшно ты глаголешь. Складно и страшно. По сути ничего не могу тебе возразить. Сердцем не приемлю, но возразить не могу. От того еще хуже. И что же нам делать? Простому солдату, что делать? Передавить сию мерзость, как клопов? Так не передавишь, уже пробовали. А если и передавишь, новые придут. Да и грешно это. Старики, бабы с детишками-то в чем виноваты? Как вспомню, так жить не хочется… До верхушки все равно не достать. Лютер ваш отменно среди князей прижился, щеки, как говорят отъел… Восставших крестьян зовет убивать как бешенных собак, а они, между прочим, по его проповеди поднялись… Как среди всего этого жить?
Я улыбнулся. Положил обе руки на плечи испанца, отеческим жестом пытаясь показать, что я здесь, я с ним. Очень это важно в общении с южанами – одно касание бывает целой речи ценнее. Это мы все норовим ближе вытянутой руки никого не подпускать.
– Искушение это нам. Наш Крест. И нести его нам. Ведь Церковь – живое древо, но древо это крестное. Верить надо, жить по совести. Каяться. А придет нужда воевать… Тогда воевать. Мы же солдаты. Ты давеча спрашивал, стоит ли воевать за веру. Я долго думал и сомневался, но разговор наш мысли выпрямил, спасибо тебе. Теперь без колебаний скажу, что только за неё и стоит. Кровь дороже любого золота, любых политических выгод. И уж если выпало её пролить, то за идеалы и за веру. Тоже не лучший повод, но он не так плох, как все остальные.
Мы стояли на носу корабля: грузный белобрысый ландскнехт в алом и желтом бархате и сухой, смуглый испанец в черной с золотом парче. Стояли и смотрели в глаза, потому что знали, не скоро выпадет случай открыть душу другу, да и выпадет ли вообще.
Другу? Да. В тот момент мы стали друзьями. И не на словах.
Кокон молчание вдруг разорвал крик марсового:
– Земля!!!
Мы прибыли к древним финикийским берегам.
Эти строки написаны в тени стен Туниса. Пишу в спешке, до начала штурма остается не более получаса. О стольком еще хочется поведать и о стольком поведать просто необходимо, но я не успеваю, простите. Концовка выходит скомканной, но уж какая есть, не все в моей власти. В конце концов, Хаельгмунд вполне прозрачно намекал на «ненавязчивую редактуру», которой подвергались мои записки и мои отчеты. Надеюсь, последнюю часть будет кому причесать и привести в удобочитаемый вид. С извинениями оставляю сей труд тебе, неведомый литератор.
19 июля, армия готовиться к приступу. Завтра. Завтра конец моего путешествия, которое и так затянулось сверх всякого приличия. Завтрашний день принесет победу императору, славу и добычу ландскнехтам, повторившим путь римских орлов. А я исчезну. Может быть.
Ночью 21 июля в пяти милях к югу от города меня будет ждать челнок.
А может быть, и не исчезну. Улетать, откровенно говоря, неохота. Что мне делать там, на Асгоре? Ради чего жить? За тринадцать лет на Земле я отвык от безопасного растительного существования, и прошлое мое кажется пресным как кошерная лепешка. Настоящая жизнь здесь. Согласен, это на любителя, но я говорю сейчас о своих ощущениях. Это мой выбор, поймите правильно. К тому же на Земле среди рощ и полей Испании меня ждет (я уверен, что ждет), та, которую я люблю, и которая любит меня.
Вы спросите, куда делась целая прорва дней между 16 июня, когда подошли к Гулетте и 19 июля? Справедливый интерес. Ответ прост: штурм Гулетты провалился, и мы вынуждены были просидеть там почти месяц! То чего так боялся император и военный совет, а заодно все наше могучее воинство, свершилось. Началась осада. На расстоянии буквально вытянутой руки от цели. Даже несгибаемый делль Васто ратовал за отступление и эвакуацию в Испанию. Но воля Карла пересилила.
15 июля началась вторая бомбардировка, гораздо более продолжительная и мощная. Пушки практически срыли больверк, разнесли ворота и пробили несколько брешей в стенах. Комбинированная атака с моря и суши принесла плоды, мы ворвались на улицы. Начался бой.
Скоро выяснилось отчего крепость так умело и успешно сопротивлялась. Гарнизон состоял из семи тысяч отборных янычар из гвардии самого Сулеймана Великолепного! А все пушки оказались заклеймены тремя лилиями! Проклятые французы вели двойную игру! Чему я, впрочем, не удивился.
Гарнизон возглавлял лично Хайраддин – Защитник Верных, мать его так. Проклятый пират оказался вёрток, как куница – его не удалось сцапать, он сумел отойти в Тунис. Тем не менее, Гулетта пала, дорога была открыта.
17 июля Барбаросса решился на полевое сражение, которое с треском проиграл. Еще бы! Он был выдающийся моряк, но никак не полководец.
Его пятидесятитысячная армада была разорвана в клочья. Баталии пехоты под прикрытием мушкетеров продавили центр, заставив отступить янычар, испанская конница отогнала легкую кавалерию, а германские рыцари стальным тараном раздавили спах на фланге. Мы захватили почти все пушки, перебили более двадцати тысяч человек и взяли множество пленных. И очень разозлились.
18 и 19 июля артиллеристы нацеливали орудия, а инженеры возводили укрепления вокруг обреченного города. Завтра начнется огненный налёт, который не прекратится до тех пор, пока не затрещат стены. Потом будет бой и будет смерть.
Я пойду на приступ со своими братьями и буду сражаться, как пристало честному ландскнехту. Ветеранов, помнящих Бикокка и Павию, осталось совсем не много, я среди них. Молодые солдаты возмужали, окроплены кровью, посыпанные пеплом – они теперь наши братья. Те кто выжил и, те кто упокоился на века в море и горячем песке. Мы вместе пойдем на штурм под бодрый марш пушек и барабанов.
Зачем мне это надо? Я до сих пор не уверен, что собираюсь улетать, ведь я обещал Заре остаться на Земле. Клялся даже, хоть она меня отговаривала. Передам документы на челнок, сделаю ручкой. Моя земля отныне здесь. Быть может меня убедят возвращаться. Быть может оглушат шокером и затащат бесчувственное тело на борт. Решат, что я не в себе и помогут таким оригинальным образом. Все может быть, но сердце мое останется на Земле. Навсегда. Лет через дюжину прилетит новый корабль, тогда я решу, продлять ли командировку ещё, не знаю.
Встает Солнце. Моё отныне и навеки. Лагерь шевелится разбуженным муравейником. Скоро рассыплются барабанные дроби и начнется то, ради чего мы здесь. Я не брошу моих товарищей, я буду с ними до конца.
На этом заканчиваю. Не смею более утомлять вас, друзья, косноязычным своим повествованием. Надеюсь, что вы будете вспоминать хоть иногда наблюдателя первой категории Этиля Аллинара, или ландскнехта Пауля Гульди, как вам удобнее.
Прощайте.
P.S. Пора поднимать роту, а я так хочу спать, вот дерьмо!
P.P.S. Передайте Гелиан, что она дура, но я не обижаюсь.
Глава 15 Дон Франциско де Овилла находит себя, но попадает в неожиданный переплёт
Первый пилот привычным глазом осмотрел голографическую панель управления планетолета. Пальцы сплясали танец на золотистых клавишах, парящих над приборной доской. Индикаторы горели благонадежной зеленью, только столбик температурного датчика маршевых дюз не выбрался еще из оранжевой части спектра. То есть, еще не желтый, но уже не красный.
При посадке пришлось здорово перегрузить двигатели, а все из-за проклятых перестраховщиков, учинивших ради маскировки такую бурю, что тяжелая, надежная машина несколько раз чуть не сорвалась в штопор.
Напарник давно понимал его без слов, так как полетали вместе не один год. Поймав короткий взгляд командира, он включил интерком.
– Второй, рубка на связи.
– У аппарата.
– Пассажир упакован?
– Ага.
– Груз в порядке?
– Спрашиваешь!
– Я тебе дам «спрашиваешь»… совсем отвыкли от уставного обращения! Короче, слей на всякий случай информацию на бортовую сеть. Мало ли что. И давайте рассаживайтесь по креслам, готовность к старту пять минут.
– Есть готовность пять минут!
– Вот то-то же. Отбой.
Командир, слушавший незатейливый диалог без отрыва от предстартовой подготовки, усмехнулся, когда дошло до слов «отвыкли от уставного обращения». Еще бы. Отвыкнешь тут. Линейный корабль, к которому был приписан его планетолет, провел в дальнем рейде без малого шесть месяцев. Обитаемость на вымпеле первого ранга могла бы быть и получше, да что поделать – старое корыто.
Кроме того, до смерти надоела безвкусная пища из полуфабрикатов, регенерированный воздух и вода. И ни одной женщины. Экипаж совершенно одичал, зарос, разгуливал по отсекам в чем попало, общался как хотел. Что такое «есть, так точно, никак нет» даже и не вспоминали.
И вот, когда миллиарды километров пустоты остались за кормой, когда малосимпатичные миры Пояса Брамда стали казаться страшным сном, когда народ вовсю размечтался о послеполетной реабилитации, корабль разворачивают и загоняют в очередную галактическую задницу. Эвакуировать кого-то, вроде бы наблюдателя. Экипаж вдруг понял, что «сходу по бабам» отменяется и налицо огорчение.
Вы помните, наверное, почему пояс не чей-нибудь, а именно Брамда? И что правильно писать БРАМДа? Вот-вот, все восемь обитаемых планет настоятельно рекомендуется посещать как минимум на Бронированной Разведывательной Автомашине Десанта, настолько там погано. Официальное название уже никто не помнит – все лоции обозначают его как Пояс Брамда, в честь маленького броневичка.
Понятно отчего самыми модными темами на время стали: «на кой ляд сдались все эти наблюдатели вообще», «не плохо бы дать в морду рейд-мастеру, который загнал нас в эту жопу», ну и конечно обязательное – «штабные – сволочи». Но военные на то и военные. Присяга и все такое. Поворчали, развернули линкор, и как миленькие, поскакали эвакуировать, радостно подрабатывая крупом.
Личные неприятности командира планетолета усугубились тем, что в ходе не вполне штатной посадки накрылся астроглайд, накрылся накрепко, в амбулаторных условиях, как говорится, о лечении не могло быть и речи. Так что теперь все маневры от взлета и фигуряния на орбите, до стыковки придется выполнять вручную. Беда для опытного человека не великая, но в общем ряду – гадкое дополнение.
Прибыли в точку рандеву, где их уже дожидались.
Лейтенант, возглавлявший десантную партию, стоял возле аппарели и нервно кусал отросший ус. Банальное типовое задание «встретить, принять, в случае необходимости, прикрыть, увезти» на глазах превращалось в какой-то нездоровый цирк. Тонкой ниточки, что осталась от лейтенантского терпения хватило не на долго. Ровно через двадцать семь секунд ниточка звонко лопнула, он вышел из себя и не вернулся обратно.
«Из-за какого-то полоумного козла…» – подумал он, а вслух коротко скомандовал:
– Шокер. Спеленать и, нахер, на борт.
Что бойцы с наслаждением и выполнили. Сказано «доставить», и точка. Про нежности и, например, массаж с контрастным душем никаких распоряжений не было. Так что шокер – в самый раз!
Обеспамятевшего «пассажира» «спеленали» и вместе с грузом заволокли в обшарпанное чрево планетолета. Наблюдатель явно чокнулся за двенадцать лет, или сколько у них положено, на сумасшедшей планетке. Не выдержал бедняга, а может от радости свихнулся, когда узрел своих.
«Не мое дело», разумно решил лейтенант, доложился о готовности и тут же уснул.
Аналогичная цепь рассуждений занимала усталую голову командира челнока. И тоже не долго. Ровно через четыре минуты одиннадцать секунд он пришел к выводу, стопроцентно совпавшему с мыслями лейтенанта. Вот только поспать ему не светило.
– Внимание, борт полсотни семь. Говорит первый пилот. Готовность к взлёту десять секунд! – Электрические раскаты командирского голоса наполнили все обитаемые отсеки. – Занять места согласно штатному расписанию, опустить фиксаторы перегрузочных кресел… Кто не спрятался, я не виноват!
– Маршевые двигатели есть, маневровые есть, к взлету готов, – доложил второй пилот.
Пошел обратный отсчет.
– Зажигание.
– Есть зажигание, – корабль ожил, завибрировал, задышал, зарокотал и двинулся вверх, – Есть отрыв, – прокомментировал второй.
– Высота полста… сотня… две сотни… три сотни.
– Тангаж пятнадцать.
– Есть тангаж.
– Маршевые двигатели – зажигание.
– Есть зажигание.
– Тяга сорок.
– Есть тяга сорок!
– Есть.
– Тяга восемьдесят.
– Тяга сто.
– Добро!
– Давай форсаж!
– Даю.
Челнок взревел, выплюнул сноп пламени и стремительно перечеркнул ночной небосвод чужой планеты. Позади осталась песчаная лощинка, обожженная местами до стекла да изрядно перепуганное буйством стихий местное население, сильно дивившееся на чудовищный буран, избирательно накрывший маленький пятачок двадцать на двадцать миль.
«Иблис ткнул сюда пальцем», говорили старики годы спустя, показывая присмиревшей молодежи спекшийся песок. «Расскажи, дедушка про великую бурю!», просили внуки, но дедушка лишь качал головой, цокал языком и щурил много повидавшие глаза.
«Я убит…»
«Нет, пожалуй, все таки, ранен».
«У мертвых не может ничего болеть, а голова разламывается. Как… как тогда, в Риме, мушкетная пуля ударила в лоб и скользнула по стальной тулье бургиньота. Или еще раньше… При Павии французский шестопер смял затылок шлема и здорово приласкал череп по живому. Когда было хуже – Бог весть. Пожалуй, сейчас хуже. Сейчас всегда хуже, чем было».
Дон Франциско де Овилла попытался обнять гулко гукающие виски ладонями, но не смог – руки не слушались совершенно.
«Поднять голову и осмотреться. Надо».
Не вышло, более того, голова покарала его невообразимой вспышкой боли, настолько яростной, что испанец вымученно застонал.
Глаза разглядели только лишь яркие пятна и темные пятна калейдоскопом обрушившиеся на его измученный мозг. Все тело закружилось, закрутилось, перевернулось, Франциско ощутил стремительное падение в глубочайший колодец, который никак не изволил кончаться. Его, кажется, стошнило, а может быть и нет, но сплохело основательно.
Когда падение завершилось, стало еще хуже. Гораздо хуже. Тело налилось тяжестью, голова превратилась в колоссальный пузырь мыла, лопнувший под натиском неведомого шалуна размером со все мироздание. Боль стала непереносимой, дыхание замерло…
«Господи, жить!»
А потом все кончилось, и дон Франциско нырнул очень глубоко, кувыркаясь в потоке своей памяти.
Вынырнул он под стенами Туниса. Боли больше не было. Осталась невообразимая легкость невесомого тела. Звуки, даже самые звонкие, меднотазные, казались мягкими и приглушенными. Смерти тоже не было. Сотни людей, которые опрокидывались пулями и стрелами, раздираемые пушечными ядрами, горящие в потоках масла со стен – все они просто скидывали надоевшее платье плоти. Дон Франциско теперь знал это со всей достоверностью.
Немного беспокоила полная невозможность хоть как-то повлиять на собственные перемещения. Даже головы не повернуть, будто его прицепили к какому-то мужику, и теперь он летает вокруг, то спереди, то сбоку, то сзади. Не сразу до испанца дошло, что этот мужик – он сам.
Вот он стоит во главе конного эскадрона. Вдали дым и грохот (такой мягкий и почти музыкальный для нынешнего варианта слуха). Уже больше часа пехота и саперы лезут в бреши, растаскивают завалы, сбивают защитников мушкетными раскатами… и раз за разом откатываются. И вновь штурмуют.
Франциско вспомнилось, как было неприятно, можно даже сказать, мучительно, сидеть статуей в седле все это бесконечное время. Ноги затекали в стременах, горжет все заметнее угнетал плечи, а кираса продавила таки стеганый вамс на талии.
«Так и до пролежней не долго».
Новый де Овилла никакого дискомфорта не испытывал. Время не играло никакой роли – полуторачасовое сидение сжалось в секунду и растянулось в вечность. Этот занятный эффект увлекал его не меньше, чем происходящее на поле, хотя наблюдать за самим собою оказалось весьма интересно и даже забавно.
Он одновременно находил себя во всех точках времени. Он видел сражение и своих, пока еще праздных бойцов, и как сторонний наблюдатель, так и глазами того парня, что исходил потом в раззолоченной броне, заклейменной тремя отпечатками лапок калатаюдских голубей.[106]
Чего они дожидались? Испанец прекрасно представлял варианты. Или саперы очистят достаточно широкую брешь, или пехота умудрится отпереть ворота, тогда стальной вал конницы ворвется на улочки, давя и сметая все на своем пути. Быть может, враг решится на вылазку из какой-нибудь неприметной щели – тогда конница готова встретить его в поле.
Может придется спешиться, отбросить копья и подпереть пехоту с мечами в руках. Ради такого случая почти все кавалеристы не стали надевать поножи, легкости ради пробежки на своих двоих – мало приятного пыхтеть в полных латах, ведь насколько затянется бой только генеральный штаб Господа Бога ведал.
Клубы дыма и рокот штурмующей армии отворились, выпустив перестук копыт, сопровождавший конную фигуру адъютанта.
«Сейчас начнется», решил Франциско тот, и вспомнил этот, парящий в невидимости безвременья.
– Спешиться! Спешиться! – Команда катилась волной от эскадрона к эскадрону.
Испанец видел себя, повелительным жестом подзывающего коневодов, заботливо принявших их четвероногий транспорт; видел, как выпорхнул из гнезда прилучных ножен полутораручный меч; как он легко и красиво соскочил на земь, не притронувшись к стременам.
Кавалеристы строились в пешем порядке, откидывали забрала, ощетинивались разнообразными смертоносными железками: от «бастардов», до клевцов и шестоперов. Де Овилла отметил в руках одного из своих парней здоровенный пернач на четырехфутовой рукояти – граненой стальной трубе – редкая итальянская штучка с шестью ажурными лопастями. Молча позавидовал, но решил, что меч сподручнее. Им отфехтоваться можно, если что, хотя он и не такой убойный и выглядит скромнее.
Колонны спешенной конницы двинулись к брешам. Нестройные колонны разномастно вооруженных людей. Не привыкли они маршировать и держать равнение! Но на узких улицах этого и не требовалось.
Франциско видел, что почти все стены уже оседланы испанскими Львами-и-Башнями, а так же двухголовыми черными птицами, нахально глядевшими с золотых полотнищ. В некоторых брешах, тем не менее, еще кипели схватки. К одной из них направили свой неслаженный шаг де Овилла и его бойцы.
– Не отстаем! Не отстаем! Держаться вместе! Вместе, я сказал! – Так или примерно так надрывался испанец, ведя людей в бой. Он оборачивался, останавливал строй, равнял шеренги и вновь командовал наступление. Позади виднелись медленно удаляющиеся флеши, плевавшиеся огнем и дымом – это артиллерия продолжала упрямо забрасывать ядра через стены. За ними угадывался лагерь, куда уводили сейчас лошадей и наконечники копий конного резерва, оставленного на всякий случай.
«Бедняги, каково в латах на такой жаре сидеть без движения???»
«Себя пожалей, придурок, сейчас на стенах разомнешься!!!»
По всему полю в проломы стягивались остатки пехоты и спешенной конницы.
А вот и их персональная дырка, то есть, разумеется, брешь, потому как, «дырка» сами знаете, где и у кого!
Среди обломков песчаника, среди пыли, по щиколотку в крови упрямо гнулся, никак не желая рваться, турецкий полумесяц. Полумесяц расшвыривал в стороны клочья дыма, бросая вызов плетением сур Корана, а под ним содрогался, ворочался и жил полумесяц янычар вперемешку с редкими спахами, которые то ли нарочно спешились, то ли остались без коней в недавнем бою.
Перед свежеразваленной преградою сгрудились ландскнехты, человек пятьсот. Пролом был не слишком широкий, шагов в пятнадцать. Кругом валялось устрашающее количество битого камня и кирпича, так что о правильном натиске строем можно было только мечтать.
Тем не менее, длинные пики заставляли турок отходить в центре. Но как только пикинеры втягивались внутрь, их беззащитные фланги тут же становились мишенью для притаившихся по углам янычар. Их копья и мечи вырубали целые просеки, так что под ногами валялось столько германских тел, что местами не было видно даже обломков стены.
С обоих сторон редко постреливали.
«И чего они добиваются? Стены то почти все наши, сейчас этих очень упрямых и недальновидных обойдут с тылу и крышка им».
Франциско собрался обдумать эту мысль с разных сторон, как он любил по обстоятельной военной привычке. Опрометчиво и стремительно он действовал, только когда не отвечал за людей и боевое задание. Собрался и не успел, так как увидел в тылу ландскнехтских шеренг профессионала войны высшей пробы – Конрада Бемельберга.
Профессионал бесновался и выл. Бегал, подпрыгивал, топотал ногами. Брызгал слюной, вращал налитыми очами и страшно матерился.
– Суки! Свинские собаки! Убью! – И так далее. – Жопа пополам! Курва – мать! Дерьмо вдребезги!
Словом, заслуженный оберст выражал несогласие с миром.
Кавалерия тяжко вздохнула в сотню грудных клеток и замерла. Народ в строю переминался, почесывался, приподнимал кирасы на талии – устали ребята, не привыкли пешедралом, можно понять. Кто-то даже нацелился присесть, а может даже прилечь, но общая нервозная обстановочка не позволила. Трудно расслабиться и на секунду, если вокруг так ругаются.
Франциско подошел к Бемельбергу, аккуратно взял его под стальной локоть и сказал:
– Герр оберст, а мы к вам.
– Ну?!
– Подкрепление в вашем распоряжении. Приказывайте.
Конрад, судя по всему, нашел новое приложение своему красноречию, набрал побольше воздуха, зажевал губами, затряс головой и собрался ответить, когда рядом появился еще один пес войны – Пауль Гульди. Его алебардисты уныло стояли в задней части формации и маялись ожиданием, пока пикинеры умывались кровушкой и умывали турок ею же.
– Вы вовремя. Сейчас снова в атаку.
– Пауль, а зачем? Что вам неймется? На стенах наши, скоро вдарят со всех сторон и порядок. Мы пока чрез поле шли, я все рассмотрел. Вы тут просто ничего не видите. Подождать с четверть часа и все. Туркам ведь отсюда тоже не выйти.
Вместо Гульди откликнулся Бемельберг, ему было что сказать.
– Умный пришел, спешите видеть! Здра-а-а-авствуйте! – Он издевательски поклонился, – Здра-а-а-авствуйте! – Он поклонился еще ниже. – А ты, умный, знаешь что нас тут имеют прямо в попу?! – Он поклонился совсем низко, повернувшись указанной частью тела к испанцу, и взял ягодицы на разрыв железными перчатками – в каждую по одной половинке. Для наглядности, видимо. Попрыгал. Подол при этом смешно задрался, поскрипывая о наручи.
– Конрад, не преувеличивай, – осмелился выступить Гульди, так как никто другой не осмелился бы точно.
– Всё не так плохо. – А потом в сторону испанца, – Дело в том, что с той стороны собирается чертова туча обрезанных. Еще не много и будет контратака. Нам кровь из носу надо прорвать оборону здесь, чтобы зайти во фланг тем орлам. И чем быстрее, тем лучше. А пока мы тут волохались, турки народу в проломе навалили, так что теперь не пройти. Надо успокоится и решить, как дальше жить будем. И как твоих кавалеристов, Франко, применить.
Конрад прекратил свою «почти истерику», выпрямился и очень вопросительно посмотрел на обоих.
– Ну, есть мысли?
– Есть, – ответил Пауль. – Кавалерия – очень кстати подтянулась. Сделаем так…
Далее он очень сжато и толково объяснил что хотел. Пикинеры со своим громоздким оружием не могли развернуться в бреши? И хорошо. Вперед пусть идут алебардисты. И древко покороче, и вдарить можно в случае чего. Проблему фланкирования он собирался решить посредством спешенной кавалерии. Две колонны конников должны были втянуться по бокам под прикрытием алебард, которые навесом планировалось выставить у них над головами, и сковать боем янычар на флангах. С коротким оружием это было сподручнее. Алебардисты вламывались вперед и расчищали путь основным силам.
– Но для начала пускай мои парни крючьями алебард растащит трупы из завала. А то хрен проберешься, – закончил Гульди.
– Разумно по моему, – сказал Франциско, почесывая по привычке стальную полусферу затылка.
– Разумно… – проскрипел Конрад ворчливо, – это нужно было сделать полчаса назад! Ты где был все это время, умник?!
– Брось, Конрад, что поделать. Все мы выступили не очень. Командуй, что ли?
– Не очень… двадцать три парня положили… у-у-у-уй! – Бемельберг поморщился, сдавив нащечники штурмхаубе, и зычно гаркнул:
– Внимание! Назад! Шагом! Марш! – Строй слажено откатился, немало удивив турок по ту сторону. Сюрпризы их еще ждали.
– Пикинеры! На вытянутую руку вправо разомкнись! Алебардисты вперед! – И, обращаясь к Паулю, уже тише:
– Иди к своим, сын войны.
– Делаем, как договорились. Франко! Сейчас мы растащим холодных. Дели бойцов на две колонны и выводи по бокам. Сигнал к атаке – барабан, как обычно.
Янычары запоздало поняли что происходит. Алебардисты крючьями цепляли своих покойных товарищей и редких турок, вытаскивая из пролома. Совсем скоро на земле осталось три-четыре развороченных тела, которые не могли помешать атаке. А турки не могли помешать страшной расчистке, ведь сунуться в брешь – означало лишиться преимуществ флангового прикрытия и пойти на фронтальную схватку с озверевшими ландскнехтами.
Франциско стоял в левофланговой колонне и молился, как обычно в свободную минуту. Его конники тоже, наверное, молились, а если нет – очень напрасно, ведь им предстояло выскочить из-за стены прямо на копья янычар и сабли спах. Латы, конечно, здорово спасают, но ведь дырочка всегда отыщется, не так ли? Иначе все войны давно бы закончились.
Приготовлениям, как и всему на Земле, суждено было закончиться. А после этого грохнул барабан, опустились на укол алебарды, впечатались в пыль башмаки.
Началось!
Ландскнехты были очень разъярены долгим топтанием и неоправданными потерями. Они как один шагнули в пролом и слаженно надавили на янычар. Последние дрались отчаянно, да противопоставить железной стене, ощетинившейся алебардами ничего не могли. Привычно откатились назад. Приготовились ударить с боков, но не тут то было. Вперед рванулись спешенные испанцы.
Их тяжелые кавалерийские латы отменно исполнили роль передвижного щита, а короткое оружие позволило схватиться с турками грудь в грудь… и продавить строй. И еще. И еще. В пролом потянулись пикинеры.
Падали люди, валились с обеих сторон, но теперь смуглые тела в кольчугах и шелковых кафтанах все чаше оказывались под мельтешащими башмаками. А светлокожие люди в кирасах неспешно и неуклонно вползали в брешь, расширяя плацдарм. Когда же за стену смогли выйти пикинеры, натиск приобрел неостановимый характер.
Наконец, под сверкающим полукругом, нарисованным чей-то алебардой, упал знаменосец. Зеленый стяг закачался. Закачался и людской полумесяц. Дрогнул. Десятки рук потянулись к древку знамени, но воинская удача была неумолима. Сегодня она однозначно стояла в строю ландскнехтов.
Парчовое полотно смялось в кровавой грязище, а стена турок раскололась, разлетелась не хуже чем каменная преграда под ядрами.
Франциско видел, как его двойник сходится с воинами в тюрбанах, одетых поверх шлемов, тюрбановидных шлемах, одетых на тюрбаны, затянутыми в кольчуги и непривычные кольчато-пластинчатые доспехи с непроизносимыми названиями «юшман» и «бехтер». Он рубил мечом, повисая на щитах, его бойцы крушили шестоперами и клевцами, рвались вперед, как безумные.
Вот он парировал кривую саблю, сунул гардой, саданул лезвием, оттолкнул противника, рубанул в бок, и тут, неведомо откуда прилетевший топор упал на его шлем. Всеохватывающее зрение внезапно сфокусировалось до узкого обзора из под козырька бургиньота, перевернулось, сжалось в точку и сгинуло в темной бездне вращающихся цветных пятен. Боли по прежнему не было. Не было и страха.
Тьма мгновенно расступилась, или прошла целая эпоха, это Франциско не ведал. Но вынырнул. Вынырнуть довелось в совершенно ином месте, в иное время, гораздо раньше. Хотя «раньше», равно как и «позже», превратились в довольно отвлеченные понятия.
Молодой, совсем юный мальчик стоял на коленях перед уютным домашним алтарем и молился.
Древний иконостас коптила одинокая свеча на высоком подсвечнике, выхватывая дрожащей сферой света суровые лица бородатых святых. Желтоватое мерцание оставляло в полутьме и мальчика и раскрытую книгу перед ним.
Сумрак не мешал высокому нескладному пареньку, который давным-давно наизусть знал все, что нес через века тяжелый пергамент. Разбуди ночью и потребуй декламации, и он без запинки прочитал бы все от «Credo»[107] до любого псалма или любого места из Апостольских Посланий.
Вот только будить мальчика не приходилось. Он сам каждую ночь вскакивал с жесткого и узкого своего ложа, бежал к замковой часовне и долго, истово молился, как сейчас, уткнувшись сокрушенной главою в книжный разворот. Молился он и утром, и перед обедом и после и отходя ко сну. И вообще в любую свободную минуту, если вы видели молодого бастарда де Овилла, вы могли уверенно предполагать, что он разговаривает с Богом.
Странные это были молитвы. Давно уже не рвались с его сердечных уст слова «Pater Noster», или «Ave Maria»[108]. Не обращался Франциск к небесам и с незатейливыми детскими: «дорогой боженька, сделай так чтобы я скорее вырос, чтобы мне наконец подарили того коня, а еще чтобы злой Хуан сломал себе ногу, а я обещаю вести себя хорошо, слушаться батюшку и делать все-все, что скажет фра Анжело».
Фра Анжело сильно удивился бы, доведись ему узнать, что его маленький подопечный уже много лет, вставая перед иконами, молчит. То есть абсолютно, так что и мимолетная шальная мысль не тревожит идеальной глади озера его души.
Сам Франциско удивился бы не меньше, если бы ему сказали, что он бессознательно возжег в себе огонь исихии, чей свет открыл миру пламенный Григорий Палама. Можете быть уверены, что Палама, узнав о своем нечаянном последователе побольше, удивился бы еще сильнее. Вот только узнать и удивиться огненосный грек вряд ли смог бы, ведь он уже более ста лет находился там, где царит пустота, содержащая в себе все времена, события и вещи.
Удивление вызывало парадоксальное поведение юного испанца. Если вы думаете, что он готовил себя монашескому служению, то вы глубоко заблуждаетесь. Не взирая на крайнюю религиозность и усиленное молитвенное делание, в дикой, так сказать, природе, это был сущий дьяволенок.
– Опять на коленках в углу грехи замаливает? – сказал бы и часто говаривал его отец (вроде бы отец) старый граф де Овилла, – не верьте его постной роже! Это маленький, мстительный, хитрый ублюдок.
И точно. Граф часто ошибался в людях, но в данном случае, верно по всем пунктам: и маленький, и мстительный, и хитрый, и ублюдок.
– Хо-хо-хо! Клянусь небом! – Мог пророкотать и рокотал самозванный воспитатель Франциско, его дядя – младший брат графа – опытный солдат и отпетый головорез, – Монахом парнишке не стать! Какой к дьяволу монах, видели бы вы его глаза, когда он берет шпагу, лопни моя селезенка! Из парня выйдет или хороший солдат или хороший висельник, а может и то и другое одновременно, хо-хо-хо!
Дядя тоже был прав. Мальчик с замиранием ждал каждого его жизненного наставления, которые заключались в том, что мужчина обязан владеть шпагой, или он не мужчина (клянусь ребром Адама, дьявол меня задери). Обязан скакать на лошади, так чтобы окружающие мнили его кентавром (хо-хо-хо). Обязан никому ничего не прощать (что в руке, то и на голове у того парня, разрази меня гром). Обязан пить с товарищами (как жеребец после случки, понял малец?). И любить до потери пульсации все что носит юбку и шевелится (хо-хо-хо, чтоб меня).
По младости последние две позиции обучения мало увлекали Франциско, оставаясь чисто академическими, а вот факультеты «шпага-лошадь-не прощать» – совсем другое дело. Мальчик до судорог упражнялся с клинком. Учился бить, рвать и бороться. Загонял и себя, и коня, и дядю. И постоянно получал тумаков от многочисленных старших братьев и прочих родственников в рамках своего недоделанного рыцарства.
Как же он их ненавидел! Совершенно не боялся, по любому поводу лез в драку, умывался кровью, так как никаких скидок на малый возраст и рост не получал, затаивался и продолжал тренироваться.
У маленького Франциско не было друзей. Если не считать дядю. А вот нормальных друзей ровесников не было. Поэтому он много читал. Все подряд. От «Анабасиса» до «Записок о Галльской войне» и от «Песни о Эль-Сиде» до «Повести о Сегри и Абенсерахах». Не считая Библии и богатого разнообразия латинской патрологии, конечно.
Нынешний де Овилла витал во мраке часовни, видя себя самого, совсем еще мальчишку, стоящего на коленях. И молился бессловесно сам в себе маленьком, не осознавая присутствия себя нынешнего.
Его память услужливо показывала картины из прошлой нелегкой жизни в родительском гнезде. И тумаки, и долгие часы в библиотеках: монастырской и замковой. И первый распутный поцелуй, приведший к его стремительному драпу в армию, и смертоносный звон клинков, возвестивший триумфальное возвращение на испанскую землю.
Первая дуэль… память услужливым халдеем приоткрыла покрывало времени, и он увидел, как толедская сталь гасит искру жизни в сердце ненавидимого врага. Шпага чвякнув вонзилась в мясо, а покрывало вновь свернулось и вынесла его к новой дуэли. И еще к одной… И опять… И снова… И еще. Сколько их было? Двадцать пять или двадцать шесть, если считать неоконченную схватку с Паулем Гульди. Кому довелось выжить? Человек семь ушло. Совсем не целыми и далеко не невредимыми, но живыми.
Ненавидел он своих противников? Желал ли им смерти? Тот юный оболтус, что танцевал на лужайках, полянках, улочках и так далее – несомненно желал. Более того, жаждал. А его невидимый зритель – он же, но в нынешнем новообретенном возмужании – нет. Твердо и однозначно.
Честь дворянская, гордость рыцарская – теперь он вдруг понял, что не стоят они человеческой жизни. Свою жизнь ради чести Франциско и сейчас отдал бы до капли без колебаний, но забирать чужую – более чем сомнительно.
О да, к первым своим картелям испанец подошел вовсе не девственником в опасном жизнелишительном ремесле. Ему доводилось погружать острую сталь в трепещущее мясо. Много раз. На войне. Когда стоит вопрос ты или тебя. Конечно, предпочтительнее, чтобы все-таки ты. Кроме того, есть такие слова как «долг, служба, присяга», да и товарищи, которых в бою умри, но прикрой.
И всё равно, летел сейчас первый клинок Испании по туннелю памяти и чуть не волком выл над загубленными на войне душами. А от дуэльных своих подвигов и вовсе суицидальное настроение им овладевало.
Вот, кстати, о товарищах. Да и о подругах, заодно.
Сколько же было выпито! Максима, преподанная дядей, выполнялась свято – пей, солдат! Пирушки в кабаках, в кантинах, привальные попойки, то есть угощение на привалах, повальные пьянки, то есть пьянки пока не повалишься, Господи, сколько их было! А как гуляли в покоренных городах да весях?! Красиво гуляли. Широко!
Дрыхнут в обнимку ландскнехт с испанцем, упокоив нагулявшиеся головы на полумертвом эльзасце, а вокруг грохочет, шумит, бурлит разудалое наемное братство. И никто не вспомнит, что час назад эти двое готовы были поднять друг дружку на ножи из-за карточной неудачи. Спят теперь рядышком, выводя самого громкого храповицкого и сам чёрт им не брат. Красота?
Если не красоту, то благородный вызов Франциско совсем недавно в этом усматривал. Но не теперь.
Что бок о бок с гулянкой идет и без чего гулянка – не гулянка? Правильно – без женщин. Даже теперь, когда время над ним не властвовало более, не мог Франциско обозреть и вспомнить всех своих любовниц, подруг, подружек, почти что жен, случайных знакомых и ладных деревенских кобылок, которых он так ловко чихвостил то здесь, то там.
И летал безостановочно Франциско на недолгой своей, но такой насыщенной жизнью, смотрел на себя сторонним взглядом, как внезапно понял, что летает он над руинами. Над развалинами. Над помойкой. Над сточной канавой, а может быть и клоакою. Весь ток его жизни оказался нечестив. А значит, нечист. Грязен, просто говоря.
Среди нечистот торчали островки и архипелаги разгромленной архитектуры и прочих строений. Постепенно, то есть, не постепенно, а очень быстро, умозрительная метафора приобрела реальный облик. Испанец несся над нескончаемой пустошью, залитой дерьмовым морем, омывающим берега свалок и материки развалин. И всё сие великолепие несло несмываемую печать его графского достоинства. Всё до последней карпускулы вони и раздробленного кирпичика – было его, всё было им самим.
Я жертва обстоятельств! – Закричал бы он, если бы родился в более позднюю эпоху. Но, к счастью, в то нелиберальное время люди, даже очень богатые, не так часто страдали параличом совести. Поэтому не стал он пенять на судьбу, а просто ужаснулся. Да не «просто», а очень сильно. До похолодания печенок.
«А если я в самом деле уже мертв? И это моя жизнь?! И ничего не исправить?! Что ждет меня теперь, ведь со смертью ничего не заканчивается, всё только начинается. Что оставил я после себя, кроме грязи, смерти и разрушения? Что хорошего я успел сделать?»
Когда его персональная Фемида приготовилась со всей строгостью сказать «ничего», а так же «dura lex, sed lex»[109], видение заложило вираж и пронеслось над светлым и чистым островом, где жили его настоящие друзья, которых было совсем немного, где обитали его молчаливые молитвы, и Зара! Зара, её спасенная жизнь, её любовь, и спасенный от полного препарирования табор – её семья.
Одно но. Всё это казалось Франциско завершённым. Совершенным и завершённым. Друзья навсегда встали бесценными жемчужинами в ожерелье его памяти, где Зарайда царила великолепным рубином. Молитвы же оставались с ним везде и повсюду.
Экватор, межа, водораздел – такие эпитеты он применил к своему настоящему сейчас. После жизнь, если будет, будет совсем иной. Нельзя войти дважды в одну воду, как говорили древние римляне, а они ведали цену словам.
Де Овилла был уверен, что останется воином, поскольку это его судьба. Но не знал, как теперь жить и действовать. Впереди много сражений и походов, но каким образом сохранить в этом огне человека? Для начала, самого себя. И в конце-концов самого себя, ведь это, как знал теперь испанец – самое сложное.
Ну что же. Вызов брошен, вызов принят. Жизнь – хреновая и очень несправедливая штука. А земля наша – самое распоследнее место для веселья и наслаждений. Придется соответствовать условиям нового вызова. Ведь воин всегда воин. Воин не бывает бывшим, ведь это не профессия, даже не диагноз – это порода.
Вот так вот.
На этой жизнеутверждающей мысли, оптимистической, надо признать, изуродованный пейзаж, который так и тянуло назвать натюрмортом, внезапно окончился, и Франциско очутился в своей собственной голове. Без всяких больше фокусов с раздвоениями.
Он ехал по глинобитным улочкам города на коне, собственном боевом коне. Поскрипывало седло, шпоры привычно насторожились возле гнедых боков, готовые в любую секунду запустить смертельную комбинацию «лошадь-всадник» в неудержимый полёт. Правую руку привычно тяготил боеготовный меч, левая тихонько перебирала поводья. Тоже боеготовные, не без этого.
Было темно, звездно. Воняло дымом и кровью. Горизонт занимался заревом грандиозного пожара. Улицы были пустынны, но жизнь ощущалась. Сильнее всего ощущалась, что жизнь эта мучительно обрывается. Вдалеке и не очень, спереди и сзади, слышались разрозненные выстрелы, звенела сталь, ревели и ржали пьяные от крови солдаты. Им вторил вопль и плач насилуемого, убиваемого города. Стон и крики агонии. Какофония сплеталась в непередаваемое аллегро из оперы «Война», часть заключительная «Победа», партия «Три дня гуляем!»
Испанец не сразу сообразил, что это тоже картинка, картинка из совсем недавнего прошлого – ночи сего дня. Страшной ночи в Тунисе.
Император запретил грабить город. Но ярость штурма оказалась не по плечу, пусть даже плечо, вполне мускулистое, принадлежало самому Карлу V. Не совладали и его испытанные военачальники – маркиз делль Васто и герцог Альба. Когда солдаты вломились в бреши и сокрушили слабеющее турецко-пиратское сопротивление, на улицах воцарился злобный и хаотический Марс рука об руку со своими психованными сынками – Фобосом и Деймосом.
Приказ императора попросту забыли, до него ли было! Грабь, насилуй, убивай, жизнь в пехоте – это рай! В самом деле, как же так, испанцы будут набивать кошельки и торбы, а ландскнехты побоку? Утопия! И понеслась!
Главный пациент императорской операции – Хайраддин Барбаросса извернулся хитрой выдрой и опять сделал ноги. Армия турок исчезла как дым. Пленных здесь не брали. А раз война закончилась – долой дисциплину, даешь военную демократию в действии!
Карл не то чтобы опечалился, но в силу данных обязательств восстанавливаемому законному правительству, послал в город немногих офицеров, чтобы те, по возможности призывали бойцов к порядку. Возможностей тех было – бык пописал, так что офицерские патрули не сильно утруждались. Тем более, что даже самые стойкие командиры, вроде Конрада Бемельберга и Эриха-Кабана проявили смекалку, адекватно ситуации рассудив, что если бардак нельзя прекратить, его необходимо возглавить. И возглавили. И не они одни.
Франциско де Овилла очень быстро остался без солдат, канувших в ночную круговерть грабежа. Он, тем не менее, остался на маршруте, верный приказу императора и собственной совести.
Ох, как это было небезопасно, в одиночку-то! И турок какой, или алжирец недобитый могли за углом подкарауливать. Но хуже всего были свои братья-бойцы, которые словно с цепи сорвались.
Испанец отлично понимал, что его, в случае излишней надоедливости, просто прихлопнут и концы в воду. И никакая «первая шпага Испании» не поможет, особенно, если за дело возьмется компания из пяти-десяти алебардистов. Хватило бы и трех, впрочем. Крюк за шею – на землю хлоп. Потом алебарду в пах, другую в глаз и всё ценное шась-шась.
Франциско сделал верные выводы, поэтому, во-первых, с коня не слезал. Так он выглядел куда внушительнее в своих роскошных латах и плюмаженосном шлеме – сразу видно офицера. Быстро драпануть можно, опять таки, если что. Во-вторых, лишний раз авторитетом не давил, пресекая лишь отъявленные безобразия.
За час жутковатого патруля он не дал зарезать двух торгашей, мол, ребята, да оберите вы их и всего делов, от кинжала в чужом пузе – не забогатеете. Ребята вроде бы вняли.
Еще одного тощего тунисца другие ребята вознамерились разложить на топчане и злонамеренно оттрахать. Не позволил. Это же содомия, а мы солдаты, а не пидоры.
Группа горячих испанских кабальерос наладилась оприходовать свежеизловленную молодуху в пять свистков. Франциско не позволил, хотя вот это было в самом деле опасненько. Не то слово!
Горячие принялись нехорошо переглядываться, не выпуская при этом кралю, а кто-то даже подобрал с земли протазан. Способный офицер вывернулся, обратив внимание коллег, что краля, скорее всего, больна и запросто подарит на память капель с конца. Оно надо? Какого дьявола не предупредила? Так она же не в зуб ногой! По человечески-то, «моя твоя не понимай»!
На этом благочестивые поступки закончились, и он от души желал себе больше не геройствовать – после выступления с «кралей» натурально тряслись поджилки. Того типа с протазаном запомнил и решил при первой возможности найти и на-ка-зать! Уж очень острые ощущения он доставил.
«А не пора ли выбираться ли из города? Всех не спасти, все равно».
«Ну, хоть кого-то. Они же не виноваты. Люди. Живые. Надо помогать пока можно».
Франциско ехал по городу.
Среди пороховой гари, обваленных ядрами домов, среди пепелищ и пожарищ, среди ужасом раздавленных насельников, среди трупов янычар, и еще более частых трупов горожан. Не смотрел, как солдатня потрошит дома и лавки. Не видел радостно оскаленных харь наемников, внезапно перекинувшихся банальными мародерами, тащившими все подряд. Проехал мимо мальчонки, тщетно будившего распластанную на земле мать, и мимо матери, беззвучно раскачивавшейся на коленях перед тремя детскими тельцами. Отвернулся от парочки, обнимавшейся у амбарной двери, а заодно и мимо пики, пришпилившей обоих к створке. Собрался было одернуть двух цветасто-шелковых ландскнехтов, но не успел – они деловито обезглавили хозяина перед дверьми лавки и полезли грабить.
Такими сценами был полон город. Полон до краев, аж выплескивалось. Город методично и неуклонно убивали. Он сопротивлялся все более вяло, уверенно отходя в мир иной.
Посреди агонии его огромного тела двигался маленький человечек на коне, бессильным эритроцитом пытаясь погасить очаги заразы. Эта болезнь была не по нему. Имя её – безумие. Когда армия превращается в толпу – наиболее смертоносный патогенный организм в природе. Страшнее холеры, ужасней чумы.
Мы с вами знаем, читали и видели, что толпе не обязательно собираться в одном месте. Толпа легко заражает огромные пространства, так что вечером засыпаешь частицей единого народа в могучей державе, а просыпаешься сам по себе – неделимый атом среди роящейся толпы.
Нам легко судить, а вот испанец этого не знал, а оттого очень боялся, поминутно ежась не то от страха, не то от омерзения. Ведь он первый раз в жизни видел со стороны, что делают толпообразованные индивиды, не имеющие ни собственного разума, ни персональной ответственности. Хуже всего было то, что он твердо знал, что не раз и не два с удовольствием поддавался пьянящему чувству ложного единения. И ненавидел себя за это. Теперь ненавидел. И было ему непереносимо стыдно. За себя и за своих братьев по оружию.
«Что я наделал? Что я делал?! Что все мы натворили?! Как это остановить и как предотвратить в будущем?! Здесь ли мне место?!»
Риторика, риторика. Лишняя на войне вещь. На войне не нужны вопросы без ответов, на войне нужно быстрое и решительное действие. Желательно без раздумий. Командование пускай думает, у него голова большая.
Судьба решила напомнить Франциско кто он и где он, подкинув справа по курсу тело неконвенционного вида.
Тело сидело, привалясь к мазанной стене. Наш герой заприметил его, решил сперва, что это просто очередной труп, великое дело, их тут сотни, и нацелился проехать мимо. Оказавшись ближе, он отметил, что тело, во-первых, живое, во-вторых, по национальности не турецкое и не тунисское. Скорее всего германское, ландскнехтское, скорее всего.
И что бы ему тут делать? Франциско на глазах оборотился из рефлексирующего нытика в собранного военного на вражеской территории. Он взял меч на отлет, легким движением корпуса остановил вышколенного коня, и внимательно огляделся. Ведь если дано поврежденное тело соратника, значит, те кто его повредил, могут сидеть рядышком, подкарауливая сердобольного самаритянина. С хреновыми намерениями подкарауливая, надо ли пояснять!
Вроде бы всё спокойно. Вопли, грохот, бах-ба-бах, псевдо-пчелиный гул на фоне. Но ни шороха подозрительного, ни скрипа железного, ни взгляда злого. Такие вещи испанец привык ощущать шкуркой, копчиком. Иначе не прожил бы так долго.
Нет гарантии, что хитрый враг еще хитрее опытного испанца и так ловко притаился? Что же. Товарищу он помочь обязан, а если коварный неприятель рядом, придётся подыграть. Пока он наготове, легкой добычи тем гипотетическим парням не обломится.
Невесомое трение шенкелей, и конь шагает вперед. Франциско по голубиному силится заглянуть себе за спину, не уставая ворочать головой. Все ближе.
У стены точно ландскнехт, такой наряд и такой доспех ни с чем не спутаешь. Левая рука закрывает брюшину кирасы, правая покоится на рукояти двуручного меча. Голова в штурмхаубе уронена вперед насколько позволяет сопряжение подбородника и стального ворота.
Еще один четвероногий шаг.
Никто не пытается выскочить стремительно и стремительно сделать гадость.
Хотя предчувствия все равно самые пакостные.
Конь подходит все ближе.
Ну?!
Никого. И слава Богу. Но бдительности не терять! Глаза растопырить!
Лошадка спокойна. Вроде бы никого. Был бы кто плохой, натасканное боевое животное давно бы забеспокоилось.
Фу-ух… Кто тут у нас?
Мама дорогая!
Пакостные предчувствия оправдались в самом неожиданном и оттого еще более пакостном варианте:
Не перепутать. Этот спадон и этот доспех может быть у одного человека во всей армии.
Пауль! Пауль Гульди!!! Как же так?!
Стремительный соскок, резкие и ненужные движения рук… На колени пред другом и во весь голос:
– Пауль! Пауль! Пауль! Ты слышишь!? Что с тобой, Пауль! Не вздумай умирать!!! Что, чёрт возьми, с тобой!? Ты жив?! Скажи что-нибудь! Пауль!
Ландскнехт медленно, словно нехотя поднял голову. Неверной рукой отщелкнул подбородник и бросил шлем на земь. Глянул в лицо испанца и очень тихо сказал:
– Я. Пауль. Уже сколько лет как Пауль. – Голос какой-то шипящий. Лицо серое, под стать цвету глаз. Даже красиво.
– Жив, пресвятая Дева! Сейчас я тебя вытащу, потерпи! И не молчи, брат, что с тобой?! – Франциско, неловко лязгая латами о латы, пытается обнять ландскнехта. Не то от радости, не то, чтобы поднять и отвести к коню.
– Что со мной? Я убит, брат. – Гульди слабо, но неуклонно отстраняет испанца. – Я. Убит. Отвоевался.
– Ты что несешь?! Дурак, лучше помолчи, сейчас я дам тебе воды, у меня есть! – Франциско делает страшные глаза, не верит и яростно трясет головой, так что плюмаж смешно колыхается.
Гульди просто отнял левую рукавицу от кирасы, коротко показав подбородком вниз. Глаза, впрочем, не отрывались от испанца, будто он боялся увидеть, то что увидел его друг.
Прямо над поясничной пластиной зияла круглая дюймовая дыра, грубо разворотившая изящество мелкорифленого металла – привет уходившей эпохи. Де Овилла только тогда понял, что ландскнехт сидит в луже крови, которая толчками продолжала струиться из под подола.
– Не вздумай воды. Один глоток. И я мертв. Хотя я уже мертв. Но мне надо завершить дело. Помоги. – Голос звучал все тише, губы его едва шевелились. Казалось жизнь, покинувшая сильное тело вся без остатка сосредоточилась в глазах его, что смотрели твердо и буквально горели.
– Как же так… Пауль… Что случилось?!
– Неважно. Полез спасать бабу. Кретин. Ваши испанцы. Мушкетеры. Хотели, сам понимаешь. Трахнуть. Повздорили. Кто-то пальнул. Из мушкета. В живот. Готовое дело. Неважно это. Не перебивай, слушай. Мне надо закончить. Дело. Без тебя никак. Сам уже не осилю. Поможешь?
Франциско секунду помолчал, сморгнул, закусил ус, а после заговорил, словно ринулся в холодный омут:
– Пауль, слушай меня. Я всё о тебе знаю, слышишь? Всё! Доставай свои снадобья, я знаю, у тебя есть, вся армия судачит, как ты вылечил девочку в Антверпене! Я тебя раньше не выдал и сейчас промолчу, но чёрт дери, спасай себя! Ты можешь, соберись!
– Какие снадобья? Что? – Трудно поверить, но на бескровном лице проступило удивление.
– Не болтай! Пауль, я же сказал, я всё знаю. Я… я следил тогда… после дуэли… Я следил за вами с Зарой! Я видел, как в огне приземлился железный корабль, да чёрт возьми! Я видел, как ты говорил на непонятном языке с теми… солдатами в странных доспехах, что вышли оттуда, я видел, как корабль улетел, так же на струях пламени! К звездам! Я думал, что умру со страху, но я видел там тебя! Ты не боялся, ты был с ними за своего! Все одно к одному. Знания твои невозможные, твоя невозможная сила, история эта мутная про Антверпен и про твое колдовство. Какое там колдовство, просто ты, Пауль, пришелец со звезд! Как и те из летающего корабля! Ты ведь так же пришел к нам! Я не дурак, не слепой, и я твой друг, а друга не обманешь! И не нужно, ведь я люблю тебя, во имя Господа, такого как ты есть! Не убивай себя, лечись, как ты можешь! Ты же можешь всё, если вы заставили огромные железные корабли летать, быстрее ветра, как я видел! Давай!!!..
Бледные губы Гульди дрогнули и расплылись в улыбке.
– Деревня, – прошептал он. – Ничего не скрыть. Хе-хе, наблюдатель… хренов. Друга не обманешь. К лучшему. Меньше объяснять. В глазах темнеет.
Он запретительно вскинул ладонь, видя, что паникующий испанец готов снова заговорить о лечении и «снадобьях».
– Слушай. Не перебивай. Прошу. Важно. Я умру. Скоро. Довези. Эту сумку. Меч и нательный крест с иконой. Вместе. Пять миль строго на юг от Туниса. Три часа по полуночи. Будет буря и огонь с неба – не бойся. Это за мной. Хе-хе, железный корабль быстрее ветра. Отдай груз. Меня не тащи. Брось. Только груз. Сделаешь? Больше некого просить. Ног не чувствую. Не дойду. А надо. Мои записи, все. Отдать. Нашим. Ну?
Франциско вскочил на ноги, схватился руками за голову, тут же сел и с нажимом заговорил:
– Я всё сделаю. Всё. Но почему ты даже не попытаешься? Спаси себя, попробуй, ты умеешь! Ты не можешь умереть, не теперь!
– Я могу. Ещё как могу. Пуля прошла. Сквозь брюхо. До хребта. Почему я так долго жив. Не знаю. Это не лечится. Умереть… могу. Как все. Esse homo[110]. Отвези. Ради Христа, отвези. Клянись.
– Клянусь Богом, но…
– Уже совсем не больно. Не холодно. Не страшно. Боже мой, какая тут красота…
Голова ландскнехта бессильно упала. Изо рта вытекла струйка крови. Пауль услышал слова клятвы, и в нем будто преломился некий важный стержень, что соединял до поры тело с душой. Рука последний раз сжалась на рукояти двуручного меча, последний раз скрипнув сочленениями латной рукавицы.
Пауль Гульди навек остался на Земле, о чём и мечтал.
Farewell[111] – как говорят братья англо-саксы по ту сторону пролива и по эту.
Ровно в три часа пополуночи в пяти милях к югу от разгромленного Туниса можно было видеть сюрреалистическую картину. Среди жестокого пустынного бурана на землю в струях огня упал огромный железный корабль, больше флагманской галеры Андреа Дориа. На него бестрепетно взирал человек в железных латах, твердой рукой удерживавший ошалелого коня.
Корабль замер, покачнувшись на посадочных стойках, упала десантная аппарель и на свет божий вывалилась группа в легких скафандрах. Они недолго кричали что-то всаднику, он что-то кричал в ответ. Потом один из пришельцев поднял забрало шлема, сплюнул и бросил резкие злые слова. Спустя секунду, от другого обитателя корабля к всаднику протянулась мгновенная ослепительно синяя дуга. Всадник рухнул как подкошенный. Его подхватили и утащили внутрь. Аппарель захлопнулась.
Минут через десять корабль исторг пламя и умчался ввысь, презрев несомые безумным ветром тучи песка и пыли. А потом и ветер прекратился, как будто сам собой.
Остался только обожженный до стекла песок, если не считать изрядно изумленного обилием впечатлений конягу. Последний, впрочем, оставаться далее не собирался. Тряхнув гривою, осиротевшая скотина неспешно потрусила в сторону лагеря имперской армии.
Эпилог
– Кругом предатели! Завистники и предатели! И возраст, проклятие, возраст! – Челлини лежал в постели, укутанный одеялом. Тело его сотрясала жесточайшая лихорадка. Приступ оказался нешуточный, так что прославленный художник всерьез готовился отойти в лучший мир.
– Умираю. – Так прямо и сказал, отсылая служанку. А еще подумал, что Персей его, пожалуй, увидит свет, который ему самому зреть более не суждено.
Служанка взялась было причитать и уговаривать его, всячески ободряя. Но что толку было в её словах, когда статуя – венец его немалых трудов рождалась в муках в полуразрушенной мастерской, а он не мог по слабости телесной, что внезапно сковала его тело, сделать все своими руками, вынужденный довериться работникам и подмастерьям!
Бенвенуто бабские причитания были только в тягость, да и какое в них утешение?! Он отослал домоправительницу Фиоре ди Кастель, повторив, что до завтрашнего утра ему не дожить.
Какая досада, право! Сколько было сделано, какие трудности и препятствия сокрушены! Сам диавол, кажется, пускал пыль в глаза и насыпал песку на оси колесницы его судьбы. Но Челлини все преодолел, и теперь его Персей стоял запечатанный в земляную форму под содрогающимся от жара горном. А художник валялся в спальне, содрогаясь от жара не хуже того самого горна.
Он то и дело порывался встать, бежать в мастерскую, но каждый раз падал на ложе, не в силах пошевелиться. Упрямое сознание и воля его никак не желали покидать измученное тело, подарив сон и забытие. Бенвенуто каждую секунду оставался разумом возле раскаленного горна, что вот-вот должен был оплодотворить форму потоками жаркого бронзового семени.
И о каком покое могла быть речь! Ведь он умирает здесь, а там его Персей рождается без него! А среди подмастерьев он небезосновательно подозревал вредителей, подкупленных, или невесть еще как науськанных этой скотиной Баччо Бандинелло[112]. Ох, не зря он не раз и не два в глаза презрительно называл его Буаччо[113], и вообще сыпал перцу под хвост этой бездарности.
«Уверен, что не обошлось здесь без денежек герцогского майордома Пьера Франческо Риччи, поделом досталось его проклятой голове, правду говорят, если Бог хочет наказать – лишает разума», думал Бенвенуто, и тоже с полным основанием. Со сказанным сеньором они ссорились неоднократно из-за жадности и вороватости последнего. Сколько крови он испортил ему еще во время постройки мастерской! Сиятельное серебро благословенного Козимо в значительной мере до работ не доходило, оседая в бездонном кошельке казнокрада.
А как начиналось всё замечательно! Когда его вызвали из Франции на родину, во Флоренцию, Челлини сорвался с места, не раздумывая, хотя король Франциск и осыпал его милостями. Статуя Марса, опять же, была неокончена, а Бенвенуто терпеть не мог бросать начатую работу. Но выехал тут же, не откладывая. Ведь он так давно не ступал по земле прекрасной своей родины. И самое главное – появилась возможность изваять Персея, о котором он мечтал и неоднократно примеривался, но так и не сумел изготовить в той или иной форме.
Эскиз, буквально жег ему руки. Давняя безумная история, в результате которой получился тот самый рисунок, и которая окончилась его изгнанием из города, все еще стояла перед глазами, как будто это было вчера. Не вчера, к сожалению. Со времен вечно зеленой, беззаботной юности много лет минуло. Тогда все казалось возможным, его дар не знал преград, а руки требовали новой, неизведанной работы.
Нынче все уже позади. Хотя мастерство и возросло многократно и талант ярко горит, и сила в руках осталась, а все равно, превратился неугомонный художник из мальчика в старика. Пора было задуматься о жирной точке, черте под всеми его трудами. Персей, фигуру коего он представлял до самой мельчайшей детали, буквально рвался в этот мир, обещая славу и память в веках.
И вот – приглашение с родины. Изругав себя старым ослом, Челлини покинул спокойное пристанище под сенью щедрой длани французского самодержца и рванул на юг. Во Флоренцию. К интригам. К завистникам. К препонам. К славе.
Герцог Козимо – покровитель искусств, арбитр изящества, встретил его на вилле Поджо-а-Кайано, что украшает местность в десяти милях от Флоренции.
Роскошная зала, убранная гобеленами и наилучшими античными скульптурами, вызолоченное кресло, благосклонный взгляд знаменитого владыки, надменный взгляд его испанской супруги, незаметная суета слуг. Челлини, привычный обращаться без стеснения и страха с вершителями судеб, просто и прямо стоит посреди великолепия, ведь он сам – творец, красота – его жизнь.
Герцог выдержал приличествующую паузу и повел речь.
– Мой Бенвенуто! Мы рады видеть тебя в нашем доме, на нашей земле! – Козимо небрежно одергивает широкий рукав и указывает гостю на кресло пред собою.
– Я ваш покорный слуга, ваше светлость! – Челлини почтительно гнет спину и усаживается. – Что будет угодно вашей милости мне повелеть?
– Оставь, оставь, Бенвенуто, эти лишние слова! Я хочу, чтобы ты видел во мне друга и покровителя, но никак не «светлость» и господина. Я не собираюсь повелевать, я прошу тебя.
– Ваша светлость, счастлив и горд называться вашим другом и с наслаждением принимаю ваше покровительство! В чем же суть вашей просьбы, позвольте осведомиться?
– Как ты знаешь, проклятая республика сокрушена и Медичи в моем лице вернули городу законный престол! Я считаю нужным это славное событие увековечить. Нужен символ победы! Нечто такое, что будет напоминать потомкам о великом этом деянии и предостерегать от ошибок прошлого.
Герцог поднял глаза и задумался. Молчал он довольно долго, а под конец изрек:
– Персей! Огромная статуя, прекраснее всех античных шедевров! Персей с отсеченной головой Медузы! Вот это то что нужно, я много размышлял и пришел к такому выводу. Медуза – республика, а герой – законная власть! Аллегория изящна и понятна. Я считаю, что ты сможешь выполнить эту работу. В мраморе ли, металле – на твое усмотрение художника. Вознагражу тебя я так, что ты и думать забудешь о милостях короля Франциска, которого, я слышал, ты повсеместно восхваляешь и превозносишь.
Челлини не мог поверить, что слышит то, что слышит. Ему даже не пришлось уговаривать герцога, склоняя к выбору темы. Козимо сам указал на его мечту и не повелел, а попросил её выполнить. Итак, Персей!
Бенвенуто в три дня вылепил восковую модельку в локоть высотою. Ему даже не требовалось заглядывать в эскиз, ведь он жил в его памяти, в голове, в кончиках его пальцев.
Вышло превосходно, а иначе и быть не могло. Бенвенуто был безмерно хвастлив, но никогда не лгал. Не мог солгать он и о безмерной величине дарования своего и мастерства. Все что он делал: от грифельных рисунков и мелкой ювелирной работы, до сладкоголосых арф или полноразмерных статуй, получалось блестяще.
Не было неудачи и в этот раз.
Герцог пришел в восторг.
– Бенвенуто, друг мой! Сделай Персея не хуже своей модели в полную величину и я прикажу поставить его на площади Сеньории! Это будет великолепно.
– Ваша светлость, смею напомнить, что там уже стоят Давид и Юдифь великих Микельанйоло и Донателло. И, хотя, статуя будет в десять раз лучше модели, моя работа недостойна сравнения с великими произведениями Школы.[114]
– Бенвенуто, это мне решать, я достаточно повидал разного и достаточно разбираюсь в искусстве. Работай, твори, я прикажу обеспечить тебя всем необходимым.
И вот тут-то и начался ад.
Челлини не догадался оформить отношения с Медичи договором, как полагается. А герцог перепоручил его мажордому. Пьер Франческо Риччи сразу невзлюбил Бенвенуто. А когда тот в своей обычной манере публично наорал на него из-за устроенной волокиты, сказав: «Такие, как я рождаются раз в тысячу лет, а такие как ты входят в каждую дверь десятеро в ряд», Риччи его люто возненавидел.
Маслица в огонь добавлял давний недоброжелатель Челлини Баччо Бандинелли – посредственность и бездарь, зато хитрейший и проворнейший делец, доивший герцогскую казну с завидной регулярностью на почтенные суммы. Надо полагать, что делился он при этом с Риччи самой щедрою мерой, заполняя ойкумену города своими поделками, кои, даже у людей неискушенных, часто вызывали смех.
Как-то раз, Челлини в запальчивости сказал все что думал о его Геркулесе, который попирал мраморными пятами площадь перед Палаццо Векья. Сказанная статуя заслуживала насмешек горожан еще и потому, что всем было известно: на неё был угроблен кусок мрамора, что хитро увел Баччо у самого Микельанжело.
Челлини, разозленный тем, что Бандинелли изводил его наушничеством и тем, что постоянно чинил препоны в найме толковых работников, бросил в лицо своему недругу обвинения в бездарности. При герцоге, при всем дворе. А гордость Баччо, того самого Геркулеса, расписал без прикрас, как обычно громогласно, и, что еще обиднее, очень точно и правдиво.
– Геркулес твой, напоминает мешок набитый дынями, зачем-то поставленный стоймя возле стенки. Ноги прилажены к тулову непонятно как, и непонятно как человек смог бы на них устоять, а руки похожи на луки седла вьючного мула. А голова? Да если остричь с неё волосы, там места для мозгов не останется, как нету их у тебя самого.
Баччо взъярился и обозвал Челлини содомитом и содомитищем, забыв совершенно, что находится в высочайшем присутствии. Тот, как водится, в долгу не остался, так что от неминуемой расправы Баччо спас только герцог.
Бандинелли затаил зло и все ему припомнил. Беда в том, что мрамор Челлини для статуи Аполлона и Гиацинта – попутного герцогского заказа, должен был поставить именно Баччо. Ослушаться приказа Козимо он не мог, но камень привез самый растресканный и размытый водою.
Челлини вывернулся со всем изяществом, изваяв из негодного материала превосходные фигуры, но спокойствия ему, понятно, это не прибавило. Хладнокровность и уравновешенность никогда его не отличали, и тут вдруг такие обстоятельства.
Пьер Риччи с упорством, как принято говорить «достойным лучшего применения», задерживал выплаты, не присылал материалов. Челлини был вынужден выкладывать собственные деньги, для чего постоянно брал разные мелкие заказы, никак не ускорявшие главную работу – фигуру Персея.
Этим бесстыдно пользовалась жена герцога Элеонора ди Толедо, применявшая руки мастера для нескончаемого женского украшательства. Отказать ей он не мог, да и золото было необходимо для продолжения работы. Герцогиня, надо сказать, видела очень мало толку в бесполезном бронзовом болване, и сердито кривилась, когда Челлини ссылался на подобную занятость.
И вот, все мучения позади. Годы мучений.
Герцог осматривает колоссальную литейную форму в кривой-косой-недоделанной мастерской. Его интересует все. Зачем нужны эти дырочки? Это не дырочки, а отдушины? Надо же! Превосходно. А зачем яма в земле? Отливочный котлован, что вы говорите, как интересно! А зачем эти ужасные деревяшки и железки вокруг фигуры? Скрепляющие лаги? Потрясающе! А что такое лаги? Какая красивая голова! Она будет такая же красивая после отливки?
И неведомо было герцогу, что не голова Персея беспокоила Челлини, а его ноги, точнее, стопы, которые могли «не пролиться». И уж точно герцог не знал, что «красивая голова», украшенная античными кудрями, как и все остальное тело, принадлежала молодому ландскнехту из армии Фрундсберга. И, наверное, много смеялся бы, узнав где, и главное, при каких обстоятельствах был сделан исходный эскиз.
Но не смеялся владыка, так как молчал Челлини, оставив для себя воспоминания о двух неугомонных фрицах, в чьей компании он, было дело, поставил на уши всю Флоренцию. Тридцать лет назад, подумать страшно!
Где они теперь? Что с ними сталось? Так и маршируют в тени имперских пик, благо есть где маршировать, или?.. Вдыхают ли горький запах горелого пороха, пьют ли жуткое свое пойло, или?.. Все возможно, ведь война, а они – солдаты.
Не послушался тогда, упрямый лошак, умного совета. Остался в Риме в самый разгар боевых действий, попал в осаду. Да, пострелял он тогда знатно. И из верного своего аркебуза, который сам собирал и отлаживал, и из фальконетов. И поубивал ландскнехтов под стенами Замка полным-полно. Ах, какая была бы злая ирония, если эти двое подставились его слепому свинцу!
Но страшная осада Рима хранилась в отдельной кладовке памяти, никак не сообщавшейся с золотыми днями флорентийской юности. Обоих наемников он по сей день почитал за друзей. В любое время дня и ночи он без раздумий открыл бы им двери и поделился последним куском хлеба. Это так же верно, что, не дрогнув, убил бы обоих, доведись им встретится в Риме в далеком 1527 году от Рождества отсчитанного.
Для войны – отдельное место в душе отведено, для жизни, друзей и радости – другое. Ну а для творения – третье – самое большое хранилище, ведь он – художник! Так что теперь его занимал только Персей.
В 1545 году он получил заказ, и теперь почти девять дет спустя, после всех тягот и трудностей, главная работа его жизни, он верил в это, близка к завершению. Сегодня из формы он вытопил воск и поместил её, облизанную жадными языками огня, в котлован под фундаментом горна. В отдушины установлены трубки, желоба от печи подведены к литникам. Котлован засыпан землей.
Завтра доставят бронзу. Завтра Джованнбасито Тассо[115] – талантливый архитектор, родич известного фехтовальщика, доставит недостающие дрова – сосновые поленья, полные самой жаркой смолы. Завтра все решится. Еще никто не отливал целиком столь крупной фигуры.
«И такой совершенной» – добавил про себя Бенвенуто, последний раз оглядел работу и отправился спать. Следующий день обещал быть трудным и долгим.
Челлини метался по мастерской. Все требовало пригляда и его твердой руки.
Он выкладывал в печь бруски бронзы «как того требовало искусство», то есть с заметными зазорами для тока воздуха. Точнее сказать, выгладывали работники и ученики, но он то и дело отстранял их, берясь за работу собственноручно.
– Ты что творишь?! Бернардино! Свободнее выкладывай бронзу! Чему я тебя учил столько времени?! Вы все ничего не слушаете, сукины дети! Все самому приходится… смотри, вот так надо. Ну, понял?
– Да учитель.
– Тогда за дело, или вы до завтра провозитесь.
Бенвенуто отошел от горна, любуясь согласной суетой работников, когда со двора раздался оклик:
– Маэстро! Дрова привезли! Куда сгружать?
Он порысил во двор. Выяснил, что денег из герцогской казны за дерево не выплатили ни флорина, и с кряхтением отсчитал требуемую сумму. И за товар и за извоз. Сеньор Тассо был добрым его другом и замечательным весельчаком, так что обижать его никак не хотелось.
Одно маленькое утешение: проклятый жадина Риччо год назад рехнулся, на почве скупердяйства, не иначе. Жил теперь в роскошном своем особняке и ловил несуществующих мух. Нехорошо потешаться над убогим, но Бог его покарал. И поделом.
Вот только на выплатах это слабо сказалось. Казна Медичи работала как обычно с проволочками. Кошель Челлини часто показывал дно. Да и наплевать, впрочем – теперь всё закончено.
«Почти закончено» – поправил себя художник и побежал обратно к мастерской, где подмастерья разгружали возы с дровами.
– Ты олова принес? – спросил он проходившего мимо ученика. На всякий случай, просто мелькнула мысль такая в голове.
– Нет. А зачем?
– Зачем?! Господи! Затем, что бронза может выгореть, вот зачем! Быстро неси олово! Фунтов шестьдесят, не меньше! И пошевеливайся! О, порождение ленивой ехидны!
Челлини не знал, как выглядит «ленивая ехидна», но ученик вызывал именно такие ассоциации.
И так весь день. И уже далеко не первый день.
Глина – самая лучшая, дрова – самые жаркие, бронза – самая яркая, железо – самое крепкое… рабочие, грузчики, литейщики в помощь, установка талей, котлован – все это слилось перед глазами Челлини в один бесформенный ком, в котором он обязан был разбираться и помнить каждую мелочь. И бегать, бегать, бегать, как будто ему было пятнадцать лет. Не пятнадцать, а жаль – ноги под утро, когда он падал на кровать, буквально отваливались.
Как же тяжко быть одному! С другой стороны, гений всегда одинок, ибо найти в помощь такой же пылающий талант – немыслимая удача и совпадение, вероятность которого стремиться к нулю. Да и не вынес бы хилый кров его мастерской двух таких светильников. Вся Тоскана была для него одного тесновата, что ж тут говорить…
И вот, подготовка близилась к завершению. Горн вычищен до девственного состояния, в зольник загружены дрова, бронза ждет первого жара, желоба тысячу раз проверены, трубки воздуховодов на месте.
Осталось зажечь огонь. Бенвенуто медлил. Он так не волновался с момента первой своей ученической поделки. С другой стороны, он был абсолютно счастлив и чувствовал себя Гефестом и Прометеем одновременно. В теле бурлили горние энергии, глаза сияли, а между пальцами, казалось, вот-вот посыплются искры.
Словно откликаясь мыслям его и настроению, небо на востоке стремительно чернело, то и дело, расцвечивая вечер голубыми сполохами. Надвигалась гроза. Могучий атмосферный фронт несся, окутанный молниями и клубами туч. Как будто небесное воинство, а может быть, демоны ада решили стать свидетелями рождения чуда. Его чуда.
«Бог мой! Как не вовремя!» – думал Челлини, глядя в лицо близившемуся буйству – «а, впрочем, плевать, теперь меня ничто не остановит. Так даже лучше. Пусть Персей родится среди молний и громов!»
– Зажигай! – выдохнул он, оторвавшись от созерцания. – Или, постой. Я сам.
«Желанный мастер»[116] запалил факел от масляного фонаря на стене и ткнул его в растопку. Сухие дрова послушно и дружно занялись. Через пять минут горн ожил и загудел, пыхая жаром.
Ученики заворожено пялились на ярящуюся печь, а он позволил себе присесть на скамеечку возле двери. Горн работал отменно, еще бы, ведь он сам его разработал и построил! Еще немного и горн раскалится.
Над городом полыхнула первая молния. Небо почти мгновенно скрылось за бурлящим низким покровом туч. Поднялся ветер. Еще одна молния. А спустя секунду долгий, рокочущий раскат грома.
Неуемный художник вскочил, подбежал к печи. Не мог он сидеть и отдыхать, оставив дело на попечение косорукой молодежи. Под аккомпанемент залпов небесной артиллерии Бенвенуто танцевал возле горна, ворочая дрова длинным железным шестом. От горячего дыхания его волосы и борода закурчавились, а одежда напиталась соленым потом.
Он бегал, отдавал команды, заглядывал в горн, проверяя бронзу, что вот-вот должна была поплыть. Рабочие, ученики и литейщики и прочие помощники числом с десяток, едва поспевали за ним.
– Алессандро! – кричал он старшему литейщику, – проверь заглушки, плотно ли притерты?!
Алессандро Ластрикати проверял их уже тысячу раз, но не смел ослушаться, памятуя от буйном нраве хозяина и его тяжелой руке. Челлини в эти часы был так страшен, что его испугались, будь он даже хилым карликом.
Гроза, меж тем, набирала силу. Молнии сыпались все чаще. И что это были за молнии! Некоторые не затухали по несколько секунд, как будто сам пророк Илия тыкал пальцем в грешную землю. А может вовсе не Илия это, а сам Юпитер ожил, чтобы засвидетельствовать второе рождение древнего героя? Такие молнии сделали бы честь и старому громовержцу.
Без пауз ревел гром, заставляя сжиматься в ужасе все сущее. Ветер свистал и выл, и слышалось в его злом голосе завывание стаи голодных демонов, вышедших на охоту. Ярость бури, казалось, превратила воздух в нечто твердое, и его напор с легкостью выворачивал столетние деревья. Молнии не отставали, играючи раскалывая могучие стволы в три охвата от кроны до земли. Дождь все не начинался.
Но даже небывалый разгул, внезапно одичавшей природы не мог отвлечь Бенвенуто. Его голос перекрывал гром, а помощники, даже думать забыли о страшной буре, завороженные энергией своего хозяина. Сегодня и здесь именно он был богом.
Не богом, как оказалось, спустя некоторое время. Божком.
– Хозяин! Хозяин! – с улицы прибежал заполошенный ученик. На лице не было и кровинки. – Хозяин! Крыша загорелась! И стена! Пожар!!!
Здание мастерской не выдержало жара печи раньше бронзы. Страшное слово «пожар» сковало рабочих ужасом, который в любую секунду мог разродиться банальной паникой. Но Челлини не растерялся. В тот день его не мог остановить и огонь.
– Вы трое! – гаркнул он, выпрямившись, опираясь на огромную свою кочергу. – За мной, во двор! Ты – поднимай слуг! Тащите ведра и лестницу! Бернардино, следишь за горном! Отвечаешь головой! Побежали!
«Где же дождь!?» – буквально вопил он про себя, принимая кадки и ведра, что споро передавали по цепочке слуги. Челлини стоял на приставной лестнице в синем ореоле непрекращающихся молний. Он чуть ли не руками раскидывал горящие доски. Заливал огонь водой, сыпал проклятиями, подгоняя людей. Ему вторил чудовищной силы гром.
Слуги и рабочие пригибались под ветром, таскали ведра, орудовали шестами и топорами, покорные воле художника. Наконец огонь унялся. В крыше зияла порядочная дыра, а в стену как будто выстрелили из пушки.
– Готово дело! – оскалился Бенвенуто. – Пошли работать! Вы! Поставьте здесь бочки с водой и не переставайте поливать стену. Она жара не выдержит и снова займется. За дело!
Молния. Гром.
Челлини забегает в мастерскую. Кажется все в полном порядке. К горну не подойти, так он раскалился. Бронза дрожит и теряет форму. Если бы художник знал, то непременно вспомнил бы о «фазовом переходе»[117], но не ведал ни о чем подобном, что совсем ему не мешало.
Заглушки в горне держатся отменно. Металл пойдет только когда его выпустят. Люди на местах и готовы к работе. Печь исправно пожирает дрова. Порядок.
К сожалению, фазовый переход может настичь любую материю, не только бронзу. Гораздо более надежное человеческое тело тоже имеет свой предел. Даже несгибаемый Челлини.
Стоило ему отойти от печи, как ноги подкосились, так что он с трудом доковылял до скамьи. Он хотел рявкнуть на помощников, мол, чего уставились, всем работать, но из горла вырвался только слабенький стон. Неверной рукою он ухватил кувшин с водой… и едва не выронил, так его трясло. Выпростал кувшин целиком, разлив половину на исподнюю рубаху и кожаный фартук. Попытался встать и не смог. Попытался еще раз.
– Бернардино! – прохрипел он, стуча зубами, – помоги подняться! Я должен прилечь. Ты останешься здесь и будешь следить за горном, как я тебя учил. Бронза сейчас потечет. Мой дорогой, следи внимательно, ошибиться ты не можешь. Когда металл будет готов – выбивайте заглушки, уверен, что форма наполнится отлично. Худо мне, Бернардино, как никогда не было. За пару часов эта немочь меня доконает.
Не слушая возражений Бернардино Манинелли, он ушел к себе и бросился на кровать.
Что было дальше, мы видели уже. Художник приготовился помирать.
«Великая болезнь» постигла его от чрезмерных трудов. Часа два он провел в «великом борении», непрестанно чувствуя, что лихорадка все усиляется.
Прогнав служанок, чтобы не отравлять последние часы бабьим причитанием, он велел напоследок отнести в мастерскую поесть и попить. Оставшись наедине с собой и недугом своим, художник блуждал между двумя мирами, вспоминая прожитое и беспрестанно тревожась о судьбе статуи.
Когда стало ему совсем худо от этих «безмерных терзаний», художник увидел, сквозь пелену боли и бреда, что в дверях стоит человек, изогнувшийся буквой «S», трясущийся даже сильнее больного Бенвенуто и с ожиданием неминуемой казни на лице.
– Маэстро! – наконец вымолвил он, – Ваша работа погублена, так что уже ничего не поправить.
Услышав это, Бенвенуто испустил крик такой безмерный, что его слышно было на огненном небе. Неведомая сила подбросила его с ложа. Ураганом ворвался он в мастерскую, раздавая тумаки и пинки. Проклятия его и упреки гремели сильнее грома.
Челлини встретил перепуганный Алессандро Ластрикати, не чаявший уже увидеть его живым.
– Бенвенуто, все пропало. Металл загустел и забил отверстия. Ничего не поделать, бронза выгорает, печь уже не потушить. Ничего не поправить, всё кончено.
При этих словах мастер вскинулся, готовый на худое. Его взгляд грозил карами и метал молнии не менее молний небесных, все еще раздиравших небо.
– Слушайте меня, неучи! Слушайте и делайте, как я скажу, раз ничего не можете сами! Встать к желобам, готовьтесь торопить металл. Несите суда все дрова что есть, дьявол, тащите из дома лавки и столы! Всё в печь! Кидайте олово в горн!
Бенвенуто подал пример, ухватив оловянную чушку.
Печь охотно приняла дубовые доски, загорелась еще жарче. Бронза начала сиять, а олово быстро поплыло, восполняя выгоревшую присадку. Тем не менее, тесто, образовавшееся перед заглушками, текло очень медленно. Тогда в горн полетела вся оловянная посуда, что нашлась в доме. Дело пошло веселее.
В довершение всего хлынул дождь. Пока слуги затыкали дыру в крыше, на раскаленный горн пролилось достаточно воды. Послышался грохот с превеликим сиянием огня, как будто молния образовалась, так что все замерли пораженные небывалым страхом, из-за какового всякий растерялся и Челлини больше других. Когда грохот стих, Челлини увидел, что треснула крышка горна. Теперь или никогда!
– Вышибай заглушки! – Заорал он, метнувшись к другому концу желобов, отворяя отверстия в форме. И бронза потекла!
«Я оживил мертвеца» – думал Челлини, ворочая кочергой металл в желобах, и восклицая громогласно:
– Боже, который своим безмерным могуществом воскрес и на небеса взошел!
И не думал более о лихорадке и о страхе смерти не вспоминал, такая наполнила его новая сила. Только лишь радость творения в те минуты владела им и ничто более над ним было не властно.
Когда же форма наполнилась, Челлини приказал принести еды и вина, после чего до света выпивал и кушал вместе с помощниками, и никто не думал о его зуботычинах и попреках, и волнения жизни не казались более важными.
Через три дня бронза остыла. Форму подняли с превеликой осторожностью из котлована и установили на фундамент.
Бенвенуто радостно напевал что-то, скалывая спекшуюся землю и глину, выпуская в мир свет небывалого совершенства.
Неведомо, что он думал в те часы, и что вспоминал.
Спустя некоторое время, на площади Сеньории под восхищенный вздох толпы с исполинской фигуры сдернули покрывало, и тогда Челлини дружески подмигнул изваянию и помахал ему рукой.
На него глядел Пауль Гульди, ландскнехт его императорского величества, который сам себя частенько называл Солдатом Императора.
Примечания
1
Аудиенсия – городской суд Барселоны.
(обратно)2
Кошкодер – нем. Kazbalger – типичный меч ландскнехтов.
(обратно)3
Juan Ernandes Toledo – Хуан Эрнандес из Толедо, (исп.); Espadero dell Rey – Королевский оружейник (исп.).
(обратно)4
Райсснер Адам – личный секретарь и биограф Георга фон Фрундсберга, оставивший его подробное жизнеописание, напечатанное в 1568 г. во Франкфурте-на-Майне.
(обратно)5
Oberst – полковник; hauptmann – капитан. Высшие чины в армии ландскнехтов.
(обратно)6
Fahnlein – самостоятельная тактическая единица низшего порядка. Возглавлялась гауптманом, состояла из 400 человек. Естественно, идеальное число солдат редко выдерживалось. Фанляйн мог комплектоваться и большим и меньшим числом бойцов. Точно так же и рота – сотня, редко являлась собственно сотней.
(обратно)7
Wams – верхняя куртка, длиной до талии или чуть ниже. Расстегивалась спереди, на манер колета с полным запахом и пуговицами или завязками у проймы и на боку. Другой вариант отличался простой центральной медиальной застежкой. Как правило, имела длинные рукава. К нижнему краю вамса обычно пришнуровывались штаны «хозе», или шорты «обершенкельхозе».
(обратно)8
Reisslaufer – наемный швейцарский солдат. Главный конкурент и враг немецких ландскнехтов.
(обратно)9
Фрагмент современной сатирической поэмы «Фаллическая правда» Е.Юркевича.
(обратно)10
Ротмистр ошибается. Сражение при Мариньяно имело место в 1515 г.
(обратно)11
Faltrok – распашное приталенное одеяние с длинным плиссированным подолом. Изначально являлось надоспешной одеждой. С 1510 гг. превратилось в модный дорогой аксессуар, который не стеснялись носить даже при императорском дворе.
(обратно)12
Старый ландскнехт ошибается. В 1499 г, во время Швабской войны, Максимилиан I Габсбург еще не был императором, а только германским королем.
(обратно)13
Gewelthauf – традиционное название центральной основной баталии в швейцарском боевом построении. Авангардная баталия называлась forchut, арьергардная – nachut.
(обратно)14
Spiess voran – нем. буквально: пики вперед!
(обратно)15
Бригандина – доспех, состоявший из стальных пластин, приклепывавшихся к изнаночной стороне матерчатой основы, так что снаружи выступали только ровные ряды заклепочных шляпок. В XV–XVI вв., как правило, основа сшивалась из плотного бархата с двумя слоями подкладки из грубого холста или льна. Фасон её не отличался от фасона безрукавного приталенного дублета того же времени.
(обратно)16
Eisenhut – нем. Железная шляпа. Шлем с круговыми полями.
(обратно)17
Кварта – здесь четвертый сектор в теории фехтования. Обычно соответствует области от плеча до поясницы по внешней (т. е., повернутой к противнику) половине тела фехтовальщика.
(обратно)18
Секунда – второй сектор: внешняя сторона внешней ноги фехтовальщика.
(обратно)19
Франц – Адам Райснер привычно для германского уха сокращает имя Франциск, имея ввиду короля Франции Франциска I Валуа.
(обратно)20
Под прошлогодним конфузом здесь подразумевается захват Милана имперским войсками в 1521 г.
(обратно)21
Акваманил – рукомойник. Часто исполнялись в виде зверей, рыб или мифических персонажей.
(обратно)22
Zweihanderschwert – буквально, двуручный меч. (нем.)
(обратно)23
Трабант – телохранитель, специально подготовленный воин, часто вооружались двуручными мечами.
(обратно)24
Spiritum Vini – лат. Дух Вина. Известный в Европе с XI века продукт возгонки вина в перегонном кубе. От первого слова «спиритум» ведет происхождение современное слово спирт. Изначально подавалось в аптеках, как лекарство от кручины. Впоследствии, не ранее XV в. его научились употреблять, как напиток, разбавляя водой, славная традиция чего не прерывается среди людей исторической складки по сей день. На Руси данная смесь ходила в XVI–XVII под названием «зелена вина», пока не стала именоваться водкою.
(обратно)25
Доппельзольднер – букв. двойной солдат, ландскнехт, получавший двойное жалование. Обычно ими были лучшие солдаты с наилучшим вооружением, формировавшие внешние ряды баталии, а так же отборные воины, которые охраняли знамя в центре построения.
(обратно)26
Полусписса – буквально полупика. Так назывались отряды легкой конницы. Они вооружались облегченными копьями или пиками, что и дало им название, отличающее от тяжелой конницы с рыцарскими копьями. Как правило, полусписы не носили полного доспеха и никогда не использовали конских лат. Общая тактика боя при этом оставалась рыцарской.
(обратно)27
Здесь и далее перевод ландскнехтских песен С.Лознева.
(обратно)28
Корпоративная честь солдат XV–XVI в. была весьма близка к понятию чести рыцарской классического Средневековья. Собственно понятие чести тогда была синонимично понятию слава, т. е. нечто, что необходимо добывать и постоянно поддерживать. Честь ландскнехта или швейцарского райслауфера отличалась тем, что не была персонифицированной, а распространялась на всю корпорацию. Отдельный же солдат гордился принадлежностью к большой воинской семье.
(обратно)29
Пауль Гульди не ошибается. Даже ландскнехты – пехота, по возможности на походе передвигались верхами или на телегах. Видимо, в разведку была выслана рота, хорошо укомплектованная лошадьми. Это важно, если учесть, что отправились они для поддержки конницы.
(обратно)30
Германская заклепка – жаргонное название обычного ландскнехтского доспеха. Заклепкой, видимо, его называли из-за крайней простоты конструкции. Существовали разные модификации, зачастую более сложные, но основа оставалась неизменной, послужив прототипом общеевропейского пехотного защитного комплекса, который просуществовал до конца XVII в., когда, вместе с развитым защитным вооружением отошел в прошлое.
(обратно)31
Бартель – подбородник. Ротмистр имеет более сложный доспех, с отдельным подбородником, который застегивается поверх латного воротника, независимо от шлема.
(обратно)32
Армэ – разновидность шлема XV–XVII в. Скругленная тулья дополняется распашным или подъемным подбородником и забралом. Существовало множество вариантов такого шлема. Это и его долгая жизнь ясно указывают на удобство и хорошие защитные свойства.
(обратно)33
Секунда – здесь – вторая позиция в фехтовании, когда клинок закрывает ногу с наружней стороны. Закрытая позиция – клинок убран острием назад.
(обратно)34
Бастард – общепринятое название полутораручного меча. Отличался от двуручного меньшими размерами. Как результат, им можно было фехтовать одной и двумя руками, исходя из ситуативной необходимости.
(обратно)35
Гастон де Фуа – 1489–1512, герцог де Немюр, граф д’Этамп и виконт Нарбоннский, знаменитый французский полководец периода Итальянских войн. 11 апреля 1512 г. нанёс сокрушительное поражение испанской армии под Равенной, но погиб во время преследования неприятеля.
(обратно)36
Жирные пополаны – расхожее для Италии наименование богатой прослойки горожан – пополанов (прямой аналог германского термина «бюргер»).
(обратно)37
Кароччио – повозка с установленным на ней знаменем. Характерная для средневековой Италии форма расположения боевого знамени – центр войскового построения.
(обратно)38
Бандольер – патронташ эпохи XVI–XVII вв. Представлял собой плечевую перевязь с пришнурованными деревянными тубусами, каждый из которых содержал порох для одного выстрела. В нижней части перевязи имелась пороховница и сумка с пулями. Распространилось данное приспособление в 1520 годах.
(обратно)39
Плакарт – нижняя часть классической двусоставной кирасы XV в. Буквально – набрюшник. Верхняя часть – пластрон – нагрудник. К 1520 гг. подобные защитные приспособления являлись анахронизмом.
(обратно)40
Uber Bern ist nur Gott – Выше Берна только Бог. (нем.)
(обратно)41
Караколле – букв. «улитка». Типичное построение мушкетеров Позднего Средневековья и Раннего Нового времени.
(обратно)42
Флаг с веселыми кругляшками – герб семьи Медичи: шесть червленых шаров на золотом поле. Поле традиционно выполнялось в виде конского налобника.
(обратно)43
Куза – боевая коса. Вид древкового оружия, когда на древко посредством втулки устанавливается клинок тесака или сабли.
(обратно)44
Mordhau – удар с верху вниз в германском фехтовании.
(обратно)45
Пьетро Торриджани (1472–1522 гг.) – итальянский ваятель, больше известный своими военными подвигами и ссорой с Микеланджело Буанарроти. В 1522 г. скончался в испанской тюрьме, куда был заключён по обвинению в кощунстве.
(обратно)46
Картон – эскиз шпалеры в натуральную величину.
(обратно)47
Клио – муза истории в греческой мифологии.
(обратно)48
Генрих Тюдор – имеется ввиду король Генрих VIII.
(обратно)49
Бенедетто Варка (1502–1565 гг.) – автор «Истории Флоренции» – добрый приятель Бенвенуто Челлини.
(обратно)50
Белокукольные савонарольцы – имеются ввиду последователи фра Джироламо Савонаролы – фанатичного проповедника-доминиканца (1452–1498 гг.), которые носили остроконечные капюшоны.
(обратно)51
Фрундсберг намекает на шутливое прозвание двуручной секиры «guttentag» – по-немецки буквально «добрый день».
(обратно)52
Герцог Новоземельский – Фрундсберг иронично переводит испанский титул Антонио де Лейва – герцог Терранова – буквально Новая земля.
(обратно)53
Фрундсберг имеет ввиду Камбрейскую лигу (1508–1509 гг.) – союз Франции, Германии, Испании и Ватикана против Венеции.
(обратно)54
«Счастливым Габсбургам» – Фрундсберг намекает на известное высказывание Рудольфа IV Габсбурга, который еще в XIII в. заповедовал своим потомкам: «Пусть другие воюют, а вы, счастливые Габсбурги, заключайте браки».
(обратно)55
Филипп Красивый – сын Маргариты Бургундской и Максимилиана I Габсбурга вышел замуж за Хуанну, дочь Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского – владетелей Испании. В результате, их сын Карл, после смерти Максимилиана I в 1519 г. династически стал обладателем Германии, Испании, Бургундии, впервые подойдя к осуществлению мечты о единой Европе.
(обратно)56
Te Deum laudamus – лат. Тебя Бога славим.
(обратно)57
На самом деле адмирала Франции звали Гийом Жоффруа. Кроме него в битве на реке Сезии участвовал граф де Сен-Поль.
(обратно)58
Бонсуар – искаженное французское «добрый вечер».
(обратно)59
Kazendrek – буквально: кошачье дерьмо – грубое немецкое ругательство.
(обратно)60
Мушкет отличался от аркебузы большим калибром и толщиной стенки ствола. Средний вес свинцовой мушкетной пули в среднем составлял 60 грамм и мог достигать 80 грамм. Подобный снаряд, посылаемый усиленной навеской пороха, на малых дистанциях (до 50 метров) гарантировано пробивал любые латы. На средних дистанциях (до 150 метров) прямому попаданию уверенно противостояли только самые качественные кирасы и шлемы, которые, в силу дороговизны, не были доступны большинству воинов. Все прочие детали доспеха мушкет пробивал на таком расстоянии почти в любом случае. Малая прицельность компенсировалась залповым огнем. Массовое использование мушкетов в течение десяти лет полностью изменило всю концепцию защитного вооружения в Европе.
(обратно)61
Хинете – название породы испанских коней, невысоких и очень маневренных. Со временем, лёгкая конница, в среде которой использовались такие лошади, получила название «хинете».
(обратно)62
Фокр – откидной крюк на правой стороне кирасы, служивший для поддержки тяжелого рыцарского копья. Появился в конце XIV столетия, а с начала XV стал обычным атрибутом европейской конницы.
(обратно)63
Игра слов – фамилия Гульди однокоренная с немецким словом «золото» – gold.
(обратно)64
Форбух – латный конский нагрудник.
(обратно)65
Скорпион – жаргонное название итальянской глефы с длинным клинком с углом на лезвии и далеко выдающимся крюком. На обухе всегда имелся шип. Заканчивалось оружие длинной гранёной пиковиной.
(обратно)66
Выездковый прием, когда лошадь по команде всадника подпрыгивает и бьет обоими копытами назад.
(обратно)67
Дестрие – боевой рыцарский конь.
(обратно)68
Шаубе – длиннополая одежда с широким рукавом из сукна на меху. Род современной шубы.
(обратно)69
Лэ из романа Ж.Фруассара (1337–1404\10?) «Любовный плен». Перевод М. Гринберга.
(обратно)70
Сервента итало-прованского трубадура Сорделя 1225–1270 гг. Перевод В. Дынник.
(обратно)71
Гештех и ренен – два основных вида турнирных схваток. Основное отличие состояло в том, что для гештеха использовали тупые копья и седла с высокой лукой, а для ренена – острые копья. Соответственно подбирались и латы: штехцойг для гештеха и ренцойг – для ренена. В описываемый период их начинают сменять «универсальные» доспехи с навинчивающимися на боевые гарнитуры турнирными усилениями – разными для каждого вида состязаний.
(обратно)72
Конрад шутит на игре слов. Sibentodt – название городка – с немецкого переводится дословно как «семь смертей».
(обратно)73
Рикасо – иначе «пята» – участок в основании клинка не несущий лезвий. В случае двуручных мечей, рикасо часто ограничивалось овергардой – треугольными, часто изогнутыми выступами, прикрывавшими руку, в том случае, если она выносилась на рикасо. Его, как правило, обтягивали кожей с подведенными деревянными щековицами, на манер рукояти.
(обратно)74
Братство Св. Марка – старейшее в Европе фехтовальное общество, организованное на манер цеха. В XVI в. существовало несколько подобных братств, контролировавших определённые территории. Преподавать фехтование официально можно было только после прохождения экзамена и получения патента в местном филиале братства.
(обратно)75
Dolce still nuovo – новый сладостный стиль. (ит.)
(обратно)76
Любек – название исходного славянского поселения, видимо, звучало как Любеч. Река Тарве, на которой стоит город, видимо, также носит искаженное славянское название.
(обратно)77
Вулленвевер Юрген – 1492–1537 гг. Глава бюргерской партии, захватившей власть в Любеке в 1531 г., свергнув традиционное патрицианское правление. Поддерживал церковную реформацию, а так же крестьян и бюргеров против засилья знати. Военные неудачи и отсутствие единой поддержки от городов Ганзы привели к свержению бюргерской партии в 1535 г. Ю.Вулленвевер был казнен.
(обратно)78
Рипост – контратака в фехтовании.
(обратно)79
Брэ – средневековое нижнее бельё – аналог современных трусов.
(обратно)80
Септима – седьмая защита в фехтовании. Шпага удерживается развернутой кистью, ладонью, обращенной к противнику. Острие направлено вниз. Как правило, эта защита закрывает нижний сектор: правую ногу изнутри, а так же низ живота.
(обратно)81
Сариссофорных фаланг – от слова сарисса – длинное македонское копьё.
(обратно)82
Апейрон – первоэлемент. Понятие, введенное греческим философом Аноксимандром.
(обратно)83
Дюсак, иначе, дюсаг – тесак. Как правило, тренировочное оружие. Короткий однолезвийный клинок с загнутым в дугу хвостовиком, формирующим своеобразную эрзац-гарду. Оригинальное германское приспособление. Могло изготавливаться так же из дерева.
(обратно)84
Die Trommel – барабан, нем. Pfeifer spill – игра флейты, нем.
(обратно)85
Брандль – средневековый танец, а точнее танцевальный стиль, включавший множество разновидностей. Был основан на шагах, невысоких па и прыжках. Чаще всего танцующие выстраивались хороводом. Пользовался популярностью в широкий исторический период XII–XVI вв.
(обратно)86
Миттельхау – поперечный удар в германских фехтовальных школах.
(обратно)87
Home, sweet home – дом, милый дом. (англ.)
(обратно)88
Торквемада Томазо – ок. 1420–1498 гг. Монах доминиканец, Великий инквизитор Арагона и Кастилии, а с 1486 г. Каталонии и Валенсии. Происходил из семьи евреев-выкрестов. Прославился исключительно жестокими преследованиями евреев и мусульман в Испании. При нём было сожжено около 10 тыс. человек. В 1492 г. добился изгнания иудеев из Испании.
(обратно)89
Тапуль – оформление передней части кирасы в виде остроконечного выступа, призванного создать наклонное расположение листов стали, для максимального рикошетирующего эффекта при попадании тяжелой пули. В 1530 располагались точно в центре нагрудника и отличались небольшими размерами. С 1540 гг. тапули заметно увеличились и стали располагаться в нижней части кирасы с общей тенденцией ориентации вниз.
(обратно)90
Альба, Фердинанд Альварес де Толедо (1507–1582) – испанский герцог, прославленный военачальник. Выдвинулся при правлении Карла V, возглавлял имперскую армию в годы Шмалькальденской войны 1546–1548 гг. Возглавлял подавление Нидерландской революции. В 1580 г. завоевал Португалию. Отличался фанатичной преданностью габсбургской монархии и католицизму.
(обратно)91
Фламенка – роман неизвестного провансальского автора XIII в. Яркий образец куртуазного романа средневековья. Главные герои Гийом (любовник) и Арчимбаут (муж) противопоставляются друг другу. Любовь соперничает с ревностью, выставляя последнюю, как низкое чувство, с любовью несовместимое. Издано в переводе А.Г.Наймана. Москва «Наука» 1983.
(обратно)92
Мораны – евреи-выкресты (принявшие христианство). Часто поднимали восстания против притеснений испанской инквизиции и королевской власти. Восстания жестоко подавлялись.
(обратно)93
Метемпсихозис – переселение душ.
(обратно)94
Hiho de peruenta puta, cabron! – Сын гнойной шлюхи, козел. (исп.)
(обратно)95
Пауль Гульди читает буквы латиницей.
(обратно)96
Спахи – тяжелая конница Османской империи из числа ленного ополчения.
(обратно)97
Конница – любое иррегулярное формирование. Кавалерия – регулярное конное войско. Собственно, во времена Пауля Гульди кавалерии в полном смысле вообще не существовало, её оформление относится лишь к середине XVI столетия.
(обратно)98
Филиппо де Барини по прозвищу Негроли (1510?-1579) – представитель четвертого поколения знаменитой династии миланских платтнеров. Один из лучших оружейников своего времени. Особой известностью обязан не только боевым доспехам, но и парадно-церемониальным. Одним из первых освоил технику высокой чеканки по стальным латам. Является признанным родоначальником моды на доспехи «а ля Романа». Участвовал в походе на Тунис в качестве личного оружейника Карла V.
(обратно)99
Питер ван Эльст (1502–1550); Ян Корнелий Вермейен (1500–1559) – известные голландские живописцы.
(обратно)100
Картон – название живописного полотна, по которому изготавливались шпалеры и гобелены.
(обратно)101
Больверк – привратное укрепление. Обычно имело круглую или многоугольную форму, служило для предохранения ворот от орудийного огня.
(обратно)102
Fiken scheisse – траханное дерьмо (нем.)
(обратно)103
Чинкведеа – типичное итальянское городское оружие. Длинный кинжал или короткий меч с чрезвычайно широким в основании подтреугольным клинком. Как правило, ширина равнялась ладони, что и дало название от слова пятерня. Известно с конца XV века.
(обратно)104
Кальдершток – рулевое устройство на судах до 1700 гг., когда был изобретен штурвал.
(обратно)105
Пётр – имя буквально переводится с греческого как «камень».
(обратно)106
Калатаюд – местечко в Испании, где размещалась знаменитая мастерская по производству доспехов. Три птичьих следа – одно из распространенных клейм Калатаюда.
(обратно)107
Credo – Символ Веры.
(обратно)108
Pater Noster, Ave Maria – Отче наш и Богородица Дево, Радуйся.
(обратно)109
dura lex, sed lex – Закон суров, но это закон. (лат.)
(обратно)110
Esse homo – я человек. (лат.)
(обратно)111
Farewell – прощай. (англ.)
(обратно)112
Баччо Бандинелло – популярный скульптор – конкурент, недоброжелатель и завистник Челлини.
(обратно)113
Буаччо – буквально – бычара.
(обратно)114
Школа – Челлини подразумевает Флорентийскую Академию Изящных Искусств, существующую по сей день.
(обратно)115
Джованнбатисто Тассо – известный флорентийский резчик по дереву и архитектор – автор здания Нового рынка.
(обратно)116
Желанный – точный перевод имени Бенвенуто.
(обратно)117
Фазовый переход – критическое состояние материи, когда она значительно изменяет свои физические свойства при сохранении свойств химических. Например, расплав металла под воздействием высокой температуры.
(обратно)





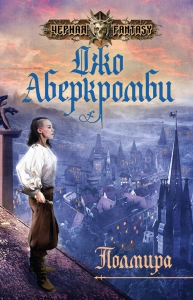



Комментарии к книге «Солдат императора», Екатерина Антоненко
Всего 0 комментариев