Генри Лайон Олди Восставшие из рая
В жизни все не так, как на самом деле.
Станислав Ежи ЛецКнига первая Попавшие в переплет
Сага о разобранной крыше
И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: – Голым профилем на ежа не сядешь!..
Михаил БулгаковГлава первая
О, верните крылья! Мне пора! Умереть, как умерло вчера! Умереть задолго до утра!.. Ф.-Г. Лорка…А угрюмый Бакс все тащился за мной, по щиколотку утопая в прошлогодней хвое, и с каким-то тихим остервенением рассуждал о шашлыках, истекающих во рту всем блаженством мира, о поджаренном хлебе на горячем шампуре, о столовом красном в пластмассовом стаканчике, и о многом другом, оставшемся в рюкзаках, оставшихся в байдарках, оставшихся у места стоянки на берегу… и Талька молчал, устав спрашивать меня – папа, а скоро мы выйдем обратно?
Скоро, сынок… и я двигался, как сомнамбула, поглядывая на хмурящееся небо, на завязанные в узлы стволы чахлых сосен-уродцев, и никак не мог понять, что же меня раздражает больше – злобная безысходность леса, болтовня Бакса или всепрощающая покорность моего измученного сына.
Черт нас дернул потащиться искать хутора! Ехидный, лохматый черт, нашептавший в ухо идею прикупить сальца, молодой картошечки и крепчайшего местного самогона на пахучих травках, – чтоб тебя ангелы забрали, искуситель проклятый!
– Крыша, папа, – тихо сказал Талька, и я не сразу понял, о чем это он, а потом на нос мне упала холодная скользкая капля, и еще одна, а Бакс заорал от радости дурным голосом, схватил Тальку за руку, и все мы кинулись через искореженный подлесок – туда, где в просвете между деревьями мелькнула серо-стальная черепица остроконечной крыши.
Мы бежали, оступались, гремели банками и бидонами, а неспешный дождь щелкал вокруг нас мокрой плетью, и мы влетели на хутор, влетели в этот оазис цивилизации – пять домов-изб, один флигель и с дюжину всяческих пристроек – и через десять минут вся наша радость бесследно улетучилась.
Хутор был пуст. Не заброшен, а именно пуст. И в одном из незапертых домов, куда мы самовольно вошли, на кухне стояла кастрюля с холодным гречневым кулешом. Примерно вчерашним. Съедобным.
– Тайна «Марии Целесты», – пробормотал Бакс, протирая очки полой рубашки. – Бермудская деревня. Гигантский гриб-людоед…
– Крысолов из Гаммельна, – немедленно подхватил эрудированный Талька. – С дудкой. Пап, теперь твоя очередь…
Я промолчал. Не нравился мне этот хутор. Особенно флигель, где кто-то глухо стонал. Бакс заткнулся, глядя на меня, прислушался, и, судя по выражению его лица, ему все это тоже не понравилось.
– Пошли, Анджей, глянем, – предложил Бакс и, не дожидаясь ответа, двинулся первым. Я переставил зашипевшего было Тальку себе за спину и тоже направился к флигелю. Дождь оживленно заскакал вокруг нас, приплясывая и брызгаясь, но я не понял причин его веселья, пока не вошел в полуоторванную дверь, – и дождь вошел следом.
Крыша флигеля была разворочена вдребезги, и серое небо просачивалось сквозь дыры между балками перекрытий и обломками черепицы. Мебель – если драный тюфяк на деревянной подставке, рассохшуюся тумбочку и кучу мелкой ерунды можно назвать мебелью – была дряхлой, сморщившейся и хрипло дышала на ладан.
Как и сухонькая старуха, лежавшая на тюфяке.
Талька испуганно засопел за моим плечом. Бакс зачем-то пригладил мокрые волосы и стал ожесточенно копаться в своей всклокоченной бороде.
– Здравствуйте, бабушка, – ни к селу ни к городу заявил мой сын.
Бабушка разлепила один глаз, оказавшийся неприятно хищным и цепким, оглядела всю нашу компанию и зашлась сухим, резким кашлем.
Я попятился, а в голову лезла всякая дурость, вроде «ты меня накорми, напои, в баньку своди… что там еще?.. самогону нацеди…».
Бакс открыл рот, закрыл его, снова открыл – и лучше бы он этого не делал.
– Что вы здесь делаете, женщина? – командирским тоном осведомился Бакс.
Бабка пожевала впалыми губами, заворочалась и попыталась оторвать голову от тюфяка.
– Помираю я, – натужно прохрипела она и после долгой паузы добавила: – Здесь…
Налет нервного хамства мигом слетел с Бакса. Он вообще-то парень отличный, с понятием, и безотказный до упора – но часто реагирует на ситуацию неадекватно, за что и страдает. Девушки в наше время не любят чрезмерно порядочных… впрочем, Ася его любила.
– Может, «Скорую» вызвать? – робко предложил Талька и стал озираться в поисках телефона. Что поделаешь, городской ребенок…
Пора было принимать волевое решение. Я приблизился к ложу, присел подле старухи – и меня поразил запах, стоявший у смертного одра. Чистый, прохладный запах ночного озера со спящими кувшинками и серебряным плеском рыбы… Странная ассоциация, совершенно не к месту – но тогда она не показалась мне странной. Я подумал, что в таком месте в голову и должны приходить ненормальные мысли, и тут же возникло ощущение, что все мы – и я, и Талька, и Бакс, и старуха – запутались в некоей бесконечной и туманной паутине, причем совершенно неясно, кто мы – пауки, мухи или сошедшие с ума туристы и выжившая из того же ума полудохлая Яга…
Ощущение мелькнуло и погасло, оставив после себя легкий холодок.
– Люди-то где, хозяйка? – мягко поинтересовался я, касаясь лба старухи.
Бакс и Талька придвинулись ближе, и мой сердобольный наследник опустился на корточки, тронув свесившуюся вниз узкую руку с синими старческими венами.
Бабка покосилась на Тальку, и я вздрогнул, увидев ее хищно-ласковый взгляд и костлявые пальцы, дернувшиеся в сторону и словно помимо воли хозяйки сомкнувшиеся на запястье мальчишки; и я еще подумал, что так, наверное, смотрит голодная рысь на свое потомство.
– Ушли люди… Сказано ведь – помираю я… вот и ушли… все… ушли, сынок… и вы бы уходили…
Она все держала Талькино запястье, слабо дергая плечом, будто пытаясь оторвать непокорные пальцы; и сухонькое старушечье тело внезапно напряглось, натянулось струной, связующей нитью между белобрысым мальчишкой тринадцати лет от роду и чем-то неясным, неведомым, что дрожью обожгло мне ладонь, когда я трогал бабкин лоб.
Я только никак не мог понять, откуда во мне это брожение мыслей и полное отсутствие брезгливости, – а она-то должна была быть, уж я себя знаю…
Бакс потоптался и решительно двинулся в обход импровизированной кровати.
– Давайте-ка ее в дом перенесем. Слышишь, Энджи, берись с той стороны… под крышу ее надо, дождь ведь, а тут разворотили все не по-людски, гады, и смылись…
– Не надо под крышу, – шептала старуха, пока мы с Баксом бережно поднимали ее. – Не надо… под крышу… оставьте… черт вас принес, ироды… оставьте…
Голос прервался, и вся она сразу стала гораздо тяжелее.
– Она умерла, – с недетской уверенностью сказал Талька. – Папа, дядя Бакс, положите ее здесь. Не надо ее никуда уносить. Честное слово, не надо…
И я понял, что он прав.
Глава вторая
Глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. Ф.-Г. ЛоркаЛес изменился. Он не стал реже или приветливей, зато теперь я точно знал, куда нам надо идти. Довольно далеко, до излучины, а там еще вдоль реки к байдаркам – но в направлении я почему-то не сомневался. Словно компас проглотил…
– Талька, – спросил я, – куда пойдем?
– Туда, – махнул рукой мой сын, не задумавшись ни на минуту. – А потом налево по берегу…
Бакс только облизал губы и кивнул головой.
Старуху мы похоронили за флигелем – в сарайчике нашлась лопата и брезент, заменивший и саван, и гроб; Бакс соорудил грубый крест, а Тальку я отогнал подальше, но он все равно подглядывал из-за угла флигеля – в общем, все как положено, только вот я не знал, так оно положено или совсем не так.
Молитв мы не помнили, никаких документов не нашли, а Бакс зло плюнул и сказал, что вечером обязательно помянет покойницу, а в окружном магистрате сообщит кому следует.
Так что мы пошли обратно, набивая имевшуюся у нас тару свежими маслятами, невесть откуда взявшимися и бросающимися буквально под ноги, – но настроение все равно было пакостным, хотя дождь притих, и между серыми обрывками туч стало проглядывать некое подобие солнца.
Потом Талька обнаружил какую-то птицу, сизую, скрипучую и нахальную, и они с Баксом заспорили, как та называется, а я отстал, но Бакс вскоре подошел ко мне и начал молча ковырять палкой землю. Так мы и стояли и молчали, пока Талькин крик не сорвал нас с места, и пока я бежал, спотыкаясь и моля Бога прекратить сегодняшний дурацкий эксперимент, – я снова ясно увидел паутину, кишевшую чем-то живым, и от мест пересечения волокон исходила уже знакомая мне дрожь, заставляя вибрировать всю бесконечность нитей; превращая паутину в белесый туман, сквозь который просматривалась нелепо-черная сердцевина…
Сосны разбежались в разные стороны, до пояса утонув в клочьях налипшего тумана, и мы оказались на опушке – если можно представить себе опушку, возникшую прямо в середине леса. Выходит, можно – потому что все остальное представить себе было гораздо сложнее.
Огромная толпа народа, словно сбежавшая массовка из плохого фильма про средневековые крестьянские бунты; вкопанный в землю и обложенный взъерошенными вязанками хвороста столб, к которому…
Даже на расстоянии ошибиться было невозможно. У столба полувисела на невидимых из-за дальности веревках давешняя старуха из флигеля. Которую мы два часа назад успешно похоронили. Или ее сестра-близнец.
Из толпы – я уж потом сообразил, что вся ситуация развивалась совершенно беззвучно, – вышел кряжистый мужик с взлохмаченной бородищей и медленно двинулся к столбу, помахивая вяло разгоравшимся факелом.
Он шел и шел, а я стоял и стоял, пока вопль Бакса не встряхнул меня, прервав оцепенение:
– Энджи, бери факельщика!..
Это была одна из немногих ситуаций, на которые Бакс реагировал мгновенно и адекватно. Я еще только разворачивался да примеривался, а он уже пронесся мимо Тальки, с ужасом глядевшего на женщину у столба, и врезался в толпу.
И мне не осталось ничего другого, как кинуться следом.
– Папа, да сделай хоть что-нибудь! – ударил мне в спину истошный крик моего сына.
Мы неслись сквозь плотный тягучий туман, и люди по мере нашего продвижения в их массе таяли, превращаясь в ничто; а я все бежал, пронизывая бесплотную толпу, пока не врезался лбом в возникшую передо мной сосну и не свалился на землю.
Лежа, я зачем-то кинул в бородача с факелом шишкой, и она пролетела через него, в районе груди, попав в Бакса, – который, по всей видимости, промчался сквозь факельщика и последовал моему примеру, чувствительно войдя в соприкосновение со стволом дерева.
Два здоровых мужика, беспомощные, как младенцы, сидели на сырой земле и, кусая губы, смотрели на призрачного бородача, как тот делает шаг к столбу со старухой… поднимает факел над головой… и мне вдруг мерещится, что у столба вовсе не старуха, а моя жена, оставшаяся с байдарками, а на палаче развевается широкое бело-серебряное одеяние…
– Папа, да сделай хоть что-нибудь!
Топот конских копыт позади меня громом прокатился по лесу – и я весь сжался, ожидая, что это будет первый и последний звук – первый за все время этой невероятной казни и последний в моей жизни… и я еще успел увидеть, как факельщик недоуменно оборачивается…
Словно выключили невидимый кинопроектор – ни столба, ни дядьки с факелом, ни толпы, ни опушки. А на том месте, где только что была груда вязанок хвороста, росла семья молодых маслят. Глянцевых, упругих и наверняка не червивых.
Во всяком случае, мне так показалось.
Бакс встал, пнул грибы ногой и изо всех сил ударил кулаком в дерево, разбив руку в кровь. Потом он коротко всхлипнул, провел тыльной стороной ладони по лицу и стал похож на рыжего клоуна. На плачущего рыжего клоуна.
– Сволочи, – ни к кому не обращаясь, выдавил Бакс. – Мрази поганые… Ишь, расколдовались…
– Папа, – тихо спросил подошедший Талька, – ты очень больно ударился?
– Сволочи, – еще раз буркнул Бакс.
– Кто? – я попытался улыбнуться и не смог.
Он не ответил.
…Через два с половиной часа мы вышли к байдаркам. Моя жена чуть не убила нас всех, но мы покорно выслушали ее аргументы в пользу нашей общей никчемности и бестолковости и принялись готовить еду.
До вечера мы почти не разговаривали. А перед самым сном мы с Баксом выпили по два стаканчика. Молча.
Талька сидел рядом.
Глава третья
Люди шли за летом, осень – следом. Ф.-Г. ЛоркаПоследующие пять дней были до отказа заполнены сбором ягод, рыбной ловлей, мозолями от весла и прочими прелестями жизни. Бакс учил Тальку каким-то немыслимым приемам, супруга моя истекала счастьем и покоем, что с ней случалось отнюдь не часто, я добросовестно разделял это благостно-расслабленное состояние, но в действительности не мог отпустить себя ни на секунду.
Во-первых, меня беспокоил Талька. На поляне, усыпанной спелой земляникой, он мог застыть, как истукан, уставясь на неведомый стебель местного лопуха и морща лоб, словно он (Талька, а не лопух!) видит старого знакомого и никак не может вспомнить, как того зовут. И место для стоянки он определял теперь безошибочно – без комаров, с подветренной стороны; и вообще…
Во-вторых, меня беспокоил Бакс. Он ходил, словно отравленный, и временами мне казалось, что в добром толстом дяде Баксе кипит скрытый котел с плотно пригнанной крышкой, и надо бы успеть увернуться, когда тот взорвется.
Со мной раньше случалось нечто подобное. Это когда какому-нибудь гаду надо было дать по морде, а ты не дал – по причинам социальным, этическим или просто от интеллигентской трусости – и потом ходишь, как дерьма наелся, все это перевариваешь, если не сбрасываешь на кого-то безвинного и случайно подвернувшегося под руку.
Бакс называл это… не помню уже как, но это именно оно и было.
В-третьих, меня беспокоил я. Я видел туманную паутину. Я видел ее раз пять-шесть; более того, я чувствовал нашу зависимость от ее колыхания. Дернется нить, и рыба на вечерней зорьке клевать не будет, сколько ни прикармливай и ни чертыхайся шепотом. Или грибов сегодня есть не следует, а следует давиться макаронами, потому что волнение прошло по дальним волокнам, и легкая рябь соизволила докатиться до нас.
Я морщился, как от головной боли, тайно глотал пенталгин и видел проклятую паутину; Инга поглядывала на меня с недоумением, а Талька – с сочувствием.
А когда мы добрались до Браншвейга и Бакс тут же отправился в местную ратушу, а потом вернулся оттуда злой до бледности и долго показывал мне, не стесняясь Тальки, что бы он сделал с местными бюрократами, не желающими приподнимать свои толстые задницы, – я занервничал до рези в желудке.
Я понял, что чувствуют марионетки, когда их достают из сундука.
– Баксик, – сказал я, – берем билеты и едем домой. Дома хорошо, дома есть пиво и телевизор, дома есть мягкий диван – и никаких галлюцинаций. Мы берем отличное купе на четверых и немедленно едем домой. Ты понял меня, Баксик? Мы идем с тобой в кассы, достаем из кармана бумажник…
– Да, – ответил Баксик – нет, незнакомый и суровый Бакс. – Да, пора домой. Ты, Энджи, идешь в кассы, берешь три билета, ты берешь Ингу, Тальку и одну байду, и вы все вечером мотаете отсюда к пиву, дивану и такой-то матери от греха подальше. Займешь мне место на диване и купишь лишний литр пльзеньского. Жди меня, Энджи, и я вернусь. Позже.
– Хорошо, – сказал чей-то холодный и спокойный голос, и я с удивлением обнаружил, что этой мой собственный голос. – Хорошо, Баксик, но не совсем так. Я беру два прекрасных билета, и Инга с Талькой едут налегке. Я иду в кассы, не спуская с тебя пристального взгляда, я иду в кассы…
– Папа, ты возьмешь один билет, – Талька крепко сжал мою руку и улыбнулся чужой, взрослой улыбкой. – Один билет для мамы. Иначе я ей все расскажу. Все-все…
И я пошел в кассу и взял один билет. До сих пор не понимаю, как мне удалось уговорить Ингу уехать.
Но я это сделал.
Глава четвертая
Мама, хотел бы я стать серебром. Холодно будет, сынок. Ф.-Г. ЛоркаЗлосчастный хутор нашелся как по заказу. Еще с первой секунды, когда мы только выволокли лодки на берег и решали, ставить или не ставить палатку, – Талька сразу взял след и двинулся по нему напористо и целеустремленно, вроде хорошего сеттера. Я только диву давался и временами трогал карман рюкзачка, где у меня среди прочего барахла болтался походный топорик с заново выправленной заточкой. Вот спросите меня, спросите – зачем я взял с собой эту штуку, да еще полночи провозился над его упрямым лезвием? – спросите меня, или нет, лучше не спрашивайте, потому что я вам все равно не отвечу.
Взял и взял. И все. На всякий случай.
Я предполагал, что случаи – и всякие, и особо оригинальные – не заставят себя ждать. Не то чтобы это приводило меня в восторг, но…
Это «но» включало в себя многое. Косой крест над могилой сумасшедшей старухи, мою захлебывающуюся ярость, факел в руках бесплотного палача, глаза Бакса на вокзале… Я не знал, зачем я иду, но за чем-то я шел наверняка.
Иначе до конца дней своих я буду видеть паутину, бояться паука и радоваться тому, что я не муха или хотя бы не ближайшая на очереди муха. Радоваться, захлебываясь сырым и липким туманом.
И напиваться перед сном. Чтобы не слышать срывающийся крик моего сына:
– Папа, да сделай хоть что-нибудь!..
Я собирался сделать хоть что-нибудь.
…Ветер, как игривый котенок, трепал струйки дыма над кирпичными трубами, два молодых парня помогали беременной женщине тащить тазы с мокрым бельем, три тощих козы глодали всякую дрянь, временами косясь на расслабленного козла с мордой арабского шейха; и вообще хутор выглядел обжитым и благоустроенным.
– Смотри, – толкнул меня локтем Бакс, и я увидел лохматого детину, заново крывшего крышу уже знакомого нам флигеля. В зубах у детины были зажаты гвозди, и новоявленный кровельщик уставился на нас так, словно полдня мечтал эти гвозди проглотить, а наш приход нарушил все его планы.
У входа во флигель на крылечке сидел унылый и весьма пожилой фермер с патриархальной бородищей и приводил в порядок какую-то мешанину невероятных ремней и пряжек. Где-то я уже видел эту бороду… да нет, не может быть…
Я глядел на эти ремни, вспоминал, как пишется слово «чресседельник», и понимал, что говорить не о чем.
Абсолютно не о чем.
– Пошли отсюда, Бакс, – сказал я.
Он кивнул.
Талька выпустил мою руку и решительным шагом направился к фермеру. Тот поднял голову и воззрился на приближающегося мальчишку. Глаза фермера бегали, моргали, хмурились – словно им, выцветшим заплывшим глазкам, ужасно не хотелось глядеть на пацана в шортах и голубой футболке. Они даже слезились, эти странные глаза…
Глазам не хотелось, а хозяин их заставлял. Впервые я почувствовал, что значит на самом деле «глаза б мои тебя не видели».
– Ганцю! – неожиданно заорал фермер хриплым басом. – Ганцю, иди сюда! Живо!..
Беременная женщина перестала вешать белье и вперевалочку подошла к крикуну. Подошла, глянула на Тальку, на бородатого (мужа? отца?) и быстро опустила взгляд. Я только успел заметить искорку суеверного страха, вспыхнувшего в холодной золе ее серых глаз.
– Ну что? – на полном серьезе спросил фермер, обращаясь к Тальке. – Родит?
– Родит, – так же серьезно ответил мой сын. – К ноябрю родит.
– Кого?
– Девочку.
– Как назвать?
– Сами знаете как…
Фермер резко встал. Уронил свою упряжь. Сунул пальцы за опояску. Переступил с ноги на ногу. Снова сел. Закашлялся.
– А может… – начал было фермер севшим голосом, но Талька грубо перебил его.
– Сами знаете как, – повторил он. – И не вздумайте увильнуть. Хуже будет…
Талька замолчал и вернулся к нам. Беременная женщина зашла в дом, пробыла там с минуту и вернулась с трехлитровой банкой желтоватого самогона (запах мгновенно распространился во все стороны) и увесистой сумкой.
Она передала все это добро фермеру, а тот прохромал к Баксу и сунул ему в руки банку и сумку.
– Уходите, – добавил фермер, и в голосе его промелькнуло неуместное и неприятное сочувствие. – За крест спасибо. А так… Уходите.
И мы ушли.
Глава пятая
В токе враждующей крови над котловиной лесною нож альбасетской работы засеребрился блесною. Ф.-Г. Лорка– Ты знаешь, Энджи, – минут через двадцать заговорил Бакс, – по-моему, я сошел с ума.
– Поздравляю, – хмуро бросил я. – Крайне своевременно.
– Более того, я совершенно уверен в том, что ты тоже сошел с ума. Вот скажи мне, Энджи, – только честно! – тебе хочется пить ту сивуху, которую нам презентовал местный дремучий варвар?
Я подумал.
– Нет, не хочется, – честно ответил я.
– И мне не хочется. Я боюсь. Я трезв, как стеклышко, но при этом мне все время кажется, что старая ведьма вот-вот высунется из-за ближайшего дерева, и нам придется хоронить ее заново. Я боюсь, что с утра поднимется туман, и мы заблудимся в нем и выйдем на ту сторону, откуда уже не будет дороги домой; и боюсь кого-то, кто ожидает на той стороне…
Я остановился.
– Талька, – сказал я. – Пойди погуляй. Вон к тем соснам. На пять минут.
Когда мой надувшийся сын оставил нас с Баксом наедине, я скинул рюкзак с плеч, опустился рядом с ним на землю и посмотрел на Бакса снизу вверх.
– Бакс, – спросил я, – почему ты назвал покойницу ведьмой?
– Ну… не знаю. К слову пришлось…
– Не морочь мне голову. Ты что, слышал когда-нибудь, как умирают настоящие ведьмы?
– А как они умирают? – ошалело поинтересовался Бакс. – В три этапа?
– Так, с тобой все ясно… Ты честный, трудолюбивый горожанин, ты можешь быстро приколотить вешалку и отремонтировать телевизор. А я вот, как лентяй и оболтус-гуманитарий, предпочитаю диван с книжкой. Ты не тратишь времени попусту, а я трачу. И я читал – не помню уже где, – что ни одна природная ведьма не может умереть под крышей. Под крышей, Бакс!.. Кроме того, она будет мучиться до тех пор, пока не передаст свой дар, или что там у нее внутри, кому-нибудь другому по наследству.
– Ну и что?
– А то, что мы все прикасались к старухе перед смертью. А Тальку она даже держала за руку! Весь хутор удрал, чтобы не присутствовать при ее кончине, а нас, как назло, черт дернул заблудиться!.. Три заезжих городских богатыря на распутье! Помнишь небось, как оно в сказках-то? Направо пойдешь, налево пойдешь, но идти волей-неволей приходится! – иначе мы будем кусать губы от бессилия, видя то, во что не можем вмешаться. Это ад, Бакс, или хуже ада…
– А может, и не стоит ни во что вмешиваться? Поедем домой – и гори оно все!
– …Папа! Ну папа же!.. Дядя Бакс!..
Я обернулся.
Талька стоял метрах в двадцати от нас в окружении пяти парней. Местных. Одного я узнал сразу – это был тот самый лохматый верзила, который пялился на нас с недочиненной крыши флигеля. В зубах он на сей раз держал не гвозди, а дымящуюся папиросу, а в руках – знакомую мне сумку и банку с дареным самогоном. Зачем Талька поволок все это с собой – я не знаю, но у него явно отобрали добычу, и мой сын был донельзя возмущен.
– Папа! Да идите же сюда!..
Мы подошли. Бакс мгновенно вписался в круг и оказался рядом с Талькой, а я остался снаружи и расстегнул клапан рюкзака. По возможности незаметно.
Парни заржали. Лохматый поставил банку на пень и сказал в пространство с той ласковой интонацией, которая обычно предшествует глобальным дракам:
– Сдурел батя… совсем свихнулся на старости. Такое добро раздавать кому ни попадя – а вы, ребятки, идите, идите себе, вам пить вредно, а ходить полезно…
И тогда я вновь увидел туман-паутину. Я увяз в ней с руками и ногами, я не мог шевельнуться и только смотрел, как вязкие нити неизбежности опутывают нас – нас всех! – и за спинами парней в воздухе словно проявляется огромный фотоснимок…
…Два гиганта застыли в неудобной, противоестественной позе. Один из них – светловолосый, с пустым мутным взглядом – сидел на корточках, вцепившись в какой-то тюк, а второй навалился ему на спину, захлестнув мощную шею удавкой; а за ними постепенно возникала стена, дверь, коридор, и люди в незнакомых мне темных накидках…
Паутина вцепилась в нас, не давая двинуться, вдохнуть, и я мог лишь смотреть, ожидая того мига, когда нити оживут и марионетки беспомощно задергаются; смотреть и слушать Талькин звенящий голос.
– Это тебе пить вредно! Дылда волосатая!.. У тебя вся печенка сгнила! Ты умрешь через двенадцать лет, но умрешь не сразу… ты долго будешь кончаться, ты будешь волком выть, а от тебя все ножи спрячут… и веревки спрячут…
Я рванулся, но туманные нити держали властно и цепко. Краем глаза я видел, как белеет Бакс, переглядываются парни и лохматый сует руку в карман; а потом в его руке оказался складной рыбацкий нож, и лохматый принялся зубами открывать его, не спуская с Тальки ненавидящих глаз.
– Что, бабка, – шипел он сквозь стиснутые зубы, – стерва костлявая… Мало здесь покомандовала? С того света тянешься?! Врешь, не дотянешься, не достанешь, падла… врешь…
Нож раскрылся с сухим щелчком, паутина пришла в движение, светловолосый гигант из видения взметнул над головой свой тюк, попятились парни и люди в темных накидках; я услышал крик и не сразу понял, что кричит Бакс.
Я не знал, что он может кричать так громко. Так громко и так страшно. А потом он взорвался.
Из Бакса как-то сразу выросло очень много рук и ног, под самыми неожиданными углами; парни запутались во всем этом разнообразии и легли на землю, корчась и постанывая, нож лохматого вонзился в сосну и злобно задрожал, а сам лохматый упал на колени, визжа недорезанным боровом и хватаясь за низ живота…
Бакс неподвижно стоял среди извивающихся тел, а позади него стоял яростный призрак, стоял и таял в смоляном воздухе леса… и я отчетливо услышал звук, похожий на стук резко захлопнувшейся книги.
Я схватил Тальку за руку – и мы побежали.
Мы бежали, и Бакс прижимал к груди злополучную банку, а из-под неплотно пригнанной крышки в лицо ему все плескала одуряюще пахнущая жидкость, заливая очки, лоб, слезами стекая по щекам…
Глава шестая
Рыдали седые реки, в туманные горы глядя, и в замерший миг вплетали обрывки имен и прядей… Ф.-Г. Лорка…Костер гудел хоралом Баха. Есть у покойного Иоганна Себастьяныча такой хорал – уж не помню, за каким номером, – где главная тема ведется в басах, и они топчутся по твоей душе, как слепой японский массажист, выдавливая боль, тоску, усталость, пока не остается лишь тихое, прохладное, ночное настроение…
Бакс сидел у самого огня, изредка ковыряясь палкой в прогоревших ветках, и сполохи пламени вычерчивали на его лице непривычный и незнакомый рисунок. Жесткое было лицо, мужское, и по-хорошему мужское, и по-плохому, и по-всякому… Прямые волосы падали на лоб, и он отбрасывал их резким коротким движением, будто отгоняя надоедливую муху; отбрасывал, хмурился и плотнее сжимал губы.
Я смотрел на него, а сам пытался вспомнить, как выглядит трамвай. И не мог. Не было сейчас городской сутолоки, будильников и телефонных звонков: прошлого не было и будущего не было, а было настоящее, наше настоящее, – рядом с которым все остальное выглядело подделкой, фальшивым камнем в тускнеющей оправе. Настоящее сидело с нами у огня, оно мелькало в черноте провалов между сосен, брызгало светом в глаза Баксу, двигало пальцами моего сына, перебиравшими какие-то собранные корешки, ветки, листья… гриб еще маленький… мухомор, что ли?
– Рожден не как все, – сказал Бакс, и тишина рядом с ним вздрогнула, – живет не как все… творит суд не по обычаю, веселится по-чужому, воюет в одиночку и умирает по-своему…
– Что это? – спросил я.
– Не знаю. Тоже читал где-то. Или слышал… Или сейчас придумал.
Талька взял мухомор и два корня, повертел их в руках и, не размахиваясь, швырнул в костер. Запахло горелой плотью. Стеклянный от жара воздух над огнем колыхнулся, дробясь зыбкими отражениями, и замер. Потом снова задрожал, потому что в костер упала ветка… еще одна… гриб…
– Зачем, Таля?
– Надо, – ответил мой сын.
Он встал, медленно отошел к границе, за которой начиналась темнота, разбежался и прыгнул через костер. Прыгнул молча, сосредоточенно, будто выполнял важную и необходимую работу. Приземлившись на той стороне, Талька с минуту постоял, бормоча что-то себе под нос, швырнул в костер пригоршню сухой прошлогодней хвои и снова взял разбег.
Он прыгал и прыгал с упрямством фанатика, а мы с Баксом следили за этим монотонным действом, дыша пряным дымом, щуря покрасневшие глаза, боясь оторваться от угловатой фигурки, мечущейся в дыму, словно творившей некий зловещий и прекрасный обряд; мы завороженно поворачивали отяжелевшие головы, не в силах вмешаться, нарушить, прекратить – и пропустили то мгновение, одно из многих, когда он исчез.
– Талька!..
Тьма за соснами рассмеялась и захлопала в ладоши.
– Талька-а-а-а!..
И звон лопнувшей струны.
Я метнулся вперед и всем телом ударил в горячее дымное стекло, в густой и подрагивающий студень, проглотивший долгожданную жертву; дым разбился вдребезги, изрезав меня осколками, и последнее, что видел я, проваливаясь в чадящее, липкое безумие, – Бакс, суровый, яростный Бакс, разбегающийся от границы тьмы и света, границы прошлого с настоящим; границы, грани, обрыва… и небо между ветками сосен, до ужаса похожее на разобранную крышу…
Интермедия
«РХ-131АС4. 28.VII.93 г. егерем Пфальцского лесомассива при осмотре участка ВС-3, пострадавшего в результате пожара (согласно сводке от 25.VII.93 г. за № 35/24) были обнаружены тела трех человек в сильно обгоревшем состоянии. Предположительно двое мужчин тридцати-сорока лет и подросток. Личности установить не удалось, опрос местного населения результатов не дал. В пяти километрах южнее места происшествия, в прибрежной полосе реки Маэрны, найдена стоянка в заброшенном…»
Сага о совсем другом месте
И услышится голос Бога, вопрошающего Ад: «Полон ли ты?» И Ад ответит Богу: «Еще, дай мне еще!..» КоранНад хутором занималась заря. Тускло-багровое солнце медленно выползало из-за дальних холмов, и от растущей на отшибе одинокой сосны к хутору протянулась длинная синеватая тень. Тень безуспешно старалась подтянуть хутор поближе к опушке, но это ей никак не удавалось – как, впрочем, не удавалось и многие разы до того; но тень не оставляла своих попыток. Может быть, на этот раз…
…Старик проснулся рано. Он всегда просыпался рано, долго ворочался на жесткой лежанке, временами замирая и настороженно вслушиваясь в предутреннюю тишину. Наверное, ему было уже далеко за семьдесят, но старик давно потерял счет своим годам – да и то сказать, к чему их считать, если моложе все равно не станешь? Глубокие резкие морщины избороздили его обветренное лицо, лицо человека, привыкшего ко всему – и к ветру, и к дождю, и к злобе людской, – но прятавшиеся под кустистыми бровями хитрые глаза нет-нет да и вспыхивали огоньком былого интереса ко всему, что вокруг. Стар был Черчек, стар, но крепок, не угас в нем еще тот огонь, который… Вот тот самый огонь.
Что-то полыхнуло в лесу – резко и ослепительно, на миг затмив еще не до конца выползшее из-за горизонта солнце, – и старый Черчек невольно зажмурился, вскидывая к глазам корявую ладонь.
– Ну вот, еще кто-то, – пробормотал старик, запустив пятерню в нечесаную бороду, на удивление только начавшую седеть всерьез.
– Небось опять бедолага какой… Лица Лишенный. Хотя нет, уж больно сильно полыхнуло… Никак Помнящий!
С этого момента действия Черчека стали быстрыми и точными. Он не стал будить остальных, а прихватив тяжелый дубовый посох, окованный с одного конца железом, довольно резво для своих немереных лет зашагал к лесу. По дороге старик сам подивился своей прыти. К чему все это? Ведь поначалу (и довольно долго) пришельцев все одно нельзя ни увидеть, ни услышать. Одно слово – призраки.
И все-таки… уж больно сильно полыхнуло!
Он уже шагал между столетними соснами, привычно ступая по мягкому ковру опавшей хвои, которая почему-то не хрустела под его босыми ногами, когда до него наконец дошло: раньше он никогда не видел таких ярких вспышек. Никогда! Но ведь тогда… тогда это означало, что у вновь прибывшего сохранился Дар! Неужто случилось то, во что они все тут давно перестали верить, но все же втайне надеялись – надеялись, несмотря ни на что…
Еще не веря до конца самому себе, старик ускорил шаги. Точного места вспышки он не запомнил, но в направлении не сомневался. Вот только сможет ли он увидеть прибывшего? Дар – это, конечно, хорошо, да только призрак – он и есть призрак, хоть с Даром, хоть без… Не видно его. Не слышно его. И нюхом не учуять, хоть нос наизнанку выверни.
А потом Черчек остановился. Потому что узрел мужика. Нормального крепкого мужика, и весьма справного, с бородой – разве что рубаха на мужике была чрезмерно тонкая да штаны слишком вытертые. На ногах – не то башмаки, не то черт его разберет… Стекляшки опять же на носу – видел он раньше у одного такие же стекляшки…
Пока Черчек рассматривал мужика, мужик с не меньшим интересом рассматривал Черчека. Потом он зачем-то похлопал себя по рубашке, по штанам и весело спросил:
– Слышь, дед, у тебя закурить нету?
Глава седьмая
Напрасно мы, раз он так величав, Ему являем видимость насилья; Ведь он для нас неуязвим, как воздух, И этот жалкий натиск – лишь обида. В. Шекспир– …А ты уверен?
– Да вроде… Выползень. Точно. Помнишь, наш Страничник еще рассказывал? И место самое подходящее…
– Так-то оно так… Вот только как бы маху не дать! Кому охота зазря под Переплет шею подставлять? Погляди, тень у него есть?
– Да болотник его разберет! Темно тут, не разглядишь… Ты лучше его ножичком попробуй. У тебя ножевье хорошее, длинное…
– Ага – ножичком! А ты на себя берешь? Ежели выползень – вся Благодать тебе достанется. Слышь, Пупырь – берешь или как?
– Нашел глупого, радости тебе несчитано-немерено… Благодать! А ну как человек это – что тогда?! Может, горожанин заблудился…
Только тут до меня дошло, что я уже довольно долго лежу на чем-то весьма сыром и холодном и вслушиваюсь в этот странный разговор. Следом я сообразил, что говорят явно обо мне. Так это, значит, что? Это, значит, они меня ножичком пробовать собираются?! Оставаться и дальше слушателем мне резко расхотелось. Вот сейчас как пыранут ножичком!..
Я открыл глаза и попробовал резко вскочить на ноги. И вскочил – чему сам изрядно поразился.
Два не в меру грязных, заросших дядьки в неопределенного цвета холщовых рубахах и таких же грубых домотканых штанах испуганно отпрыгнули назад, и один из них поспешил выставить перед собой суковатую палку, а второй схватился за висевший на поясе кривой нож.
– Вы что, мужики, с ума посходили – в живого человека ножом тыкать? У вас тут что – все такие? В смысле с придурью?
Как ни странно, я их уже почти не боялся – они сами выглядели на редкость перетрусившими. Не знаю уж, на каком языке я с ними заговорил, но эти двое меня прекрасно поняли. Как, впрочем, и я их.
– Так ты выползень или нет? – осведомился один из моих оппонентов. – Ишь, распрыгался…
– Вы мне сперва объясните, что такое «выползень», – тогда я вам отвечу.
– Выползень! – радостно констатировал дядька с ножом. – Заморочить хочет! Не будь я Пупырем – морочит! А ну, Юхрим, объясни ему…
– Запросто! – согласился обладатель дубины и немедленно, без всякого предупреждения, огрел меня оным орудием по голове.
Самым удивительным было не то, что я выдержал этот удар и даже не потерял сознания. Было больно, но не слишком. Куда удивительней оказалось другое – дубина, проломив мне голову, рассекла мое тело чуть ли не надвое и застряла где-то в районе живота. При этом тело мое практически не пострадало, мгновенно сомкнувшись, словно вода, которую пытались рассечь топором.
Дубина крепко увязла в моем животе, и теперь Юхрим пытался ее оттуда вытащить. Палка двигалась с трудом, неприятно царапая сучками мои внутренности (или что там теперь было у меня в животе?). Юхрим сопел, кряхтел, но дело шло туго.
Я же был до того ошарашен случившимся, что только через несколько секунд до меня дошло все скотство поведения аборигена. Вернее, обоих сразу – потому что, пока потный Юхрим пытался извлечь из меня свое первобытное оружие, Пупырь, обойдя меня сзади, старательно тыкал мне в спину кривым ножом. И это тоже было не самое приятное ощущение в моей жизни.
Тут ко мне наконец вернулся дар речи.
– Что ж вы, гады, делаете?! – возмутился я и, постепенно осознавая свою – пусть и болезненную – неуязвимость, добавил: – Да я ж вам сейчас головы поотрываю!
– Молчи, выползень! – наставительно произнес тот из агрессоров, который тыкал в меня ножом, на некоторое время оторвавшись от своего важного занятия. – Мы тут хозяева, мы и разговоры разговаривать станем. А для такого отродья, как ты, в Переплете места нету. Самим мало! Так что терпи да помалкивай, раз уж заявился… Понял?
– Ага! – недобро ухмыльнулся я – и вдруг вспомнил все. Лес, костер, исчезающего в дыму Тальку, Бакса…
Талька!
С нечленораздельным криком, переходящим в рев (я и сам не подозревал, что способен издавать подобные звуки!), я развернулся, сбив с ног цепляющегося за свою дубину Юхрима, и с разворота угодил прямо по зубам владельцу кривого ножа. Вообще-то я никогда толком не умел драться, а тут еще мой кулак неожиданно размазался по этой ненавистной роже, частично просочившись внутрь. Благодаря этому зубы моего противника уцелели, но удар все же оказался достаточно сильным, чтобы Пупырь не удержался на ногах и с размаху сел на землю, выронив бесполезное оружие.
– Ты чего? – изумленно заскулил он, потирая одновременно ушибленную скулу и отбитый при падении зад. – Это ж мы тебя должны бить, а не ты нас! Так не положено…
– Значит, не положено? – спросил я и одним рывком, до смешного легко вырвал злополучную дубину из своего тела. Если кулаком их не проймешь, то вот это должно подействовать!
– А вот мы сейчас посмотрим, что положено, а что поставлено!..
И я занес над головой увесистую палку.
Однако на этот раз мой противник проявил неожиданную резвость, и дубина с размаху грохнулась на опустевшее место. Оглянувшись, я обнаружил, что оба дядьки улепетывают во все лопатки, причем в разные стороны.
Гнаться за ними у меня не было никакого желания, однако злость и боевой азарт еще не угасли, поэтому я прокричал вслед удирающим врагам витиеватое ругательство, в конце которого вдруг оказалось совершенно незнакомое мне слово. Я готов был поклясться, что слово это ругательством не является – хотя, с другой стороны, клясться, пожалуй, не стоило, так как значения самозваного слова я не знал. И вообще впервые его слышал.
Из своих собственных уст.
Однако, каково бы ни было значение таинственного слова, эффект от него был мгновенным и разрушительным. Вокруг убегавших начали с треском валиться деревья, лес наполнился диким воем и хохотом – словно вся скопившаяся здесь за долгие годы, а то и века нечисть только и ждала подходящего случая, чтобы разом пробудиться от спячки.
Кажется, оба беглеца остались живы, но уж страху натерпелись – это точно. А я… Похоже, изменилось не только мое тело. Незнакомое слово… внезапный смерч… Так и просилось на язык: «вызванный им смерч». А ведь действительно, не слишком ли красиво для простого совпадения?..
А вдруг не слишком?
…На вид мое тело было вполне нормальным. Оно даже оставляло следы на земле. Но когда я случайно цеплялся за ветку, та обычно не отклонялась, а норовила пройти сквозь меня, и это было довольно неприятно. Интересно, а сам я могу проходить СКВОЗЬ что-нибудь? Например, сквозь стену? При случае надо будет проверить…
И что же из этого следует? Значит, я – призрак, привидение? Это многое бы объясняло… Нет, так даже у привидения крыша может поехать! Надо идти, надо искать Бакса и Тальку, а уж потом начинать ломать голову над накопившимися вопросами.
Я довольно долго брел по тропинке, с трудом найденной и все норовящей исчезнуть. Поначалу лес вроде бы поредел, и я уж было обрадовался, что вот сейчас он кончится, и я выйду к хутору – почему-то я был уверен, что выйду именно к хутору – но вскоре деревья вновь придвинулись вплотную, подлесок стал гуще, и мне пришлось, чертыхаясь, просачиваться через него. В прямом смысле. Это было не больно, но весьма неприятно – когда что-то инородное двигается внутри тебя (или ты двигаешься, пропуская через себя инородное тело, что, в сущности, одно и то же).
А потом впереди снова посветлело – и тут мне показалось, что здесь я уже был, что я брожу по кругу, и… Точно! Я помнил эту замшелую сломанную осину слева от тропинки – от нее словно исходило нечто отталкивающее, недоброе – и сейчас это ощущение накатило на меня снова.
Заблудился!
И тут во мне проснулся кто-то другой, кто не мог заблудиться нигде и никогда; даже сейчас ОН точно знал, куда надо идти, – и я послушался этого голоса… нет, не голоса, но послушался. Тянуло меня туда, вот что – прочь от чертовой осины, туда, где в сплошной стене вековых стволов виднелся расширяющийся просвет, и я уже не обращал внимания на проходящие сквозь меня ветки, с удивлением отмечая, что самые тонкие прутики все же отклоняются под моим напором; я почти выбежал на открытое место – и сразу увидел прямо перед собой хутор.
Очень похожий хутор. Даже слишком. У крайней хаты на лавочке сидели трое и увлеченно беседовали, размахивая руками. Один из них был на удивление знакомый бородатый дед, а двое других…
Это были Талька и Бакс.
Глава восьмая
Я заявляю, Что оба света для меня презренны, И будь что будет… В. Шекспир…Черчек – как я успел понять, не наш фермер, а его дед или прадед – продолжал что-то говорить, Бакс время от времени понимающе кивал, Талька то и дело встревал с разными вопросами, а я сидел и смотрел на своего сына. Сын. Мой. Рядом. Живой…
Живой?
Из того, что я успел уловить из пространного рассказа старика, следовало, что все мы – покойники. И наше полупризрачное состояние это подтверждало. Значит, вот он какой – мир загробный… Ни ангелов с трубами, ни чертей с вилами. Обычный затерянный в лесу хутор, обычный бородатый дед, родственник другого деда с другого хутора, на котором мы были ТАМ. Рай или ад? Да нет, слишком примитивно – рай, ад… Кто-то правильно заметил, что «в жизни все не так, как на самом деле». Глянешь на этот хутор, на вековые сосны вокруг, на светлеющее прозрачное небо, вслушаешься в неторопливый говор старого Черчека – рай, да и только! А как вспомнишь первых встречных мужиков, радостную злобу в их глазах, поднимающуюся для удара дубину – чем не черти? Разве что малость неумелые… Да и дед, оказывается, вещает отнюдь не о райских кущах.
– …Убить не убьют, а вот избить, искалечить, поглумиться – это они запросто. Им, говорят, за это – Благодать и отдохновение души. Если только она у них осталась, душа-то…
– Попадись мне под руку обормот из местных задушевных, – цедит сквозь зубы постепенно закипающий Бакс, – я ему такую Благодать устрою! До полного отдохновения…
Однако развить эту мысль до логического конца в виде всеобщего глобального побоища Баксу не удается.
– Помолчи, парень, – резко обрывает его Черчек, и Бакс, к немалому моему удивлению, послушно умолкает.
– Я бы и сам с удовольствием… – после некоторой паузы произносит старик, словно извиняясь. – Да нельзя. Мало нас здесь. Перебьют всех. Они б и раньше перебили – только тогда измываться не над кем станет. Друг дружку-то они трогать боятся – Закон Переплета у них. Так на излете шарахнет, что на всю жизнь закаешься… если жив останется, местный-то… А мы, выходит, вроде как вне закона.
Я засомневался, задумался и окончательно потерял нить разъяснений Черчека. Ну и перестал их слушать. Слишком многое свалилось на меня в последнее время, и я, похоже, на некоторое время утратил способность переваривать новую информацию. Позже расспрошу Бакса – и сойдет. Бакс слушал старика внимательно и вполне годился для роли пересказчика.
А для меня сейчас куда важнее было то, что мой сын снова сидел рядом со мной.
Я придвинулся к нему поближе и положил руку Тальке на плечо. Он обернулся, серьезно посмотрел на меня – и улыбнулся.
Сын. Мой сын. Рядом. Живой.
Живой?
Неужели мы все – мертвые?!
Глава девятая
Ну что, Гораций? Полно трепетать. Одна ли тут игра воображенья? Как ваше мненье? В. Шекспир– Ну а теперь – рассказывай! – набросился я на Бакса, когда мы остались одни на сеновале, где нас расположил на ночлег хозяин хутора.
Собственно, для ночлега полдень подходил мало, а вот для интимной беседы – вполне.
– Чего тебе рассказывать? Слушать надо было! А то свернул уши трубочкой, призрак хренов!
– Баксик, не выделывайся… Не время сейчас. Надо что-то делать…
– Это я и без тебя знаю. И даже знаю, что именно.
– Ну?
– Вилки гну… взглядом. Телекинез называется. Пожрать нам надо. Тут Черчек кой-чего спроворил…
И Бакс извлек из самого темного угла глиняную миску с домашними оладьями и другую, поменьше – со сметаной.
– А разве привидения едят? – с сомнением осведомился я.
– Едят-едят! – заверил меня Талька, хватая одну из оладий и макая ее в сметану.
– Сомневаешься – можешь не есть, – философски заметил Бакс. – Привидениям тоже кушать хочется. Во всяком случае, таким, как я.
Я с некоторой тревогой смотрел, как мой сын запихивает себе в рот первую порцию еды. Запихал. Прожевал. И проглотил. Измазавшись сметаной по уши. И ничего страшного с ним не случилось.
«Хорош папаша, нечего сказать! – внезапно прозвучал в моем сознании голос, очень похожий на голос Инги. – Сначала сам должен был попробовать, а уже потом ему давать… На собственном ребенке эксперименты ставит!»
Тут я неожиданно почувствовал зверский голод и поспешил присоединиться к увлеченно чавкающим Тальке и Баксу.
Насытились мы на удивление быстро. Видимо, призраки не страдают обжорством.
– Ну вот, теперь и поговорить можно, – заявил Бакс, утирая жирные губы тыльной стороной ладони. – Значит, так. Выдаю информацию в сжатом виде. Мне это, кстати, тоже полезно – а то что-то плохо с первого раза в голове укладывается. В общем, Энджи, начну с самого приятного… Мы таки покойники.
– Сгорели мы там, в лесу, – тихо сказал Талька.
Я промолчал и только судорожно сглотнул.
– Но ведь мы живые! – выдавил я наконец. – Думаем, разговариваем… едим… оладьи вот почти все сожрали…
– Это мы ТУТ живые. Почти, – ответил вместо Бакса Талька. – А ТАМ – мертвые. Мама, наверное, плачет…
Я представил себе состояние Инги. Господи! Три обгорелых тела…
– Ладно, Энджи, не раскисай, – Бакс тронул меня за локоть. – Ты хотел слушать? Так слушай. Дед утверждал, что есть некий «круговорот душ в природе и ее окрестностях». Вот мы в этот самый круговорот и влетели. Сгорели мы там, у нас, – Талька правильно говорит.
Он немного помолчал.
– Думаю, не стоит объяснять – не наш это мир.
– А какой? – вяло поинтересовался я.
– А черт его знает! Параллельный, перпендикулярный или вообще этот… ортогональный! Какая тебе разница! Не у нас мы – и все.
– И теперь мы все время так будем… призраками?
– Э, нет, тут хитрая закавыка получается. Мы уже не совсем призраки. Мы, скорее, привидения. Призраки – тех не видно, не слышно, и жрать им не надо, как ты правильно заметил. Но эту стадию мы каким-то образом проскочили.
– Потому что сгорели, – снова подал голос Талька.
– Ну и?.. – одновременно обернулись к нему мы с Баксом.
– Ну… там мы сгорели, от нас мало что осталось… а здесь – вот это получилось, – Талька постучал кулаком по стене, и кулак наполовину ушел в стену. – Там исчезло – а здесь приросло. Вот если бы мы по-другому умерли… ну, отравились бы, например… грибами… здесь бы нас и видно не было. Из-за того, что тело – целое. Поначалу – целое… ТАМ. Труп, в смысле…
– Закон сохранения? – догадался я.
– Да, папа! – просиял Талька. – Я все не знал, как это лучше сказать, а ты сразу догадался.
– Так, значит, у нас тут со временем будут нормальные тела?
Талька и Бакс кивнули.
А потом лицо Бакса изменилось, он повернулся к Тальке и настороженно спросил:
– Послушай, а ты откуда все это знаешь? Про тела, про закон сохранения… Дед-то ничего такого не рассказывал!
– Откуда? – растерялся Талька. – Не знаю… Оно как-то само получилось. Вроде всегда это знал…
Некоторое время мы ошарашенно молчали. Потом Бакс досадливо махнул рукой:
– А, ладно, одним чудом больше… После разберемся. Ты лучше слушай, Энджи. Значит, после смерти душа попадает в другой мир и там постепенно обрастает плотью. Отсюда и стадии: призрак, которого не видно, – так сказать, голая душа; привидение вроде нас, и нормальный человек… или не человек.
– Стоп, Бакс! – перебил его я. – Тут у тебя неувязочка выходит. Если бы все так и было, этих воскресших покойничков во всех стадиях было бы везде хоть пруд пруди! Или они только здесь объявляются?
– Нет, не только здесь. Но далеко не все в этот круговорот попадают. Ведьмы, колдуны, экстрасенсы крутые – ну, и мы…
– А мы-то с какой стати?! Вроде не экстрасенсы и уж тем паче не колдуны.
– Черчек говорит – Дар у нас. У всех троих, и особенно – у Тальки. Вот только непонятно, где мы эту заразу подцепили…
– Бабка! – неожиданно осенило меня. – Та, что на хуторе померла! Я ж тебе говорил, ведьма она была, от нее-то к нам Дар и перешел!
– Точно, бабка! – согласился Бакс. – Молодец, Энджи! Для привидения у тебя голова неплохо работает.
– Бабка, – как-то бесцветно произнес Талька и, видя наши недоуменные лица, указал мне за спину.
Глава десятая
Прощай, прощай, и помни обо мне.
В. ШекспирТо, что это был призрак – первая стадия, – мы поняли сразу. Почти совсем прозрачное существо, сквозь которое было отлично видно стену и ворох смятого сена у этой стены.
Но одновременно можно было достаточно хорошо различить лицо призрака, да и всю его фигуру в светлом просторном платье. Только это была не бабка. Это была девушка. Довольно красивая и с очень грустным лицом. А еще у нее не хватало одной руки. Правой. От кисти до локтя. Потом я внимательно вгляделся в ее черты, и мне почудилось что-то знакомое…
Наверное, такой могла быть та умиравшая на хуторе бабка, когда ей было лет восемнадцать.
Бакс глядел на призрак стоя, при этом неловко переминаясь с ноги на ногу.
– Здравствуйте, – наконец выдавил он.
Девушка ненадолго задержала на нем взгляд, мельком взглянула на меня и уставилась на Тальку. Талька тоже смотрел на нее и молчал.
А потом губы девушки шевельнулись, и в сарае тихо прошелестело первое слово призрака:
– Здравствуйте.
Голос девушки оказался неожиданно скрипучим и не слишком приятным.
Некоторое время все молчали.
– Это вы там… на хуторе? – невпопад осведомился я лишь для того, чтобы прервать эту затянувшуюся паузу.
– Я, – кивнула девушка.
И, чуть помедлив, добавила:
– Вы у меня Дар забрали. Его полторы сотни лет копили, растили… по наследству передавали. А теперь – на три части. Да вы все равно не поймете. Не наши вы.
– Это почему же не поймем? – обиделся несколько пришедший в себя Бакс. – Мы – ребята понятливые, даром что покойные. И насчет Дара вашего в том числе. Так что давайте разбираться вместе. Только сначала хоть познакомимся. Бакс. Анджей. Талька.
– Вилисса, – ответила девушка-призрак и впервые улыбнулась.
Глава одиннадцатая
Его борода – как снег, Его голова – как лен; Он уснул в гробу, Полно клясть судьбу; В раю да воскреснет он!.. В. Шекспир…С незапамятных времен, когда забытые гении ломали головы, сочиняя первые строки «Махабхараты», «Сказания о Гильгамеше» или «Нюргун Боотура», – с тех самых времен, а может быть, еще ранее, начали рождаться не совсем обычные дети. Нет, внешне-то они были совершенно нормальными – ели, спали, пачкали шкуры и пеленки, и рогов у них на лбу отнюдь не наблюдалось. Разве что нет-нет да сквозило в их взгляде нечто такое, отчего не только их товарищам по играм, но и многим взрослым становилось не по себе.
И язык такие детки совершенно не умели держать на привязи. Молчит дитя, молчит – и вдруг как примется вещать не своим голосом о том, что грядет, или что происходит в соседней деревне, а то и вообще неведомо где… и лишь через месяц докатывалась весть о нашествии варваров или смене династий.
Шалости шалостями, а ведь сбывается…
И не только это водилось за необычными чадами – обидит кто малолетка, а после животом с полгода мается или вовсе Богу душу отдает. Хоть и Богу, а жалко – душа ведь своя, разъединственная!
И то еще бывало, пойдет такой ребеночек в лес за ягодами – ягод не принесет, зато расскажет, как выходили к нему из чащи три здоровенных волка и как они играли все вместе в разные детские игры. Родители, понятное дело, не верят, смеются. Чадушко – в слезы. Идемте, мол, покажу – и шел, и показывал, и волосы у взрослых дыбом вставали…
Росли странные дети, вырастали, влюблялись, становились в свою очередь родителями – и рождались у них наследники, тоже зачастую довольно странные. Да только скоро сказка сказывается, а все остальное помедленнее происходит. Мало кто из таких детишек успевал дожить до совершеннолетия, а уж тем паче – до старости. Обычно считалось, что тело ребенка облюбовали злые духи для своих душных шалостей, и духов сих надлежит изгнать, а лучше – истребить.
И истребляли. Зачастую вместе с ребенком.
А выжившие – наиболее скрытные или наиболее удачливые – искали в себе новое, неведомое и иногда находили; искали себе подобных – и тоже иногда находили; делились опытом, летали на шабаш, или как оно там у других народов прозывается, книги тайные писали да читали, а то и веселились изрядно – когда кругом свои, чего бояться-то?
Добро творили и зло творили. Творили вроде поровну, как и все люди, да только злое – оно заметнее…
Ну а со временем обнаружилась у ведьм с колдунами (как звало их простонародье) еще одна интересная особенность. Для обычного человека после смерти три пути есть: вниз, вверх и по кругу – когда душа его в чужое тело вселяется. Обычно – в ребенка новорожденного или еще не родившегося. Правда, памяти у простой души немного, и начинает ребенок жить как бы заново. А у Ведающих – не так. Переносится душа его после смерти в мир иной – и не в верхний там или нижний, а в действительно иной. Такой же, как наш… вернее, такие же, как наши, – да не совсем. И начинает жить там по-новому, поскольку Дар умершему память при переходе сохраняет. Там и тело себе новое выращивает – по мере того, как разлагается его прежнее тело в прежнем мире. И тело это Ведающий может вырастить по собственному усмотрению – не обязательно копию предыдущего. Некоторые даже специально жизнь зверями проживают, плодя сказки о говорящих зверях, не глупее человека. А с чего ему глупее быть – с того, что звериный облик на новую жизнь приглянулся?
Так вот, проживают они еще одну жизнь в ином мире, помирают, и душа обратно к нам возвращается. И опять все сначала – тело новое выращивать… А пока не вырастил – привидение привидением, люди от него шарахаются да крестятся; потому и прячутся призраки от глаз людских по руинам да чащобам, что при их-то способностях не так уж и трудно…
Ну бывает изредка, что после первой смерти времени не так уж много протекло – а душа снова к нам вернулась. И надо же такому случиться – вырастил колдун себе тело точь-в-точь как старое.
Отсюда и разговоры об «оживших покойниках», только к настоящим живым мертвецам – зомби и вампирам – отношения это не имеет.
А из других миров души людей с Даром точно так же к нам попадают; а после – обратно к себе.
И все бы хорошо – да только нигде и никогда не любили обычные люди носителей Дара. Иногда терпели, когда пользу от них видели; а чаще – жгли, топили, на кол сажали, и прочее, в меру богатой людской фантазии. А ведь если колдуна убивать слишком часто, его Дар понемногу и исчезнуть может. И быть тогда Ведающему – Лишенным Лица, но об этом после…
И вот на Великом Шабаше договорились меж собой носители Дара о том, как не только выжить, но и приумножить ряды свои. Решено было перед смертью Дар свой передавать преемнику, от рождения его не имевшему, но достойному приобщения. Ну а там, в новой-то жизни, мог колдун Дар свой заново обрести, вырастить помаленьку, поскольку помнил многое и знал, где искать, – и перед смертью вновь отдать преемнику. Дар, добровольно отданный, – он ведь как свой… и память сохранит, и прочее…
То же самое и колдуны иных миров делать стали – и через пару сотен лет выросли заметно ряды владеющих Даром, и даже у кое-кого зародилась мечта со временем весь род людской Даром наделить. Может, хоть тогда перестанут люди Даровитых изводить – ведь изводить самих себя по меньшей мере глупо…
Лет пятьсот все шло относительно хорошо – и вдруг из одного мира, куда после смерти многие носители Дара уходили, перестали возвращаться. Умирали земные ведьмы, Дар передавали, и… Как в воду канули. Ничего. Будто и не было их.
И колдуны того мира у нас не являлись более.
Забеспокоились Даровитые – теперь не то что число свое увеличить, а и сохранить прежнее нелегко стало. Уходили в никуда маги, ведьмы, колдуны, уходили старые мастера – а молодые, хоть и с Даром, но пока еще в полную силу войдут…
Пришлось собирать Совет Семи. Долго спорили Семеро и решили, что настала нужда в Белой Старухе Йери-ер, что раз в тысячелетие родиться может. Отныне самый сильный Дар передавался по наследству ребенку по женской линии из древнего рода Черчеков-хуторян; и лишь тому ребенку, кто врожденным Даром обладал. Хотя и таяли от того ведьмовские ряды еще быстрее, но росла и крепла из поколения в поколение сила колдовская, и близился год появления на свет Йери-ер, Белой Старухи…
Вилисса была в роду предпоследней. У ее дочери Иоганны, под надежной защитой Серого Йориса и старого ведуна Черчека, отца Иоганны, и должна была родиться Белая Старуха. Да не утерпела старая ведьма. Знак ей явился. Видение.
Стала к дряхлой Вилиссе в снах являться девушка – платье воздушное, волосы льняные, глаза печальные, но твердые в своей решимости. Не должны вроде бы к ведьме потомственной ангелы приходить, да еще с таким черным бездонным взором – но глаза эти звали Вилиссу, и слышала она тихий и ясный голос:
– Иди за Переплет! Иди вся, какая есть! Нельзя ждать более, нельзя… иди, Вилисса… иди!..
И сквозило в лице ночной девушки что-то знакомое – словно сама Вилисса много поколений назад…
А вот что такое Переплет – старуха не знала.
И она решилась.
Никого не было на хуторе в час ее смерти. Чтобы никто, даже случайно, не мог перенять ее Дар, от многих колен накопленный; чтобы она ушла за неведомый Переплет с ним.
Но умирать, не передав Дара, долго и мучительно. И тут как снег на голову объявились трое глупых чужаков, а намерения у них были самые добрые…
В общем, те самые намерения, которыми вымощена дорога в Ад.
Глава двенадцатая
…мы не настолько тупы, Чтобы, когда опасность нас хватает За бороду, считать, что это вздор. Ждать новостей недолго… В. Шекспир– Вот, значит, как, – протянул Бакс, глядя куда-то в сторону, чтобы не видеть печального лица Вилиссы, на котором отчетливо проступили знакомые старческие морщины.
– А почему у вас одна рука? – спросил вдруг Талька. – Ведь вы же могли…
– Не могла, – эхом прошелестел голос девушки-старухи. – Через эту руку Дар мой ушел. К вам. Не по воле моей. Только-только и осталось, чтоб себя не забыть. А руку… Отрезало руку. Теперь лишь вместе с Даром ее вернуть можно.
– Да вернем мы вам Дар этот, – примирительно заговорил Бакс. – Вы только скажите – как… А нам он и даром не нужен! Тьфу, черт, дурацкий каламбур получился…
– Вернуть его не так-то просто, – грустно улыбнулась Вилисса. – Для этого мне сначала надо обрести тело. Ну а вам… Вам придется умереть.
Некоторое время мы молча переваривали услышанное. Вот так: стоит раз совершить не тот поступок – и расплачиваться приходится всей оставшейся жизнью. А то и следующей…
Как следует обдумать создавшуюся ситуацию нам не дали: снаружи послышался невнятный шум, крики – и они не сулили ничего хорошего. Я глянул на Бакса, но тот уже ломился к двери с явным намерением дать кому-нибудь по морде. По правде говоря, у меня от тоски и слов Вилиссы возникло аналогичное желание, но по дороге я успел провести один эксперимент – с размаху врезался в стену сарая и… оказался снаружи.
Обстановка для бития морд была самая подходящая, потому что сие битие уже началось без нас. Старый Черчек вместе с тремя крепкими молодыми парнями угрюмо и безнадежно отбивались от полутора дюжин орущих крестьян, вооруженных дубинами и кольями. За спинами нападавших нетерпеливо переминались еще несколько человек, а поодаль неподвижно застыла сутулая фигура в белом балахоне, весьма смахивающая на волхва или монаха. Капюшон был низко надвинут, что усугубляло сходство.
Все это я успел сообразить за какие-то две-три секунды, поскольку потом времени глазеть по сторонам не осталось – Черчек упал, парни попытались заслонить старика, но ободренные успехом нападающие усилили натиск, оттеснили парней… и я уже предвидел, что сейчас и деду, и его союзникам придется плохо, – но тут в самую гущу драки вломилось разъяренное привидение по имени Бакс.
Бакс после нашей смерти, а также разговоров с Черчеком и Вилиссой пребывал в самом мрачном расположении духа, а тут как раз подвернулась возможность под благовидным предлогом защиты хозяев хутора намылить кому-нибудь шею.
Уж что-что, а мылить шеи Бакс умел. Даже будучи привидением.
Уследить, что именно творил разбушевавшийся Баксик, было довольно сложно – я лишь успел пару раз заметить, как его кулак или нога прошибали противника навылет, однако ни крови, ни разорванных внутренностей видно не было – точно так же я сам сейчас просочился через стену, оставшуюся целой и невредимой. Такое предательское поведение собственного тела несколько озадачило новоявленного супермена, и я прекрасно понимал, что сейчас чувствует мой друг.
Недавно я пережил то же самое.
Однако первое недоумение у Бакса быстро прошло, и он мгновенно сообразил, как использовать преимущества своего, так сказать, недовыращенного тела.
Бакс просто-напросто перестал реагировать на удары противников и, дождавшись, пока их колья и конечности поглубже увязнут в его по-прежнему объемистом теле, завалился в ближайшую канаву с грязью, увлекая врагов за собой. Из канавы послышались дружные ругательства, перемежаемые звонкими оплеухами и боевыми воплями Бакса.
Тем временем очухавшийся Черчек успел подняться на ноги, а его ребята оттеснили оставшихся агрессоров к околице хутора.
Я оглянулся, ища глазами Тальку, и обнаружил, что он стоит у дверей сарая и с интересом наблюдает за происходящим. Лезть в драку он пока не собирался – и на том спасибо. Рядом с моим сыном еле-еле угадывался призрак однорукой Вилиссы.
Баксу помощь явно не требовалась – осознав свою неуязвимость и новые безграничные возможности для самовыражения, он веселился вовсю, и его противникам приходилось гораздо хуже, чем самому Баксу. Поэтому я побежал на подмогу Черчековым парням. Там уже подключились зрители, и защитникам хутора вновь приходилось туго.
До сих пор удивляюсь, как у меня хватило духу сделать то, что я сделал. Неуязвимость – дело хорошее, но когда несколько человек дубасят тебя здоровенными жердями, и эти жерди застревают в тебе… Больно все-таки!..
К счастью, Черчековы парни не растерялись, с криками набросились на обезоруженных мною противников и обратили их в бегство. Я в погоне участия не принимал – остался на месте, вытаскивая из себя все эти кривые дрова.
И тут позади раздался еще один крик. Кричал Черчек, и, проследив за его вытянутой рукой, я увидел, что предполагаемый монах начал действовать. Воздев руки над головой, он медленно приближался, и с губ его срывались какие-то непонятные слова – вроде того, что вырвалось у меня сегодня утром.
Поведение монаха мне очень не понравилось. Я уже начинал потихоньку верить во все, что угодно, – обстоятельства вынуждали, – а от его заклинаний явно ничего хорошего ждать не приходилось. Тем более что от монашьей тарабарщины моя полуматериальная плоть закостенела и стала подсыхать, как свернувшаяся кровь на ране.
И тогда я увидел такое, от чего, несмотря на все предыдущие чудеса, застыл на месте – надеюсь, хоть не с открытым ртом.
Навстречу монаху шел Талька. Мой маленький Талька. И в то же время не мой. Глаза его дико сверкали, руки будто самопроизвольно совершали разнообразные пассы, а губы шевелились, произнося слова, которых, уверен, мой сын знать не мог. Впрочем, я тоже не знал ТОГО слова…
А потом я разглядел за спиной Тальки призрачную фигуру Вилиссы – и ощутил жаркую пенящуюся волну, захлестнувшую меня с головой. Я доверился ей, я что-то делал, что-то говорил; а рядом со мной уже шел Бакс, и он делал то же самое. Монах запнулся на полуслове, та часть его лица, что была видна из-под капюшона, побледнела и стала почти такой же белой, как и сам капюшон; он попятился, а мужики уже бежали, бросая по дороге дубины… и я все никак не мог понять – что такого странного было во всей этой картине?! А через мгновение наваждение закончилось, и я наконец понял, что показалось мне странным.
Ни один из нападавших не отбрасывал тени.
Глава тринадцатая
Теперь пора ночного колдовства. Скрипят гроба и дышит ад заразой, Сейчас я мог бы пить живую кровь И на дела способен, от которых Отпряну днем… В. Шекспир…Черчеков хутор горел уже не раз. Мы успели обнаружить заросшие травой останки срубов более ранних времен – уголь и труха – и теперь прекрасно понимали причины их мрачного происхождения. Но даже не это, и не регулярные разбойные вылазки местного населения, одну из которых мы только что помогли отбить, – хуже всего было совсем другое.
Все упиралось в Переплет. Мы так толком и не поняли, чем этот Переплет является на самом деле, но, по словам Черчека, весь здешний мир упирался в Переплет.
И здесь пришельцы из-за Переплета были обречены. А вернее, они были обречены ИЗ-ЗА Переплета, причем и ЗДЕСЬ, и ТАМ.
Проклятый Переплет, чем бы он ни был, отгораживающий этот мир – или кусок мира, что ничего для нас не меняло, – не давал бывшим Ведающим заново развить свой Дар. Не давал – и все тут! А когда человек, не развивший Дара заново, умирал, и дух его проходил через Переплет в любую сторону, – он терял память о прошлом, и его призрак восстанавливал тело, просто приспосабливаясь к внешней среде. Наугад, так сказать. Ну и тело получалось соответствующее, не говоря уже о психике.
Вот и возвращались великие ведуны, становясь мелкой, почти не имеющей разума нечистью – лесной, водяной, домовой и черт его знает какой еще… кто куда попал и где сумел выжить, себя не помня. Здесь ли, там ли – одна судьба, одна на всех…
Черчек звал таких – Лишенные Лица. И голос у деда при этом был как с глухого похмелья.
Помнить, кем ты был; видеть, кем ты стал; ощущать в себе труп умершего и не способного возродиться Дара; жить уныло и позорно и знать, что после смерти тебя ждет гнилая участь Лишенного Лица… знать – и не иметь никакой возможности изменить скалящуюся в лицо судьбу.
Это был ад. Не для всех, живущих в нем, но для таких, как мы, – ад.
Нет. Для таких, как мы, – нет. В нас был Дар. Чужой, случайный, краденый, во многом бесполезный, но – Дар.
Ну и что? Ну и – ничего…
…Некоторые упрямцы пытались. У большинства попросту ничего не получалось, а тех, у кого все же начинал проклевываться робкий росток нового Дара, – тех вскоре находили мертвыми.
– Вот так и живем, – вздохнул старый Черчек. – Ни здесь выкрутиться, ни своих там, дома, предупредить… Вроде и вернемся домой, после смертушки, да только Лишенный Лица никого и ни о чем не предупредит. Так и сгинет в беспамятстве. А вообще – живем. Живем перед смертью…
– Да разве ж это жизнь, мать ее размать! – возмутился Бакс. – Это…
Он поискал подходящее сравнение, не нашел и в сердцах стукнул себя кулаком по колену, на миг смешав первое со вторым.
– Может, и не жизнь… так другой все одно нету. Правда, вы вот пришли… С Даром. Глядишь, и сумеете что-нибудь. Впрочем, парни, времени на это «что-нибудь» у вас с гулькин нос. Учуяли вас! Сразу учуяли. Вы думали, эти сегодня зря приходили? Нет, не зря… Дурачье, конечно, так приперлось – душеньку против шерсти почесать, – да только не сами они пришли. Их Страничник привел.
– Страничник – это который в белом? – серьезно осведомился Талька. – А почему он – Страничник?
– Потому что за ним – страница из Зверь-Книги. Он за нее душу Книге продал, лапу Зверю целовал и слезой расписывался. А сюда пришел силу вашу испытывать. Он-то пришел, а вы ему по незнанию все, как есть, на подносе и выложили! Эх, не успел я вам сказать!.. Чай, не убили бы нас – бока бы намяли, как обычно, не впервой… И я, дурень старый, бухнулся бы им в ножки, ублажил – глядишь, покуражились бы да и убрались восвояси! Рано нам еще зубы показывать, рано со Зверь-Книгой тягаться… нет у нас ни зубов на Зверя, ни слов на Книгу… ничего у нас нету…
Черчек захлебнулся досадой и сунул в рот клок пегой бородищи – жевать с горя.
– Ладно, – наконец пробурчал он. – Несколько дней у нас во всяком разе есть. Пока еще эта белая пакость к своим доберется, пока доложит, что вынюхал у Черчекова хутора, – а там уже и Большое Паломничество наступит. Местные, принявшие Закон Переплета, в Книжный Ларь поедут – к святыням приобщаться, себя Зверь-Книге показывать. А до того к нам никто не сунется. У них ведь все по правилам, по порядку… души чернильные!
Помолчали. Теплый ветерок как-то уныло посвистывал, бродя между замшелыми избами. Бакс, разжившийся у деда пригоршней местного курительного зелья, заменявшего табак, сосредоточенно дымил самокруткой из каких-то подозрительных сохлых листьев.
– Будешь? – он протянул мне окурок.
Я машинально затянулся, и глаза мои чуть не вылезли на лоб. Более крепкого и вонючего самосада в жизни пробовать не приходилось!
Вот ПОСЛЕ – пришлось…
– Все, мужики, утро вечера мудренее, – сквозь зубы процедил Бакс, наблюдая, как солнце медленно сползает за неровный частокол верхушек деревьев. – Спать пошли. Вон у пацана глаза слипаются… Глядишь, поутру чего и надумаем, а то сегодня день какой-то… – Бакс сделал рукой неопределенный жест, отражающий его мнение о сегодняшнем дне. – Думаешь, если мы – привидения, так нас можно по башке дубасить, и ничего?! Может, и ничего, только мысли все, похоже, вышибло. В общем, завтра договорим.
Черчек угрюмо кивнул, и мы поднялись с бревен. Призрак Вилиссы последовал за нами. Как ни странно, но старик не обращал на нее ни малейшего внимания. Даже ни разу не заговорил с ней. Не видит он ее, что ли? А ведь как пить дать – не видит! Что ж это тогда получается…
Бакс аккуратно прикрыл дверь сарая – мы уже привыкли к этому сенохранилищу и решили ночевать в нем же – и подпер дверь изнутри увесистым поленом.
– Ну что, Вилисса? – поинтересовался он, не оборачиваясь. – Что скажешь?
– О чем? – прошелестел голос однорукого призрака.
И тут вмешался я:
– О Книге. О Зверь-Книге, которую упоминал Черчек. Тебе что-нибудь известно об этом дивном сочетании?
Говоря это, я почему-то отчетливо представил себе трехглавого змея с толстенными фолиантами на чешуйчатых шеях. Змей скалил книги-головы, и алая закладка облизывала острые зубы-буквы.
Ничего лучшего в мою голову не лезло.
– Известно, – слабо колыхнулся воздух, пропитанный ароматами кожи и сена. – Но я всегда считала, что это – сказка. Мудрая и страшная сказка.
Меня словно холодом пробрало. То, что было сказкой для потомственной ведьмы Вилиссы, – чем же это могло оказаться для нас?
Чем могло быть на самом деле?
– Сказывала мне моя бабка, – голос Вилиссы стал еле слышен, и я старался не пропустить ни единого слова, – будто слыхала она от своей прабабки, что где-то на свете – на этом ли, на том или на каком еще – есть Зверь-Книга в переплете из черного тумана. Кем писана – неведомо, кем читана – незнаемо, что в себе несет – не нам о том судить… А только если весь Дар собрать, что у Даровитых имеется, да все тайные знания к нему прибавить, что у Знающих водятся, – так в Зверь-Книге поболе того будет. Но читать Книгу эту нельзя, ибо Дар даром не дается… потому что как ты читаешь Зверь-Книгу, так и Зверь-Книга читает тебя, листая помыслы и чаяния дерзнувшего. И если она дочитает тебя до конца быстрее, чем ты ее, то станет в Книге на одну страницу больше, а в мире – на одну душу меньше. И расхохочется черный туман, обнимая Книгу, пришедшую из Алой Бездны, Бездны Голодных глаз, которой маги пугают нерадивых учеников…
– Дальше! – не выдержав тишины, повисшей между нами, крикнул Талька. – Дальше!
– Все, – коротко ответила Вилисса. – Дальше ничего не знаю. И боюсь, что придется узнавать. Позовет Книжный Ларь – надо будет идти. Правда, Дар мой – у вас. А вы не умеете им пользоваться.
– А ты на что? – простодушно изумился Бакс. – Научи! Глядишь, и склеим твой Дар…
– Склеим… – печально усмехнулась Вилисса. – На учение время нужно. Нет у нас времени, и ничего у нас нет. Может, и впрямь надо было ждать, пока родится Йери-ер, Белая Старуха. Разве что…
– Разве – что?
– Разве что вы все-таки согласитесь умереть и передать мне Дар. А я уж дальше сама, как получится… если получится. Недаром же та, из снов, меня сюда звала. Наверное, есть еще надежда – мне со Зверь-Книгой встретиться, в Переплет ее постучать…
– А нам, значит, копыта отбрасывать? – недобро переспросил Бакс и кинул быстрый взгляд на полено, подпиравшее дверь.
По-моему, он нашел ему новое применение.
– Да. А что тут такого? Вы же назад, к себе, вернетесь…
– Призраками? Тенью отца Гамлета?!
– Да, призраками. А Дар вам память при переходе сохранит – он ведь добровольно отданный… вырастите себе новые тела…
Я прошелся по сараю, словно выбираясь из болота молчания, более красноречивого, чем любые слова.
Вроде бы все она говорила правильно… И Зверь-Книга эта, пугало молоденьких ведьмочек, прах их всех забери! – не наша забота ее искать; и Дар нам Вилиссин – как корове седло, а Вилисса им пользоваться умеет… и память мы, похоже, сохраним, чем черт не шутит…
Умирать почему-то не хотелось. С чего бы это? Да все с того, с родимого… Вдруг врет нам бабка-девушка, или просто не сработает какая-нибудь деталь – и станем мы там или здесь банальными покойничками или этими… Лишенными Лица…
Меня передернуло. Это ведь похуже, чем просто смерть – наша, родная, атеистическая, с уютным НИЧТО в перспективе! Придется лет триста барабашкой по панельным домам шастать, полтергейсты на кухнях устраивать!
Кроме того – КАК мы будем умирать? Мне, значит, родного сына прирезать или вилами приколоть, после Бакс меня удавит, на радость Вилиссе, а сам напоследок в колодце утопится…
Есть у них тут колодец или к соседям идти понадобится? Здрасьте, люди добрые, к вам утопленник стучится под окном и у ворот!
Похоже, на наших физиономиях ясно читались все эти мысли, и Вилисса была их единственным читателем.
– Я знала, что вы мне не поверите, – прошептала она, и легкий силуэт тюлевой занавеской качнулся у стены. – А когда поверите – поздно будет…
Бакс упрямо мотнул головой.
– Вот когда поверю, тогда и зарежусь! – жестко заявил он. – А до того – шиш с маслом!
– Ты знаешь, Баксик, – поддержал его я, – твои последние слова… Грубовато, конечно, но, в общем, верно. А ты, Талька?
– И мне не хочется, – протянул из угла Талька. – Правда… там мама осталась…
Глава четырнадцатая
Все это надо взвесить: Когда и как мы действовать должны. Коль так не выйдет, и затея наша Проглянет сквозь неловкую игру, Нельзя и начинать… В. ШекспирУтро отнюдь не оказалось мудренее вечера, но даже с утра помирать никто из нас не торопился, так что мы на время отставили эту идею в сторону и собрались на военный совет.
Вилисса на нем тоже присутствовала и вела себя тише мыши. Старый Черчек – родич нашей ведьмы, свекор ее или что-то в этом роде, хотя по их рассказам мало что поймешь доподлинно! – так вот, Черчек ее действительно не видел и не слышал, но, похоже, проникся смутными подозрениями. Сама Вилисса отнюдь не спешила открывать престарелому родственнику свое присутствие, ну и мы, в свою очередь, дружно помалкивали.
Выходит, с призраками могут общаться лишь полупризраки вроде нас…
Как я понял из утренних новостей, Страничники и простое население сейчас группами прибывают к Книжному Ларю – храм местный, что ли? – и там причащаются святынями, после чего разъезжаются по городам и весям.
В основном по весям, потому что о городе старик упомянул один раз и в единственном числе. Впрочем, дед мог быть не силен в здешней географии.
Кстати, со свойственным коренному селянину презрением Черчек заявил, что горожане к Ларю ездят нерегулярно и редко когда группами. В основном в одиночку.
Слова «группы» Черчек не знал. Это его Талька научил, и оно деду ужасно понравилось.
– ХР-Р-Р-РУП-П-ПЫ! – рокотал старик, и борода его излучала море удовольствия.
По-моему, он считал это особо заковыристым ругательством и восхищенно поглядывал на моего сына.
Я прикинул шансы пробраться в толпе паломников к треклятому Книжному Ларю и на месте разобраться в ситуации. Отчаянно, но не безнадежно. Правда, что делать с легендарной Зверь-Книгой, буде таковая обнаружится, я не знал. Надеюсь, что она все же больше – Книга и меньше – Зверь… поглядим, удерем, а там и думать станем.
Я поразился собственной лихости и высказал соображения вслух.
Идея была принята, поскольку никто ничего лучшего все равно не предложил, и я тут же принялся объяснять Тальке, что он никуда по малолетству не пойдет, а останется на хуторе с…
Я чуть было не ляпнул «с Вилиссой», но вовремя заткнулся. Черчек решил, что я имею в виду его, и с грубоватой нежностью потрепал пацана по голове.
Существовала еще одна загвоздка, о которой мы даже не подумали, – наши тени. Я совсем забыл, что аборигены Переплета теней не отбрасывают, по непонятным мне причинам. Старый Черчек поджал губы, рявкнул на одного из своих парней, зачем-то сунувшегося в хату, – и брезгливо сообщил, что здешнюю шваль Солнце в упор не видит и видеть не хочет. Оттого, мол, они тени и не отбрасывают.
Это меня утешило мало. Но тут я заметил, что Вилисса что-то шепчет на ухо просиявшему Тальке, и тут же мой сын нагло заявил, что ему, с его Даром, это дело – раз плюнуть. Он, дескать, таких туч недели на две вперед нагонит, что ни о каких тенях и речи быть не может.
Я глянул на Вилиссу, и она слабо кивнула в ответ. Ну что ж, глядишь, в паре с Талькой и выйдет у них что-нибудь…
Неугомонный Бакс немедленно собрался в разведку – как выяснилось, в ближайший сельский кабак, дабы испытать на практике «бестеневое освещение» и заодно произвести рекогносцировку.
Последнее слово также очень понравилось Черчеку, но с первых пяти попыток деду не удалось его произнести, и старик лишь тоскливо помянул свои молодые годы, зря ушедшие.
Я заподозрил, что кабак интересует Бакса и по другим соображениям, но промолчал. Меня эта Баксова идея вполне устраивала.
Талька с Вилиссой заперлись в сарае, и вскоре небо действительно заволокли угрюмые темные тучи – я только головой качал и диву давался, – а Бакс помахал мне рукой и отправился на разведку в кабак.
– Я тоже ухожу, – бросил я Черчеку. – Собраться поможешь? Только мне по-быстрому надо…
– В Книжный Ларь? – ухмыльнулся старик, показывая на удивление крепкие зубы. – Пошли, я тебе одежку подкину, за городскую сойдет… и харчишек на дорогу. А за мальца не бойся – приглядим…
Я уходил к Книжному Ларю. Один. Бакса я брать с собой не собирался. Если что – он присмотрит за Талькой. В этом я не сомневался. Если что – пришедший за моим пацаном сначала встретит грубого толстого дядю Бакса…
Вот это «если что» и мучило меня больше всего.
Если – что?!
Глава пятнадцатая
Да ты… не ошибаюсь я, пожалуй: Повадки, вид… ты — Добрый малый Робин? Тот, кто пугает сельских рукодельниц… В. ШекспирТалька выбрался из сарая и радостно сообщил мне, что «делать погоду» уже не требуется – согнанные отовсюду тучи рассасываться явно не собирались, – а требуется просто время от времени приглядывать за ней, за погодой то есть, на всякий случай.
Похоже, мой сын уже наловчился приглядывать за небом и делал это в охотку и с удовольствием.
Потом Черчек, собиравший мой дорожный узелок, увел Тальку куда-то в сторону, шепчась с ним по дороге и поглядывая в мой адрес; Вилисса упрямо сидела в сарае, Черчековых парней тоже видно не было… клубящиеся тучи навевали уныние, и до момента выхода делать было абсолютно нечего.
Я уселся на вкопанную в землю лавку и стал наблюдать за худющей черной кошкой, караулившей мышь или какую-другую добычу у дверей избы. Терпения у кошки было навалом, у меня – не меньше…
И мы дождались.
Из избы на порог бочком выбралось лохматое серо-болотное существо с ладонь ростом, напоминавшее маленького старичка. Лохматик огляделся и глухо заугукал себе под нос.
«Домовой! – опешил я. – Ей-богу, домовой!»
Однако у настырной кошки появление домового не вызвало никакого удивления. Она стремительно прыгнула на свою намеченную жертву, но в последний момент домовенок успел заметить грозившую ему опасность и отскочил в сторону.
Завопив дурным голосом, он кубарем скатился по ступенькам и бросился наутек. В этом была его ошибка – ему следовало вернуться обратно в хату и забиться в какую-нибудь щель, откуда кошка не смогла бы его выцарапать. Во дворе же, на открытом месте, у него не оставалось ни малейшего шанса.
Но тут в его судьбу вмешалось Провидение. Вернее, при́видение – в моем лице.
Брошенный мною увесистый камень в кошку не попал, однако погоня была мгновенно прервана, и мяукающий хищник поспешил скрыться в узком лазу, который вел, очевидно, в подвал, – а насмерть перепуганный домовой с размаху ткнулся в мою ногу, наполовину уйдя в нее.
С видимым усилием и чмокающим звуком он выбрался обратно и, не удержавшись на маленьких кривых ножках, растянулся на земле. Я улыбнулся и протянул руку, чтобы поднять неудачника, – но тут из подвала раздался такой панический и душераздирающий мяв, что я невольно вздрогнул и глянул в ту сторону.
Незадачливая кошка пулей вылетела из лаза; шерсть на ней частично стояла дыбом, частично висела клочьями. Животное рвануло через двор и мигом исчезло, а из лаза показалось следующее действующее лицо.
«Родственник», – догадался я. Действительно, человечек из подвала был копией первого домового, разве что несколько крупнее и более взъерошенный. Цвет его был ближе к бурому; в ручках он сжимал острую и ржавую железку. Когда-то это, видимо, был нож, но для подвального героя он служил боевым двуручным мечом, чуть ли не с него самого ростом. Если не больше.
Рядом со мной зашелестела трава, и я обернулся. Это подошли Черчек с Талькой. Талька во все глаза глядел то на одного домового, то на другого.
Лицо старика было сумрачным, как всегда.
– Домовые? – на всякий случай осведомился я.
– Они самые, – кивнул Черчек. – Этот, – он указал на кошачью жертву, сидевшую на земле у моей ноги, – этот – запечник. В доме живет, за печкой, значит… Куролесит помаленьку, но ничего, терпеть можно. А вон тот, злющий, – подвальник. У-у, Падлюк!
– Что, вредный? – сочувственно спросил Талька.
– Не то слово! – Тут Черчек узрел железку в руках подвальника, и его лицо (Черчека, а не домового) налилось дурной кровью. – А-а, так вот куда мой ножик запропастился! Я его, как дурень, с зимы ищу, а он тут, рядышком! Ну, Падлюк (это кличка у него такая, Падлюк, – пояснил старик мне), ну, зараза, ты у меня допрыгаешься! А ну, отдай немедленно!..
Подвальник по кличке Падлюк скорчил в ответ гнусную рожу – она у него и так была весьма паскудная, а стала еще гнуснее, – затем скрутил здоровенный, не по росту, кукиш и шмыгнул обратно в подвал.
Чем и спасся от полена, которым не замедлил запустить в него возмущенный Черчек.
Нож подвальник, естественно, уволок с собой.
– Так вот чем он бочку с квашеной капустой открыл! – продолжал кипятиться дед. – И добро б сожрал, а то по всему погребу разбросал! Вонища теперь от нее – я-то не сразу спохватился… А ты, Болботун, чего веселишься?! – прикрикнул он и на запечника. – Небось вместе шкодили, а?
Запечник Болботун поспешил спрятаться за мою ногу, а Черчек все бушевал, сразу забыв о нем:
– Ну попадись он мне, этот паразит! То сапоги дерьмом вымажет, – старик уже обращался ко мне, явно в поисках сочувствия, – то зимой ступеньки водой польет – чуть ноги себе не переломал! И свечки все в доме сожрал, на пару с этим, – обличающий перст уперся в прятавшегося за моей ногой Болботуна. – Падлюк! Одно слово – Падлюк!..
Внезапно Черчек успокоился и, отвернувшись, тихо проговорил:
– Вот это и есть Лица Лишенные… Память то есть потерявшие. И я таким стану… после смерти. Или еще чем похуже. Недолго ждать осталось…
Он замолчал и медленно побрел к дому, так и забыв отдать мне собранный узелок.
Я совсем по-другому взглянул на запечника, который развлекался тем, что со всего размаху всаживал свой маленький кулачок в мою ногу и с чмоканьем извлекал его обратно. Вот он, бывший маг, колдун, владелец Дара, живая сказка, прошедшая сквозь врата смерти…
Зачем? А вот зачем…
Я порылся по карманам и обнаружил кусок зачерствевшей оладьи. По крайней мере лучше, чем свечка.
Присев на корточки, я протянул еду запечнику.
– Давай знакомиться, хулиган… Меня зовут Анджей. Есть хочешь?
Отскочивший было Болботун недоверчиво покосился на меня, опасливо приблизился, поспешно схватил угощение и, пискнув что-то неразборчивое, снова отскочил. Еще раз глянул на меня и набросился на еду.
Талька тронул меня за плечо.
– Ты знаешь, папа, – вздохнул он, – Черчек мне тоже умереть предлагал. А Дар ему отдать. Говорил – я тогда к маме вернусь… тебе просил не рассказывать, а то, мол, ты сердиться будешь. Я, конечно, хочу к маме… только страшно. Вдруг умрем, а потом – как эти, – Талька указал на жадно жующего запечника. – По подвалам прятаться…
Болботун слизнул крошки и уже уверенней шагнул ближе, знаком прося добавки. По-моему, он начал ко мне привязываться. На мою голову.
– Эй, – заорал в хате Черчек, громыхая посудой, – сюда иди! Поешь перед дорогой да переоденешься…
Я смотрел на Болботуна. Взять его с собой, что ли? Живая душа, все веселее…
Рядом сопел Талька. Он тоже хотел идти со мной и знал, что не возьму.
И не возьму. Я нутром чуял – а может, не нутром, а доставшимся мне осколком Дара, – что здесь ему будет безопаснее. Здесь – Бакс. Здесь – Черчек и Вилисса, которым мой сын позарез нужен живым.
Чтобы он мог добровольно умереть.
И отдать им Дар.
Я неслышно выругался и пошел к избе…
Интермедия Бакс
Кто скажет мне «подлец»? Пробьет башку? Клок вырвав бороды, швырнет в лицо? Потянет за нос? Ложь забьет мне в глотку До самых легких? Кто желает первый? Ха! В. Шекспир…Ребята поработали на славу – все небо, как матом, обложило серой мглой, и никакой тени видно не было. Странно получается: мы – нечисть по их понятиям – тень отбрасываем, а они, вроде как нормальные люди, – нет. У нас дома все наоборот… Может, они как раз нечисть и есть?
Ладно, чего зря мозги сушить… Вон, кстати, и кабак – здоровенный бревенчатый дом с широким и на удивление чистым крыльцом… ни тебе плевков, ни окурков, ни шелухи от семечек – чисто воскресная школа, а не злачное место!
Вот черт. Опять забылся – пальцы сквозь ручку прошли! Аккуратнее надо, медленнее… вот так.
Хорошо, что не стемнело еще полностью и свечей не палят – а то бы меня мигом раскусили. А так – ничего, сойдет. Вон и столик свободный.
– Чего изволите, Человек Знака? – вырастает передо мной толстопузый хозяин.
Человек Знака? Ладно, леший с ним, пусть будет Человек Знака.
– Пиво есть? – Какой-то мелочью я у Черчека разжился, на пиво наскребу…
– Конечно!
– Два пива.
– Желаете что-нибудь из еды?
Да ну его, авось хватит!..
– Желаю. Рыбку желаю.
– Сию минуту!
Хозяин исчезает. И тут же возникает вновь, с двумя глиняными кружками, на которых стоит подносик с сочащейся жиром рыбиной, нарезанной изящными ломтиками, и из них выглядывает алая икорка. Однако! Обслуживание у них – как у нас в ресторане… да еще не во всяком. Может, и житье-бытье у них не такое сволочное, как его старый лопух Черчек расписывал? Ну пришли местные оболтусы плюхами перекинуться – так у нас это дело сплошь и рядом! Взять хотя бы того лохматого, что с НАШЕГО хутора, – за банку первача ножом пырнет!
Тут я замечаю, что хозяин заведения все еще стоит возле моего стола. А-а, конечно, – денег ждет! Счет выписывать здесь, похоже, не принято. Кстати, и вывески на кабаке нет – странно…
Осторожно, чтобы не въехать рукой внутрь стола, лезу в карман. Извлекаю оттуда всю наличность (главное, чтобы сквозь ладонь не просыпалась).
– Этого хватит?
Хозяин оторопело смотрит на меня и молчит.
– Что, мало?
Хозяин совсем теряется, бормочет что-то непонятное, берет деньги, оставляя мне две монеты, и пятится к себе за стойку. Чего это он? Может, я что не так сделал? Ну и хрен с ним!
А вот пиво у них отменное – густое, темное, холодное и неразбавленное! Не то что у нас… Рыба, правда, на вид незнакомая, так мне с ней не лясы точить, а к пиву – просто прелесть…
Сижу. Пиво пью. Гляжу по сторонам. Хорошо! Закурить бы еще – так никто не курит. Ну и кабак! Все сидят тихо, чинно, почти не разговаривают, не курят, не шумят… и больше двух кружек никто не берет – ни одного пьяного или даже заметно подгулявшего.
Впору табличку вешать: «Кабак высокой культуры!» И надписи неприличной ни одной нету…
Заходят еще двое – самая что ни на есть деревенщина, разве только не в лаптях. Хотя нет, один в лаптях! И туда же – шапки долой, с порога кланяются, ноги вытирают… как в японских тренировочных залах, додзе по-японски… Только там еще приговаривают: «Здравствуй, зал, я пришел совершенствоваться!»
А тут как? Здравствуй, кабак, я пришел совершенствоваться?
Батюшки – за стол садятся одновременно и совершенно одинаково. Почище, чем в армии! Так ведь никто за ними не смотрит, вроде бы сержантов тут нет…
Или есть?
Опять хозяин тут как тут, сама любезность, рожа от радушия скоро лопнет.
– Чего изволят Люди Знака?
– Мы нижайше просим вас принести горячей еды для двух человек и по одной кружке пива каждому сидящему перед вами.
– Извольте!
Твою маму!.. С виду – мужики как мужики, только что от сохи, а выражаются – чисто интеллигенты прошлого века! Хотя черт его знает, как тогда интеллигенты выражались, может, еще похлестче меня!..
Ага, жратву притащил… Ну, что теперь?
– Возблагодарим Книгу Судеб за пищу телесную!
– Возблагодарим!
– Спасибо и ласковому хозяину!
– И гостям дорогим – спасибо!..
Так вот он чего от меня ждал! Еще бы, таких слов и я бы дождался… а денег они сразу не дали. Так, вот один встал…
– Спасибо этому дому!
И деньги – на стойку. А хозяин их даже не считает – и так, видно, знает, что тютелька в тютельку…
– Спасибо и вам. Приходите еще. И пусть свет Книги Судеб озарит ваш путь…
Вот это да! Как в кино. И в самом деле – иной мир. Какие они все были на хуторе – злые, потные, с колами, – а тут только что целоваться друг к другу не лезут! И не спьяну ведь… здесь и пьяных-то – ни одного.
С этими церемониймейстерами надо держать ухо востро. И вообще пора отсюда сваливать, пока меня не раскусили, – драться мне сегодня неохота, а на такую вежливость я не потяну. И на дворе темнеет, того и гляди свечи зажгут… и пиво я допил.
Ну-с, как у них это звучит?
– Спасибо вашему дому, пойдем к другому!
Вроде так? Да не смотри ж ты на меня такими квадратными глазами, я тебе уже заплатил! Забыл, что ли?
Ага, вспомнил!
– Спасибо и вам. Приходите еще. И пусть свет Книги Судеб озарит ваш путь, – скороговоркой выпаливает хозяин. Похоже, он очень рад, что я наконец покидаю его богоугодное заведение.
Мы, как болванчики, кланяемся друг другу – кто кого перекланяет. Тут я вспоминаю кое о чем и вместо того, чтобы направиться к двери, иду к тлеющему в углу камину.
Я лезу в карман, достаю превосходный окурок и прикуриваю от углей, мельком бросая взгляд на хозяина. Он совершенно ошалел, а все посетители просто прилипли гляделками к моей самокрутке.
– Извиняюсь, люди добрые! Я сейчас выйду.
И я поспешно покидаю этот странный кабак. Слишком поспешно. Пальцы снова проходят сквозь ручку. Черт! Но, кажется, никто ничего не заметил.
Плотно закрываю за собой дверь. Снаружи моросит мелкий противный дождик. Явно наши перестарались…
Стою под навесом на крыльце, курю. Похоже, я немного напортачил. Могут и сообразить.
Плевать! А впрочем…
Я с удовольствием давлю окурок на вощеных досках крыльца и смачно сплевываю.
Хреновый из меня разведчик! Грублю, пива много пью… курю еще…
Бросить, что ли?
Сага о книжном ларе
Сигурд Ярроу посмотрел на Книгу. Она была неподвижна – оазис мертвого спокойствия в разверзшемся аду. Она ждала.
Г. Л. Олди, «Сумерки мира»Книга жила, ком мерзейшей мощи природы, спрут тайных знаний, стремящийся вырваться из толщи скал и тройных заклятий; вырваться, выползти через своих владельцев – своих рабов!..
Г. Л. Олди, «Живущий в последний раз»Якоб огляделся – молчал алтарь, черный валун Книги неподвижно лежал на прежнем месте, и застывший идол ухмылялся своей оплавленной загадочной маской.
Г. Л. Олди, «Страх»Глава шестнадцатая
Благородный муж не отойдет от истины, если станет ограничивать излишнюю ученость посредством ритуала.
Конфуций– …Пшел вон! – чавкнула грязь под ногами. – Ххххаммм!..
Я промолчал и лишь оперся о телегу, с которой только что спрыгнул. С неба третий день накрапывало, земля успела раскиснуть и превратиться в липкое месиво, пахнущее давлеными грибами; и настроение у меня было, как у той пегой клячи, что покорно тащила телегу через все это безобразие.
Серая обложная дерюга у меня над головой – результат совместных усилий Тальки и Вилиссы – время от времени трещала по всем швам, пропитывая мир бесцветным однообразием; и я мог не опасаться за свою предательскую тень.
В этой грязи утонула бы и тень архангела с тенью трубы во рту, возвещающей день – или тень? – Страшного Суда.
– Ладно, – сказал я сам себе, засовывая большие пальцы рук за новенький пояс с наборными серебряными бляшками (и где Черчек его выискал?). – Ну-с, что мы имеем дальше?..
В кармане моей городской, привозного синего сукна, накидки завозился Болботун. Я успокаивающе похлопал ладонью по карману – и запечник тут же уцепился за обтянутую полоской кожи кромку и полез вверх, подтягиваясь и болтая ножками.
– Цыц! – шепнул я одними губами, зная, что слуху Болботуна черной завистью завидуют волки в лесу. – Уймись, недоделок!
Я вовсе не грубил запечнику – иного обращения он попросту не понимал и на просительный тон вообще не реагировал.
Запечник угомонился, и я стал оглядываться по сторонам.
Редкий лес вокруг меня кишел паломниками. Действовали они на удивление слаженно и результативно, без лишней возни и суеты; прямо на глазах возникали шалаши и какие-то сооружения из веток и ткани, напоминавшие палатки или юрты кочевников.
У немногих деревянных домиков, стоявших здесь с самого начала, разжигались костры и устанавливались опоры для вертелов и котлов.
Еще дальше виднелась крыша приземистого каменного здания – наверное, это и был Книжный Ларь, местная святыня. Мне он напомнил беременную жабу, сидящую в осоке, – тем более что с запада и юга Ларь окружал глухой на вид частокол.
Не самое удачное сравнение для культовой постройки – но другого у меня не было.
…Кряжистый детина налетел на меня, чуть не сбив с ног, по инерции проскочил еще несколько шагов и остановился, глядя мне в лицо.
Я уже начал было прикидывать варианты, самым приемлемым из которых была попытка спешно уйти от краснорожего торопыги, – и внезапно я узнал его. Узнал, и все варианты завертелись в моей голове, колотясь о стенки черепа.
Передо мной стоял Пупырь. Чей нож ковырялся в моих ребрах еще при первом пришествии.
Я машинально обернулся – нет, приятеля Пупыря с дубиной поблизости не наблюдалось.
– Беру на себя! – глотая слова, забормотал Пупырь, низко кланяясь. – Все, как есть, беру на себя, и прошу великодушно простить за Поступок… во имя Переплета, равнодушного и неумолимого…
Он замолчал и виновато уставился в землю. Пупырь явно чего-то ждал от меня – чужого для него человека, поскольку Пупыриная память оказалась изрядно дырявой, – он ждал, а я остолбенело слушал его извинения и чувствовал себя полным идиотом. Уж лучше бы он дал мне в морду! – чего я, собственно, и ожидал – или выругался… Да что ж я, как Болботун, речь нормальную понимать разучился?!
Беру на себя… простить за поступок?
– Беру на себя, – повинуясь неведомому наитию, просипел я и указал рукой на свое горло – хвораю, мол, голос пропал…
Пупырь просиял, еще раз перегнулся в поясе и умчался по своим делам. А я остался стоять, и только возня запечника в кармане привела меня в чувство.
Я пошевелил пальцами ног – мягкие замшевые полусапожки были немного малы, – покачался с носка на пятку и решил держаться прежней личины: состоятельный горожанин, скорбный горлом и незнакомый с прочими паломниками, а посему оправданно молчаливый и неуклюжий.
Черчек заверял, что в это время – в смысле, в самом начале Большого Паломничества – горожан у Ларя почти не бывает. Ну что ж, положимся на его опыт.
И все-таки – извиняющийся Пупырь… Черт меня побери!
Я одернул накидку, прижал к боку трепыхающегося Болботуна и зашлепал к ближайшему, так сказать, кормилищу. И поилищу, поскольку у крыльца дома торчали два бака из желтого металла, где что-то булькало, и три пивные бочки.
Я боялся. Дурацкие шутки, которые я судорожно выдаивал из дряблых сосцов моего сознания, не помогали. Я боялся. Очень. И страх был более материален, чем мое тело.
Плотный, горячий, пахнущий мокрой хвоей страх.
Я остановился у чахлой сосны и принялся наблюдать за группой паломников.
Они собирались кушать. И делали это так же основательно и деловито, как и все остальное. Раз – и столы, похожие на длинные лавки, застелены чистыми скатертями. Два – и миски стоят ровными рядами, а рядом с каждой лежит глубокая деревянная ложка. Три – и две дюжины человек сидят за столами на скамьях. А толстая повариха в ситцевом переднике методично сует половник в казан, и порции дымящегося варева наполняют подставленные миски.
Это было невероятно. Двадцать с лишком сельских мужчин и женщин – я готов был поклясться, что они и знакомы-то друг с другом не были! – за несколько минут сумели все организовать и приступить к трапезе, ни разу не толкнув друг друга, не повысив голоса, не забрызгавшись, не заняв чужое место, не…
Я почему-то вспомнил Ингин рабочий шкаф. Каждая папка моей жены знала там свое место, каждый карандаш – отведенный только ему стаканчик, любая книга мгновенно находила свою персональную щель между прочими… Эти люди – собравшиеся пообедать крестьяне, паломники Книжного Ларя, – они словно умели безошибочно ориентироваться в возникающих ситуациях и входили в пазы бытия, уготованные им, легко и без скрипа.
Повариха унесла опустевший казан, потом вернулась, подсела к столу, сразу же растворившись в массе паломников, – и все стихли, когда поднялся пожилой усатый крестьянин в расшитой жилетке поверх длиннополой рубахи навыпуск.
До того он молча сидел во главе стола.
– Возгласим Фразу, Люди Знака, – размеренно произнес он, воздевая руки к хмурому небу. – Крабат Орша, Господин Фразы от Лесных Промыслов.
– Человек Знака Ах, с Глухой заимки, – сказал сидевший справа от Крабата мужчина лет сорока с острым прищуром охотника.
Рядом с ним встал горбоносый и чернявый парень.
– Человек Знака Стэнч из Бяков, – он кивнул, сел и взял ложку.
– Человек Знака Кимбер с Плохих Пахот, – сообщил следующий за ним, кучерявый мужик с печальными синими глазами.
И тоже взял ложку.
– Менора, – худенькая девочка, казалось, сейчас переломится в талии. – Человек Знака Менора Ахова.
Они называли имена, и это было четче армейской переклички, потому что не было привнесено извне, не было продиктовано кем-то…
На миг мне почудилось, что эта аккуратность у них на уровне внутренней потребности, – и притихший было страх внутри меня расхохотался, приплясывая на месте.
А потом я понял, в чем дело. Одно-единственное слово вспыхнуло в моем мозгу, и в ответ этой вспышке ярче разгорелась та крупица, что тлела во мне Даром Вилиссы. Большая часть его попала к Тальке; к Баксу, похоже, не попало почти ничего, ну а я с тех пор – когда мы вошли в проклятый флигель с разобранной крышей, – ни разу не ошибался в выборе направления.
И в направлении размышлений – видимо, тоже.
…Одно-единственное слово.
Ритуал.
Поведение паломников было строго ритуализировано, от возведения шалашей до принятия пищи и накрывания стола; но весь ритуал был до того обыденным, незаметным и серым, что я не сразу почуял его обволакивающее присутствие.
Каждый знал, что и как он должен делать, чтобы всем было хорошо, чтобы все получалось; каждый шаг был расписан в мелочах, и обыденность превращалась в церемонию. Ритуал въелся им в душу, пропитал плоть, растворился в крови…
Даже ложки они брали одинаково – кончиками пальцев, а после происходило какое-то ловкое движение – и вот уже ложка зажата как положено.
Как положено.
И вежливый, обходительный Пупырь – он же явно бормотал нечто установленное, обязательное, ритуальное!.. Он делал это машинально; и мое первоначальное молчание выбило его из колеи почище удара дубиной.
Он не знал, что делать! – и когда я случайно угадал положенный ответ, или почти угадал, Пупырь был счастлив.
Что же я просипел тогда Пупырю?
Что?!
Беру на себя…
Что я брал на себя? Господи – что?!
Неужели последствия поступка… Какого? Того случайного толчка, которого я бы даже и не заметил, если бы Пупырь не остановился… ну, выругался бы в крайнем случае…
А если бы заметил? Это что – поступок?
…Прошу великодушно простить за Поступок…
Это – Поступок?!
Перекличка обедающих закончилась.
– Да не сотворим мы ничего, колеблющего Переплет! – подвел итог усач в щегольской жилетке и первым принялся за еду.
Я стоял в пяти шагах от них, и ни одна зараза не предложила мне присоединиться. По-моему, им это даже не пришло в голову.
Как участникам ритуала королевского миропомазания не приходит в голову сплясать джигу перед троном.
Они возгласили Фразу, и постороннему в ней не было места.
Глава семнадцатая
Будучи вне дома, держите себя так, словно вы принимаете почетных гостей. Пользуясь услугами людей, ведите себя так, словно совершаете торжественный обряд.
КонфуцийЕще с полчаса я рассеянно бродил между деревьями, исподтишка наблюдая за паломниками и прижимая к боку накидку, в кармане которой буйствовал оголодавший Болботун.
Я был не менее голоден и прекрасно понимал запечника. Но вмешиваться в скрупулезность ритуала, царившего вокруг, в жестко организованную последовательность мелочей…
Опасно, однако!
Вот вам два слова – «опасно» и «однако». Вроде бы похожи, и букв поровну, и строение близкое, а смысл разный, и не спутаете вы их никогда. Переставь в них буквы местами – вовсе бессмыслица получится!
Вот вам два человека – я и Пупырь, или этот чернявый Стэнч из каких-то Бяков. Вроде бы похожи мы, и руки две, и ноги две, и голова одна… а поставь нас на место друг друга – еще похлеще бессмыслица выходит. И только мертвый не заметит, что чужое наглое слово самозванно затесалось в привычно-ритуализованную последовательность букв, знаков, слов, фраз, жизни…
Ритуал Бытия, так сказать… вот ты какая, жизнь загробная!
Впервые моя нахрапистая идея проникнуть в Книжный Ларь показалась мне безнадежной. Если в обыденности разнообразной я еще мог на что-то рассчитывать, то в обыденности ритуальной – у меня не было ни единого шанса.
Ни единого.
Словно я хотел избавиться от своей тени при ярком солнце.
И тут я увидел ее. Ту самую хрупкую девчушку-подростка, которая усердно возглашала Предобеденную Фразу третьей… или четвертой после усатого тамады.
Как же ее звали?.. Черт, не помню…
Видимо, она уже довольно долго вертелась вокруг меня, старательно изображая безразличие – губки поджаты, тонкие ручки заняты легкой плетеной корзинкой, и глаза наивно хлопают неправдоподобно длинными ресницами, поглядывая то на меня, то куда-то в сторону.
Менора! Ее зовут Менора!.. Ухова.
Или Ахова.
Я поманил ее пальцем. Девочка подумала и медленно направилась ко мне, забросив корзинку на плечо и теребя подол клетчатого платья.
Пока она шла, я все думал – что же я скажу ей?
А потом она подошла и остановилась, скромно потупив глазки.
Она подошла – и я придумал.
– Беру на себя, – негромко, но отчетливо произнес я.
– Что?! – изумилась она.
– Все. Все беру на себя. Ты ведь что-то хотела сказать мне? Говори, не бойся…
– Вы ведь не обедали, – тихо сказала девочка Менора. – Из города никого нет, и вы выпали из своей Фразы… а эти… они…
Она подумала и поправилась:
– А мы вас и не позвали даже. Там за большой сосной – видите? – кухня для Выпавших из Фразы. Тем более что вы наверняка Хозяин Слова или даже Господин Фразы… Подойдите, и вас покормят.
– Хорошо, – улыбнулся я, и она робко улыбнулась в ответ. – Спасибо тебе. Я смотрю, ты здесь не в первый раз?
– В первый, – она снова глядела в землю, и краска бросилась ей в лицо. – А про кухню мне папа рассказал. Вообще-то я…
Я ждал. И дождался.
– Вообще-то я – половинка. У меня мама была Пришедшей из-за Переплета. Вы… выползнем. (Слово это далось ей с огромным трудом.) Сгубили ее, в прошлом году еще… деревом в лесу привалило, а папа говорит, что наверняка Боди вмешались. Папа ведь один не побоялся на Чужой жениться… теперь вот меня в Книжный Ларь привез – пусть все видят: Ахова дочка приняла Закон Переплета.
– Тяжело? – участливо спросил я.
– Тяжело… жить тяжело. Им все просто, они с рождения в Переплете, а я что ни сделаю – все Поступок. Раз – Поступок, два – Поступок, а судьба не дремлет… то ногу сломаю, то дом загорелся, а папа на промысле… или телок годовалый в воду свалился, а там бочаги. Из-за меня. От Переплета не укроешься, не уговоришь…
Она внезапно повернулась и унеслась прочь, оскользаясь на размокшей земле, а я стоял как вкопанный и все глядел вслед девочке-половинке с больными глазами.
«Они одного возраста, – думал я, – Талька и эта Менора… Господи, что это за Переплет такой, где за каждый Поступок – по морде? Ведь такую чушь Поступком зовут, что мимо пройдешь – не заметишь! Конечно, если все по ритуалу делать: жрать, спать, совокупляться, дохнуть… шаг влево, шаг вправо рассматривается как побег… рассматривается – кем?..»
И тогда я снова запутался в паутине. Она облепила меня со всех сторон, клейкими нитями опутав руки, ноги, мозг; я слабо ворочался в ней – бездумно, бессмысленно, – а от движений моих по нитям, как по струнам, бежал легкий трепет, и вдалеке равнодушно-сытым пауком ждал таинственный Переплет. Он отражал дрожь, рожденную мной, и она возвращалась ко мне – результат моих трепыханий, моих Поступков, моих…
Возвращалась, становясь судьбой.
А когда мне показалось, что я начинаю что-то понимать, – мир вновь стал прежним, и паломники дружно убирали со столов, двигаясь в накатанном ритме ритуально-привычных действий.
Я сунул руку в карман. Болботун молча укусил меня за палец.
– Все, друг запечный, – бросил я, глядя прямо перед собой и видя растекающийся туманом Переплет. – Хватит мудрствовать. Жрать пошли.
И мы пошли искать кухню Выпавших из Фразы.
Проходя мимо Меноры, помогающей тому самому мужчине, чей взгляд выдавал в нем охотника, я уловил странный обрывок их разговора.
– …Не врешь, девка? А ну, повтори!
– На себя берет, сказал!..
– Что? Что берет?!
– Все берет, сказал… все берет, и все на себя…
– Добра мне полные руки! – потрясенно сказал охотник.
И замолчал.
Глава восемнадцатая
Почтительность без ритуала – самоистязание. Осторожность без ритуала – трусость. Храбрость без ритуала – безрассудство. Прямодушие без ритуала – грубость. КонфуцийТаких горемык, как я – в смысле Выпавших из Фразы по причине несвоевременного паломничества, – оказалось еще трое. И мы основательно подчистили запасы отведенной для нас кухни. Весьма основательно, потому что запечник в моем кармане лопал за четверых, а я все просил добавки и удивлялся про себя – куда ж это в Болботуна столько лезет?! Не иначе как вредность его энергоемка до чрезвычайности…
Во время запоздалого обеда я неустанно поглядывал на своего соседа – хлипкого старикана (Хозяина Слова Крюхца) с носом невообразимо длинным и невообразимо синим – и старался повторять все его действия.
Даже жевал, как он. На левую сторону. Так сказать, на всякий случай.
И ничего – обошлось без приключений. Даже вкусно обошлось. С мясом и картошкой.
Пару раз неподалеку мелькали уже знакомые мне белые рясы, неестественно чистые в окружающей слякоти. На них осторожно косились, так что я не был исключением.
Хотя я – это понятно, а в глазах прочих ясно читалось уважение пополам с опаской. Видимо, репутация белых Страничников была здесь весьма… и весьма.
Поначалу я непроизвольно вздрагивал при их появлении, но близко к кухне они не подходили, и я перестал дергаться. Не знаю, бывает ли у привидений язва желудка, но наживать ее я не собирался.
А потом сизый вечер задумался – темнеть ли ему окончательно, переходя в ночь, или погодить на сытый желудок, – а я обнаружил возле себя отца Меноры.
Он стоял с тем вежливо-равнодушным видом, которым отличалось подавляющее большинство паломников; он смотрел чуть мимо меня, щуря острые, как лезвие ножа, глаза – и такие же холодные, как это почти реальное лезвие; он словно вышел погулять перед сном и совершенно случайно остановился именно в этом месте, – но я-то знал, чувствовал, что липовое все это, напускное…
Ждал охотник, меня ждал, и от меня ждал…
Чего?
Я вспомнил обрывок его разговора с дочкой – и понял. И встретился с ним взглядом, почти физически ощутив требовательность и неожиданную тайную надежду в глубине светлых настойчивых глаз.
– Беру на себя, – негромко бросил я в сырость и серость.
– Все? – тут же спросил он.
– Все, – Наглость, похоже, стала входить у меня в привычку. – Все беру на себя. Что дальше?
– Пошли, – шепнул охотник. И громко: – Прошу Человека Знака снизойти до скромного временного жилища Человека Знака Аха-промысловика, и дочери его Меноры, да отразит Переплет Поступки наши и воздаст по мере и весу…
Мы поднялись на пригорок и круто взяли влево, лавируя между стволами деревьев, почти неразличимых в сумерках. Влажный воздух липнул к лицу, как отсыревшая тряпка; я зажмурился, и тусклая искорка Дара Вилиссы разгорелась во мне, превращаясь в путеводный огонек – указующий и направляющий.
Я так и шел – с закрытыми глазами, – поскольку ни на зрение, ни на слух потомственного горожанина сейчас нельзя было положиться, даже на зрение и слух покойного горожанина, каким был я; или ложного горожанина, беря во внимание мою личину. Я двигался, словно нанизанный на жгучую нить нового чувства направления, и ни разу не врезался лбом в сосну, хотя где-то подспудно опасался этого; я шел почти так же тихо, как и мой спутник, я все боялся просочиться через что-нибудь…
– Пришли, – сказал он наконец, и я с некоторым сожалением вернулся к видимой реальности. Впрочем, видимой плохо.
Мы ступили на крохотное крылечко, скрипнула дверь – и темнота этой деревянной хибары обступила нас со всех сторон. Я прислушался к своим новым ощущениям и понял, что стою в тесном коридорчике на крыше какого-то люка – подпол, что ли? – а справа от меня есть совсем маленькая комнатка и слева есть комнатка, а прямо передо мной стоит массивный сундук.
Я для пущей убедительности треснулся об его угол коленом и зашипел сквозь зубы, поскольку вышло это натурально и до чертиков больно.
– Сейчас я свечку зажгу, – сочувственно буркнул промысловик Ах, а я порадовался, что он не видел, как часть моего колена въехала в дерево сундука и преспокойно выехала обратно.
Потом я подумал, что процесс моей материализации явно идет полным ходом, поскольку для просачивания мне теперь требовались значительные усилия; потом я шагнул в правую комнатку, садясь прямо на пол; потом…
Потом я испугался. Во-первых, садясь, я не ощутил привычной тяжести в кармане и понял, что треклятый запечник Болботун уже успел куда-то смыться. А от запечника, вышедшего из-под контроля внутри родной для него среды, то бишь дома, можно ожидать чего угодно.
Хорошо хоть он – запечник. Я вспомнил его приятеля, подвальника с милой кличкой Падлюк, и невольно вздрогнул.
А во-вторых, до меня только тут дошло, что Ах сейчас зажжет свечку, – и куда я дену свою тень, которая немедленно замаячит на стене?!
Сбежать, что ли? А дальше…
А дальше сталь ударила о кремень, затлел трут, наполнив комнату противным запахом паленого, на миг вспыхнул фитилек свечи…
Вспыхнул – и погас. Остались лишь вонь и темнота.
– Ах ты… – раздраженно бросил Ах – то ли выругаться хотел, то ли предков своих Аховых помянул сгоряча – и снова чиркнул огнивом.
Брызнули искры, но в самый последний момент промысловик Ах споткнулся обо что-то и выронил трут. Он долго искал его на полу, в конце концов нашел и выяснил, что теперь пропала свеча, а трут умудрился каким-то невообразимым образом насквозь промокнуть и перестал выполнять свою основную функцию.
Я давился беззвучным смехом, потому что в карман ко мне уже забирался запечник Болботун, донельзя довольный собой и пофыркивавший от удовольствия мне в ладонь. Я легонько шлепнул его по волосатой макушке, а он сунул мне в руку злосчастную свечку, которую невесть как умудрился затащить ко мне в карман. Я еще раз шлепнул запечника и расслабился.
– В темноте посидим, – бросил я в сторону Аха, озабоченно шарящего вокруг себя. – Что нам, боязно без света?
– И ничуточки не боязно, – донесся из угла уже знакомый голосок. – Даже наоборот…
Менора! Менора Ахова! Половинка с плетеной корзинкой…
– Ну и ладно, – отозвался Ах и уселся напротив меня – судя по звуку и моим обострившимся ощущениям.
Некоторое время мы молчали.
– И был день, – чужим скучным голосом вдруг заговорил Ах, непривычно выпевая слова, – когда Пустой демон Дэмми-Онна бился над Книгой Судеб с Отцом Гневных Маарх-Харцелом, и оба они рухнули в Бездну, откуда не возвращаются, – а Книга осталась. В день тот и были положены первые границы миру сему, а позднее в жизнь людей вошел Переплет и Закон Переплета…
Я поежился, и мне очень захотелось выйти на свежий воздух, словно у меня внезапно объявилась боязнь замкнутого пространства.
– Принявший Закон Переплета входит в Книгу Судеб малой частицей и становится Человеком Знака, Хозяином Слова, Господином Фразы или даже Отцом Белой Страницы. Жизнь принявшего Закон проста и приятна и течет в положенных берегах вне зла и страданий, вне желаний и вне выбора – ибо он знает, что делает, и делает то, что знает. Не совершай другому зла – и не воздастся злом тебе самому. Не совершай подлости – и останешься чист. Не совершай…
«Не совершай… – шепнула тьма мне на ухо, и в ответ дробно ударили капли дождя по крыше. – Не совершай… ничего не совершай… ничего…»
– …судей можно купить. Люди могут пройти мимо. Переплет беспристрастен и неподкупен. Поступки людские колеблют Переплет, отзываясь большим и малым трепетом, и неизбежно воздаяние судьбы за каждый Поступок; и лишь Переплет знает, где сокрыто доброе и где лежит злое…
«Карма, – неожиданно вспомнил я. – Карма древних индусов. Закон воздаяния за содеянное. Да воздастся каждому по делам его… Только у нас люди склонны откладывать воздаяние на потом, на жизнь загробную или следующее перерождение, а здесь… А здесь, видимо, – Переплет. Воздаяние скорое, неизбежное, беспристрастное и неумолимое. А главное – ЗДЕСЬ. ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. О боже, каково им жить с судьбой-надзирателем за плечом?! Шаг влево, шаг вправо…»
– Не совершай Поступков, не покидай отведенной строки в Книге Судеб – и будет существование твое в Переплете легким и радостным…
– Ах, – перебил его я, и голос охотника умолк, – зачем ты привел меня сюда? Сразу видно, что я – чужой, да? Этот, как их… выползень?
Ах не ответил. Ответила его дочь:
– Когда мама умирала, она сказала: «Если незваный гость задерживается, его выгоняют. Не хочу уходить от вас – да в спину подталкивают. Только знаю, придет за мной другой… Тот, Кто Берет На Себя. Как и в вашем старом пророчестве сказано. Не может быть, чтоб…» И не договорила. Умерла. Под открытым небом, как сама просила. Ты тот, другой, да? Тот, Кто Берет На Себя?!
Я молчал. Притихший Болботун ткнул меня кулачком в бок, поворочался и стал грызть украденную свечку.
– Я – охотник, – заговорил невидимый Ах, бросая редкие слова, как камни, в чернильные омуты ночи, и те отозвались усилившимся дождем.
– Я – охотник. В лесу жить, зверя бить – трудно без Поступков. Вот судьба на нас чаще иных и отрывается… Старые промысловики позже остальных Закон Переплета приняли. Дед моего деда еще тех сказителей помнил, что песни о Танцующем с Молнией пели, да о брате его названом, Хозяине Волков… Теперь такого не поют. И вообще поют редко. Иная песня – тоже Поступок. Я на Менориной матери женился – люди в лицо глядеть перестали. Белый Страничник к себе звал, увещевал, после грозился Боди на меня спустить, псов Переплетных. Да побоялся, видно, на себя такое взять…
Странная мысль пришла ко мне в голову, пришла и расположилась, как у себя дома.
– Слушай, Ах, а ты мне говорить все это не боишься? Даже если я – тот, за кого ты меня принимаешь, и ждешь ты от меня невесть каких чудес, то все равно ты тут на пять Поступков наговорил. Переплет, как я понимаю, не дремлет… А ну как шарахнет тебя от всей души? Не боишься?
– Чего? – искренне удивился Ах, и тихо засмеялась в своем углу Менора. – Ты же сам вначале сказал – беру, мол, на себя… Все беру. Значит, и мои слова, и мои Поступки – тоже. И Менорины. Тебя и шарахнет в случае чего, не меня же… хотя слова Переплета не колеблют.
«Скотина ты, а не охотник!» – подумал было я, затем прикинул, каково им всем живется, попавшим в Переплет, и извинился за непроизнесенные слова. Молча извинился.
Дождь плясал на крыше, топая и скользя на черепице.
– Спать давайте, – буркнул я, остывая. – В другой раз договорим. Или ты меня, Ах, на дождь погонишь?
– Не погоню, – серьезно ответил он. – За такое крепко схлопотать можно. Одарит Переплет лихоманкой, и руки дрожать станут – ты хоть и на себя брал, а мало ли что… Спи, где сидишь. Все равно постели никакой нету. На…
И тяжелый, пахнущий линялым мехом кожух шлепнулся мне на колени, чуть не придавив взвизгнувшего Болботуна.
– Мыши, что ли?.. – сонно протянула Менора, и мы принялись укладываться.
Уже засыпая, я вспомнил кое-что из слов Аха, и мне это ужасно не понравилось.
– Охотник, – шепнул я, – слышь, охотник… А Боди – это кто? Блюстители ваши, да?
Ах продолжал храпеть.
– Боди – это Боди, – недовольным тоном сообщила Менора. – Боди-Саттвы. Ну, эти… Переплетных дел мастера.
Она поворочалась и добавила:
– Равнодушные.
И после этого я долго не мог заснуть.
Глава девятнадцатая
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
КонфуцийЯ проспал.
Это было глупо, смешно, совершенно по-идиотски, но тем не менее я проспал. Под проклятым кожухом так тепло и уютно спалось, а сукин сын Ах почему-то меня не разбудил и смылся втихую, прихватив с собой Менору.
Я вскочил, наспех приводя в порядок одежду, проморгался для ясности взгляда, выволок из рукава кожуха сонного и упирающегося Болботуна – ишь, берлогу себе соорудил, нет чтобы растолкать, когда надо позарез! – и выскочил из домика, по дороге еще раз врезавшись в злополучный сундук.
Лес был пуст. И лишь из-за частокола Книжного Ларя слышался какой-то шум. Я навострил уши, уже не удивляясь дружному исчезновению паломников, и понял, что шум этот слишком упорядочен, чтобы называться просто шумом.
«Хреновый из тебя разведчик», – ехидно заявил мой внутренний голос, причем голос был вроде бы мой и в то же время почему-то Бакса.
И интонации такие противные…
Я предложил внутреннему Баксу вместе с его интонациями на время заткнуться и пошлепал к частоколу вокруг Ларя, с сожалением поглядывая на замшу своих щегольских полусапожек, превратившуюся в грязную коросту.
Поначалу я двигался осторожно, озираясь по сторонам и перебегая от дерева к дереву, – за каждым стволом мне мерещился белорясый Страничник или неведомо какой Равнодушный Боди, – но вскоре эта игра в веселых стрелков мне прискучила. Тем более что на всем пути к Книжному Ларю я не встретил ни одной живой души.
Птицы и белки – не в счет. Кстати, тень эта живность отбрасывала исправно, сам видел. Почти неразличимую из-за туч, но – тень.
В частоколе между столбами обнаружилась вполне приемлемая щель, и я немедленно приник к ней. Болботун выпрыгнул из кармана, перемазавшись в грязи с ног до головы, и тоже уставился в дырку у моих ног.
Книжный Ларь оказался при ближайшем рассмотрении двухэтажным зданием из красного кирпича, чертовски обычным и с предельно примитивной архитектурой. Куб без окон – и по периметру здания на высоте трех человеческих ростов тянулся широкий карниз, похожий на балкон.
Или узкий балкон, похожий на карниз. В общем, без перил.
На балконе-карнизе той стены, что располагалась справа от меня, стояли три Страничника. Белые-белые. Аж глазам больно.
Внизу под ними, прямо на земле, были расстелены простыни. Тоже белые-белые. Квадратом. Шагов по пятьдесят на каждую сторону.
А на всей этой немыслимой белизне в своеобразном порядке стояли паломники. Босые. Обувь аккуратно выстроилась у стены Ларя – наверное, чтоб не пачкать белые простыни, которые почему-то не пропитывались грязью, что была под ними.
И одежды на паломниках были черные-черные.
Это мне поначалу так показалось, но, приглядевшись, я увидел, что одеяния паломников скорее темно-синие. Или иссиня-черные.
Короче, чернильный цвет. Траур у них, что ли?..
– Ронг арр нофрет-са пату йонхмор-ри тсатха! – провозгласил центральный Страничник, а два боковых соответственно ударили в гонг и звякнули в серебряный колокольчик; и воздух над паломниками завибрировал.
Я ничего не понял. И, в общем, не удивился этому.
– Мосза зарх-ан кемта фриаш-шор!
Гонг.
Колокольчик.
И эхо. Смутный отклик, исходящий от толпы паломников. Отклик, заставивший вздрогнуть какие-то очень глубокие струны во мне – да и то, по-моему, не мои, а Вилиссы.
Что-то будили эти слова в осколке Дара, в кровоточащем куске чужой души, случайно попавшем в меня и неотвязно напоминавшем о себе.
И затрепетала паутина моих видений.
– Арр абу-лоури мостейн ю-суи!..
Толпа содрогнулась. Каждый звук, произнесенный Белым Страничником, нашел в плотной людской массе своего человека – личного, лишь ему предназначенного! – и интонации Страничника удивительно совпали эмоционально с поведением паломников.
Один рухнул на колени. Другой вскинул руки к небу. Третий завыл и рванул рубаху на груди. Четвертый…
И когда глубокий баритон Страничника возвысился до восклицательного порыва – все заревели в экстатическом восторге, и это было потрясающе и противно одновременно, потому что слюни текли из разинутого рта упрямого промысловика Аха, и его дочери-половинки Меноры, и многих, многих других…
Черные люди на белых простынях. Чернильные люди на белых простынях. И белые рясы над чернильными людьми на белых простынях. И красный Книжный Ларь над белыми рясами над чернильными людьми на белых простынях.
И серое небо над нами всеми.
Я чуть не закричал, но успел зажать себе рот. Умница Болботун воткнул мне в ногу, чуть повыше щиколотки, какую-то ужасно острую занозу – и я был благодарен запечнику за отрезвляющую боль. Мне уже хотелось туда, к ним, – стать черным знаком на белоснежной странице, найти свое предназначенное место… хотелось видеть то, что видели они, что отражалось в стеклянных от счастья глазах.
Болботун довольно заухал и потянул меня за штанину.
Мы обошли частокол, выйдя к тыльной стороне Ларя, где никого не было; Болботун юркнул в щель, я со скрежетом зубовным просочился насквозь – и мы, оглядевшись, вошли в Книжный Ларь.
Дверца там обнаружилась. Маленькая такая, неприметная, покоробленная вся…
Снаружи доносились вопли Страничника.
Гонг.
Колокольчик.
И мелькало в глазах черное на белом… черное на белом… буквы на страницах… запекшаяся кровь на мертвой плоти…
Глава двадцатая
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности.
Конфуций…Вниз, вниз, ступенька, вторая, двадцать вторая… налево, еще раз налево, теперь направо, прямо и вниз – ступенька, третья, пятая, двадцать пятая…
Признаюсь честно – мне очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на Книгу Судеб. Или Зверь-Книгу, как звал ее старый Черчек. Тем более что мой внутренний компас с таким энтузиазмом откликнулся на эту задачу, что я успевал только шевелить ногами и удивляться по ходу дела тем катакомбам, которые обнаружились под Книжным Ларем.
Безлюдным, безликим, без… безопасным?
«И был день, – монотонно бубнил в моей голове голос промысловика Аха, – когда Пустой демон Дэмми-Онна бился над Книгой Судеб с Отцом Гневных Маарх-Харцелом, и оба они рухнули в Бездну, откуда не возвращаются, – а Книга осталась. И был день… день… день…»
Затем голос сбивался – я не сомневался, что именно в этот момент происходил очередной экстаз паломников наверху, – и ему на смену приходил визгливый противный дискант, попискивавший на окраине сознания:
– Книга Судеб, полное собрание сочинений! Переплет твердый, глянцевый, возможна суперобложка…
И снова – вниз, вниз, ступенька, вторая, двадцать вторая… направо, налево, дверь распахивается от легкого толчка…
И я остановился.
В маленькой комнате без окон ползал по полу белый Страничник. Ряса его была подкатана и прихвачена поясом, Страничник смешно двигал тощими старческими ножками, и нижняя губа его была закушена от усердия.
Лысина Страничника вспотела и глянцево отражала рассеянный сумеречный свет, заполнявший комнату. Милый такой старичок, однако, и милая стремянка в центре помещения, парочка милых рулонов в углу, мел и тряпка… миска с густой белесой жидкостью, над которой поднимался не менее густой пар.
Обои он переклеивать собрался, что ли?!
Страничник мельком глянул на меня и отвернулся. Спустя мгновение он просеменил еще к одной двери – в проем я видел письменный стол и угол какого-то фолианта на столе – прикрыл дверь, потыкал в нее пальцем и обернулся ко мне.
– Здравствуйте, молодой человек, – сказал Страничник, мучаясь одышкой и подслеповато моргая, отчего он сразу стал похож на седенького младенца, у которого бессердечные люди отобрали любимую соску. – Здравствуйте, молодой человек… Вы не подержите мне отвес?
– Подержу, – ответил я, глупо кивая, потом взял у него веревку с грузиком на конце, забрался на стремянку и стал держать отвес.
Я стоял на крохотной площадочке, венчавшей складную лестницу, я держал дурацкую веревку, стараясь не дергать рукой, а одышливый дедушка шустро ползал вокруг меня, размечая пол меловыми линиями, разливая свой дымящийся клей в металлические гнутые плошечки, расставляя их по углам, пришепетывая себе под нос, и тут кто-то громко закричал внутри меня – и я свалился со стремянки.
Старичок стоял напротив меня, у самой стены, и всю его благообразность как корова языком слизала. Шершавым, влажным языком…
Нет, не то чтобы у него объявились клыки или глубокие морщины меж косматыми бровями… и походил он по-прежнему на древнего младенчика, но только на младенчика, изловившего любопытную муху и намеревающегося пообрывать ей слюдяные крылышки.
– Вот так и прожил бы я свою жизнь, – доверительно сообщил он мне, – и не узнал бы никогда, какие дураки еще на свете водятся. А мы-то головы ломаем, кто же это Даром своим Переплет прошиб, кто Белого Отца Свидольфа от хуторка задрипанного погнал… Не ушибся, падленыш? Нет, вижу, не ушибся, нечем тебе пока ушибаться, выползень приблудный…
Я вскочил на ноги и кинулся к Страничнику, еще не до конца вникнув в происходящее, – и невидимый кулак с маху врезался мне в грудь, возвращая на прежнее место.
И даже не кулак, а сапог с невидимым каблуком и невидимой ногой внутри, ногой большой и умелой…
Я закашлялся, лихорадочно соображая, почему удар не проник в меня, как положено; затем я прыгнул к двери, в которую недавно вошел, – и снова оказался на полу.
Голова гудела колоколом, левая скула саднила и горела, будто ее натерли наждаком, и где-то глубоко в груди заворочался колючий еж, пофыркивая в клокочущих легких.
– Ах ты, гад… – выдохнул я, корчась от боли. – Поганка бледная!..
– Белая, – наставительно поправил Страничник, кривя пухлые губы. – Белая, а не бледная. Бледный у нас ты нынче… до полупрозрачности. Был бы ты, голубь, человеком, так подошел бы и дал бы безвинному старичку по последним зубам – человека Пять Углов не держат. Да только не человек ты пока, а нелюдю за Знаки хода нет… посиди в Пяти Углах, поразмысли, тень свою черную узлами завяжи…
Я глянул на пол и обалдел.
Оказывается, старая сволочь успела исчеркать весь пол своими кривулями, и я со стремянкой и отвесом остался в центре непонятной пятиугольной фигуры, по краям которой дымились плошки с проклятым клеем – хотя по идее он давно должен был остыть. И тень моя протянулась предательской черной кляксой к ближайшей плошке. Света почти нет, а вот поди ж ты!..
Ох, Вилисса, мне твой Дар – как осьминогу панама… не смыслю я в этом деле ни арапа!..
Или правильней сказать – ни рожна? Ничего, времени на раздумья у меня, похоже, навалом…
Страничник осторожненько обошел вокруг меня, стараясь держаться поближе к стенам, и остановился у двери, ведущей в коридор.
– Сегодня, голубь сизый, не до тебя нам. Вот Обряд Чистописания завершим, отдохнем слегка, а завтра с утреца и к тебе приступим. Или послезавтра. Плотно приступим, и слева, и справа, и как получится… Или до полудня обождем. К полудню Белый Отец Свидольф вернется, а он на тебя зол гораздо… ты со своими ублюдками чистоту его Страницы замарал, а Книга такого не прощает. И Свидольф тебе не простит…
Страничник повернулся ко мне спиной и открыл дверь. Он не видел, как из моего кармана выскочил запечник. На мохнатой рожице Болботуна ясно читались испуг и недоумение. Запечник юрко метнулся к одной из дымящихся плошек, на полпути резко остановился, словно почуяв жаркое дыхание пламени… Потом, раздумав возиться с плошкой, осторожно ступил через меловую линию, ворча себе под нос что-то на удивление серьезное и членораздельное.
Шаг. Другой. Как через минное поле шел. И спина прямая-прямая… Мне вдруг померещилось, что я слышу, как стучит его маленькое отчаянное сердечко… колотится об узенькую грудную клетку, будто пойманный воробей…
Страничник вышел, оставив дверь в коридор полуоткрытой. Через мгновение следом за ним выскочил запечник Черчекова хутора по прозвищу Болботун.
Кем он был и где он жил, прежде чем умереть и попасть за Переплет; прежде чем стать Лишенным Лица?..
Глава двадцать первая
Не познав судьбы, нельзя стать благородным мужем.
Конфуций…Время неслось, летело, шло, ползло, тащилось…
Наконец измученное время легло у порога и свернулось калачиком. А я лежал напротив, закуклившись в плотный кокон из прошедших минут, и я был крошечный-крошечный, а кокон большой-большой, минуты в нем слипались в часы, а часы…
В день? В ночь?
В сутки?
Плошки дымили, тягучий туман проникал в меня, спутывая мысли, и они текли ленивой рекой, как и должны, наверное, течь мысли у привидения в Пяти Углах. И назойливая щепка чужих слов все мелькала в потоке моего сознания…
«Был бы ты, голубь, человеком, так подошел бы и дал бы безвинному старичку по последним зубам – человека Пять Углов не держат. Да только не человек ты пока…»
Мне очень хотелось стать человеком. Хотя бы для того, чтобы дать безвинному старичку и не только по зубам. Впрочем, Болботун ведь выбрался из меловой ловушки, а он тоже не человек! Значит, дело не в этом… значит, дело здесь в том, успел ли ты оформиться до конца. А я явно не успел… тень отца Тальки…
«Папа, – шепнул в моей голове озабоченный Талька, – это ты?»
У меня не было сил отвечать. Мало ли какой бред в голову лезет, а я им всем отвечай, да?
«Папа! – не унимался Талька. – Это ты, я знаю! Вилисса, я нашел его, честное слово, нашел! Давай говори, что дальше делать! Ну и что, что больно, мы потерпим… сейчас я еще дядю Бакса нащупаю, и мы…»
Как-то очень неприятно осознавать собственное сумасшествие. Я попробовал было расслабиться – в этот момент они в меня и вцепились. Две трети Дара в оставшуюся треть… Я просто физически ощутил бесплотные руки Вилиссы, тонкие пальцы Тальки, уверенные лапы Бакса; и все они ухватились за меня изнутри, а мое личное сознание не только попустительствовало этому вторжению, но даже словно потянулось навстречу ему.
Мне было больно. Мне было до того больно, что каждая клеточка моего выгнувшегося тела взывала к богу отдельным захлебывающимся голосом, и этот молящий хор обжигающим вихрем захлестнул меня, вертя и подбрасывая; и время у порога испуганно вскочило, глядя на корчащегося человека.
Все. Все, все, все…
Неужели действительно – все?
Я стоял на коленях и молотил кулаками об пол, потому что боль в разбитых костяшках была почти приятна, потому что она отвлекала меня от воспоминаний о той ушедшей боли, а память то возвращала, то отдаляла ее…
Разбитые. Кулаки. Кровь.
Неужели снова – целый? Как раньше?
Как – до смерти?
Что-то забрезжило глубоко во мне, и я почувствовал – да, целый. И сыну моему было десятикратно больнее – первым я подумал о Тальке, не о Баксе, не о Вилиссе, и мне не было стыдно за это.
А еще вокруг меня приплясывала совершенно идиотская мысль, и я никак не мог от нее отделаться.
Мысль о законе сохранения, так сказать, материи в целом и наших бренных тел в частности. Мы ЗДЕСЬ формируемся – наши останки ТАМ разлагаются. А если мы ЗДЕСЬ формируемся ускоренными темпами?
Не хотел бы я оказаться на месте того сторожа в морге…
Вру. Хотел бы. Кем угодно, хоть сторожем, хоть веткой, хоть зайцем – но ТАМ. Дома. Кем угодно – хотя все-таки лучше самим собой.
Но обязательно – с Талькой. И с Баксом. Иначе я, наверное, повешусь ТАМ – и снова буду ЗДЕСЬ.
Я шагнул к плошке – ничто не остановило меня – и изо всех сил пнул ее ногой. Плошка взлетела в воздух, врезалась в стену, разбрызгав содержимое, – и там, где дымящаяся дрянь стекала по стене, желтела и осыпалась штукатурка.
Но до пола чертов клей не дошел. Исчез. А вот куда – не знаю. И знать не хочу.
Я плюнул на Пятый Угол и переступил границу, подумал, повернулся и плюнул еще раз. Уж больно много всякого накопилось…
Неожиданный сквозняк метнулся мимо меня, плошки гнусаво задребезжали и перестали дымиться, и дверь в смежную комнату со скрипом отворилась.
В щель по-прежнему был виден письменный стол и фолиант на нем. Я пожал плечами, пересек помещение наискосок и собрался выйти в коридор.
И зачем-то обернулся.
В смежной комнате за письменным столом кто-то сидел. Спиной ко мне. И спина эта наводила на разные невеселые размышления.
Чешуйчатая была спина. С зеленоватым отливом. С костяным гребнем вдоль позвоночника.
Еще один порыв ветра распахнул дверь полностью, и сидящий за столом повернул ко мне задумчивую крокодилью морду.
– Слушай, – раздраженно сказал ящер, – ты или туда, или сюда… сквозит же, а у меня и так хвост ломит…
Глава двадцать вторая
Утром познав истину, вечером можно умереть.
Конфуций– Я и есть Книга, – в очередной раз заявил ящер.
Я принялся грызть ногти на левой руке, потому что на правой грызть уже было нечего. Потом согласно кивнул и одновременно пожал плечами. Оба этих жеста плохо стыковались друг с другом, но очень удачно отражали создавшуюся ситуацию.
Мой чешуйчатый собеседник облизал раздвоенным языком половину своей, с позволения сказать, физиономии, и его трехпалая когтистая лапа поиграла письменными принадлежностями на столе.
– Терпеть не могу косности мышления, – сообщил он в пространство перед собой. – Вот если бы я сказал тебе, что я – материализация местных суеверий, и в придачу стал бы жевать твою ногу, ты поверил бы мне после первого укуса. Можешь не моргать, я и так знаю, что поверил бы… А когда я говорю, что я – Книга, у тебя на лице сразу появляется кисло-сладкое выражение, и меня от него тошнит.
Мясистый хвост заерзал по полу, издавая противный скрежет. И как он умудряется сидеть на табурете, с таким хвостом-то?..
– Книга не должна сидеть за столом, – с назидательностью самоубийцы возразил я. – Книга должна лежать на столе. Плашмя… вот.
– Почему? – удивился ящер, топорща гребень. – Потому что ты так привык?
А действительно – почему?
– Ну хорошо, – в хриплом голосе ящера пробилась усталость, – раз ты такой упрямый, то я сейчас лягу на стол. Тебя это удовлетворит?
Господи! Сейчас эта туша взгромоздится на стол, и…
И мои мозговые извилины вытянулись и встали во фрунт. Потому что табурет передо мной опустел. Без серного запаха и раскатов грома. Тихо и мирно.
А на столе возникла Книга. Толстая, увесистая, в черном кожаном переплете с витыми медными застежками.
Я сидел и молчал.
Книга лежала и молчала.
И долго это продолжаться не могло.
Я встал и приблизился к Книге. К Зверь-Книге. В углу кто-то визгливо захихикал. Я быстро обернулся.
Никого.
Тогда я протянул руку и коснулся переплета.
Ничего.
За исключением той мелочи, что Книга не открывалась.
Я потянул сильнее. И через мгновение мои пальцы хватали пустоту.
– Ну как? – поинтересовался ящер, вертясь на табурете.
– Здорово! – честно признался я.
Он польщенно оскалился. Или это должно называться улыбкой? Тогда уж лучше пусть он остается серьезным…
– Приятно слышать… а то, признаться, грубая лесть моих Страничников стала мне надоедать. Не то что такой твердолобый ортодокс, как ты… уж если похвалит, значит, есть за что. Хотя ерунда все это…
Ящер лениво помахал в воздухе лапой, а я все никак не мог избавиться от ощущения, что вот он еще раз так махнет, с небрежной ленцой… потом поднимет с пола мою оторванную голову и примется ее внимательно разглядывать своими немигающими глазами.
– Ты книги когда-нибудь писал? – внезапно спросил он.
Вопрос застал меня врасплох. Что-то выглядывало из-за внешней невинности этих слов, что-то холодное и скользкое, как…
Как змея.
Или как ящерица.
– Пробовал. Ничего не получилось. Читал – часто. А что?
– Да ничего… Вот и меня писали… однажды. А я, между прочим, не просил этого делать! Ну а читали потом – и не счесть сколько… Ты думаешь, это приятно – когда тебя читают?! Когда часть тебя уходит, исчезает в чужом сознании, а сам ты остаешься и ничего не можешь поделать?! Когда тебя едят живьем, и тебя же не убывает…
– Не знаю, – ответил я. – Меня еще ни разу не читали.
– А зря! Очень даже зря!..
Я не понял, что он этим хотел сказать. И, по-моему, хорошо, что не понял.
– Я – Книга Бездны, – продолжал меж тем ящер. – Я – Книга Небытия! Я – Зверь-Книга! Я – Книга Темного Знания, и во мне его хватит на добрую сотню миров! Когда я – Книга, я могу все… или почти все. Я могу – но не хочу. Не хочу! Потому что мне плевать на любые изменения в мире, рожденные моей силой, если мир меняется – пусть даже из-за меня! – а я по-прежнему Книга, неизменная и неподвижная, и даже плюнуть на этот мир не могу! Я тоже хочу меняться! Я тоже хочу жить! Я тоже хочу бояться смерти! Ваши дешевые маги не имеют и тысячной доли того, что имею я, но они радуются своей ничтожной мощи и страдают от желания ее увеличить. Я тоже хочу страдать! Я тоже хочу радоваться от сознания своего бытия, Бездна его побери!.. Да, хочу страдать!..
Я чувствовал себя очень неловко. Словно подглядывал за чужой исповедью.
– Но ведь вы же есть, – успокаивающе заметил я. – И не только как Книга. Нет, конечно, я понимаю – чешуя, хвост и так далее… Иногда может раздражать. Ну и что? Существуйте себе на здоровье, потрясайте миры… живите в полный рост…
– Дурак ты… хотя за сочувствие спасибо. Не в хвосте дело. Тем более что это тело у меня единственное, да и то случайно досталось. Как Личность я в нем еще худо-бедно существую, а вот как Книга, как Знание – дудки! Меня же сначала прочитать надо, до конца прочитать, мозгами понять, через душу пропустить! А это же – Зверь! Мозгов у него – хорек наплакал, а вместо души – желудок! Вот и выходит, что когда я – Книга, я могу, иногда даже делаю, но всегда – не хочу! А когда я – Зверь, я хочу, но не могу…
Сперва я хотел посоветовать ящеру, чтобы он творил в образе Книги – хотя он, конечно, натворит, дай ему волю, – а потом становился Зверем и радовался. Нет, глупо… Становиться Зверем, вспоминать уже свершившийся акт творчества, да еще как бы не совсем твой, вспоминать и мучиться нынешним бессилием – какая тут, к чертям собачьим, радость?! Хоть в петлю лезь… И вообще неизвестно, может, этот крокодил для радостей в принципе не приспособлен…
– Слушайте, а если вам найти подходящего человека? – говоря это, я имел в виду отнюдь не себя самого. – Пусть он прочитает вас до конца, обретет вас в полном размере, и станете вы с ним жить-поживать в этаком симбиозе: ваши знания и мощь плюс его существование!
Морда ящера оказалась совсем близко, я уже видел собственное отражение в его выпуклых глазах, похожих на светящиеся окна заброшенного дома на перекрестке неведомых дорог; и там, за моим испуганным отражением, дрогнул черный переплет, открылась Книга, и зашелестела первая страница…
…Горы вздыбились бешеными котами, щетинясь одичалым лесом, и многохвостые плети молний хлестнули зашипевшую землю, превращая ее в пузырящееся месиво, в котором копошились существа, забывшие о том, что когда-то они звались людьми; города проваливались в бездонные трещины, извергавшие огненную лаву, кричащую голосом оскорбленной вечности, и над всем этим стоял я, я, я…
И тогда стало тихо.
– Дошло? – спросил Зверь. – А ведь это только одна страница… Сможешь дочитать до конца? Сможешь впустить в себя Книгу Бездны? То-то… Мышь может жить в горе, а вот наоборот – это уже слишком. От такого мыши дохнут.
Я молчал.
– Эх вы, люди… Люди пишут книги. Это привычно. Это понятно. А если поменять нас местами? Если попробовать по-другому? Книга пишет людей! Книга читает людей! Как тебе это понравится?
– Никак, – голос мой дрожал, и я ничего не мог с ним поделать. – Мне это совсем не нравится.
– Вот именно! И не только тебе. Никому не нравится. И когда я поняла это – я начала строить Переплет. Великий Переплет.
Я даже не сразу заметил, что Зверь стал говорить о себе в женском роде.
Зверь.
Книга.
Зверь-Книга.
Глава двадцать третья
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Конфуций…Ел я торопливо, чавкая и давясь, совершенно не замечая вкуса съеденного. Я спешил. Спешил продолжить беседу со Зверем – потому что с Книгой, как я понял, беседовать было нельзя. Ее можно было только читать – а на это я не решался.
Хотел было подумать «пока не решался», поперхнулся собственной наглостью и отложил эту мысль до лучших времен.
Первые страх и удивление прошли. Остался интерес. Иногда мне казалось, что интерес этот какой-то нездоровый, с привкусом мазохизма – видеть перед собой клыкастую морду, которой самое место в кошмарных снах, и слушать почти человеческий, обыденный голос, вещающий мне о тайнах бытия и здешнего мира. По-видимому, я коснулся чего-то древнего, настолько древнего, что мне страшно было заглянуть в ту Бездну, которая извергла моего обаятельного собеседника, – а в определенном обаянии тому динозавру нельзя было отказать…
Не знаю, как в принципе можно беседовать со Зверем, а уж тем паче с Книгой, но мы беседовали. И довольно успешно. Наверное, Зверь и Книга уравновешивали друг друга, и то, что получалось в результате, оказывалось вполне разумным и приятным собеседником.
И весьма интересным.
Интересным – для меня. А я для него?
Надо думать, я ему (я предпочитал звать ящера в мужском роде) тоже приглянулся. Потому что, когда в дверь сунулись обнаружившие пропажу Страничники, – хозяин Книжного Ларя только скосил на них один глаз, и белые одеяния словно ветром сдуло.
Вместе с их содержимым.
– Понятливые, – в очередной раз оскалился-ухмыльнулся мой собеседник. – Отныне никто из моих людей тебя пальцем не тронет – хоть три тени отбрасывай.
И добавил, отвечая на мой недоуменный взгляд:
– Ты – мой гость. До поры до времени. Кроме того, мы еще не закончили разговор. Или даже и не начинали…
…Сейчас Он отдыхал, приняв облик Книги, а я подкреплял свои силы изрядным ужином, принесенным тремя не в меру услужливыми Страничниками. Вся святая троица явно недоумевала по моему поводу и по поводу моей тени, мирно кушающей тень ужина, – но предпочла благоразумно помалкивать.
А я спешно опустошал блюдо за блюдом, а блюда эти все приносили и приносили, и я никак не мог насытить свое вновь обретенное материальное тело, в котором проснулся поистине ЗВЕРСКИЙ голод.
Заразное это ЗВЕРСТВО, что ли?..
Сам ящер ужинать со мной не стал, за что я ему был очень признателен – Книга Книгой, а Зверь вполне мог в увлечении трапезой принять меня за очередную порцию…
Двигая изрядно уставшими челюстями, я вспоминал его последние слова. О Переплете. О раздвоении личности Зверь-Книги. О попытке переписать начисто судьбу целого мира.
По своему образу и подобию.
В принципе идея любопытная: создать этакий кармический рай на отдельно взятой земле. Внутри Переплета, отражающего все поступки людей и немедленно воздающего по заслугам. За добро – добром, за зло – злом, око за око, зуб за зуб, всякому сверчку по шестку, всякой твари по паре и так далее. Причем все это в течение одной жизни, а не в загробной абстракции. Дешево и сердито.
Лихо, однако, закручено… Год за годом, глядишь – и добродетели будут у людей в крови, став чуть ли не безусловными рефлексами! Рай как побочный эффект стремления Книги к самореализации…
Подали вино. Как и положено в раю. Я залпом осушил бокал и удовлетворенно откинулся на спинку кресла – кресло тоже приволокли Страничники, в самом начале ужина. Наконец-то я сыт!
Мысли замедлили свой бег, отдуваясь и фыркая, увязая в сонной эйфории. Книга? Подождет немного… Тыщу лет ждала, перебьется… что еще? Ах да, Талька, Бакс, Вилисса – надо бы попробовать «нащупать» их…
Я честно попробовал – и ничего не получилось. Попробовал еще раз – с тем же результатом.
Ну и ладно. Позже разберемся. Не так страшен Зверь, как его малюют.
Зверь. Дверь… куда? А, верь не верь, не все ли равно…
Глава двадцать четвертая
Наблюдайте за человеком, вникайте в причины его поступков, приглядывайтесь к нему в часы его досуга. Останется ли он тогда для вас загадкой?
КонфуцийПроснулся я от деликатного похлопывания рукой по плечу.
Как выяснилось почти сразу – не рукой, а трехпалой лапой с длиннющими, от роду не стриженными когтями.
Догадаться, кто бы это мог быть, оказалось несложно.
– Ишь, разоспался, – простуженно засипел Зверь, шмыгая носом. – Я ж тебе сто раз говорил – закрывай дверь, закрывай дверь! – он указал лапой на приоткрытую дверь в коридор. – Вот меня и просквозило. Я к этим сквознякам очень чувствительный…
– Это не я! – вытаращился я на него спросонья. – Это эти… что еду приносили!
– А-а-а… – уныло протянул он. – Хрен редьки не слаще… видишь, голос совсем сел…
С неожиданным проворством ящер оказался у злосчастной двери и аккуратно прикрыл ее.
– Ладно, соня, – он удобно устроился на табурете возле меня, – я так понимаю, что у тебя вопросов хоть завались. Разрешаю задавать.
И я задал.
– Ваша конечная цель? – брякнул я, не подумав, и пришел в ужас от собственной наивной глупости. – В смысле… чего вы хотите?
– Ну вот, сразу с глобального начал, – натужно булькнул ящер. – Нет чтоб по мелочам сперва… Ладно уж, отвечу. Как смогу. Все очень просто – и в то же время очень сложно. Для меня – сложно. Я хочу преодолеть свою двойственность. Хочу стать целым. Хочу, чтобы мои возможности находились в едином теле, способном творить и пожинать плоды сотворенного. Хочу слить вместе Зверя и Книгу, могущество тайного знания и полноту звериного физического существования… Достаточно?
– И кем же вы тогда будете? – не удержавшись, спросил я.
– Кем? Не знаю… Скорее всего – человеком.
– А это? – кивнул я на мясистый хвост.
– А, это, – досадливо отмахнулся Зверь, – это ерунда, оболочка… Я себе тогда любую другую подберу. Глядишь, твою рожу примерю…
– И ради этого вы взялись менять судьбу целого мира?
– Можно сказать и так. – Ящер встал и вперевалочку прошелся по комнате. – А можно и не так. Я не менял судьбу. Я лишь материализовал ее. Я воплотил судьбу – заметь, не слепой случай, а справедливую и неподкупную судьбу! – я воплотил ее в Переплет. И дал возможность людям отвечать за свои Поступки. Отвечать сегодня и сейчас. А уж какой путь выберут сами люди – в конце концов, свободы выбора я их не лишал…
– Но они почему-то выбрали единственно устраивающий вас путь, – съязвил я, дивясь собственной храбрости и въедливости.
– Значит, он их устраивал. Не буду врать, и меня тоже. Но выбирали-то люди, а не я, хотя я слегка их и подтолкнул…
– Разумеется, они выбрали путь в рай! Если все остальные вели в ад…
– И тебе, как поборнику свободы воли и прочих ценностей, этот выбор не нравится?
– Не нравится, – честно признался я. – Во-первых, у попавших в Переплет никто не спрашивал, нужен ли им этот рай вне Поступков и свободы выбора!
– Хорошо. А во-вторых?
– А во-вторых, я отлично помню, как ваши «ангелы» встретили меня… – Я вспомнил беседу Пупыря и Юхрима-дубиноносца о «выползнях», мужиков с кольями на хуторе, неистовствующего Белого Страничника… Пять Углов опять же…
– Отвечать можно? – как-то уж очень вежливо осведомилась Зверь-Книга.
У меня отвисла челюсть.
– Конечно! И вообще вы здесь хозяин…
– Ну спасибо, – ухмыльнулся ящер и на некоторое время умолк, словно задумавшись о чем-то.
– Этот мир далек от совершенства, – наконец заговорил он, заговорил тихо и медленно. – Не спорю. Я не стану объяснять, что я еще не дописал его до конца, и посему… Но мир этот не был совершенен и до меня. Надеюсь, тот мир, откуда пришел ты, ближе к идеалу? Там хорошо? Там люди не причиняют боль себе подобным? Там не льются кровь и слезы?
Я вспомнил парней с хутора, глупую драку из-за банки самогона, щелчок ножа… а ведь это все пустяки в сравнении…
Возразить было нечего. Вежливый Пупырь был несокрушимым доводом в пользу Переплета.
– Ты хочешь понять, откуда взялась эта жестокость к пришлым, к тем, кого здесь называют выползнями?
Мне оставалось только кивнуть.
– Ответ прост. Они не приняли Закон Переплета. Они поставили себя вне Закона. У вас ведь тоже не очень-то любят чужаков?
– Не очень, – вынужденно подтвердил я.
– А теперь представь, что эти пришельцы разовьют свой Дар и получат возможность творить все, что им вздумается, не отвечая при этом перед Переплетом! Они что, сплошь бессребреники и правдолюбы?!
Какой-то здесь крылся подвох. И я никак не мог понять – какой? Где брешь в аргументах Зверя? Где?!
– Любой пришелец или местный волен принять Закон Переплета или не делать этого, – продолжил Зверь. – Некоторые выбрали последнее… Да, я не снимаю вины с моих Знаков. То есть с моих людей. Но пройдут десятилетия – и жестокость вытравится у них полностью! Еще сотню лет назад – кто здесь только не жил! Ты бы назвал их вампирами, оборотнями, демонами… нет, ты не назвал бы их – ты бежал бы сломя голову, если бы успел убежать! Сейчас их нет. Благодаря мне! Дай мне время…
– И все люди будут стоять рядами на белых простынях, скандируя Слова и Фразы Книги! – непроизвольно вырвалось у меня.
Ящер возмущенно фыркнул.
– Чушь! Это все внешнее! Это – инструмент, а не сама цель! Когда цель достигнута, инструмент больше не нужен… И не пробуй выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле, – у тебя это плохо получается!..
Я понимал, что Книга могла врать. Но проверить ее не было никакой возможности. Разве что… разве что подождать лет пятьдесят.
– Да, но и Переплет, и все остальное – ведь это создано вами не для общего блага, пропади оно пропадом! Для себя это создано, для себя самого! Чтоб весь мир выписался по-новому и стал подобен вам! Не знаю уж, как вы потом воплощаться станете, Зверя с Книгой соединять, но – для себя старались!
Я хватался за соломинку.
– Конечно! – Мой собеседник снова взгромоздился на табурет. – Конечно, ради себя! Пусть то, что люди привыкают платить за свои Поступки, пусть рай земной или что там получится – всего лишь побочный эффект моих личных и коварных, с твоей точки зрения, замыслов! Кому от этого хуже?!
Черт возьми, это же мои мысли!..
– Кому, скажи на милость? Я ведь не предлагаю человеку умереть, чтобы заполучить его Дар! А вам предлагали! Причем те же самые люди, которых вы так упрямо защищаете! Ведь так? Правда?!
– Правда, – кивнул я. – Но…
– Да знаю я! Вам обещали, что вы сохраните память и вернетесь домой. Посмертно, так сказать… Заманчиво. Красиво. И похоже на правду. А вдруг – вранье? Или даже не так… Вам очень хочется резать собственного сына? Или чтобы ваш здоровенный приятель свернул вам шею, как куренку, а после повесился? Вы уже созрели для этого?!
Я даже не заметил, когда Зверь перешел на «вы».
– Нет, – потупился я помимо своей воли. – Не созрел. И, наверное, не созрею.
– Понимаю. Мне бы тоже не понравилось…
– Но у них нет другого выхода! Я видел тех, кем они станут, – Лишенных Лица! Незавидная перспектива… Так что я в состоянии их понять. Если Переплет не дает им возможности заново развить свой Дар…
– Да? Это они вам так сказали?! Интересное дело! Если Переплет не дает Дару развиться, он должен препятствовать и его использованию, и любому чужому Дару! Логично?
– Логично, – снова вынужден был согласиться я.
– Вы можете пользоваться своим Даром?
Вопрос застал меня врасплох.
– Не знаю… Когда – могу, а когда – нет, – я вспомнил свое ощущение направления, отступающего от Тальки Страничника, ту же безрезультатную попытку связаться со своими. – Но у меня Дар случайно… и вообще…
– Значит, можешь! – безапелляционно заявил ящер, снова переходя на «ты». – Просто плохо знаешь, как это делается. Хочешь, научу?
Я заколебался.
Он словно понял мое состояние.
– Да не бойся ты… не покупаю я тебя. Грош тебе цена – так гроша и то жалко. Твой ведь это Дар, не из Книги, не от меня… Ничего своего я тебе не навязываю. Впрочем, как знаешь. Я думал, ты сына своего увидеть хочешь…
– Хочу!
– Тогда смотри мне в глаза. Потом уже и сам сможешь, а поначалу смотри и представляй, что проходишь сквозь меня, сквозь стены – и выше, дальше, над деревьями…
…Вертикальные зрачки немигающих, нечеловеческих глаз надвинулись на меня, совместились, сошлись вместе, образуя черный сверкающий провал, – и я, набрав в грудь побольше воздуха, кинулся в эту бездну… и тут же вынырнул в небе над Книжным Ларем. Вокруг мчались остатки рваных туч, между которыми сияла умытая утренним дождем девственная голубизна, – и вот уже я купаюсь в ней, несусь вперед, вот внизу мелькает просвет в хмурой чащобе, и замшелые избы вырастают неподалеку от опушки, а возле крайней из них сидит на бревне мой Талька и улыбается, дразня прутиком возбужденного домового, – неужели Болботун домой добрался?! Или это Падлюк – не разглядеть отсюда…
Талька! Сын! Живой, здоровый… и даже веселый…
Глава двадцать пятая
Тот, кто не может наставить к добру своих домашних, не может учиться сам.
Конфуций– …Ну что, убедился?
Я растерянно заморгал. Мы были в Книжном Ларе, в той же самой комнате, и мой чешуйчатый собеседник по-прежнему возвышался на табурете возле меня.
– В чем убедился?
– В Даре своем. Это ведь ты сам, а я лишь помог чуть-чуть, подтолкнул…
– Сам?.. Слушай, а за Переплет с его помощью заглянуть можно? У меня дома жена осталась…
– В принципе можно. Но не советую. Не думаю, что она до сих пор по тебе убивается.
Эти слова резанули мне слух, но я сдержался.
– И все-таки я хотел бы взглянуть…
– Пожалуйста. Мое дело – предупредить. Теперь сам пробуй.
И я попробовал.
Медленно сгустилась вокруг тьма, так же медленно уплотнилась, сфокусировалась в черный бездонный зрачок, давая понять, что пора, – и я уже без колебаний кинулся в этот колодец. Только на сей раз путь мой был долог, и вел он через ледяной туманный тоннель с призрачными стенами, и имя тоннелю этому было – Переплет.
Когда я наконец вылетел с другой стороны, то почти сразу же увидел хутор, очень похожий на здешний (господи, «там» и «здесь» совсем перепутались у меня в голове!), и, пикируя вниз, заметил – будто выхваченный камерой кадр…
Инга, моя Инга склонилась к этому лохматому верзиле-костолому, который чуть не прирезал Тальку тогда, и бинтовала его раненую лапу! Бинтовала заботливо, бережно, как некогда делала то же самое с Талькой, разодравшим руку о ржавую железяку на какой-то стройке, где он играл с пацанами…
И словно кто-то выключил свет.
Весь, какой был.
Темнота.
Глава двадцать шестая
Добродетель не остается в одиночестве.
Конфуций– Да, я видел… видел то, что хотел увидеть, – голос мой был холоден и бесстрастен. – Не знаю, насколько я верю тебе, Зверь-Книга, но я понимаю тебя.
Перед глазами все еще стояло лицо Инги, излучающее нежность и тревогу. Силы небесные! Умер два месяца назад и до сих пор не забыт? Будем ходить в соболях! О принц из далекого Эльсинора, как же ты был прав!..
– Я понимаю тебя! Теперь мне осталось спросить об одном: зачем тебе понадобился я? Ведь не зря же ты уделил мне столько внимания? (Я тоже перешел на «ты», не заметив мгновенного перехода.) Я нужен тебе. Зачем?
– Да, ты мне нужен, – просто ответил Зверь. – Ты умен. Ты довольно много знаешь. Ты – оттуда. И у тебя есть Дар. Кроме того, ты не боишься спорить со мной. Вернее, боишься, но все равно споришь. Мне нужен такой человек. Мы с тобой нужны друг другу.
– Короче…
– Короче, мне нужен Глава. Людей Знака – великое множество, Хозяев Слова и Господ Фразы – ненамного меньше, Страничников… в общем, тоже хватает. Мне необходима Глава. Глава над моими Страничниками. Человек, сила которого будет в чем-то соизмерима с моей – уравнять не обещаю, это невозможно – и который будет постоянно подвергать мои действия сомнению.
Я вспомнил заседания христианских прелатов, решающих, достоин ли тот или иной мученик войти в сонм святых. Один из священников работал профессиональным скептиком, подвергая сомнению все заслуги кандидата в святые. Как же его звали?.. Адвокат дьявола! Энджи, тебе предлагают стать адвокатом дьявола! Заманчиво, черт побери…
Зверь склонил к плечу свою уродливую голову чисто человеческим жестом, пристально всматриваясь в меня.
– Тебе не нравится этот мир? Попытайся, и он сможет стать лучше. Или ты надеялся переделывать его, живым выбравшись из Книжного Ларя? Если бы ты погиб в Пяти Углах или как-нибудь еще – ничего бы не изменилось! Попробуй хотя бы… Сыграем мир в четыре руки? Я не прошу тебя выполнять мои приказы – многие пойдут на это с радостью и будут целовать мне хвост, – я прошу тебя обсуждать и осуждать мои действия. Стань застежкой для Переплета Зверь-Книги! Согласен?!
Вертикальные щели его глаз словно зависли в воздухе, сбивая, спрашивая, требуя, не давая сосредоточиться. Где-то на самом краю сознания кричали и не могли докричаться до меня едва слышные голоса – Лишенные Лица, Лишенные Дара, обреченные, требующие моей смерти, смерти сына моего, смерти друга моего, – они взывали ко мне, но, заслоняя все остальное, вставало лицо Инги и рядом с Ингой – смеющийся Талька и я сам, в белом с серебром одеянии… Глава, Творец, младший брат Бога, адвокат дьявола…
Только Бакса почему-то не было.
Мир лежал передо мной чистой, еще не написанной страницей, мир… Мир ждал. Мир хотел прикосновения моих рук… пусть и не только моих… и черные точки чьих-то зрачков двоились, троились, множились; безмолвный вопрос дробился в этих черных знаках, правильными рядами выстроившихся на белой бумаге…
Я хотел крикнуть.
Но вместо этого просто кивнул.
И пришла Тишина.
Передо мной медленно раскрылась первая страница Книги…
Книга вторая Возможность невозможного
Сага о кухонном ноже
Нож, ты в живое сердце входишь, как лемех в землю. Нет. Не вонзайте. Нет. Лезвие золотое. Август. Двадцать шестое. Ф.-Г. ЛоркаГлава первая
В окно постучала полночь, и стук ее был беззвучен. На смуглой реке блестели браслеты речных излучин. Рекою душа играла под синей ночною кровлей. А время на циферблатах уже истекало кровью. Ф.-Г. Лорка…а лейтенант был похож на грустного Пьеро из провинциального театра. Он все время подтягивал длинные рукава кителя и морщил брови домиком, поминутно приговаривая умоляющим тоном:
– Вы только не волнуйтесь, госпожа Линдер… вы только, пожалуйста, не волнуйтесь… вы…
Казалось, он сейчас тоже заплачет, этот кукольный лейтенант в мятой пилотке, похожей на клоунский колпак; и даже резкий запах его одеколона был какой-то мужской и женский одновременно.
Инга коротко всхлипнула в скомканный носовой платок и кивнула.
– Все, – сказала она. – Все, все, все… Все в порядке.
– Вот и славно, – радостно засуетился Пьеро, потирая узкие ладошки, – вот и хорошо… Вы же сами говорите, что опознать тела не можете, хотя там и опознавать-то почти нечего – выгорело все подчистую, уголь сплошной… Ой, простите меня, ради бога! Дурак я, как есть дурак, и господин майор говорит, что дурак, а я молчу да киваю…
Инга смяла платок, сунув его в карман легкой болоньевой курточки, и пододвинула к себе протокол. Бумага была желтой и сухой, как лист надвигающейся осени.
– Где подписать? – спросила она.
– Там, внизу, где птичка, госпожа Линдер… И еще вот здесь, где вы говорили про топорик, который вроде был у вашего мужа и который мы имели место найти в эпицентре пожара… Ведь вы опознали топорик? Ведь правда?
– Ведь правда, – глухо повторила Инга, пытаясь заставить дрожащие пальцы сомкнуться на авторучке. – Похож. Все они похожи. Обыкновенный туристский топорик. Ручка пластиковая… Была.
– Пластик, должно быть, расплавился, – виновато развел руками лейтенант, и Инге ясно примерещилась треугольная слеза на его щеке. Слеза почему-то была черная. – Вы уж простите…
– За что? – удивилась Инга. И удивилась еще раз, выяснив, что пепелище внутри ее способно рождать хоть какие-нибудь эмоции.
Снаружи завыла собака. Она выла и выла, изредка сбиваясь и хрипло взлаивая, и это было так жутко и так не вовремя, что даже стрелки допотопных настенных часов, навсегда застывшие на двенадцати часах какого-то дня, – даже они вздрогнули и задумались о грядущей полночи, когда все будет то же… и вой, и медлительные люди за столом, и положение стрелок на гнутом циферблате…
Только в полночь все встанет на свое место.
Лейтенант вскочил, уронив стул, и метнулся к двери, сдергивая по дороге пилотку и осторожно промокая ею лицо, – словно грим боялся размазать.
– Я сейчас, – бросил он на ходу. – Это Ральф, он вообще-то хороший… Одну минуточку! Сейчас он замолчит, честное слово…
– Не бейте его, – попросила Инга неожиданно для себя. – Может, собаке плохо. Пусть воет.
Лейтенант застыл в дверях, раздираемый противоречивыми чувствами.
– Собаке не может быть плохо, – неуверенно заявил он. – Я его кормил. Утром. Ему должно быть хорошо. И, кроме того, я же ради вас, а то воет, зараза, как по покойнику…
Он захлопнул рот, глупо моргнул и прижал к груди злосчастную пилотку. Инга просто физически ощутила, какая та теплая и влажная. Легкая тошнота подкатила к горлу и ушла, оставив кислый вяжущий привкус.
– Ой, дурак, – заскулил лейтенант, – ой, дубина… Госпожа Линдер, вы не обращайте на меня внимания, ладно, у меня язык что помело…
При слове «помело» он вздрогнул и выскочил в коридор, резко закрывая дверь. Громкий стук перерубил собачий вой пополам – и стало тихо.
Очень тихо. Только чей-то сухой дробный смешок нарушал эту пыльную тишину. Инга прислушалась и поняла, что в механизме часов сошли с ума ржавые шестеренки.
Часы ударили один раз, подумали и замолчали.
Глава вторая
Учись же скрещивать руки, готовь лампаду и ладан и пей этот горный ветер, холодный от скал и кладов. Через два месяца минет срок погребальных обрядов. Ф.-Г. ЛоркаВ первый раз ей стало плохо на работе спустя почти неделю после приезда.
Толстый узел на большой, никому не нужной папке никак не хотел развязываться, а толстушка Ванда вещала на весь дуреющий от безделья редакционный отдел об ужасных пожарах в районе притоков Маэрны, и что Инга с отпуском успела, а она, Ванда, не успела, и сгорела теперь ее путевка в прямом и переносном смысле, а Генрих злится и…
– Трепло ты, – рассеянно бросила Инга, глядя на сломанный ноготь, и вдруг почувствовала, что мир начинает крениться набок и меркнуть.
Серые рваные клочья неслись мимо нее, обволакивая стены, мебель, испуганные лица где-то высоко вверху, остро запахло хвоей и дымом, а она все не могла избавиться от ощущения, что на нее валится огромная рыхлая книга в черном переплете, и надо успеть перелистать ее, найти нужные страницы; те, которые…
Ее отпоили чаем и привезли домой. Инга немедленно бросилась к телефону, пробилась сквозь бесконечные короткие гудки – и вечером уже сидела в купе поезда, едущего в Пфальцском направлении. Только тогда она сообразила, что забыла позвонить маме Бакса, и порадовалась этой забывчивости.
Попутчик – толстый мнительный мужчина, больше всего на свете боящийся сквозняков, – назойливо угощал Ингу жареной курицей и давлеными помидорами, с усердием отворачивался, когда Инга переодевалась в спортивный костюм, и старался лишний раз не заглядывать ей в глаза – видимо, углядел в них что-то пострашнее сквозняка или повышенного давления. Потом он пошел за бельем и зачем-то выпросил у проводницы местную газету трехдневной давности. Газету он читал вслух, нудно и громко, а Инга стеснялась попросить его заткнуться, и на середине статьи «Трагедия в устье Ласция» ей стало плохо во второй раз.
…Чьи-то волосатые руки раз за разом раскрывали и захлопывали массивную книгу в черном кожаном переплете с тиснением, раскрывали и захлопывали – и с каждым ударом на Ингу обрушивалась ледяная волна боли, боли и уверенности в том, что надо куда-то успеть, доехать, добежать, доползти… а лицо Анджея все больше сплющивалось, превращаясь в старинную гравюру, и откуда-то сбоку выглядывал заплаканный Талька…
Очнувшись, она узнала от молодой хорошенькой проводницы, что сосед по купе принял Ингу за больную эпилепсией и долго пытался вырваться в коридор, крича и ударяясь плечом в дверь, – пока дверь не открыли снаружи, просто повернув ручку. Теперь он заперся в другом купе, возмущаясь и строча жалобы на имя министра транспорта, а сама проводница уже битый час сидит возле Инги и складывает ей в сумку лекарства.
– Какие лекарства? – обалдело спросила Инга, пытаясь сесть.
– А, – легкомысленно махнула рукой проводница, – какие у пассажиров нашлись, те и складываю. Я уж им сказала, что не надо, а они несут и несут…
Инга глянула на ворох упаковок, торчащий из незастегнутой сумки, машинально прочла на верхней коробочке незнакомое слово «Спаздолгин» и попросила – если можно – оставить ее одну.
А потом был Пфальцский привокзальный участок, пропахший дымом дешевых сигарет, был тряский «жук» с брезентовым верхом, хрустящая на зубах пыль районных дорог, и похожий на Пьеро грустный лейтенант, возивший ее на опознание, где ей в третий раз стало плохо.
Сейчас Инге не было ни плохо, ни хорошо.
Ей было – никак.
Глава третья
Умолкло, заглохло, остыло, иссякло, исчезло. Пустыня – осталась. Ф.-Г. ЛоркаВернувшийся Пьеро выглядел на удивление строго и подтянуто.
– Я попрошу вас задержаться на пару дней…
В окрепшем голосе его пробились строгие металлические нотки, свойственные скорее уж стойкому оловянному солдатику, если бы тот вздумал заговорить.
Инга не раз проклинала себя за характерную для профессиональных литераторов черту – мыслить готовыми книжными образами, – но в критические минуты это свойство проявлялось с особенной силой. Она вспомнила похороны матери, неотвязно вертевшийся в голове романс «Ваши пальцы пахнут ладаном», свои сухие глаза и укоризненный шепоток маминых подружек, помогавших Анджею накрывать поминальный стол…
Она отвернулась и принялась глядеть в угол. Под веками, сухой и шершавый, горел песок. С каждым взмахом ресниц он просыпался куда-то вглубь, царапаясь, как кошка.
– На работу мы вам сообщим, – продолжал меж тем лейтенант. – А с ночлегом я договорюсь. Тут рядом хутор семейства Черчеков, люди они, правда, со странностями, но мне не откажут.
Тень легкого сомнения набежала на его бледное лицо, лейтенант пожевал пухлыми мальчишескими губами и повторил:
– Нет, не откажут. Не в участке же вам ночевать. Надеюсь, и вы, в свою очередь, не откажетесь помочь следствию.
– Что? – не слушая его, спросила Инга и внезапно представила себе их пустую квартиру в городе: шум машин внизу за окном, незастеленный диван, конверт от пластинки Анджея, где черный трубач раздувал огромные хомячьи щеки, одиночество, телефонные звонки и Талькины учебники на полке…
– Что? А… нет, нет, конечно. Поступайте, как сочтете нужным.
Лейтенант просиял, отчего вся строгость мигом соскочила с него, и он сразу стал совершенно невоенным; потом он схватил Ингину дорожную сумку и легко вскинул ее на плечо.
– Ну вот и славно, – пропел он, помолчал и тихо добавил: – А то я боялся, что вы опять плакать станете…
Глава четвертая
И мертвые ждут рассвета за дверью ночного бреда. Ф.-Г. Лорка…Она сидела на заднем сиденье «жука», откинувшись на жесткую спинку. Сквозь грязное лобовое стекло было видно, как размахивающий руками лейтенант о чем-то договаривается с угрюмым, похожим на лешего мужиком.
Инге ужасно хотелось спать. Наверное, защитная реакция организма, как у ребенка. Одна ее подруга всегда наказывала дочку перед сном, если хотела, чтобы та побыстрей угомонилась…
Ресницы слипались, теплая влага равнодушия насквозь пропитала все тело, делая его вялым и непослушным. Равнодушие… это когда душа равна… чему? Чему сейчас равна ее душа? В городе было бы тяжелее… в городе – где она своя, родная… Звонок в дверь, скрежет лифта, крики мальчишек во дворе – все напоминало бы о случившемся. А здесь, в железной коробке, впитавшей пыль и пары бензина, жизнь с ее наказаниями перед вечным сном выглядела придуманной и отстраненной.
Здесь, внутри, ее душа равна ничему. И лишь в затерянных дебрях сознания утомительно били остановившиеся часы, вращая ржавыми шестернями. Двенадцать… тринадцать… четырнадцать…
– Что?.. Зачем? Зачем это?!
Лейтенант помогал ей выбираться из машины.
– Осторожненько, – приговаривал он, и лицо грустного клоуна напудренной луной раскачивалось в сумерках. – Не споткнитесь… Эй, дед, ты б крикнул своим, пусть постелят! Прошу вас, госпожа Линдер, сюда…
Перед Ингой на миг возникла заросшая кудлатой бородой физиономия. Крохотные глазки утонули в набрякших веках, волосатый рот слабо шевелился, и многочисленные складки кожи вызывали в памяти черепашью морду.
«Поднимите мне веки! – вспомнилось Инге. – Поднимите мне веки!.. поднимите…»
– Да или нет? – требовательно спросил леший со странной интонацией. – Ты не молчи, баба, ты говори, быстро говори… Да или нет?
«Да или нет?» – мягко шепнул Анджей из сизой мглы, и Инга поняла, что спит.
«Да или нет, мама?» – пискнул Талька, и невесело улыбнулся стоящий за ним Бакс.
– Ну? – ударили в пятнадцатый раз часы.
«Да! – хотела ответить Инга, видя, как знакомые силуэты тают, расплываются в дымчатой тьме. – Да…» Но губы помимо воли дрогнули, рождая совсем не то, что хотелось, другое, новое; и на смену равнодушию вдруг пришли спокойствие и уверенность.
– Нет… нет.
– Ты что, дед, сдурел?! Так-то ты гостей принимаешь, пень трухлявый?!
Возмущению лейтенанта не было предела.
Дед еще некоторое время смотрел на сонную Ингу, потом кивнул, словно соглашаясь со своими дремучими мыслями, и заорал пронзительно и дико:
– Ганцю! Стели постелю, курва ленивая! Живо!..
– В хате? – донеслось от невидимого в темноте дома.
– Не… во флигеле стели-и-и!.. где крыша чинена…
Глава пятая
Есть души, где скрыты увядшие зори, и синие звезды, и времени листья… Ф.-Г. ЛоркаПроснулась она рывком, сразу, и долго не могла сообразить, где находится и как сюда попала.
– Энджи… – робко позвала Инга, и мгновенно вернувшаяся память обожгла ее свистящим бичом.
Слабый звездный свет пригоршнями сыпался в узкое окошечко под потолком, напоминавшее бойницу древнего замка; рассеянное мерцание удивительным образом гармонировало с легким звоном потревоженных пружин кровати – и Инга сидела, успокаивая дыхание и пытаясь разобраться в очертаниях предметов вокруг себя.
Снаружи донеслось гнусавое повизгивание. Пауза. Визг сменило недовольное хрюканье и шорох – словно комья земли осыпались со свежего могильного холма.
– Кто там? – шепотом спросила Инга, проклиная себя за идиотское сравнение.
Тишина. И легкий удаляющийся топоток.
Повинуясь неведомому порыву, Инга встала, одергивая спортивную блузу – сам факт переодевания оставался для нее тайной за семью печатями, – и шагнула вперед. Глаза мало-помалу привыкли к скудному освещению, да и дверь в дальнем углу помещения оказалась приоткрыта.
Из щели зябко тянуло ночной прохладой.
Замерев на пороге, Инга прислонилась к дверной створке, передернула плечами, сбрасывая со спины холодное прикосновение свежего воздуха, – и, оглядев выбеленный луной двор, собралась возвращаться назад, в тепло.
Шорох. И утробное бурчание возле изгороди, похожей на гнутую решетку.
Инга вздрогнула.
Белесое пятно зашевелилось, ткнулось в ограду и принялось ворочаться, разбрасывая вокруг себя черные куски перекопанной земли.
Свинья. Обычная жирнющая хавронья, раздраженно похрюкивавшая в тесноте кольев и упрямо лезшая наружу по своим свинячьим делам. Приходи к нам, мама свинка, нашу детку…
Инге пришло на ум слово «супоросая» – хотя она не помнила точно, то ли это хрюшка перед родами, то ли после. Судя по брюху королевы свинарника, предпочтительнее было первое.
Животное наконец протиснулось между кольями, попав в полосу лунного луча, и Инга поразилась величине свиньи. Она всегда полагала, что эти звери должны быть немного поменьше. Породистая, наверное, или беременность сказывается…
Свинья неожиданно резво припустилась по лунной дорожке, услужливо расстеленной щербатым светилом, – и в считаные секунды скрылась из виду.
«Волки сожрут, – мелькнуло в Ингиной голове, еще тяжелой от сна. – Или это она их сожрет… вон, какая здоровенная…»
Махнув рукой на удравшую скотину, Инга почувствовала, что хочет пить. Будить хозяев она постеснялась и принялась оглядываться по сторонам в поисках водной колонки или чего-нибудь в этом роде. В двадцати шагах от себя она обнаружила некое подобие рукомойника, чьи металлические бока глянцево отражали лунный свет.
Инга спустилась с невысокого крылечка, сделала шаг, другой – и охнула, припадая на колено и хватаясь за рассеченную ступню. Рядом, наполовину утонув в земле, рукоятью вверх торчал нож.
Нож. Простой кухонный нож, каким удобно резать хлеб или чистить картошку.
Инга боязливо тронула рукоять. Тонкий металл лезвия спружинил, и нож закачался причудливым цветком, сомкнувшим лепестки на ночь. Вдоль блестящего лезвия протянулась быстро темнеющая полоска – Ингина кровь.
Порез оказался неглубоким. Инга потерла его ладонью и обнаружила поодаль еще один вбитый в землю нож. Охотничий, с широким мощным клинком и хищным желобом кровостока. Рядом с ним, отступив на два локтя, возвышался тесак для резки мяса – будто суровый ржавеющий патриарх подле молодого бойца, пришедшего на смену.
Минуты через три Инга насчитала двенадцать ножей, семь из которых образовывали неправильный круг метра два с половиной в диаметре, а остальные пять торчали внутри этого круга в кажущемся беспорядке.
– Клумба… – вслух сказала Инга. Слово прозвучало громко и глупо, и ножи насмешливо блеснули в ответ. Двор внезапно стал опасно-чужим, воздух уплотнился, приобретая горький пьянящий привкус; и противоестественная клумба слабо завибрировала в звенящих потоках, льющихся с неба.
Луна крутнулась волчком и брызнула пудрой во все стороны. «…Другие ножи не годятся. Другие ножи – неженки и пугаются крови. Наши – как лед. Входя, они отыскивают самое жаркое место и там остаются. Рыбаки, что победнее, ночью ловят при свете, который отбрасывают эти лезвия…»
Сознание само рождало вперемешку незнакомые и знакомые слова, они пахли полынью, ночью и страхом; и на удивление не оставалось ни сил, ни времени. Ничего не оставалось.
«…черные ангелы стелют снежную пряжу по скалам, сизые лезвия крыльев – сталь с альбасетским закалом… семь воплей, семь ран багряных, семь диких маков махровых разбили тусклые луны…»
Инга попятилась, закусив губу, прикипев взглядом к двенадцати ножам, растущим из-под земли; с трудом дохромав до флигеля, она захлопнула за собой дверь и ничком бросилась на проснувшуюся и зазвеневшую сетку кровати.
За дверью молча улыбались стальные цветы.
Заснула она почти сразу, и ей снилось, как огромная свинья сосредоточенно бродит между ножами, раскачивая их пятачком и деловито принюхиваясь. Вот она коснулась того, на котором была Ингина кровь, замерла… принюхалась…
Глава шестая
Есть души, где прячутся древние тени, гул прошлых страданий и сновидений… Ф.-Г. ЛоркаУтром Инга обнаружила на тумбочке около входа большую кружку с молоком, надтреснутую плошку, где густел темно-коричневый мед, и два ломтя черного хлеба. Справедливо предположив, что пища приготовлена для нее, а не для кого-нибудь другого, Инга позавтракала и вышла на крыльцо, протирая глаза.
Хутор жил своей размеренно-кропотливой жизнью. Копались в земле растрепанные куры, носился по загону жизнерадостный жеребенок, из хлева доносилось приглушенное мычание и хрюканье, и люди удивительно легко вписывались в эту патриархальную пастораль.
Люди – коренастый и плотный лешак-фермер, роющийся на огороде за крайним домом, где произрастало нечто обильно-зеленое и неразличимое с такого расстояния; расплывшаяся беременная женщина Ингиного возраста, рубившая капустные головы на дощатом сооружении, напоминавшем площадный помост средневековья; и шумная компания молодых парней, явно собравшаяся куда-то.
Среди них выделялся всклокоченный опухший детина в майке и закатанных до колен холщовых штанах. Он курил и старался держаться прямо, но все равно выглядел скособоченным и осторожно-заторможенным, как раненый зверь.
– Помочь? – вежливо спросила Инга, подходя к рубщице капусты.
«Шестой месяц, – прикинула она на глаз сроки беременности, – ну, седьмой – максимум. Ест, наверное, много…»
– Не-а, – помедлив, откликнулась та и обтерла лоб рукавом платья с потрясающей ручной вышивкой. – Отдыхайте, чего уж там…
Парни подхватили кошелки, из которых что-то торчало, и направились к опушке леса. Кудлатый детина брел позади, зажав рукой низ живота, словно его только что пырнули ножом.
Ножом…
Инга быстро глянула вниз – нет, ничего противоестественного сегодня из земли не росло, никаких ножей, кроме того, что был в руках хозяйки, – и вновь посмотрела вслед удаляющимся парням.
Ночной кошмар уходил в забытье, затягиваясь флером нереальности, да и нога у Инги совершенно не болела.
Приснилось все, что ли?.. Свинья еще эта…
Беременная проследила за взглядом Инги и улыбнулась краешком полных губ.
– Что, Йорис глянулся? Да ты не красней, баба, наш лохмач – мужик завидный, хоть в найм сдавай, на племя… То есть раньше был. А сейчас спортили красавца…
– Заболел? – предположила Инга.
– Заболел. Так заболел, что дальше некуда. Причинное место ему отбили. По сю пору оклематься не может. Пришлый один, с дружком, за банку первача…
Широкое лицо беременной расплылось в ухмылке, она гнусаво захихикала, пятна пигментации резко выступили на щеках – и Инге вдруг почудилось, что это гулящая ночная свинья ворочается напротив нее, колыша разжиревшие бока и похотливо хрюкая.
Как о борове своем говорит… и нож, нож в руках!.. кухонный, похожий… сизые лезвия крыльев…
– Ты чего? – равнодушно бросила беременная, и наваждение сгинуло. – Это не сейчас, это недели две почти как прошло. А по виду и не скажешь, что залетные на драку злые – очки да борода кустом…
Только тут до Инги дошел смысл сказанного хозяйкой.
– Ребенок? – холодея, выкрикнула она. – Ребенок был с ними? Мальчик, тринадцать лет, худенький такой… Был?!
– …Ганна! А ну иди сюда!
Кричал пожилой фермер. Он стоял на краю огорода, из-под руки вглядываясь в женщин, и вся его крепко сбитая фигура излучала нетерпение и раздражительность.
– Оглохла, что ли?! Сюда иди, говорю!
– Иоганна я, – быстро проговорила беременная, глядя мимо Инги. – Бабку мою так звали – Иоганной… и еще вот что – ты ночью на двор не шастай, разве что по нужде. Ясно? После поговорим…
– Муж у меня пропал, – невпопад пробормотала Инга, прижимая ладони к щекам и чувствуя ознобную дрожь в пальцах. – Муж с сыном… в лесах ваших. Друг еще с ними был, а лейтенант говорит, что сгорели они… или не они. Плохо мне, хоть в петлю… Ой, как же плохо мне, Иоганна!
Древнее готическое имя неожиданно легко легло на губы, остудив дыхание. Инга робко потянулась за беременной, но та уже уходила вперевалочку – туда, где ждал ее рассерженный фермер, топорща бороду.
На столе-помосте, среди груды капустных обрезков, валялся нож – обычный кухонный нож, которым удобно резать хлеб или чистить картошку. Инга взяла его в руки, подержала и резким коротким ударом всадила в доску столешницы. Откуда и сила взялась!..
Нож закачался и остановился, как меч, забытый нерадивым палачом после будничной казни.
…нож ты лучом кровавым над гробовым провалом. Нет. Не вонзайте. Нет.Инга сжала виски – и вторгшийся голос смолк. Словно эхо ночных сновидений, отзвук неясного всхлипа, струящегося из вскрытых вен реальности.
Словно возможность невозможного.
…Нет.
Она вернулась во флигель, села прямо на пол, привалившись к ножке кровати, и закрыла глаза.
Глава седьмая
Есть души другие: в них призраки страсти живут. И червивы плоды. И в ненастье там слышится эхо сожженного крика… Ф.-Г. Лорка…Глаза, и поразилась темноте, царившей во флигеле. Неужели она задремала и вот так просидела до самой ночи?
Тело ощущалось странно невесомым, будто Инга лежала в теплой воде, играющей пузырьками и покалывающей кожу. Двигаться не хотелось.
«Ночь, – с каким-то испугом подумала Инга. – Ночь…»
– Пора, – донеслось от двери. – Самое время…
И, словно откликаясь на эти слова, издалека донесся протяжный вой. Он не был похож на звуки, издаваемые горлом лейтенантова Ральфа, которого утром кормили – здесь никого не кормили просто так, ни утром, ни вечером; и голодная, шальная, дикая свобода вихрем неслась к луне, как стая по следу жертвы.
Волчий вой.
– Молчи, – предупредили от двери. – Молчи и слушай.
Иоганна прошлась по комнате – собственно, весь флигель и состоял из этой одной комнаты да еще маленькой пристроечки сбоку, куда Инга ни разу не заходила. Окружающий мрак неожиданно посветлел, покорно расступаясь вокруг белой ночной рубашки, развевающейся от сквозняка; посветлел, расступился – и сгустился по углам, сворачиваясь тугими змеиными кольцами.
Тонкая ткань колоколом вздувалась там, где выпирал огромный живот, но двигалась Иоганна со стремительной грацией, чуть пританцовывая, будто юная девушка, а не толстая беременная баба на шестом-седьмом месяце.
«А ведь она красивая, – пронеслось у Инги в голове, – очень красивая… Как же я раньше не заметила? Или она только ночью такая?..»
– Ни о чем меня не спрашивай, – распевно заговорила Иоганна, смешно удлиняя гласные, – ах, не спрашивай, не отвечу я тебе. Крест они ей поставили, крест над могилой, добра маме хотели – бросай добро в воду, пусть плывет по течению, плывет-выплывет… Добро, зло – они живучие, горят плохо, тонут редко…
«Она безумна! Господи! Крест они ей поставили… Кому – ей? Кто – они?!»
Белая рубашка шуршала накрахмаленным полотном, и невидимые руки листали неведомые страницы; а голос креп, разрастался, и ласкались к нему клубы затаившегося мрака.
– Говорил старый Черчек дурню Йорису: не лезь к пришлым, не дергай судьбу за усы… Преступил Йорис слово мудрое – луна далеко, вой – не вой, не услышит, не поможет! Пошел, не обернувшись – возвращайся, не сетуя…
«Пошел, не обернувшись… На кого? Или не обернувшись – кем? Ай, мама…»
– Ай, мама-мамочка, рожу скоро!.. Белую Старуху рожу, Йери-ер, скоро, совсем скоро… Семь сердец ношу по свету, в колдовские горы, мама, я ушла навстречу ветру… ворожба семи красавиц в семь зеркал меня укрыла…
Пергаментная луна заглянула в окошко-бойницу и отшатнулась; но любопытство победило, и луна зацепилась краешком за выступ карниза, повисла и осторожно прислушалась.
– Ай, мама, бросай добро в воду, бросай в огонь – туманом встанет, дымом вырвется… В лес иди, в чащобу, баба, – на пяти тропинок встречу, где ветвей сухие руки молча корчатся от муки!.. Троих пропусти, пятого не дожидайся – иди за четвертым! Гнать станет – иди! Врать станет – иди! Бить станет – умри и иди!.. Остановится Бредун – спрашивай…
Белая рубашка в последний раз мелькнула у дверей и, всплеснув руками, вылетела из флигеля. Освобожденная темнота радостно зашипела, расползаясь и заполняя всю комнату, – и в ответ снаружи раздался гневный крик ворона. Он прокатился где-то высоко вверху, и Инге отчетливо вспомнился старый хозяин хутора – как его Иоганна звала? Черчек, что ли? – но теперь это было неважно.
Инга встала. Что-то умерло в ней, выжженное белым пламенем свечи по имени Иоганна, и новая Инга была страшна и прекрасна. Быстро пройдя к двери, она, не останавливаясь, вышла во двор и двинулась к изгороди.
На миг она задержалась в памятном месте, наклонилась и легко выдернула из земли нож. Он должен был быть здесь. Он – ждал.
Рукоять знакомым ощущением скользнула в ладонь, поворочалась и устроилась тихо и уютно. Обтяжка рукояти была из кожи – чуть шершавой и приятной на ощупь, – но Инга с сожалением разжала пальцы и перехватила нож за лезвие.
Оно было теплым.
«Семь сердец ношу по свету. В колдовские горы, мама, я ушла навстречу ветру…»
…Минута, другая – и черная громада леса расступилась навстречу. Инга крепче сжала лезвие ножа, и его тепло – то усиливаясь, то ослабевая – повело женщину в ночь. Ни одна ветка не ударила ее по лицу, ни один корень змеей не лег под ноги, ни один звук не заставил вздрогнуть – ни отдаленный волчий вой, ни вороний грай за спиной.
Лес принял в себя женщину с ножом в руке; принял и поглотил.
Луна ударилась о частокол веток и с сожалением откатилась в сторону.
Глава восьмая
За вещим биением ритма спешит она в вечной погоне, с тоскою в серебряном сердце, с ножом на ладони. Ф.-Г. Лорка…Лес вкрадчиво обошел Ингу со всех сторон, на мгновение застыл в ожидании – и резко понесся назад, хрустя ломающимися сучками, шурша дыбящейся хвоей, взревывая, взвизгивая, подвывая, хохоча…
Страх вспыхнул падающей звездой и мгновенно угас, уйдя в жаркое лезвие ножа и оставив лишь легкий пьянящий озноб. Пальцы Инги окаменели на клинке; редкие тяжелые капли крови срывались с порезанной ладони, и лес жадно слизывал их на лету, прося еще, еще, еще…
Ингу переполняла спокойная уверенность, будто это не она – женщина тридцати с лишним лет от роду, замужняя, характер обычный, образ жизни обычный, – не она бежит сейчас по ночному лесу в фантасмагорическую неизвестность, а некто другой, совсем другой, настолько другой…
И слабым синим огнем засветился нож-проводник, откликаясь этим мыслям, откликаясь тому, другому, который… Инга разглядела, что нож стал длиннее, раза в три-четыре, лезвие слегка изогнулось, отсвечивая призрачной голубизной; и пришли слова. Пришли издалека, из немыслимого далека, но это были единственно возможные слова, гордые и простые.
«Оружие. Брат Скользящего в сумерках. Спутник Танцующего с Молнией».
И лес замер в испуге.
Инга стояла, переводя дыхание, на крохотной поляне в самой сердцевине чащи, – а легконогий человек внутри ее еще бежал, в упоении нежданного мига свободы, но вот и он замедлил шаг, вздохнул, опустил клинок синей стали и…
И исчез.
Инга была одна. Была – собой.
– …На пяти тропинок встречу, где ветвей сухие руки молча корчатся… – прошелестело в вершинах сосен, хотя никакого ветра и в помине не было, – и серая тень скользнула мимо Инги, пересекая поляну.
«Собака», – отстраненно подумала Инга.
– Волк, – рассмеялись сосны, роняя желтые иглы, – волк…
Волк, прихрамывая, трусил неторопливой рысцой, чуть подволакивая заднюю лапу; он в самом деле напоминал побитого пса, взъерошенная шерсть стояла дыбом и кое-где свалялась комками, неопрятными и грязными. У дальних кустов он на миг обернулся, изогнувшись всем телом, и глаза волка отразили слабое свечение ножа, который стал прежних размеров и почти угас.
Еще мгновение – и Инга снова осталась в одиночестве, даже не успев удивиться своему обострившемуся ночному зрению.
«Наш лохмач – мужик завидный, – донесся откуда-то насмешливый голос Иоганны, – то есть раньше был… А сейчас спортили красавца. Ты, баба, троих пропусти, пятого не дожидайся, иди за четвертым…»
«Первый?» – одним вздохом спросила Инга.
Тишина. И легкий свист, складывающийся в тягучую, заунывную мелодию.
Напротив Инги стоял ребенок. Он стоял вполоборота, пряча лицо под капюшоном длинного плаща; маленький, худой, и сердце Инги застучало неровно и часто.
– Таля… – шепнула она, шагнув чуть в сторону и заглядывая под капюшон. – Ты?..
Под капюшоном не было лица. Там вздувался гладкий лиловый пузырь с блестящей поверхностью и сверху неровной челкой падали черные засаленные волосы. Временами пузырь шел морщинами, трескался и как бы лопался, клубясь сизой мглой; из этого тумана проступали части совершенно разных лиц – орлиный нос с нервными ноздрями, чувственные губки бантиком, выпученные глаза под длинными женскими ресницами, усы щеточкой…
И вновь все сливалось в одно целое и застывало неестественно гладким яйцом.
Безликое Дитя молча отвернулось, свист внезапно усилился, теряя мелодичность, – и Инга не успела уловить того бесконечно малого отрезка времени, когда Безликое Дитя покинуло поляну.
«Второй?» – спросила Инга сама себя, и чьи-то цепкие пальчики ловко вцепились ей в юбку, нетерпеливо дергая подол.
Инга опустила глаза. У самых ног ее копошилось существо, напоминавшее обиженную гориллу, но всего девяти дюймов ростом. Лесной недомерок громко залопотал по-своему, втолковывая оторопевшей Инге какие-то свои, никому больше не известные истины, а когда Инга присела на корточки, он по непонятной причине озлился, зашипел, плюнул Инге на колено и, отцепившись от юбки, засеменил прочь.
Удаляясь, он вопреки ожиданиям отнюдь не уменьшился, а даже наоборот – принялся расти, вытягиваясь, сровнялся в росте с соснами и исчез в темноте леса, оставляя за собой грохот падающих деревьев да вопли потревоженного ночного зверья.
И тут Ингу сбило с ног. Причем так неудачно, что она ткнулась носом в прелую хвою, едва не выронив нож, потом оперлась на локоть и ошалело уставилась на очередного гостя.
Человек, столь неаккуратно вывалившийся из кустов, был действительно похож на человека, более того – человека весьма заурядного и вдобавок пьяного в стельку.
– Нет, нет, – забормотал человек, стоя на четвереньках и дыша на Ингу сивушным перегаром, – нет, только не это… Ну на кой ляд я вам всем сдался?! Отстаньте, а… отстаньте!..
Одной рукой человек попытался отмахнуться от всех тех, кому он на некий ляд сдался, – но потерял равновесие и упал, с шумом заворочавшись в сухих иголках.
– Значит, так? – с унылой обреченностью спросил он и шустро пополз к противоположному краю поляны, раскорячась и топыря локти. – Значит, облава? Ладно…
«Он, Бредун, – вспомнила Инга слова Иоганны. – Больше некому… Четвертый!»
И шагнула следом.
Доползший до конца поляны Бредун остановился и попытался лежа обернуться, что ему частично удалось.
– Вон пошла, – хрипло пробурчал он, косясь на Ингу, – давай чеши отсюда… Съем сейчас! Вот…
В глазах Бредуна зажглись хищные красноватые огоньки, зубы удлинились, становясь клыками, и на бледном лице резко проступил багровый рот.
– Ух, щас кровушку-то повысосу! – визгливо затянул Бредун – и икнул. Потом еще раз. Громко и неожиданно.
Он икал и икал, сотрясаясь всем телом, лицо его опять стало заурядным и даже жалким, и Инга зачем-то принялась хлопать его по спине, опустившись рядом на корточки.
Через некоторое время Бредуну полегчало. Он привалился спиной к стволу сосны, шмыгая длинным горбатым носом, взгляд его светлых глаз малость протрезвел и стал почти осмысленным – и Инга осмелилась.
Она ожидала совсем другого – погони, насилия, боли… А тут сидел похмельный немолодой человек, и лес вокруг помалкивал, до поры прикидываясь паинькой.
– Ты ответь мне, Бредун, – начала было Инга и осеклась. – Они сказали, что ты можешь ответить…
И снова осеклась.
– Кто?! – подавившись собственным вопросом, перебил ее Бредун и для пущей убедительности постучал кулаком по своей груди. – Я – кто? Как ты меня назвала, женщина?!
– Бредун, – робко повторила Инга. – Это мне так на хуторе…
– М-да, – человек задумчиво взлохматил и без того непослушные волосы. – Вот оно как… Бредун, значит. Это который бродит, что ли? Или который бредит? Ась? Ты как полагаешь?
– Никак, – честно ответила Инга. – Не знаю я. Ничего я теперь не знаю. Жили себе, жили, и вдруг – как в черный омут. Страшно должно быть, а мне и не страшно даже… Плохо и пусто.
– Ну, дура Иоганна, удружила, – человек плюнул в кусты и вытер мокрый рот о плечо. – Вот уж ведьмаки чертовы, умники лешастые, скажут – как оглоблей по башке! Бредун… Тогда уж лучше который бродит. Бредет, так сказать. Туда-сюда. Оттуда. И отсюда. И опять туда… где раки зимуют.
Он помолчал и нехотя добавил:
– Ты б меня не спрашивала лучше, а? Я тебе все равно ничего толкового не отвечу… Ну не знаю я, где мужики твои, честно, не знаю! Слухами земля полнится, а я мимо шел, как всегда… брел, в смысле. Догадываюсь, да и то – серединка на половинку! Зря они на Черчеков хутор сунулись. Ох, зря!.. Этот хутор судьба часто любит. Раз в полста лет – не одно, так другое… хоть в вашем мирке, хоть в каком другом! Ладно, что с тебя, неразумной, возьмешь, кроме хлопанья ресницами… Раз ты меня, похмельного, утешила, давай глянем… Ну, пошли?
Инга не очень поняла, что именно они сейчас будут глядеть в этой темени и чем она таким особенным утешила похмельного Бредуна, но тут ночной гуляка лениво махнул рукой – и вокруг стало светло.
Очень светло.
Слишком.
Глава девятая
Над собором из пепла – ветер. Свет и мрак, над песком встающий. Очертанья маленькой смерти. Ф.-Г. ЛоркаИнге показалось, что ее проволокли за волосы через такой чертополох миров и событий, что он изорвал сознание в клочья, разметав обрывки по ветру.
По степному горячему ветру, пахнущему полынью и стрелами…
Горели соборы и бордели, воздвигались империи и рушились горные хребты, вскипали алые бездны, и небо раскрывало объятия молниям, когда на перепутьях дорог мирских сходились судьбы и упрямые неудачники с глазами цвета синей стали…
И хутор, Черчеков хутор, настырный камешек в шестернях взбесившихся часов! Он строился, разрушался, рос или сужался до единственной радикулитной избенки; рождались и умирали люди и нелюди, творилось зло, похожее на добро, и добро, неотличимое от зла, – камешек, камешек, мелкий, назойливый, ворочающийся…
Где ты, камешек? Затерян в прибрежной гальке или летишь в авангарде горной лавины; впрессован в щебенку сельской дороги или забрался в башмак случайного прохожего?
Где?!
– Понравилось? – мягко спросил кто-то у Инги из-за спины. – Понравилось бродить? А вы мне даже напиться по-человечески и то не даете! Эх, вы… С тобой все в порядке?
Перед Ингой блестела река. Она текла, извилистая, поросшая ряской у берегов, до мелочей похожая на Маэрну в верховьях, откуда они с Анджеем и начали свой маршрут на байдарках. Талька еще сразу натер водянки на ладонях, а Бакс все смеялся… Они вообще много смеялись тогда.
Ингу тронули за плечо, и она обернулась. Позади стоял Бредун. Таким его представить было трудно.
Он был выбрит и причесан. Ему подходил любой возраст от сорока пяти и дальше, дальше… Судя по выражению глаз – намного дальше. И серые глаза Бредуна, посаженные близко к горбатой переносице, глядели трезво и с грустной иронией. Так могло бы смотреть дерево. Или скала, нависшая над заброшенным горным храмом.
И одет Бредун был чисто и опрятно. Штаны, куртка, короткие сапоги – хотя Инга никогда раньше не видела штанов такого покроя и курток такой расцветки. Все вроде бы то же, что и у всех, – ан нет, дудки…
– Эх, вы… – еще раз повторил Бредун и, отвернувшись от Инги, стал всматриваться куда-то в даль – в туман, стелившийся по реке ненамного ниже того места, где они стояли.
Инга последовала его примеру.
Туман, зыбко-белесый вначале, начинал постепенно темнеть в глубине своей пелены, словно его волокна смыкались гуще, плотнее; а еще дальше просматривалась глухая чернота – как черное платье сквозь кисейную накидку в несколько слоев.
Чуть позднее Инга заметила, что странный туман не ограничивается рекой, перерезая ее пополам и скрывая остаток почти-Маэрны от глаз людских. Он плавно стекал на молчащие берега, крался по сухой осоке и воровато вползал в самую гущу чахлого кривоствольного леса по обеим сторонам реки.
В лесу царила все та же чернота – но не обычный сумрак живой чащи, а знакомо-безразличная мгла, режущая мир на две части. Инга видела ее трижды, во время приступов: на работе, в поезде и при осмотре трупов.
– Что это? – тихо спросила Инга.
– Это? Это Переплет…
– А за ним что? Книга?
Бредун рассмеялся, и невесел был этот смех, до того невесел, что напоминал сырой промозглый туман-кисею на черной подкладке.
– Да уж Книга… такая Книга, что… а еще там люди есть. Всякие. Деревья, наверное, растут, дождь идет, а зимою – снег. Только ходу туда нет. Я имею в виду – живым ходу нет. Лишь после смерти. А у меня с этим делом нескладуха выходит…
Инга мгновенно связала последние слова Бредуна с тем, что он говорил ночью в лесу – где тот лес, где та ночь? – и вздрогнула.
– Там мертвые?! Да, Бредун? Только мертвые? И Анджей там? И Таля?! Ты это хотел сказать?! – они там, за твоим Переплетом! Будь он проклят, вместе с тобой!..
– Цыц, баба неразумная, – угрюмо и властно оборвал ее Бредун. – Не мой это Переплет. И хорошо, что не мой, а то я бы огородился…
Лицо его на миг стало жестким и страшным. Страшным всерьез. Но лишь на миг.
– Живые там. Все живые, и люди, и прочие… Одни – местные, другие – пришлые. Вот и твоим мужикам в самый раз там оказаться. С Черчекова хутора, почитай, все туда попадают – когда час пробьет.
– Живые, – повторила Инга, не вслушиваясь в остальное. – Живы…
– Говорю, что живые! Не так, может быть, как ты себе это представляешь, но – в достаточной мере. А вот что там со всеми живыми делают – никто не знает. А узнать хочется…
Инга молчала. Руки ее безвольно повисли вдоль тела, что-то теплое было зажато в правом кулаке, и не оставалось сил даже на то, чтобы просто разжать пальцы и выронить предмет.
Напротив клубился туман с черной душой.
– Ты только не думай, – продолжал меж тем Бредун, теребя вислый кончик своего длинного носа, – не думай, что я тебе просто так помогать стану, за глаза твои мокрые. Моя помощь дорого стоит. И платить не сейчас придется, не завтра – много позже, когда уже и нечем-то расплачиваться…
– Я знаю, – безжизненно ответила Инга. – Я сейчас вернусь на хутор и там умру. И попаду в туман… где Анджей с Талей.
– Дура ты! – гневно рявкнул Бредун, багровея и хватая Ингу за плечи. – Вот уж дура, так…
Он резко замолчал и уставился в землю. У ног Инги, наклонясь в сторону тумана-Переплета, торчал нож.
Бредун осторожно коснулся ножа кончиком пальца, после выдернул его из земли и стал рассматривать, уперев острием в ладонь и аккуратно поддерживая сверху.
– Иоганна дала?
Инга кивнула. Ей действительно казалось, что нож дала Иоганна.
– Сама дала? Что взамен попросила?
– Ничего. Так просто…
– Ну, счастлив твой бог, баба! Я просил – не давали. Ни Иоганна, ни Вилисса – мать ее – ни за что. И бабка тоже. Даже не показывали, всего один раз – и то… А дед нынешнего Черчека, отца Иоганны, – тот и вовсе слушать не стал, хоть и любил меня… да и я его любил. Я уж решил, что и впрямь легенда все это, бредни – нож Танцующего с Молнией. Собственно, ничего, кроме легенд, и не осталось. Считай, половину помощи оплатила – бо́льшую половину.
В руках Бредуна нож выглядел совсем по-другому – не так, как на хуторском подворье, но и не совсем так, как в ночном лесу. Клинок заметно раздался, став шире и мощнее, кожа на рукояти залоснилась и резче проступила вязь узора – словно строка неведомого писания, выжженная на синеве лезвия и обрывающаяся на самом острие.
– Береги его, – Бредун вернул нож Инге и улыбнулся удивительно светлой, юношеской улыбкой. – И жди меня на хуторе. Если этот ваш долдон в мундире объявится и будет к тебе со всякими глупостями приставать – наплюй и не верь. Лейтенанты – они дальше козырька ни ерша не видят. Как, впрочем, и генералы. А теперь зажмурься…
Инга послушно зажмурилась. Бредун взял ее за руку, и они сделали несколько шагов. На девятом шаге Инга почувствовала, что уверенные пальцы Бредуна соскользнули с ее запястья, – и наугад шагнула еще раз, стукнувшись лбом о невидимое дерево.
Глаза открылись сами собой, и из них посыпались искры. Когда к Инге вернулась способность видеть, она обнаружила, что стоит нос к носу с кольями изгороди Черчекова хутора – вернее, нос к сучку – и сжимает в руке кухонный нож.
За лесом занималась заря.
Глава десятая
Стара земля свечей и горя. Земля глубинных криниц. Земля запавших глазниц. Стрел над равниной. Ф.-Г. ЛоркаЛейтенант приехал к полудню.
Инга как раз помогала Иоганне по хозяйству, сама удивляясь той легкости и естественности, с какой она вписалась в хуторской быт. О прошедшей ночи не вспоминали, словно ее и не было. Где-то в глубине души у Инги тлела уверенность, что Иоганна и так знает все, что произошло в чаще леса и на берегу туманной речки; Иоганна просто обязана была это знать, а уж старый Черчек – и подавно.
Бородач фермер сперва долго шептался на огороде с лохматым Йорисом и после внезапно подобрел и проникся к Инге душевным расположением, а Йорис все время норовил пройтись поближе к Инге и подмигнуть ей плутовским зеленым глазом – заигрывал, что ли, или намекал…
Нож Инга попыталась вернуть Иоганне, но та молча отвернулась и сделала вид, что ее это не касается. А спустя минуту написала чищеной свеклой прямо на столешнице «Иоганна» – почерк был похож на контуры средневекового города, – затем подчеркнула все нечетные буквы и составила из них другое имя (правда, третью и пятую поменяв местами).
Инга.
Инга ничего не поняла, но решила не переспрашивать. И правильно решила.
…Короче, к полудню приехал лейтенант. Он долго выбирался из своего «жука», что-то втолковывая сидящей на заднем сиденье крупной овчарке – тому самому Ральфу, чей вой Инга помнила до сих пор. Ральф беспокойно мотал головой, настораживая уши и нервно нюхая воздух.
– Сто раз талдычил олуху, – пробормотал Черчек, стоя возле женщин с тяпкой в руках, – чтоб не возил к нам своего ярчука! Вот уж дурья башка…
– Ярчук – это порода? – заинтересовалась Инга. – Это вы так овчарок зовете?
– Песья порода, – хмуро пояснил Черчек, непонятно что имея в виду. – Ярчуки на нюх злые… да не то, что надо, чуют. Йорис, кликни братьев, пусть за хатой постоят…
Лейтенант подошел к ним и вяло козырнул. Лицо его являло собой сосуд скорби человеческой, причем сосуд весьма потрепанный жизнью и обстоятельствами.
– Здравствуйте, госпожа Линдер, – голос лейтенанта был печален и тих, – здорово, дед… Вы извините, госпожа Линдер, и не думайте, что я вовсе забыл про вас – я помню, и билет для вас обратный взял… только на той неделе уже, в четверг. Неприятность у нас большая, вот и некогда было…
– Неприятность? – сочувственно спросила Инга. – Какая неприятность?
– Да уж самая что ни на есть… Тела из морга пропали. Этих ваших… или не ваших. Как есть подчистую пропали. Смотритель морга горькую запил, господин майор обещал мне… ну, да это неважно, а эксперты руками разводят и говорят…
– Что дохликов пацюки схарчили! – неприлично громко расхохотался старик, дергая себя за бороду. – Или что головешки деру дали! Прямо в рай, к богоматери за пазуху!
– Как вам не стыдно?! – возмутился лейтенант с совершенно уже цивильными интонациями, но его прервал собачий лай.
Лаял Ральф. На Иоганну. Пес, оказывается, давно выбрался из машины, распугав всех кур, и теперь самовольно вмешался в разговор.
Собака припала к земле в семи шагах от беременной, готовясь к прыжку; хриплый лай клокотал в ее глотке, вздымая дыбом шерсть и наливая злобой горящие глаза, – а Иоганна, неподвижная и белая, как полотно, глядела на крупного пса, исходящего ненавистью.
– Ярчук, мать его в три бадьи… – Черчек перехватил тяпку поудобнее, и даже Инга крепче сжала кухонный нож, чувствуя, как обтяжная кожа рукоятки будто прирастает к ее ладони.
– Фу, Ральф! Фу! Назад!
Кричал лейтенант. Пес не обратил на его команды ни малейшего внимания, собираясь во взведенную пружину…
– Хай, зверь!
У угла флигеля стоял полуголый Йорис. Он был без привычной майки, и Инга в очередной раз поразилась его волосатости. Жесткий черный волос рос у Йориса не только на широкой груди, но и на плечах, и даже на спине вдоль позвоночника (Йорис стоял вполоборота, и часть его спины просматривалась вполне отчетливо).
Из-за плеча Йориса выглядывало встревоженное лицо одного из парней, а сам лохмач словно распрямился, перестал горбиться – и Инге удалось поймать короткий взгляд Йориса, брошенный им в сторону Иоганны.
Мужской, спокойный, забывший себя взгляд. Так смотрит на свою смуглую владычицу варвар-телохранитель из северных лесов, становясь между ней и дюжиной клинков; так смотрит вожак стаи, выходя вперед…
– Хай, зверь! Аррргх!..
Пружина сорвалась. Ральф взвился в воздух, круто меняя направление; и собака, Йорис, его приятель скрылись за флигелем.
Лейтенант рванулся было за ними, но корявые пальцы Черчека-хуторянина уцепили его за рукав, придержав на месте.
– Погодь, не суетись… там и без тебя шуму много случится.
Шуму действительно случилось очень много, причем он был громок и разнообразен. Спустя минуту из шумовой завесы вылетел визжащий Ральф на трех ногах; заднюю правую он поджимал к брюху, но и на оставшихся лапах пес бежал резво и в охотку.
Прыгнув в «жук», Ральф забился под сиденье, и лишь отчаянный скулеж напоминал о случившемся.
– Вы что, собак завели? – тупо глядя на Черчека, осведомился лейтенант. – За домом держите? Завели, да?!
– Не-а… – равнодушно отозвался Черчек. – Приблудные, наверное. Лишь бы Йориса мне не покусали, а твой кобель нам до подштанников…
* * *
…Короче, в полдень лейтенант уехал. И приехал к полудню, и уехал сразу же, потому что скандал с Ральфом занял очень немного времени. А Инга, спрятав билет в сумку и тут же забыв о нем, принялась вместе с Иоганной промывать, мазать мазями и бинтовать разодранную руку Йориса, прокушенную в двух местах.
Йорис морщился, кряхтел, собирался ругаться – да так и не собрался.
Инги стеснялся.
– Мамаша твоя, Ганна, такие дырки штопать умела, – заявил Черчек, неслышно подошедший сзади. – Ох, и умела… И бабка ее тоже. Ее Бредун учил, а уж он-то мастер на всякие штуки! Пошепчет-пошепчет, пальцами помнет, а то и слюной помажет – никаких трав не надо. Дед мой все пытал его – откуда, мол, да что, – а он молчит, сливянку хлещет и улыбается. А к бабам ласковый был, разговорчивый… вроде Йориса, только умнее. Ты вот, Йорис, виду не подавал, а я знаю, что ты Вилу, жену мою, а Иоганнину мамашу, слушать слушал, а терпеть не мог… ну и зря. Бредун ее уважал…
– А почему вы его Бредуном называете? – Инга завязала концы бинта и принялась устраивать раненую руку Йориса в повязке, подвешенной на шее.
Черчек и Иоганна переглянулись, и беременная еле заметно кивнула.
– Да чур его знает… – почесал затылок старик. – Бродяга – так вроде бы неудобно, Ходок – еще хуже… Помню, я мальцом был, а к деду моему как раз Бредун забрел, пива выпить. Ну, выпили раз, выпили два, Бредун по нужде на двор пошел, а в хату вдруг упырь Велько лезет – с того кладбища, что под Писаревкой. Так-то они нас не трогают, грех напраслину возводить – только тут гляжу, совсем мертвяк озверел, как луной намазанный… Слово за слово, а дед у меня тоже не подарок – в общем, сцепились они. Я к дверям, а в дверях – Бредун. Бледный, аж инеем взялся, и как зашипит на упыря не знаю уж по-каковски!.. Велько деда бросил, в угол вжался, словно в нос чесноком сунули, и лопочет дурным голосом: «Прости, Сарт Верхний, неразумного!.. Ночь сегодня мутная… Прости, Сарт…»
– Ну? – нетерпеливо бросила Инга в сторону замолчавшего хуторянина.
– Вот те и ну… Сдуло Велько, как туман ветром, а Бредун к деду подошел и еще пива спрашивает. Дед доброе пиво варил… А я раз попробовал Бредуна Сартом назвать, как упырь звал, так дед меня выпорол…
– И правильно сделал, – донеслось от плетня.
Все обернулись. У изгороди стоял Бредун.
Губы его были разбиты. На левой щеке подсыхала длинная царапина, и один глаз заплывал синей опухолью.
Он улыбался.
Сага про «здесь» и «там»
Тут вам не здесь!
Аркадий и Борис Стругацкие Зря пугают тем светом: Тут – с дубьем, там – с кнутом. Врежут там – я на этом, Врежут здесь – я на том. Владимир ВысоцкийГлава одиннадцатая
Со всех сторон, куда ни пойдешь, прямо в сердце – нож. Ф.-Г. ЛоркаТам
Бакс просто бурлил от ярости.
Она – в смысле ярость – закипала глубоко в животе, клокоча, вздымалась по пищеводу, обжигала голосовые связки и прорывалась такими нецензурными пузырями, что алый от смущения Талька забаррикадировался в избе, заткнув свои оттопыренные уши. Там же пряталась и Вилисса – где слабой женской натуре, пусть и с многолетним ведьмовским стажем, этакие страсти вынести?
Один у Бакса остался восторженный слушатель и почитатель – замшелый дед Черчек из древнего клана Черчеков, известных грубиянов и ругателей. Да и то сказать – при особо виртуозных заковыринах глядел дед в землю, будто потерял что, и лишь бородой тряс в стыдливом восхищении.
Анджей, друг закадычный, трах его прах в тарарах, – который, кстати, и придумал в свое время Баксу его кличку, прилипшую на всю жизнь, обнаружив сходство физиономии Баксовой с портретом деятеля одного на зеленой заокеанской валюте, – собутыльник и сотрапезник Энджи бросил доверчивого Бакса, грох его в горох, и смылся в Книжный Ларь, храм их трам-тарарам…
И так далее, в переводе с Баксова на общеупотребительный.
Из лаза, ведущего в погреб, торчало никем не замеченное волосатое ухо подвальника Падлюка, и шерсть на нем стояла дыбом, как во время грозы. Забыта была квашеная капуста, жирная свечка не лезла в горло, и крохотное сердечко подвальника трепетало от ужаса – а вдруг вот это вот, что такое громкое и страшное уродилось, в подвал полезет?!
Не полез, пронесло…
Поостыв маленько, Бакс вспомнил о главном – что сидело отравленной занозой в его измученной душе.
– Слышь, дед, а чего они все, в кабаке которые, словно помороженные? Пиво у них – это да, всем пивам пиво, я б с такого пива от счастья до потолка прыгал, а эти сиволапые сидят, как на званом обеде… здрасьте, пожалуйста, наше вам с кисточкой! Я закурил, так они рыбой подавились…
– Они ж в Переплете живут, – хмуро отозвался Черчек. – На всю жизнь с ним повязаны… Кто Закон Переплета принял, тот за каждый свой шаг перед судьбой в ответе. Что ни сделает, как ни поступит – все от Переплета отражается и обратно в человека метит. Планида у них такая несуразная!
– Это как? – ошалело вякнул Бакс, поперхнулся и зачем-то переставил слова местами. – Как это?
– А так… Ну, напьется, скажем, местный долдон в кабаке и кружки сдуру побьет или, того хуже, морду кому расквасит – а Переплет от этого колыхнется, и судьба у долдона немедля изменится. Пойдет он из кабака домой и ногу себе вывихнет. Или хата у него сгорит. Или еще чего… А скажет «спасибо» раз пять – будет ему удача. Деньгу найдет или лук хорошо уродится. Вот так-то! Эй, парень, что с тобой?..
Молчание Бакса выглядело красноречивей всяких слов – как печатных, так и прочих. Кроме того, тихий и бледный, словно мгновенно осунувшийся Бакс – неприятное, однако, зрелище…
– Что ж это получается? – чужим голосом, от которого у Черчека мигом заледенели уши, сообщил Бакс кому-то невидимому и неведомому. – Это, значит, обругаю я козла-хозяина под горячую руку – на тебе, стервец Баксик, по харе за дела твои нехорошие?! А вот подам я нищему копеечку гнутую – на тебе, милый друг Баксик, три рубля за душевность и отзывчивость?!
– Вроде того, – кивнул Черчек.
Бакс еще немного помолчал.
– Ты знаешь, дед, – наконец выдавил он, – выходит, что здесь – рай. И справедливый Переплет вместо надзирателя… в смысле вместо боженьки. Всем сестрам по серьгам, человек человеку и так далее… а чего ж они тогда к вам с кольями лезут? Их же Переплет так переплетет за хулиганство…
– Не переплетет, – дед сплюнул себе под ноги и зло растер невидимый в траве плевок сапогом. – Мы – чужие. Выползни. Из-за Переплета выползли. Нас хоть жги, хоть режь, хоть в рожу сморкайся – судьба от этого только лучше становится. Не по дням, а по часам. У них, у местных, лучше становится… А у нас – наоборот. Мы ведь тень отбрасываем! Страничники говорят, что тень стоит между нами и Переплетом и не дает делам нашим от него отразиться. Мы вроде как мимо судьбы ходим, так зато паскуды здешние, Люди Знака, мать их так, мимо нас не пройдут! Если и живем еще кое-как, так только для того, чтобы огрызки душ их тешить…
– Дерьмо, – подытожил Бакс, глянул на Черчека и уточнил для чего-то: – Все дерьмо. И дела наши, и рай этот загробный, и Переплет ихний… Дед, скажи-ка, а глянуть на него можно или это только для избранных… в белых рубашоночках?
– Чего на него глядеть? Туман как туман, сперва белесый, а поглубже черный совсем…
«…Зверь-Книга в переплете из черного тумана», – прошептал в голове у Бакса Вилиссин голос, прошептал и смолк, будто захлебнулся.
– Да тут он, под боком, считай, – продолжал меж тем Черчек, нимало не интересуясь Баксовыми слуховыми галлюцинациями. – Мы ж на самой окраине живем. Полдня ходу, если к Ларю не сворачивать – туда поболе будет, – и вот он, Переплет. А как далеко тянется – не знаю, и что за ним – тоже не знаю. То ли конец света, то ли начало, то ли вообще середка… Только бродить там опасно, а в Переплет входить – как голым задом в печку. Туда-то войдешь, а обратно лишь жареным… и то не всегда.
– Ты знаешь, дед, – раздумчиво произнес Бакс, – надоел ты мне со своими советами. Туда не ходи, сюда не лезь, тем силу не показывай, этим ухи не крути… Что ж мне, всю загробную жизнь у твоих портянок просидеть? Так оно шибко скучно да вонюче, если выражаться культурным языком. Полдня ходу, говоришь? Вот с утреца и наведаюсь, гляну на ваш Переплет; может, мысль какая умная в голову забредет. Парни твои, жаль, трусоваты, забились после налета в щели, носу из хат не кажут – а то б взял с собой…
– Трусоваты? – Лицо старика отвердело, и стало непонятно, как лес его косматой бородищи мог вырасти на таких солончаках. – Может, и трусоваты… эту волчью стаю во всем Пфальцском уезде ночью поминать боялись!.. а тут они – кто?! Щенки молочные! Или нет, скорей, псы старые, беззубые, молью траченные! Всякая зараза утопить поленится, а ногой пнет! И все в морду, в морду… Эх, ты!..
Баксу неожиданно стало стыдно. Это было очень неприятное и незнакомое чувство; оно холодным пульсирующим комом зависло где-то внутри, в той пустоте, где должна быть душа. Бакс ощущал его присутствие ночью, захлебываясь тяжелым, муторным сном; утром, когда оставлял нахохлившегося Тальку на временное попечение Вилиссы; днем, когда выспрашивал деда о дороге к Переплету, избегая встречаться со стариком взглядом…
…Через некоторое время Бакс стоял, прислонившись к хилой, страдающей сколиозом сосне, и глядел на бледно-сизые клубы тумана, заполняющие лощину перед ним. Чуть левее пологий склон спускался к реке, и странный туман, в глубине которого действительно пробивалась неестественная чернота, резал реку пополам, превращая ее в сломанный стальной меч.
Бакс стоял и молчал.
Еще через час туман изменился. Нет, внешне он остался прежним, но внутри Бакса словно хлопнул стартовый пистолет.
Человек, которого звали Баксом, сбежал вниз и, на миг замедлив шаг, вошел в хищно клубящийся туман.
И Переплет поглотил человека, дрогнув черной сердцевиной.
* * *
Где-то совсем в другом месте, которое здесь называлось «там», а там называлось «здесь», совсем другой человек – худой, сероглазый, горбоносый, неопределенного возраста – стоял перед Переплетом.
В совсем другом месте, совсем другой человек и с совсем другой стороны, где берега реки, словно ножны, плотно облегали вторую половину сломанного меча.
Тот, кого иногда звали Бредун, помедлил, вздохнул и сделал шаг вперед.
Глава двенадцатая
Они глядят, мои слуги, на север в синей короне и видят руды и кручи, где я покоюсь на склоне, колоду карт ледяную тасуя в мертвой ладони. Ф.-Г. ЛоркаЗдесь
Бредун сидел на небольшом кривобоком холме, который и холмом-то можно было назвать лишь из желания польстить этому самонадеянному бугру, вылезшему на ровном месте, как… – в общем, Бредун сидел, на чем сидел, и смотрел на Переплет.
Бредуну было плохо. Сегодня он вспомнил, что на свете существует время.
Время.
Бредун представлял его себе в виде толстенького коротышки с прилизанными редеющими волосами, пухлыми ручками-ножками и виноватой полуулыбкой на невыразительном лице.
Почему виноватой – Бредун этого не знал, да и не очень-то задумывался. Просто когда он размышлял о том, как они однажды встретятся – тощий усталый Бредун и семенящий толстун-Время, – у Бредуна мгновенно портилось настроение.
Даже приличный глоток из заветной фляжки – и тот не помогал.
Все всегда хотели знать, кто такой Бредун. Времени было глубоко плевать на это. Все всегда хотели знать, как Бредуна зовут на самом деле. Он увиливал, отшучивался, надевал маску на маску, пока не стал забывать собственные имена, – Время виновато улыбалось и разводило руками, ничего не спрашивая и ничем не интересуясь.
Для Времени вечный странник Бредун, затычка для многих дырявых бочек из многих прохудившихся миров, одинокий постоялец караван-сараев на перекрестках жизни и событий, – для Времени он был одним из множества, из такого множества, что у Бредуна кружилась голова и перехватывало дыхание.
И все-таки он, Бредун, и Время до сих пор бродили разными тропами. Потому что Бредун и горсть ему подобных были из Неприкаянных.
Неприкаянные. Он сам придумал это слово, и слово прижилось. Еще бы! Ведь слово «Проклятые» звучало гораздо хуже.
Гораздо.
Каждого из Неприкаянных Время обходило стороной. И когда они в порыве налетевшего безумия метались из мира в мир, из одного миража в другой – иногда сознательно выбирая случай и место, иногда слепо подчиняясь судьбе, – Время всякий раз ускользало от Неприкаянных, на миг мелькнув за поворотом очередной дороги.
И как песчинка в раковине моллюска слой за слоем обрастает перламутром – так любой Неприкаянный, попав в раковину чужого или знакомого мира, начинал мгновенно обрастать событиями.
Слой за слоем. И толстое Время хихикало, прячась в тени.
То, что происходило, – вокруг Неприкаянного оно происходило в десятки раз быстрее; то, что должно было наступить завтра, – наступало сегодня и сейчас; то, чего боялись, – открывало дверь и входило в оцепеневшую комнату, мимоходом похлопав Неприкаянного по плечу.
Люди, судьбы, жизни, смерти – все они в присутствии Неприкаянного сразу же начинали играть в извечную игру «возможно-невозможно», все они обволакивали Неприкаянного плотным коконом, вовлекая в происходящее, не оставляя выбора, удерживая…
Пока он не разрывал кокон. И уходил, оставляя за спиной корчащиеся обрывки – разбитую посуду тел, лопнувшие нити отношений, треснувшие черепки судеб, шелуху жизней в запекшейся крови.
Он уходил, и его память уходила вместе с ним, и легенды преследовали Неприкаянного по пятам, как пыль преследует гонимую слепнями лошадь.
Поэтому они не любили слова «Проклятые».
…Бредун сделал еще один глоток, поморщился, пожевал тонкими губами и вновь уставился на сизо-черный туман Переплета, за которым начиналась подлинная тьма.
А за ней? Что – за ней?!
Ах, если бы эта отчаявшаяся женщина не остановила его тогда в лесу! Если бы он не поддался на мгновение искушению расслабиться, отпустить поводья мыслей, ослабить кованые обручи на сердце!
Если бы…
В последнее время – время, а не Время – Бредун успешно избегал неизбежного. Он подолгу не задерживался ни на одном месте, растворяя уксусом странствий первый же перламутровый слой вокруг себя; он не пускал никого из живущих дальше прихожей своей души; он забросил в дальний угол ключи от запертых комнат-воспоминаний…
Он начал много пить. Это тоже помогало.
В редкие минуты трезвости Бредун подбрасывал в руке пригоршню своих прежних имен – Ожидающий, Полудурок, Арельо Вером, Седьмой Магистр, Мифотворец от алтарей Ахайри, Ллонг-Ра, Предстоятель Перекрестков, Сарт (последнее имя было дороже прочих, потому что оно было первым), Бредун – и радовался, что новых легенд с этими именами становится все меньше и меньше.
Он глядел в этот пересыхающий ручеек и старался не вспоминать.
Ничего – не вспоминать.
И пореже встречаться с другими Неприкаянными.
Если бы не эта женщина!.. Если бы не ее сухие блестящие глаза, похожие на…
Не вспоминать!
Ничего – не вспоминать!
И все же…
Бредун запустил пустой флягой в ближайшее дерево, вскочил и, спотыкаясь, сбежал вниз.
Когда первые языки Переплета лизнули его сутулую нескладную фигуру, он остановился и обернулся через плечо.
На небольшом кривобоком холме, который и холмом-то было стыдно назвать, стоял кто-то. Маленький, толстенький, с редкими прилизанными волосиками и виноватой полуулыбкой на невыразительном лице.
Кто-то стоял и махал вслед Неприкаянному пухлой ручкой.
Тот, кого иногда звали Бредун, помедлил, вздохнул и сделал шаг вперед.
Глава тринадцатая
…А звуки и веки — что вскрытые вены. (Черное тонет в багряном.) И в золоте слез расплываются стены. (И золото тонет в багряном.) Ф.-Г. ЛоркаНи там ни здесь
Чертов туман вцепился в Бакса ледяными пальцами, пропитав его насквозь, вытравив все ощущения, все чувства, кроме одного.
Кроме злости.
Вот на ней Бакс и шел. На последних крохах, на остатке – шел, раздвигая руками сырость белесых прядей, которые постепенно наливались томительной чернотой, сгущались, сплетались глухой мглой вокруг упрямой человеческой фигурки.
Наконец даже злости не осталось.
Ничего не осталось.
Совсем.
…первым родился слух.
Кто-то плакал в ночи; безутешно всхлипывая, шмыгая невидимым носом, захлебываясь горем и горечью слез. Бакс прислушался – и мгновенный пронзительный визг бритвой полоснул по барабанным перепонкам, на него наслоился угрюмый хор басов, бубнящих монотонно-однообразную молитву, а визг прерывался, чтобы начаться снова, и над царящей какофонией ударили литавры грома, и тишина, и вновь плач, визг, и вновь, опять, снова…
Бакс понял, что кричит.
В полной тишине.
…Вторым было осязание.
Липкая и влажная ладонь погладила его по щеке и исчезла. Бакс отмахнулся вслепую – и руку обожгло огнем, а откуда-то сверху хлынул водопад, и кожа слезла с плоти, оставив нервы открытыми, и плетеный бич опоясал туловище, а воздух стал ватой, забиваясь в ноздри; горячо, холодно, мокро, больно…
Бакс упал на колени.
Встал.
И шагнул к крохотному огоньку, замаячившему впереди.
…Зрение. Третье чувство.
Блуждающий огонек вспыхнул, разрастаясь багряным полотнищем, его разрубила ослепительно синяя стальная полоса, а вокруг простиралась заснеженная равнина, белая-белая, как ряса Страничника; и в хрустальных многогранниках тысячи люстр дробились радужные сполохи, а небо играло бирюзой и сапфиром, и оранжевые языки молний лизали непроглядную тьму, черный мрак…
Мрак.
И зажмуренные глаза, дрожащие от напряжения веки; и световые кольца в пульсирующем сознании.
Мрак.
Тишина.
Застывшее желе воздуха.
И пауза.
Долгая-долгая пауза.
И краткий миг, когда два оставшихся чувства включились одновременно.
…Смрад погребального костра и кислый лимон на языке, аромат сандала, горечь древесной коры, запах бензина, приторная сладость инжира, металлический привкус, вонь помойки, благоухание лилий, трехлетнее красное, горчица, нашатырь…
Кулаки никак не хотели разжиматься, закоченев в судорожном усилии.
В темноте Переплета, не имеющей вкуса, цвета, запаха; в темноте Переплета, не имеющего ничего, кто-то визгливо хихикал.
Пока не смолк.
Бакс несколько раз напряг и расслабил все мышцы, проверяя тело на подчинение, и сплюнул себе под ноги.
Слюна ударилась о землю с грохотом горного обвала.
Эхо.
Тишина.
…Бакс побежал, выставив перед собой негнущиеся руки. Ноги гнулись ненамного лучше.
Какая-то отдаленная часть его мозга – Бакс смутно подозревал, что именно там, как нож в ране, застрял осколок Дара Вилиссы, – твердила ему, что Переплет сейчас не такой, как обычно, не набравший полной силы или на мгновение утративший изрядную ее долю, иначе…
Бакс представил себе последствия этого «иначе» и прибавил ходу.
Он бежал, а вокруг возникали и разрушались дворцы, лил проливной ливень и полыхала жаром полуденная пустыня, ревели толпы на площадях и стонали от любви женщины со змеиными глазами…
Он бежал; он рубился в первых рядах панцирной пехоты, мерно взмахивая прямым тяжелым мечом; он умирал на плахе под дубиной раскосого палача с лицом доверчивого идиота; он слышал хруст собственных костей и шепот гурий неведомого рая, истосковавшихся по неуемной мужской силе; он…
– Вилисса! – вскрикнул у него в голове невидимый и бесплотный Талька. – Вилисса, я нашел его, только слышу слабо. Дядя Бакс, миленький, папе плохо, ему тело нужно, настоящее тело, а она говорит, что без тебя никак!.. Баксик, пожалуйста, не пропадай, держись за меня…
Он бежал.
Бежал сквозь сотни своих непрожитых жизней, сквозь смерть, любовь и боль, сквозь миражи Переплета; бежал и кричал сорванным голосом:
– Талька-а-а! Я зде-е-есь! Я уже иду!.. Скажи Энджи, что я уже…
Плечом Бакс больно врезался в дерево, потом в другое, даже не успев понять, что больше не просачивается через предметы, что он – настоящий; дальше он сшиб что-то живое, хрипло вскрикнувшее при столкновении, – и замолотил кулаками наугад, куда попало, чувствуя жжение в разбитой губе, кровь, текущую из носа…
…Два сцепившихся тела катились по земле, и Переплет вокруг них незаметно светлел.
Это было тогда, когда Анджей вышел из Пяти Углов, пнув дымящуюся плошку, – но разве в этом дело…
* * *
Бакс закряхтел и с трудом сел, опасливо трогая себя за распухший нос. В пяти шагах от Бакса струился бледный туман.
Переплет. С другой стороны.
Худой человек напротив Бакса зашевелился, охая и ругаясь, приподнялся на локте и уставился на Бакса левым глазом.
Правый был изрядно подбит и заплывал синей опухолью.
– Ты чего? – обалдело спросил человек и закашлялся.
– Я? Я ничего… – машинально ответил Бакс. – А ты чего?
– Я? И я ничего…
Человек расхохотался, смешно морщась и похрюкивая от колотья в боку.
– Выпить хочешь? – отсмеявшись, спросил человек.
Бакс подумал и кивнул.
Глава четырнадцатая
Прощаюсь у края дороги. Угадывая родное, спешил я на плач далекий, а плакали надо мною. Ф.-Г. ЛоркаЗдесь
– И правильно сделал, – донеслось от плетня.
Все обернулись.
…У изгороди стоял Бредун.
Губы его были разбиты. На левой щеке подсыхала длинная царапина, и один глаз скрылся в монументальной опухоли.
Он улыбался.
И Бредун улыбался, и зрячий хитрый глаз его тоже улыбался, и вся нескладная фигура Бредуна излучала совершенно неуместное веселье.
– Правильно его дед тогда выпорол, – повторил Бредун, глядя уже на Ингу и тыча пальцем в поперхнувшегося последними словами Черчека. – Дед твой, Черч, умный мужик был, не в пример тебе. Тут со мной один попутчик прибыл, так он деда твоего знает и подтвердит, что не в коня корм и не в деда внук…
Бредун повернулся к опушке леса и нетерпеливо махнул рукой. Движение это заставило его согнуться чуть ли не пополам, он принялся хватать ртом воздух – но Инге было не до страданий Бредуна.
Инга выронила забинтованную руку Йориса, так и не завязав окончательно узел перевязки – Йорис зашипел, хотел было что-то сказать, но сдержался, – и стала всматриваться в человека, приближавшегося к хутору.
Слезы набегали ей на глаза, она моргала, стряхивая блестящие капли с ресниц, и все равно видела плохо.
Или боялась увидеть.
Или боялась поверить в то, что видит.
Или просто боялась.
Бакс подошел к изгороди и остановился рядом с Бредуном.
– Слышь, Ганна, это ведь тот малый, что мне то самое отбил… наиглавнейшее, – бросил Йорис Иоганне и добавил вполголоса, пристраивая прокушенную руку на колене: – На Бредуна похож.
– Чем? – Иоганна чуть откинулась назад, уравновешивая свой непомерный живот, потом взгляд ее перебежал с худого угловатого Бредуна на плотного коренастого Бакса, чьи соломенные волосы торчали во все стороны; и брови Иоганны удивленно поднялись вверх.
– Чем похож-то?
– Рожей, – услужливо пояснил Йорис, поразмыслил и добавил для верности: – Разбитой рожей…
Инга сделала шаг вперед, после другой, третий и наконец остановилась. Так они и стояли, разделенные хрупкой перегородкой плетня – Жена и Друг, Живая и Неживой, Оставшаяся и Вернувшийся.
– Ну как вы там? – тихо спросила Инга. – Как Таля? Устроились ничего?..
– Нормально, – тем же тихим спокойным тоном ответил Бакс. – Живем на хуторе, вроде этого, у тамошнего старого хрена, тоже, – Бакс махнул в сторону молчащего Черчека, – вроде этого… Только тот еще старше… и еще хреновее…
– Кормят как?
Инга попыталась плотно сжать губы, но слова произносились сами – сухие, как осенние листья, банальные, как разговор по междугородному телефону.
– Неплохо кормят.
Бакс часто-часто заморгал, и Инга с ужасом увидела слезу, пробивающую себе путь сквозь заросли Баксовой щеки.
– Неплохо кормят… оладьи дают, со сметаной. Пиво у них хорошее, густое… и люди приятные, культурные люди… и луна в небе есть. Выйдешь ночью во двор, жизни порадуешься, повоешь на луну от счастья и спать пойдешь…
Бакса качнуло, он ухватился за плетень, и Инга, не раздумывая, опустила свою ладонь поверх его руки.
И вздрогнула.
Рука Бакса была ледяной и влажной, будто бутылка пива, только что вынутая из холодильника. Только пивные бутылки не дрожат такой мелкой и лихорадочной дрожью.
– Времени у нас мало, – вмешался Бредун, переставший улыбаться. – И даже не у нас, а у него времени мало. Обратно ему надо. Переплет он прошел, а сюда его уже я приволок. И обратно отведу, иначе загнется он здесь. Навсегда и без вариантов. Через эту дверь живые не ходят… а если и ходят, то ненадолго. Ты, баба, отпусти его, не трожь, смерть – она заразная, еще подхватишь сдуру…
Инга машинально отпрянула и тут же устыдилась своего порыва – но Бакс отошел назад и стал, широко расставив ноги и сжав кулаки, словно собирался врасти в эту землю, которая не хотела его носить.
– Бакс, родной… – прошептала Инга.
И замолчала.
– Я его сейчас обратно отведу, – Бредун ободряюще похлопал Ингу по плечу. – Он мне все рассказал, а я вернусь и вам тоже все-все расскажу. Только не знаю – хорошо это или плохо.
– Что? – выдохнула Инга. – То, что вы расскажете?
– Да нет… То, что я вообще встрял в вашу историю. Я ведь из Неприкаянных. Из самых что ни на есть…
Инга ничего не поняла. Она обернулась и увидела бледного, как смерть, Черчека; Иоганну, закусившую губу и нервно теребящую концы платка; Йориса, напрягшегося, как тетива натянутого лука…
– Ну, чего вылупились?! – грубо прикрикнул на них Бредун. – Или не догадывались? Ведьмаки липовые…
Как ни странно, его грубость подействовала успокаивающе. Йорис опустил глаза и откинулся на спинку скамейки, Иоганна бросила мучить платок, и лишь Черчек неотрывно смотрел на Бредуна.
– Умен был мой дед, Сарт Верхний, – пробормотал старик, покачивая косматой головой из стороны в сторону. – Твоя правда… С душой порол меня, неразумного, чтоб с тобой не якшался, – да, видать, не впрок порка пошла. Эх, дед!.. деда…
Инга повернулась к Черчеку, хотела что-то сказать, осеклась, а когда она снова глянула туда, где только что стояли Бакс и Бредун, – их и след простыл.
Лишь пыль курилась на опустевшем месте.
– Ай, Бредун…
Певучий говор Иоганны неожиданно испугал Ингу. Она замерла, вслушиваясь в полуплач-полупесню, так напоминающую причитания или заупокойную молитву, а Иоганна все не смолкала, все бросала слова на ветер:
– Ай, Бредун… ай, далекая дорога, мчится конь, не зная страха, над равниной вместе с ветром – конь мой пегий, месяц красный… и глядит мне прямо в очи смерть с высоких башен… ай, Бредун…
– Цыц! – оборвал Черчек завораживающий ритм непонятных слов. – Рот закрой! Нашла время выть!
– Ты скажи ей, Черчек, – подал голос Йорис, до того ожесточенно чесавший здоровой рукой волосатую грудь, – ты скажи ей, чтоб не выла почем зря и по ночам чтоб не бегала куда ни попадя! Ей дите доносить надо да родить как положено, а если ты ей не скажешь, черт старый, так я ей сам скажу, только меня она не слушает…
– Да ладно вам, – по-бабьи поджала пухлые губы Иоганна. – Вон уже и Бредун вернулся, а вы все о своем…
Бредун стоял у плетня, словно и не исчезал никуда. Поймав удивленный взгляд Инги, он широко развел руками и отвесил шутовской поклон до самой земли.
– Это очень просто, – заявил он. – Сначала делаем вот так…
Глаза Бредуна посерьезнели и превратились в два заброшенных колодца у дома, пользующегося дурной славой.
– Потом делаем шаг в нужном направлении…
Он отступил в сторону – и вдруг воздух вокруг него слабо замерцал, а сам Бредун окутался дымкой, как луна в туманную ночь, и…
И ничего. Потому что Бредун шагнул обратно и снова стал прежним Бредуном – тощим фигляром с темным прошлым, смутным настоящим и несомненно светлым будущим.
– Вот в таком духе, – он щелкнул пальцами и присвистнул длинно и протяжно. – Бродим, значит… но не так, как молодое вино, а так, как я.
Инга хотела спросить Бредуна о Баксе, но почему-то так и не спросила. Она поняла, что без этого странного человека – как он себя назвал, Неприкаянный, что ли? – что без него Инге не попасть туда, где за сизо-черным туманом находятся Анджей и Таля, и Бакс, которому было плохо ЗДЕСЬ, и поэтому Инге наверняка будет плохо ТАМ, но хуже уже не будет, потому что дальше просто некуда…
И еще она поняла, что Черчек и лохматый Йорис до озноба, до холодного кома в желудке боятся вмешательства Бредуна в происходящее – словно он на их глазах создавал смерч, способный закружить всех в неумолимой ревущей воронке и разметать в разные стороны, изломав судьбы и жизни.
– В хату пошли, – оборвал Бредун Ингины невеселые размышления. – Говорить будем. Ох, много говорить будем, много и долго…
И тут старый Черчек не выдержал.
– Что ТАМ, Бредун? – спросил он, весь подавшись вперед и становясь удивительно похожим на того мальчишку, который испуганно глядел на сцепившихся деда и упыря Велько, и на силуэт Бредуна в дверях – силуэт страха и надежды.
– Что ТАМ, Бредун?
– Там… Зверь-Книга там, Черч. Вот что ТАМ. Переплетом огородилась, судьбу запрягла и живыми людьми свои страницы пишет. Сама себя прочитать хочет. Вот они, сказки ваши темные, ведьмачьи, верь-не-верь, а забывать не стоит. Забудешь – сами напомнят.
Бредун двинулся по направлению к хате.
– Нож возьми, – бросил он Инге через плечо, и Инга сразу сообразила, какой нож имеет в виду Бредун.
– Нож возьми. Пусть тоже послушает. Клин клином вышибают… а иной клин – клинком.
Последние слова не показались Инге удивительными или неуместными.
Очень даже уместные были слова.
У стола-помоста Инга задержалась, сжала в ладони рукоять оставленного ножа – и ей внезапно показалось, что она держится за чью-то руку.
Твердую и надежную.
* * *
…Они сидели в доме Черчека, где все было на удивление обыденно: добротная, «бабушкина» с точки зрения Инги, мебель; ореховый буфет, в недрах которого позвякивало великое множество скляночек; пучки высохших трав под потолком, никелированная полуторная кровать с прогнувшейся сеткой, в углу икона с хмурым святым, смахивающим одновременно на хозяина дома и на разбойника с большой дороги (или это была не икона?.. так вроде лампадка горит…), и, наконец, огромный, на века сколоченный стол, за которым они и сидели.
– Ну, вот и все, что я знаю, – сказал в заключение Бредун, подумал и поправился без тени смущения: – Вернее, это все, что рассказал мне ваш приятель Бакс. Знаю-то я поболе того, только ни к чему оно сейчас, знание мое…
Он осторожно лизнул разбитую губу, скривился и шумно втянул воздух горбатым носом.
– Ладно, – вздохнул Бредун, щуря хитренькие глазки, – теперь ваша очередь. Говорите, что да как… Слово-полслова, ан, глядишь, и наковыряем чего-нибудь.
И они заговорили.
Говорила Инга – и байдарки скользили по стремнине Маэрны, визжал от восторга Талька, молчали над бутылкой красного сумрачные Анджей с Баксом, ехал поезд туда, ехал поезд обратно, выл лейтенантов Ральф, развевалась белая рубашка Иоганны, рукоять ножа прилипала к руке, и лес расступался перед бегущей женщиной…
Говорил Черчек – и лежал во флигеле остывший труп упрямой старухи Вилиссы, отдавшей Дар свой неведомо кому; только не застал Черчек ни тела жены своей, ни глаз ее опустевших, а застал лишь могилку свежую да грубый крест над ней, а остальное потомственный ведун душой учуял; снова входили на хутор трое чужаков, и снова холодел старик, видя во взгляде пришлого пацана в летней маечке – видя знакомый отсвет, что много лет видел во взгляде той, которая звалась Вилиссой Черчековой, а в иных кругах – Пфальцской Вилой; вновь говорил мальчишка слова, Даром подсказанные, и отворачивался старый Черчек, не заметив хищного прищура Серого Йориса из дикого волчьего клана…
Говорил Йорис – и запах пришельцев вновь раздражал чуткие ноздри Вожака, мешаясь с заветным ароматом первача на знойных летних травах; вновь малец проклинал отпрянувшего Йориса, услыхавшего страшный голос умершей старухи-хозяйки, и нож сам раскрывался в руке и вылетал из руки, когда приземистый бородач-горожанин ревел зверем – тем зверем, на которого даже всей стаей не ходят, да только поздно понял это сдуревший перед полнолунием лохматый Йорис…
Иоганна молчала. Лишь легко коснулась ножа, смирно лежащего на столе, да посмотрела на Ингу, рядом с которой нож и лежал. Вот и все.
Что сказано – то сказано.
Бредун тоже посмотрел на нож.
– За него я скажу, – прошептал Бредун. – Не мастак я такое говорить, но попробую.
Бредун протянул руку, ладонь его зависла над лезвием – и лезвие на миг просветлело, показалась на нем строка, дорожка неведомых знаков, похожих на птичьи следы на песке; показалась – и исчезла.
Бредун гортанно вскрикнул – раз, другой, будто пробуя голос, и Инга с удивлением заметила, что голос его резко изменился. Низкий стал голос, глухой, рокочущий; будто и не Бредуна, а кого-то другого, только что вошедшего…
Кого?
Глава пятнадцатая
Наши ножи – иные.
Ф.-Г. ЛоркаТам
…То не буря над равниной, То не ветер тучи гонит, Не гроза идет, стеная, Разрывая небо в клочья, — То вошел в туман проклятый Тот, Кто с Молнией Танцует, Десять дней бродил в тумане, На одиннадцатый вышел. Ай, иное — Обойди стороною!.. Что он видел в том тумане, Что он слышал в черно-сизом — Все осталось в сердцевине Мглы томительно-бесстрастной. Все осталось, где досталось, Память, мука и усталость, Да клинок остался в сердце, Меч в груди его остался. Ай, иное — Мир плывет пеленою!.. Был тот меч не из последних, Жадно пил чужие жизни, С Тем, Кто с Молнией Танцует, Никогда не расставался. Не ломался меч заветный, Не засиживался в ножнах — В грудь хозяина вонзаясь, Пополам переломился. Полклинка засело в ране, В рукояти – половина. Ай, иное — Смерть стоит стеною!.. Тот, Кто с Молнией Танцует — С кем он бился там, в тумане, Сам ли он с собой покончил Или чьей-то волей злою — Не узнать об этом людям, Ни к чему им это знанье. Только видел черный ворон, Как упал он на колени, На колени пал от боли, Закричал в пустое небо. Ай, иное — Я всему виною!.. Я стоял у колыбели, Где рождалася Зверь-Книга, Я, Взыскующий Ответа, Да Хозяин Волчьей Стаи, Да Бессмертный Предок Гневных, Да Пустой коварный демон По прозванью Дэмми-Онна; Вчетвером мы там стояли, Лишь вдвоем домой вернулись, За спиной своей оставив Нерушимую Зверь-Книгу. Ай, иное — Создано не мною!.. День за днем летели годы, Поседели мои кудри, Ослабели мои руки, Подрастали мои внуки, Умирали мои братья, Одряхлело мое сердце; За спиной моей молчала Нерушимая Зверь-Книга. Недочитанная мною, Несожженная когда-то. Ай, иное — Гром над всей страною!.. Ах, напрасно я вернулся, Зря вошел в туман проклятый, По краям белесо-сизый, Черно-сумрачный с изнанки. Не добрался я до Зверя, Не достал клинком до Книги, Не достал, не дотянулся, Сам себя сгубил впустую. Пополам мой меч разбился, О мое разбился сердце. Ай, иное — Тело ледяное!..Бредун замолчал. Пальцы его, лежащие на столе, нервно подергивались, отбивая некий ритм – рваный и совершенно не соответствующий ритму сказанного.
– А дальше? – тихо спросила Инга, не отрывая взгляда от вздрагивающих пальцев Бредуна.
– Дальше…
Голос рассказчика снова изменился. Он стал выше, протяжнее, и временами Бредун словно подвывал, вибрируя рокочущим «р» и удлиняя гласные звуки.
Йорис напрягся, и лицо его напомнило древний барельеф языческих храмов…
…Нет, не шторм бушует в море, Пеня гребни волн могучих, Не обвал в горах грохочет, Не лавина с перевалов — То Хозяин Волчьей Стаи К умирающему другу Шел сквозь штормы и обвалы, Чтоб успеть за миг до смерти. Ай, иное — Стань к спине спиною!.. Миг предсмертный не растянешь, Не растянешь, не раздвинешь — Много ль слов в него вместится, Много ль взглядов можно сделать? Слов они не говорили, Только раз переглянулись, Только раз сошлись их руки В каменном рукопожатье. Миг предсмертный – прах летучий, Много ль слов для братьев надо?.. Ай, иное — Порванной струною!.. Взвыл Хозяин Волчьей Стаи — Дрогнула луна на небе, Звери спрятались в чащобы, Побледнел туман проклятый, За туманом черно-сизым Вой услышала Зверь-Книга. Оземь кулаком ударил — Затряслись седые горы. Зазвенел меча обломок, Скорбным стоном отозвался. Ай, иное — Лезвие стальное!.. Тут Хозяин Волчьей Стаи Дело страшное задумал — Кожу снял с руки у друга, Ободрал меча обломком И кровоточащей кожей Обтянул по рукояти Меч, сломавшийся в тумане, Меч, звенящий от бессилья. Приросла сырая кожа, Улыбнулся Волк-Хозяин, Мертвеца смежились веки. Ай, иное — Прахом все земное!.. Как песок, засыплет время Все, что было, все, что будет, Кто-то эту песню сложит, Кто-то эту песню вспомнит. Где-то меж людьми гуляет Синего меча обломок С кожаною рукоятью. Где-то прячется Зверь-Книга В переплете из тумана. Где-то есть такие ноги, Что пройти туман сумеют, Где-то есть такие руки, Что поднять тот меч решатся, Как поднял его когда-то Тот, Кто с Молнией Танцует. Ай, иное — Встань передо мною!..Глава шестнадцатая
Хочу уснуть я сном осенних яблок и ускользнуть от сутолоки кладбищ. Хочу уснуть я сном того ребенка, что все мечтал забросить сердце в море. Ф.-Г. ЛоркаЗдесь
Бредун замолчал, болезненно морщась.
Инга хотела что-то спросить, но он жестом остановил ее, будто почувствовав сам момент зарождения вопроса.
– Черч, – сказал Бредун, – объясни этой женщине, кто такие Неприкаянные…
Черчек объяснил.
Как мог.
Или как хотел.
– Неприкаянные, – буркнул он, – это Неприкаянные. Вроде этого… Они ходят, куда хотят. А если задерживаются дольше, чем надо, – то вокруг них начинаются неприятности. У них и у нас. Потом они уходят – в смысле Неприкаянные уходят, – а неприятности остаются. И мы остаемся. Кто – живой, а в основном – дохлые… И расхлебываем всю эту кашу. Потому что они уходят, а возвращаются лишь тогда, когда уже поздно и закипает новая каша. Поняла?
Инга задумчиво смотрела на усталого Бредуна.
– Тебя когда-нибудь жалели, Бредун? – спросила она, помолчав.
– Спасибо, – невпопад ответил Бредун.
Он тоже помолчал, попытался вновь заговорить, закашлялся – и долго пил из услужливо подсунутого Черчеком кувшина с пивом, морщась и дергая кадыком.
Наконец Бредун поставил кувшин на стол и отдышался.
– Страшно, – тихо и хрипло произнес он, ни к кому конкретно не обращаясь. – Мне, Бредуну, Неприкаянному, Пыли Восьми Дорог, кого Смерть упрямо обходит девятой дорогой, – мне страшно. Потому что сейчас я сделаю то, что не делалось еще никогда.
Я соберу Неприкаянных. Всех – не обещаю, да и никто вам этого не пообещает, но до кого дотянусь – тех соберу.
Я не знаю, чем это грозит.
Но если я не сделаю этого – будет еще хуже.
Это я знаю наверняка.
* * *
Утром Инга, выйдя во двор, никого там не нашла. После недолгих поисков, обойдя флигель кругом, она обнаружила с тыльной стороны дома – куда до сих пор ни разу не заходила – невысокий холмик с торчащим из него самодельным крестом. А вокруг этого странного захоронения стояли Иоганна, тихий и умытый Йорис и чуть подвыпивший Черчек с лопатой в руках.
– Чего это вы? – севшим спросонья голосом осведомилась Инга, еще не сообразив, что лучше было бы промолчать или вовсе не приходить сюда.
– Жена моя здесь, – веско ответил Черчек, зачем-то ткнув пальцем наискосок в небо, а не в могилу. – Выкапывать будем. Эх, Вила, Вила…
На вопрос «Зачем?» старик пробурчал что-то неразборчивое, вроде: «Чую, тело ей сейчас нужно». Инга решила удовлетвориться этим своеобразным ответом. Поняла – надо. И встала рядом с Йорисом, рука которого зажила подозрительно быстро – за одну ночь.
В этой выздоровевшей руке Йорис держал топор весьма зловещего вида.
Хозяин хутора с неуловимой досадой выдернул из уже слегка просевшего холмика неумелый деревянный крест – то ли сам крест раздражал его, то ли необходимость крест выдергивать – и отбросил его в сторону, а Йорис тут же принялся рубить символ распятия на дрова.
– Крест-то ему чем не понравился? – шепнула Инга пригорюнившейся Иоганне.
Та не ответила.
Йорис тем временем успел покончить с крестом и начал таскать сушняк – Инга так и не выяснила, где он умудрялся брать эти сучья и ветки, – и, пока лопата Черчека тупо вгрызалась в могильный холм, натаскал его целую гору.
Сначала Инга недоумевала, но потом до нее дошло.
Костер. Погребальный костер.
Минут через пятнадцать-двадцать из-под свежеразрытой земли показался край какой-то ткани – земля уравнивает полотно и дерюгу, превращая ткань во что-то среднее, трудноопределимое. Тут Инге отчетливо представилось синюшное, полуразложившееся лицо, слюнявые желтые клыки и горящие, еще живые, по-мертвому живые глаза – и она поспешно отвернулась. «Как бы Иоганна не разродилась раньше времени, со страху-то», – мелькнуло у Инги в голове, мелькнуло и исчезло. Не чувствовалось здесь страха. Совсем.
Иоганна запела-запричитала по ушедшей, Черчек с Йорисом молча подняли то, что скрывал в себе могильный холм, – Инга так и не стала смотреть, как ЭТО выглядит, – и бережно опустили тело на приготовленное ложе из мертвого дерева. Там же, в этой горе веток, скрывались и останки самодельного креста.
– Лицом вверх клади, – буркнул старый Черчек. – Давай, давай, Серый, не мнись…
– Не по обычаю, Черч, – заикнулся было Йорис, но старик лишь негромко и страшно зарычал в ответ, и Йорис мгновенно умолк.
Загорелось само – без спичек, без огнива, – и Инга даже не стала думать, кто и как разжег костер.
Горело на удивление ярко и светло, без черного смрадного дыма, без вони и копоти. И отпылало быстро, а когда костер уже слабо тлел, налетел вдруг ветер, взвил в небо кучу пепла – и развеял, разнес по округе, дальше, дальше… Одни обугленные головешки да разрытая могила напоминали о случившемся.
Не было слез, щемящей тоски, почти не ощущалось присутствия смерти, той, безносой, с косой в руках, – только тихая светлая грусть и понимание, что все это естественно и неизбежно, и нет в этом ничего страшного, и все в конце концов будет хорошо… наверное…
С этим легким чувством отрешенности и вернулась Инга к флигелю.
А к вечеру начали собираться тучи.
И гости.
Глава семнадцатая
В этом глухом поречье мы не искали встречи. Ф.-Г. ЛоркаЗдесь
Первым появился, собственно, Бредун, весь день невесть где пропадавший. Явно чем-то довольный, он уселся рядом с Ингой и стал наблюдать за пурпурно-закатным солнцем, медленно опускавшимся в замысловатую вечернюю вязь сплетенных ветвей.
Потом Бредун извлек из-под непонятной хламиды, в которую сегодня вырядился, дорогую сигару, запечатанную в целлофан с яркой надписью, разодрал обертку, подкурил и с удовольствием выпустил огромный клуб крепкого, но вместе с тем ароматного дыма.
Инга отодвинулась в сторонку, а Черчек с уважением посмотрел на быстро сгущавшуюся вокруг Бредуна дымовую завесу.
– Придут, – промурлыкал Бредун, попыхивая импортным куревом. – Эх, трам, тарарам, ходят кони по горам, ходят кони при попоне…
– Эти придут? – осведомилась Инга, стараясь не делать глубоких вдохов. – Неприкаянные? Они что, все вроде тебя?
– Ну, не так чтобы вроде… – Бредун неопределенно помахал сигарой в воздухе и чуть не угодил подсевшему к ним Йорису в глаз. Йорис намек понял и тут же исчез.
– Разные мы, дорогая, разные и заразные. Хуже чумы. Есть вроде меня – бродят себе по свету, и не по одному этому, да только нет им ни покоя, ни отдыха… много чего нету. Песню небось слыхала: «Лучше нету того свету»? Тоже наши люди придумали…
Он снова затянулся.
– А есть и другие. Кармики, например.
– Карлики? – переспросила Инга.
– Да нет… Кармики, говорю. Это когда родился, жил, помер – и нет его. А там, глядишь, через век-другой снова возрождается. То ли самим собой, то ли еще кем. Правда, обычно они облик менять не любят.
– Их что, вызывать можно? Как духов?
Бредун криво усмехнулся.
– Нельзя их вызывать. Они там у себя наверху… ну, не знаю где, не бывал там – в Раю, в Нирване, в Валгалле, а может, вообще нигде – в общем, никакой вшивой магией их оттуда не достанешь! Пока сами не решат, что пора объявиться… Да они там тыщу лет сидеть могут и не рождаться! Хоть башкой горы сворачивай!..
Видно, сильно задевала Бредуна необязательность Кармиков. До того сильно, что стал Бредун похож на дымодышащего дракона и не сразу успокоился. Но успокоился.
– А сейчас? – робко спросила Инга.
– Те, кто родился, – придут. По крайней мере двое. За них я ручаюсь.
– Значит, дело настолько плохо? – прогудел подошедший Черчек.
– Плохо, – кивнул Бредун. – Потому что я чувствую, как что-то подталкивает нас к заведомо подготовленному финалу. А я этого финала не готовил и идти к нему, как баран, не намерен. Плохо дело, Черч… Без Неприкаянных – вообще безнадежно. И с нами – безнадежно, только в другую сторону. Хорошо еще, если в ту, что надо. Просто чем нас больше соберется, тем больше шансов, что случится невозможное. Если еще и Темные заявятся – хотя вряд ли…
– Темные? – заинтересовалась Инга. – А это кто?
– Кто-кто… раскудахталась! Тоже Неприкаянные. Только они умирают и больше никогда не рождаются…
От этой зловещей информации и сигарного дыма голова у Инги окончательно пошла кругом, и поэтому она уже ничуть не удивилась, когда из леса вышел какой-то франтоватый молодой человек в темно-синем костюме с белым жилетом, лаковых штиблетах и при галстуке.
В заросли, откуда выбрался этот пижон, Инга однажды по ошибке забрела, и это был первый и последний раз, когда она отошла от хутора, если не считать ночного бегства с ножом. Там, в пяти минутах ходьбы, начиналось вонючее болото, а шипастые кусты вполне могли разодрать в клочья даже космический скафандр.
Тем не менее костюмчик на молодом человеке был безукоризнен (при ближайшем рассмотрении Инга засомневалась, такой ли уж гость молодой и такой ли уж человек?), а лак штиблет сиял первозданным глянцем.
Гость галантно поклонился Инге и Иоганне, стоявшей чуть поодаль, – при этом в его кошачьих глазах полыхнули багровые отсветы далеких пожаров, – потом он увидел Бредуна и расплылся в плотоядной улыбке.
– А я-то голову ломаю, кто ж это кашу без масла заваривает?! – он резво подскочил к Бредуну и ловким жестом отобрал у него сигару. После затянулся, выпустил облако дыма и слегка поперхнулся.
– Хороши, – просипел пижон. – Но крепковаты.
– А ты б не хватался, не спросясь, меньше б кашлял, – добродушно посоветовал ему Бредун. – Садись, Момушка, остальных ждать будем. Нас двоих на эту кашу не хватит.
– Остальных?!
Лицо щеголеватого Момушки сразу вытянулось и посерьезнело.
– Ты чего, Сарт (при этом имени Черчек вздрогнул и невольно сделал шаг в сторону), на самом деле?.. Я думал…
Бредун – Сарт лишь кивнул, затягиваясь возвращенной сигарой.
Его собеседник присвистнул и ослабил узел галстука.
– Ты хоть понимаешь, что творишь? – тихо и бесстрастно поинтересовался он.
– Понимаю, Мом, понимаю… не дурнее прочих. С нами плохо, а без нас и того хуже будет.
– Без ВСЕХ нас?
Бредун снова кивнул.
Мом весь вдруг как-то съежился, обмяк и полез во внутренний карман пиджака за своими сигаретами – и сигара Бредуна, и его же последние слова, судя по кислой физиономии франта, пришлись Момушке не по вкусу.
Как раз в это время из-за изгороди показался следующий гость. Вот ему больше подходило выйти из чащи – жилистый, крепко сбитый, с открытой улыбкой на загорелом лице, пришелец поминутно встряхивал головой, отбрасывая назад роскошный русый чуб, падающий ему на глаза. Одет гость был в линялый камуфляжный комбинезон. За плечом у него болтался автомат со складным прикладом, на поясе – подсумки, о содержимом которых Инга могла только догадываться.
Кроме того, гость был не один. Рядом с ним важно и вместе с тем пружинисто вышагивал – да-да, именно вышагивал! – здоровенный тигр, и в лучах заходящего солнца его лоснящаяся шкура отливала бронзой с полосами патины.
Это было красиво.
Это было страшно.
И захотелось бежать. Подальше от русоволосого автоматчика и его клыкастого спутника.
Но так считала Инга. А кое-кто так не считал. И тоже собирался бежать – но совсем в другом направлении.
С рычанием метнулись из-за заборов ближайших хат, стелясь по земле, серые тени. Их было много, около десятка, и тигр замер как вкопанный, косясь поочередно то на своего десантника, то на прихрамывающего вожака волчьей стаи. Двое волков не преминули воспользоваться моментом тигриной растерянности – если такое сочетание в принципе возможно, – но из их стремительного броска ничего не вышло. Тигр одним движением отшвырнул их в сторону, и Инга неожиданно подумала, что сделал он это на удивление аккуратно. Аккуратно – в том смысле, что не разорвал в клочья; а так оба серых забияки летели довольно долго, аки птицы небесные, прежде чем приземлиться в кусты.
Потом тигр возмущенно рявкнул, в хате задребезжали стекла, а оставшиеся волки было попятились, но быстро оправились и снова двинулись вперед, рыча и припадая к земле.
Неизвестно, чем бы дело кончилось, но тут в происходящее вмешались два новых персонажа: веселый гость с коротким автоматом и угрюмый Черчек с увесистым березовым поленом.
Дед немедленно покрыл волков на чем свет стоит, от фундамента до тридцать третьего этажа, подкрепляя свои слова весомым березовым аргументом, и серая армия поспешно отступила – Черчека волки явно боялись больше, чем тигра. А незнакомец в комбинезоне чуть ли не повис на утробно ворчащем тигре, что-то бормоча в его ухо, – и успокоил-таки, утихомирил, после чего они вместе мирно вошли через калитку во двор.
– Здорово, мужики! – крикнул гость от калитки, увидел Ингу с Иоганной и вскинул руки в извиняющемся жесте. – О, да здесь дамы! Рад познакомиться, Даниэль и Рыки. Я – первый, он – второй.
Даниэль ткнул пальцем в тигра, который почему-то неотрывно уставился на Ингу, что ту весьма смутило.
– Вы его не бойтесь, – поспешно заявил Даниэль, почуяв натянутость ситуации. – Если его не обижать…
– Его обидишь, – проворчал в ответ вспотевший от трудов праведных Черчек. – Ты это моим волкунам расскажи. Сам знаешь – про кошку с собакой…
– Ну чего ты, дед, зудишь? – пожал плечами автоматчик. – Вроде ж обошлось все?
– Обошлось… Ты б еще под полнолуние приперся – тут бы такое было!
Во дворе показался расхристанный и тяжело дышащий Йорис. Он бочком подобрался к Даниэлю, следя, чтобы тот отгораживал Йориса от тигра, и неуверенно протянул гостю руку:
– Не серчай, парень, это мы сгоряча…
Рыки подозрительно скосился на Йориса, фыркнул в усы, но, видимо, счел инцидент исчерпанным и разлегся на траве, жмурясь и исподтишка разглядывая присутствующих.
А потом гости повалили один за другим. Их было много. Инга даже приблизительно не могла бы сказать – сколько. Десять? Двадцать? Сто двадцать? Или это просто в глазах двоится?..
Мелькали лица, шуршали одеяния – от современных до средневековых, от щегольских костюмов до грязных и драных лохмотьев; раздавались выкрики и затевались беседы на мыслимых и немыслимых языках, и Инге уже начинало казаться, что она почти все понимает, а чего не понимает – это как раз та капля, которой ей не хватает до полного сумасшествия.
Взгляд тонул в калейдоскопе незнакомых лиц и фигур – но Инга все же сумела выделить для себя из толпы четверых гостей, на которых взгляд останавливался чаще всего, словно цепляясь за спасительные островки спокойствия в бурлящем, изменчивом, Неприкаянном море.
Внешне эти четверо совершенно не походили друг на друга. И все же… Было между ними что-то общее.
Молодая белокурая дама в бальном платье, словно сотканном из воздуха, и высокий седеющий кавалер в строгом фиолетовом камзоле, лосинах и ботфортах. На боку у кавалера болтался узкий меч или шпага – Инга не разбиралась в оружии и никогда не одобряла Талькину страсть к этому делу. Вот, чуть не подумалось – при жизни не одобряла…
Итак, дама и кавалер. То ли супруги, то ли влюбленные. Во всяком случае, они все время находились вместе, и эту пару знали, похоже, почти все. Зато сами они поздоровались, как с давними знакомыми, лишь с Бредуном и франтом Момушкой – те так и сидели рядышком на бревне у калитки, приветствуя гостей.
Эта пара (не Момушка с Бредуном, а блондинка с ее долговязым спутником в камзоле) буквально завораживала Ингу. Один раз ей удалось поймать взгляд дамы – и Инга чуть не утонула в двух бездонно-черных, сияющих омутах, странно спокойных и печальных, словно их хозяйка уже давно забыла то, что остальные еще только пытались узнать.
Забыла. И понимала, что – зря.
«Те, кто родился, – придут. По крайней мере двое. За них я ручаюсь», – вспомнились Инге недавние слова Бредуна.
Кармики.
Дурацкое слово.
Оно к ним совершенно не подходило.
…А вот веселый, немного подвыпивший парень с азиатской внешностью возникал поочередно возле каждой компании – и большинство косилось на него с недоумением. Даже Бредун, а уж ему-то недоумение было совсем не к лицу.
На парне болтались какие-то экзотические обноски, похожие на восточный халат и безрукавку после того, как по ним прошлась рота солдат в грязных сапогах и напоследок проехалась обозная телега. Эта рвань с успехом могла принадлежать как бродяге времен пророка Магомета, так и его вполне современному коллеге.
Только на забитого бродягу парень походил в последнюю очередь. Было в нем что-то от затаившегося до поры до времени хищника – впрочем, хищника обаятельного и пока миролюбивого. И, оставаясь в недолгом одиночестве, раскосый крепыш поглядывал на остальных Неприкаянных, как дедушка на толпу расшалившихся внучат.
В общем, Инга не позавидовала бы тому, кто разбудил бы зверя, дремлющего в беззаботном веселом оборванце со старыми глазами.
…Прости меня, я твой тревожу сон Всей силой самодельного обряда. Прости меня, я твой тревожу сон: Я – воин обреченного отряда…[1]Рядом с Бредуном примостился на редкость тощий мужчина лет сорока на вид – хотя, похоже, для Неприкаянных понятие возраста не имело никакого смысла. Сидя у ног Бредуна прямо на земле, тощий и белобрысый гость перебирал струны непонятного инструмента, смахивающего на пятиструнную гитару с удлиненным грифом. Звук у инструмента был на удивление чистый и прозрачный, вроде лютни, и Инга подошла поближе, вслушиваясь в музыку и слова рождающейся песни…
…Незваным гостем я к тебе вхожу, Чтоб научиться честным быть и мудрым. Незваным гостем я к тебе вхожу — Прозреньем в полночь и печалью в утро…«…Прозреньем в полночь и печалью в утро», – тихо повторила Инга.
И услышала голос Бредуна:
– Ну что, друзья-приятели, вроде больше ждать некого… В дом пошли?
– А вместимся? – с сомнением оглядел собравшихся Момушка.
Инга вполне разделяла его сомнения – Неприкаянные, оправдывая прозвище, бродили уже по всему двору, и втиснуть такое количество народу в Черчеков дом (и без того не слишком просторный) казалось проблематичным.
Бредун подумал и ухмыльнулся.
– Влезем! – уверенно заявил он. – Давай-ка, Момушка, на пару ухватимся! Не забыл еще? Что нас – двоих не хватит?!
И уже тише:
– Не хочу Кармиков зря дергать. Не до того им сейчас…
Момушка в ответ поморщился – то ли слово тоже не понравилось, то ли еще чего, – но все же встал с бревна.
– Ладно, давай, – нехотя пробурчал он; и они с Бредуном, как по команде, уставились на Черчеков дом и замерли.
Прошло около минуты – Инге она показалась ужасно длинной, – и вдруг оба расслабились, зашевелились… а с домом так ничего и не произошло.
«Не получилось?» – хотела спросить Инга, но побоялась.
Тем временем Неприкаянные шумной толпой уже входили в дом. Бредун с Момушкой, ни слова не говоря, последовали за остальными. Инга, как привязанная, тоже двинулась к крыльцу.
У самых дверей кто-то осторожно тронул ее за локоть. Инга обернулась. Рядом с ней стоял тот самый молодой азиат-оборванец, и сейчас он был непривычно серьезен.
– Не ходили б вы туда, – негромко и вкрадчиво произнес он. – Это ведь мы – Неприкаянные, а вы…
В дверном проеме показался Бредун.
– Все в порядке, – бросил он и замолчал, словно ждал чего-то.
– Что? – донеслось изнутри. – А… Марцелл это, Сарт… Да тот, тот, какой же еще?!
Бредун – Сарт чуть вздрогнул, внимательно глянул на бродягу и слегка прицокнул языком.
– Все в порядке, Марцелл, – другим тоном повторил он. – Пусть идет. А вон того оболтуса гони в три шеи – этот точно во что-нибудь вляпается!
Под оболтусом подразумевался лохматый Йорис, который с невинным видом намеревался незаметно прошмыгнуть в дом мимо Бредуна.
Загорелый Марцелл с явной охотой и редким умением выполнил указание Бредуна, и малость помятый Йорис смылся за угол, обиженно скуля себе под нос.
…А в избе – да какой это дом, изба и изба! – действительно оказалось полно места. На разбежавшихся в разные стороны стенах горели ровно и не мигая толстые витые свечи; посреди комнаты, ставшей залом, стоял длиннющий – метров двадцать, не меньше! – дубовый стол, накрытый скатертью; вдоль стола – стулья, лавки, табуреты, старинные кресла… Даже трон один имелся. Небольшой. Большая часть мест была занята, да Инга и не собиралась нагло лезть на трон. Чужая она здесь, не то что права голоса – права писка не имеет!
Вот и поспешила Инга устроиться в углу, на высоком стуле со строгой спинкой черного дерева. Не самое удобное сиденье, но выбирать не приходилось.
Неподалеку расположилось уже знакомое Инге по лесной поляне Безликое Дитя. Оно развлекалось тем, что лепило из своего лица-пузыря карикатуры на присутствующих. Лепило уверенно и увлеченно, словно только за этим сюда и явилось. Длинные ловкие пальцы разминали, вытягивали, сплющивали щеки, губы, нос – и вот уже на Ингу смотрит жутковатое подобие Момушки с гротескно узкими губами, смотрит и игриво подмигивает, облизываясь.
Инга отвернулась и обнаружила рядом с собой на ковре полосатого Рыки. Тигр лениво глянул на Ингу – и ей показалось, что зверь тоже подмигнул и ухмыльнулся, облизнувшись алым языком.
Это было уже слишком. Инга перевела взгляд на сидевших за столом – и вовремя. Голоса понемногу стихли, и на стол взгромоздился Бредун.
Да-да, именно НА стол.
– Ну что, все знают, по какому поводу собрались? – осведомился он.
Инга затаила дыхание, а Безликое Дитя немедленно принялось лепить из своего лица карикатуру на Бредуна.
– А как же! – уверенно заявили с противоположного конца стола. – Конечно, знаем! Пиво пить! Кстати, а где оно?
Инге на миг примерещилось, что одновременно с этим разухабистым заявлением у нее в мозгу тот же голос произнес нечто совсем другое – но она не успела ухватиться за ниточку миража.
– Пиво! – дружно заорали Неприкаянные. – Пивушко! Пивечко! Пивец!..
И немедленно в комнате-зале возникли Черчек с Иоганной, а в руках у них распространяли хмельной запах огромные глиняные кувшины. Все заметно оживились, на столе объявились хлеб, вобла, зелень, еще какая-то снедь… Инга стала думать, откуда все это взялось, обнаружила полную кружку в собственной руке и даже не поняла, кого ей надо благодарить за заботу.
Впрочем, пиво она не любила.
Отшумели удовлетворенные возгласы Неприкаянных, исчезли Черчек с Иоганной, и застолье стало переходить в более равномерную и затяжную стадию. Бредун прошелся по столу, ловко лавируя между посудой с едой, уцепил за хвост рыбешку и пучок петрушки, остановился в центре стола, пожевал и задумчиво констатировал:
– Вялая у них петрушка… вчера небось рвали. Жмот он, Черчек этот…
Рука Инги дрогнула, и пиво из ее кружки выплеснулось на юбку. Где-то в глубине ее сознания словно вспыхнул волшебный фонарь и высветил совершенно иную картину – возвышение, суровый и властный Бредун в развевающейся накидке с откинутым капюшоном, горящие вокруг бронзовые шандалы и слова, произнесенные твердым голосом, привыкшим повелевать.
Не те слова. Не про петрушку. Совсем не те.
«Книга, – сказал иной Бредун. – Зверь-Книга. И мир в Переплете…»
И Инга увидела страницы, сквозь которые прорастали горы; увидела бледно-черный туман Переплета, людей, превращающихся в знаки, услышала хохот звериной глотки и рев пожара, охватывающего мир.
Тишина. Теплая, щадящая, темная тишина. И веселый Бредун на столе.
– Да ладно тебе, Сарт, – отозвалась блондинка с необычайно черными глазами. – Ешь, что дают. И не такое небось жевал!
«Я боюсь, Сарт, – услышала Инга одновременно со сказанным. – Я очень боюсь… Ведь Она до сих пор зовет меня, потому что я читала Книгу, и Книга читала меня, и мы не до конца прочли друг друга! Она зовет, Сарт, мы частично заключены друг в друге, пойми – я боюсь!..»
Спутник дамы барабанил пальцами по эфесу своего оружия и молча прихлебывал из кружки.
«Лаик боится, Сарт, – молчал он, – и я боюсь. Но… Мы – с тобой».
Безликое Дитя, голова которого некоторое время напоминала кувшин из-под пива, начало отращивать льняные волосы. Ингу передернуло, и она обнаружила, что ее ладонь машинально поглаживает шелковистую шкуру Рыки.
Впрочем, тигр отнесся к этому благосклонно.
Гомон за столом усилился. Светловолосый гигант на дальнем конце стола рванул вышитый ворот своей полотняной рубахи и забасил на уже знакомый Инге мотив:
Над башней пляшут языки огня, Пора расстаться с праздничным нарядом!..Зазвенели яростные струны.
Пожалуйста, не забывай меня: Мы в день последней битвы встанем рядом… —подхватил Бредун – Сарт, ударяя кулаком по столу, для чего ему пришлось встать на четвереньки.
«Ты знаешь, Сарт, что происходит там, где появляемся мы, – прозвучало в мозгу Инги, и стальные латы гиганта отразили вспышку невидимой молнии, и завизжала птица у него на плече. – Ты знаешь…»
«Знаю, Эйнар. И знаю, что происходит, когда мы не появляемся».
«Лучше нам этого не знать», – хором промолчали Эйнар и спутник белокурой Лаик.
Стол усеяла рыбья чешуя и огрызки пучков зелени, пол пах ячменем и хмелем.
– Вот что я вам скажу!.. Нет, дудки, ничего я вам не скажу…
– А я тебе говорю, что от бобра добра не ищут! И вообще…
– Да не ту, а ту, что с икрой! Ты что, мальчика от девочки отличить не можешь?
– Это у тебя девочки с икрой…
– А у тебя?
– А у меня – с пивом…
– Эх, мать моя, перемать моя…
Слова с двойным дном; грустное эхо веселья, горький вкус пива…
«А люди? – шептал кто-то на задворках возможного и невозможного. – Люди ведь… они – люди… Кровь может случиться, большая кровь, утонем все, не отмоемся…»
«А ты, Мом?»
«А куда я от вас денусь?» – уныние и безнадежность.
Песня. Пьяный шум. Дрожит пламя свечей.
«И ты, Марцелл?»
«И я…»
Инга зажала уши руками. Безликое Дитя покосилось на нее краденым лицом и резко встало.
Вновь – тишина. И вокруг Инги, и в Инге…
Голос Безликого Дитяти – сейчас его лицо было прежним лилово-лоснящимся пузырем – прозвучал отрывисто и скрипуче.
– Мы согласны, Сарт, – произнесло Дитя непонятно чем. – Никому не нравится то, что ты предлагаешь, – и поэтому мы согласны. Мы будем присутствовать.
Безликое Дитя повернулось и уставилось на Ингу своим пузырем.
– На этой женщине Надрез Судьбы, – заявило оно. – Пусть она выполнит предначертанное. Что ей терять, она уже все потеряла…
Все смотрели на Ингу. Ее бросило в жар, и в то же время руки ее были холодны, как лед.
– Идешь? – Палец Бредуна нацелился на Ингу.
– Я? Да, конечно… А куда?
– Для начала – туда.
Палец Бредуна указал на дверь.
– Почему? – обиделась-удивилась Инга.
– Потому, – неожиданно мягко ответило Безликое Дитя. – Выйди, пожалуйста…
И Инга тихо вышла.
В завершающуюся ночь.
Глава восемнадцатая
Под покрывалом темным ей кажется мир ничтожным, а сердце – таким огромным. Ф.-Г. ЛоркаЗдесь
Рассвет еще не наступил, но был уже на подходе; и над лесом занималось робкое сияние, словно нимб над лохматой макушкой какого-нибудь святого.
Инга стояла у изгороди спиной к непривычно тихому хутору, и глаза женщины были плотно зажмурены. Она видела что-то свое, о чем никому не хотела рассказывать, и все равно сквозь это «свое» пробивались контуры леса и светлеющее небо над ним.
– Рассвет вставал, нам уступая место; закат краснел, стыдясь за наш рассвет, – прозвучало позади Инги.
Она не обернулась.
Неслышно подошедший Бредун встал рядом, звучно хрустнул пальцами и принялся энергично двигать костлявыми плечами, как человек, только что закончивший тяжелую работу.
– Ушли они, – бросил он, отвечая на невысказанный Ингин вопрос. – Тут им не постоялый двор – поговорили и разбежались кто куда… И я сейчас пойду. Дел невпроворот, а я все свободное время на тебя трачу. Нет чтоб отоспаться или книжку почитать… Литра на три, с картинками.
Инга не вслушивалась в бурчание Бредуна. Она уже начала привыкать к его манере вести беседу – надо заметить, весьма своеобразной манере – и теперь вновь погрузилась в свои размышления, давая Бредуну возможность выговориться и получить полное удовольствие от собственного остроумия.
– Ты знаешь, Бредун, я тут думала… – начала было Инга и замолчала, ожидая очередного укола, вроде «Думала? Представляю, как тебе это было трудно!».
Нет, укола не последовало.
– Я тут думала, – уже уверенней повторила Инга, – и, в общем, ничего интересного не надумала. Понимаешь, я раньше жила, как по проспекту шла, где на каждом углу – светофор. Все ясно, все гладко и укатанно… Сперва короткие платьица, потом – брючные костюмы и косметика; школа, институт, Анджей, семья, Талька… мне это даже нравилось. И вдруг сошла с проспекта, свернула в переулок – ни мужа, ни сына, темные незнакомые рожи в пыльных окнах, и на каждом шагу выбор: «Налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – себя потеряешь…» И все, чего не может быть, – есть.
– Ты мужу в глаза часто заглядывала? – неожиданно спросил Бредун.
– Ну конечно, – машинально ответила Инга, осеклась и зачем-то стала постукивать пальцем по плетню. – То есть не очень…
– А сыну?
Инга не ответила.
– Слепая ты, – подытожил Бредун. – Не обижайся, я не со зла… Смотришь, а не видишь. Иному тощенькому горожанину сквозь очки в глаза заглянешь – если уметь смотреть, конечно, – а там флаги на ветру бьются, герольды трубят, и он сам стоит в золоченых доспехах, и рука на копье не дрожит… Или сидит пожилая библиотекарша за письменным столом, а под ресницами у нее – скалы Брокена, Вальпургиева ночь и копыто Большого Рогача, к которому она припадает, пьяная от страсти!.. За каждым человеком – миры и судьбы, просто надо уметь смотреть и чаще сворачивать с освещенного проспекта в темные переулки.
– Как вы? – тихо спросила Инга. – Как Неприкаянные?
– Нет, не как мы. Как Черчек. Как Вила его покойная. Или Иоганна. Йорис, наконец, хотя он больше по помойкам… Ну да ладно. А мы, Неприкаянные, мы ведь не смотрим, мы идем – туда, за грань между возможным и невозможным. Собственно, мы и есть – возможность невозможного. Вот скажи мне на милость, возможно ли, чтобы Бакс этот ваш с того света возвращался?
– Невозможно, – кивнула Инга.
– А все остальное, о чем зря трепать языком не стоит; все, что ты сама видела, слышала, руками трогала, – это возможно, если глядеть с освещенного проспекта?
– Невозможно.
– Вот видишь! А все почему? А все по кочану, да еще потому, что дура Иоганна тебя на меня вывела. А я – Неприкаянный.
Бредун заулыбался – и тут Инга завелась с полоборота. Она чувствовала, что близка к истерике, что зря сорвалась, но… Видимо, сказалось напряжение последних дней.
– Неприкаянный? Сволочь ты, а не Неприкаянный! Мерзавцы вы все, с вашим невозможным, ублюдки потусторонние! Ведь смотрите же, со стороны смотрите, пиво лакаете, а мы вязнем в этом невозможном, дохнем, горим, глотаем под завязку! Оно ведь с нами происходит, с людьми, а вы, вы все…
Бредун поскреб небритый подбородок, отвернувшись от Инги, но она силой заставила его повернуться обратно, ненавидяще взглянула в это вечно ухмыляющееся лицо – и застыла подобно жене Лота, оглянувшейся на пылающий Содом.
Лицо Бредуна превратилось в озеро лавы, расплавленной магмы, готовой застыть чем-то страшным, неистово-яростным, маской нечеловеческой обиды. Вот сейчас, вот…
Но – не застыло. Обида осталась, только обычная, простая обида, а гнев и ярость оскорбленного демона или божества… – ушел огонь, полыхнул и исчез в глубине чужой неприкаянной души.
– С вами, с вами происходит, – глухо пробормотал Бредун. – Понятное дело, с вами, с людьми… С кем же еще невозможному происходить, как не с вами? Для нас-то оно – возможное, повседневное, рутина обыденности, так сказать… Мы же сами – возможность невозможного; мы – Неприкаянные! И ни одна зараза не скажет – кончай, Сарт, миры кромсать, давай я тебе лучше котлетку поджарю… за просто так. Вот это невозможное дело, ни в какую не возможное…
Он резко метнулся в сторону – и Инга осталась одна.
Совсем одна.
Она еще немного постояла, опираясь на изгородь и ощущая внутри себя гулкую пустоту, где эхом отдавались чьи-то удаляющиеся шаги – или это билось сердце? – и побрела во флигель.
Дверь открылась без скрипа, легко-легко, как театральный занавес на хорошо смазанных кольцах; Инга застыла на пороге, и шаги, звучавшие в ней, ускорились и превратились в неровный, спотыкающийся бег.
На незастеленной кровати, поверх подушки, лежал нож.
Тот самый.
Над ножом склонились люди. Двое. Они стояли к Инге почти спиной, лица пришельцев были плохо различимы, и Инга успела лишь отметить, что оба гостя – высокие мужчины крепкого телосложения; только один – полуголый, по-волчьи поджарый, чем-то похожий на Йориса, с рассыпавшейся по спине гривой пепельных волос; второй выглядел более массивным, но с какой-то врожденной грацией, и когда он чуть повернул голову, в сумраке комнаты проступил суровый чеканный профиль, будто выбитый на монете.
Потом второй протянул руку к ножу, протянул неожиданно изящно, словно даму на танец приглашал – лишь слегка колыхнулся длинный серый плащ, скрепленный у горла гостя тусклой фибулой, – и нож в ответ вспыхнул, загорелся молнией в грозовом мраке, сгустившемся вокруг.
«Танцующий с Молнией, – вспомнила Инга. – С Молнией…»
Она видела людей и видела стену за ними. Нет, не то чтобы гости были прозрачными, и стена просвечивала сквозь их тела, а так – вот люди и вот стена за ними.
Одновременно.
А вот только стена. И никаких людей.
И нож на смятой постели.
Инга робко приблизилась к кровати. Одеяло вдруг стало сдвигаться в сторону, подушка с ножом зашевелилась – и пятнистый живой канат зазмеился по кровати, стекая на пол, поднимая узкую голову с чутко подрагивающим язычком.
«Чш-ш-ш-ш!.. – прошипела чудовищная змея голосом Бредуна. – Чш-ш-ш-ш… Темные!.. Умирают и больше никогда не рождаются… Ссссказззки вссссе это, жжженщщщина… Чушь… Чччушшшшь!.. Сссссспиии…»
…Снаружи вставало солнце.
Солнечный зайчик ловко запрыгнул в маленькое окошечко под потолком, больше напоминавшее бойницу, и пробежался по руке спящей женщины.
В руке был зажат нож.
Зайчик проскакал по лезвию, порезался и обиженно угас.
Глава девятнадцатая
Пустырь и небо руки мне сковали. Пустыни неба раны бичевали. Ф.-Г. ЛоркаТам
Шел дождь. Он шел издалека, он устал и еле-еле тащился, спотыкаясь на каждой выбоине и брызжа во все стороны. Дождь шел через Переплет, через – и дальше, дальше…
Шел дождь. И рядом с ним брел измученный человек. Светлые волосы прилипли ко лбу, с промокшей бороды стекали струйки на тяжело вздымавшуюся грудь, руки повисли вдоль тела, раскачиваясь двумя мертвыми маятниками.
Человека звали Бакс. Он шел ОТТУДА – СЮДА. Но сейчас он не думал об этом. Он просто возвращался.
Возвращался. Шаг. Другой. Третий. К мальчишке, который ждал. Не мог не ждать. Шаг. Еще один. К мужчине, который ушел и не вернулся. Или вернулся. Шаг. Другой. Третий. К однорукой девушке-призраку. К угрюмому старику из длинной вереницы угрюмых стариков с понимающими глазами, протянувшейся через миры. Шаг. Следующий. И еще. От дома. От Инги. От мамы, оставшейся в городе. Оттуда. Сюда. К ним…
Впереди замаячил хутор. Совсем рядом. И дождь побежал вприпрыжку. Из последних сил. И человек побежал вслед за дождем.
…У плетня стояла незнакомая женщина средних лет. Очень даже средних, плавно смещающихся к пожилым. При приближении Бакса она испуганно вскрикнула и отшатнулась, вскидывая руки защитным жестом.
Нет, не руки. Руку. Левую. Потому что правой руки, начиная от локтя, у женщины не было.
Бакс остановился и почти повис на изгороди, часто моргая и вглядываясь в лицо женщины.
– Вилисса? – неуверенно пробормотал Бакс и замотал головой, как отряхивающаяся собака. – Ты? А почему ты… почему ты настоящая? И старая…
Он осекся и поправился:
– Ну, не очень старая, но все-таки…
Женщина стояла в пяти шагах от плетня и молчала.
– Козлы вы тут все, – буркнул Бакс себе под нос, откачнувшись от своей опоры. – И козы. Человек, так сказать, домой вернулся, а вы…
Он еще секунду смотрел на то, что машинально назвал «домом», и затем шагнул к калитке.
– Не приближайся! – пронзительно закричала женщина. Голос ее тоже оказался голосом Вилиссы – таким только орать на всю округу.
– Стой, где стоишь, Равнодушный! Черч, Талька, не выходите! Здесь Боди!..
– Не шуми, Вилисса, – раздалось позади нее, и из дождя вынырнули две фигуры. Бакс удивленно уставился сперва на Черчека с вилами в руках, а потом на Тальку. Тот словно вытянулся, стал на полголовы выше, шире в плечах, и на лице мальчишки все явственней проступали черты молодого Анджея – каким его отчетливо помнил Бакс.
Только вот жесткость взгляда и твердый изгиб рта были незнакомыми.
– Это Бакс, Вилисса, – бросил выросший Талька в сторону женщины, но с места не тронулся, глядя на гостя внимательно и с оттенком недоверия к собственным словам. – Это же Бакс. Он уходил. Надолго. И теперь вернулся.
– Это уже не Бакс, – не сдавалась упрямая Вилисса. – Это Боди-Саттва! Он через Переплет прошел! Таль, они все с виду такие, ты же знаешь! Это Боди, Равнодушный, пес Переплетный!.. Он нас сейчас убивать будет…
Бакс сел прямо в грязь, не чувствуя холода, сырости, ничего не чувствуя. Потом вскинул голову, и глаза его полыхнули бешеным блеском.
Сквозь застилавшие их слезы.
– Сука ты! – взревел он, и дождь испуганно шарахнулся прочь, а старый Черчек попятился, вскидывая вилы. – Тварь безрукая! Мало я тебя, заразу, хоронил?! Так сейчас снова закопаю! Талька, чего ты стоишь, дуру эту слушаешь? И скажи старому олуху, чтоб тыкалки свои убрал, а то отберу и обоих по заднице!.. И старого, и малого, и ведьму эту драную!..
– Нет, Вила, – тихо сказал Талька, и голос его зазвенел, словно мальчишка сдерживал плач, или радость, или и то и другое одновременно. – Это не Равнодушный. Это Бакс. Это мой дядя Бакс. Его никаким Переплетом не выжжешь. Не веришь? А я верил… Триста двадцать три дня – и каждый день я верил… Это Бакс-то – Равнодушный?!
Талька сорвался с места, махнул через плетень и в мгновение ока оказался рядом с Баксом. Тот тяжело поднялся и опустил мокрую и грязную лапу мальчишке на плечо.
– Таля… – прогудел Бакс, двигая затекшими лопатками. – Сукин ты сын, не в обиду Инге будь сказано…
Через секунду Бакс вопил дурным голосом, вертясь пьяным медведем и подбрасывая в воздух хохочущего Тальку. Визжала насмерть перепуганная Вилисса, а Черчек сунулся было за изгородь со своими дурацкими вилами – но они были у деда немедленно отобраны, как и обещалось, толстое древко прошлось сперва по дедовой спине, после пониже спины, а шлепнувшийся в лужу Талька пищал от восторга и дрыгал ногами.
Появившиеся от дальних хат Черчековы парни обалдело глядели на все это ликующее безобразие, а потом пожали плечами и убрались восвояси. Чего зря мокнуть-то?
– В хату пошли, – заявил Черчек, незаметно почесывая ушибленное место. – Дуроломы…
И они пошли в хату.
На пороге Бакс остановился, загородив дверной проем, и уставился на Тальку, словно впервые видя его.
– Погоди, Таля, погоди, – забормотал Бакс, кривя губы в недоуменной и растерянной улыбке, – ты чего, очумел? Какие такие триста двадцать три дня? Ну, день-два, три… от силы…
– Год скоро, дядя Бакс, – тихо и очень по-взрослому ответил Талька. – Год без малого, и ни тебя, ни папы… Да ты проходи, чего тут в сырости-то разговоры разговаривать? Вилисса, скажи парням, пусть кипяточку согреют!..
* * *
Бакс шумно прихлебывал густой травяной чай, слушал Вилиссу и старался не глядеть ни на ее постаревшее (или помолодевшее, по сравнению с их первой встречей) лицо, ни на культю ее правой руки.
– Тело они мое сожгли, – рассказывала Вилисса, и в ее облике бывшая старуха боролась с бывшей девушкой; и старуха побеждала. – Муж мой ведь из Черчеков, а они – мужики отчаянные. Вот дед его сидит, подтвердит, ежели что… Я, понятное дело, сама этого не видела, но иначе и быть не могло. Раз ТАМ тело мое спалили – я ЗДЕСЬ плоть обрела, хоть и без Дара. Да только нельзя судьбу в зад подталкивать, потому-то года мои ЗДЕСЬ в бега и ударились… на полпути от девки до бабки. Как родичи догадались, не знаю, но…
– Догадались, – булькнул в усы Бакс, – много б они догадались, Черчеки ваши отчаянные, без рожи моей у плетня своего! Мужику этому спасибо, которому я глаз подбил… и туда отвел, и обратно добраться помог… как его там? Бредун, что ли? Толковый дядька, и пить умеет, и жить умеет…
Он замолчал и поднял глаза на Черчека.
– Ты чего, дед? Плохо тебе, да? Ты извини за вилы-то, я сгоряча…
Похоже, последних слов Бакса Черчек не расслышал. А вот предпоследние… Подавился дед и чай расплескал.
– Слышь, сноха, – бледный, как смерть, старик повернулся к Вилиссе, и пальцы его намертво вцепились в столешницу. – Он с Сартом встретился… никто другой не…
– С каким еще Сартом?! – взвился не остывший еще от «радушной» встречи Бакс. – Уши прочисть, старче! Бредун его звали, он самогоном еще меня угощал!
Черчек не обратил на крик Бакса ни малейшего внимания.
– Выйдите, парни, – почти шепотом сказал он. – По-доброму прошу, выйдите… мне с Вилой потолковать надо. Не до шуток теперь.
Кроме Бакса и Тальки, больше парней в хате не было.
И они вышли. Под дождь.
А дождь закончился.
– Не до шуток… – ворчал Бакс, опускаясь на приступочку и морщась от въедливой сырости. – Вроде как раньше одни шуточки косяком шли… Нет, Таль, ты не садись – мокро здесь, заболеешь! Ну надо же, оставил вас на день-другой без присмотра, так тут и день за год в зачет пошел, и бабка наша полубабкой стала, и ты вон какой вымахал! И Энджи… А батя-то почему не возвращается?
– Не знаю, – грустно ответил Талька, переминаясь с ноги на ногу, и весь налет его новой взрослости как ветром сдуло. – Видно, и у него день за год… Слухи ползут, дядя Бакс, гнилые слухи, недобрые! Будто в Книжном Ларе у Зверь-Книги в ближайших подручных Глава объявился, над Страничниками главный… Вот как папа не вернулся, так чуть погодя слухи и пошли. И нас с тех пор никто пальцем не трогает! Тень отбрасываем, Вила меня Даром владеть учит – а местные не то что драться, вообще близко не подходят!
Он шмыгнул носом и негромко продолжил:
– Нет, вру – подходят. Еду разную приносят, молоко, самосад для деда… Тихие стали, мягкие, хоть на булку мажь вместо масла! Я с Черчековыми парнями и с местным Пупырем уже раза три на рыбалку ходил!.. Сома здоровущего приволокли и мелочи всякой кошелки две. Хорошо живем, сытно, уютно… Вила как-то даже обмолвилась, что неплохо бы так и до смерти дотянуть. У них с дедом внутри что-то вроде малого Дара проклюнулось. Так, ерунда, но память после смерти сохранить может.
Талька искоса глянул на Бакса – и замер. На крыльце сидела каменная глыба. И валуны слов гулко рушились в омуты тишины.
– Завтра в Ларь пойду. Надоело в чужой игре на прикупе зевать. Отцу твоему, пацан, хочу в глаза глянуть. Да и еще в кое-какие глазки не мешало бы… Авось не сдохну, а сдохну – так в первый раз, что ли? А то швыряют меня туда-сюда, командуют да тузы из рукава тащат… Я вам что, болванчик глиняный?!
– Кому это – вам? – через силу улыбнулся Талька. – Я ведь с тобой пойду. Осточертело ждать… Чужие мы тут, всем чужие, вот как Вилиссу при смерти застали, так и влипли по уши. А между собой мы – свои. Ты, я да папа. Так и понимай, дядя Бакс, что никуда тебе от меня не деться. Утром и соберемся. Тучи вот разгоню сперва, чтоб под дождем не шлепать – и ноги в руки!
– А как же учеба твоя Даровая? – испытующе спросил Бакс, глядя куда-то в сторону. – Сомы опять же, с усами и жабрами… Еда разная, молочко…
И тут мальчик высказался. Немножко длинно, зато отчетливо. Бакс аж приподнялся и порозовел ушами. После отошел малость и одобрительно оттопырил большой палец.
– Орел, – торжественно заявил Бакс, словно диплом выдавал. – Моя школа. Не без дурного Черчекова влияния, но – моя. Умница. Найдем папашку твоего, попросим у него ремень и всыплем тебе по первое число. А потом я тебя пить научу. Из горлышка. У тебя, Талька, должно получиться. Ей-богу, должно… Вот Энджи вытащим, после Бредуна ихнего найдем, и вчетвером засядем…
Было сыро и темно.
Шептались люди в избе.
Смеялись люди на крыльце.
Вслушивался Переплет за лесом.
Книга третья Эпиграф к финалу
Сага от первых лиц
Мы чистыми пришли – с клеймом на лбах уходим, Мы с миром на душе пришли — в слезах уходим, Омытую водой очей и кровью жизнь Пускаем на ветер и снова в прах уходим. Омар ХайямГлава первая Бакс
Я прошу всего только руку, если можно, раненую руку, я прошу всего только руку, пусть не знать ни сна мне, ни могилы. Ф.-Г. Лорка– Дядя Бакс, – сказал умытый и причесанный Талька. – Вила завтрак приготовила, а он стынет. Есть пошли.
– Угу, – ответил я, отфыркиваясь у рукомойника. – Щас…
Талька отчего-то хихикнул и ускакал в избу, а я исподтишка проводил его взглядом. Вырос парень, вытянулся, бриться скоро начнет, а жеребячество нет-нет да пробьется. Иногда мне казалось, что у нас с Анджеем один пацан на двоих; вернее, на троих, на Энджи, Ингу и меня. А если кто-то станет гнусно скалиться от дурной непонятливости, так это ненадолго, потому что ему скоро нечем скалиться будет.
Были у меня бабы, отчего ж не быть, легкие бабы, недолгие – потому что на вторую неделю мне сны тяжелые сниться начинают. Как Аля моя снова за хлебом идет, как сука-урлач из-за угла на «мустанге» своем выметывает, как я у окна кулаки в кровь о подоконник… Я потом на суде к нему за ограждение прыгнул, да конвою много было, оттащили… Кричу я во сне, а бабам не нравится, спать мешает.
А если каким и нравится, так те мне не нравятся.
Ничего, Таля, маг ты мой недоучка, прорвемся… Сдохнем, а прорвемся, и батю твоего вытащим. Или не так, а так – сдохнем и прорвемся. Ох, что-то мысли у меня в последнее время поперек башки…
Должен я Энджи, много и дорого должен. Он с Ингой после суда того, Страшного Суда, в моей пустой квартире сиднем сидел, вой мой слушал да ножи прятал. Ладно, нечего сейчас прах ворошить, домоемся и завтракать пойдем.
А там и дальше пойдем. Кое-куда.
…Завтрак прошел в теплой и дружественной атмосфере. Вилисса подкладывала, дед поддакивал, Талька подмигивал. А я жевал и молчал. Не по душе мне была эта идиллия, попахивало от нее чем-то темным и сволочным. Не знаю уж, о чем там Черчек с Вилиссой за нашими спинами шептались, только встреча моя со странным носатым дядькой Бредуном, похоже, многое изменила. Знали они его – я имею в виду хуторян наших покойных, – и его знали, и о нем знали, чего я не знаю… И теперь, когда я ловил на себе косой сочувственный взгляд деда, когда Вила все норовила влить в меня лишнюю кружечку молочка (терпеть его не могу!) – я чувствовал себя камикадзе, трапезничающим перед смертью.
А когда я заметил, что они смотрят на Тальку с тем же похоронным выражением, – я забеспокоился всерьез.
И заговорил. Но сперва – не о том.
– Слушай, Вила… Да кончай же ты мне молоко подсовывать!.. Ну ладно, лей уже… Ты тут, когда я к вам заявился, орать стала, как резаная, и все меня каким-то Боди обзывала! Эти Боди – они что, все на меня похожи? И вообще – кто такие? Вроде Страничников?
Ответила не Вилисса. Она сидела, по-бабьи подперев щеку рукой, и, пригорюнившись, глядела на меня.
Ответил Талька.
– Боди, дядя Бакс, через Переплет живьем прошли.
– Как я?
– Как ты. Поговаривают, что они в Переплете Зверь-Книгу изнутри читают. И видят такую радость, что уж больше ничему в жизни своей не обрадуются; такой страх, что не испугать их с тех пор ничем; такую боль, что потом хоть на куски режь, все нипочем; ничего в них не остается, дядя Бакс, оттого и зовут их Равнодушными. С виду – человек как человек, не отличишь от прежнего, и живет, как раньше жил. Да изнутри он весь выжженный, пустой – хоть и не видно, – и Зверь-Книга его теперь чем хочет, тем и заполнит. Заполнит смертью – пойдет Боди-Саттва убивать, заполнит хитрой злобой – пойдет жизнь другим отравлять. А до поры – не узнать их.
Я вспомнил видения, что окружали меня в Переплете. Что ж ты меня-то не выжег, туман на черной подкладке? Не смог? Не захотел? Почему?..
Теперь ясно, чего Вилисса от блудного Бакса, как от пса бешеного, шарахнулась… Видать, здешние орлы после прогулок в Переплете шибко на зомби смахивают. М-да, ситуация…
– А мы с дядей Баксом уходим, – невпопад ляпнул Талька. – В Книжный Ларь. За папой. Вила, пошли с нами!
И снова Вилисса не ответила. Только переглянулась с Черчеком и незаметно кивнула. Не в том смысле, что да, мол, пойду, а совсем в другом.
– Ну что ж, – буркнул дед с отчетливо заупокойными интонациями, – видать, планида у вас такая… Идите, раз решили.
Талька насупился, сообразив, что его хуторские наставнички явно не собираются нас сопровождать, – но новая мысль тут же родилась в его голове, вытеснив все остальные.
– А оружие?! – завопил он. – Что это мы, с голыми руками в Ларь попремся?! Черч, у тебя меч есть? Или копье, на худой конец…
– Вот именно, что на худой… – Черчек хмыкнул в бородищу и двинул бровями. – На кой он мне сдался, меч-то? Землю им копать? Или дрова рубить? Топор есть, так он для боя не особо ухватистый; ножи есть, лопата, серпов штуки три… мотыга еще есть в сараюшке и вилы, так их этот медведь об меня попортил…
– Ну тогда пошли. – Я встал из-за стола и улыбнулся разочарованному Тальке. – В сарай пошли, инвентарь твой смотреть.
И мы пошли. В сарай.
Талька немедленно ухватился за мотыгу и стал ею махать в тесноте сарая на манер алебарды, чуть не раскроив старику голову. А я снял с гвоздика пару серпов и принялся их разглядывать.
Почти. Почти – как надо. И рукоять длинная, и изгиб лезвия небольшой, а заточено – бриться впору. Я повертел серп в пальцах – нет, не проскальзывает… А ну-ка второй…
– Сдурел? – не очень вежливо поинтересовался Черчек, спрятавшийся за меня от Талькиных упражнений. – Что старый, что малый, одни мозги на двоих… Ячмень жать пойдешь?
– Ты, дед, – бросил я, – такую фразу слыхал: как серпом по гениталиям? Вот и не лезь, куда не просят, пока народная мудрость тебе боком не вышла. Талька, положи тяпку на место! Видишь, дедушка нервничает…
Не договорив, я дернулся и слегка порезал себе ладонь лезвием серпа. Потому что снаружи раздался визг. Истошный и дикий.
Женский визг. И такой оглушительный, что мог принадлежать только Вилиссе с ее луженой глоткой.
Немедленно на визг наслоился звук глухих ударов, топот, треск ломавшихся кольев… Черчек, забыв про Талькину мотыгу, рванулся к выходу, Талька устремился за дедом…
Но первым из сарая все-таки выскочил я. И рукоять серпа бередила порезанную ладонь.
Серп. Один из моих учителей называл его «камой». Он говорил: «Кама – это лезвие, которым бреется смерть, когда у нее намечается праздник…»
Глава вторая Вилисса Черчекова
…Под луною черной заплывает кровью профиль гор точеный. Ф.-Г. Лорка…Я не услышала, когда они подошли.
Выйдя на крыльцо, чтобы вылить из ведра грязную воду, я увидела трех Черчековых парней, прижатых к изгороди толпой – молчаливой и бесстрастной толпой; увидела, как один из наших хватается за живот и пытается удержаться на ногах, непослушных и подгибающихся, как второй – самый молодой и отчаянный – безнадежно отмахивается треснувшим колом…
Последний из бывших волкунов надрывно взвыл – я на миг даже забыла, что здесь, в Переплете, он не способен обернуться, – и человеческими ненадежными зубами вцепился в руку ближнего из пришельцев. Тот даже не поморщился, словно не его плоть рвали чужие челюсти. В правой, свободной руке у Боди был тяжелый топор на короткой ручке, и его обух с тупым хрустом опустился на затылок несчастного. Через мгновение Равнодушный стряхнул труп на землю и двинулся к дому.
Они шли – пустые глаза, молчащие рты, окаменевшие лица; они шли – кабатчик «Старого хрена», бондарь, печник, остальные, кого я не знала, а не знала я почти всех; они шли, такие же, как и все, и в то же время совсем другие; они шли…
И тогда я закричала.
Может быть, я надеялась, что меня услышит Таля, услышит и прибежит, и я скажу ему, что мой Дар – его Дар! – в силах… Дура! Ни на что я не надеялась. Просто кричала, как животное при виде бойни. Ведь знала же, с первой минуты знала, еще когда этот упрямый Бакс вернулся и рассказал о встрече с Бредуном, – знала, что раз Неприкаянные рядом, значит, и кровь – тоже…
И когда мимо меня пронесся вихрь, я зачем-то выплеснула на него воду. А он и не заметил, он мчался дальше и мокрым весенним кабаном врезался в толпу Боди.
Один раз я сумела разглядеть его лицо и ужаснулась – Бакс смеялся. Он смеялся и вертелся в людском месиве, а руки его жили какой-то своей, страшной жизнью; и вокруг каждой из них плясал стальной огонек, будто две маленькие смерти подарили веселому грубияну две маленькие косы.
Он жал их, как жнец – ячмень; Смеющийся среди Равнодушных, Горящий среди Сгоревших, Живой среди Неживых…
Среди мертвых. Потому что кол воспрянувшего волкуна перешиб шею тому Боди, который был толстым кабатчиком, и который был последним. Сам парень не удержался на ногах и шлепнулся на поверженное тело, а когда встрепанный Бакс протянул ему руку – щенок не удержался и лизнул Баксову окровавленную ладонь.
Вожак – поняла я. Дура я, дура…
Подбежал расхристанный Талька с Черчековой мотыгой наперевес и с разбегу уткнулся головой в Баксову грудь. Бакс осторожно отодвинул от своего лица мотыжную рукоять, сунул серпы сзади за опояску – я уж и не знала, как их теперь называть, после такого побоища, – и погладил мальчишку по затылку.
После отстранил, заставил внимательно оглядеться вокруг и заглянул в расширившиеся от увиденного глаза.
– Ну как? – спросил Бакс.
– Страшно, – честно признался Таля. – Страшно и дико. А я, болван, – меч…
– Ну и хорошо, раз понял, – кивнул Бакс. – Набирайся ума, а я пока за двоих убивать буду – и за тебя, и за себя. И за Энджи.
Последние слова он произнес с тоской и злостью, острыми и кровавыми, как лезвия его серпов.
– Ой, Баксик, – удивленно шепнул Талька, – тебя порезали!.. Смотри – рана…
Мальчишка мгновенно расслабился, сощурился и положил ладонь поверх неглубокого, но, должно быть, болезненного пореза на Баксовом плече. Губы Тальки дрогнули, он скоро зашептал нужные слова – эх, дите ты, дите, до чего ж ты на ученье-то легкое!.. Тебя бы к нам лет на десять, я б тебе сама все отдала!..
Много молодым дадено, да не все молодым можется. Дар, когда наружу идет, через душу проходит, душой насыщается; губить идет – злое берет, лечить идет – доброе берет, утешать идет – боль берет, свою поверх чужой… Нет у молодых до поры ни боли великой, ни добра немереного, ни зла неподъемного. Оттого и знают нас, Ведающих, стариками да старухами. У старых душа – что подвалы скупца. Всякое сыщется…
Приковылял мой свекор. Мы с ним помолчали и поняли друг друга без слов. Не судьба, значит, нам здесь оставаться, а судьба в Ларь идти.
Ни поспорить, ни обхитрить… Сегодня Боди нагрянули, после перерыва этакого, завтра Страничник явится, а мы без мальца сами как дети малые. Пропадем ни за грош ломаный…
Да и так, видать, пропадем. Только – где наше не пропадало? Везде пропадало, со счету сбились.
Бакс изумленно смотрел на свое залеченное плечо, потом перевел взгляд на меня.
– Баба с пустым ведром, – серьезно заявил он, – это, должно быть, к несчастью.
Ведро выпало у меня из рук и загремело по ступенькам.
Глава третья Анджей, Глава
В этой книге всю душу я хотел бы оставить… Ф.-Г. Лорка…Кто я? Подскажите!..
Нет ответа.
Или их, этих ответов, так много, что они толпятся вокруг меня, улыбаясь и перемигиваясь, и в конце концов они берут меня за руки и уводят в тоску и безнадежность.
Кто я? Словно переворачивается очередная страница, начинается очередная глава…
Почему – словно? Просто: переворачивается очередная страница…
Я – сумрачный маг Арт-Шаран, предавший огню и демонам храмы Фриза за мимолетную улыбку босоногой рабыни с глазами гепарда. И кипящая лава страстей неукротимого старца течет через меня, обжигая и пенясь.
Я – невозмутимый шейх Салим Абу-Раббат, глава секты Великого Отсутствия, прошедший путь фидаи – «Отдающего только жизнь»; и отдавший гораздо больше, чем только жизнь, за право увидеть недозволенное. Я – шейх Салим Абу-Раббат; и ледяная броня бесстрастности охватывает мое высохшее тело.
Я – огненнобородый полководец Тилл Крючконосый, с хохотом взирающий на заваленное трупами Нарское ущелье; я потрясаю трезубцем и клянусь Громовым Инаром, что боги не успеют переварить всех жертв, которые я им принесу. Я велик, вспыльчив и лично казню нерадивых палачей.
Я – безногий нищий у Стены Трещин, и молодые калоррианки отворачиваются при виде моих струпьев, а старшина цеха отбирает у меня две трети милостыни и однажды умирает, потому что я способен пальцами скатать в трубочку медную согдийскую монету, и еще потому, что я тоже человек. Боль и ненависть, и я бегаю во сне…
Я – забитый трупожог Скилли, мечтающий о просяной лепешке, как о недосягаемой благодати; и я – патриарх Скилъярд Проклятый, владыка Топчущих Помост, но низость моего прошлого не в силах замарать лилово-белый плащ настоящего. Гордость, ставшая гордыней, трусость, ставшая осмотрительностью; тля, ставшая небом…
…Кто я? Ответьте!..
Тишина.
Иногда я перестаю быть Я и становлюсь таким маленьким, щупленьким «я», у которого колет в боку, болит горло и все время дрожат руки. Кое-что я все-таки соображаю: вот я иду по коридорам – это Книжный Ларь; вот люди в белых одеяниях покорно стоят передо мной – это Страничники; вот кто-то молчит у меня за спиной – это Она, иногда Он, но в конце концов всегда Она… и тяжелый звериный запах странным образом сливается с запахом книгохранилища.
Когда я пытаюсь назвать Ее по имени, через меня идет Сила. Ее Сила. Я мал, болен и слаб, но накопленные ярость, боль и гордыня кипят во мне, и бессильная Сила проходит сквозь них, насыщается душами Арт-Шарана, Скилъярда Проклятого, Абу-Раббата, Тилла Крючконосого, многих других, – и Страничники потом уходят, унося в себе частицу полученной от меня Силы.
«Да, Глава», – говорят они, пятясь задом к двери.
И крышка Переплета захлопывается за моей спиной.
Кто я?! Дайте вспомнить!..
Не дают.
Кто я на самом деле?!
Человек? Тогда – который?..
И вновь шелестит, переворачиваясь, очередная страница…
(…Зачем, зачем я коплю чужие души в гробнице своего сознания, зачем я даю чужой Силе воплощаться, проходя через накопленное; зачем я даю Книге читать себя?.. Что?!)
Я – толстобрюхий папаша Фоланс, заедающий предобеденную стопку водки куском малосольного огурца; я – довольство, и благодушие, и размеренность бытия.
Я – узкоглазый старик Хурчи Кангаа, жарящий дикую саранчу на одиноком костре; я – полынь степей, я – неприхотливость кожаного ремня, я…
Я – удивленный турист Анджей, я стою над умирающей старухой во флигеле с развороченной крышей, где почему-то пахнет ночным озером и спящими кувшинками. Я – отец, и друг, и муж, и…
Стой! Погоди!.. Не перелистывайся!..
Кто я?! Мгновение, стой!.. Остановись, мразь!..
Опять Книжный Ларь, опять Страничники, склонившие головы; опять Сила идет через меня, подбирая на ходу огрызки краденых чувств, как нищий подбирает рассыпанные монеты; и хлопает крышка Переплета.
Я улыбаюсь.
Я спрятал монетку последнего воспоминания, зажал в кулаке, сунул за щеку, и хитрая улыбка бродит по моему небритому и потному лицу.
Улыбка продирается сквозь щетину, как… как уставший человек через чахлый сосновый лес, а впереди маячит…
Что?!
«…А упрямый Бакс все тащился за мной, по щиколотку утопая в прошлогодней хвое, и с каким-то тихим остервенением рассуждал о шашлыках, истекающих во рту всем блаженством мира…»
Я крадусь по ниточке этих слов на ощупь, как слепой, а вокруг шумят миры и жизни, черные знаки на белой бумаге; я проталкиваюсь через их мешанину, я иду, спешу, спотыкаюсь, отшвыриваю страницы, хлопающие меня по лицу, как кожистые крылья летучих мышей…
Я вспомню!
Наверное…
Глава четвертая Инга
Роза, застыв под луною, на небе искала не розу — искала иное. Ф.-Г. Лорка…И вдобавок мне начали сниться сны.
Вот уже третью ночь. А два раза – днем. Раньше я не любила ложиться днем, но в последние дни я не очень хорошо себя чувствовала, и Черчек, ставший необыкновенно заботливым и оттого немного суетливым, заставлял Иоганну стелить чистое белье и собственноручно поправлял на мне одеяло.
– Не боись, девка, – шутил он, раздувая пегие усищи, – лапать не буду. Эх-ма, старый лапоть, ни к чему мне девок лапать, я б к старухе под бочок – да не разогнуть крючок…
Я улыбалась и легко-легко проваливалась в теплую мякоть сна. И снова видела Энджи – заросшего клочковатой бородой и с воспаленными глазами, видела странных людей в белоснежных балахонах, согнувшихся в поклоне перед моим мужем, видела его лицо – окаменевшее в страшном усилии, чем-то похожее на лицо Атланта с офорта Марли, когда небо впервые опустилось титану на плечи.
Я видела Талю – вытянувшегося, даже возмужавшего, очень похожего на своего отца; Таля сидел в какой-то избе, а напротив сидела женщина средних лет, однорукая и напоминающая Иоганну, и женщина эта что-то втолковывала моему сыну, а он послушно кивал – что было совершенно не похоже на знакомого мне неугомонного Тальку – и перебирал в пальцах разные корешки, веточки, листья…
«Таля!» – попробовала я позвать его, и он вскинул голову, зашарил глазами вокруг себя, а потом понурился и сломал корешок пополам.
Я видела Бакса – он расположился на крыльце и точил две кривые железяки. Он всегда любил возиться со всякими убийственными штуками; а у ног его копошились в траве два маленьких лохматых человечка, они боролись друг с другом, и я впервые услышала голос Бакса, впервые в моих беззвучных снах пробился живой звук.
– Ногу, ногу подставляй, Болботун, – бормотал Бакс, ногтем пробуя лезвие, – так, а теперь на себя… Что, Падлюк, съел?! Пищи не пищи, а кинул он тебя! Болботун у нас герой… вон Вилисса говорит, что это он самолично про Анджея вести из Ларя принес, когда нам еще тела потом наколдовывали… Трех кабанов чуть не насмерть загнал, а за одну ночь добрался! Слышь, Болботуша, как ты этих дьяволов клыкастых уболтал, чтоб они тебя не жрали, а везли? Ну ладно, не хочешь говорить, и не надо… Ногу, ногу подставляй!.. вот так…
Голос поплыл, заглох, и вновь – тишина.
Сны. Поначалу я не связывала их с собранием Неприкаянных, о котором никто не заговаривал, словно его и в помине не было; я не связывала сны даже с визитами Бредуна. Он прибегал по два раза на день, но ненадолго, запыхавшийся и возбужденный, он пил с Черчеком, шутил с Иоганной, рявкал на Йориса – тот понимал и любил именно такую форму общения – и разговаривал со мной исключительно о пустяках.
Не связывала сны с Бредуном, а вот – само связалось.
Это Бредун заставил меня все время носить нож. Он сам привязал к ножнам две тесемочки и подвесил их мне на шею, строго-настрого приказав не снимать даже в постели.
– Тепло ему нужно, – загадочно сообщил Бредун. – Живое тепло, и чтоб капусту ни-ни…
Нож на удивление уютно примостился у меня за пазухой и по ночам маленьким зверьком лежал рядом. Я спала, видела сны, а когда просыпалась – ножны зачастую были крепко зажаты у меня в руке, и спокойная сила бродила в сонном теле.
А днем меня иногда знобило. И к вечеру – тоже. Иоганна поила меня горькими отварами и настойками, Йорис подарил меховую безрукавку, и я надевала ее по вечерам. Мы гоняли чаи, Иоганна все чаще заговаривала о приближающихся родах, старик хмыкал в бороду, а потом я шла спать.
И видела сны.
Так текло время в постоянном ожидании чего-то…
Глава пятая Талька
Мама, вышей меня на подушке своей. Ф.-Г. ЛоркаЯ – мальчишка. Это обидно и неумолимо, как понимающая улыбка Бакса.
Впервые я понял это, когда испугался пришествия Боди.
Я стоял в десяти шагах от того страшного, что творил Бакс, в животе ворочался кусок тающего льда, и руки тряслись от ужаса и непонятной тяжести.
Потом я обнаружил, что до сих пор держу Черчекову тяпку – но это уже потом, когда Бакс говорил мне разные успокаивающие слова.
– У каждого свое оружие, – говорил он, – просто его надо сперва найти. Например, кому-то человека застрелить – раз плюнуть, а вот ножом ни в какую… Только представит себе, как лезвие в тело входит, как кровь ему на одежду выплескивается, как руку надо рывком назад, – все, пиши пропало. Или саблей – запросто, а дубиной или топором – ни за что. У каждого свое оружие, Таля. Иному умереть легче, чем убить, и это тоже – оружие…
– А ты? – всхлипнул я, и Бакс осекся, нахмурился и замолчал. – Ты же не выбираешь!
– Я сам – оружие, – непонятно и глухо ответил он. – Не приведи бог кому другому…
Я выронил тяпку и побрел в дом.
Я – трус. Вила специально не позвала меня, когда они стали хоронить убитых Боди, но я пошел сам – что я хотел доказать самому себе? – и ворочал твердые, как поленья, трупы, внутренне содрогаясь; помогал таскать тела к опушке, где мы вырыли большую яму, и долго стоял у засыпанной могилы, шепча слова, приходившие на язык неизвестно откуда.
Вила одобрительно поглядывала на меня и молчала.
Своих мы зарыли поодаль, и там я тоже постоял, сколько надо.
Вечером Вила учила меня раскидывать Сеть. Это было трудно – словно недавно ослепший человек учил прозревшего слепого от рождения видеть мир, – но я с третьего раза сообразил и вошел в нужный ритм.
Я чувствовал себя огромным пауком, нависшим над хутором, и нить за нитью невидимая клейкая паутина опутывала местность вокруг нас на полдня пути во все стороны. На северо-восток – почти до самого Переплета. Сначала было сложно отсеивать сигналы от настырного зверья и птиц, прорывавших паутину, но постепенно я настроился – тем более что посыл от приближающегося человека был бы совершенно иным по звучанию. А от Страничников – тем паче.
Бакс, выслушав мой рассказ о Сети, немного расслабился и прекратил бурчать, что «пора немедленно рвать когти». Черчек заявил о своем намерении идти в Ларь вместе с нами, Вила тоже кивнула с обреченным выражением лица, а Бакс минут пять думал и наконец согласился на уговоры старика обождать с уходом до очередного Большого Паломничества.
– Если уж шухер, – выразился Бакс в своей обычной манере, – так лучше чтоб при большом стечении народу. Авось не все тут раздолбаи, да и недолго ждать осталось…
Я тихонечко вызвал Вилиссу на крыльцо, оставив Бакса с дедом и Щенком Кунчем допивать заветный кувшин, поминая умерших.
– Вила, – сказал я без обиняков, – что надо, чтобы Даром – убивать?! Научи!.. Ну пожалуйста…
Она смотрела на багровые прожилки заката и не отвечала.
– Научи! – упрямо повторил я, чувствуя, что сейчас расплачусь, и стыдясь подступающих слез.
– Не могу, – прошептала она. – Не учат этому. Пока в тебе самом смерти нет – не сумеешь.
– Я уже умирал, – возразил я, – значит…
– Ничего это не значит. Нет в тебе черного света, а без него Даром убивать – убивать даром…
– А когда он во мне будет, этот черный свет?
– Ох, чую, будет, – пробормотала Вилисса, и я остался на крыльце один.
Лес стоял сплошной стеной, но краешек солнца слегка просвечивал из-за деревьев, и на миг мне показалось, что этот свет – черный.
Я – мальчишка. Впервые я понял…
Если я это понял, то, может быть, я уже не совсем мальчишка?
Глава шестая Человек Знака Ах – охотник с глухой заимки
И юности камни изъедены снами, на дно размышления падают сами. «Далек ты от Бога», — твердит каждый камень. Ф.-Г. Лорка…Впервые я по-серьезному заговорил о Нем уже в городе, на базаре. А вспоминал до того – раз сто. Еще со Дня Чистописания, когда мы с Менорой наткнулись на этого странного паломника в Книжном Ларе. Там, в Ларе, он и исчез, после беседы нашей ночной. Сам я не видел, как и где он пропадал – утонул в Чистописании, не до того было, – зато другие кое-что видели, если не врут. А пускай и врут – иное вранье трех правд стоит.
Ведь слышал же в детстве своем незабытом то ли сказку, то ли пророчество о Нем – Том, Кто Возьмет на Себя! Слышал – да не верил. Сказка – она и есть сказка. Я уж и забыл ее почти, когда это случилось…
Помню, доча ко мне подбегает, глаза круглые, испуганной радостью лучатся; за рукав хватает: «Папка! – чуть не плачет в голос. – Там человек один… На себя берет!»
Я сперва не понял.
– Что, – спрашиваю, – берет-то?
– Все!..
Вот тут-то я сказку и вспомнил, будто вновь пацаном заделался.
Переночевал он у меня в хибаре, за житье-бытье покалякали – и небо над ним не разверзлось за дела Его окаянные, и Переплет не шелохнулся, комары – и те Его не больше, чем меня, кусали! А утром ушли мы с Менорой к Ларю, а Он заспался с устатку. И не виделись мы более. Пропал Он. В Ларь, сказывают, ушел. Вовнутрь.
И не вернулся.
Только так крепко мне это в душу запало, что стал Человек Знака Ах – охотник с Глухой заимки – не в ту строку становиться. Видно, подошло время, когда не всякое лыко в строку… Задумываться я невпопад стал, слова положенные говорить забываю, дела не все по обрядам вершу; а после и до того дошло, что в неурочное время на промысел отправился.
Шел – и боялся. Мало чего промысловики боятся, а тут разобрало. Обряды, конечно, обрядами, да только слова – они и есть слова. Пустым словом, как известно, Переплет не колеблется. А вот на промысел выйти, когда вся твоя Фраза по домам рассиживается, – это уже Поступок. И вряд ли он добром от Переплета отразится.
И точно – как в Книгу глядел! На третий день у Дурного Лога в болото провалился. Ну не было там зыбуна, отродясь не было, всякий скажет!.. Тамошние трясины – смех один.
Вот мне смех тот боком и вышел.
Провалился я крепко. «Ну, – думаю, – получи, Ах-неверующий, воздаяние горькое! Был охотник – и нет его, нахлебался Поступком по уши!»
Ведь ежели Переплет за дело платит – все, пиши пропало, не выберешься.
Раньше я бы и рыпаться не стал – принял бы как должное и сгинул бы в том болоте. А тут смотрю – стоит неподалеку у осинки чахлой Он. И осина та сквозь Него просвечивает, хотя до нее – рукой доплюнуть.
Видение, стало быть…
Постоял Он, помолчал и говорит тихо: «Что, Ах-охотник, забыл Меня?»
– Не забыл, – хриплю, – помню!.. Руку, парень, руку дай…
«Нет, – качает Он головой непокрытой, – Я тебе такому руки не дам. Не человек ты сейчас, а вошь Переплетная. Ведь говорил же тебе в Ларе – все, мол, на Себя беру. А ты тину глотаешь и пузыри пускать боишься! Сам себе руку подавай, Ах-охотник, а Я свое взял, и с Меня хватит…»
И так мне тошно от слов Его стало, что тина вонючая молоком парным показалась.
Топорик у меня в руке – ровно сам впрыгнул. Рванулся я лосем сохатым, осинку ту с перепугу с двух ударов свалил, поперек трясины деревина легла, я сверху, уцепился, дальше не помню…
…Стою на кочке, весь в грязюке, поджилки трясутся – но живой! Живой, братцы! Один стою, никого рядом, только будто кто меня слегка по плечу похлопал. Ветер, что ли?.. Так не было ветра. Кто его знает – может, и вправду повезло; а может, действительно Он на Себя взял – потому и спасся?
Тут уж я крепче об этом задумался. Не сразу, а после, когда у костра от страха смертного отходил. И вышло по моему разумению, что парень этот – Он воистину! А мне, значит, обалдую немытому, честь великая выпала Его на ночь приютить и вроде как благословение получить. Вот и знак тому – спасение мое!
Ну как я мог молчать после этого?
…Сперва с дочкой парой слов перекинулся. С кем же еще, как не с ней – нет у меня больше никого.
– Помнишь, – говорю, – того…
Хотел сказать «парня», да как-то не сложилось. Не то слово.
– Ну, того, которого ты в Ларе… Его, в общем.
– Помню, – отвечает.
И все как-то странно на меня поглядывает – вроде ждет чего. Видела небось, как я в болотной коросте с промысла приполз… Она ждет, а я молчу, как дурак. Не идут у меня слова с языка, ровно онемел. Только стою столбом – как тогда, на кочке, – и улыбаюсь чему-то. А Менора тоже улыбается и уходит в избу, будто все у нас с ней оговорено и не о чем больше толковать.
У порога остановилась и долго-долго косилась на меня через плечо – совсем как Лайза-покойница перед тем, как ее то ли дерево, то ли Боди…
Поговорили, значит. Эх, пророк из меня…
Парни за ней бегать стали, за Менорой моей. Не по возрасту вроде им, лопухам тощим, зеленым, – да и Меноре-то рановато, ежели по обычаю. Так увиваться для порядку не запрещено, поскольку за недобрый Поступок с девкой Переплет таким эхом громыхнет, что после некому каяться будет, – вот они скромным табуном и шастают.
Разок застал их всем скопом на полянке одной потаенной – Менора у меня лисичка, ей места ведомы, – нет, гляжу, ничего срамного или еще какого! Сидят кружком, а доча моя руками машет и что-то им втолковывает.
Я по лесу тихо хожу, меня парням не учуять… Зато доча встрепенулась и глазами по кустам, по кустам…
Вышел я.
– Что, – говорю, – Люди Знака, добра вам всем полную пазуху, дома работы не нашлось? А то перегреетесь, сок внутри забродит да в голову и треснет не ко времени…
Сидят, помалкивают. А на меня смотрят – словно я им каждому по мешку куньих шкурок задаром отвалил. Мне аж неловко стало.
– Папа Его тоже видел, – это Менора моя вовремя влезла, вся в отца девка… – Правда, папа?
Я уже уйти хотел, а кивнул – ну так, не подумав, кивнул…
Тут они вообще на меня вылупились – ровно чудо какое узрели. Чувствую, краснею я, а при моей роже краснеть не положено. Ушел. Но смекнул, о чем Менора парням рассказывала. Ладно, пусть, слова Переплет не колеблют, а в случае чего – Он все на Себя брал, и Менорин Поступок пускай заодно несет.
Вот брякнул, не подумав, и стыдно стало, словно вновь Он рядом стоит и головой качает…
На другой день, сам не знаю с чего, снова на охоту засобирался. Опять же умом понимаю, что не положено, и еще недели две-три не будет положено…
А, думаю, пойду – авось сойдет!
И точно – сошло. Да не просто сошло, а очень даже сошло! Домой добычу еле донес, пот со лба утер и немедля в город нацелился – шкуры продавать. Деньжата как раз к концу подходили.
Правда, на промысел не в сезон сбегать – это одно, а вот товар в город не в сезон вывезти, Страничника своего не спросясь ни капельки, – это совсем другое дело. Тут Поступок поболе будет. По лесу-то я один хожу, сам себе и Знак, и Слово; а в городе, на людях, Фразы длинные, немереные…
Встрянет Ах поперек – что с ним станется?!
Да и шкурки-то так себе были. Зверь в межсезонье линючий, за такой мех много не дадут… Кстати, может, потому и нет ни охоты, ни торговлишки особой в это время – а вовсе не потому, что так в Книге записано?
Косились мне в спину, нехорошо косились, когда я телегу со двора выводил, – хоть и в рань несусветную собрался, чтоб глаза не мозолить… И все равно ни от глаз, ни от языков людских не ушел.
Ну да ладно, хрен с ними, который редьки не слаще… Тем паче что дорога на удивление гладкой вышла. И лошадка за три дня не обезножела, и погодка баловала, и с харчами неплохо, а в одном трактире даже на дармовщинку подкормили…
В город приехал – там базарный день, торговля в самом разгаре. Я в шкурный ряд залез, товар разложил, жду, что дальше будет.
Один я в ряду, один на весь прилавок. В дальнем конце хмырь какой-то из местных, городских; лежалое старье сбывает – и все.
Начали вокруг меня горожане собираться. В основном Люди Знака, но пара-тройка и Хозяев Слова затесалась. Прицениваются для порядка и отходят в сторону – пошептаться. Будто у меня три носа выросло, а им завидно.
Зло меня разбирает, а тут один Господин Фразы подвалил – по всему видно, из купеческой старшины. Сам долговязый такой, как аршин проглотил, а щеки пузырем, будто он там кучу добра от глаз завидущих прячет.
– Да будет жизнь твоя долгой и удачливой, Человек Знака! – шепелявит он мне. – Позволено ли мне будет спросить, почем торгуешь?
Ну, я ему и заломил – и за шкуры, и за косые взгляды моих односельчан, и за позор мой, и за торговлю в неурочное время; а пуще всего – за страх, что внутри скребся, и за злость мою, из болота вынесенную.
Он и не моргнул. Лишь лениво так спрашивает:
– Не много ли берешь, Человек Знака? Снесешь ли все, что наторгуешь?
Гляжу я на купца и думаю – не про то он спрашивает. Вроде и разговор у нас торговый, да больно лица у зевак внимательные. Потом по рядам глянул – показалось мне внезапно, что за поворотом Его увидел – нет, привиделось, один я среди этих…
Так мне погано на душе стало, что хоть в Переплет лезь!
– Все, что беру, – отвечаю, – то забота моя да еще Его. Оттого знаю – снесу или надорвусь, а не испугаюсь.
– Кого это – Его? – купец интересуется.
А я возьми да и брякни:
– Того, Кто На Себя Берет!
Постоял купец, мордой бритой покривился и спокойно отвечает:
– Пойдем ко мне в дом, Человек Знака. Весь твой товар беру и цену сказанную плачу, не торгуясь. А не хочешь сейчас идти, так заходи к вечеру. Не лишай меня гостя, а себя – удачи. Спросишь, где дом Господина Фразы Зольда Рыжеглазого, – любой покажет…
Через миг – ни зевак, ни Рыжеглазого. А на прилавке передо мной мешочек кожаный, золотым звоном течет. Задаток…
Заехал я вечером к нему, к Зольду этому. Шкуры завезти-то надо? Надо. Вот и завез, за этакие деньжищи!.. А там меня в дом чуть не силком заволокли, а в доме – народу! Даже два Страничника невесть откуда взялись. Лица у всех сытые да глаза изголодавшиеся. Ждали они меня, что ли?..
Видно, ждали, только не меня. Его ждали. Давно ждали.
И стал я им рассказывать – откуда и слова-то взялись…
Глава седьмая Анджей, Глава
Христос остроскулый и смуглый идет мимо башен, обуглены пряди, и белый зрачок его страшен. Ф.-Г. ЛоркаКто я?..
Я – Глава. Я – Глава над белыми почтительными Страничниками, над подобострастными Господами Фразы (которые только думают, что они – Господа), над многочисленными Хозяевами Слова и над бесчисленными Людьми Знака.
Я – Глава над всеми. А надо мной – только Она. Книга. Она надо мной, и подо мной, и вокруг меня, и во мне – потому что я не просто Глава над людьми.
Я – ее Глава. Надо понимать, не единственная. Но я – живой, а остальные – написанные.
Так что в каком-то смысле я единственный. И Книга знает это. А я знаю, что без меня, без живой человеческой души, сила Книги бессильна.
И все-таки во мне течет Сила. Ее Сила. Во мне бурлят, пенясь давними событиями, страсти многих людей, чьи судьбы записаны в Ней. И моя судьба тоже принадлежит Ей. Я уже успел понять, что всем Страничникам в прошлом было предложено, как и мне, принять участие в упорядочении здешнего мира. Самые умные, самые гордые – ко всем Зверь-Книга подобрала ключик, каждого прочитала до конца. И вчерашние бунтари – сегодняшние Страничники.
Читано-перечитано…
Кроме меня. Потому что я наконец вспомнил. Потому что Книга случайно, по ошибке – а я далек от того, чтобы уверовать в Ее безошибочность и непогрешимость, – раскрылась передо мной не на том месте.
Прочитав меня до конца – ах, самонадеянность моего прошлого незнания! – и забросав мою глупую душу своими страницами, завалив ее шуршащим обжигающим снегом, Она забыла (или не смогла) разорвать ту страницу, на которой беспечный турист Анджей брел сосновым лесом к невидимому еще хутору…
И я прочитал сам себя.
Заново.
(…Нет… нельзя об этом думать! Иначе…)
Впрочем, сейчас можно. Потому что сейчас Она – это Он. Зверь. А Зверь не способен подслушать мои мысли – это я успел понять.
По-моему, во Время Зверя даже связь Книги с Переплетом ослабевает, и через Переплет можно пройти. Наверное. Только снаружи никому не известно, когда Зверь-Книга меняет ипостаси…
Я спокойно смотрю в желтоватые безвекие глаза, я отвечаю, спрашиваю, вежливо улыбаюсь в ответ на острозубую ухмылку Зверя, я восхищаюсь Его остроумными парадоксами – но в это время я могу думать. Я могу вспоминать.
Я могу понемногу, по крохам вновь обретать самого себя. Боже, сколько же времени прошло с той поры, как я… Сколько? Не знаю. Я потерял счет времени.
Зато я помню, кто я. Это очень много. Но и это не все.
Я не только помню. Я начал действовать.
Я – Анджей, а не я – Глава.
Я уже почти не боюсь Ее – наверно, мне нечего терять, хотя приобрел я вполне достаточно. Но все равно я действую с осторожностью незрячего в ночном лесу. Я иду почти незаметно.
На ощупь.
Но – иду.
Я способен ощущать и копить Ее силу. Я способен увидеть почти все, что творится внутри Переплета, – кроме трех-четырех участков, которые по-прежнему скрыты от меня; и хутор, где остались Талька и Бакс, – один из них.
Пусть, ладно. Мне хватает того, что я вижу.
Далеко не все в Переплете идет так, как хотелось бы Ей, – в последнее время Знаки все чаще выпадают из своих Слов или меняются местами, не во всех Фразах Слова стоят на нужном месте; и сбиваются с ног измученные Страничники…
Я знаю, что происходит.
Люди совершают Поступки. Потому что они – люди. Как самой Книге не хватает живого человеческого сердца, чтобы Ее Сила становилась реальностью, так упорядоченной ритуальной вежливости не хватает искренности, чтобы стать сутью и ядром.
А без искренности эту странную мир-Книгу, на окраину которого (или которой) свалилась троица невинно убиенных туристов, – без искренности ее ни читать, ни писать попросту неинтересно.
Да и жить в ней – тоже.
«…– Учитель, – спросил ученик, – когда лев бросается на слона и когда он бросается на робкого сайгака, – он вкладывает в удар одинаково великую силу. Что за дух движет львом?
– Дух искренности, – ответил учитель».
Люди совершают Поступки. Злые или добрые – я далек от того, чтобы взять на себя бремя судьи. В самом добром Поступке кроется зародыш Зла. Если я спасаю девушку от насилия, всегда найдутся недовольные. Сам насильник, к примеру. Особенно если я пришибу его в момент спасения девицы.
Будни палача; исповедник, нарушающий тайну исповеди убийцы-маньяка; содержательница борделя, подобравшая на улице умиравшую от голода девочку и давшая ей работу, – это добро или зло?
Если вы знаете ответ – вы знаете больше меня.
А я знаю одно – люди все-таки совершают Поступки. Даже когда они – Знаки. Люди Знака. Чаще – неосознанно, но иногда и преднамеренно. Их Поступки колеблют Переплет, как трепыхания мухи колеблют нити паутины, и почти всегда возвращаются большей или меньшей бедой.
Даже когда Переплет вообще ни при чем – человеку всегда найдется из-за чего страдать, и он непременно припишет это кому-нибудь.
Богу.
Сатане.
Переплету.
Карме.
Соседу.
Я чувствую боль этих людей, я ощущаю воздаяние Переплета за их Поступки – и коплю в себе.
Я ПЫТАЮСЬ ВЗЯТЬ ВСЕ НА СЕБЯ.
И вот тут таится главное. Ведь я – Глава. Ее Глава. Ее часть – и Переплет бьет по мне за поступки других людей: по утрам у меня кружится голова и виски сводит нестерпимой болью… Переплет бьет по мне, по части целого…
А значит, бьет по Ней!
Но Она – еще и творец Переплета. Следовательно…
Я спокойно смотрю в желтые безвекие глаза, я отвечаю, спрашиваю, вежливо улыбаюсь в ответ на острозубую ухмылку Зверя, я восхищаюсь Его остроумными парадоксами – но в это время я могу думать. Я могу вспоминать.
Я вспомнил. Вспомнил слово из того мира, в котором жил раньше. Короткое – и вместе с тем очень емкое слово.
Резонанс.
Я замыкаю Переплет сам на себя.
Резонанс.
И руки мои дрожат по утрам…
Глава восьмая Тэрц с дальних выселок по прозвищу Пупырь
А мирная улитка, мещаночка с тропинки, в смущении, с тоскою странной глядит на широкий мир. Ф.-Г. Лорка…Во имя Книги – а, собственно, почему? Почему я при косьбе должен идти непременно за Хромым Кукишем? Потому что так говорит Хозяин Слова Прус. Потому что так говорит Господин Фразы Бита Косорукий. Потому что так говорит Белый Страничник Свидольф.
А почему так говорит Белый Страничник Свидольф? Потому что так записано в Книге Судеб, на его Странице. А почему так записано в Книге Судеб на его Странице, если Хромой Кукиш на правую ногу припадает и все норовит мне косой по коленке заехать?
Почему?!
Может, так оно и надо, чтобы я от его косы все время уворачивался? Может, и надо.
Так я не хочу все время уворачиваться!
А приходится…
Вот почему, во имя Переплета, должен я жениться не на Валонге, третьей дочке нашего бондаря, а на Ульгаре-пряхе, и непременно нынешней осенью? Тоже в Книге записано? А там записано, что дура Улька с две кадушки в обхвате, и рожа у нее такая, что один раз глянешь – три раза утопиться хочется?! Так нет же – заладил Белый Страничник Свидольф: женись да женись на ней, на Ульгаре то есть. А какое ему дело, сморчку трухлявому, на ком я жениться хочу? Ах да, Книга… Ну и что – Книга?! Ведь не Книге же с Улькой толстозадой жить и не Страничнику Свидольфу, Переплет его распереплет!..
А мне Валонга нравится, да и я мужик не из последних; может, даже из первых я мужик у нас на Выселках – и Валонга, кажись, не против, я ее щипал сколько раз, а она хихикает… а то, что ей Толстый Мясь не нравится, за которого ей идти написано, – так это уж точно!
Раньше хорошо было. Понятно. Знал я, что и как делать, чего положено, чего не положено – а почему? – а потому, что так в Книге Судеб нашими Знаками записано. Записано – и все тут. И шел себе за Хромым Кукишем, от косы его уворачивался и горя не знал. А чтоб там какой-никакой Поступок совершать – так упаси меня Переплет, и в мыслях не было! Ну разве что на Черчеков хутор с приятелями чаще иных захаживал – выползней дубасить. Так на то они и выползни, их бить – не Поступок вовсе, а, наоборот, отдохновение души; и Благодать за это опять же…
Раньше хорошо было. А сейчас плохо. Мысли какие-то несуразные в голову лезть стали. Уже и места свободного нет, а они все лезут и лезут. И не то чтоб крамольные, а так… странные да ползучие. Почему то – можно, а это – нельзя. И ведь знаю, почему – в Книге так записано, – только все равно тянет что-то не так сделать. Ну вот не хочу я на Ульгаре жениться – и баста!
Это все с тех пор у меня началось, как пришлые на Черчековом хуторе объявились. Выползни новые то есть… Ну, не то чтоб сразу, как объявились, – хотя и поначалу хорошего мало, сперва мне с дружком по шее накидали, а после и Свидольфа самого выперли, – а с того момента, как выпертый Свидольф побывал в Книжном Ларе и нежданно-негаданно по возвращении заявил, чтоб мы Черчекам и тем, кто на хуторе ихнем ошивается, морды больше не били, а, наоборот, относились со всяческим уважением и почтением.
Это что, тоже в Книге так записано? Тогда почему нам Страничник раньше этого не говорил? Ну а то, что выползней дубасить можно и что не люди они вовсе – это ведь тоже в Книге было записано?! Что ж это такое, братцы, получается?! И то в Книге записано, и се в Книге записано – понимай как хочешь? Кто хочет – морды бить идет, кто хочет – хлеб-соль несет… а Переплету все одинаково?
Странное дело, однако… Может, врет Страничник? Может, и врет. Только когда – раньше или сейчас? Так не станет он врать – его за искажение Страницы Переплет пополам перешибет.
Ох, заваруха выходит! Голова кругом…
…Ну ладно – уважать так уважать. Поначалу боязно было, уважать-то с непривычки, а после решились мы таки и вдвоем с дружком моим, Юхримом-печником, на хутор к ним отправились. Удочки с собой взяли, еды немудрящей, того-сего…
Пришли. Выходят они нам навстречу. Смотрят. Колья в руках держат. Думают – мы за Благодатью. В смысле опять дубасить их пришли. А у нас с Юхримом, кроме удочек, ничего с собой нету. И двое нас. А этих – не то пятеро, не то шестеро… а четверо – это уж наверняка. Удочкой много не наловишь.
Боязно нам стало – вот сейчас припомнят старое, да как наподдадут нам, и ничего им за это не будет… Свидольф-то их теперь уважает, чего и нам велел, а между ними и Переплетом их тень стоит, от Поступков отгораживает.
И тут выбегает вперед мальчишка – видел я его разок, еще тогда, когда гнали они нас вместе со Страничником отсюда, – и ну хуторским выползням что-то втолковывать.
Надо же! Послушались его парни, как Знаки Хозяина Слова, колы свои опустили и вроде как расходиться стали. А малец с одним пареньком прямиком к нам направились. И глаза у них не от злобы выползневой, а от любопытства светятся. Ну, думаю, хвала Переплету, пронесло! Добром аукнулось, тишью-гладью… Значит, хорошо мы сделали, что пришли по душевному веленью да слову Страничника Свидольфа…
Подходят они.
– Здравствуйте, – это мальчишка говорит.
А мы стоим и не знаем, как отвечать. «День вам добрый, Люди Знака?» Так не Люди Знака они… и вообще – люди ли? Вон тень какая чернющая за каждым тянется… Подумал я, прикинул, мысли с ладони на ладонь покидал – ладно, буду отвечать. Все равно за такой Поступок больше синяка на рыло не заработаем.
И отвечаю.
– Здрасьте, – отвечаю.
Вроде ничего пока. Сошло.
– Вы драться пришли? – малец интересуется.
– Не-а, – это уже Юхрим влез, – мы к вам для уважения… в гости, значит.
– И рыбки половить за компанию, – добавляю.
Парень ихний смотрит на меня с Юхримом – то на одного, то на другого – и вижу, не верит. Все подвох ищет. А мальчишка – тот сразу поверил, заулыбался.
– Вот, – говорит, – здорово! Кунч, кончай трястись, беги за удочками. Я тут место клевое знаю – мне Черчек от вас тайком показывал, чтобы вы туда купаться не лазили. Ладно, стой тут, я за удочками сам сгоняю – и пойдем.
– Благодарим за заботу, – отвечаем мы с Юхримом.
Покосился малой на нас как-то странно – и за удочками побежал. Да напрямик, через изгородь! Оно, конечно, так короче – только ведь не положено…
Ну, до места того клевого мы быстро добрались. Стали закидывать удочки – гляжу, мальчишка (Талькой его звать, а паренька второго – Кунчем, это мы по дороге выяснили) крючок через верх закидывать собрался.
– Погодь, – говорю, – не так! Сбоку надо.
– Почему? – спрашивает.
– Ну… так в Книге записано, – отвечаю.
– Что, удобнее, что ли? Покажи!
Показал я.
– Не, – говорит малый, – так неудобно. За кусты цепляется. Неправильно в твоей книге записано. А меня дядя Бакс учил, он лучше любой книги знает.
И кидает по-своему. Куда дальше моего! А я рыбу не в первый раз ловлю…
– Вот, – говорю, – поколеблешь Переплет и не поймаешь ничего.
– Почему? – спрашивает.
Тьфу ты, я и забыл, что его от Переплета тень отгораживает! А так – пацан как пацан, разве что со странностями. Ведет себя не по Странице. Не думает об этом, вот что! Что хочет – то и делает. Меня аж зависть взяла…
Ну, наловили мы рыбки – и немало, надо сказать, наловили, редко когда у меня такая рыбалка удавалась – и сели уху варить. Парень их, Кунч, на хутор за казаном сходил, Юх-рим сушнячка спроворил…
Гляжу – а Талька этот уже седьмую морковку в казан кидать собрался.
– Стой, – кричу, – пять надо! Куда седьмую-то?!
А сам думаю – эх, баран я, проворонил!..
– А туда, – улыбается малец. – В казан.
И кидает.
Кинул-то, правда, он – но есть-то вместе будем! Как бы и нам с Юхримом не аукнулось. На Юхрима глянул – тот аж позеленел, как пахучку проглотил.
– На себя берешь? – это Юхрим спрашивает.
– Чего? – удивляется малой. – Вы что, ухи не хотите? Так мы с Кунчем не съедим столько…
Ну что с ним прикажешь делать? Ничего не понял пацан.
– Поступок, – объясняю, – на себя берешь?
– Какой поступок?
– Ну, морковку эту лишнюю!
– А это что, Поступок? – спрашивает. – За него что, чего-то будет?
– Тебе, может, и не будет, – Юхрим ворчит, – а нам…
– Так это ж я кинул! Я люблю, когда морковки много.
– Ты кинул, а есть-то вместе будем…
– Ну и не ешь морковку, ложкой отгребай…
– Так что же мне, каждый кусок твоей морковки отдельно считать, пока он в горло лезет?! Пять надо, он семь накидал, а я, как дурак, резаную морковку подсчитывай, да?!
– А что за эту морковку будет?
– Ну, не знаю… Может, поскользнешься где да шлепнешься. Штаны новые грязью обляпаешь… Или еще чего.
– Так… – прикидывает малой. – А хорошие Поступки у вас тут бывают?
– Бывают, понятное дело! Только редко когда угадаешь, чем твой Поступок от Переплета отразится. Лучше уж жить, как в Книге записано. От Знака к Слову, от Слова к Фразе, от Фразы к Странице. Без этих… Поступков.
– Э-э, – говорит, – так неинтересно. Это, значит, туда не пойди, того не делай, морковку лишнюю – и то нельзя?!
– Ну да, – отвечаю.
– Ерунда! – передразнивает. – Ладно, дядьки вы несчастные… Все на себя беру! Ешьте уху без боязни.
Я обмер.
А он берет – и крошит в уху лука немерено, головок семь-восемь, а то и больше! И вслед еще пару морковок кидает.
И – ничего!
…А уха, надо сказать, знатная тогда вышла! В жизни такой не едал. Листья в ней еще какие-то сушеные плавали – запах от них! Вот ведь люди – творят, что хотят, и едят от пуза… Мне бы так… А что? Мысли да слова Переплета не колеблют. Да и Талька этот – говорил ведь, что все на себя берет!
Что – все? Уху ту – или ВООБЩЕ ВСЕ?!
Совсем?
Ведь если так, то выходит, что мне, Пупырю, теперь все можно? И если даже штаны грязью обляпаю, так не потому, что Переплет, а потому, что просто ноги разъехались?!
Вот придет ко мне снова Белый Страничник Свидольф, начнет про свадьбу мою с Ульгарой талдычить – а я ему кукиш в нос суну!
Правда, Хромой Кукиш уже раз совал. Явился к нему Свидольф и ну бухтеть – чего ты, мол, в чай три ложки меду кладешь, клади одну; так, мол, в Книге записано. А тот возьми да и покажи кукиш Страничнику – накося, выкуси!
Очень уж мед любил.
А Свидольф ему грустно так: «Кто раз на Поступке споткнется – быть тому хромым на всю жизнь».
И точно – через месяц придавило бедняге ногу деревом, и стал он с тех пор – Хромой Кукиш.
Вот так-то – за чай с лишком меду да за кукиш. А за женитьбу Знаков, что в Книге не записана, и похлеще перецепить может! Правда, пацан выползнев, Талька, сказал ведь, что все на себя берет, – только боязно, однако…
Или попробовать?
Вот придет ко мне Страничник Свидольф, начнет про свадьбу зудеть – а я ему кочергой пригрожу!
Заманчиво…
Ходил я к этим на хутор, к выползням новоуважаемым, еще пару раз – ничего, нормальные мужики, пиво с ними пили, на рыбалку опять ходили, я им соминые омуты показывал… старик ихний – и тот вроде оттаял. Ходил, ходил – и ничего. Живут не по Строке, мы их больше не дубасим для души отдохновения – и они от нас не шарахаются… а Страничник говорил раньше…
Да мало ли что он говорил?! Выходит, что и Страничнику не всегда верить можно.
Говорят, вернулся нынче на хутор тот здоровый мужик, что почти год назад нас лупил да в грязи валял. Уходил куда-то, а теперь вернулся. Тоже ведь – из новых, пришлых, непонятных. Значит, тоже уважать надо. Надо бы сходить, познакомиться, уважить… пацан – это, конечно, хорошо, но только пацан, он пацан и есть. А вот если тот мужик тоже на себя возьмет… такой медведь многое потянет.
Вот придет тогда ко мне Страничник Свидольф – а я ему как врежу!
А почему?
А по чему попаду – по тому и врежу!..
Глава девятая Хозяин слова прус с дальних выселок
Ты должен трудиться, не глядя в небо. Ф.-Г. Лорка…Зашел я к Пупырю, говорю: «Видел с утра Страничника Свидольфа, он тебе передавал – осень, мол, скоро, готовься к свадьбе. Улька небось заждалась…»
А Пупырь меня по роже!
А я говорю: «Ты чего, Человек Знака Пупырь, сдурел, что ли?»
А он меня выгнал.
В шею.
И вслед добавил как-то странно:
– Жаль, не тому врезал…
Ну, я и ушел.
Домой.
Все.
Глава десятая Белый Страничник Свидольф
Ты смотришь на пламя заката, и глаза твои заблестели — о грозный дракон лягушек! Ф.-Г. ЛоркаНеспокойно в последнее время стало в Переплете, ох, неспокойно! Слухи разные поползли, один другого несуразнее да крамольнее. Моя Страница на самой-рассамой окраине, и то… Будто уж Закон Переплета силу терять начал, потому как объявился Тот, Который Берет На Себя. Да не один – а сразу трое. То есть людей-то трое – а все-таки не трое это, а Один.
Один-Трое.
Ну, как вам это понравится?
Вот и мне не понравилось. Слышал я эту сказку – так кто ж ее не слышал?! И не верил никогда – а кто ж в нее верил? И посейчас не верю.
Не верю!
Болтовня это все, пересуды пустые.
Но вот то, что Знаки место свое забывать стали, о Поступках задумываться, а то и совершать – верь не верь, только это уже не сказка. От неверия меньше не станет.
Даже на меня кое-кто коситься принялся, прекословят… Это мне – их Страничнику!
Глупые Люди Знака, неразумные дети… Ведь не я им приказы приказываю – я лишь порядок Книжной записи передаю, добра желаю! Выпадут Знаки из Слова или, того хуже, из Фразы – а Переплет ведь не разбирает, почему ты закон нарушил… Отзовется, дрогнет – и не уйти от возмездия, ибо от судьбы в какой подпол спрячешься?! Глупые люди…
Ну и живите себе по-написанному, по Закону – и будет у вас жизнь легкая да гладкая, как Страница Книжная; будет у вас жизнь ясная да понятная.
Не хотят. Дергаются. Поступки совершают. Потом исправить пытаются – и новые Поступки плодят, больше прежнего.
И страдают оттого.
Глупые люди, глупые… И сами страдают, и Книге ни покоя, ни завершения; не дают дописать нашу жизнь, сделать ее стройной, и правильной, и радостной для всех…
Не потому ли и Она себя странно вести начала? Глава, к примеру, этот новый… выходец из выползней. Или вот сами выползни – испокон веков их у нас не жаловали – за то, что тенью от Переплета отгораживаются, Закон не чтут да творят непотребное. Нет на них у Книги управы, вот и лезут в Переплет из геенн своих неведомых…
Ну а мы-то на что – Люди Знака, Хозяева Слова, Господа Фразы, Страничники?! Вот и держали мы выползней в узде, не давали порядок жизненный нарушать; да и у своих же буянов лишние мысли кольями по выползням легче выходили… Хорошо и полезно. Благодать, одно слово.
Только около года назад отыскалась в Книге новая страница. И записано в ней, что впредь не следует нам отдыхать душой на выползнях, а, наоборот, следует относиться к ним с должным почтением и уважением.
Странно эта Страница шелестела… Но – что написано, то написано. Передали мы по Фразам, чего велено, хотя и боялись, как бы беды не вышло.
Обошлось, однако. Не разгулялись выползни, непотребств никаких не чинили…
Вздохнули мы, Белые Братья, с облегчением и возблагодарили Ее за мудрость и заботу обо всех, в Переплете живущих.
А на днях – опять новость. И вроде бы теперь уже не следует Людям Знака и прочим, Закон Переплета принявшим, встречаться с теми, за кем тень волочится. Бить не обязательно, но и якшаться не стоит. Дабы последние не сеяли в души невинные зерен сомнения, не толкали на Поступки, Переплет колеблющие.
Это, конечно, правильно записано (ох, прости, Великая, не мне о том судить) – да только где ж те слова раньше были? Или, вернее, раньше-то они как раз были, и еще пожестче, чем сейчас, – но только куда пропадали и почему снова объявились?! А у Главы спрашивать боязно… Во-первых, Глава он, не нам чета, а во-вторых, и сам-то он роду-племени, как бы это сказать помягче… И вообще непривычно это – то в узде выползней держать, то почет и уважение оказывать, то народ ни с того ни с сего от выползней забором отгородить, будто и нет этих выползней вовсе.
И люди меня не поняли. Объявил я им, что в Ларе Книжном узнал, а с Выселок Дальних на следующий же день пятеро мужиков на выползнев хутор собрались.
Узнал я об этом, вышел им навстречу и говорю:
– Куда собрались-то, Люди Знака, счастья вам всякого в каждую руку? Переплет своим Поступком сотрясти хотите?
А один мне – морда поганая-препоганая! – и отвечает с наглостью:
– А Переплету это дело без разницы. Били пришлых – ничего, пиво пили да рыбку удили – тоже ничего. Так что ты, Белый Свидольф, не стой на дороге попусту – обойдем, да и все.
У меня язык от такого отнялся.
А другой подошел, на дубину суковатую оперся и туда же:
– Почем ты, Свидольф, знаешь – может, мы их бить идем? Чтоб людям головы не дурили?! И не Поступок это вовсе, а благо Переплету.
Помолчал потом немного и добавляет:
– А может, и не будем мы их бить. А может, и будем – да не их. А кое-кого другого…
Покосился на меня со значением и отошел.
Запомнил я его, поганца. Как звать, запамятовал, но прозвище помню – Пупырем кличут. Пупырь да Пупырь, с самого детства…
Ему осенью жениться пора. Хотел напомнить – дескать, невеста дома ждет, Ульгара-пряха, и неча, мол, шастать куда не следует – и не напомнил. Не сложилось как-то…
Ох, чую, не то еще грядет!
Меняется что-то. И вряд ли к лучшему.
Надо бы мне за ними пойти… Надо. А то как бы совсем вся Страница кляксами не пошла. Отвечать-то кому? Мне отвечать. Недоглядел, проворонил…
Она мне этого не простит.
Ох, не простит…
Глава одиннадцатая Неприкаянный Бредун с той стороны
Молча стою, окружен белым свеченьем времен. Ф.-Г. ЛоркаЧто я скажу этой женщине по имени Инга, женщине, которая смотрит на меня сухими глазами в ожидании обещанного чуда?
И главное – чего я не скажу ей?!
Я скажу:
– Привет, как дела? Прекрасно выглядишь сегодня!.. Что? Ну конечно, все в полном порядке, не волнуйся! Наши почти что в городе, у самого Переплета, так что со дня на день…
И не скажу:
– Девочка, не заставляй меня лишний раз улыбаться и говорить веселые глупости. Мне это очень трудно, а ты замкнулась в своем горе, как в склепе, и я не знаю иного пути впустить в тебя хоть искру нового дня, хоть глоток свежего воздуха. Поэтому дай мне незаметно проскочить мимо, не выходи навстречу, не надо…
Я скажу ей:
– Да, Неприкаянные не соврали. Они стоят у Переплета, они обступили его, как дети – именинный пирог, или как родственники – гроб с телом усопшего (нет, про гроб я ей говорить не буду, хватит и пирога). И невидимые события за занавесом сизо-черного тумана бегут галопом, крупицы невозможного прорастают обильными всходами, и костры Неприкаянных денно и нощно горят вокруг кокона, куда мы не можем войти, да это, в общем-то, и не нужно…
И не скажу:
– …Костры Неприкаянных денно и нощно горят вокруг проклятого кокона, куда мы не можем войти, и это самое страшное. Мы привыкли быть в центре событий, мы привыкли собственной персоной присутствовать в гуще кипящей каши – а сейчас мы в силах лишь ожидать на окраине, и даже не на окраине, а за ней! Мы ждем, и наше присутствие незримо влияет на мир внутри Переплета, но мы-то этого не видим! Мы не видим, не слышим, не знаем ничего, кроме скудных обрывков, случайно прорывающихся наружу… мы бездельничаем, бродим по лесу, напиваемся по вечерам, затеваем случайные романы!.. Мы – Неприкаянные, боги легенд, герои мифов, чудовища сказаний; мы только присутствуем за пределами Переплета Книги, как если бы мы умерли, что невозможно. Мы только присутствуем – а действуете вы, и ты, Инга, и другие!.. а мы скоро можем и не выдержать этого присутствия, пусть и жизненно важного…
Я скажу ей:
– Готовься, женщина – уже скоро. День, от силы два – и мы подойдем к той черте, когда что-то произойдет, что-то обязательно произойдет, хорошее или плохое, но оно будет – и ожидание закончится. Готовься, копи боль и силу, спи с ножом на груди – скоро тебе выходить на сцену…
И не скажу:
– Скоро тебе выходить на сцену – но только одной, без меня, без Иоганны, без никого. Ты знаешь, я завидую тебе! Я ведь сам привык или писать книги бытия, или читать их, то замирая подолгу над выбранной страницей, то пролистывая в небрежении и спешке… а тут, в лучшем случае, листаю страницы для кого-то. Для тебя, например. Ты уйдешь туда, за Переплет, уйдешь живой, потому что я смогу сделать это для тебя (и не только для тебя) – но Безликое Дитя правильно выгнало тебя из избы на совете Неприкаянных. Негоже наживке слышать, что она – наживка; а это так и есть. Ты не выдержишь там, за Переплетом, и суток – но ты будешь именно тем камешком, который рождает лавину. И я, оставшийся здесь, скажу про тебя и про себя – «мы», потому что ты не была Неприкаянной, но ты станешь ею. Ты станешь возможностью невозможного…
И я скажу тебе:
– Завтра, Инга… завтра днем.
Глава двенадцатая Бакс, который Дух Святой
Открою ли окна, вгляжусь в очертанья — и лезвие бриза скользнет по гортани. Ф.-Г. Лорка…Ну вот. Послезавтра нам в Ларь уходить, а тут, как нарочно, эти приперлись. С Выселок. И пива притащили. Прознали откуда-то, что я пиво люблю.
Талька – тот сразу к ним. Я просто диву дался – считай, всего неделю назад они к нам с дубьем приходили, а теперь – лепшие кореша. Хотя это для меня всего неделя прошла, а для них всех…
Черт их принес! Пиво пивом, да не лежит у меня сейчас душа к застольям. Всего ничего, как мы Черчековых парней и Боди похоронили… Но, с другой стороны, гости-то эти ни при чем. Небось и не знают о наших битвах. Ну и не надо им знать.
Ладно, думаю, посидим, Черчековых ребят помянем, земля им пухом… я потом Болботуну с Падлюком в подвал пива снесу, пусть разговеются…
А Талька – рот до ушей.
– Пупырь! – кричит. – Привет, Пупырь! Тут к нам дядя Бакс из командировки вернулся! Помнишь, я тебе еще про него много рассказывал?
Пацан – что с него возьмешь? Хоть и маг он теперь, или как это у них (вру – у нас) называется…
Колдун.
Колдун Талька. Разгонятель туч.
Тут подходит ко мне этот самый Пупырь.
– Здрасьте, – говорит, – дядя Бакс. Удачи вам на жизненном пути.
Во-во, думаю. И счастья в личной жизни.
Остальные чуть поодаль стоят. То ли боятся, то ли стесняются. Интересно, что им Талька про меня наплести успел? И какой я этому Пупырю дядя?!
– Здорово, – отвечаю, – племянничек. Человек человеку – друг, товарищ и Пупырь. В гости зашел?
– В гости, – улыбается.
А мне не до улыбок сейчас. Как вспомню серпы эти проклятущие…
– Ладно, – киваю, – садитесь, раз пришли. В ногах правды нет.
Подошли. Сели. Молчат. А садятся-то, господи! – все рядком и все одинаково. Чисто гимназистки. Как тогда, в кабаке. Один Пупырь на меня скосился, подумал-подумал – и сел чуть по-другому. Ага, понимаю, видать, не в первый раз сюда ходит. Кой-чего поднабрался.
Сидят, значит. Молчат. Я получше пригляделся – смотрю, Пупырь хоть и улыбается, а сам смурной какой-то. Словно точит его изнутри.
Молчим.
– А у меня друг пропал, – Пупырь говорит, – Юхрим-печник. И бондарь наш, отец Валонги, тоже пропал. И кабатчик. Да еще двое, уже с Ближних Выселок. Люди говорят – их Боди забрали. А может быть, и не Боди. Вы их случаем не видели?
И в глаза мне заглядывает.
Вот оно что, оказывается… то же, что и у нас, – только с другой стороны.
– Нет, – отвечаю, – не видели.
А сам глаза отвожу. Тошно мне стало – дальше некуда. Выходит, и сами они здесь не знают, кто из них – Равнодушный, а кто…
Молчим. Ветерок над головами шебаршит.
– Ладно, – говорю, – мужики, чего зря зады просиживать… Давайте выпьем. Только пиво мне ваше сейчас не пойдет. Мне чего покрепче надо. Вы тут располагайтесь, а я сейчас…
И пошел к Черчеку за самогоном.
Принес.
– Кто, – спрашиваю, – со мной первача тяпнет?
Эх, чуть не ляпнул – за упокой!
Мнутся. То ли не положено им, то ли я не так предлагать должен.
– Вот, – исправляюсь я, – Люди Знака, самогон, на Переплете настоянный. Про него в любой Книге непременно записано. На первой странице большими буквами. Ну-с, кто желает по стаканчику во имя и прочее?
Молчат. Вот ведь чертова Книга, до чего людей довела!
Потом один из них меня за рукав тянет и несмело так спрашивает:
– А ты на себя возьмешь?
А, ясно! Мне про этот фокус Талька уже все уши прожужжал.
– Беру, – киваю, – а как же! Ясное дело! Я, мужики, этого добра на себя столько беру, что вам и втроем не снести. Не бойтесь! Все беру! Поехали?
Пупырь и тот парень, что спрашивал, зашевелились, кружки тянут – а остальные не созрели еще, побаиваются. Пива себе подливают.
Выпили мы. Молча. И еще раз.
Вроде полегчало немного. На разговоры потянуло.
– Ну, – спрашиваю, – как живете? Все по-написанному? Да еще и не вами читанному? Все, как положено: ни стопки лишней выпить, ни слова случайного сказать, от забора до обеда, да еще небось и строем ходите?
– Нет, – Пупырь отвечает, и серьезно так, – строем не ходим. Разве что на косьбе или на Обряде Чистописания. А так ты прав. Вот мне на Ульгаре жениться записано – а я на Валонге хочу. И пива, опять же, в неурочное время иногда хочется. Да мало ли чего хочется?! Ведь не в пиве же дело… Страничник наш, Белый Свидольф, к примеру, уже в печенках у меня сидит, так иногда тянет ему по загривку съездить – мочи нет! А Словнику Прусу я на днях таки съездил…
– Э-э, – усмехаюсь, – друг Пупырь, а ты, я смотрю, в душе сявка!
– Какая-такая сявка? – не понял Пупырь. – Это плохо или хорошо?
– Да как тебе сказать… Не очень хорошо, в общем. Это когда захотелось человеку – он выпил, захотелось – в морду кому дал или еще чего в этом роде…
– Ага, понял! – расплылся в улыбке Пупырь. – Как ты!
Я чуть самогоном не поперхнулся. А потом мозгами пораскинул – так ведь правда! Пью? Пью. Морды им бил? Бил. Что хочу, то и творю.
Выходит – сявка. По моему же определению.
– Да, – подтверждаю, – как я. Вот и не бери с меня пример. Что хочу, то и творю – не лучший, знаешь ли, вариант. Вот хочу, а не творю – и не из-за Переплета, а из-за себя самого – это уже серьезнее. Вот тебе понравится, если я возьму и ни с того ни с сего тебе по шее дам?
– Нет, – прикидывает, – не понравится. Не давай мне по шее.
И отодвигается. На всякий случай.
– Да ты не бойся – это я так, для примера… Просто, даже когда все дозволено, человек сам понимать должен, что стоит делать, а чего – нет. Уразумел?
– Уразумел… – А я-то вижу, что черта лысого он уразумел. Ему высокие материи, да еще в моем первобытном изложении, как Книге уши!
– Голова, – поясняю, – человеку дадена, чтоб думать. Вот и думай. Хочешь жениться на своей Валонге – женись, только прикинь сперва – всем ли от этого хорошо будет?
– Не всем, – встрял Пупырь. – Страничнику Свидольфу плохо будет.
Подумал я.
– Ну и хрен с ним, со Свидольфом этим, – говорю. – Валонге хорошо будет?
– Хорошо, – тянет Пупырь неуверенно.
– А тебе?
– Хорошо, – это уже уверенней.
– Ну вот и женись.
Вижу – понимать начал.
– Ну а Белому Свидольфу по роже дать можно? – спрашивает.
Вот уж достали человека, так достали! Видать, Белый Свидольф моему новообращенному Пупырю и впрямь поперек глотки…
– Валяй, – милостиво разрешил я. – Разок можно. Ежели за дело.
Вот тут-то как раз и возникла меж нами незваная личность в белом одеянии с капюшоном.
Страничник.
Надо понимать, Его Преосвященство Белый Свидольф.
Собственной персоной.
Вовремя явился. Я даже как-то начал понимать Пупыря.
– Не могу я долее смотреть на это безобразие и непотребство, – заканючил Страничник у меня над ухом, – когда Люди Знака вместе с выползнями приблудными в неурочное время хмельное распивают да речи вредные держат. И посему властью, данной мне от Страницы Книги Судеб…
Я понял, что грядет беда. Следовало как можно скорее утихомирить этого хрыча-чистоплюя, а Талька, как на грех, куда-то запропал. А из меня колдун при огрызке Вилиссиного Дара, непонятно на что годного, да еще после двух кружек Черчекового первача…
Кто-то снова дернул меня за рукав.
– На себя берешь? – заговорщически шепнул подвыпивший Пупырь.
– Да беру, беру! – отмахнулся я, лихорадочно соображая, что делать.
И тут оказалось, что Пупырь, в отличие от меня, прекрасно знал, что надо делать.
Он подошел к Страничнику Свидольфу и со словами: «И ничего мне за это не будет!» – треснул того кулаком в лоб. Не очень умело, но весомо. Достаточно, чтобы наш достойный старичок сел на землю и умолк, растерянно и обиженно хлопая ресницами.
– Эй, Пупырь-богатырь! – крикнул я. – Кончай буянить! Отвел душу – и довольно! Тащи его теперь сюда, нальем деду мировую!..
Дважды повторять не пришлось. Все-таки вымуштровала их Книга отлично. Пупырь с готовностью схватил слабо упиравшегося Страничника за шиворот и без особого труда пододвинул ко мне. Остальные парни смотрели на это испуганно-распахнутыми глазами и явно были готовы удрать в любой момент.
Я взглянул на обалделого Свидольфа и налил ему самогону, пополам разбавив его пивом.
– На, выпей, святой отец, успокойся.
Он затравленно переводил взгляд с меня на Пупыря и обратно.
– Да ты не трясись, Белый, – Пупырь у нас мирный! Ну, дал тебе разок по лбу – так ты сам виноват, что довел человека. Пей, пей, это не отрава, это совсем наоборот…
И тут я вспомнил! Волшебное слово!
– Ты не беспокойся, пей – это дело я на себя беру! Понял? На себя! Все беру на себя! Пей, мать твою!
И Его Преосвященство Белый Страничник Свидольф выпил.
А потом – еще.
И еще.
И ничего страшного ни с кем не случилось.
* * *
– …А правду говорят, что вас тут трое – а на самом деле Один?
Я прикинул. Действительно, нас тут трое. А вот Дар у нас – один на троих. Как бутылка. Так что в чем-то прав Страничник.
– Правда.
Свидольф смотрел на меня круглыми, изрядно посоловевшими глазами.
– И что, вы действительно все на себя берете?
– Берем. Все берем. Хошь, прямо сейчас возьму? На спор?
Я тоже успел не раз приложиться к бутыли, и слова давались мне с некоторым трудом.
– И что теперь будет? Ведь сказано, что, когда придет Тот, Кто Берет На Себя, настанет конец Переплету… Как же мы после этого жить будем?
Свидольф жалостливо шмыгнул носом и мазнул рукавом по потному лицу.
– Как в сказке. Жить-поживать, добра наживать. Там, за Переплетом вашим долбаным, тоже люди живут. Я вот, например, жил… пока не помер. И ничего, получше вашего. Во всяком случае, веселее. Чего и вам желаю.
Белый Свидольф долго молчал, переваривая услышанное, а я тем временем тоже осмысливал то, что узнал от него.
Значит, Анджей теперь – Глава? Глава этой паскудной Книги?! Или Глава над Страничниками и прочими?..
Неужели продался?
После этой мысли у меня в голове неожиданно возник отчетливый образ Энджи – и я покраснел, словно схлопотал от него оплеуху.
Ладно, Энджи, ладно, я ж и сам в это не верю, ты не злись… дурак я, и все тут.
Нет, но каково получается – Один-Трое! Три в Одном, и Один на Троих! Един, понимаешь, в трех лицах…
Это, выходит, Анджей – Отец, Талька – Сын… а я?
Дух Святой?
Дожил, Баксик, докатился… говорила ж тебе мама – не водись с плохими мальчиками.
…К нам уже давно присоединились и Черчек, и Кунч, и переставшие опасливо жаться в сторонке ребята с Выселок.
Черч со Свидольфом вразнобой затянули какую-то полуразбойничью песню, то и дело перебивая друг друга, хлопая по плечу и восклицая:
– А ты помнишь?
– Нет, а ты помнишь?
– Помню!..
Потом Свидольф, как репей, прицепился к Пупырю, чтоб тот тоже спел с ними за компанию, клялся чуть ли не в дружбе до гроба (до которого Свидольфу было, надо полагать, рукой подать), обещал устроить Пупыриную свадьбу с Валонгой, полностью согласился с Пупырем, что «Улька – дура толстозадая, и пусть идет себе за Толстого Мяся и рожает ему Толстеньких Мясиков!»
Правда, петь Пупырь наотрез отказался и в конце концов признался:
– Голос у меня сильный – но гнусный! У комарей на лету носики отваливаются…
Тогда от него отстали, сочтя причину достаточно уважительной.
А вот Талька так и не объявился, и это начало меня не на шутку беспокоить. Веселье было в полном разгаре, так что моего ухода никто и не заметил.
Я нашел его в сарае, на куче сена. Пацан метался, словно в бреду, глаза его страшно закатились, губы посинели, руки судорожно дергались, и изо рта время от времени вылетали какие-то невнятные выкрики…
Хмель как молотом вышибло у меня из головы.
– Чек, Вила, идите сюда! Тальке плохо! Да скорее же!..
Послышался топот ног.
Примчались все. Вила тут же захлопотала возле Тальки, Черчек побежал за своими припарками, в дверях толпились испуганные и притихшие ребята с Выселок, а сквозь их заслон все пытался прорваться спотыкающийся Свидольф.
– Пустите, пустите меня! – чуть не плакал он. – Я помогу, я лечить умею, у меня сила есть, Ее сила, но все равно… да разойдитесь же, чтоб вас всех добром завалило!..
А потом Талька открыл глаза и посмотрел на меня совершенно осмысленно.
– Дядя Бакс, – прошептал он, – нам в Ларь идти надо. Там… Дядя Бакс, Вила, – дайте мне руки, я вам покажу! Там – мама…
Глава тринадцатая Торговец Чумба, Хозяин Слова
Грустным языком оближет мира старого корова на песке арены лужу пролитой горячей крови. Ф.-Г. Лорка…Было то вечером. Сидел я при свече и думал. Да не о товаре или там о барыше – о Нем думал. О Том… о ком давеча пришлый охотник рассказывал, а глаза у охотника… давно я таких глаз не видел.
Ночь уже спустилась. Редко где окна светились подслеповато, а фонари – и подавно. Дома мрачные стояли, серые – как надгробия. И тоскливо мне вдруг сделалось.
Вот тут-то я шаги и услышал. Двое шли. Странно как-то шли – по топоту слыхать. Не топочут так ночью. Пригасил я свечку, в окно выглянул – и точно. Идут двое. С топорами на плечах. И вроде как неживые – ноги плохо гнутся, руки на топорищах закаменели, головы не повернут…
Догадался я. Боди это. Саттвы которые. Равнодушные. Меня аж мороз по коже продрал – не за мной ли?
Нет, смотрю, мимо протопали. Пронесла нелегкая!
А Боди прямиком к дому Зольда Рыжеглазого направляются, что напротив моего стоит.
Вот тогда-то у меня поджилки и затряслись.
Ведь это Зольд охотника того нашел, что нам про Него рассказывал! Дождались, значит. Отозвался Переплет. Пришли Равнодушные за Зольдом. А там, глядишь, и мой черед настанет…
Дверь у Зольда заперта была – так те двое даже стучать не стали. В три удара топорами дверь разнесли и в дом вошли. Ну, все, думаю, был Зольд Рыжеглазый, старшина купеческий, Господин Торговой Фразы, – и нет его. Как и не было.
Однако же вскорости – выходят. Втроем. Боди по бокам, Зольд – в середке. Руки у Рыжеглазого вроде как за спиной скручены, хоть в темноте-то не шибко разберешь.
Ясно, куда ведут.
К Ней.
В Ларь увезут. Куда ж еще…
И тут словно сорвалось что-то во мне – от страха, наверное. Не помню даже, как в подвал сбежал, как в углу дальнем, за бочками, землю руками рыл, меч прадедовский доставал – старый, ржавый, но острый еще. Хороший меч. Хоть и не смыслю я в этом ни бельмеса, но душой почувствовал – добрый меч.
В ладонь как влитой лег.
Обтер я его кое-как, повертел – и на улицу вышел. Да дворами, дворами… Сердце о ребра колотится, чуть наружу не выскакивает – страшно. Даже не столько Боди – и они как-никак люди, хоть и бывшие, – а ведь после такого Поступка Переплет живым не отпустит. Встанет судьба за спиной, ухмыльнется…
Боюсь – а иду. Только и успел сказать вполголоса, к Нему обращаясь, к Тому, Который:
– Если можешь, если есть Ты на свете – возьми на себя, услышь Чумбу-дурака, что в Тебя не вовремя уверовал…
И тут гляжу – еще кто-то вдоль домов крадется. А за ним – новая тень. Пригляделся – одного узнал. Первого. Сосед то мой, тоже у Зольда Рыжеглазого в памятный день охотника слушал. И шкворень в руке у соседа увесистый.
Ну, думаю, вместе и дохнуть веселее. И впрямь мне что-то весело стало, даже насвистывать про себя стал. Со страху, видать…
Мы встретили их на окраине и встали поперек улицы. Девять нас было…
Глава четырнадцатая Талька, Сын
Смотрят дети, дети смотрят вдаль. Ф.-Г. ЛоркаСперва я все вертелся возле Бакса и ребят с Выселок; даже пива немного отхлебнул – и никто меня не гнал. Только пиво мне не понравилось. Горькое.
А потом у меня то ли от пива, то ли еще от чего-то живот разболелся, и я пошел на сеновал – прилечь.
Прилег. И тут у меня перед глазами все поплыло, туман какой-то нахлынул, голова кружится… после людей вижу.
Толпу. И вкопанный в землю столб, обложенный вязанками хвороста, а у столба…
Я чуть не закричал. Или даже закричал – только меня все равно никто не услышал. Я уже видел это раньше, в своей прошлой жизни, с папой и Баксом – там, у хутора, где все еще было в самом начале, и можно было уехать домой на поезде, – но теперь не было опушки леса, а за столбом возвышался массивный куб без окон…
И я догадался, что это – Книжный Ларь.
Нет, не догадался. Я это знал.
И народу вокруг собралось на этот раз очень-очень много. Вплотную к столбу стояли белые балахоны – Страничники.
А у столба…
У столба стояла МАМА!
– Мама!!! – завопил я что было сил, но она меня тоже не слышала.
Никто меня не слышал.
Словно и не было меня вовсе.
Я убеждал себя, что это просто сон, или бред, или глупое видение, – но это не был просто сон, и от этого мне стало еще страшнее.
Толпа молчала.
Потом открылась дверь Ларя, и оттуда вышел человек в белом одеянии, прошитом серебряными нитями.
– Глава! – пронеслось по собравшимся.
Один из Страничников услужливо подал Главе незажженный факел; человек в бело-серебряной одежде тронул его, и факел зажегся сам по себе, а Глава медленно двинулся к столбу, у которого застыла мама.
Подойдя, он обернулся, и я сумел разглядеть его лицо.
– Папа? – прошептал я. – Папа, что ты делаешь? Это же мама!
Мой крик заметался между белыми людьми, разрушая видение… нет, не крик – шепот… тишина…
…А потом все исчезло, и я увидел над собой встревоженное лицо Бакса.
– Дядя Бакс… – выговорил я. Слова давались мне с трудом. – Нам в Ларь идти надо. Там…
Кругом стояли люди. Черч, Вила, Пупырь… Свидольф-Страничник…
Я видел, что они не понимают.
– Дядя Бакс, Вила, – дайте мне руки, я вам покажу! Там – мама…
Глава пятнадцатая Зверь-Книга
Книга – жизнь, по которой мы проходим с тоскою, надеясь, что кормчий без руля проведет наш корабль.
Ф.-Г. ЛоркаЧто, финала небось ждете? Развязки? Не врите, по глазам видно – ждете… Как удавы – добычу. Вон у вас глаза какие – нетерпеливые. И обманчиво-сонные, словно и не вы это вовсе, и не ждете, и вообще здесь совершенно ни при чем. Это все потому, что вы не звери и тем более не книги; люди вы, и этим все сказано, и хорошее, и разное…
Люди вы. Вот и листаете страницу за страницей, даже не задумываясь о том, что сама книга отнюдь не жаждет завершиться; что для нее иной финал – хуже смерти, потому что за ним – пустота, скука и больше ничего.
Люди вы. Вот и живете завтрашним днем, в отличие от зверя, для которого есть лишь вечное «сейчас», а все это ваше «завтра» или «послезавтра», равно как и ваши книги, – штука несъедобная и бесполезная, а то и несуществующая.
Люди вы, а не книги; впрочем, не всегда…
Ведь сказал же кто-то из ваших великих:
– Не верьте словам и знакам…
Может, это Я сказала, а он украл?
Эх, вы…
* * *
…Через мгновение Книжный Ларь сотрясся до основания от неистового рева. Потому что на белых простынях Обряда Чистописания, среди Знаков, в экстазе образующих Слова и Фразы, возник совершенно посторонний человек.
Не Человек Знака.
Просто человек.
Как с неба свалился.
И клочья Переплетного тумана метались в воздухе.
А боль Книги, на прообразе страницы которой в самый священный момент объявился новый, лишний – лишний! – Знак; да нет же, не Знак – Человек, клякса нелепая!.. Боль эта и выплеснулась диким ревом зверя, сунувшего лапу в костер.
Худенькая женщина испуганно озиралась по сторонам, инстинктивно прижимая к груди удлиненный сверток, висевший у нее на шее и похожий на стручок неведомого дерева; женщина стояла и словно не замечала, не понимала – где она, что она, зачем она?!
А вокруг уже задвигались, засуетились потрясенные святотатством Страничники, Господа Фразы, Хозяева Слова, Люди Знака…
Сага о мече, которого нет
– Над башней пляшут языки огня, Пора расстаться с праздничным нарядом. – Пожалуйста, не забывай меня: Мы в день последней битвы встанем рядом. Э.-Р. Транк1
Если бы Ингу спросили – как это все произошло? – она бы мало что смогла ответить, кроме: «Пришел Бредун, взял меня за руку и повел». Пришел, взял и повел. И все. Когда ожидание сменяется действием, мы зачастую все еще ждем и не успеваем сразу понять, что ждать-то, в сущности, уже нечего. Если бы Ингу спросили… Но ее никто не спрашивал. И дело обстояло действительно так.
Пришел Бредун – непривычно серьезный и сосредоточенный, – молча взял Ингу за руку, мельком глянул, при ней ли нож, и повел ее прочь от хутора. Наверное, он вел ее короткой дорогой, если можно предположить, что у этого Бредуна были короткие дороги, – и Инга не успела оглянуться…
Вернее, она успела оглянуться. Только это ни к чему не привело. Вкрадчиво зашелестела сухая осока, плеснула рыба в свинцово-замершей реке, и белесые пряди Переплета обвили чахлые сосны поблизости, переползли через спящую воду и зазмеились по дальнему берегу, пересекая чужой мир, отгораживая добычу, попавшую в туманную паутину.
Они уже пришли. Инга узнала бы это место с завязанными глазами.
Неподалеку, у самого края Переплета, горел костер. Он немилосердно дымил и вообще напоминал не костер, а угасающее кострище; тлеющие угли, подернутые серым пеплом и золой, и изредка вспыхивающие языки пламени.
У костра валялся уже знакомый Инге франт Момушка. Он был по-прежнему неестественно чист и аккуратен, только сменил пижонский галстук на крохотную черную бабочку. Дальше горел еще один костер, и еще, и у каждого костра кто-то сидел, а от одного из них Инге даже помахали рукой, но она не разобрала – кто именно.
Инге почему-то очень хотелось, чтобы это был азиат-оборванец, которого звали Марцеллом.
Момушка приподнялся на локте и расплылся в ехидной ухмылке.
– Что, Сарт, билет в один конец выписывать явился? – засмеялся он. – Давай, давай, доброе дело карман не тянет…
Обращался он явно к Бредуну, игнорируя Ингу, и ответа, похоже, не ожидал.
Инге Момушкино веселье показалось несколько натужным, а Бредун – тот просто озлился до чрезвычайности.
– Заткнись, ублюдок! – зарычал он (Инга ни разу не слышала от Бредуна подобных выражений и даже вздрогнула с непривычки) и добавил несколько слов на неизвестном Инге шипящем языке, отчего Момушка тоже словно подернулся пеплом, вроде его костра, и взялся за свою бабочку, ослабляя ворот.
– Извини, Сарт, – буркнул Мом куда-то в сторону. – Сам понимаешь, нервы у всех на пределе. Ты на меня внимания не обращай, я отвернусь…
Инга почувствовала, как пальцы Бредуна, до того крепко сжимавшие ее предплечье, разжимаются – и порыв холодного пронизывающего ветра взъерошил ей волосы на затылке.
Инга обернулась.
Позади нее стоял Бредун – каким она один раз видела его на совете Неприкаянных. Ветер надувал тяжелым парусом его бархатную накидку, у бедра на кожаном ремне висел узкий клинок с золоченым эфесом; а вот лицо Бредуна оставалось прежним – напряженным и немного виноватым.
Или даже много виноватым.
Бредун посмотрел на свои руки, потом – на Ингу; потом он развел руками, словно прощенья просил, – и Инга почувствовала, что ее уже здесь нет, а там – еще нет, только она не знала, где это – «там», и больно ли это…
* * *
…Она летела теннисным мячиком, посланным пружинистой силой белесых нитей Переплета; она беззвучно кричала и сама не понимала, что кричит; с ней однажды было нечто подобное, еще до Анджея, когда Инга выпила лишний коктейль на студенческой вечеринке, непривычно горький и крепкий, и…
…она висела густой каплей чернил на кончике пера, боясь сорваться в хохочущую пропасть, а перо опускалось все ниже и ниже; и пальцы, сжимавшие это Вечное Перо, дрожали все больше и больше, словно Тому, Кто Пишет, было очень страшно; и когда Инга все-таки сорвалась…
…она рухнула, расплескавшись черной кляксой по густо исписанной странице, и та обуглилась под пылающей Ингой-кляксой, а перепуганные Знаки бросились врассыпную, нарушая свой извечный порядок… Слова смешались, Фразы перепутались, а опьянение все не проходило, жизнь была мутной и горькой; и Инга поняла, что стоит на чем-то белом, и ее крепко держат за руки…
…она стояла…
2
– Выползень роду женского, подло нарушивший Обряд Чистописания и осквернивший белизну Предвечной Страницы своей грязной тенью; святотатство, кое во веки не свершалось…
Инга стояла у столба, плотно прижимаясь к нему спиной и чувствуя лопатками гладкую поверхность. Очень болела голова; Ингу подташнивало, и столб казался единственной опорой, оторваться от которой означало – упасть и умереть. Окружающая действительность словно потеряла резкость, а воздух напоминал анисовую настойку после того, как в нее добавят воды.
Слабый гул… море? Нет, толпа. Безликое гудящее месиво глядело на Ингу сотнями глаз, и эти взгляды множества людей ползали по ней сотнями нахальных муравьев. Что они делают с ней? Что они сделают с ней? Не все ли равно?..
Инге было все равно.
– …И по Канону Чистописания да примет дерзкий выползень участие в обряде, но последнем в жизни своей – Обряде Сожженной Страницы…
Сейчас она умрет. Она не может здесь жить. Кажется, ее хотят сжечь… Ну и пусть. Она умрет и встретит Энджи, и Талю… и Бакса. Конечно, обязательно, и Бакса тоже…
Гул усилился, странным образом разделяясь надвое. Сквозь пелену, застилавшую глаза, Инга с трудом разглядела, как толпа нехотя расступается… как шарахаются в стороны белые балахоны, суматошно всплескивая рукавами… как медленно приближаются… совсем рядом…
Мир на мгновение стал резок и отчетлив.
– Баксик, – прошептала Инга, устало щуря слезящиеся глаза, – я уже умерла, да? Брось эти железки, брось, ты порежешься… Таля, не подходи ко мне, этот столб липкий, я приклеилась… я, наверное, больная, еще заразишься… Таля, а где папа? Анджей с вами?..
Бакс по-волчьи оглянулся на притихшую толпу и встал рядом с Ингой, обвисшей на невидимых веревках, а вокруг уже выстраивались, окружая столб непрочным живым кольцом, – белый до синевы Щенок Кунч, угрюмый Черчек с топором, задвигающий себе за спину сопротивляющегося Тальку, однорукая Вилисса, насупленный Пупырь и дрожащие не то от страха, не то от возбуждения парни с Дальних Выселок…
Возле Пупыря обнаружилась довольно своеобразная компания – сутулый Страничник Свидольф, по локоть закатавший рукава своего балахона и откинувший капюшон, так что его обширная плешь устрашающе сверкала на солнце; а у ног Страничника подпрыгивали два крохотных лохматых человечка, и тот, что был покрупнее, грозно размахивал ржавым кухонным ножом.
Лишенные Лица, гроза Черчековых подвалов, Болботун и Падлюк; Свидольф всю дорогу нес их в подоле своей просторной одежды, никому не доверяя эту важную миссию.
– Эй, Свидольф, – донеслось от кучки Страничников, напоминавшей шевелящийся сугроб, – ты не там стоишь! Ты слышишь или нет?
– Там, – глухо буркнул Свидольф, – там я стою. Где надо, там и стою…
И добавил сгоряча нечто такое, отчего толпа удивленно загалдела, а Бакс лишь зло расхохотался.
Страничники переглянулись.
– Бей их! – неуверенно выкрикнул один из них, самый молодой и потому чрезмерно горячий. – Во имя Переплета!..
Толпа зашевелилась, топчась на месте.
– Ну?! – уже более властно приказал ретивый Страничник. – Бей выползней!
Из толпы вышел человек. Человек с висящим через плечо колчаном стрел и ненатянутым луком в руках. Он неторопливо приблизился к столбу и остановился перед Баксом, заступившим ему дорогу.
– Ах я… – сказал человек.
– Что – ах ты? – оторопело спросил Бакс, крепче сжимая рукоятки серпов.
– Ничего, – ответил человек. – Зовут меня так – Ах. А больше ничего.
И развернулся к толпе, неуловимым движением натягивая лук и накладывая стрелу на тетиву.
Толпа попятилась, топча простыни Обряда Чистописания.
– Папа! – взвился в воздух пронзительный девичий крик. – Папа, подожди, я с тобой!..
Добрая дюжина подростков, расталкивая Людей Знака, выскочила вперед, а бегущая первой девчонка на ходу кинула камнем в Страничников и замерла на безопасном расстоянии от лучника – которого, похоже, побаивалась больше прочих.
– Вернемся домой, – хмуро пообещал ей отец, – по заднице получишь…
– Вот вернемся – тогда и посмотрим, – вздернула нос девчонка и подмигнула зардевшемуся Тальке.
Ах проворчал что-то себе в бороду – и вдруг вскинул лук, целясь в идущих навстречу людей, одетых в грязные и порванные городские платья.
– Не глупи, охотник! – весело крикнул тот из новоприбывших, чья забинтованная рука болталась на самодельной перевязи. – Испортишь шкуру, чем торговать станешь? Имей в виду, я у тебя свою дырявую шкуру не куплю!
– Зольд? – не опуская лука, спросил охотник. – Рыжеглазый, ты?
– Я, я, – широко ухмыльнулся дылда Рыжеглазый, подходя с товарищами поближе. – Спасибо вот Чумбе да им – отбили у Боди, чтоб тех… ну как, вовремя мы?
Бакс оглядел свою увеличившуюся армию и принялся насвистывать какой-то залихватский мотивчик, почесывая затылок кончиком правого серпа.
– Что ж вы делаете-то, Люди Знака? – с детской обидой выкрикнул Страничник помоложе. – Вам же их бить велено, а вы тут разговоры разговариваете, да стрелой еще в меня целитесь и камнем бросаетесь! Ну вы-то, – обратился он к толпе, – вы-то хоть будете их бить?
– Кого? – осведомились в толпе.
– Как кого? Выползней!..
– Каких выползней?
– Вы что, Люди Знака, счастья-пересчастья и вам, и вашей матери, – ослепли?! Вот этих выползней!
– А там и не все выползни, – задумчиво отметили в толпе. – Очень даже и не все. Вон и Страничник один имеется… И вовсе нельзя нам их бить, особенно смертным боем, по Закону Переплета. Опять же и выползней недавно уважали, а теперь не замечать велено. Вот мы и не замечаем… в упор.
– Козлы! – взвыл дурным голосом потерявший терпение Страничник. – Балбесы недописанные!..
– Ругается, – обиженно сообщили в толпе. – Страничник, а ругается, как выползень… козлами да балбесами зовет. Вот ему Переплет за это и наподдаст. Кричит «бейте их!», на Поступок толкает, а сам стоит и на себя брать не хочет. Хи-итрый… Ну что, Люди Знака, бить или не бить?
– Я, я беру на себя! – встрял в разговор оживившийся Талька. – Вы нас не бейте, а я все беру на себя! Ну как, годится?
– Ишь ты, – не поддался на провокацию упрямый глас народа. – Годится… Это годится, когда под боком молодица, а тут как-никак Поступок… обмозговать сперва надо. И бить, выходит, Поступок, и не бить – Поступок… куда ни кинь, всюду клин. Эй, Белые Братья – Страничники, скажите заветное слово – пусть их всех ураганом раскидает, а мы пока посмотрим, а там и решать станем…
– Я им скажу! – заорал обнаглевший Талька. – Я им сейчас такое слово заветное скажу – век помнить будут! Ясно? Плесень бледная!
И уже тише, Вилиссе:
– Вила, тут у них столб заговоренный… Я хотел маму от него отлепить, да боюсь отвлечься. Вдруг эти поганки не побоятся, так ты в случае чего за мамой следи! Мне подсказывать не надо, я уже не маленький!..
– Да вижу, что большой, – улыбнулась краешком губ Вилисса и взглядом словно погладила мальчишку по голове.
Люди, стоявшие по краям толпы, начали взбираться повыше на склоны – оттуда было лучше видно. Молодой Страничник, чуть не плача, следил за ними. Возможное побоище неуклонно превращалось в зрелище. И вдобавок не то, что предполагалось вначале.
– Эх вы, – шептал он севшим голосом, – что ж вы так-то… Их же мало совсем, горстка на ладони, дунь – и пылью разлетятся!
– Их-то горстка, – степенно заявил Страничник постарше, горбатый и оттого изогнутый вопросительным знаком, – да только им Поступок совершить, как тебе утереться… Дунь на них – может, и разлетятся, только дуть у нас никто не обучен. А ты, Белый Брат, стой и не вякай лишнего – сам небось знаешь, как ихний малец разок Свидольфа переговорил… а Свидольф тебя раза в три покруче будет… вернее, был.
– Эй, вы! – перебил его наставления вопль Бакса. – Да-да, вы, Беленькие! Кончай шептаться и командуйте, чтоб дорогу нам дали! А не то перебью всех, а остальных Талька заколдует! Ну, кому сказано?!
– Кого – остальных? – спросил Талька. – Ты же сказал, что всех перебьешь.
– Их бить, – вполголоса отозвался Бакс, – что детей малых… Нельзя их просто так бить, Таля, гнусно это…
Договорить ему не дали. Хлопнула дверь в Книжном Ларе, подтаявший людской айсберг колыхнулся, вновь смерзаясь от страха и любопытства в единый монолит – впрочем, по-прежнему разрезанный надвое, – и по этому нетронутому проходу к столбу двинулся человек в широком складчатом одеянии.
Белом с серебром.
– Глава! – завизжал от восторга молодой Страничник. – Глава!..
– А-а-а-а… – эхом отдалось в толпе.
– Глава! – нестройно подхватили остальные Страничники. – Наконец-то! Держись, выползни да отступники, – Глава вам сейчас покажет!
Сверкающее одеяние искрилось на солнце, и люди у столба невольно жмурились.
– Покажи, Энджи, – шептал Бакс, не двигаясь с места и неотрывно следя за приближающимся Главой, – покажи… что ж ты нам покажешь? Покажи нам что-нибудь, милый Энджи, голубь господень, а мы посмотрим… Энджи, Энджи, друг ситный, Глава Книжкина…
И лицо Бакса плавилось странной смесью надежды, и недоверия, и жестокой любви.
Глава был уже в дюжине шагов от столба, когда лучник двинулся на перехват, почему-то не поднимая лука. Так они и замерли: суровый охотник, чьи руки неподъемной тяжестью оттягивала стрела с раздвоенным жалом, и ослепительно холодный Глава, словно зимний день в самый разгар лета.
– Ну что, Ах-охотник, – голос Главы был надменен и спокоен, – на пути моем встал?
– Встал, – глухо отозвался Ах после долгой паузы. – И теперь я на Пути Твоем стою, а ты, Глава, поперек него идешь.
– Так…
Глава повертел в узких пальцах тросточку с замысловатой резьбой, не обращая внимания на столб с Ингой, на звенящего от напряженного ожидания Бакса, на Тальку с подозрительно блестящими глазами…
– Так… Не успеет, так сказать, пропеть петух, как трижды отречешься от меня. Что, и стрелять в меня станешь, Ах-пророк? Имей в виду, я твою стрелу на себя не возьму. В себя взять – еще ладно, а на себя – дудки!
– Стану. – Слово это далось охотнику с трудом, но наконечник стрелы медленно пополз вверх и остановился на уровне груди Главы. – Еще шаг – и стану. А потом на нож упаду…
Истошный визг разорвал тишину – и Лишенный Лица запечник Болботун взбесившейся мышью кинулся к охотнику. С разгону он промахнулся, врезался всем телом в ногу Главы, на мгновение обхватил эту ногу, ткнулся лбом в голень, бормоча какие-то свои непонятные слова, – и снова бросился к опешившему Аху, норовя зубами вцепиться тому в щиколотку.
Ах испуганно отскочил, стараясь не наступить на разгневанную бестию, но через секунду ему пришлось уворачиваться от ржавого ножа подвальника Падлюка, ринувшегося на защиту друга, – и вдруг все остановились, тяжело дыша и ошарашенно глядя на Главу.
Глава хохотал. Он хрюкал, приседал в изнеможении, хватаясь за живот и клокоча горлом; слезы текли по его лицу, смывая личину Главы, презрительно-величественный грим, и это покрасневшее, смеющееся лицо было так хорошо знакомо Баксу, что тот сначала сдержанно булькнул, а потом не удержался и зашелся тем же громоподобным и неудержимым смехом.
– Бакся… – стонал Анджей, задыхаясь и повизгивая. – Баксик, родной, это ведь священная война! Это джихад, Баксик, это газават, крестовый поход верного апостола Болботуна против трижды еретика и отступника Аха!.. А этот, этот… Падлюк Львиное Сердце… Ой, умру сейчас без перерождения!.. Да чего ж вы ржете-то, олухи, я ж сдохну, на рожи ваши глядя…
Страничники оторопело смотрели на живое оцепление столба, содрогающееся в пароксизмах дикого хохота, – даже обиженный и ничего не понимающий Ах начал неуверенно улыбаться, – и вскоре до них постепенно стало доходить, что ситуация развивается как-то не так.
Очень даже не так.
– Эй, Глава! – крикнул молодой Страничник. – Ты хворост жечь будешь или как?
– Сам жги, пожарник, – отмахнулся от назойливого Страничника Анджей. Он взмахнул своей тросточкой, которая мгновенно запылала почище иного факела, и швырнул ею в Белого Брата.
Тот неловко попробовал поймать горящую трость – и огонь неожиданно лизнул развевающийся край его рукава. Шуршащая ткань тут же вспыхнула, пламя перекинулось по плечу на капюшон…
– Горю, – очень тихо и очень серьезно сказал Страничник. – Ой, мамочки, в самом деле горю…
Он вдруг надсадно заверещал недорезанной свиньей, заметался на месте – испуганные Страничники бросились врассыпную, – потом промчался мимо остолбеневшего Анджея, налетел на Щенка Кунча, сбив того с ног, и сослепу вломился в хворост, окружавший столб с Ингой.
Сушняк немедленно занялся, выстреливая все новыми языками пламени, шарахнулись в сторону Черчек с Вилой, закрываясь от жара ладонями; в непонимающих глазах Анджея отразился черно-сизый дым, так похожий на туман Переплета, закричал Талька, гулом отозвалась толпа, взревел Книжный Ларь…
Что?!
…Если бы кто-нибудь потом спросил Бакса, на что это было похоже, Бакс ответил бы:
– На паровоз. С пьяным в стельку машинистом.
Если бы о том же спросили Черчека, старик сказал бы:
– Дракон это был… змей поганый.
И хмыкнул бы, топорща усы.
Но их, как и Ингу в свое время, никто не спрашивал. Тогда не до расспросов было, а позже – и подавно.
Словно смерч пронесся от Ларя к горящим вязанкам, сбивая по дороге людей, как кегли; хворост полетел в разные стороны, немилосердно дымя и чадя, затрещал и опасно накренился столб, не своим голосом заорал Зольд Рыжеглазый, сбитый с ног и резво ползущий подальше от…
В эпицентре учиненного разгрома, у поваленного столба стоял Зверь.
Тяжело вздымалась клиновидная грудная клетка, грозно топорщился теменной гребень, и узкий раздвоенный язык, напоминающий жало Аховой стрелы, нервно облизывал морщинистые губы.
Ингу Зверь держал, как франт держит плащ – небрежно перекинутой через одну лапу.
– Ну, ребята, – протянул Зверь, склонив морду к чешуйчатому плечу, – вы даете… Как дети, в самом деле, – ни на минуту самих нельзя оставить… А если б я не успел?
Одна из дымящихся вязанок зашевелилась, и из-под нее выбрался молодой Страничник.
Свежепогашенный.
И тихий-тихий.
Как копченая рыба.
3
…Они опускались все ниже и ниже, идя бесконечными подземными переходами Ларя. Первым вперевалочку ковылял Зверь. Плохо верилось, что именно эта неуклюжая туша, ростом лишь немного повыше высокого человека – что именно она совсем недавно живой торпедой мчалась через людское столпотворение; и трещал, не выдержав столкновения, заговоренный столб полтора локтя в диаметре…
За Зверем, глядя в чешуйчатый затылок, шел Анджей. На руках он нес обмякшую Ингу. Удивленно шелестело белое с серебром одеяние, словно примеряясь к новому, уверенно-тяжелому шагу бывшего Главы; Бакс, поначалу было предложивший свои услуги по переноске потерявшей сознание Инги, все поглядывал на совершенно прямую спину Анджея и лишь восхищенно качал головой. Да еще думал о чем-то своем.
На шаг отставая от Бакса, двигалась озабоченная Вилисса, непрестанно оглядываясь по сторонам. Что-то тревожило возродившуюся ведунью, чем-то тянуло от стен Ларя, от однообразия коридоров – тянуло прошлым, забытым и не то чтоб недобрым, а все-таки…
Левой, неповрежденной рукой Вилисса держалась за плечо Тальки. Мальчишка был насуплен и непривычно молчалив. Он не понимал, почему только они пошли за Зверем в Ларь, а остальные – Черчек с Кунчем, Пупырь, Свидольф, Лишенные Лица – почему они остались снаружи? Талька заходил в Книжный Ларь последним и, оглянувшись, успел заметить в лесу на склонах сизые языки знакомого тумана, за которыми угадывалась непроглядная темнота.
Будто Переплет смыкал кольцо и теснее обступал окрестности Ларя подобно змее, натягивающейся на добычу.
Потом двери захлопнулись перед Талькиным носом, и больше он ничего не видел, а просто шел по пустынному, словно вымершему Ларю.
И когда перед ними услужливо распахнулась дверь какой-то комнаты, процессия втянулась в нее чуть ли не с радостью. Комната – это была некоторая определенность, там в углу стояла приземистая кушетка, на которую Анджей бережно опустил Ингу и сам сел рядом; а посредине комнаты находился стол.
Накрытый умилительно по-семейному, на скорую руку: белая скатерочка в черный некрупный горошек, пузатые рюмки, тарелки, жареная рыбка, парочка несложных салатиков, картошечка с остывающим жарким…
Зверь встал во главе стола, со второй попытки ухватил своими нечеловеческими пальцами запотевшую бутылку и аккуратно наполнил шесть рюмок. «Тальке нельзя», – чуть не сказал Бакс, но передумал, а Анджей покосился на Бакса и невесело улыбнулся.
– Ну-с, – заявил Зверь, обводя немигающим взглядом всех собравшихся, – предлагаю выпить.
– За что? – перебил его неугомонный Бакс, привалившись к дверному косяку. – Или надо говорить – по какому поводу-с?
– Как – за что? – безмятежно удивился Зверь. – За упокой, разумеется.
– За чей упокой? – в голосе Бакса прозвучала недвусмысленная угроза. – Я понимаю мою назойливость, но уж позвольте полюбопытствовать…
– За мой, – спокойно ответил Зверь. – За мой упокой. Или вы не за этим сюда явились? Можно, конечно, и за ваш заодно, да только зачем все в один тост мешать…
И вылил прозрачную жидкость себе в пасть.
* * *
– Таля, – неожиданно сказал Анджей, – ты голодный небось… Возьми кусочек рыбы.
– Бери, бери, – великодушно подтвердил Зверь, – не бойся…
– А я и не боюсь, – Талька пожал плечами и не двинулся с места. – Просто есть не хочу.
– Вот! – Зверь назидательно поднял вверх когтистый палец. – Вот в этом вся загвоздка! Хочу – не хочу. Разные вы все. То хочу, того не хочу… и никогда не угадаешь, чего именно и в какой момент. Сплошная непредсказуемость. Оттого и Знаки из вас хреновые, прощения прошу за грубость.
Вилисса шагнула к Тальке и положила руку ему на плечо – будто снова шла по коридорам Ларя.
– Закройся, Таля, – бросила она вполголоса. – И помалкивай. Он же тебя прочитать хочет…
Зверь поставил пустую рюмку на стол и скорчил очень грустную физиономию.
Самое удивительное, что ему это удалось, при его-то морде.
– Зачем мне вас читать, люди вы человеки? Я ведь вами писать хотел – да не вышло… Вы что думаете – из-за вашей троицы у Зверь-Книги все дело прахом пошло? Так Переплет большой – вернее, был большой, – а вы на самую окраину попали! Полдня пути от хутора вашего дурацкого – и уже Переплет. А что в десяти днях пути от Ларя творится – знаете? А в месяце? А дальше? То-то… Вы ведь капля в море… надоедливая, но капля. Впрочем, капля камень точит. И в главном вы правы – пора, пора Зверь-Книгу заканчивать, а не то еще похлеще меня, змея нехорошего, что-нибудь напишется…
Зверь вздохнул и зачем-то подошел вплотную к Баксу.
– Ты-то хоть понимаешь, – спросил он, – что ничего у меня не вышло? Из-за вас или не из-за вас – но не вышло?!
– Понимаю, – настороженно ответил Бакс, стараясь не отодвинуться от зубастой пасти и не очень уясняя себе причины этой внезапной капитуляции.
– Ну и чего мне теперь, по-твоему, должно хотеться?
Бакс подумал.
– Повеситься, – заявил он. – На канате, потому что веревка тебя не выдержит.
Талька непроизвольно зажмурился. И зря.
– Верно, – кивнул Зверь, – догадливый ты, однако… Повеситься я, конечно, могу. Петля, крюк попрочнее, пару минут судорожного трепыханья – и Зверь сдохнет. Проще простого. А вот как быть с этим?
Зверь отступил назад и исчез. Вместо него в воздухе повисла Книга. Большая. В черном кожаном переплете. С медными застежками. Она с полминуты висела, игнорируя все законы притяжения, а потом вдруг ни с того ни с сего шлепнулась на пол.
И с пола опять встал Зверь.
– Зверь-то сдохнет, – повторил он. – А вот эта ипостась – дудки! Поймите, вы, Один-Трое, или как вас там, – Зверь есть, и поэтому его может не стать! Зверь есть, и веревка есть – и вот Зверя нет! Зверь есть, и меч есть – и вот меч есть, а Зверя опять же нет! Нет!..
Он уже почти кричал – нет, он уже почти рычал, и это было страшно, но страшно отчего-то не за себя, а за него.
За Зверь-Книгу.
А после уже – за себя.
– А Книги – нет! Не страниц, не чернил засохших, а Книги! Сгустка знания, отпечатка Бездны, оттиска душ, возможности невозможного – нет! Я ведь тоже Неприкаянный, только меня нет! И мне позарез нужны эти кретины Страничники, Глава, Люди Знака – хоть кто-то, хоть что-то, чтобы было! И тогда уже я не могу повеситься – веревка есть, а меня, Книги, – нет! Я не горю, не тону – вода есть, огонь есть, они реальны… а я – нет! Мне меч нужен, чтоб зарезаться, – только мне нужен Меч, Которого Нет!..
Зверь вдруг успокоился и вернулся к столу.
– Меч, Которого Нет, – он уселся на табурет и налил себе в рюмку из бутылки, – так вот, он теперь у меня есть. Меч, Которого Нет, и Рука, Которой Нет – слава богу, какому-то сумасшедшему богу, потому что я наконец умру. За упокой Зверь-Книги!
И он выплеснул содержимое рюмки на пол.
Все присутствующие непонимающе следили за его действиями.
– О чем это он? – спросил Талька у Вилиссы.
Та не ответила. Она смотрела на свою искалеченную правую руку; взгляд двигался от плеча к локтю – и дальше по воздуху, словно видя отсутствующую часть, от локтя до пальцев.
Словно видя руку, которой нет.
– О чем это он? – настойчиво переспросил Талька.
– Вот об этом, – донеслось с кушетки.
Но говорил не Анджей.
Говорила Инга.
По-видимому, она пришла в сознание отнюдь не только что. Просто этого никто не заметил. Дрожащими пальцами Инга пыталась снять с шеи какой-то предмет, но шнурок запутался в ее пышных волосах, и Инга все дергала его, силясь приподнять голову.
Анджей пересел поближе к Инге и помог ей снять странное украшение. Сдвинулись в сторону ножны, Анджей недоуменно уставился на открывшуюся ему вещь…
На ладони у Анджея лежал нож.
Обычный кухонный нож.
4
…На ладони у меня лежал нож.
Обычный кухонный нож.
Где-то сбоку истерически хихикнул Бакс. Это было так не похоже на него, что я вздрогнул и пристальней всмотрелся в нож, принесенный Ингой в Переплет.
Не знаю, может, я должен быть благодарен Зверь-Книге за то многое, что она открыла во мне самом, – но сейчас мне было не до благодарностей.
Нож был подобен Книге – я видел ЕЕ в редкие минуты отрешенности, я знал это состояние! – он отбрасывал в разные стороны множество отражений, и далеко, на самой окраине возможного, там, где оно становится невозможным, нож превращался в изогнутый, сияющий голубым светом меч.
Меч, Которого Нет.
А обтяжка его рукояти… Ошибиться я не мог. Теперь – не мог. Это была человеческая кожа. И я не поручился бы, что эта кожа была до конца мертвая.
– И ВСЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЭТОГО?.. – слабым голосом спросила Инга, обращаясь к Зверю.
– В основном – да, – тихо ответил Зверь. – Иначе… иначе Меч, Которого Нет, брат Танцующего с Молнией, никогда не сумел бы вернуться в Переплет.
– Танцующий с Молнией? – бросил от дверей Бакс. – Это еще кто?
– Это легенда, – ответила ему белая как мел Вилисса. – Это легенда даже для меня. Это искаженная память о том, что было, но чего сейчас нет.
Зверь ухмыльнулся.
– Вот и я так сказал ему, когда он пришел убивать меня во второй раз. В первый же раз – а это было еще при моем рождении, задолго до Переплета, – Танцующий с Молнией успел убедиться в бессилии реальных огня и стали. Через много лет, на пороге старости, он вновь явился ко мне, чудом пройдя через Переплет, и сказал: «Скоро я умру в последний раз». «Завидую, – ответил я, – ты есть, и тебя не будет…»
В комнате неожиданно стало темно – только слегка светился нож в руках у Анджея, и два голоса зазвучали во мгле: один – знакомый голос Зверя, другой – хрипловатый мужской голос, властный и привыкший получать ответы на свои вопросы.
– …Скоро я умру в последний раз.
– Завидую. Ты есть, и тебя не будет. Что потом – неизвестно. Это счастье.
– А ты, Книга?
– Я есть, и меня нет – одновременно. Я могу умереть – Смерть тоже есть, и ее нет – но я не способна умереть по своему желанию, и мне нечем убить себя. Это – несчастье.
– Ты есть, и тебя нет, Книга?
– Да. Я – возможность невозможного, заключенная в Переплет. Когда-нибудь ты поймешь это.
– Я ухожу, Книга.
– Куда?
– За подарком для тебя. Я создам оружие, которое есть и которого нет – одновременно. Прощай. Больше мы не увидимся.
– Кто знает, Танцующий с Молнией? Скоро ты станешь легендой, словами и памятью и будешь подобен мне – ты есть, пока о тебе помнят, и тебя нет на самом деле. Возможно, мы и встретимся, между «да» и «нет»…
Голоса умолкли, и слабое сияние ножа высвечивало лишь неподвижный контур Зверя.
– Он ушел, – сказал Зверь. – Он вошел в Переплет, уходя из Книги, и в самом сердце миражей упал на свой меч, сломав клинок пополам. Потом Танцующий с Молнией сумел выбраться из Переплета и умереть по другую сторону. Его названый брат – оборотень, дальний предок вашего Йориса и прочих, повинуясь слову умирающего, обтянул рукоять сломанного меча кожей, содранной с правой руки Танцующего с Молнией. Вот так оно было – если спросить помнящих, а их почти не осталось. Вот так умер Танцующий с Молнией и родился Меч, Которого Нет.
– Точно, что нет, – не удержался Талька. – Разве ж это меч? Капусту таким мечом шинковать…
Хорошо, что я успел резко отвернуться. Словно молния полыхнула у меня в руках – холодный синий слепящий всплеск, – и на миг мне показалось, что тяжелый серый плащ разгневанно бьется у меня за спиной, и сейчас я встану, легко и пружинисто, сейчас я…
Когда глаза мои вновь обрели способность видеть, я увидел.
На ладони у меня лежал нож.
Обычный кухонный нож.
И мой сын потрясенно молчал, моргая и щурясь. А вокруг снова было светло.
– Правильно, – Зверь обращался скорее к самому себе, – не буди до поры спящую память… Этот нож, который есть, прекрасно помнит себя давнего; и помнит он себя мечом. Которого нет. И еще он помнит меня. Еще бы – ведь на его клинке была выгравирована целая строка из меня! И рука, мертвая рука, которой нет, до сих пор сжимает эту рукоять. Да, это именно то, что мне нужно. Меч, Которого Нет, вернет мне украденную строку – и покой.
Я сжал ладонь и ощутил тепло лезвия. Уверенное, человеческое тепло, как при рукопожатии.
– Ну, – заявил Зверь, прогуливаясь вокруг стола, – давайте, убивайте меня. Чего время зря тянуть?
– А… собственно, как? – Бакс опустился прямо на пол, скрестил ноги, потом подумал и принялся грызть ногти. – Зарезать вас – так вы небось кусаться станете… Или вы сперва в Книгу превратитесь?
– В Книгу нельзя, – серьезно ответил Зверь, беря со стола кусок жареной рыбы. – Если вы Книгу первой убьете, то останется Зверь. Причем неразумный. И если он действительно станет кусаться, то я вам не завидую. Так что придется сначала Зверя убивать, а уж потом – Книгу. Да вы не волнуйтесь…
– Ага, не волнуйтесь, – Бакс упрямо мотнул головой, – хорошенькое дело… А как мы Зверя… то бишь вас, убивать будем?
– Ты что, придурок? – внятно произнес Зверь. – Подойдешь и зарежешь меня. У тебя это хорошо получается. И дальше – по обстоятельствам.
Бакс резво вскочил на ноги.
– Пошли отсюда! – скомандовал он. – Лучше с этими Знаками в Переплете жить, чем с этой черепахой философию разводить! Он же… она же… оно же издевается над нами – вы что, не видите?!
– Цыц! – прикрикнул на него Зверь. – Некуда вам идти. Вот, сами смотрите…
Он махнул лапой – и снова в воздухе повисла Книга; восковая бледность сползла на щеки Инги, я увидел это и ощутил пульсирующую во мне Силу… и стены Книжного Ларя словно исчезли.
Только снаружи был Переплет.
И все.
Бледный туман клубился в двадцати шагах от нас, гибкие язычки сплетались в мерцающую кисею паутины, нити вибрировали и уходили все дальше, во мрак, во тьму, в черное Ничто…
Мы находились в коконе.
Что-то должно было родиться.
– Все, – сказал возникший Зверь; и следом возникли стены, и Сила ушла из меня. – Финал Книги. Хотите или не хотите. Переплет сомкнулся вокруг Книжного Ларя. Все люди, оставшиеся снаружи, свободны. Возможно, они еще скажут вам спасибо. Лет через сто. Возможно, они промолчат. И Неприкаянные, – Зверь мельком глянул на Ингу, – стоят в удивлении у самого края Переплета. А значит, совсем рядом. Ну что, вы будете меня убивать? – или ваша женщина с Мечом, Которого Нет, так и умрет, потому что она не может жить в Переплете… ну еще час, от силы два.
– Так вот что имел в виду Мом! – пробормотала Инга. – Билет в один конец. Ах, Бредун, Бредун…
– Эй, вы! – возвысил голос Зверь. – Вы же ненавидели меня! Вы же боролись за то, чтобы люди могли совершать Поступки! Я предлагаю вам Поступок, о котором можно только мечтать, – убейте Зверь-Книгу! Ну!..
Бакс смотрел в пол, будто иголку потерял.
Инга отвернулась лицом к стене, и плечи ее непроизвольно вздрагивали.
Талька кусал губы, не глядя на окаменевшую Вилиссу.
И я держал их мысли на ладони, как нож.
Герой, убивающий сопротивляющегося дракона, – герой. Но когда он убивает дракона, безропотно подставляющего шею под удар, – он мясник.
Убийца.
Это Поступок. Но это не тот Поступок, который мне бы хотелось совершать. И если Люди Знака научатся именно таким поступкам – не во благо ли им тогда был Переплет?
А еще я понял, как это – когда кто-то говорит тебе: «Делай! Все беру на себя!» Как фактически сказала нам сейчас Зверь-Книга.
Все беру на себя! Убей меня…
Ведь это так легко!
Ну же! И Инга останется жить. И мы будем свободны. И не станет Переплета. И не появятся больше Лишенные Лица. И Знаки станут людьми. И…
Убей дракона!..
…И я отрицательно покачал головой.
Один за всех.
– Жаль, – прозвучало в ответ. – Вы так и не поняли. Ничего не поняли. Каждый из нас пишет свою страницу, свою собственную – и вы, и я. Вы подтолкнули меня под руку, и моя страница пошла по иному пути. Теперь моя очередь. Потому что любой может изменить чужую страницу, забрызгав ее чернилами или кровью, но никто не в силах изменить свою. Теперь моя очередь. Давайте напишем финал заново.
И больше я уже ничего не слышал.
5
– …Бейте их! – властно крикнул самый молодой из Страничников. – Бей выползней!..
И из толпы навстречу непрочному живому оцеплению столба с Ингой двинулись Равнодушные. Боди. Бывшие люди. Еще секунду назад – бывшие.
Такие, как все.
В чьих душах и сознаниях холодно клубилась дальняя чернота Переплета; клочья мертвого тумана, отнимающего волю.
Припал на колено Ах-охотник, опустошая свой колчан, посылая в накатывающуюся волну стрелу за стрелой, и ни одна из стрел не пропала даром; неумело размахивали дедовским оружием Зольд Рыжеглазый с еретиками-горожанами, и рядом с ними полыхали смертоносными лунами серпы бешеного Бакса; безутешно выл над телом растоптанного Болботуна осиротевший Падлюк; старый Черчек отбивал у троих Боди истошно орущего Пупыря, и уже спешил к ним, прихрамывая, Щенок Кунч… двое подростков, хрипя, упали под ноги нападавшим, а остальные кольцом сомкнулись вокруг Меноры, рвущейся в свалку…
И поодаль, у Книжного Ларя, никем не замеченный в кровавой суматохе, стоял Глава в бело-серебряном одеянии; человек, забывший себя, человек с украденной душой и стоячими, как омуты, глазами – потому что рядом с ним на уровне его головы висела Книга, готовая стать Зверем.
И стала.
Словно смерч пронесся от Ларя к столбу, сбивая по дороге сражающихся людей, как кегли; Бакс еще успел достать серпом чешуйчатое плечо и упал, покатился по земле с разорванной грудной клеткой; к нему бросился кричащий Талька…
Внезапно стало тихо.
Рядом со столбом стоял рычащий Зверь, и нелепая желтая кровь текла по его плечу, а напротив навзрыд плакал мальчишка, пытаясь приподнять ставшее невероятно тяжелым тело человека со смешным прозвищем Бакс.
Бакс с трудом приоткрыл глаза.
– А пиво у них здесь… – прошептал он со странной гримасой, напоминающей неродившуюся улыбку. – Хорошее у них пиво, Таль… жалко…
И белеющие пальцы Бакса на миг сомкнулись на хрупком мальчишеском запястье, передавая в смертный час обрывки Дара, осколки души – все, что еще можно было передать.
А потом, спустя слишком короткую вечность, Талька поднял голову и посмотрел на Зверя. И в глубине запавших глаз его, там, за зыбкой пеленой слез, страшно горел черный свет – не мрак Переплета, но пылающая ненавистью тьма познавшего смерть мага.
Мгновение они смотрели друг на друга – Сын и Зверь, глаза в глаза, человеческие в змеиные, – и вот Зверь уже делает шаг, и еще один шаг, пока неистовая сила черного взгляда не поднимает звериное тело в воздух, со всего размаха ударяя оземь, и еще, и еще, и…
– Талька!..
От Ларя, спотыкаясь и путаясь в длиннополом парадном одеянии, бежал Глава – нет, не Глава, а Анджей, освободившийся на Время Зверя от власти и контроля Книги; отец бежал к сыну и к теряющей сознание жене, и к трупу друга своего.
Но над полураздавленным телом Зверя, содрогающимся в последних конвульсиях, уже висела Книга в черном переплете. Просто Книга, а не Зверь-Книга, потому что мертвый Зверь теперь не мог дать Книге желаемого – физического воплощения. Сила потекла от Книги к дерзкому беглецу, заставляя трепетать пропахший кровью воздух…
И Анджей упал, как сбитая влет птица. Упал в шаге от сына, и Талька ощутил всем своим удвоившимся Даром, как Сила Книги идет через Главу, грозя выплеснуться наружу, напоить собой жаждущую толпу Страничников, – а на пути ревущего потока стоит вспомнивший себя человек Анджей, понимающий тщету своих усилий и видящий единственный способ сдержать кипящую лаву Силы.
Единственный способ. И Анджей, с трудом дотянувшись до брошенного Баксом серпа, неловко сунул его под себя, приподнялся и тяжело лег на кривое лезвие, впуская его в сердце.
Убивая Главу.
Дописывая Главу до конца.
Окрашивая белое с серебром в алый.
С криком метнулся вперед Талька, споткнулся о недвижного Бакса и рухнул всем телом на землю, хватая отца за руку с самоубийственным серпом и понимая, что – поздно.
Поздно.
И вставал с земли, поворачиваясь к дрогнувшей Книге, уже не Талька.
Один-Трое.
Взявший Все На Себя.
– Таля!..
Кричала Инга. Каким-то чудом оторвавшись от столба, она силилась поднять вверх сорванный с шеи нож; и почти одновременно раздался крик Вилиссы:
– Бросай!
Машинально послушавшись, Инга кинула нож Вилиссе; кинула неловко, неумело, по-женски. Нож оказался справа от Вилиссы и слишком высоко, Вила обреченно взмахнула культей, понимая, что не поймает, что нечем ловить…
Время остановилось. И пронизывая его густой кисель, летел обычный кухонный нож – удлиняясь, тяжелея, наливаясь синевой, становясь Мечом, Которого Нет. Зашевелилась кожа на рукояти, превращаясь в цепкие мужские пальцы, возникло запястье, мощное предплечье со вздувшимися узлами вен…
И чужая рука, Рука, Которой Нет, намертво вросла в локоть Вилиссы, единым взмахом послав синий клинок в новый полет; и колыхнулся призрак чужого сумеречного плаща за спиной потомственной ведуньи.
Острие меча с хрустом вошло в переплет Книги, пробивая его насквозь, проходя через толщу визжащих страниц, через гибнущие Знаки, Слова и Фразы, разрушая или переписывая заново…
6
…Проходя через толщу визжащих страниц, через гибнущие Знаки, Слова и Фразы, разрушая или переписывая заново, словно гигантское стальное перо, ставящее последнюю точку.
И в комнате Ларя вновь стало светло.
– Господи… – прошептал Бакс, подаваясь вперед и удивленно ощупывая свою грудь.
Талька медленно огляделся и отшатнулся от лежащего возле стола изуродованного тела мертвого Зверя.
Инга, не отрываясь, смотрела на волосы Анджея, где отливали белые с серебром пряди – будто лоскуты изорванного одеяния Главы.
И молчала Вилисса, пряча за спину правую руку.
А на столе, подмяв и опрокинув заупокойные рюмки, лежала пронзенная мечом Книга. Лежала и обугливалась, рассыпаясь ломкими хлопьями, становясь пеплом и золой, черной пылью с белесыми прожилками бывших страниц…
Становясь ничем. И рядом лежал кухонный нож с насквозь проржавевшим лезвием.
Неизвестно откуда налетевший ветер взметнул пепел, и все услышали затихающие слова – эхо, отзвук, призрак голоса…
– И все-таки финал должен быть таким… прощайте, Один-Трое; и вы, Женщины Ножа, тоже прощайте… спасибо вам…
А у комнаты уже не было стен. Вместо них клубился туман Переплета, смыкаясь вокруг молчащих людей все теснее, все ближе…
Пока не сомкнулся совсем.
Пролог
В жизни все не так, как на самом деле.
Станислав Ежи Лец1
О, верните крылья! Мне пора!.. Ф.-Г. ЛоркаА угрюмый Бакс все тащился за мной, по щиколотку утопая в прошлогодней хвое, и с каким-то тихим остервенением рассуждал о шашлыках, истекающих во рту блаженством мира, о поджаренном хлебе на горячем шампуре, о столовом красном в пластмассовом стаканчике и о многом другом, оставшемся в рюкзаках, оставшихся в байдарках, оставшихся у места стоянки на берегу… И Талька молчал, устав спрашивать меня: «Папа, а скоро мы выйдем обратно?»
Скоро, сынок… и я двигался, как сомнамбула, поглядывая на хмурящееся небо, на завязанные в узлы стволы чахлых сосен-уродцев, и никак не мог понять, что же меня раздражает больше – злобная безысходность леса, болтовня Бакса или всепрощающая покорность моего измученного сына.
Черт нас дернул потащиться искать хутора! Ехидный лохматый черт, нашептавший в ухо идею прикупить сальца, молодой картошечки и крепчайшего местного самогона на пахучих травках, – чтоб тебя ангелы забрали, искуситель проклятый!
– Крыша, папа, – вдруг тихо сказал Талька, и мы побежали, гремя банками и бидонами, и даже пробежали метров двадцать, пока не вылетели на случайную прогалину и не остановились, с трудом переводя дыхание.
– Крыша, крыша… – недовольно пробурчал Бакс, поправляя очки. – Это у тебя, Таля, крыша поехала, от переутомления…
Он покосился на моего обиженного, насупившегося сына и великодушно добавил:
– И у нас скоро поедет, в дебрях этих… пошли, Энджи, а то Инга нас поубивает.
И мы пошли дальше, вяло переругиваясь и пытаясь ориентироваться по солнцу, изредка выглядывавшему из серой мерзости у нас над головой, пока – вымотавшись вконец – не выбрались часа через три к реке, на два изгиба выше нашего становища.
Встревоженная Инга довольно долго обзывала нас всякими нехорошими словами; мы покорно кивали и соглашались, даже иногда развивая тему никчемности и безалаберности нас в частности и всего мужского рода в целом, – и вот жена моя иссякла, а вода в котле закипела, и туда грузно плюхнулись макароны, заскрипела жесть банки с тушенкой, и на свет появилась вожделенная бутылка красного, вызвав обильное слюноотделение у Бакса…
Вечер как-то совершенно незаметно обступил нас со всех сторон, подмигивая первыми звездами, обещавшими завтра хорошую погоду; я утонул в приятной расслабленности, вызванной усталостью пополам с тремя маленькими стаканчиками красного, я лениво хлопал себя по лицу, отгоняя таких же сытых и ленивых комаров, – и поэтому даже не повернул головы, когда рядом прозвучали чьи-то шаги.
Они – шаги то есть – остановились у меня за спиной, поближе к Тальке и Баксу, увлеченно спорящим о преимуществах какого-то особенного захвата.
– Эй, дядьки, закурить не найдется?
Голос пришельца был скрипуч и ломок, прочно застряв в выборе между басом и фистулой.
– Не найдется, – равнодушно ответил Бакс. – Не курим. А если и курим, то свои, а не чужие…
– Да ладно, – не унимался назойливый гость, – чего заливать-то… Эй, дядька, ну дай сигаретку!.. А лучше – две. Или три.
Краем глаза я увидел тощую долговязую фигуру с дурацким гребнем отлакированных волос на голове. Подросток. Вон и голос ломается… Панк из чащи. Ишь, культура, куда забралась!
– Сейчас по шее дам, – сообщил закипающий Бакс. – Поскольку курить вредно, а по шее – полезно. Для тела и души. И чтоб уши не пухли.
– По шее? – нахально засомневался полудремучий панк. – Не много ли на себя берешь, дядя?
Я вздрогнул. Словно медленно стала проворачиваться ручка забитой-заколоченной дверцы внутри меня, и затрещали охранительные доски, грозя выпустить наружу… На себя. Берешь. На себя… на себя… себя…
Из палатки вышла Инга с ножом в руке и остановилась у входа, держась за край брезентового полога.
– Не твое дело, – голос Бакса неуловимо изменился. – Беру, что хочу, и у тебя не спрашиваю. Пшел вон отсюда! Петушок с гребешком!
– Грубиян ты, дядя, – шипяще рассмеялся гость. – А не боишься, что я сейчас наших приведу? Вас-то сколько? Один-трое всего, да баба еще ваша с ножом-кладенцом…
Я вскочил на ноги, стряхивая с себя лень, усталость, оцепенение, – но гость уже бежал прочь, гибкой ящерицей скользя в сгустившихся сумерках; туда, где на дальней речной косе горел еще один костер и слышался смех множества людей, возгласы и звон стаканов, и добродушное приглушенное рычание, а кто-то заслонил собой костер и принялся махать рукой – то ли бегущему, то ли нам…
И звенели гитарные струны, сплетаясь с еле различимыми словами:
– Прости меня, я твой тревожу сон Всей силой самодельного обряда. – Прости меня, я твой тревожу сон: Я – воин обреченного отряда…Я посмотрел на Бакса. Он молчал, держась за грудь и глядя в землю. Рядом с ним сидел неподвижный Талька, и в потемневших глазах моего сына метались призывные отсветы чужого костра.
– Ну что, – наконец разлепил губы Бакс, – пошли, что ли?
Я кивнул.
И только тогда Инга закричала…
Примечания
1
Стихи Э.-Р. Транка.
(обратно)




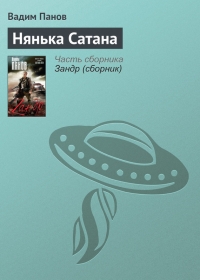
Комментарии к книге «Восставшие из рая», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев