Виталий Храмов Сегодня – позавчера: Испытание огнем
Выпуск произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону
© Виталий Храмов, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Пролог
Я – попаданец. В начале двадцать первого века я по собственной невнимательности и нерасторопности угодил под железнодорожный вагон и оказался в сорок первом году, в теле старшины Кузьмина Виктора Ивановича, смертельно раненного при бомбёжке эшелона, которым полк старшины перебрасывался на фронт. Тогда нам, мне и телу Кузьмина, умереть было не суждено. Я был подселён в Кузьмина на испытательный срок. Правда, в чём заключалось моё испытание – не знал. Но оставаться в стороне в столь тяжкий для страны момент не мог. Я очень хотел помочь Родине и своему народу, но не знал, чем и как. Знаниями или навыками полезными не обладал – экономист по образованию, в армии не служил, в технике не разбирался. Жизнь меня маленько помотала, и, как впоследствии оказалось, привила некоторые навыки, оказавшиеся полезными. Так получилось, что я больше половины трудовой деятельности руководил людьми и процессами (хотя и малыми делами и коллективами), обычно на самых сложных и безнадёжных направлениях, от которых амбициозные мои товарищи сумели отвертеться, а я, крестьянский сын, не сумел, за что и бывал бит и вздрючен регулярно. Зато появились стрессоустойчивость, умение видеть суть, то есть определить корень проблемы, выработалось интуитивное деловое чутьё, усвоились основы психологии коллективов, умение разбираться в людях и мотивировать их на неблагодарный труд. Последнему научился спонтанно, и этому завидовали все. Я мог за пару минут уговорить бригаду сделать самую поганую работу, честно сказав им в самом начале: «Ребята, заплатить вам за это не смогу, но…» И они делали. Матерясь. И уважали меня после этого, а других посылали грубыми матерными оборотами.
Но оказавшись в сорок первом, я об этом и не вспомнил. Понимал лишь, что прогрессор из меня не выйдет, и очень расстроился. Потом, правда, решил: делай, что должен, и будь, что будет. Решил попасть на фронт и хотя бы что-то предпринять, хоть одного немца, но завалить. Так я оказался в добровольческом батальоне, сформированном из сотрудников НКВД. Я к НКВД отношения вообще никакого не имел, но так сложилось. Осенью мы попали на фронт, исключительно плодотворно повоевали, набили много танков, перебили много немцев и, самое главное, задержали целую танковую (а может, и не одну) дивизию на переправе на несколько суток. Батальон был разбит, но тылы и раненых удалось отвести прежде, чем захлопнулось окружение. Потом я, волей комбата (царствие ему небесное, фундаментальный был мужик) назначенный врио комбата (при старшинском-то звании), вел остатки разбитого батальона по тылам врага, обрастая отбившимися от своих окруженцами и освобождая наших красноармейцев из плена.
И вот в ходе этого лесного вояжа произошло ещё одно невероятное событие: в лесу мы берём в плен откровенно неприятного типа – крайне деморализованного снабженца. И это оказался я сам, то есть мой двойник, я-два, также оказавшийся в прошлом на своём «Шевроле» с несколькими носимыми радиостанциями и разными канцтоварами. Только тогда я понял, что нахожусь не в прошлом своего мира, а в прошлом какого-то другого. События сорок первого в этом мире развивались ещё драматичнее, чем в моём.
Отличия навскидку: маршал Победы Жуков Г. К. пропал осенью при перелёте из блокадного Ленинграда, немец вошёл в Москву, до поздней зимы столица разрушалась жесточайшими уличными боями, поглощавшими, как мясорубка, дивизии за дивизиями. И хотя потом удалось охватывающими ударами с севера и юга освободить Москву, война была проиграна. В сорок пятом война подошла только к границам СССР, а в сорок седьмом вермахт капитулировал перед Западом после ядерных бомбёжек. Но война не кончилась. Антигитлеровская коалиция стала тут же Антикоминтерновской. Ядерные бомбёжки русских городов, капитуляция на позорных условиях. Крах и уничтожение русской цивилизации. Сатанинский мировой порядок на планете под ядерной дубиной теневых хозяев Запада. Почти легальное рабство, расцвет трансплантации органов, серый рынок рабов на «запчасти», общемировой голод и нищета. Кроме «золотой» сотни миллионеров. Вот они-то жили не то что шикарно, а сверхшикарно. Это был даже не неофеодализм, к которому скатывался мир в моей истории, а неоантичность с абсолютно отмороженными полубогами и миллиардами рабов. Третьего, среднего класса не было, как не было и НТП. Ни космоса, ни лазеров, ни компьютеров, ни реактивных самолётов. Один сплошной менеджмент.
Что делать с этим? Мне казалось, что я знал решение. Я-два рассказал, что во время боёв за Москву в результате предательского заговора был убит Берия, и все курируемые им проекты – оружейные, атомные, разведывательные и контрреволюционные, были похерены. Развитие оружия споткнулось, атом опоздал и не спас страны, разведка не смогла предугадать действий противника, с заговорами справиться стало некому. Сталин «заболел» и «ушёл», страна рассыпалась, попала в рабство даже не к «полубогам», а в рабство к немецкоязычным рабам.
Все эти все сведения мой аморальный, доведённый жизнью до скотского состояния двойник записал на листы бумаги. Я решил довести этого попаданца с его сведениями до своих и передать Берии в надежде, что легендарный Лаврентий Павлович сумеет грамотно распорядиться этим подарком, хотя бы не даст тупо застрелить себя в спину. Я-два смотрел амерский фильм о «героях», сумевших казнить палача «пятьсот-мильонов-невинно-убиенных», а потом ещё и читал запрещённую книгу сорок шестого года издания с материалами следствия. Так что у нас были фамилии заговорщиков, их высоких покровителей и структура их организации.
Но при прорыве линии обороны врага я-два был смертельно ранен, и я лично добил его, а потом и сам был убит.
Опять «котлета»
Когда я очнулся в следующий раз, застонал. Кто-то вскрикнул и убежал. Я ничего не видел – на глазах были повязки. Я лежал. Связанный.
– Он меня слышит?
– Он пришёл в себя.
– Старшина Кузьмин, я начальник особого отдела дивизии капитан Паромонев. Вы меня слышите?
– Угу, – ответил я ему, закашлял и тут же застонал. Боль! Вся, блин, моя жизнь в этом времени – постоянная боль!
– Где ваши пленники? Где записи? Куда делись ваши спутники?
Ага! Значит, ни Кадета, ни записей они не нашли? Уже хорошо. Леший говорил, что Кадет был жив. На этой стороне был жив. Леший его проводил. Это кто же с ним остался? Бородач, Финн и девчонка? Это надёжные, тёртые мужики. Они знают цену тому, что несут. И гарантированно ни в одной из обойм подковерных партий не состоят. Только бы дошли!
– Никто не выжил. Ничего я не смог! Пристрелите же меня! Чего мучаете! Мля! Больно-то как! Всё пропало! Всех я потерял! И записи погибли! Доктор! Сделайте что-нибудь или пристрелите!
Вот такую истерику я закатил. Хотя она была искренней. Мне и правда так больно, что жить не хочется. Тем более что всё от меня зависящее я сделал. Больше ничем помочь не могу.
Если Кадет дойдёт, если Парфирыч окажется тем, кого я в нём увидел, если Берия поверит, если сумеет… Слишком много «если». Но от меня больше ничего не зависело. Я больше никак ни на что не мог повлиять. Можно и помереть со спокойной душой.
– Доктор, какие шансы? – услышал я вопрос Паромонева.
– Никаких. Любая из его травм могла его прикончить. Большая кровопотеря, начавшаяся гангрена старых ранений – он уже был ранен и не один раз. А с медикаментами сами знаете, какое положение. Я не знаю, чем тут помочь.
– Сделайте, что возможно. Он должен ответить мне. За всё, что натворил.
– Да пошли вы нах! – прохрипел я. Мне было глубоко плевать на них. Вдруг всё показалось таким мелким, незначительным, несерьёзным до смешного. Какая мне разница? Какое мне дело до какого-то Паромонева с его предъявами? Я уже не в его власти, я одной ногой не в этом мире. Я почти в вечности. Единственное, что удерживало от падения в вечное ничто – боль. Боль такая, что я взвыл:
– Господи! Избавь меня от страдания! Дай избавления! Дай умереть!
Но Он оказался глух к моим мольбам. И я продолжал мучиться. Видимо, мой долг не исполнен. Но что я могу ещё-то? Хотя Ему виднее. Ну что ж, Христос терпел и нам велел. Посмотрим.
В этом состоянии безумия от боли, в состоянии полусмерти, ко мне стали приходить странные сны. Однажды, проваливаясь в обморок, одной ногой в могиле, вот что я увидел.
Судьба Голума
(наше время)
Шея моя затекла, от этого я проснулся. Оказалось, уснул я за столом, положив голову на руки, отчего те затекли и онемели. Я сел, кресло скрипнуло. Задел мышь, и экран компьютера зажёгся, выходя из спящего режима. С экрана на меня смотрел Excel с открытым табелем моей бригады. И, как часто во сне бывает, даже нигде не шелохнулось, что я не в богом забытом госпитале, а дома, за компом.
За окном уже стемнело. А я дома был один. Так не бывает. Не должно быть. Потемну только я бываю вне дома – работа такая, а вот моей семье положено ночью спать. Сотовый лежал рядом. Позвонил жене – «абонент не абонент». У сына – та же песня.
Я забеспокоился. Заметался по комнате. Я никак не мог вспомнить, где они. Поставил чайник на газ, набрал тёщу.
– А они ещё не вернулись с речки? Не помнишь? Ты хоть что-то помнишь? Совсем у тебя мозги отказали! Они на речку ездили. Уже давно должны были вернуться.
Чайник тревожно засвистел. Намешал себе растворимого кофе, позвонил подруге жены. Они почти всегда на реку ездят вместе.
– Да, вместе были. Как нету?
Из последовавшего следом потока слов и эмоций я выудил, что как завечерело, моя любимая, оставив сына и одну из подруг, живущую рядом с нами, поехала (моя единственная из всех там присутствующих водила машину) везти эту, что сейчас несла пургу в трубку, и ещё двоих на другой конец города. Потом она должна была вернуться за сыном и приехать домой. Четыре часа назад.
Я бросил трубку. Звоню той, что была с сыном на пляже. Сонный, пьяный голос мне ответил, что она дома, не дождалась моей жены. Подъехали её знакомые ребята, и она укатила с ними.
– Мой сын? – заорал я.
– А чё ты орёшь? Он отказался. Сказал, ждать мать будет.
– Сука, шалава! – заорал я, бросая телефон.
Пнул диван, схватил обратно телефон, схватил бумажник, выскочил из дома.
Как я и надеялся, на углу, у супермаркета, стояли два бомбилы. Договорились быстро, летим на пляж, в Донское. Как я заметил, почти в каждом городе, где есть река или водоем, есть часть города или посёлок на берегу, носящий это прозвище. Официально или нет.
Доехали. Выскочил из машины, бегу, ору.
– Папа! – кричит зарёванный голос. Сын бежит навстречу. У меня кипяток пролился по жилам и брызнул из глаз. Сгрёб в охабку, чуть не раздавил.
– Мама, мама, – говорил сын, – она обещала. Что-то случилось!
Мой бедный мальчик. Один, в темноте, перепуган, но переживает не за себя, а за мать.
– Разберёмся! – отвечаю я ему. – Где твой телефон?
– Дома. Я же с мамой. Был.
Тут мужество оставило моего мальчика. Он заревел в голос. Сука, шлюха (подруга жены) оставила десятилетнего ребёнка одного. Ширинки увидала и поскакала!
– Разберёмся.
Посадил сына в машину, велел ему и бомбиле ждать, оббежал окрестности – ничего.
Отвёз сына домой, как смог успокоил.
– Я поеду маму поищу, а ты постарайся поспать. Если надо, свет оставь, лады?
– Пап, ты за меня не бойся. Ты маму найди. Может, она колесо проколола?
– Найдём, колесо поменяем. Я тебя закрою. Идёт?
– Угу.
Он включил телевизор, обнял подушку, завалился на бок на диване, зажмурился. Я поцеловал его в темечко, выбежал из дома.
Бомбила ждал. Мы поехали с ним по маршруту, которым моя любимая должна была проследовать. Потом по менее вероятному маршруту.
Рассветало, но так же – никакой ясности.
– Может, загуляла? – решился, наконец, бомбила. – Бабы они знаешь какие?
– Знаю. И хорошо бы так, но… Хорошо бы так.
Во мне закипало отчаяние. Она не могла загулять. Она не могла заблудиться. Не сломалась машина, она не попала в аварию – машину бы не успели убрать. Значит, что-то более мрачное и страшное. Липкий страх полз по спине.
У дверей ментовки позвонил на работу, сказал, что не могу выйти. Выслушал, что так нельзя, что это увольнение.
– Пох, – ответил я в трубку, – я не могу выйти.
И, сбросив вызов, зашёл в линейный отдел.
Я, в принципе, и ждал, что моё заявление не вызовет энтузиазма. Я понимал, что они думают: загуляла баба, появится, а нам бумаг оформлять миллион. Понимал. Потому не убеждал, не просил, просто гнул своё. Наконец они приняли моё заявление на пропажу жены и заявление на угон машины. Заявы разные, пойдут по разным ведомствам, а цель будут преследовать одну. Дождался, пока не увидел фотку жены в компах ментов, в разделе «Их разыскивают».
Тут же позвонил куму. Он у нас в милиции служит. Хоть и старлей всего, но в криминальной милиции. Это у них подразделение такое. Он меня выслушал, обещал подсуетиться. Не задавал глупых вопросов про загулы – он мою жену хорошо знал, как-никак он её троюродный брат. Знает, что она умница. Если и загуляет, то так, что никто не догадается. Так глупо, с розыском в милиции, она не сможет.
Потом позвонил ещё одному хорошему другу семьи. Тот уже дослужился до полковника милиции. В Чечню ездил, чтоб полканом стать. В той командировке он подорвался на фугасе, полгода валялся по госпиталям, но смог восстановиться. Даже полковника получил. А то служил пять лет на полковничьей должности в звании подпола.
Он молча выслушал. Спросил только:
– В последний месяц медкомиссий она не проходила?
– Проходила. У неё же через неделю соревнования.
– Понятно. Всё, Виктор, ты больше ничего не предпринимай. Жди. И постарайся успокоиться.
Как тут успокоиться? И этот вопрос про медкомиссию, он к чему? О чем ты, опер, знаешь? Что там случилось?
Пришёл домой. Сын уже не спал. Молча смотрел на меня. Я сел рядом на диван. Уставился невидящими глазами в телевизор.
– Я к бабушке? – спросил сын.
Когда ты успел так повзрослеть, сынок?
– Да. Пока поживёшь там. Собирай вещи.
– Ноут брать?
– Возьми всё, что посчитаешь нужным. Да, готовься, что надолго. Лето, авось.
После недолгих сборов уже другой бомбила отвёз нас в пригородный посёлок, где жили тёща с тестем. Пришлось им отчитаться о своих действиях. После недолгого семейного совета было постановлено, что действия мои были верными. И что я ничего не забыл, сделал всё, что нужно, ничего не упустил, чего от меня, дырявоголового, не ждали.
Приехав домой, обнаружил машину кума у подъезда. Кум вышел, обнял, достал с заднего сиденья звякнувший пакет.
Нажрались. С горя. Моя любимая как в воду канула. Даже менты уже не надеялись на благополучную развязку – нашу машину перехватили на выезде в соседнюю область. План «перехват» – есть у них такой. Человек, что вёл машину, не подчинился требованию остановиться, попытался скрыться, открыл огонь из автомата. Погоня продолжалась два часа. Бандит загнал машину в лесной массив, где бросил машину и затерялся в зарослях. В салоне была обнаружена кровь. Окровавленная одежда моей жены.
Следующих дней я не помню. Бухал. Я. Не пьющий. Бухал. До потери способности думать. Смутно помню только лицо отца, что пытался как-то образумить меня. Помню, что мне стыдно перед ним. Наверно, нахамил.
А потом меня вызвали на опознание. В морг.
На столе лежало тело, накрытое какой-то зелёной клеёнкой. Из-под покрывала торчали ноги. Пахло горелой человеческой плотью. Я не должен был знать этого запаха, но в сорок первом нанюхался.
Какие-то люди что-то мне говорили. Что-то из официоза. Я не смог поднять покрывала. Не смог. Потому что узнал эти голые ступни родных ног. Очень часто, если я вечерами дома, она ложилась на диван, я садился в ногах и массировал эти ступни. Они у неё болели, уставая за день. Так мы смотрели телевизор или DVD.
Я упал на колени, схватился за её ноги, уткнулся в них лицом и завыл.
Финиш.
Опять «котлета» (1941 г.)
Постоянно приходили особисты. Пытались меня допрашивать. Я их искренне и от души посылал по пешему аморальному маршруту, с садистским удовольствием чувствуя их беспомощность. Им нечем было на меня надавить – я уже не от мира сего, одной ногой в могиле. И пытать меня бесполезно. Каждая минута жизни для меня и так была пыткой. Меня никто не пытался оперировать. Сразу вправили кое-как ногу, зашили руку, не пытаясь срастить сломанные кости, так и оставили, ожидая моей смерти. Хотя перевязки-пытки делали. Я чувствовал собственную вонь. Вонь гниющего заживо тела. О-хо-хо, беда!
Сколько это продолжалось, я не знал. Я был связан, глаза завязаны, часто и надолго терял сознание. Но приходить в себя совсем не хотелось. Обморок нёс хоть краткое, но избавление. От боли. Но приходили эти видения. Того мира, мира будущего. Мира без неё. Тяжело. Больно. Врагу не пожелаешь того, что испытал я.
Судьба Голума
(наше время)
Там или тут? Как назвать моё существование в двадцать первом веке? Не важно. Я заливался спиртным. До обморока. Там – боль и война, тут – боль и потеря Любви, Радости, Смысла жизни. Но, что необычно, переваливаясь из одного мира в другой, я сразу же забывал тот другой. Так, смутные отголоски, как от ночного кошмара после пробуждения.
Мной овладела такая тоска и апатия, что свет померк. Смутно помню похороны, поминки, какие-то допросы в ментуре, дознания, протоколы. Я их все читал, но…
Всё изменил один человечек. Я сидел пьяный у дерева напротив дома. Идти в дом не хотелось – без неё он потерял значение «дома». Но и идти было некуда и незачем.
– Это у тебя жену убили и сожгли? – услышал я.
Я поднял голову.
– Ну?
– Я знаю вашу машину. Я был на пляже в тот день. И видел, как вслед за твоей поехала другая машина. Это было подозрительно. Потому я запомнил номер. Менты мне не верят. Эх, вижу, ты невменяемый. Ладно, засуну бумажку в карман. Может, добьёшься чего. Говорят, связи у тебя неплохие.
Только на следующий день, наткнувшись на писульку, я вспомнил этот разговор. Долго-долго пялился в бумажку, часа два. И мир мой менялся. В нем появился смысл. Точнее, цель.
Сначала я хотел обратиться к своим ментовским знакомым, но передумал. Какое-то смутное беспокойство было. Как предчувствие. Но я его неправильно понял. Стал копать. Сам. Не совсем же я дурень. И спешить мне некуда. Всё уже случилось. Что могло случиться, уже случилось.
Номер и описание машины соответствовали машине, принадлежавшей довольно известной в городе структуре. Это была бизнес-структура типа холдинг-групп, владел ею большой авторитет, в нашем городе, конечно. В прошлом бандит, настолько умный и хитрый, что выжил в девяностые, легализовался, стал бизнесменом. Я знал его дочь, тихую умницу, – учились на параллельных потоках в университете, знал его сына, охеревшего от вседозволенности отморозка. Не знал только, что он не завязал с криминалом.
Понятно стало, почему менты не стали крутить этот след. Муторно, хлопотно, а ничем не кончится. От такого человека ничего не добьёшься.
И я тоже решил быть аккуратней. Пить я притормозил, но дурака валять продолжал. Пусть думают, что я продолжаю пить. Недееспособный алконавт. Спроса меньше. И шляться можно везде. Слушать, смотреть.
Многое услышал, многое увидел. Мир мне открывался с другой стороны. С той стороны, которая была в тени, была не столько скрыта, сколько неинтересна, брезгливо оббегаема глазами. Мы живем с этим теневым миром рядом, но параллельно, в отвращении не замечая его. Обходя эти «тени», как лужи грязи, в боязни заляпаться.
С работы меня уволили. Что меня устраивало. В план моей вендетты такая загруженность не вписывалась. Но деньги-то нужны? Нужны. Очень. Но работа нужна особая. Чтоб свободного времени побольше. Помог кум. Устроил меня сторожем. И к кому! В гаражный комплекс того самого холдинга того самого авторитета. Менты в открытую дружат с бывшими (или не бывшими?) бандитами. Но не до морализаторства.
Работа – супер! Сутки через трое. Сутки сидишь в караулке, палец о палец не ударишь, три дня – делай что хочешь. А зарплату положили в два с половиной раза больше, чем у мастера путейцев. Зарплата, правда, в конверте, но мне-то до этого прохладно. До пенсии ещё дожить надо. Моей жене все эти пенсионные и страховые фонды уже глубоко параллельны. И мне – тоже.
Комплекс – шесть боксов под авто. Утром машины уходят, вечером водилы пригоняют машины, купаются в душе и расходятся по домам. Я всё закрываю, и можно ложиться спать. Весь комплекс обнесён бетонным забором, но вернее заборов охраняет имущество авторитет хозяина комплекса.
С первой же зарплаты я дёшево купил подержанный скутер, что резко повысило мою мобильность – в нашу машину я сесть больше не мог. Поставил её в гараж и запер.
Дело не в том. Моё расследование потихоньку продвигалось. За искомым авто были закреплены двое братков. Они были мелкими порученцами для несложных заданий. Подай-поднеси, уйди, не мешай. Для этого им и была выделена машина. Но в данный момент их в городе не было. Куда-то запропастились. Совпадение или нет? Спецом отослали?
У каждого исполнителя должен быть начальник. И у этих двоих должен быть. А вот и нет! У всех людей в этом холдинге были старшие, даже у меня. Надо мной стоял суровый мужичок, что отвечал за всех сторожей на всех объектах, раскиданных по городу и области. А у этих двоих – не было. Потом оказалось, что и сами они не совсем свои. В структурах холдинга не состояли. Это были личные обезьянки сына хозяина. Беспредельщика. Отморозка. И распоряжаться ими мог только он. Вот так вот. И выяснить цель их слежки за моей любимой можно только у него. У Отмороженного.
Запахло жареным. Это подгорала моя задница. Даже попытка разговора с этим пареньком выйдет мне боком. Стало ясно, что разговор, может, и состоится, но только один, только силой, и после него мне придётся резко потеряться. А так как мне не безразлична судьба дорогих мне людей, то и разговор должен быть инкогнито.
Согласен, версия так себе, но другой нитки, способной меня привести к убийцам, не было. Так что будем тянуть эту.
В процессе размышлений выстроился план действий.
Потеряться надо не после разговора, а до. И больше не показываться. Так будет легче сохранить инкогнито.
Я продал машину, завел пластиковую карточку «Сбербанка», кинул на неё все деньги, что были. Приехал к тещё. Пообедал с ними. Попросил сына проводить меня. Мы сели на лавочку под тремя берёзками.
– Ты уезжаешь?
Я вздохнул. Отвернулся.
– Да.
– Надолго?
– Да.
– Может, не надо?
– Надо.
– Обещай, что вернёшься!
– Всё будет нормально, обещаю. Вот карточка. Я на неё буду деньги высылать.
– А когда ты вернешься?
– Я не знаю, сынок. Как отболит.
– Так у меня тоже болит! – закричал он.
Я почувствовал, как глаза наполнились слезами, обнял его, буркнул:
– Прости!
Потом сел на скутер и уехал.
Домой мне было возвращаться не с руки.
Я уже выкинул симку сотового, купил краденый телефон с левой симкой.
Я сидел на заборчике, ограждающем территорию магазина на центральной улице города, и высматривал ту, что подходила по моим выдуманным критериям. Вечер уже подходил к восьми, похоже, сегодня тоже ничего не сложится.
А эта? Похожа на загнанную лошадь. Прёт тяжеленные пакеты. Не шибко ухоженная, типичная разведёнка-бухгалтер. Кольца нет. Взгляд разведёнки. Давно и безнадёжно одинокой. Ну, попробуем?
– Вам помочь? – спросил я, подходя к ней и подхватывая пакеты в её руках.
Она испугалась. Верно я угадал. Ничего хорошего от мужиков она не ждёт.
– Не бойтесь, я лишь хочу помочь. Мне нечего делать, скучно, а вам тяжело. Я вам помогу, вы скажете мне «спасибо», я буду горд собой, и день пройдёт не зря.
Она отпустила сумки, но глаза так и остались глазами испуганной коровы.
– Вам куда?
Она проблеяла название улицы, я пошёл, она посеменила вслед.
Я шёл и что-то трепал языком. Не помню, что. Да и она, скорее всего, не вспомнит. Не важно. Что-то о том, что надо помогать людям, потому что всё в мире взаимосвязано. Надо делать добро. И другую подобную благостную пургу. И дальше – то же ля-ля.
А когда дошли, я внаглую спросил:
– Чаем напоите? Пить хочется.
Она впала в ступор. Я взял её за подбородок, слегка нажал, опуская голову:
– Это делается так: «Да, конечно, у меня есть и чай, и кофе, и кое-что покрепче».
Неожиданно её отпустило. Она ухмыльнулась, в глазах мелькнули, видимо, уже забытые, блядские искорки:
– А то так пить хочется, что переночевать негде?
– Ну, вот! Приятно иметь дело с умной женщиной.
– Ладно, пойдём.
Типичная двухкомнатная хрущёвка. Комната подростка-дочери (лет пятнадцати), гостиная, она же, видимо, её комната, кухня малюсенькая, совмещённый санузел. Обстановка старомодная, бедненько, но чисто, аккуратно.
Дочка в немом удивлении смотрела на меня.
– Привет, я Гоша.
– Он же Гога?
– Почти. А ты?
– Не важно.
– Ладно, Неважно, показывай, где пакеты ставить.
Потом хозяйка готовила ужин, я развлекал её. Мне непонятна эта тяга женщин, чтобы кто-то смотрел на их процесс стряпни. Я же не люблю, когда кто-то смотрит. Но сидел, благостное ля-ля разговаривал. Неважно сидела у себя, как мышь. Она и была как серая мышка. Какая-то вся никакая, усредненно-незаметная. Угловатая, высокая, ещё бесформенная, русые волосы в обычном хвосте, светлые брови и ресницы, будто их и нет.
Да и мама такая же, только крупнее по-женски, мясистее.
Готовила она, кстати, так себе. Хотя сойдёт. Поужинали почти в молчании. Потом Неважно ушла, мы пили растворимый кофе.
– Уйдёшь? – спросила, наконец решившись, она.
Я пожал плечами:
– Прогонишь – уйду.
М-да, если бы заставил попросить остаться – не попросила бы. Но и выгнать не может.
Принесла полотенце. Пока я принимал душ, постелила постель.
Я старался произвести впечатление. Можно было не стараться – там давно и никто не оставлял впечатлений, но я старался. Поэтому утром, когда мы пили кофе, она спросила:
– А ты придёшь ещё?
– Да.
– Когда?
Я пожал плечами.
Проводил её до работы, я угадал – контора. И когда я сказал:
– До свидания!
Она ответила:
– Я буду ждать.
Перевалочная база заложена.
Раньше мне казалось, что сутки через трое – уйма времени, но оказалось, опять времени не хватает. Выспаться не могу. Надо было хоть где-то спать нормально. Просто спать. Поэтому я на объекте, который охранял, сделал вот что. Купил несколько китайских веб-камер, два датчика движения, привёз с гаража свой древний комп, на нём ещё стоял самый первый «Celeron», и пузатый монитор. Камеры были развешены, датчики установлены, провода протянуты, комп отформатирован, и софт нужный установлен. Нет, всё, конечно, не так просто и не так быстро, но кого волнуют проблемы блох и солдат? Не рассказывать же об этом. Это скучно. А вот заработавшая система видеонаблюдения, при включении датчиков движения ещё и пищавшая на подъехавших к воротам и шлявшихся в периметре, заинтересовала моего начальника.
Он сурово смотрел в выпуклый монитор, где транслировалось изображение с четырех камер.
– Сам?
Я хмыкнул:
– Не, спецов вызывал.
– Я тебе что, клоун дешёвый? Конь педальный! – почему-то взбеленился он.
– Извини, не хотел обидеть. Я тебя уважаю, ты конкретный пацан.
– Я тебе не пацан. Где научился всё это делать? – его палец уткнулся в экран.
– Да нигде! Вот тут и научился. Помогает скоротать время.
Старшой нахмурился и свалил. А в следующее моё дежурство припылил с каким-то типчиком полусладкой наружности и секретуткой смазливо-длинноногой. Оказалось, полусладкий – менеджер, деваха – кассир. Я подписал договор с ООО «Табурет-три-ножки» и холдингом на установку системы видеомониторинга на объекте «Гараж номер дцать». И сумма в графе «стоимость работ» такая, что глаза на лоб. На руки, правда, только треть, но всё одно до… по пояс, в общем.
– Сколько времени тебе нужно для установки такого же на другом объекте? – спросил старшой. Я пожал плечами.
Одним словом, тут же подписали ещё договор, получил на руки аванс, и меня перевели на другой объект – «Гараж номер ндцать».
Бабла-то, бабла! Я был в шоке. Всю жизнь работал, как пахарь, на все внеурочные и выходные соглашался ради лишней пятихатки, а тут сразу и столько! А хорошо жить у бандитов. Легализовавшихся.
Хотел выспаться, а впрягся ещё в одно ярмо. Денежное, но ярмо.
Деньги на карточку сына сбросил. Я знаю, теща их сразу снимает, не верит она в электронные деньги. Только в те, что можно пощупать. Оно и к лучшему.
Я освоил ещё одну специальность. Нет, не установщик видеосистем. Угонщик. Скутеров. И мотоциклов. Я их угонял, катался за отморозком, потом бросал скутер. Теперь я довольно чётко себе представлял режим жизни Отморозка. Беда была в том, что Отморозок нигде и никогда не оставался один. Нигде и никогда. Как подобраться к нему? Через его сопровождающих? Ствола у меня нет. И не достать его. Да и убивать их я не хочу. Даже Отморозка. Мне только и надо, чтоб он ответил – зачем его шакалы мою жену пасли.
А на перевалочной базе, где я теперь жил, когда надо было где-то переночевать, начались проблемы. Откуда не ждал. Проблемы и у Хозяйки. И проблемы с Неважно. Я ей тут купил дешёвенький китайский (корейский, по названию) смартфон. Цыгане их что-то очень дёшево продают.
– Зачем? – спросила она. Странная она. Надо бы радоваться. Она нахмурилась. Подвоха ждёт?
– Задобрить хотел. Чтоб не смотрела на меня как на вошь.
Я теперь тут был полноправным жильцом. У меня был ключ от входной двери, я помогал в уборке по дому и «вносил квартплату». Так я это называл. Помогал, в общем, немного. К чему я это? А, в общем, я уже был «дома», когда пришла Хозяйка. Она задержалась и пришла заплаканная. Она, конечно, пыталась это скрыть. Но тщетно – и я, и дочь увидели.
– Что случилось? – спросил я.
– Опять он? – спросила Неважно одновременно со мной.
А вот это интересно! Я уставился на подростка, но она, поняв, что сболтнула лишнего, убежала в свою мышиную норку, куда вход мне заказан.
Вечер был испорчен. Неважно носа не показывала, Хозяйка тупила. Слова не вытянешь. Дождавшись, когда она пошла в душ, я вломился в ванную, вырвав шпингалет (там шпингалет-то!).
– Что ты делаешь? Уйди! Пошёл вон!
Не обращая внимания на её истерику, я её крутил и так, и сяк, рассматривая. Синяки на руках, шее, груди, бёдрах.
– Кто это сделал? – спросил я.
Она меня не слышала. Билась в истерике.
– Кто это сделал? – заорал я ей в лицо. Но даже крик не пробился до неё.
Я отпустил её, повернулся. В дверях стояла с воинственным видом, между прочим – с молотком в руках, и огромными глазищами (голубые, оказывается) Неважно. Я отобрал у неё молоток:
– Поранишься.
Сжал за плечи, приподнял, переставил, прошёл, отпустил.
– Успокой мать.
И ушёл. Не люблю истерик. Особенно у женщин, которые тебе безразличны.
Я сидел у подъезда на вкопанной покрышке, курил. Подошла Неважно, села на соседнюю покрышку:
– Дай закурить!
– Перетопчешься.
Я докурил сигарету, раздавил бычок о покрышку, закурил ещё одну.
– А у тебя нет семьи?
– Не ипёт!
– А зачем ты спросил, зачем тебе знать – кто это сделал? – наконец спросила она.
– Надо. Кто он? Ты ведь знаешь. Говори!
– Зачем тебе?
– Я любопытный. Ну?!
– Начальник отдела физлиц, – выдохнула она, закрыв лицо руками, а руки на колени, вся сжалась, будто бить её буду. Что за реакция шизанутая?
Она была в том же халате. А телефон-то она успела из коробки вынуть. Вот он, в кармане лежит. Современные телефоны такие большие, широкие. Не как «Нокии» первые, но всё же. Я достал смартфон, запустил интернет, поисковик, нашел её организацию, структуру, персонализацию. Узнал фамилию. Поиск по фамилии вывел меня на одну из соцсетей. Вот и фото.
Неважно уже с интересом следила за моими манипуляциями.
– Он?
– Он, с…
– Ну-ну, некрасиво так на уважаемого человека, примерного семьянина.
– Да он!..
– Читай сама. Вишь, как красиво расписано. Ладно. Пора мне. Иди в дом, простынешь ещё.
Я ждал его. У его машины. Японец С класса. Ничё так. А стоянка эта, кстати, не оборудована видеонаблюдением. Но я всё равно шлем не стал снимать. А рядом с его машиной удачно стоял «уазик».
Я проколол все четыре колеса, сигнализация не сработала. Пришлось монтировкой высадить лобовое стекло. Вот тогда она и взвыла. Я отошёл за УАЗ.
Летит, летит, причитает. Встретил его подсечкой, свалил и стал бить. Больно, методично. По мягким тканям, по суставам, по почкам-печенкам, не трогая лицо.
– За что? – разобрал я среди его криков.
Я наклонился к нему и прямо сквозь затемнённое стекло шлема спросил:
– Приятно?
– Нет, не надо!
– А женщин бить и насиловать приятно?
– Нет, вы ошиблись, я никого не насиловал!
Я отходил его ногами.
– Вспомнил?
– Она сама! – завизжал он. – Сама! Ей так нравится!
Тут я засомневался – а мы вообще об одной и той же думаем?
– Кому нравится? Как её имя?
Он назвал. Нет, та самая. Теперь я бил этого борова с максимальной жестокостью, на которую был способен. Пока не вырубил. Потом сел на скутер и уехал. Скутер бросил, джинсовку и джинсы снял и положил в пакет, пошёл в шортах и майке к своему скутеру. Пакет выбросил в мусорный бак через пару кварталов.
И уехал на речку искупаться и успокоиться – после драки у меня всегда руки трясутся.
Пока обсыхал на берегу, думал – вот надо оно мне было? Ещё и прихватят за нанесение вреда здоровью. Но уж больно он меня взбесил. Такой весь правильный, хороший, а бабу регулярно насилует. Ладно бы просто склонил к сожительству, но ему же надо, чтобы она сопротивлялась. Ему так больше нравится? Крутым себя ощущает? А с другой стороны, он что-то там блеял, что она сама. Может, и правда. Их, баб-то, не поймёшь. Они всякими бывают. А, пох, уже свершилось.
Поехал на «работу». Жара спала, можно и по заборам с камерами полазить.
Когда я пришёл к ним в следующий раз, они опять смотрели на меня глазами испуганных коров.
– В командировку ездил, – сообщил я, ставя на стол пакет с продуктами, – как вы тут?
Они переглянулись. За ужином раздавили бутылочку коньяку, малой тоже налили. Выпив, Хозяйка осмелела, задала прямой вопрос – я ли отправил в больницу её обидчика. Я, улыбнувшись, ответил, что не понимаю, о чём речь. Мать очень строго зыркнула на дочь, та юркнула в норку и больше не показалась.
По утрам она уходила, меня не будила. Так должно было быть и в этот раз. Но сквозь сон я почувствовал нежные руки на своём теле, губы. Не просыпаясь, сгрёб женское тело под себя. Однако даже сквозь сонливость, наткнувшись на преграду, я почувствовал, что тела этого маловато. Должно быть мягче, мясистее. Отпрянул, открыл глаза.
– Давай же, что тебе стоит?! – взвизгнула Неважно.
Я сел на краю дивана, спиной к ней, накрыл её одеялом с головой. Она ревела, причитала. Потом кричала на меня, затем опять плакала, причитая, что она некрасивая настолько, что даже я побрезговал. А подруги её и так считают её бракованной.
Я повернулся, сдёрнул одеяло. В этот раз она прикрылась, закрыв девичьи груди ладошками.
– Девственность – сокровище. Его беречь надо. И подарить её тому, кто достоин, кто оценит. Тому самому, единственному и неповторимому.
– Нет таких.
– Есть. И твой где-то ходит, ждёт. И если ты пойдёшь на поводу своих падших подруг, то когда он встретит тебя, он пройдёт мимо. Зачем ему падшая?
– Это сказки для маленьких девочек. Жизнь – дерьмо.
– Дерьмовые люди, чтобы не чувствовать своей вони, стараются вымазать в дерьме всё, что ещё не вымазано. Когда все воняют – никто не воняет.
– Всё ты врёшь! Ты просто побрезговал. Неужели тебе не хочется целки?
– Нет, не побрезговал. Без одежды ты симпатичнее. Но не для меня. А целка… Уже было. Я тебе не сказку рассказал, а реальную историю. Мою и моей жены.
– А что ж ты тогда тут делаешь? – ехидно спросила она.
– Мою жену убили. Я мщу. Больше ни о чём не спрашивай.
– Убили? Прости, я не знала.
– Понимаю.
– А моя мать?
– Тебе честно или соврать? Правда ранит.
– Значит, с матерью – это на время?
– Да.
– А она – всерьёз.
– Мне жаль.
Я встал, не одеваясь, сходил на кухню, поставил на огонь чайник. Когда я вернулся, она лежала на боку, свернувшись калачиком, смотрела в спинку дивана. Услышав мои шаги, она посмотрела на меня, вернее, на мою готовность к «бою».
– Ты хочешь меня, – констатировала она. – Значит, я не страшная?
– Ты симпатичная.
– Между нами что-то могло бы быть?
– Могло, но не будет.
– А если я не буду целкой?
– Не будет. Тебе ещё жизнь строить, а я уже пропащий. Не стоит.
– А я хочу.
– Перехочешь.
Чайник закипел, засвистел.
– Кофе будешь? – спросил я, натягивая штаны.
– Буду.
Она пришла на кухню в чём мать родила. Вот ведь оторва! Измором меня решила взять?
– Решила не мытьём, так катаньем? – спросил я её.
Она улыбнулась:
– А вдруг?
– Если ты продолжишь в подобном ключе, ты меня больше не увидишь.
Она уставилась на меня. О чём она там думала, я не знаю, но спросила:
– Мне одеться?
– Сиди уж. Мне приятно, в конце концов. Но о нас даже не думай. Пей, остынет.
Молча пили кофе.
– Гош, я правда не страшная?
– Правда.
– А почему?.. – она замолчала, слова застряли в её горле, а слёзы выступили из глаз.
– Вопрос поставлен не так, потому и не можешь найти ответа. Вопрос – кто? И зачем им это нужно.
Она задумалась.
– Может, тебя гнобят не потому, что ты хуже, а потому что они – полный отстой? – убеждал я. – А если они отстой, стоит ли плакать? Тебе не всё равно, что о тебе подумает свинья? Или ты думала, что став шалавой, избежишь унижений? Нет, всё только усилится. Они не будут с тобой дружить. На дружбу способны только люди, способные осознать правду. А б… никогда правды не видят, никогда её не признают. Они живут в иллюзиях. Жизнь вне лжи их разрушает.
– Я ничего не поняла.
– Представь подругу, что больше всего тебя гнобит. Вот если все кругом начнут к ней относиться так, как оно должно. У неё много парней?
– Да.
– Она – б… И, представь: все начнут ей это в глаза говорить. Она будет убеждать: она со всеми и с каждым только по любви. А все смеяться: это же смешно. По любви? К чему? К палкам? Если она окажется в подобной среде, где она всего лишь то, что она есть – половая тряпка, то она умрёт.
– Мне кажется, ты не прав.
Я пожал плечами.
– Девочка, тебе сколько лет? А мне? Я чуток больше тебя видел, чуток лучше разбираюсь в жизни и людях. Потому в моей жизни была настоящая любовь. Чего и тебе желаю.
– А какая она, настоящая?
– Это не объяснить. Это надо осознать, почувствовать. Любые мои слова ничего тебе не скажут. Это то же, что слепому с рождения описать радугу.
– Как я узнаю, что это она?
– Не переживай, поймёшь.
– А если я полюбила, а он – нет?
– Тут или ты ошиблась, или время не пришло.
– В чём ошиблась?
– Что любишь.
– Я не ошиблась. Я люблю тебя.
Она смотрела мне прямо в глаза, упрямо и по-детски – непосредственно. М-да, убойное сочетание – голая девочка признаётся в любви. Мне.
– Нет. Ты не любишь меня. Это не любовь. Любопытство, желание – плотское, уважение, может быть. Даже дочерние чувства вот так выразились, но не любовь.
– Не решай за меня! Я люблю тебя, я хочу, чтобы ты стал первым! – она вскочила, встала передо мной, вся такая голая, тонкая, юная, страстная. Глаза горят, губы пылают, соски окаменели бордовым, трогательный девичий пупок, пушок на лобке, юношеская припухлость в бёдрах. Вся такая нежная, упругая, сладкая. А, проклятие! У меня аж скулы свело судорогой. Ага, скулы, хе-хе.
Я встал, взял её за подбородок, долго смотрел в её пылающие глаза, поцеловал в губы. По-взрослому, по-настоящему. Со стоном оторвался, метеором собрал свои вещи и сбежал.
Опять «котлета» (1941 г.)
А потом всё изменил голос:
– Старшина Кузьмин?
Я не ответил. Я перестал разговаривать, потому что моими собеседниками могли быть только особисты, а они меня даже пытать принимались, суки!
– Я привёз вам привет от Тимофея Парфирыча.
Я чуть не закричал от радости. Наконец-то! Дошли! Но тут же подленький здравый смысл (или паранойя) осадил меня.
– И?
– Восток доехал.
Это ничего не значит. Хотя многое может значить. Первое – всё идёт по плану и всё хорошо. Второе – провал. Кто-то перехватил Кадета с группой и расколол их по самые помидоры.
– И?
– Парфирыч ознакомился с посылкой и улетел. Он приказал вызволить вас. Врач говорит, вы при смерти и не перенесёте дороги.
– Нах! Куда угодно, только не гнить здесь! Надо – вынесу! И подохну – всё лучше, чем так, опарышем съедаемым.
– Как же вас довезти?
– А ты кто?
– Старший уполномоченный по особо важным делам Лауза Михаил Ильич.
– Михаил Ильич, мои вещи надо забрать с собой. Там в нагрудном кармане трофейные сильнодей… не выговорю. Таблетки там. Голубоватые. Если буду пить по одной каждые шесть часов – довезёшь.
Ага, нариком конченым стану, но довезёшь.
Следак метнулся, мне к губам были приставлена таблетка, потом металлическая кружка с ледяной водой. Во-о-от! Так-то лучше!
– Поехали, старшой. Видимо, долг мой не уплачен. Зачем-то понадобился кусок котлеты под званием старшины Кузьмина. Слушай, старшой, я сам не вижу – мне ничего не отрезали лишнего?
– Я не врач, но руки-ноги имеются.
– И то хлеб.
Рассказать про дорогу нечего. И не стоит. Что рассказывать живому мертвецу, по недоразумению задержавшемуся в этом мире? Ныть, что это было больно и тяжело? Это и так понятно. В общем, это было невыносимо.
Сколько времени прошло в тряске, боли, в обмороках я не знаю, но очнувшись в очередной раз, я услышал деловой голос, до боли знакомый.
– Натан! – захрипел я.
– А, узнал, старый ты кусок медвежатины! Я вот уже говорил Степановым, похоже, что вытаскить тебя с того света превращается у меня в привычку, – сказал Натан и тут же заржал.
– Получится?
– Куда ты теперь денешься! Ты в очередной раз умудрился поставить всех на уши. Все требуют твою душу и срочно. Заметь, не мясо, а душу. Нужен ты опять нашим большим и сурьёзным мальчикам. Опять игра затеялась. И как ты умудряешься быть в центре всего этого?
– Тяжело и больно.
– Я заметил. Да, а что это за таблетки с тобой в комплекте пришли?
– Там наркотики. Опиаты годны как обезболивающие, есть стимуляторы, есть галлюциногены. Вот последним применения не нашёл.
– М-да. Опять… Не ори! Я тебя к операции готовлю. Опять ты меня удивил. Где препараты-то такие раздобыл?
– Трофеи, Натан, трофеи. Американские.
– Так, Витя! Ты меня в дела ваши тайные не тащи! Мне нельзя, как агенту сионизма.
– Натан, не смеши, больно смеяться. Сам же спросил. Наркоз чем планируешь делать?
– Какой наркоз? Давно уже ничего нет. Только если твоими. Не ори! Лучше расскажи, что знаешь об этих опиатах. Говори, говори, мне надо, чтобы ты говорил.
Я рассказывал, что знал. Дозировки, способы применения, изменение воздействия от способа внесения в организм. И вот во время этого повествования речь моя замедлилась, мысли стали тягучими, как кисель. И вот я не смог раскрыть рта – губы перестали слушаться, слово оборвалось на середине.
– Витя? Витя? Ты меня слышишь? Пальцами можешь пошевелить? Понятно. Ну, что же, коллеги, приступим!
Я хотел заорать: «Натан, ты охренел! Я же всё слышу, я всё чувствую!», – но не смог. Я чувствовал, как отрываются бинты, как скальпель бежит по коже, как кровь, сбегая вниз, щекочет. Как тампоном её собирают, как мне составляли, с хрустом и скрежетом, обломки костей. Я это всё чувствовал, но не чувствовал боли. Тошнило только. Блин! Хорошо-то как! Пусть ковыряются. Главное – болеть перестало. Хоть на время, но перестало. А потом тьма добралась до моего сознания.
Судьба Голума
(наше время)
План по разговору с Отморозком вытанцовывался в моей голове. Я купил электрошокер. Нужны препараты определённого воздействия на организм. Вот только беда в том, что они числятся сильнодействующими наркотическими веществами, вызывающими мгновенное привыкание.
– Вот это список! – удивился кум. – Решил с синьки на колёса перескочить?
– Не, это не для меня.
А к кому ещё обратиться? У нас в городе подобным торгуют только те, кому наркоконтроль разрешил. Так зачем мне посредники?
– Довольно необычный подбор, – продолжал удивляться кум, – половина этого у моего дядьки была в красной аптечке на Кавказе. Ты на войну собрался?
– Да какой из меня вояка! Ты же знаешь, плоскостопие, близорукость, общая заторможенность.
– Вот только не надо про заторможенность. Я на чемпионате России в финале выступал, но такой скорости даже у своего соперника не видел. Как ты это делаешь?
Я пожал плечами. Тот бой в финале кум проиграл. Приехал с чемпионата к нам с отбитой головой, с коньяком. Мы выпили, его накрыло медным тазом. И я был пьян. В общем, пошли мы на улицу. За приключениями. А кто ищет, тот всегда найдёт. Махались мы вдвоём на восемь человек. Были биты, но остались на ногах. Драться я умел неплохо. На соревнованиях не выступал, оценить уровень было невозможно, но один на шестерых выстаивал – оставался на ногах. Был сильно побит, но вырубить себя не давал. И кума бил в спаррингах. Всерьёз мы не махались.
– Ну, так что по этим? – я постучал ногтём по списку.
– Возможно, в принципе. Тяжело, но возможно.
– Когда?
– Экий ты прыткий! Ты мне ещё не рассказал, как ты так делаешь в драке, что как угорелый скакать начинаешь.
– Да что я тебе расскажу?! Случайно это открылось. Время как замедляется. Потом прочёл – это состояние изменённого сознания. Организм поднимает обороты всех жизненных процессов настолько, что появляется подобный эффект. А вот как это сделать тебе, не знаю. Я даже не знаю, как у меня так получается. Может, выброс адреналина так действует?
– Вот ты жук, куманёк! Всё что-то мутишь, мутишь. И никак тебя не прихватишь.
– А хотелось? – рассмеялся я.
– Ха, ещё б! За такими, как ты, правильными и мутными, как раз награды и погоны стоят. Вы же…
Он сплюнул. Что это он?
– Чё это с тобой?
– Представляешь, попадает мужик в больницу. Кто-то отходил его знатно. Кто – не можем установить. И пока я метался, искал этого байкера, мой ушлый сослуживец копнул этого избитого. А он – насильник! Установили уже две жертвы, есть заявления. И я с носом, а он – в шоколаде!
– А на меня чего собак спустил?
– Так он такой же умный и правильный, хрен подумаешь.
– Ну, так в чём дело? Копни и меня. Может, тоже звёздочку получишь? По-родственному так – меня в тюрьму, тебе погоны.
– Да пошёл ты! Обиделся я на тебя.
– На обиженных воду возят. Так что по химии?
– Я позвоню. Пора мне, пока!
– Пока!
Уходя, я ещё подумал, что хорошо, что пешком пришёл. У них, оперов, мозги по-особенному устроены. Сложилось бы у него в котелке, что я байкер, и скрутил бы меня. И всё псу под хвост. На кой ляд я вообще связался с той бабой и её озабоченной дочкой?
Только подумал о ней, слышу:
– Дядя Гоша!
Это что ж у меня за племянница образовалась? Ха, Неважно, собственной персоной. Да, маленький у нас город, очень маленький.
– А я вас искала, – потупившись и покраснев, сказала она. Бежала, запыхалась.
Я оглянулся. Главное, чтобы кум не видел.
– Зачем?
Она опять выпучила глаза. Видно, что заготовленная речь вылетела из головы. Не знает, что сказать.
– Ладно, пойдём в кафешку, что ли. А то стоим, как два тополя на Плющихе.
Пока ждали кофе и мороженое, разглядывал её.
– А ты похорошела.
– Спасибо. Вы знаете, я сначала очень обиделась на вас…
– А что это за «вас»? Давай на «ты». Слух режет.
– Давайте, ой, то есть давай, – она опять замолчала, мяла в руках телефон, то открывая, то закрывая чехол.
Принесли кофе и мороженое.
– Съешь мороженку. Как мать?
– Плохо. Плачет. В общем, – она вздохнула, будто собираясь прыгнуть в воду, – я сначала обижалась, а теперь нет. Я много думала о том, что случилось, что вы, ой, ты говорил.
– Уже хорошо. Думать полезно. Больно, но полезно, – буркнул я, отхлебнув кофе. Хм, а неплохой кофе. Надо к ним ещё зайти.
– Не сбивайте меня, я и сама собьюсь. Ну, вот, опять забыла.
– Не опять, а снова. А может, ну их, эти разговоры? Поговорили и поговорили. Главное, чтоб толк был. Расскажи лучше, как сама?
– Нормально. Я сильно изменилась. Не думала, что можно так быстро измениться.
– Это у ребят долго. А у вас – за одну ночь.
Она рассмеялась:
– Я же не о том.
– Так и я не о том. Вижу уже, что тебе на пользу. Лучше выглядишь, за волосами ухаживаешь, красишься, платьице красивое, тебе идёт, подчёркивает всё, что нужно.
Она опять смутилась.
– Из ребёнка ты превратилась в юную и довольно симпатичную девушку, – продолжил я. – Это хорошо. Чем мир красивее, тем лучше.
– Вот, вы опять меня сбили. А я извиниться хотела. Простите меня. Я действовала глупо.
– В следующий раз будешь действовать умнее?
Она прыснула, жеманно склонившись к столу, искоса глянула на меня:
– Следующий раз?
– Девочка, думаешь, ты первая женщина на моём веку? У меня женой была Женщина – с большой буквы. Я насмотрелся в ней вас всех.
Она стала серьёзна, ещё немного погодя – задумчива.
– А в вас я увидела настоящего мужчину.
– Опять ты ошиблась, девочка моя. Во мне ты можешь увидеть только деда. Твой настоящий мужчина ещё где-то бродит. Тебя ищет. Его и познаешь, когда он станет твоим мужем.
– Я так хочу этому верить, но так боюсь, что это только сказка! О принце на белом коне.
– И будет тебе конь. Мысль материальна. Не жди принца, жди друга, парня, защитника, мужа. Именно в такой последовательности. Сначала друг, только потом – любовь.
Кофе был выпит, мороженое съедено под лёгкий непринуждённый трёп.
– С вами хорошо, легко и приятно, – сказала она.
– С нами? – я специально оглянулся по сторонам. – С кем?
Она опять хихикнула:
– Извини, я опять забыла. С тобой, с тобой.
– Пойдём?
– Подожди, – попросила она.
Я сел обратно.
– А ты к нам с мамой вернёшься?
– Зачем?
– Она плачет.
– Ты же знаешь, что я ничего к твоей матери не испытываю. Рано или поздно я уйду. Она всё одно будет плакать. Зачем преумножать печали?
– Но с тобой она была счастлива. Даже когда отец жил с нами, я её не видела такой счастливой. Я же, сучка, позавидовала ей и всё разрушила. Вернись, пожалуйста. Хоть на время.
– Посмотрим, – ответил я. Некоторое время сидел, думал. Она ждала. – Посмотрим.
Распрощавшись – она мило чмокнула меня в небритую щёку, расстались.
Вечером, с цветами и шампанским, я открыл дверь их квартиры своими ключами, сразу же был задушен в объятиях двух пар женских рук и залит двумя парами ручьёв слёз. Хорошо хоть, спать не пришлось с обеими.
А ночью, глядя в потолок и слушая дыхание двух женщин (какая может быть звукоизоляция в хрущёвке?), я думал – так ли хороша была идея с перевалочной базой? Мы ответственны за тех, кого приручили. Я, похоже, перестарался с желанием произвести впечатление. Баба запала на меня. А малая (хвалёная звукоизоляция хрущёвок) слушала, подглядывала, подтекала. И вместо перевалочной базы получил ещё двоих людей, которым не безразлична моя судьба. Ещё две верёвки, связывающие меня. И скрыться не получилось – слишком уж мал наш город. На одном конце чихнёшь – с другого конца «будь здоров!» кричат. Но сделано, исправить не получится, остаётся расхлёбывать последствия.
Опять «котлета» (1941 г.)
Не успел я оклематься от одной операции – следующая. А потом ещё одна. И ещё. Натан даже восстановил мне лицо и пересадил кожу с правой ягодицы на грудь. Вот это ни хрена себе! В узловой больнице хирург, способный пересаживать кожу!
К новому, сорок второму году, встреча которого была совсем не праздничной, я смог вставать, ходить по палате. Перво-наперво подошёл к зеркалу, поглядеть на своё новое лицо. Хорош! Вся морда в лиловых шрамах. Ну, хотя бы не перекосило, спасибо золотым рукам Натана. На левом ухе не было мочки. И хрен с ней. Не оглох – и это главное. А в дивизионном медсанбате врач меня похоронил. А я – вот он! Добьюсь ещё восстановления в армии!
Одно мне не давало покоя – левая рука. То, что болела, это понятно. Но она не полностью восстановилась. Я не мог её согнуть в локте. С помощью правой руки – пожалуйста, безболезненно, то есть локтевой сустав был в порядке. Дело в мышцах, связках или нервах. Ощупывая левое предплечье, сделал три открытия: ниже локтя левая рука потеряла чувствительность, нервные волокна всё-таки перебиты; второе – я не нашёл мышцы-сгибателя руки, бицепса; и третье – левая кисть, под бинтами, стала короче. На перевязке увидел, что пальцы на этой руке выровнены по длине мизинца. Оказалось, осколок мне их подравнял.
Своими соображениями по поводу оторвавшегося бицепса поделился с Натаном. Он долго щупал, хмурил лоб.
– Хрен его знает, Витя. Готовься к операции. Клизма, ну, как обычно. Раскрою, там разберёмся.
Разобрался. Что он мне там сделал, я так и не понял, тем более что мне было параллельно, главное, я начал чувствовать бицепс, как он, повинуясь моим мысленным приказам, пытался сжиматься, тянуть руку на себя. Ясно, что всё это было больно, а Натан категорически запретил нагружать руку. Мне переделали гипс – он теперь фиксировал руку в согнутом состоянии, закрывая её, как панцирем, от кисти до плеча.
Я оживал. С каждым днём бинтов и швов на мне становилось меньше, я чувствовал себя лучше, есть немудреную больничную пайку стал с аппетитом. Я уже хромал не только по палате, но и по коридорам. Обещали скоро снять гипс с ноги.
И вот тут пожаловали гости. Из органов. Представились. А я им честно сказал, что знать их не знаю и разговаривать с ними не собираюсь ни о чём, кроме погоды.
– Вы понимаете, что сотрудничать с нами придётся?
– Не обязательно. Угрожать будете?
– Не хотелось бы. Желательно, чтобы вы сами пошли нам навстречу.
– С чего вдруг-то? Нет у меня таких побуждений.
– Мы можем и надавить, – сказал, потеряв терпение, второй.
– Каким образом? Нет, ребята, ничего у вас не выйдет. Имущества я не нажил, алчностью не страдаю, грешков за мной нет. Близких у меня тоже нет – они делают нас уязвимыми.
– А как же ваши друзья?
– Друзья? У меня есть соратники, товарищи, что шли со мною к цели. Они поймут меня. Отсюда вам меня тоже не взять. До свидания, ребятки. Устал я. Зачем только вам понадобился? А-а, по барабану! Отстаньте.
Они ушли. Но как настоящие карлсоны, обещали вернуться. Следом пришёл встревоженный Натан. Ничего не спрашивал, просто сел напротив.
– Что, Аароныч?
– Зачем приходили, Иваныч?
– Нужен им я. Зачем, не знаю. Не уверен, что они сами знают. Поживём, увидим.
– Эх, не вовремя Степановы разъехались.
– Степановы? Ладно, с Парфирычем понятно, а Сашка?
– Лечил я его.
И Натан поведал о судьбе моего ротного после расставания на полустанке. Отступая, Степанов собирал вокруг себя всех, до кого смогли дотянуться его загребущие ручонки. И хотя командовал он не покидая бронетранспортёра – нога, собрал внушительное количество людей. Главное, он смог из растерянных, деморализованных людей и разрозненных подразделений сколотить единую боеспособную единицу и начал оказывать сопротивление врагу. Присоединил к себе несколько отступающих в беспорядке расчётов с орудиями самых разных систем. Благодаря спасённым тылам нашего батальона и подобранным бесхозным машинам и тракторам (даже отремонтировали два брошенных танка), наладил снабжение продовольствием и боепитанием. Действовать стал по тактике Ё-комбата, творчески переведя её на другой уровень. Закреплялся на каком-либо удобном рубеже, давал бой подошедшему противнику и тут же отходил на следующий рубеж, который для него готовила нестроевая часть его воинства, куда входили тыловики всех мастей и присоединившиеся гражданские лица.
Тактика оказалась очень удачной, скоро и в наших и во вражеских штабах появился термин «группа Степанова», а негласно – «дикая бригада». Александр Тимофеевич Степанов срочно получил звание майора (негоже капитану командовать отрядом, по численности превышающим полк, а по ширине отведённого фронта – дивизию) и представление на Героя Советского Союза.
Так отступали до Ельца, город не удержали, понесли большие потери, но потом подошла свежая родная стрелковая дивизия, сформированная из земляков под командованием уже знакомого генерала Синицына. Дивизия крепко встала, удержала врага на месте, даже пытались вернуть Елец, но не преуспели. В этом контрнаступлении Степанов был ранен ещё раз и попал в госпиталь, потом к Натану.
– Там рана была не сильная, быстро зажило – пуля по мягким тканям прошла. Гораздо серьёзнее было с ногой. Лечение он забросил, там всё серьёзно было. Хромать долго будет. Может быть, и всегда.
– А сейчас он где?
– На курсы поехал учиться. При Академии Генштаба. Он же теперь перспективный старший командир. Представленный к Звезде Героя. В майорах долго не засидится. Если голову свою отчаянную не сложит. Эх, сколько же раз я его шил! То колено рассечёт, то бровь, то ножом порежут. В каждую дырку норовит голову засунуть.
А я был рад за Санька. Он заслуженно поднимался вверх. Вон, оказывается, как умеет командовать. Охренеть, если честно. Мой ротный через месяц фактически командовал бригадой. Настоящий полковник!
Стали вспоминать общих знакомых. Я спросил про Катерину. Натан помрачнел:
– Нет больше их. Ночью. Одной бомбой. Всех. Вместе с детишками. Ты же помнишь, дом её близко к станции был.
Больше разговаривать не хотелось. Натан попрощался и ушёл. Я провалялся несколько дней в чёрной тоске. Сколько же народу поубивало! А сколько ещё погибнет?! Не солдат, а вот таких баб и детишек, как Катерина с семьёй, как жители той деревни, непонятно за какие грехи сожжённые в коровнике. Всё это ещё перекликалось с мрачными снами Голума, боль потерь терзала душу.
Потом пошли посетители. А я, оказывается, популярен! И девочки-комсомолки приходили, и даже с отчётом о проделанной работе по подсказанным мною направлениям; сослуживцы, волею судьбы оказавшиеся в городе; даже один парторг из тех, что награждал меня именными портсигаром и флягой. Приходила Мария Фёдоровна, мама Миши, которого я окрестил разом и Перуновым, и Кадетом. Она похорошела за это время. И была мне очень благодарна за сына. Настя Ангел теперь жила с ней. Куда делся Бородач, дед Насти, она не знала. А вот Миша Кадет поехал учиться куда-то на Урал в артиллерийское училище. Офицером, то есть командиром, будет. Мария Фёдоровна не уставала благодарить меня за Мишу. И что в живых сохранил, и что я, как оказалось, настоящего человека и офицера воспитал. Обещала, что благодарность её не будет знать границ.
– Мария Фёдоровна, не надо, ей-богу! Я тут совсем ни при чём. Это вы его таким родили и воспитали. Я лишь держал его подле себя и эксплуатировал в своих интересах. Я его даже не жалел. Он в атаки на танки ходил и лично сжёг один танк по моему приказу. И в штыковые атаки ходил со мной вместе. В одной атаке и ранен был.
Мария Фёдоровна побледнела:
– Он мне ничего не говорил.
– В следующий раз внимательно осмотрите его руку. Там след штыка. Всё уже зажило. А вот за девушкой приглядите. Приглянулась она Мише, как мне показалось.
Мария Фёдоровна кивнула:
– Он обещал нам венчаться с ней. Как с учёбы вернётся. Как раз ему совершеннолетие наступит.
Именно «венчаться», командиров называла только офицерами. Привычка? Старая закваска?
Мы ещё поболтали. Вообще-то в госпитале было ужасно скучно. Я лежал один в маленькой палате без окна, бывшей, наверное, когда-то подсобкой. Кормили не очень хорошо. Я поправлялся, аппетит рос, паёк – нет. Возмущаться было глупо – вся страна голодала. Гости подкармливали меня, кто чем мог. Надо было поправляться и возвращаться на фронт – там кормят лучше. И я стал заниматься. Йогой, или как там назывался комплекс, которому я обучился в юности. Всё быстрее время пролетало. Да и надо было восстанавливать тело. А там и истерзанные сознание и душа подтянутся.
Всё шло нормально. Мне сняли гипс с ноги, стал растягивать одеревеневшие связки и мышцы. А потом однажды пришли четверо здоровых мужиков в форме НКВД, с автоматами (почему-то не с привычными ППШ, а с ППД) и предписанием. Пришлось ехать с ними. Хорошо хоть они догадались мне одежду привезти. И обычную, и теплую. А что? С них станется, они и в пижаме на мороз потащат! Форма была общевойсковая, моего размера и роста, но бывшая в употреблении. Дырки от пуль и осколков заштопаны, всё выстирано.
Против лома нет приёма. Оделся и поехал с ними.
Узник (1942 г.)
Ехали сначала на машине. Долго, нудно. Молча. Потом погрузились в самолёт. Там мне дали тулуп до пят и тёплую шапку. В такую же спецовку облачились и мои конвоиры. В самолёте я выбрал угол с мягкими брезентовыми мешками (почта, наверное) и лёг на них. Оглушительно взревели моторы, самолёт покатился. Затрясло нещадно. Пришлось сесть, чтобы не скатиться от тряски на пол. Полетели. В воздухе трясло тоже сильно. Иногда мешки из-под меня вместе с самолётом на мгновение ухали вниз, а я догонял их. Это было больно. От всего этого меня сильно растрясло, и я потерял сознание. Когда очнулся, оказалось, что меня пристегнули какими-то ремнями к каркасу самолёта. Я спокойно опять отрубился.
Судьба Голума
(наше время)
Ничего лучше придумать не получалось. Поэтому стоял и ждал. По воскресеньям Отморозок, изрядно нагулявшись, уезжал почему-то в тот дом. По этой дороге. И если обычно с ним была полная машина приятелей и девок облегченного поведения, то в эту деревню он ездил исключительно в сопровождении одного охранника. Он же водитель. Было очень интересно, что же это за дом, куда он ездил, но там забор с колючкой, охрана, видеонаблюдение и полноценный периметр. Моя пятая точка прямо вопила, что к этому периметру лучше не подходить. Даже смотреть на него пристально не надо.
Вдали маякнули фары. Едут. Я заглотил две таблетки чудо-химии, запил, завёл мотор. Этот скутер я угнал давно. Он был большим и тяжёлым. Все провода к свету перерезал, чёрной краской закрасил желтые полосы (раньше он был чёрно-жёлтый). У меня даже приборная панель не светилась.
Сердце стало биться чаще, мир перед глазами вздрогнул, пальцы стало покалывать – таблетки начали действовать. Этот препарат используют в войсках. Уколотые подобной дрянью даже с выпущенными кишками рвутся в бой. И никакого болевого шока, никакой усталости, пока действие химии не закончится. Зато под этой химией могу перевернуть автобус. Спину и позвоночник порву в лоскуты, но переверну.
Паркетник Отморозка приближался. Когда он пересёк нужную мысленную линию, я выдавил газ на полную. У этого мопеда не только вес больше, но и объем двигателя утроен. Фактически это уже байк. Мотоцикл.
Байк нёсся наперерез паркетнику, резво сокращая расстояние между нами. Всё же я слегка ошибся в расчётах. Что расстраивало. Но только слегка, что обнадёживало. Я чуть сбросил скорость и за долю секунды до столкновения свалился с байка, направив его под переднее колесо автомобиля.
Грохота аварии я не слышал – кубарем катился по асфальту. Хорошая вещь эта байкерская экипировка. Без неё я бы стёрся об асфальт, как сыр на тёрке. И таблетки подействовали – мне было совершенно не больно. Только бы шокер уцелел. Я поднялся на ноги и поковылял к джипу, вставшему поперёк дороги. Правая передняя сторона машины довольно сильно разбита, фара не горит.
Открылась водительская дверь. Оттуда выпал довольно крепкий мужик. Пониже меня, но намного шире. Он тоже встал и так же, как и я, пьяной походкой пошёл навстречу, вопя во всё горло положенные слова о том, что я попал, что меня зароют, что я не знаю, на кого наехал, и так далее и тому подобное.
Этот бодигард, видимо, был боксёром. Потому что его удара я даже не заметил, хотя и ждал. Надо же было мне подставиться! Но хоть и боксёр, а дурак. Зачем в шлем-то бить? Ну, расколол ты шлем, сломал себе руку, а дальше? А дальше – электоудар! А вот и нет. Шокер не выжил. Пришлось бить этого медведеобразного по старинке – ручками-ножками. А шокер использовать как кастет. Управился наконец. Завёл его руки за спину, скрепил их пластиковой стяжкой для кабелей.
А где же наш Отморозочек? А вот и он, целится в меня из пистолета. Только ствол в его руке гуляет туда-сюда. А другой рукой он нос зажимает.
Ствол выплюнул дугу огня, ещё и ещё. Я пытался уйти с линии прицеливания как можно резче, но со злостью почувствовал удар в бок.
Время для меня замедлилось ещё тогда, когда я ствол увидел. А так бы все пули были бы мои – с десяти шагов-то. Четвёртый раз выстрелить я ему не дал – задрал ствол в небо и влепил кулаком ещё раз в нос. И ещё раз. Потом покидал оба тела в авто, обшмонав их, выключил мобилы и рацию.
Паркетник завёлся. Вам бы, ребята, тогда сразу завестись и свалить. Но на что я и рассчитывал, решили покарать наглеца, что влетел в вас и побил машину и драгоценные морды. А теперь мы поедем в одно тихое местечко.
Когда-то это был коровник. От него осталось немногое. Шифер растащили, скот порезали, оборудование сдали в металлолом. Тут даже навозом пахнуть перестало. А самое ценное – до ближайшего жилого дома пять километров. Хоть стреляй – никто не услышит.
Охранника я приторочил к толстой стальной скобе, что даже хозяйственные наши крестьяне не смогли выдернуть. На голове его был черный непрозрачный тряпичный мешок, на ушах – плеер с врубленным на всю «дынц-дынц». Какой-то современный диджей. Именно этот диджей, потому что его «дынц-дынц» нон-стоп и бешеная громкость. Быка этого убивать не хотелось, но и услышать он ничего не должен.
А вот Отморозок был распят в стойле и приготовлен для вдумчивой беседы. А пока он пребывал в беспамятстве, я сделал себе перевязку. Мне повезло – пуля прошла ниже рёбер, раскроив кожу и мясо. Рана длинная, кровищи натекло много, но поверхностная. Вот ментам радости – крови моей будет кругом море. Тест ДНК – и вот он, подозреваемый. Пролил рану перекисью – зашипело, кровотечение утихло. Соединив края пальцами, залил её суперклеем, пара секунд – схватывался, можно дальше клеить. О дезинфекции, антисанитарии, заражении крови – я не думал.
Отморозок пришёл в себя, начал верещать, пугать. Обещал мне семь самых страшных казней. И другую подобную, вполне ожидаемую чушь. Я заткнул ему рот кляпом. Таким, специальным, в сексшопах продаётся.
– Ты забыл мне напомнить о правах человека и Гаагском трибунале. А теперь слушай сюда. Мне совершенно перпендикулярно, кто ты и что ты. Если расскажешь всё, что мне нужно, будешь жить, будешь молчать – будет больно.
И, чтобы слова не расходились с делом, откусил ему кусачками мизинец на ноге.
Не сильно помогло. Когда на его ногах осталось пять пальцев на две ноги, он наконец заткнулся.
Я обработал ему раны. Так, слегка. Чтоб кровью не истёк. Вколол противостолбнячную сыворотку и противошоковое.
Когда он очнулся, вынул кляп.
– Поговорим?
– Ты кто? – спросил он.
Я запихал кляп на место:
– Вопрос не верный.
И пнул его по почкам. Когда он проорался, вынул кляп.
– Поговорим?
Он закивал.
– Что тебе нужно… от меня?
– Вот, это правильный вопрос. В этом городе убили и сожгли спортсменку. Мастера спорта по кикбоксингу. Твоих обезьян видели пасущими её. Зачем? Кто дал приказ? Кто убил её? Кто давал приказ?
Он ответил, что не понимает, о чём я.
Наш неплодотворный разговор продолжался два с половиной часа. Я даже притомился. Отморозок стал совсем инвалидом. За это время я узнал многое, но к цели почти не приблизился. Отморозок говорил, что увлёкся моей женой, но не получил взаимности. Он приставил двух своих шестёрок её пасти. Но эти двое пропали. Последнее, что они доложили – её остановили менты. Гаишники. Но странные гаишники. В фуражках, форменных рубахах, желтухах, с палками, автоматами, но в кроссовках. Один в красных, другой в белых.
И она пропала. Но он догадывается, кто причастен. Есть, по его словам, такая международная мегаструктура. Чудовищно мощная, всесильная. Занимается трансплантацией внутренних органов. И этот отморозок знал, а я не знал, что мою любимую похоронили без сердца и одной почки.
И полкан спрашивал про медкомиссию.
Я зря искалечил этого парня? Получается, так.
Я выволок обоих из коровника, оттащил подальше. В углу у меня стояли две канистры с бензином. Я залил коровник бензином, поджёг. Я не собирался облегчать жизнь нашим операм. Пусть ищут. Второй канистрой был подожжен джип.
Я вставил батарейку в телефон калеки, включил, в последних вызовах нашёл абонента «Батя», набрал.
– Ты можешь определить местоположение телефона? – спросил я, когда мне ответили.
– Да, – после некоторого молчания, ответил сильный, уверенный голос.
– Поспеши.
– Ты знаешь, что ты труп?
– Да. Я знаю.
Не сбрасывая вызова, я положил телефон на шлаковый кирпич.
Я не успел отъехать и километра, увидел огни фар со стороны города. Хорошо, я поехал в сторону областного центра.
Подъезжая к мосту через реку, съехал с дороги на берег. Побросал в воду все улики – бинты, одежду, славную байкерскую амуницию, даже ботинки. Переоделся и поехал дальше.
Я сегодня числился на работе. Туда и поехал. Принял душ. Накровнял, пришлось с хлоркой убирать.
И что теперь? Если это действительно теневой рынок трансплантатов, то дела мои кислее соляной кислоты. Бороться с ними даже бесполезнее, чем с государством. И что мне делать?
Ничего не придумав, решил, что утро вечера мудренее, завалился спать.
Узник (1942 г.) Словесные танцы
Сколько летели, как приземлились, куда меня носили, сколько везли – не запомнил. В себя пришёл только на жёстком матрасе в небольшой комнате, едва освещённой тусклой лампочкой на низком потолке. Стены крашены серой краской, белёный потолок разводами. Окон нет, обитая серым железом дверь, топчан, на котором я лежал, массивный, но простой, без наворотов, стол и два табурета. Туалет типа «очко» был в углу, ничем не огороженный. Камера. Тюрьма. Без суда и следствия. Надо было орать: «Палачи! Душегубы! Кровавое чека! Диктатура! Пятьсот-мильёнов-невинно-убиенных!» – но я не стал. Я их прекрасно понимал, уже привык. Для этого времени – дело привычное. Сам поступил бы так же на их месте. На кону стоит и всё, и разом. Тут не до эфемерных прав человека или мнимых «свобод». Только эффективность. Ради свободы. Ради жизни.
Я несколько часов лежал неподвижно. То пялился в потолок, то дремал. Потом загремел замок, вошёл дюжий мордоворот без знаков различия, поставил на стол дымящийся котелок, кружку, накрытую куском чёрного хлеба, пачку папирос и пепельницу, так же молча вышел.
А жизнь-то налаживается! Картошка с мясом! Сладкий чай! Толстый кусок душистого хлеба! Я наелся. Хлебом дочиста выскоблил котелок, поставил всё на край стола и опять лёг. С сытости уснул. И даже не слышал, как забрали посуду.
Потом я опять не менее плотно поел. Спать уже не хотелось, но делать было решительно нечего. Сон и хорошая еда наполнили меня силой. Стал разминаться, потом тренировка. Я слышал, как иногда открывается глазок в двери. Пусть смотрят.
Потом пришёл майор госбезопасности Кельш Николай Николаевич – так он представился.
– Мне бы хотелось с вами побеседовать, – сказал он, присаживаясь на табурет, положив руки на стол, сцепив пальцы в замок.
– Надо же! А что это вдруг? Чем я мог вас заинтересовать? За путешествие, конечно, спасибо. И кормят у вас неплохо, но зачем вы меня притащили сюда?
– Наши люди уже приходили к вам, ушли ни с чем.
– А тут, думаете, вам полегчает?
– Надеюсь на это. Всё же вам лучше с нами сотрудничать. Не думаете же вы, что сможете один противостоять системе?
– Не думаю.
– Ну, вот. Я же говорил, что вы разумный человек. Побеседуем?
Кому он что говорил, в этот момент меня совсем не волновало. В конце концов…
– А чё бы нет? Давайте и побалакаем.
Я вытер пот со лба рукавом, отчего майор ГБ поморщился, крикнул за плечо:
– Терентьев! Почему полотенца и умывальных приборов нет? Исправить!
– Благодарствую, ваше высокоблагородие.
– Не юродствуйте, Виктор Иванович, вам это не идёт.
– Ладно. Давайте сразу договоримся: вы спрашивайте, я отвечаю. Но я оставляю за собой право решать, что говорить вам, а что нет. На какие вопросы отвечать, а на какие нет. Устраивает? Если нет, то прощайте. Можете пытать, слова не скажу.
– Скажете, Виктор Иванович, скажете. Только я не сторонник подобных методов, когда есть время. Предпочитаю беседу. Иные собеседники бывают довольно занятны. Я принимаю ваше условие. Время нас теперь не поджимает.
– Тогда спрашивайте.
– Расскажите о себе.
– О как! И что же я о себе расскажу? Родился, учился, болел, воевал, помер? Вопрос не корректный.
– Тогда скажите мне, как туповатый атеист-старшина, не крещёный, никогда в церковь не заходивший и презиравший верующих, вдруг становится паладином веры?
Я изобразил аплодисменты:
– У, какие вы слова знаете, Николай Николаевич!
Он склонил голову в шутливом поклоне:
– У меня были иногда о-очень занимательные собеседники. Да-с!
Это он мне вернул подколку с «высокоблагородием». А мне он начинал нравиться. Блин, знать бы, он поможет мне и стране или он – враг? Как понять?
– Так вы ответите на этот вопрос или воспользуетесь правом не отвечать?
– Да я бы ответил. Только как? Вы знаете, всё течёт, всё меняется. Иногда медленно, иногда вдруг. Я был убит, я говорил с кем-то… пока был не особо живой. Сны эти странные. В таких случаях говорят: «Я прозрел». Меня как подменили, – я пожал плечами.
Майор ГБ ещё некоторое время ещё подождал, потом поджал губы:
– Ладно, довольствуемся этим. Расскажите мне про ваши изобретения.
– Что за изобретения? – я честно удивился.
– «Доспех».
– А-а. Так жить-то хочется. Не так, чтобы слепо, по-животному. А случайно погибнуть жалко. И ребят жалко. Поживут подольше, побольше их после войны останется. Война-то рано или поздно закончится. Дальше жить надо будет. А кто останется? Старики и дети неразумные?
– Это так, тут вы правы. Мотивация ваша понятна и даже достойна, но как вы пришли к такому решению?
– Толстой. «Война и мир». Кирасиры. Они носили стальные нагрудники. Мне показалось это разумным.
– От этого отказались. И, видимо, не зря.
– Стесняет движение, и вес большой. Но мой-то доспех подвижный. Вес, конечно, немалый, но движения не сильно стесняет. Не больше ватника.
– А спинная конструкция?
– А что с ней не так?
– Наши специалисты в шоке. Вы же на пустом месте создали гибкую защиту позвоночника.
Я рассмеялся:
– Не я создал, а ботаники с завода. Я попросил: чтобы двигалась, вперёд гнулась, назад – нет. И принцип не нов. Так строилась сегментная броня легионеров. Так устроена чешуя рыбы. Надо лишь правильно поставить задачу нужным людям и видеть в голове результат. Я знал, как должно быть, а как сделать – не представлял.
– Теперь понятно. Правильно заданный вопрос – половина ответа.
– Ну, вот. Вижу, вы и сами это знаете. А какие ещё изобретения?
– Тактика боя. Армейские специалисты удивлены не меньше.
– Удивлены они? Долбоёжи! Чем они, интересно, перед войной, гля, занимались? К парадам готовились? Форму отглаживали? Оклады выжимали? Я её придумал? Тактику штурмовых групп применили немцы ещё в Имперскую войну. И наши применяли в Финскую. Надо было не строевой подготовкой заниматься, а учить людей воевать!
Я расходился не на шутку. Прорвало, что называется. Майор украдкой улыбался.
– Я в отступлении капитана встретил. Кадровый. Предложил с нами идти, куда там! Как это он будет какому-то старшине подчиняться? Через несколько часов людей поднял на пулемёты в полный рост за триста метров. Идиот! Ладно, ему его бестолковую башку прострелили, так он людей угробил! Кадровый, гля! К какой он войне готовился? К боям с сипаями? С наполеоновской армией? Он что, не знает, что появилось в этом мире автоматическое оружие? Мы через пару дней такой же мост проходили. Ни одного человека не потеряли, а немцев всех вырезали. А у меня такие же щеглы были, как и у него. Штаны им амбиции жмут, хоть и шаровары носят! И мои «золотопогонники» бунт пытались поднять. Как в сказке, гля, «не хочу быть крестьянкой, хочу столбовою дворянкой»! А люди, дело, Родина? Да по хрен! Лишь бы звание повыше, участок поспокойнее да снабжение посытнее. И немец чтобы не мешал командовать. Ах, как немец им всем помешал! И форму себе пошили красивую, от красноармейцев такую отличную. Всё блестит, переливается. А немецкие снайпера и не нарадуются! К какой они войне готовились? К парадной? Думали, немец их финтифлюшки увидит и в ужасе в подвал забьётся? Ща-а-ас! Наклепали десятки тысяч самоходных самоваров, а тягачей – кот наплакал. Ни одного топливозаправщика, ни одного бронетранспортёра! К какой войне эти теоретики готовились? Немец готовился к войне, а эти долбоёжи к парадам готовились, к бою на карте, в кабинете. Бойцы мои по лесу ходить не умели, а строем – умели. Им это до парада Победы хрен понадобится! А скорее всего, этим не понадобится. А дети, что вчера винтовку взяли, учиться будут не у отцов-командиров, а у противника. Научатся воевать, побеждать. А на параде Победы – как-нибудь!
За время этого моего монолога улыбка сползла с лица Кельша, лицо стало тревожно-сосредоточенное. Эк тебя пробрало!
– Ну, на этом сегодня закончим, Виктор Иванович. Сейчас ужин принесут, газеты свежие. Должен выразить своё удовлетворение началом нашего сотрудничества.
– Посмотрим, – ответил я ему.
Он ушёл, потом был ужин. Почитал пропаганду газет. Тупую, неумелую, не зажигательную. Потренировался. Быстро устал. Это хорошо – уснул быстрее.
На следующий день после завтрака Кельш опять пришёл. Сел на табурет, опять сложил руки на столе. Никаких бумаг с ним не было, писать он ничего не собирался. Об этом я его и спросил. Он пожал плечами:
– Я не Цезарь, говорить, слушать и писать разом не умею. Предпочитаю разговор.
Разговор так разговор. Я сел напротив.
– Тогда поговорим. С бутылочкой коньяка разговор бы лучше пошёл.
– Можно организовать.
– Но не нужно. Я решил больше не пить.
– Почему?
– Я уже потерял счёт полученным мною контузиям. Боюсь, что алкоголя мой мозг не выдержит. Как мычащее неразумное животное пользы я вообще не принесу. А мне танки с крестами жечь надо.
– Достойное решение. Надеетесь, что вернётесь на фронт?
– Надеюсь. Пусть и покалеченный, но я получше буду воевать, чем пороху не нюхавшие и под танком ни разу штаны не маравшие дети.
– Это так. За одного битого двух не битых дают. Сколько танков вами уничтожено?
– Я их не считал. Зачем? Ясно же, что их ещё много осталось, на всех хватит. Вот когда таких, как я, охотников будет больше, чем танков, тогда начнём считать.
– Вы танк за добычу считаете?
– Да. Большой, опасный зверь с толстой шкурой.
– А многие лишь увидев танк – теряют мужество.
– Это болезнь танкобоязни. Она лечится. Я своих бульдозером обкатывал. Под трактором в штаны пускали, а от танков уже не бежали.
– Да, это интересный опыт. Вы дошли до него одним из первых. Теперь часто новобранцев танками обкатывают. Не всех, к сожалению. Фронт сжирает полки и дивизии быстрее, чем мы успеваем сформировать. Так недоученными и идут в бой. А как вы оцениваете те противотанковые средства, что были у вас на вооружении?
– Нормально оцениваю. Всё зависит от человека и выучки. У нас были «сорокапятки», пара трофейных 37-мм орудий, зенитки 37 мм, ружья противотанковые, гранаты, зажигательная смесь. Наш снабженец добыл где-то ампулы с огнесмесью. Шары такие стеклянные. Но стекло очень толстое. Не всегда даже о броню разбивалось. О землю вообще не билось.
– А зачем о землю?
– Я хотел огневую завесу сделать, чтобы от немцев оторваться, когда сменял позиции. Пришлось шары эти из автомата расстреливать. А огнесмесь хорошая. Вспыхивает сама, горит жарко и долго. С гранатами и так всё понятно – далеко не кинешь, тяжёлая. После взрыва самого же глушит. Оружие последнего довода. Когда танк тебя уже давит, хоть отомстить. Зенитки показали себя отлично. По всем целям. И по воздуху, и по земле. Очередь 37-мм гранат в пехотной цепи – сильный аргумент, сразу срывающий атаку. И по танкам. Бронебойное действие слабое, но высокая скорострельность и способность быстро переносить огонь на разные объекты намного перекрывают этот недостаток. По одному танку на моих глазах долбанули разом с двух зениток. Пробили броню или нет, а танк стал не боеспособным – они ему поотбивали всё на свете, только клочья летели – колёса, траки гусениц, ещё что-то. А другому в бок очередь с пробитием – башня отлетела. Немецкая пушка хороша. Снаряды хорошие. Броню прошивают на раз. Я сам из такой танк подбил. «Сорокапятка» имеет те же характеристики – приземистая, лёгкая, меткая, мобильная. Легко маскировать и менять позицию. Снаряды только подкачали – раскалывались о броню.
– Кстати, о снарядах. Откуда вы узнали, что дело не в браке изготовителей, а в технологии закалки?
Вот я и попался. Этому не споёшь, что в термичке подсказали – он легко узнает, что завод № 34 не производит 45-мм бронебойные снаряды. Лишь корпуса гаубичных «поросят». А как сказать? Что прочёл это «разоблачение» в девяностые годы двадцатого века? Так оно ещё не скоро наступит. Интересно, этому матёрому волкодаву удастся зубы заговорить?
– Людей моих опрашивали?
– Конечно, – пожал плечами следователь.
– Что будет с ними?
– Всё хорошо с ними будет. Обе части вашего сильно разросшегося батальона отвели на переформирование. Обычно на фронте дивизии истончаются до рот, а у вас один батальон вырос сам собой до полка, несмотря на потери. Теперь обстрелянный состав вашего батальона составит костяк формируемой истребительной бригады. Сейчас они в Моршанском учебном артиллерийском центре.
– Не помню такого.
– Так они его и создают. А майор Степанов, поведавший мне о вашем конфликте с комбатом из-за бракованных снарядов, и возглавит бригаду. Как отучится и поправится. Кстати, вы были не правы.
– Я знаю. Нельзя было этого говорить тогда. Это потом я понял, что отобрал у людей веру в оружие, а Ё-комбат сразу просёк, потому и вспылил.
– Вы отвлеклись, Виктор Иванович. Так откуда познания в технологии закалки?
Вот ведь волчара!
– Сорока принесла на хвосте. Слухи.
– Никто не слышал этих слухов, а вы услышали.
– Не слышали или не хотели слышать? Кто-то же за это головы потеряет! Столько лет производили бракованные снаряды, сколько успели сделать? А услышав, реагировали, как Владимир Васильевич: нельзя армию оставить без снарядов к основному орудию. Так ведь?
– Как сотрудники НКВД проявили себя в бою?
Похоже, удалось зубы заговорить. Запомним, на что ведётся. Или сделал вид, что его удалось заболтать. Не важно. Закрепим успех:
– О! Вот тут мне есть чем гордиться, хотя я попал в батальон случайно. И вы можете гордиться своими сотрудниками. Когда будете писать отчет о наших беседах, прошу особо отметить, что я очень сильно прошу направить меня в формируемую бригаду. У вас, наверное, особый спецотбор в органы? Это элита. Цвет нации. За всё время, что я был с ними, ни одного случая бегства перед лицом противника, ни одного труса или паникёра, ни одного самострела, даже случайного. Массовый героизм. Поголовная сознательность, мужество, самопожертвование, отрицание страха перед долгом. Как мне было жалко терять таких ребят! Ведь они первыми гибнут, а трусы выживают. Цвет нации гибнет. Так и до вырождения не долго дойти, – я тяжело вздохнул, – выживут не лучшие, а наиподлейшие. И детей своих научат «правильно» жить. Без чести, но жить. И посмеиваться над нами будут: «Дураки, с гранатой под танк! А я вот бросил всё и сбёг. И вот я живу, а от них и костей не осталось!» Фанатиками нас выставят. И продадут всё, за что мы погибли за красивые фантики.
– Это вам ваш пленник из будущего рассказал? Как вы его звали? Голум? А почему Голум?
– На эту тему я с вами разговаривать не буду.
– Ваше право. Мы уговорились. Но позвольте полюбопытствовать, почему?
– Я понял, что вы кое-что уже знаете о нашей лесной находке?
– Очень многое знаю. Более того, для этого я и здесь.
– Ну, вот. Карты и открыты. О нём я не буду с вами разговаривать.
– Почему?
– А я вас не знаю. Знания о будущем – великая сила. И от того, в чьих руках окажется, зависит это будущее.
– Как зависит будущее?
– Будущего нет. Оно изменчиво. Есть неодолимые предпосылки, есть случайность, которая эти предпосылки способна перевернуть наизнанку. И от каждого из нас каждую секунду зависит, каким будет будущее.
– Получается, что добытые вами сведения бесполезны?
Я пожал плечами. Кельш постучал пальцами по столу, задумавшись.
– Со мной вы не будете разговаривать. А с кем будете?
– С тем, кому смогу верить. В ком уверен. И буду уверен, что человек этот не обратит полученные знания против моего народа. Там и так всё беспросветно. Но всё можно изменить. Исправить уже не выйдет, а вот избежать ошибок – возможно.
– И нагородить новых. А в ком вы уверены?
– В Сталине, Берии.
Кельш рассмеялся:
– Да, от скромности ты не умрёшь. А кроме них?
– Я не буду больше с вами разговаривать. Время уходит. Двадцать девятого января случится непоправимое, и ничего уже будет не исправить. Тридцатого можете этими сведениями подтереться. Я всё сказал. До свидания.
Но следователь не уходил. Он в задумчивости крутил большими пальцами.
– Двадцать девятого. Покушение на Лаврентия Павловича. После – ничего не исправить. Почему такое значение для вас представляет именно Лаврентий Павлович?
– Так вы знакомы с записями? А зачем тогда спрашиваете? Чем война закончится?
– И он может это изменить?
– У вас есть под руками другой управленец такого же уровня, способный справиться с подобными задачами? И не с одной, а с неподъёмным комплексом проблем? Если есть – никаких проблем, ваше дело. Я только не пойму, зачем я вам? Отпустите меня воевать. Я умею молчать. Я там буду изменять будущее в свою пользу, насколько сил хватит. Пока не убьют. Или пристрелите сейчас, мне – до лампочки. Я не идиот, хоть и контуженый. Я знаю, что с системой бороться бесполезно.
Кельш ещё посидел, глядя сквозь меня, потом слегка хлопнул ладонями по столу, попрощался, ушёл.
Узник (1942 г.) В пыточной
Целый день меня никто не трогал. Всё было как обычно. Трёхразовое питание, пачка неплохих папирос, тренировки. Нога сгибалась только наполовину, но вес тела держала исправно. Левая рука также почти не работала, но правая стала возвращать себе былую скорость и ловкость.
А потом не принесли ни завтрака, ни курева. Козлы. За сутки никто ни разу не открыл двери.
На следующий день дверь открылась:
– На выход. Руки за спину. Лицом к стене.
– И как ты это себе представляешь? Не видишь – рука на привязи?
– Не разговаривать! Другую руку за спину.
Привели меня в маленькое помещение, которое я сразу окрестил пыточной. Обстановка соответствовала. За массивным столом сидел плотный коротышка с заплывшими злобными глазами и набитыми костяшками пальцев. Видно, что из палачей вылез. По его позе было видно, что он при ранге и должности, но гимнастёрка не имела знаков различия. Шифруется? Рядом стояли двое мордоворотов.
Меня посадили на стул. Массивный такой, основательно-тяжёлый, без обивки. Конвоир вышел.
– Ну? – спросил меня «палач».
– Не запряг! Ты представился бы для начала.
– Дерзкий? Это мы из тебя быстро выбьем, – пообещал коротышка, прищурившись, как кот, увидевший мышь.
– Выбьешь? – я рассмеялся. – Напугать пытаешься? Слышь, ты, мурло! Ты танки немецкие вблизи видел? Под ними был? Под бомбёжкой «лапотника» был? Ты меня испугать пытаешься? А вот хрен ты угадал!
Я орал на него. Он едва кивнул. Мордовороты пошли на меня. То, чего я и добивался.
Идиоты! Они меня даже не связали! А я уже достаточно разозлился, чтобы впасть в состояние изменённого сознания, которое я называл яростью. Только в этот раз ярость сопровождалась сильной болью и сильным жжением в затылке.
Не вставая со стула, я пнул одного мордоворота – правого – ногой под коленную чашечку, скользнул со стула вправо, за него, согнувшегося, опустил локоть ему на затылок, отправляя в бессознательный полёт лицом на угол стула. Другой мордоворот очень удивился моей прыти, но пёр на меня. Когда он переступал через поверженного товарища, я скользнул к нему в упор, подныривая под удар, подтолкнул его руку, от чего его развернуло, ударом ноги в сгиб колена осадил его, потом локтём так же сверху добавил. Только в лицо, так как падал он на спину.
Он ещё не упал, а я уже перешагивал через него, подошёл к столу, открытой ладонью ткнул «палача» в нос и отобрал наган из поднимающейся от кобуры руки. Наган я схватил за ствол, не размахиваясь опустил его рукоятью на кисть левой руки «палача», которой он упирался в стол. Хруст. Он не взвыл – уже был без сознания от удара в нос, начал падать на стол. Я помог – положив ладонь на затылок, увеличил скорость встречи его медного лба и дубовой столешницы.
Всегда в ярости время для меня замедляется. Я знал, что это невозможно, что это мои реакции и активность мозга так возрастают, но выглядело это, будто в замедленном кино. В ярости нельзя находиться долго – сил и энергии не хватит. Можно перегореть, как лампочка при перегрузке. Я стал успокаивать себя, сел на стул. Жжение в затылке ослабло.
– Конвой!
Дверь распахнулась, вбежали двое с наганами (я гляжу, любят в этой организации револьверы больше, чем пистолеты).
– Вы зачем меня привели? Смотреть на гладиаторские бои? Мне не интересно. Отведите меня обратно в камеру!
– Что тут произошло?
– Откуда я знаю? Они стали бить друг друга.
– Это почему это?
– Я тебе что, психиатр, что ли? Откуда я знаю?
Меня отвели на место. Всё вернулось на круги своя. Принесли поесть, папиросы, газету. От двадцать седьмого января сорок второго года. Эх-хе-хе! Мало оказалось довести я-два, донести его записи до своих. Надо было как-то до Берии добраться. А это сложнее, чем по тылам немца пройти. И ранение это, чуть не добившее меня, не вовремя. Не будь я ранен, может, и сумел бы всё сделать. А теперь сиди и уповай, что Парфирыч и этот разговорчивый Кельш окажутся сторонниками Берии, а не в обойме заговорщиков.
Ведь Берию никто не любил. Все его боялись. Он проворачивал грандиозные дела с наивысшей скоростью и эффективностью. С соответствующей и неизбежной жестокостью и бесчеловечностью. За что его любить? Он умел использовать не только сильные стороны людей, но и чувствительно прихватить за слабости. Недругов у него хватало. А уж как они после смерти Сталина на нём оторвались! Мало, что сместили, оклеветали, уничтожили, имя его в такой грязи вываляли, что и не видно ничего настоящего. Даже в двадцать первом веке мало что известно о лучшем кризис-менеджере двадцатого века.
Но, как говорится, дай нам Господи сил смириться с тем, что изменить мы не можем!
Узник (1942 г.) Свидание со старым знакомым
А на следующее утро дверь открылась, и вместо завтрака пришёл Тимофей Парфирыч Степанов. Я вскочил, так как был рад его видеть, хотя тень сомнения в нём не покидала меня. Парфирыч раскинул руки, в одной была зажата газета, и мы обнялись. Крепко, как друзья после долгой разлуки.
– Как ты, Витя? Рассказывай!
– Да что я! Рад тебя видеть. Не ожидал такого, а рад! Что там, в мире?
– Сейчас расскажу. Пригласишь, или так и будем на пороге стоять?
– Так я тут и не хозяин. Меня даже пытать пытались, извини за каламбур.
– А, наслышан. Ретивый, но недалёкий следователь решил проявить инициативу и ускорить получение твоего согласия на сотрудничество. Но в последний момент он и его подручные сошли с ума и побили друг друга.
– Я там присутствовал. Все живы?
– Таких убьёшь! Им бы каждому по ПТР и в окоп. Их лбами можно танковую броню пробивать.
– А что они сказали?
– Что инвалид-подследственный превратился в призрака и избил их.
– Так это же невозможно!
– Это ты мне мозги засираешь? А то я тебя не знаю! Хорошо, прокуроры тебя не знают и тоже посчитали это невозможным. Но ведь тебя не это интересует? Тебя же подмывает про «Восток» спросить.
– Подмывает.
– На, смотри. Это «Правда» за тридцатое января.
На первой полосе шло сообщение о покушении на Берию. Нарком был ранен, но угрозы жизни нет. Заговорщики схвачены, организаторы выявлены, арестованы, ждут суда.
– Я не успел?
– Эх, Витя! Что бы мы без тебя делали? Всё-таки не подвела меня интуиция. Чутьё у меня, Витя. Хорошее чутьё. А с годами только усиливается. Я как о тебе узнал, сразу почуял в тебе что-то. Только вот что – не понял. Враг ты или соратник? Приглядывался. Ты вроде и весь на виду, но в то же время и какой-то чужой, непонятный.
– Загадочный? – усмехнулся я. Так меня жена называла. Пятнадцать лет прожили вместе, а она всё одно загадочным звала.
– Одно чуял точно – не врал ты, когда патриотические речи толкал. Рискнул, к сыну определил, чтобы приглядел за тобой. А получилось, что ты его спас, многому научил. А теперь нас всех спас от ошибки.
– Ошибки?
Парфирыч вздохнул, расстегнул воротник, весь как-то осунулся, будто вынули из него центральный стержень. Он превратился из старшего майора ГБ в обычного старика, битого жизнью. Круто. Их учат этому фокусу перевоплощения, или это природно-интуитивное, как его чутьё?
– Понимаешь, информация о мнении, что Берия сильно мешать стал, была даже у меня. Очень многие были им недовольны, что не удивительно. И тут этот мальчишка с Антипом с письмом от тебя. Я почитал записи этого Голума. А это его настоящее имя?
– Нет. Это прозвище.
– Он так себя и в записях называл. Странно.
Правда, странно. Хотя что странного? Он – это я, каким мог бы стать в будущем. Или стал. А загадочность – это генетическое. Куда оно денется?
– Почитал я эти сочинения, – продолжил Парфирыч, – многое у меня в голове перевернулось. Я сначала не поверил. Чушью посчитал. Дезинформацией. Думал, и как же это Кузьмина так вокруг пальца обвели?
– А вещи? Я как их увидел, сразу понял, что этот жаворонок неспроста тут. Там такие предметы, обычные, обиходные, которых пока и создать невозможно. Мы ими тоже пользовались. И теперь не представляю, как без них? Зажигалка прозрачная со сжиженным газом, прозрачные плёнки, самоклеящаяся лента, самопишущие ручки, рации. И на всём этом даты производства. Для дезы – больно накладно. Из материалов, ещё не существующих, производство, технологии, каких нет – для дезы?
– Да, это и меня убедило. Но дело не в этом. На многие события и на многих людей я взглянул по-другому. Того же Берию взять. Я и не знал о его руководстве атомным проектом. О разработке вооружений знал. Мы считали, что он и должен этим заниматься, а госбезопасностью должны заниматься мы. А оказалось, что половина нашей… его разведки занималась… как это в голумовых записях называется? А, вот – промышленный шпионаж. Поэтому я и поехал к Меркулову. Мы с ним неплохо знакомы. А Меркулов уже и вышел на Берию. Он приказал тебя и всех причастных изолировать, фигурантов записей взять под наблюдение и… И всё.
– Почему?
– Твой Голум основывался на художественных произведениях и слухах с домыслами. Не самый надёжный источник, согласись. А затрагивались интересы совсем не маленьких людей. Ошибиться нельзя.
Парфирыч тяжко вздохнул:
– Несмотря на всю свою значимость, Лаврентий Павлович сам себя назначил на роль живца. Кстати, твой «доспех» ему и спас жизнь. Он его под тонкое пальтишко надел, чтобы ватником выглядело. Простыл только сильно. И в руку ранен. И внутренние травмы. От удара пули броня твоя не спасает.
– Это точно, – я потёр грудь с левой стороны, куда впилась тогда винтовочная пуля, пробив 8-мм пластину доспеха.
– Хорошо, в голову не попали. Близко и их не пустили, они издали стреляли. Про «доспех» они не знали.
– Ну, вот и хорошо. Теперь меня отпустят? Записи у вас, Голума я, к сожалению, потерял. Больше ничем не могу помочь.
– Этот человек точно мёртв?
– Ему миной оторвало обе ноги, разворотило кишки. Нести его было некому, мы были под сильным обстрелом. И не донесли бы. Я ему полмагазина автомата в лицо выпустил. Чтобы наверняка. Немцу он не достанется.
– Точно?
– Парфирыч! На фига мне врать? Неужели ты думаешь, я его немцам бы оставил? И Кадет видел.
– Перунов будет говорить то, что ты скажешь. Даже под пыткой.
– Надеюсь, его не пытали? Молодых, с не закостеневшей психикой, сломать легко. А он хороший парень.
– Нет, конечно. Даже не допрашивали. Мы с Сашей с ним поговорили, порасспрашивали, Саша его и забрал в училище, от греха подальше, спрятал. А что там за история с немцем? Вели-вели его, потом живым бросили.
– Перевоспитывали. Думаю, когда вернётся домой, а он должен вернуться и не пойти больше воевать, он не откажется сотрудничать. Привет от меня передадите, поможет. Только он не будет делать ничего, что может повредить немцам. Он все-таки любит свою страну.
– И что от него толку?
– Парфирыч, ну ты что? Не разочаровывай меня. Я шпион или ты? Неужели я должен вам, матёрым волкодавам, подсказывать, как использовать агента влияния, как он может, своим не навредив, нам помочь? Беглых пленных укрыть, сообщение передать. Да, я не знаю вашей шпионской специфики.
– Да, Витя, ты прав. Наверное, я устал. Надо отдохнуть. И ты отдохни. Завтра поедем в гости.
Узник (1942 г.) Суд инквизиции
Ехали мы не долго. Всего полдня на машине. Мне завязали глаза, поэтому я ничего не видел. Приехали. Судя по звукам, за город. Меня вывели, вели, поддерживая, через двери, по лестницам. Вверх, вниз, опять вверх, опять вниз, ещё вниз. Они кружили меня. А я и не старался запоминать дороги. Оно мне надо – пытаться перехитрить НКВД? Напрасные напряжения меня никогда не вдохновляли. Наконец пришли. Комната. Большая. Есть окна. В помещении несколько человек. Я сел на подставленный стул.
– Старшина, нам надо ждать от тебя неожиданностей? – раздался голос Парфирыча.
– Смотря что планируется, – пожал я плечами.
– Разговор, – ответил голос Кельша.
– О! Николай Николаевич! Давненько не виделись! Поговорить я не против. Меня не будут трогать – буду послушным, как гимназистка.
Три пары сапог прошли к выходу. Начался разговор. Спрашивали Парфирыч, Кельш и два незнакомых. Я чувствовал ещё двоих, но они молчали, только стулья скрипели. Меня расспросили о службе, о боях, об увиденном, о моих впечатлениях и мыслях. Дошли до машины времени и я-два.
– Почему вы сразу сделали однозначный вывод о пришельце из будущего?
М-да. Почему? Сказать им, что я сам засланный казачок? А что? Реальный шанс попрогрессорствовать. Меня слушать будут. В рот заглядывать. И… запрут. Далеко и надолго. Во избежание. У крысы лабораторной – судьба скучная. Хотя и безопасная. Безопасная? Не стану ли я артефактом, за обладание которым начнётся война между своими с непредсказуемым результатом? Не лучше ли старшиной роты охотиться на танки? Опаснее? Не намного. Зато сам хозяин своей жизни!
– Кузьмин, ты не уснул?
– Задумался. Говорить вам или нет. Скажу – закроете меня за решётками и мягкими стенами. Как психа. А не говорить – не отстанете. Так и будете думать-гадать, где я вас обманываю.
– Говори. Мы уже все убедились в твоей твёрдой разумности.
– Там, в последнем бою, я пошёл в атаку на танки.
– Да, нас тоже удивил этот поступок. Ты приказал своей роте отходить на запасную позицию, а сам пошёл в одиночную атаку на танковый батальон. Почему?
– Тогда мне это показалось хорошей идеей.
– А сейчас?
– А сейчас я понимаю, из моей атаки вернуться было нельзя. Это сейчас. А тогда – пелена усталости с глаз спала, и я вдруг отчетливо увидел всё поле боя. Каждый танк, каждого человека. Говорят, это особое состояние психики, бывалые бойцы называют подобное упоением боем. Я увидел, что враги сосредоточились на обстреле моих ребят. Их было так много, что я понял – никто не добежит, всех в спину положат. Нет смерти для мужчины позорнее, чем в спину, а ребята уже доказали, что они – герои. И ещё я вижу, что на меня никто внимания не обращает. И я рванул обратно. Я зашёл им во фланг. Я убивал их раньше, чем они понимали, что я – не один из них. Я зачистил всю траншею. И танк увидел. Так себе танк, чешский. Надёжный, но устаревший. Броня тонкая, на клёпках, оружие слабое, силуэт высокий. Только внутри асы сидели. Они всю Европу уже проехали. Ну, думаю, дальше я вас не пущу! У меня противотанковая граната и огнесмесь. Не помню, в чём – бутылка или шар ампулы. Я подобрался к нему ближе, кинул и то и другое. Танк загорелся. Но я попал неудачно – он продолжал ехать. Развернулся и на меня пошёл. Может, на гусле порванной его крутануло?
Я вздохнул.
– Так я под ним оказался. А он – взорвался. Кто-то, наверное, ему в корму добавил. И вот тогда я и разговаривал с ангелом.
– С каким ангелом?
– Невоспитанным – он не представился. Он сказал, что долг мой не уплачен, что я должен встать и пойти. Я встал и пошёл. А он меня за руку вёл. Я видел другой мир. Там я видел очень много чудного и странного. Люди одеты по-другому, спешили все куда-то. Там все носятся как угорелые. Меня никто не видел. Он сказал, что русские должны успеть сделать ядрён-батон не позже американцев. И отвечает за это – Берия. Баланс восстановится, человечество будет спасено. Потом я опять оказался под сгоревшим танком. Он сказал, что я видел будущее, которое ускользает, потому что их противникам, человеконенавистникам, удалось убрать из игры маршала Жукова. Там для них он был важен. Я должен идти, найти в лесу Голума и спасти человечество. Всё. Он исчез. Я думал, что это меня так сильно контузило, что я бредил. А когда мои ребята показали эту прозрачную зажигалку, меня как током пробило – там, в бреду, прямо передо мною парень прикуривал от такой зажигалки. Это был Голум.
– Красивая сказка. Товарищи, вы ему верите? – спросил насмешливо голос.
– Как хотите, – ответил я. – Это ваше дело, верить мне или нет. Я только вот что попрошу. Лаврентий Павлович! Я вас знать не знаю, но многие мои друзья жизни положили, чтобы предупредить вас. Мы отринули усталость, трое суток без еды и сна бежали, не останавливаясь, по лесу и болоту. Каждый из нас был ранен. Но мы вырвались из мешка. И если надо, положим жизни и остальные. За вас ангел просил. От вас зависит судьба человечества. В минуты слабости или сомнения вспомните, что мы не колебались, вспомните, что стоит на кону. Ангел просил передать – будущее не предрешено. Каждый из нас каждую секунду строит будущее. За судьбу правнуков стоит бороться. Мы надеемся на вас, Лаврентий Павлович. Всё.
– Нет, не всё, – ответил мне голос с кавказским акцентом, – как ты узнал, что я здесь?
– А ради кого меня сюда везли? Ради Кельша и Степанова, при всём моём уважении к ним?
– Ладно. Отсюда ты можешь выйти только нашим сотрудником.
– Без проблем. Только на фронт.
– Нет. Ты отвоевался. У тебя будет другая работа.
– Тогда вынужден отказать. Моё дело – немца бить. Что вы мне предложите? Врагов народа искать? Осназ? Это когда они по несколько суток на брюхе, молча, ради одного пленного? И ни разу не стрельнуть? Это скучно! Надо, чтобы рвалось всё! Чтобы тысячи раз умереть можно! Чтобы немцев и танков много!
– В одиночку штурмовать танковый батальон или зачищать три этажа школы?
– Ну, вот, вы понимаете! Я тогда только один этаж очистил. Лестницу наверх ученическими партами завалил и поджёг всё. Они со второго этажа прыгали, а мы их штыками и прикладами! Не смогу я вашу работу делать. Запорю всё!
– Но у тебя получалось! – это голос Парфирыча. Переживает старик.
– С перепугу человек может паровоз обогнать. Не факт, что на олимпийских играх он повторит это. Экспромт и профессионализм несовместимы.
– Что же, насильно мил не будешь. Жаль. Мы предложили помощь. Без нашего крылышка тебя ждёт военная прокуратура. Они нам уже все телефоны оборвали. И как ты умудрился столько напортачить? Да, экспромт. Что ему там они впаять хотят?
– Расстрел.
– Это уж чересчур. Воевать некому. Пусть заменят на штрафную роту, как поправится. Верховный как раз издал приказ «Ни шагу назад!». Там и немцев много, и тысячи раз умереть можно, как он и хотел. Прощай, старшина Кузьмин. Да, спасибо тебе от меня лично.
– До свидания, Лаврентий Павлович. И не за что. Не ради вас старался, а за народ свой.
– Дурак? Может, его и в самом деле медикам показать? Он ведь и правда не от мира сего.
– Штрафная рота покажет.
Вот так решилась моя судьба. И в штрафниках можно воевать.
В гостях у «шурочки» (1942 г.) Маршевая рота
Март по календарю, а морозы трескучие. Правильно говорят: марток – одевай семь парток. Я одет тепло. Теплое бельё, шерстяная комсоставская гимнастёрка и галифе, валенки, меховые трёхпалые рукавицы, ватная фуфайка и штаны, а сверху ещё и полушубок овчинный. Это меня так друзья в штрафники собирали. Сидор за плечами полон сала. В кармане штанов – трофейный «Вальтер», хоть и не положено. А в валенке – штык-нож, пришит ножнами к штанине.
Я иду в строю сотни штрафников. Мы маршевая рота. Идем весь день навстречу зареву и грохоту войны. Это горит столица моей Родины. Там мы пополним штрафную роту 237-й стрелковой дивизии.
Большая часть штрафников – зеки. Зачем они на фронт идут, непонятно. Но меж ними и проштрафившимися фронтовиками уже было несколько стычек. Даже я поучаствовал. Подвалил ко мне один такой хмырь, явная «шестёрка», прощупать меня решили, значит. Схватил меня пальцами за воротник, сиплым голосом прохрипел:
– Ничё так шкурка. А народ мерзнет. Может, поделишься, краснопёрый?
Блин, меня даже не разозлило. Отпор в таких случаях надо давать очень жёстко, чтобы не повадно было. Одним резким движением рук стряхнул рукавицы – они упали к ногам. Я схватил его за пальцы, резко, аж захрустело, вывернул вверх, зек, соответственно, с воем – вниз, упал на колени. Я сбил с него левой рукой шапку, схватил за ухо, крутанул. Зек, вопя, как сирена воздушного предупреждения, развернулся на коленях на сто восемьдесят градусов, лицом к толпе и к тем, кто его послал меня пробить. Правой рукой я уже достал из валенка финку:
– Кто прикоснется ко мне, потеряет какую-либо часть тела, – громко сказал я и тут же отсёк ухо этому зеку. – Кому урок будет невдомёк – замочу!
– Кузьмин! Отставить!
О! Младший политрук нарисовался, затвором щелкает. Вообще-то он нормальный пацан, только вынужден командовать маршевой ротой штрафников, а это тот ещё сброд.
– Что ты наделал, Кузьмин? Как он теперь стрелять-то будет? Зачем пальцы-то ломаешь?
О, как! А ухо – это нормально?
– И правда! – всплеснул рукой с финкой я. – Что ж, его теперь в госпиталь? Мы воевать пойдём, а он отлёживаться? Нет, так не пойдёт!
Завершая взмах рукой, финка вонзилась в основание шеи у ключицы. Выдернув нож, толкнул тело вперёд. Струя крови брызнула на толпу штрафников. Я присел, стал вытирать лезвие о ватник зека, смотря прямо в глаза его пахану – Митьке Сивому.
– Кузьмин, встать! – голосом, сразу зазвеневшим сталью, приказал младший политрук. – Ты арестован.
– Я в курсе, товарищ политрук. Более того, я осуждён за подобные неоднократные живодёрства к «шурочке». Арестовывай, отправляй в тыл, меня посудят-посудят и присудят штрафроту. А пару месяцев я в тепле посижу.
– Я тебя сейчас на месте шлёпну!
– И через месяц присоединишься к ним. Пройдёшь моей дорогой. До «шурочки». Выпиши себе билет в один конец.
– Можно подумать, у тебя есть обратный билет.
– Есть, конечно. Я заговорённый, политрук. Меня нельзя убить.
– Посмотрим! Встать в строй!
Этим всё и закончилось. Теперь, правда, все сторонились меня, Сивый смотрел звериным взглядом, но мне было плевать. Меня больше волновала боль в колене от многочасовой пешей прогулки.
Кого только не было в рядах штрафников! Настоящий зоопарк. Но описывать не буду – скучно это.
Мы шли по пробитой в сплошном снежном насте дороге. Сугробы отвалов образовали белые стены по сторонам метра в два высотой. Шли штрафники по четверо в ряд, плотно прижавшись друг к другу – так теплее. Только я шёл теперь один, последним – все сторонились психа. Младший политрук шёл впереди колонны, позади меня на трёх санях ехал заградотряд – дюжина бойцов КВ НКВД с тремя «дегтярями». Кстати, нормальные ребята. За шмат сала согласились везти мои пожитки – брезентовый мешок с «доспехом», разгрузкой и ещё некоторыми вещами. Изредка мы с ними переговаривались, хотя не положено.
Последним я шел не специально, а из-за больного колена. Ещё несколько дней назад оно не болело, но три дневных перехода растеребили рану. За последний час со мной сравнялся коренастый штрафник. Конвоиры прикрикнули на него, но он сослался на сломанные рёбра, и от него отстали. Он шёл, закусив губу, с болью в глазах. Похоже, что не врал.
– Как это тебя угораздило?
– Сопротивлялся.
– А-а, понятно. Потоптали. За что в штрафники угодил?
– За убийство.
– Во как! И кто же лишним на земле был, по-твоему?
Боец бросил на меня злой взгляд:
– Он заслужил.
– Хорошо хоть так. Это лучше, чем по пьяни да случайно. Тебя как звать-то, коллега?
– Иван. А почему коллега?
– Я – Виктор, тоже душегуб.
– Я видел.
– Ты давящую повязку на грудь сделал?
– Зачем?
– Понятно. Не сделал. Вот и мучаешься. Я однажды тоже сломал ребро. Случайно. Ох, и мучился! А потом в больнице утянули – полегче стало. Даже на работу вышел. На вот, жевни.
Я достал из-за пазухи кусок отогретого сала, отхватил половину и дал Ивану. Он вцепился в сало, как неделю не евший. Того и гляди зарычит, как голодный пёс. М-да, нелегко ему пришлось.
– Откуда сам? – спросил я его.
Он опять посмотрел на меня злобно.
– Да мне по барабану, если честно, можешь не отвечать. И чем я тебя так разозлил?
– А разве чекистам не положены отдельные штрафбаты?
Я рассмеялся:
– Какой же я чекист? Я – истребитель танков. Нас осенью в спешке сформировали, сгребли всех, кто был под рукой, одели и вооружили, чем смогли, и под танки бросили. Милиционеров в нашем батальоне было большинство, вот и нашили петлицы войск НКВД. Да и паёк у них получше – тыловая сволочь не отворовывает, чекисты это чётко отслеживают. А в остальном обычная пехота. У меня ротный был из чекистов, а комбат – армеец.
– А что ж тогда вертухаи хабар твой везут и лыбятся тебе?
– Так они тоже сало любят. Не люди, что ли? И анекдот хороший.
– Всё-то у тебя легко получается, – буркнул Иван, пряча обмылок сала за пазуху.
– Держись меня, и у тебя легко получаться будет.
Он посмотрел на меня внимательным, «рентгеновским» взглядом. Ого, как ты можешь смотреть! Да ты не так прост, Ванёк! Ну, смотри, смотри.
До заката шлёпали молча. Иван так и шёл рядом.
– И откуда у тебя весь этот хабар? – наконец не выдержал мой попутчик.
– Друзья собирали меня.
– Хорошие у тебя друзья.
– Ну, да, неплохие.
– И видимо, большие шишки.
– Видимо.
– А что же не отмазали тебя?
– Так ведь я и правда виноват в том, за что меня осудили. В самом деле занимался самоуправством и самосудом. И несколько человек лично осудил и лично расстрелял. Некоторые из них были сильно старше меня по званию.
Иван опять зыркнул на меня, отвернулся.
– Не настолько, значит, друзья твои важные. Не смогли?
– Да ведь и не в том дело! Я же тебе сказал, я на самом деле виноват. А виноват – надо расплатиться.
– Ты больной, что ли? Или издеваешься так? – зарычал Иван, отшатнувшись.
– Да как ты не поймёшь! Под Богом же я хожу. Я согрешил – должен ответить.
– Да пошёл ты! Что ты тут лепишь? «Согрешил», «ответить»! У меня красные весь род вырезали – кто ответил? За расказачивание кто-нибудь ответил? Где твой Бог?
– Ответили. Или ответят.
– Да пошёл ты! – Иван уже кричал. Бойцы сопровождения соскочили с саней, взяли оружие наизготовку.
– Ответили они! Я лично видел, как один всю мою семью из маузера расстрелял. И что? Ответил он? Я его нашёл – вся грудь в орденах, генеральские звёзды на воротнике. Где твой Бог?
– Это за него ты сюда угодил?
Иван сразу осёкся, быстро огляделся, насупился.
– Нет, – буркнул он.
– Он сейчас жив?
– Нет.
– Значит, ответил.
– Ага! – взвился Иван опять, но тут же осёкся, замолк.
– Пусть и твоими руками, но ответил. Бог как раз нашими руками и восстанавливает правду.
– А его руками кто?
– Бога или генерала?
– Генерала.
– Противник Бога и рода человеческого, человеконенавистник.
– Тьфу на тебя, болтун. Да пошёл ты! Не хочу с тобой больше говорить. Я думал, ты серьёзный человек, а ты – балаболка. Или дурачок блаженный.
– Слышь, Иван, – позвал я его шёпотом, – а как ты сделал, что никто не догадался, что это ты?
– Он в реке утоп. Я-то тут при чём?
– Утоп, говоришь, – я усмехнулся, – а Бог тут ни при чём? А ты молодец. А в штрафники как попал?
Тот зло зыркнул на меня и прибавил ходу, догнав последний ряд.
– По малолетке за поножовщину сел. Не успел откинуться – опять его повязали над телом. Прошлой весной. В лагере вскрыл двух политических. От расстрела в штрафники бежит. Ты поаккуратнее с ним – отчаянный душегуб.
Это сержант из конвоя догнал меня. Я поблагодарил его и спросил:
– Ты про всех знаешь?
– Нет, конечно. Только самых опасных. Должен же я знать, от кого чего ждать.
– Про меня тоже собрал сведения?
– Обязательно. Ты у нас считаешься самым непредсказуемым и опасным. И неуправляемым.
– Во как! А что же вы тогда якшаетесь со мной?
– Тут, во-первых, соображения безопасности – друга держи вблизи, врага ещё ближе. Да и ошибочно мнение о тебе. Ты очень предсказуем. Действуешь не по общеустановленным правилам, не по уставу, но вполне понятно, предсказуемо.
– В тебе психолог умер.
Сержант рассмеялся:
– Почему умер? Живёт, растёт и развивается. Это у меня работа.
– Значит, я уже не в списке опасных?
– На первом месте. Только угрожаешь ты не нам, а всем, кто вокруг тебя. Ты уже убил одного потенциального бойца, они будут мстить. Опять кровь и потери. Может, грохнуть тебя сейчас? Больше людей до фронта доведу.
Предлагает убить меня с улыбочкой на лице. Изверг! Кровавая гэбня! Пятьсот-мильонов-невинно-убиенных!
– А смысл? Для чего эти упыри в законе на фронт идут? Они воевать будут? Не смеши мои валенки! Или ты довёл, а там и трава не расти?
Конвоир хмыкнул, развернулся, через плечо процедил:
– Ночью спи вполглаза. Эта порода очень подлая. А одно твоё присутствие им мешает больше, чем весь конвой. Одним фактом твоего существования. Или они тебя сегодня режут, или завтра будут резать за тебя.
Сержант ушёл. Вот это да! Сержант! Он просчитал всю подковёрную партию! Быстрее меня.
Ладно, будем поглядеть.
В гостях у «шурочки» (1942 г.) Особенности ночёвки штрафников
Уже в сумерках снежный туннель дороги вывел к какой-то деревне. Политрук согнал нас на «обочину». Мы пропустили мимо себя крупнокалиберную батарею на механической тяге со всеми сопутствующими. Только после этого вошли в село, и политрук распределил нас по строениям, назначив старших. Я даже не удивился, оказавшись старшим над дюжиной штрафников.
Ввалились в ещё не остывшую избу. Хозяев не было, топили пушкари. Все попадали на застланный соломой земляной пол. Я подошёл к печи, открыл, заглянул. И стал пинками поднимать людей:
– Ты и ты – вычистить печь от золы! Вы трое – обеспечение дровами!
– Где мы их возьмём?
Я навис над спрашивающим. Совсем пацан. Не из сидельцев. Как попал сюда? Постучал ему пальцем в лоб:
– Что это у тебя такое? Там есть внутри чего или один сквозняк меж ушами? Напряги свою бестолковку. Приказ получил – исполняй! Найди, добудь, роди – мне пох! Пшёл! Остальные! Всю эту коллекцию блох на полу – на мороз. Натаскать свежей соломы – там стог недалеко стоит. Работаем! Я пойду пожрать пробью. К моему приходу не будет готово – жевать будет нечем!
Распределением сухпая занимался политрук, выдавал один из конвоиров. Замёрзший до состояния камня хлеб, махра и заварка – насыпью. Каждый получал за себя. За группу получал только я и шнырь от лагерной «аристократии». Шнырь зло буравил меня взглядом. Получил своё, прижал к сердцу сокровище. Проходя мимо меня, прямо испепелял взглядом. Я не удержался от подобной провокации, резко дёрнулся в его сторону:
– Бу!
Он так резко отшатнулся в испуге, что сел задницей в снег, под всеобщее ржание. Политрук осуждающе покачал головой. Я тоже получил на свою избу, пошёл обратно. Чувствовал, как спину мне буравили злобные взгляды.
Избу было не узнать: пол переливался оттенками золота от душистой соломы в пляске огня в печи-голландке – пока таскали туда-сюда, хату выморозили. Ничего, прочищенная печь быстро прогреет, а проветривание только на пользу. Все замерли, не отрывая глаз от котомки.
– Есть сегодня будем хлеб с чаем. Хлеб морозовый, чай не заварен. Надо мухой найти тару под чай. Пока чаёк заварится, хлеб оттает.
Я разложил каменные буханки на печи. Поставили на огонь ведро с водой. Всё население избы расселось перед буханками, как перед телевизором, взгляд не отрывали. Я вздохнул:
– Мужики, я отлучусь ненадолго. Никого не впускать, никого не отпускать. Если кто хлеб хоть тронет, порежу на ремни.
Я сбегал к конвоирам за своим мешком. Сержант, наклонившись, спросил:
– Помочь? Подстраховать?
– Не мешать. Чем быстрее этот нарыв прорвётся, тем лучше.
– Сегодня жди. Если сегодня не решатся, больше у них до самого фронта случая не будет. И Брасень это знает.
– Главарь их?
– Ага. В законе вор. Авторитетный.
– Зачем вызвался? Законным вроде как западло служить.
– То-то и оно. Глаз и глаз за таким.
– А Сивый?
– Сивый – ширма. Главарь – Брасень.
Я поблагодарил и поволок свой тяжеленный тюк в хату. Ночь. Темно. Если бы не снег под ногами, вообще ничего бы не было видно. А так я ещё на подходе заметил тень, достал ствол.
– Не стреляй, – раздался голос Ивана.
– Чего ты?
– К тебе пришёл. А они не пускают.
– Правильно делают. С чем пришёл?
– Тебя ночью убивать будут.
– Пытаться. Ключевое слово «пытаться» ты забыл. Я уже сам докумекал. Тебе-то что с этого?
– Я отказался участвовать. Меня пайки лишили и из избы выставили.
– А, обиженный и оскорблённый. Понятно.
– Ничего тебе не понятно, – Иван вдруг разозлился, но взял себя в руки, умолк.
– Ладно, казачок. А ты не засланный казачок, а? Во сне меня ножичком… Я слышал, ножи ты любишь.
– Да пошёл ты! – Иван развернулся и похрустел снегом от меня.
– Постой. Ладно, не психуй. И чего ты такой нервный? Спокойнее надо. От этого все твои беды. Надо учиться контролировать свои эмоции. Умел бы – не попался бы. Месть – блюдо, которое подают холодным. Пошли в дом. Не та погода, чтобы разговоры разговаривать.
Как только подошли к двери, она открылась – слушали, получается. Зашёл, скинул тюк, оглядел людей, печь с хлебом, только потом убрал браунинг в карман. В ведро засыпал заварки – пусть варится, будет казаться, что чай крепче, нарезал хлеб на равные куски, на каждый положил по тонкому слою сала под общие вздохи и шлепки падающей на пол слюны, по жребию распределили. С отсутствующими глазами народ основательно пережёвывал ужин.
– Курить в хате запрещаю – сгорим на хрен! Курить на улице. И ещё. Сегодня упыри лагерные меня резать придут. Как начнётся карусель, всем щемиться в тот угол. А то попадёте под раздачу. Всё понятно?
Они начали дружно меня убеждать, что за меня любому глотку порвут, но я быстро осадил их:
– Вы мне только мешать будете. Сидите в углу и сопите в две дырочки. Я сам с этими пародиями на людей управлюсь.
Ага, мне бы эту напускную уверенность да внутрь. Пальцы холодеют, сердце замирает. В темноте скинул полушубок – изба уже хорошо протопилась – и поверх ватника надел «доспех» – пусть пробуют прорезать. Вместо шапки надел связанный матерью Кадета из светлой шерсти подшлемник – привычную для людей моего поколения вязаную шапку. Моя только была как у омоновцев – с маской и прорезями для глаз и рта, закрывала всю голову целиком.
– Чего ты, Вань? – спросил я подползшего по соломе Ивана.
– Это правда, что про вас рассказывают?
– Про кого про нас?
– А как ваше имя?
– «И имя им – легион». Это ты меня, что ли, на «вы»? Вот уж зря. Ты не смотри, что рожа в шрамах и щетина седая. Это я пережил больше положенного. Я не старше тебя. А тому, что люди балакают, не верь.
– Ты танки взрывал?
– Взрывал. Да танк взорвать не сложно. Сложно после этого живым остаться.
– А самолёты?
– Один. Случайно. Уж очень он наглый был. Прямо так и просил себе в брюхо пулемётный диск. Не удержался. Прописал ему лекарство от наглости.
– Помогло?
– Аллергия у него на свинец оказалась. Пациента спасти не удалось.
– Говорят, ты немцу лицо обглодал.
– Блин, да что же это такое? Спи на хрен! Да, я немцев пачками на обед и ужин ел! Самолёты сбивал мощной струёй мочи, а танки жёг выхлопными газами после горохового супа. Мощным пердежом заодно удушил полк пехоты. Не было ничего. Спи!
Иван замолк, обиделся. Его проблемы.
Я думал, от нервяка не усну. Как же! Срубился сразу.
Разбудил меня грохот пустого ведра, выставленного у двери, и мат.
– Вали его, суку!
Я сразу оказался на ногах, в затылке опять зажгло – накатила волна адреналина и «ярости». Два шага разбега, и я встретил первого гостя прямым ударом ноги в живот. Я совсем забыл – валенки ни разу не сапоги. И хотя гостя снесло из дверей как пушкой, я тут же понял, что мой любимый бой ногами не выйдет. Справа встал Иван, слева ещё кто-то. В руке Ивана блеснул нож.
– Никого не мочить! – рявкнул я.
Иван завис ненадолго, но нож убрал.
Ночные визитёры, наконец, разобрались с препятствием в двери и полезли. Я заревел, как раненный в пах бык, и кинулся на них. Одному в челюсть левым локтем, другому в нос кулаком, боднул лбом в лицо третьего и оказался на улице, закрыв своим телом дверь в избу. Я очень высоко оценил готовность ребят пострадать за меня, но у меня «ярость берсерка» и «доспех», а у них – ничего. В этой драке им делать нечего. А вот я изрядно отвёл душу!
Через несколько минут на ногах стояли только я и Брасень с заточкой в руке и явным сомнением на лице. Все его подручные были вооружены ножами, шилами и другими колюще-режущими предметами. Это им не помогло. Я повырубал всех.
– Что, Брасень, ссышь, когда страшно?
Он зарычал и кинулся. Я увернулся, ударил, не попал, увернулся, опять не попал, заточка ударила меня в корпус справа – ага, в печень целил. А вот тебе сюрприз! Брасень на мгновение оцепенел от удивления, что заточка не вошла в тело, а застряла, и тут же схлопотал локтём в лицо.
Я присел рядом с ним, приставил его же заточку к правому веку.
– Что же делать мне с тобой, упырь?
Брасень молчал.
– В одном прайде не может быть двух альфа-самцов. Один из нас должен уйти. А из штрафроты уходят только вперёд ногами.
– Ну, так давай, чего ты ждёшь?!
– Скажи мне, вор, зачем ты на фронт пришёл? Поперёк закона пошёл. Тебя теперь раскоронуют. Станешь ты обычным мужиком. Не обидно?
– Не твоё дело, красножопый! Не поймёшь ты.
– А ты попробуй. Или ты к «цивилизованным» немцам решил переметнуться?
– Нет! Пусть я вор, но к немцам мне дороги нет.
– Слова, достойные мужчины. Но это не снимает повестки дня. Ты или я.
– Тут уже и так понятно. Чего медлишь? Давай, красный!
– Не красный я, а русский. Про воровские замашки свои забудь, тогда сделаю тебя человеком. Ты теперь не вор в законе, а обычный боец переменного состава штрафной роты. Согласен с этим?
– Да!
– Живи. Пока.
Я встал, схватил тщедушного Брасеня за воротник, поставил на ноги, бросил ему под ноги заточку.
– Собирай бойцов, пока не простыли.
Я повернулся к нему спиной и пошёл. Вот главное испытание! Кинется – удавлю! Не кинулся.
Я зашёл в избу. Створка печи открыта, все стоят, в глазах блещет огонь.
– Падаль из избы убрать. Всем спать. И ещё: благодарю за поддержку!
Бессознательных подручных Брасеня вышвырнули за порог. Один боец подкинул дров в печку, все улеглись на солому.
– Товарищ Кузьмин, можно вопрос?
– Можно Машку за ляжку и козу на возу. Мы в армии, а в армии только «разрешите».
– Разрешите вопрос?
– Задавай.
– Почему вы их не убили?
– Это было бы безвозвратно, да и слишком просто. А слишком простые пути приводят всегда и однозначно в одно только место…
– Куда? – не дождавшись окончания предложения, спросил тот же. А, я его вспомнил – ему пальцем в лоб тыкал.
– В жопу. Или в могилу. И ты туда попадёшь, если не научишься своей бестолковкой действовать так, как надо, и продолжишь задавать дебильные вопросы. Спать всем! Самое ценное, что есть на войне – сон. Не упускайте возможности.
Утро было до тошноты жизнерадостным. Нас ещё засветло взашей вытолкали из хат очередные пушкари. Мы отбрехались и позавтракали в тепле.
Во дворе стояла накрытая белым полотном гаубица. Какая именно – непонятно, но не маленькая. Похоже, это тенденция. Командование отводит из Москвы тяжёлое вооружение, но гонит нас. Ага, значит, мы будем сковывать врага, а удар нанесут по флангам. Нормально. Порадовали меры маскировки и дезинформации. Что увидит воздушная разведка – к Москве идёт пехота, в сёлах стоит техника. Главное, чтобы они свою технику из московского капкана не вывели.
Опять идём, хрустя снегом. Мороз стоит, хотя солнышко начало пригревать. Нас иногда обгоняли полуторки. Настроение начало подниматься. Особенно порадовала морда сержанта КВ НКВД, когда он пересчитал конвоируемых, не нашёл убыли, а увидел разбитые лица зеков.
Под настроение попал ещё и политрук:
– Рота! Запе-е-вай!
Запевай так запевай! «Рота, рассвет, третьи сутки в пути»:
Третьи сутки в пути. Ветер, камни, дожди, Всё вперёд и вперёд Рота прёт наша, прёт. Третьи сутки в пути, Слышь, браток, не грусти! Ведь приказ, есть приказ, Знает каждый из нас. Напишите письмецо, Нет его дороже для бойцов, Напишите пару слов Вы, девчата, для своих пацанов. И на закате вперёд Уходит рота солдат, Уходит, чтоб победить И чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, Товарищ старший сержант, Я верю в душу твою, Солдат, солдат, солдат. Третьи сутки в пути, Ветер, камни, дожди. На рассвете нам в бой. День начнётся стрельбой. Третьи сутки в пути. Кто бы знал, что нас ждёт! Третьи сутки в пути, И рассвет настаёт. Напишите письмецо, Как живёт там наш родимый дом, Из далёка-далека Принесут его мне облака. И на закате вперёд Уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить И чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, Товарищ старший сержант, Я верю в душу твою, Солдат, солдат, солдат. Падала земля, с неба падала земля! Разрывая крик в небе: «Подла ты, война!» Плавилась броня, захлебнулся автомат, Заглянул в глаза ты смерти, гвардии сержант! И на закате вперёд Уходит рота солдат, Уходит, чтоб победить И чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, Товарищ старший сержант, Я верю в душу твою, Солдат, солдат, солдат!Народ проняло. Потребовали повтора. Второй раз пела уже вся колонна. В этот день я пел как никогда много. Достигнутый результат по психомоделированию надо было закрепить. Спел почти весь свой репертуар извлечённых из вымученной памяти и адаптированных песен. Оказалось, помнил я много. И «Любэ», «Кино», песен из советских военных фильмов, песен времён этой войны, уже написанных и ещё нет. Люди не замечали, что пока они пели, они менялись. Это вам не про Мурку петь. Они изменятся. Из человекообразного материала людьми станут. Одними песнями, конечно, этого не достичь, но и без нужных песен тоже не обойтись. Пусть сержант ГБ офигевает.
Справа от меня шёл Иван – Казачок, слева, так же, как и ночью, Кот. Сейчас, при свете дня, я его рассмотрел получше: невысокий смуглявый крепыш, резкий, как понос, подвижный, как капля ртути, плавный в движениях, с довольной, хитрой ухмылочкой на лице, цепкими внимательными глазами. Представился как Кот. Погоняло ему шло на все сто пудов. Осталось понять, чего это эти двое, и близко не подлизы, ни грамма не подхалимы, не приспособленцы, притёрлись ко мне. Сильные характером ребята добровольно прыгнули в мою обойму. Подозрительно. А может, я просто параноик?
Так, с песнями, в приподнятом расположении духа, отмахали больше планируемого. К вечеру вышли к пригородам столицы. Многие впервые услышали канонаду. Да и я от неё отвык.
Находясь в боях, не замечал, в тылу не замечал, а сейчас почувствовал, как сущность моя сама переходит в какой-то другой режим работы от звуков войны. Затянулись все ослабленные винты, гайки, всё тело поднапряглось, напружинилось. Я даже заметил, что смотреть и видеть всё стал иначе. Если бы это произошло не так быстро, и не заметил бы изменений, произошедших со мной.
Кстати, подобный режим включился очень вовремя:
– Ложись! – заорал я и рухнул, где стоял.
Люди недоумённо уставились на меня, но тут многие услышали этот шелест, попадали. Рвануло! Да так, что снегом меня обсыпало. Я приподнялся, прислушался, встал. Народ в ужасе.
– Ни фига себе перелёт! – громко удивился я. – Что же это у них – хороших наводчиков больше не осталось? Если они так метко и дальше будут стрелять, к следующей зиме к Одеру выйдем.
Мой ура-позитив подбодрил народ. Политрук построил всех обратно, погнал в город.
Руины столицы (1942 г.) В роли жертвенного барашка
Ротного видел только издалека, когда он толкал речь про необходимость освобождения столицы от врага. Речь была незажигательной, какой-то шаблонной, картонной. Видно, и для самого ротного она была частью ритуала, обязательной, нудной частью программы. И это мне не понравилось.
Потом нас вели руинами, подземными переходами, по темноте. Сержант со своими конвоирами остались там, пойдут за следующей партией «мяса». Конечно, покормить нас «забыли».
Взбесил меня старшина штрафной роты, наглый жирный тип, не скрывавший презрения к нам, выдал мне винтовку с расщеплённым прикладом и выгнутым стволом.
– Ты что делаешь, старшина? Как я из неё стрелять буду?
Он заржал, довольный:
– Как трое предыдущих стрелков! Сдохли раньше, чем выстрелили!
Я ему влепил смачную оплеуху, аж кровавые сопли из носа полетели. Хотел добавить с ноги – не дали, оттащили. Пригрозили расстрелом.
– Я тебя запомнил! – закричал старшина.
– Запомни, тварь! Хорошенько запомни! А забудешь, я напомню!
Вот урод! Как я буду воевать? Штыка нет, ствол кривой, приклад разбит, всего десять патронов, не жрамши со вчерашнего утра, без сна всю ночь. Суки! Это не атака, это не в бой нас бросят, а на убой!
Сам себя мысленно схватил за химок, встряхнул. То же проделал с особо разоравшимися штрафниками. Они собрались вокруг, смотрят, ждут. Надо что-то сказать. А что? Как отец говорил: нечего сказать, говори правду.
– Я не понимаю, что происходит. Но утром пойдём в атаку. Победим – хорошо, нет – что ж теперь? Сделать этот бой я вам не смогу. Сегодня всем вам нужно сделать одно – выжить. Дожить до вечера. Помните: сдадитесь врагу – это смерть. Медленная и мучительная. От голода будете пухнуть долго. Побежите назад – положит вас заградотряд. Смерть глупая и бесполезная. Как бы страшно ни было – назад нельзя. А теперь мотайте на ус. Нам можно только вперёд. Но! Кто будет паровозом ломиться прямо, как по рельсам – сдохнет, не факт, что быстро и не мучительно, но гарантированно. Бежать нужно быстро, пригнувшись, не прямо вперёд, а по диагонали. Бежать не более пяти секунд. Когда бежишь, смотришь. Надо видеть и позиции врага, и землю под собой. Пока бежишь, высматриваешь укрытие. Пробежал пять секунд, упал, перекатился, минимум три раза, желательно в укрытие – кочка, камень, канава, тело твоего предшественника. Отдышался, вскочил и трассером бежишь следующие пять секунд. Будете так наступать – выживете.
Я понимал, что они и половины не запомнят. А оставшаяся половина вылетит из головы, выбитая страхом, как только встанут навстречу трассерам пулемётов. Рты поразевают в беззвучном крике ужаса, выпучат стеклянные глаза и на деревянных, парализованных судорогой ногах пойдут на огонь. Не побегут – пойдут.
Слова тут бесполезны. Это надо пережить, прочувствовать, перебороть. Именно поэтому командование ценит обстрелянных солдат.
Нас привели во двор, образованный разрушенными домами. Я пристроился к стене, попытался уснуть. Не хотел видеть трясущихся соратников. А поспать нужно. Так и уснул. Это хорошо. Единственный минус – замёрз. Проснулся очень тяжело, трясло, как перед первым боем. Впрочем, как и остальных. Стал прыгать, приседать, чтобы согреться.
– Эх, кофейку бы горяченького!
– Иваныч, ну ты и зверь, – простучал зубами Иван, – меня всего выворачивает, как подумаю про утро сегодняшнее. А ты – спокойно дрыхнешь.
– Не ссы в компот, Ваня, там повар ноги моет. Чему быть, того не миновать. Если мне сегодня суждено оставить этот, далеко не лучший из миров, то хоть я в самую глубокую нору забьюсь, а до утра не дотяну. Не пуля, так паралич разобьёт. А если один хрен мой крайний день, так хоть покуражусь напоследок. Чего бояться? Страх, Ваня, убивает душу. Он только мешает. Когда поборол страх, умрёшь один раз, не переборол – умираешь по несколько раз в день.
– Балабол, – пожал плечами Иван.
– Фаталист? – спросил меня Кот. Вот этому, казалось, всё по барабану. По хитрой кошачьей морде не поймёшь, что он испытывает. Это Ванино лицо как открытая книга. Кот всё время хитро прищурен, ехидно ухмыляется, отчего становится похожим не только на кота, но и на китайского болванчика.
– Не знаю, – ответил я ему.
– Сейчас выдвигаемся на рубеж атаки. По зелёной ракете дружно идём на штурм опорного пункта врага. Если навалимся все враз, одолеем! Кто откажется идти в атаку или побежит – расстрел на месте, – кричал невидимый мне отсюда ротный.
Хороший план. Главное, современный. Как раз в стиле Суворова и боёв с турками. Все враз и в штыки! Классика. Хотя, может, повезёт, и получится?
Выступили. Небольшими ручейками человеческий поток роты двинулся на северо-запад. Шли недолго. Скопились за остатками стен и горами битого кирпича. Это была передовая. Кое-где продолблены окопы. Я обошёл всех людей, напялил опять свою шапку-маску из светлой шерсти вместо ушанки, подобрался к обвалившейся стене, выглянул.
Впереди метров триста относительно открытого пространства, а за ним – квартал города. Видимо, немцы артиллерией раздолбили здесь, обеспечивая простреливаемость ничейной полосы. Хотя на нейтралке достаточно укрытий – горы битого кирпича в местах, где были дома, воронки метров по шесть в диаметре, огрызки деревьев, кое-где уцелевшие надолбы. Точно посредине стоял зелёный здоровый танк, башня со звездой повернута на корму, на нас. И всё это густо усыпано небольшими холмиками габаритов человеческого тела. Какие из них зеленели ватниками, какие серели шинелями нашими и немецкими, какие были накрыты саваном снега.
– Что там, Иваныч?
– Кладбище не захороненного пушечного мяса. – Я спустился, стал расстёгивать полушубок. – Слушайте меня и делайте так, как я сказал, если хотите жить. Нейтралка перед нами не бильярдный стол. Укрытий и ложбинок там море. Перекатами и перебежками от укрытия к укрытию вполне можно дойти до позиций врага. А там – «прикладом бей, штыком коли». Вполне реально. В полный рост не бегать. Открытое место пролетать безумным кроликом. И так же ямками и канавами укрываться. Пока танк не пройдём, стрелять бесполезно, только огонь на себя вызовете. Вот и вся хитрость. Ну, с Богом!
Я развязал свой мешок, достал оттуда костюм из белого парашютного шёлка, надел штаны, накидку, броник, уже обшитый снаружи лоскутами белого парашютного шёлка, полушубок и ушанку свернул и запихал в мешок, шёлковый чехол на каску сунул в карман – каски мне не выдали. Мешок завязал, толстой крепкой верёвкой обвязал, другой конец верёвки привязал сзади к поясу.
Бойцы вокруг с интересом наблюдали за моим перевоплощением.
– Мешок с собой возьмешь? – спросил Иван.
– Конечно. Сюда я уже не вернусь. У нас, дорогой ты мой казак, опора и надёжа державы, только одна дорога – на позиции врага. Назад мы не ходим.
– Осилим?
– У нас есть выбор?
– Не по-людски с нами поступают, – просипел простуженный голос справа, – как скот на убой гонят. Что, штрафники – значит, не люди?
– Там, ребята, впереди враг. У него пулемёты, миномёты. Но там впереди – столица! Мужики, это же Москва! Как вы не поймёте, немец в Москве! Нас привели сюда, дали оружие, показали врага. Как его убить – уже нам изворачиваться. А вы как думали, вам немцев голых и безоружных подведут? Нет, ребята. Так не бывает. Всегда так: он там, там пулемёты, пушки, танки, миномёты. А нам надо его одолеть. И не важно, штрафник ты, махра рядовая или мазута за скорлупой – всем идти через огонь. Всем и всегда – через огонь. По-другому не бывает.
Бойцы притихли. Я увидел ротного и политрука. Оба, с ППШ за плечами, шли, переговариваясь. Двое с большими термосами семенили следом. К ним потянулась очередь с кружками, котелками, крышками котелков. Спирт! Я пить не стал, свои сто грамм налил во фляжку, закрыл, повесил на пояс. А люди пили. И правильно – немного отпустит. Сворачиваемость крови не важна, когда от страха руки-ноги судорогой сводит.
Ротный заряжал ракетницу. Началось!
– И ещё, браты, если вдруг окажетесь на зелёной лужайке, не пугайтесь и идите на свет. Вы уже мертвы, вы уже в раю. Мы все уже давно мертвы, осталось только несколько фрицев загнать на пару метров под асфальт. Смертники, вернём долг Отечеству!
Я встал, поправил обмундирование, чтобы ничего не тёрло, не мешало. Рот внезапно пересох, сердце бешено колотилось в горле. Краем глаза я смотрел на ротного. Когда он поднял руку с ракетницей и начал разевать рот, я побежал вперёд, зажав свой мешок левой рукой.
Пусть думают, что я безумец. Или отчаянный храбрец. Мной же руководил точный расчёт. Пока немецкие пулемётчики меня, всего белого, заметят, пока наведут стволы, пока потупят, сколько я успею пробежать на пятой скорости в полный рост? А у немцев ещё есть такой подлый приём – они в первую волну наступающих не стреляют, заманивая. Долбят вторую волну, укладывают таким образом всех мордами в снег и добивают миномётами и на отходе. Воспользуемся их шаблонностью.
Над моей головой просвистели снаряды, разорвались на стороне немцев. Ого! У нас артподготовка даже есть! Правда, следующая партия снарядов не разорвалась. И две последующие. Только чад поднимался. Дымовые! Зер гуд!
Я уже начал задыхаться, когда вокруг меня засвистели пули. Стреляли сзади! Вот суки! Одна пуля ударила в броник. Кубарем ушёл влево, мешок из рук выпустил, дальше бежал уже заячьими петлями и перекатами. Мешок хвостом волочился сзади на верёвке.
Ожил танк. Из башни и из-под днища засверкали вспышки пулемётных очередей. Хорошо, не в меня. Вот почему башня была отвёрнута – там немцы засели. Ну, что ж, разумно. Мы тоже так делали.
Упав в очередной раз, перекатился в воронку, подобрал заиндевевшую каску. Сев на дно воронки, огляделся. Я пробежал метров сто, штрафники сильно отстали. Ломаной цепью баранов пёрли напролом. Лишь несколько человек, подобно мне, зайчатили. Пулемёты собирали свой кровавый урожай.
Быстро постучав каской о кирпич, выбил сор, напялил белый чехол, затянул, надел на голову поверх подшлемника, затянул под подбородком. Вышвырнул мешок, выкатился следом сам, вскочил, побежал, волоча винтовку за ремень по земле. Всё одно она балласт. Чемодан без ручки – и толку нет, и выбросить нельзя.
Я уже сравнялся с танком, пробежал две трети нейтралки, только танк был по правую руку. Мне казалось, что я уже полчаса бегу, но я знал, что это иллюзия. Лишь несколько минут. И тут ожили немецкие позиции. Загремели «сенокосилки» МГ-34, захлопали миномёты. И по мне тоже. Нырнул в небольшую воронку, вжался в самый низ. Пули рвали мёрзлую землю вокруг, пара близких разрывов швырнула на меня комья земли и битый кирпич.
Оглянулся. Рота залегла. А вот почему немец «заговорил» – первые метров восемьдесят рота наступала в низинке, видимая только из танка. Но тут у них уже всё давно пристреляно. Рота подавлена быстро и надёжно. Всё, наступления не будет. Цепь пыталась подняться пару раз, но люди тут же скашивались пулемётами, как косой. Прямо в цепи рвались мины. Хреново!
Танк был совсем рядом со мной. Я даже слышал крики на немецком сквозь грохот пулемётов. Странный танк. Здоровый! Длинный, трёхбашенный. Верхняя большая башня с короткой пушкой-окурком развернута назад и поливает огнём залёгшую роту. Две маленьких пулемётных башни могли стрелять только вперёд, поэтому молчали. Хорошо хоть из пушки не долбит. Под танком и перед ним, точнее, за его кормой, вырыты окопы, мелькают побеленные малярной кистью каски немцев. Откинулся верхний люк, высунулась голова в фуражке и женском пуховом платке. Он оглядел залёгшую роту, поднёс к лицу трубку и начал кричать туда. Корректировщик!
У меня скулы свело судорогой от злости. Старшина, … …. …! У меня такая позиция! Если бы была нормальная винтовка! Пистолетом тут не возьмёшь. Вернусь, порву! Из-за этого раздолбая сейчас народ из миномётов порвут!
Вокруг меня опять начали рассерженными шмелями пролетать пули, звонко вонзаясь в землю. Что это вдруг? Я же не светился. Кот! Ящерицей, из ямы в яму, от кочки к кучке, пробирался сюда. Бросал на меня быстрые взгляды. Явно ко мне собрался. Э-э, дорогой, тут мы вдвоём не уместимся!
Неподалёку была отличная позиция – огромная, глубокая воронка, почти накрытая корнями вывороченного старого толстого тополя. Как я её сразу не увидел? Я вышвырнул мешок повыше в сторону танка, сам метнулся к воронке, кубарем прокатившись по открытому месту, нырнул в корни. Через несколько секунд рядом на пузе съехал Кот.
– Ты что припёрся?
– Я думал, ты к немцам сбёг! – он задыхался, но глаза сияли. Сияние глаз кота – зрелище необычное.
– Кот, тебя мама в детстве на бетонный пол головой не роняла?
Он отрицательно покрутил головой, глубоко дыша, чуть перекатился глубже. Я подтянул за верёвку мешок. Обидно – мешок был несколько раз пробит пулями. Полушубок жалко.
– Постой-ка, а я-то всё думаю, приставят за мной надзирателя или нет? И кого? А вот и надзиратель!
Кот попытался откатиться, но я был быстрее. Ох, и ловкий парень! Из четырёх моих ударов только один прошёл, и то – вскользь. Я воспользовался своим преимуществом в весе и габаритах, зажал его, как медведь нашкодившего котёнка. Надломил, придушил, добивать не стал. Полузадушенный Кот смотрел на меня отчаянно-яростными глазами, но не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть.
– Так это ты мне в спину стрелял, кошка драная! Что же вы дебилы такие! Не пойду я к немцу живым! Смотри!
Я отпустил его, поднял руку и показал потайной карман с Ф-1.
– Видишь, гранату эту не достать. Чеку сдёрнуть – немцам от меня только набор для холодца достанется. Не дамся я им живым, что вы не поймёте никак! Одна у меня Родина! Одна! И она не продаётся!
Кот, вцепившись в своё горло обеими руками, скрючившись, кашлял.
– Как вы достали, чекисты грёбаные! Чурбаны стоеросовые. Вроде нормальные мужики, но временами – кретины! Сиди здесь и носа не высовывай. Лёжку засветишь – мину за шиворот получишь.
Я забрал его винтовку, отряхнул, открыл затвор, дунул, протёр, дослал патрон. Чуть высунулся в нашу сторону, выбрал кочку шагах в тридцати, прицелился, выстрелил. Попал! Нормально.
– Сиди тише мыши! – ещё раз сказал я ему, выкатился из воронки на свою прежнюю позицию. Отсюда было хорошо всё видно. Распластанные по земле цепи роты, терзаемые миномётами и пулемётами, не подавали признаков жизни. Люк на башне тоже был закрыт. Каски немцев уже не мелькали вокруг танка, а уже уверенно торчали над щебнем. Зубоскалят. Унял сильное желание стрелять в эти скалящиеся морды. Надо ждать этого пидорга в платке и фуражке.
Поелозив, устроился поудобнее. Приготовился ждать.
– У-у-а-а-а! – прокатилось по полю боя. Охренеть! Они опять в атаку собрались!
А вот и немец. Выскочил из танка, как чёртик из табакерки. А я тебя уже жду! Пуля расколола трубку телефона, расплескала мозги, фуражка подлетела и упала за танк. Время для меня замерло. Четыре патрона в магазине. Меньше ста метров. Мосинка – очень точное оружие. Стендовая стрельба. Биатлон. Четыре патрона в магазине – четыре дырки в белённых известью касках. Всё! Перезарядить не успею. Бежать!
Когда я свалился на дно воронки под ствол тополя, Кот смотрел на меня огромными глазами.
– Что?
Он кивнул подбородком на меня. Я осмотрел себя – мама родная! На моей одежде места живого нет: масккостюм изорван, клочья ваты торчат из прорех, бронепластины чернеют через брезент, как ножом рассеченный. Сам не веря, ощупал себя. Только царапины. Выдохнул облегчённо.
– Тьфу на тебя, кошка драная, напугал. Иди, дежурь! Посматривай, но не высовывайся! Они нас попробуют минами накрыть, а потом группу выслать.
– Откуда ты знаешь?
– Я бы так сделал. Ты хвост далеко не высовывай – оторвёт.
И правда, вокруг завыло, стали рваться мины. Страшно, мля! Мина – подлая штука: падает отвесно, осколков даёт море! Одним утешал себя – пока по мне долбят, по ребятам не могут.
Налёт был не долгим, но яростным. Мы остались живы лишь благодаря тополю – под ним укрылись. Выглянули оба – лунный пейзаж вокруг. В воронке, откуда я стрелял по танку, не менее трёх новых кратеров. Кот толкнул меня, что-то сказал, но уши как ватой забиты. Посмотрел, куда он указывал. Тополь был изжёван капитально. Похоже, одна из мин рванула прямо над нашими головами.
А это что за явление Христа народу? По нейтралке брёл, спотыкаясь, набычившийся огромный красноармеец. Глаза его были зажмурены, кулаки сжаты, губы закушены. Оружия нет, а прёт упрямо, как бульдозер. Пули у его ног выбивали комки льда, поднимали фонтанчики снега, а он шёл и шёл.
Мы оба, и я, и Кот, в оцепенении смотрели на этого контуженого. Вокруг него проносились сотни пуль, тысячи осколков – а на нём ни царапины!
– Кот, достань его! Не надо на меня так смотреть, я тебе в спину не стрелял. Откупайся! Достань его! Вон в ту яму его вали!
Кот побледнел, зажмурился, задышал глубоко и часто, как перед прыжком в воду.
– Стоять! Я передумал! – я хлопнул его по плечу, осаживая его на дно воронки, а сам выкатился наверх, реактивной торпедой полетел на этого быка, приёмом из американского футбола снёс его с ног и вместе с ним оказался как раз в той самой яме.
Как ни удивительно, я опять был жив и относительно цел. Даже фляжка уцелела. Бык не подавал признаков жизни – сильно я его приложил. Разжал ему рот, влил туда спирта. Ребёнок! Теперь стало видно, что этот здоровяк совсем юн – бритва ещё ни разу не скоблила детский пушок под носом. Парень закашлялся, задыхаясь.
– Что?
– Мне нельзя! – прокашлял он.
– Что нельзя?
– Пить нельзя спиртного!
– Не пей! Тебя как звать?
– Прохор я. Бугаёв.
В натуре бык. Бугай.
– Ты куда шёл-то, Прохор?
– Туда. Сказали идти, я и шёл.
– А оружие твоё где?
– Мне нельзя.
– Чего нельзя?
– Оружие в руки брать. Бог запретил.
– А помирать не запретил?
Парень смотрел на меня глазами праведника, встретившего блудницу.
– Нет, Прохор, ты не бык. Ты – тюлень! Или олень! Придурок! Долбоёж! Кто тебя научил так Бога-то понимать? Секта самоубийцы пятого дня Иеговы?
Конечно, я не удостоился ответа.
– Ну, дошёл бы ты до немцев, что бы дальше делал? Убивать их стал бы?
Он отшатнулся, как от прокажённого. Мля, хоть плачь! Что за день-то такой! Долбоёж на долбоёже!
– Смотри, – я достал, показал ему свой крест. – Мне Бог сказал, что я должен бороться с демонами и бесами в тех окопах. И жизнь мою он уже не раз здесь удерживал, от неминуемой смерти спасал…
Парень усмехнулся.
– Да кто же тебе так набекрень мозги поставил? Толстовцы? Буддисты? Какие ушлёпки это замутили? Непротивление злу? Клуб предателей-самоубийц, гля!
Я схватил его за голову, заглянул прямо в глаза, легко соскочил в «ярость», попытался повлиять на его волю. Парень не сопротивлялся, я весь растворился в его глазах, он принял меня, его сознание, молодое, податливое, не отторгало моего агрессивного сознания.
– Ты веришь мне? – спросил я его нужным голосом.
– Да, – спокойно ответил он.
– Они враги. Ты веришь мне? Их надо убивать!
Он оттолкнул меня. Контакт оборвался. Не вышло. Слишком крепко в нём сидела эта установка. Не сломать. В принципе, сломать можно, но я сломаю и этого парня. Я овладел лишь азами этого умения, не справиться.
– Что же делать-то с тобой, телёнок? Ты откуда родом?
Он назвал. Поняв, что мне это ничего не сказало, добавил, что это в Сибири.
– А, мамин сибиряк. И годов тебе сколько?
– Восемнадцать.
– А если честно?
– Шестнадцать.
– А совсем честно, как перед исповедником?
– Пятнадцать будет в мае.
– Охренеть! Чем же тебя, телёнка, кормили, что ты так вымахал? Почему в армии оказался? Призыву не подлежишь, добровольцами с такими моральными установками не идут.
– Брата старшого призвали. А у него семеро по лавкам. Отец занемог, слёг, мать старая уже. Отец мне и сказал: «Иди, мри!» Я оружие брать отказывался. Меня расстреляли, я не умер. Сюда прислали.
Гля, хоть плачь! Как побеждать-то с таким народом? Жукова упрекать будут за большие потери, а они на войну идут не для победы, не защищать, а умирать! На пулемёты даже не с кулаками, а вообще ни с чем! Как? Что бы он там с немцами делал? В дёсны целовал?
– Что умеешь?
– Читать, писать, считать, трактор водить и чинить, моторы разные, за скотиной ухаживать, лечить.
– Как лечить?
– Вот так, – он положил мне руки не предплечье, где пуля оставила царапину и… заживил.
Вот тут я конкретно выпал в осадок. Рот разинул, как дурачок, и сел на задницу.
– Если я отниму хоть одну душу, Боженька заберёт мой дар.
Решение пришло мгновенно. Конечно, какое ещё может ещё решение – он же санинструктор! Зачем ему оружие? Мы все его беречь будем как зеницу ока.
– А как же тебя расстреляли? Ты себя излечил?
– Нет, матушка заговорила. Не возьмёт меня ни хладный металл, ни огненный.
– Поэтому по тебе не попадали?
Он пожал плечами. И как мне быть? Что это – магия? Промысел Божий? А моя «ярость»? Что это? Адреналиновый взрыв или дар? Со стороны тоже магией выглядит. И это внушение, которым я почти не владею, но оно же есть!
– Слушай, Прохор. Не надо тебе туда идти. Не нужны тебе немцы. Там, на поле, браты наши гибнут, кровью истекают. Раненым надо помочь, с поля боя вынести. Вот тебе что нужно делать, Прохор. Ты меня понимаешь?
– А ты и есть тот самый Медведь, о котором все говорят?
– Не верь никому, Прохор. Я Кузьмин Виктор Иванович. После боя я тебя найду. Иди, Божье дитя, иди. Отнимать жизнь и стоять насмерть – мой удел, не твой.
Он положил мне одну руку на лоб, другую на затылок, задумался-прислушался, кивнул, встал. А голова моя болеть перестала.
– Спасибо тебе, Прохор.
– Вам спасибо, Виктор Иваныч.
И он пошёл. Спокойно, как по парку, а не по перепаханной и пропитанной кровью нейтралке. Бессильные пули злобно проносились мимо него. Я ещё минуту сидел в прострации, пока взгляд мой не упал на клубок синих шлангов. Что за шланги? Откуда? Ё-ё-о! Это же кишки. Переход между чем-то возвышенным, чем веяло от Прохора, в самую помойку войны был так резок, что меня чуть не вырвало. Если бы не пустой со вчерашнего вечера желудок – вырвало бы.
Потом я увидел, что нижняя часть этого тела была вне воронки. И это тело было обуто в подкованные сапоги с короткими голенищами (ага! это немец!), а за голенищем торчала «колотушка». Граната! Тут же горы трупов! У всех же, до перехода в состояние льда, было оружие, боеприпасы, хавчик! Нет! Хавчик – нет! Тихо-тихо, упокойся, требуха! Не буду я у них еду искать. А вот оружие найти надо!
Пока доставал гранату и шарил по обледеневшим карманам, чуть не пристрелили. Зато нашёл зажигалку и портсигар. Понюхал сигареты – табаком пахнут, не трупом. С удовольствием покурил, лёжа на спине в яме. Пока курил, пулемётчик нашёл более интересные мишени, и я перебрался к Коту, под тополь.
Кот как завис, так и тормозил. То есть был в полной прострации. Глоток спирта и сигарета немного привели его в чувство.
– Ты чего такой потерянный, Кошара?
– Как вы это делаете?
– Что именно?
– Всё это… Вас должны были убить сто раз, а вы – вот…
Я пожал плечами, выглянул.
– Кот, ты смотри, по нашу душу охотники ползут. Вовремя я гранату нашёл.
– Может, мёртвыми притворимся?
– В ножи их хочешь взять? Это вряд ли. Они сначала гранату кидают, а потом спрашивают, есть ли кто живой.
Кот промолчал.
– Слышь, Кошкодральник, ты хорошо стреляешь?
– Угу.
– Не угу, а так точно. Отползаем туда. Я кидаю гранату, ты достреливаешь выживших. Потом ныряем опять под корень. Я думаю, мы их сильно разозлим. А когда они злятся, они мины раскидывают очень щедро. Я понятно объясняю?
– Так точно.
– Давай!
Граната легла точно меж двумя ползущими немцами. Один её схватил, хотел отбросить, но я-то кидал с задержкой. Граната взорвалась у него в руке. Тут же бухнул над ухом Кот. И ещё. Я уже змеёй полз в воронку, под корень. Следом вполз Кот. Оба постарались как можно компактнее разместить руки-ноги.
Продолбили нас в этот раз основательно. Долго, упорно и нудно. Страшно, аж кипяток подкатывал к выходу. Держал руками, чтобы не опозориться.
– Кот, погляди – я живой? – сказал я, когда взрываться перестало, но сам себя не слышал. Кот смотрел в одну точку мёртвыми глазами. Убило? Нет, живой, дышит. Контужен.
Всё, лимит везения на сегодня исчерпан, сидим, не отсвечиваем. Меня и самого контузило нехило. Спасибо тополю, опять спас нас. А ведь терпеть не мог этого дерева, тополя бесполезным считал.
Сколько времени мы так провалялись без движения, кто его знает? У Кота часов не было, у меня тоже. Мне на часы не везёт – больше одного боя не живут. Наружу не выглядывали, по интенсивности стрельбы не догадаешься – оглохли напрочь. Кстати, а как это они нас так лихо молотили менее чем в сотне метров от своих? Не боялись зацепить позиции у захваченного у нас танка?
Правду говорят, любопытство погубит. Последний этот вопрос мучил меня, мучил, да и вылез я оглядеться. А снаружи уже темно. Я подумал, что это у меня в глазах потемнело, а потом увидел всполох осветительной ракеты и бегущие от неё в безумии изломанные тени. Ночь! Уже ночь! Мы с Котом или спали, или в отключке провалялись. А Кот хоть живой? Почти. Дал ему волшебной мёртвой воды – спирта. Чуть оклемался. И как заорёт! Я навалился на него, рот ему закрыл, показал прижатый к губам палец. Контузило парня. Сурдопереводом, то есть жестами приказал ему сидеть здесь, сам пополз по лунному пейзажу в сторону танка. Мой вымазанный, изорванный маскхалат меня неплохо скрывал, тем более что шёл лёгкий снежок.
Ага, сволочи! Своих зацепили! Или это наши? Вокруг танка был такой же лунный вид. Немцев не видать. Есть! Верхний люк выгнут, закрыт не плотно, дым оттуда сочится, а сквозь смотровые щели свет изнутри пробивается. В танке, получается, немцы есть. А вокруг? А вокруг – тишина. Или это только для меня тишина? Нет, снег и щебень под моими руками скрипят, значит, я слышу!
Видимо, нас с Котом враг принял за прорыв, за передовой отряд, вот и промолотили так основательно, накрыв даже танк. Хотя что ему, толстокожему, мины сделают? Поцарапают? Гусянка у него и так по земле раскатана.
Падал снежок, морозило, немцы попрятались. Или нет? Говорят, у них с дисциплиной строго. Подобрал кусок стали – оперение мины, кинул в сторону танка. Железка негромко плюхнулась на землю. Часовой подал голос, что-то спросил. Правда дисциплина. Он сидел в окопе под танком, что-то скрипнуло, произошёл короткий диалог. Блин, надо учить немецкий.
Я откинулся на спину, открыл рот. Снежинки падали на лицо. Хорошо. Холода уже не чувствую. Наверное, это плохо. Что дальше делать? Назад, к своим отходить? А утром опять с самого начала сюда бежать? Уже не получится так ловко – сильно мне досталось сегодня. И танк этот, как волнорез, стоит посреди. Стальной дот, гля! Не видел я у штрафников ни пушек, ни пэтээров, даже гранат не дали. Погибнут все прямо на этом пятачке! Не за медный грошик.
Я аж сел. Блин! Я-то уже здесь! И похоже, враг обо мне пока не знает. А уж танки уничтожать – прямая моя профессия в этом мире. Граната! Нужна граната! Не с пистолетиком же штурмовать танк! Так, ту гранату я нашёл там. Оттуда и начнём поиск оружия. Я пополз, тыкаясь в каждый подходящий по габаритам бугорок.
– Стой! Кто идёт? – хриплый окрик подействовал на меня как ведро кипятка. Чуть не вскочил, вопя.
– А ты кто? – спросил я в ответ.
– Ща гранату кину!
– Я те кину! Что, не слышишь, свои? Кузьмин я.
– Иваныч! – хриплый голос явно обрадовался. – Прохор, я же говорил, живой он!
– Ваня? Прохор? Вы как тут?
Я скатился в ту самую воронку, где мы беседовали с Прохором. Парень мне и рассказал, как нашёл Ивана с перебитыми ногами, потащил его в тыл, а он упирался, ко мне, Кузьмину, рвался.
– Прохор, ты и так можешь? – удивлённо спросил я, при изменчивом свете ракеты разглядывая измочаленные на бёдрах штанины Ивана. Парень лишь кивнул. Он был в полуобморочном состоянии, клевал носом. Я его уложил на бок, Прохор сразу уснул.
– Иваныч, ты не представляешь, ходит этот детина по полю боя в полный рост, хватает раненых по двое-трое за раз и тащит в тыл. Ни одна пуля его не берёт. Я его умолял, как узнал, что он тебя видел. Я сразу за тобой бежал, отстал, потом мне пулемёт по ногам долбанул. Как ломом пробил. Кровищи! Перевязался, а она не перестаёт. Если бы не Прохор, помер бы давно. Ты бы знал, как я ему обязан! Как он меня залечил – просто чудо! Руки положил, горячо стало, как утюгом прижёг. Я сознание потерял, а как очнулся, глянул – только шрамы и остались. Прохор говорит, хорошо, что пули навылет прошли.
– Ваня, не тренди, башка и так болит. Где граната?
– Какая граната?
– Ты сказал, гранату кинешь.
– Так пугал я! Нет гранаты. И ружья нет. Нож только остался.
– Я слышал, ножевым боем владеешь?
– Дед научил. И другим ухваткам. Он пластуном был, пока ногу не отрезали.
– Судьба, видать, у вас такая, в ноги приходит. Гранаты нужны. Танк этот надо грохнуть, не даст он нам житья. Полезли искать.
– Где искать-то?
– Везде. Я вот тут – видишь ноги? – одну нашёл.
Иван отшатнулся резко от трупа. Он его, оказывается, за кочку принял, голову прикладывал. Растолкали Прохора, но ничего вразумительного добиться от него не смогли – только буробил что-то, не просыпаясь.
– А, нафиг, полезли!
Ползали очень долго, но самое обидное – безрезультатно. Нашли несколько десятков разнокалиберных патронов, два штыка от трёхлинеек, пару дырявых фляг.
Приползли к Коту. У него от ушей за шиворот пробежали две чёрные полоски. Слышал он плохо, приходилось громко шептать в самое ухо, даже сидя шатался, как пьяный. Говорить вообще не мог, мычал только. Да, контузия – это не бочонок мёда, штука плохая. Я махнул на него рукой и отправил к Прохору, но он вцепился в мой изодранный рукав, достал другой рукой нож, виртуозно стал крутить его, смотря на меня умоляющими глазами, как пёс, выпрашивающий шоколадку.
– А, полтора всё лучше, чем один, – махнул я рукой. Кот расцвёл, сграбастал ещё и штык. Иван тоже взял штык. Я им тихим шёпотом, а для Кота ещё и сурдопереводом жестами обрисовал план нападения на танк. Гранат нет – будем брать в ножи. Поставим танк на перо!
Руины столицы (1942 г.) Ставим танк на перо
И почему я в школе учил английский, а не немецкий? Блин, найду Кадета, начну брать уроки. Что-то последние месяцы этот язык стал жизненно необходим. Особенно при моих авантюрных атаках. А авантюрные они от безвыходности. Вот и сейчас я шёл с открытой флягой спирта в левой руке, облившись им, и ножом в правой. Шёл по неглубокому ходу сообщения от позиций врага к танку, решив, что с этой стороны немецкий часовой будет ждать угрозы меньше. Тем более такой открытой и наглой. Тут бы что-нибудь по-немецки лопотать, но не «хенде хох» же и не «Гитлер капут»? И я запел пьяным голосом единственное, что ещё знал из немецкого:
Ду, ду хаст, ду хаст михшт, Ду, ду хаст, ду хаст михшт, ду хаст михшт гефраг…Жаль, что я не понимаю, о чем пела группа «Рамштайн». Может, не в тему?
– Хальт! Хатра-бурта! – окликнул меня часовой, нарисовавшись прямо передо мной, и направил на меня винтовку со штыком.
Я же пьяный! Я ему добро, можно сказать душевно, улыбнулся, сделав удивлённое лицо (в темноте хоть видны мои актёрские потуги?), пошатнулся, протягивая флягу, уронил её под ноги озверевающему от охерения часовому.
– О, швайне! Майн шнапс! – захрипел я, дёргаясь за флягой, естественно не удержав равновесия, пролетел мимо штыка. Чтобы не упасть, схватился за винтовку, дёрнул. Часовой тоже дёрнулся, но поздно, парень, метаться – лезвие ножа вошло ему под подбородок. Кровь хлынула потоком, я подхватил падающее тело, кашлянул громко три раза – это сигнал моим бойцам.
Меня затрясло и начало мутить. Ё-моё, будто первого завалил! Я аж зарычал от злости на самого себя – расклеился по госпиталям да по тылам, как барышня!
Юркнул под танк. Там мог быть ещё один дозорный, но обошлось. Если бы был – уже пристрелил бы меня, пока я рефлексировал.
Под танком было темно. Я загрохотал по днищу рукоятью ножа:
– Ду хаст михшт гефраг…
Заскрипев, открылся нижний, аварийный люк, выбросив изнутри полоску света, вылезла голова в нелепой пилотке поверх серого пухового платка. Глаза немца были широко открыты, как у всякого, кто попадает со света во тьму. Он спросил что-то вроде:
– Ватыс лост?
– Сам ты лось, – буркнул я в ответ, сграбастал его за воротник и со всей силы и массы дёрнул вниз. Немец и так был, наверное, в неустойчивом положении, вывалился из танка, как пробка. Мало того что я его уронил на голову, так ещё и рухнул ему на горло коленями, а потом, чтобы уж наверняка, всадил нож в грудь. Это всё заняло долю секунды, потом я метнулся дальше по окопу, уходя из пятна света, чтобы меня не пристрелили, сел на задницу.
Из танка послышались грохот, ругань, крики. Пока я подобрал ноги под себя, пока поднялся – валенки очень тёплая обувь, но вот переход из положения сидя на пятой точке в положение стоя в них производить – целая эквилибристика. В общем, пока я поднялся и опасливо заглянул в танк, оттуда уже нёсся вопль:
– Иваныч! Кота убили!
Я, как тот Винни-Пух, в лаз в днище танка смог просунуть только голову. В танке горела лишь одна лампа за решётчатым плафоном, но её света оказалось достаточно, чтобы увидеть, что внутри филиал скотобойни – столько крови было вокруг. И только две пары глаз – отчаянные от бессилия глаза Ивана и застывшие от боли глаз Кота, голова которого лежала на коленях Ивана, а руки держали торчащий из груди тесак немецкого штык-ножа. Кровь хлестала из Кота ручьём.
– Прохор! – заорал я. А, плевать теперь на маскировку и тишину. Мы под стальной громадиной танка, а Кот истекает кровью на моих глазах. А Прохор спал там как убитый. – Прохор!
Казалось, своим истошным воплем я разбудил не только немцев, наших, но и сами небеса: вокруг загрохотало, засвистело, зазвенело и зажужжало. Глянув в просвет меж бронёй и землёй, увидел пунктиры трассеров, протягивающиеся как с нашей стороны, так и со стороны немцев, свистели и рвались мины, на фоне этой свистопляски бесшумно взлетали осветительные ракеты.
Прохор нырнул в танк через верхний люк рыбкой (не застрял, хотя выше меня на полголовы и обширнее раза в полтора, хотя вру, в ватнике и «доспехе» я такой же объёмный). Сонными глазами осмотрел нас.
– Кот! – заревел я. – Спаси его! Сделай что-нибудь!
В броню как будто сыпанули горохом – то ли пули, то ли осколки. Прохор быстро скинул рукавицы, стянул через голову ватник, расстегнул и распахнул, насколько смог, одежду на груди Кота, вздохнул несколько раз, будто перед прыжком в прорубь. Резко выхватил тесак из груди Кота (блин, какой же он длинный!) и накрыл хлынувшую фонтаном рану ладонью, вторую подвел под спину Кота, зажмурился, зашептал что-то.
Мы с Иваном, завороженные, смотрели на его лицо. После очередного перестука по броне я опомнился.
– Блин, а если они в контратаку пойдут? – вслух подумал я. – Ваня, оставь Кота, это Прохора дело. К пулемётам!
Сам я, откинув сапог, вернее ногу немца, потянул вниз пулемёт с толстым «блином» наверху, лежащий в танке. Видно, в суматохе его спихнули в угол. Вытащив пулемёт наружу, заглянул в поисках ещё нескольких таких толстых дисков.
Так вот ты какой, дегтярёв-танковый! Он был не легче пехотного собрата, но короче, рукоятка пистолетная, приклад складывается. Пулемёт мне сразу понравился. Ещё бы работал надёжно. Судя по отсутствию здесь МГ, немцев надёжность трофейных ДТ устраивала. А если их, привередливых, устраивала, то меня и подавно.
Разложил сошки, передёрнул затвор, выпустил короткую очередь в сторону немцев. Хреново – пламегаситель отсутствовал, вспышка слепила меня и демаскировала позицию. Опустил пулемёт, пытался вглядываться в мельтешение теней и вспышек перед собой. Потом решил, что пока немец долбит из миномётов, в атаку не пойдут. Сел на землю. О, провод! К хренам! Перерезал его ножом, заглянул в танк. Прямо надо мной висели пропитанные кровью валенки Ивана – это он через перископ главной башни оглядывал окрестности, сидя в командирском кресле. Прохор, всё в такой же медитации, что-то шептал одними губами. Кот был без сознания, бледен, даже чёрен, но кровь меж пальцев Прохора больше не бежала.
Только теперь заметил, что в танке теплее, чем снаружи, и увидел маленькую железную печку, задвинутую теперь в самый нос танка, слева от сиденья механика-водителя.
В танке тепло, но больно уж кроваво. Схватил за штанину одного из немцев, потащил его вниз, сгребая его телом заодно целый водопад густой крови. Облился. Твою-то дивизию!
– Иван! Давай выталкивай этих недоносков сюда, пока не закоченели!
Он выталкивал тела из танка, я оттаскивал, обыскивал, раздевал. Трофеи в одну кучу, одежда – в другую, тела – наружу, в ход сообщения. Из тел построил баррикаду, их шмотками убрали кровь. Пока возились, стрельба притихла, что не могло меня не насторожить. Прохор уже закончил с Котом, правда выглядел теперь не лучше Кота – почернел, лицо осунулось, глаза ввалились. Они оба теперь спали в танкистских креслах.
Глядя на них, и я понял, что устал смертельно. Ого, в танке были часы – 5:45. Уже утро. Сунутся немцы проверять нас или нет?
– Иваныч, залазь, вздремни тоже, – прошептал Иван.
– А ты?
– Так я поспал в той воронке. Пока тебя не нашёл. Это Прохор так сделал. Ты, говорит, много крови потерял. Ткнул меня пальцем в лоб, я и уснул мигом. Проснулся, как тебя услышал. Так что я нормальный, выспался.
– Ладно, задраим все люки, и хрен на них всех!
Я засунул в танк пулемёт, запасные диски, залез через главную башню, сел в кресло заряжающего, показавшееся мне очень-очень удобным, пробурчал:
– Жаль, что снарядов нет. Мы бы им навели шороха… Снаряды… Хоть патроны есть… Четыре пулемёта…
Я уже не видел, что Иван насмешливо смотрел на меня. Потом он стал перебирать рычагами, вручную поворачивая башню на врага. У этого танка была пулемётная точка и в корме башни, но спереди обзор всё-таки лучше. Так же решили и немцы, кормовой пулемёт сняли, заменив заглушкой.
– Ух, немчура! – радостно прошептал Иван. – Вот удивитесь вы утром, когда мы вам из трёх пулемётов всыпем!
Развернув башню, он стал набивать патронами из брезентового ведра, любезно припасённого немцами, диски. Именно за этим занятием, снаряжением дисков, мы и застали их врасплох. Жаль только, Кот так нелепо нарвался на штык. Иван озабоченно посмотрел на лицо Кота. Тот спокойно спал.
– Ничего, глядишь, оклемается. Этот Прохор шаман, наверное. Он же сибиряк. Ага, они сибиряки все такие. Здоровые, что быки племенные, да странные. И шаманы в ихнем лесу живут. Тайга их лес называется.
Так он сам с собой и разговаривал, хотя раньше за ним подобного не замечалось. Верно говорят, что война как домна – в неё вошёл кусок, а вот что выйдет? Таким, каким был, не выйдет. Изменится форма, состав, плотность. Лишнее выгорит, ценное – останется. А если нет в человеке ничего ценного, ничего и не останется. Из ценной руды – слиток металла получится, из пустой породы – так шлак и пепел и будет. А пепел в трубу вылетит.
Руины столицы (1942 г.) Атака
Ротный вскинул ракетницу и выстрелил в небо. Зелёная комета унеслась к низким облакам, продолжавшим сыпать мелким снежком.
– Ура! За Родину! – закричал младший политрук, вскидывая автомат над головой, и побежал на запад.
– У-у-а-а! – подхватили десятки глоток.
Это был второй бой младшего политрука Назарова Сергея Николаевича, вчера ещё комсорга бригады промысловиков-лесозаготовителей. А вчера был первый. И был бы последним, не услышь комсорг случайно напутственной речи этого странного бойца Кузьмина, изуродованного шрамами, с серыми, как орудийная сталь, глазами, вечно насмешливыми, но иногда жёсткими и холодными, словно стволы расстрельной команды. Тогда он поразился, как слова эти сразу дошли до самой глубины сознания, подумал ещё: «Учись, политрук, как надо людей в бой напутствовать!» Изуродованное тело Кузьмина и особенно слухи о его подвигах, дошедшие до Сергея от конвоиров, убеждали, что всё, сказанное Кузьминым, не теоретические заумствования, а готовая «технология», опробованная и проверенная. Назаров последовал совету Кузьмина, наступал перебежками, пока его не отчитал ротный. Оказалось, что командирам зазорно валяться в снегу и гнуть спины пулям. Дурость. И он понимал, что это дурость. Но ротный был его командиром. И политрук с тоской видел, как пулемёты и миномёты рвали людей на куски.
А потом рота залегла под плотным огнём.
– Политрук! Поднимай роту! – приказал ротный.
И Сергей встал в полный рост и повёл людей на огонь. Вокруг него бойцы падали замертво, а он остался невредим, хотя поднимал роту ещё два раза. На этом всё и закончилось. Отошли, оставив на поле десятки убитых, десятки раненых, пропавших без вести. Пропал и этот Кузьмин. Сергей был очень расстроен – такие потери без какого-либо результата. А вот ротный не унывал. Он составил рапорт о ходе боя, о потерях, нажрался спирта, стал учить жизни желторотого политрука.
– Ну и что, что не взяли? Завтра опять пойдём! Главное – мы не даём врагу снять части с этого направления, понимаешь? Мы держим их. А никто и не хочет, чтобы мы брали эти три дома. Если бы хотели, танки бы нам дали, поддержку арти… арти… пушек бы нам дали. А так – надо немцев держать, да этих ублюдков предателей руками немцев в расход пустить.
Сергей был поражён до глубины души цинизмом ротного. Но он был мягким, неконфликтным человеком, спорить не стал, ушёл из штабного подвала в роту, к штрафникам. С этого момента в душе Сергея поселился протест, неосознаваемый, потому терзающий.
И вот сегодня Сергей увидел, что уже не десяток человек наступает перебежками от кочки к яме, а большая часть роты. И правильно говорил Кузьмин, это единственный шанс выжить.
– И мне тоже, – сказал себе Сергей. Он был уверен, что у ротного отношение к нему, второму командиру в роте, не менее циничное, чем к остальным штрафникам.
Изменение боя относительно вчерашнего дня штрафники отметили сразу. Танк Т-28, оставленный экипажем и попавший в руки немцам ещё осенью, до сих пор мешавший, как кость в горле, молчал. Даже башню отвернул от штрафников. Все уже знали, что в нём был корректировщик, именно он наводил убийственные залпы миномётной батареи из-за домов. Но в этот раз огонь миномётов был не прицельным, били по площадям.
Штрафники приободрились, увидели проблеск надежды. Первые сто метров проскочили быстро, дружно и почти без потерь. Перевалили «гребень», но попали под пулемёты. Сразу начались потери, темп наступления упал.
И только тут заметили, что танк молотит не в штрафников, а старательно причёсывает окна трёх полуразвалившихся многоэтажек. Над башне приоткрылся люк, и чья-то рука привязала к обломку штыря антенны красный флажок, каким танкисты отдают в бою сигналы. Как будто неведомые танкисты, бросившие повреждённый танк осенью, устыдились и этой ночью вернулись в свою боевую машину. Стала понятна причина ночного переполоха и утренней бешеной перестрелки. Штрафники думали, что немец решил устроить ночную атаку, а это танкисты отбивали свой танк!
– Ура! – прокатилось по цепи штрафников. Поднажали.
Политрук добежал до танка, с непривычки с трудом забрался на моторное отделение этого трёхбашенного монстра, забарабанил в броню прикладом.
– Эй! Танкисты! Покажись, дай обниму! – кричал он радостно.
Люк откинулся, из танка высунулась голова целиком в спёкшейся крови. Сергей отшатнулся и чуть не упал с танка. «Танкист» поймал его за рукав, бурые губы расползлись в усмешке:
– Ты чего шарахаешься, политрук, аль не признал? А так я разве симпатичнее?
Я скатал наверх маску, младший политрук просиял:
– Кузьмин! Нашёлся!
– Да я и не терялся. Вот, гляжу, танк бесхозный стоит, ржавеет. Уже хмыри около него трутся.
– Хмыри? Трутся?
– Да. Там, перед танком, в канавку сложил.
– Кузьмин, ты не представляешь, что ты для роты сделал! Ты… Ты…
– Почему же, представляю. Жизни людские я спас.
– Кузьмин, золотой ты человек, я на тебя представление напишу. На снятие судимости, к награде…
– Политрук, не спеши! Бой ещё не окончен. И ещё, не один я был. Со мной Бугаёв Прохор, санитар, бойцы Иван Казачок… Ваня, как там твоя фамилия?
– Кречетов.
– Чё, в натуре? Круто! Кот, а тебя как?
– Матушкин Семён.
– Никогда бы не подумал. Запомнил, гражданин начальник? А меня не пиши. Из-за меня и им не обломится. Всё, политрук, иди, не мешай работать!
Штрафная рота с наскока налетела на позиции немцев, но после недолгой рукопашной были выбиты обратно подошедшими подкреплениями немцев. Залегли в поле. Ротный послал Сергея поднимать роту, политрук напрасно бегал перед штрафниками под пулями, пока не словил плечом.
– Прохор, комиссар ранен. Вытащи его сюда. И помни, о чем я тебя предупреждал.
Прохор кивнул и ушёл. А разговор у нас утром вот какой вышел. Увидев, сколько сил ушло у Прохора за день, я спросил его, сколько человек он вынес. Оказалось, больше двадцати. И всех он излечил.
– М-да, Прохор. Ты и правда ещё дитё! А разве мама с папой тебе не говорили, что дар твой от людей прятать надо?
Прохор кивнул, а вот у жующих трофейные галеты спасённых Прохором морды повытягивались.
– Матушка говорила, что меня споймают, лапаторию посадят, опыты будут делать, голову разрежут и у живого ковыряться будут.
У меня, отъявленного живодёра, мурашки по спине пробежали.
– Матушка твоя права. Дар твой очень нужен людям. Очень нужно построить машину, которая бы умела то же, что и ты, но машины такой не будет никогда. Поэтому такие, как ты, всегда в опасности. Как только пройдёт слух о чудесных исцелениях, за тобой придут. А потом за родными твоими. Когда с тобой опыты закончат ставить.
– Мне больше не лечить людей?
– Почему же нет? Нужно лечить, но так, чтобы никто не узнал, что это твоих рук дело.
– Как же это сделать?
– Это Ваня тебя научит. Он умеет так убивать людей, что никто не знает, кто именно это сделал.
– Иваныч, хватит! Что ты опять?
– Второе, Прохор. То, что ты многих вылечил, им только во вред. Представь: ранение с них снимает судимость, они кровью искупили, полежат, полечатся, вернутся в обычную часть и будут воевать честными солдатами. Ты их вылечил, они опять идут в бой, погибают штрафниками – отступниками, родные остаются без пансиона. Кому хорошо? Я тебя, Прохор, научу обычной полевой медицине. Будешь ты обычный санитар. А в некоторых случаях – необычный. Только чудесное твоё вмешательство должно быть скрытным. Ты нам всем нужен здесь, Прохор, а не в исследовательском институте. Я понимаю, что это звучит эгоистично и цинично, но это правда. Никто не должен догадаться, что большой, красивый и очень сильный парень ещё и лечит наложением рук. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
– Я понимаю, Виктор Иванович. Батя так же говорил.
– А твой батя тоже умел, как ты?
– Нет, он, как и вы, Виктор Иванович, защитник. Он жизнь отнимает, не может лечить.
– Эх, пообщаться бы с ним.
– Уже нет его. Я чувствую – ушёл он. Он так и не поправился. И матушка не помогла.
– А ты бы помог?
– Меня она и к людям-то не подпускала с этим, – усмехнулся Прохор, – мал, говорит, людей править. На скотине учись.
Понятно, что мы рты пораззявили: что же тогда его мать умела, если Прохор – неумеха?
Вот такой разговор состоялся. Должен признаться, что я – подлец. Всю эту правдоподобную ахинею я нес с одной целью – привязать Прохора к себе. Зачем? Глупый вопрос. Жить хочу. Нет, не так – не хочу живым трупом гнить, как этой осенью. Бог мне смерти не даёт, но от боли не избавляет. Ещё раз подобного не перенесу – застрелюсь. И так весь седой стал, налысо пришлось обстричься, чтобы людей не смущать, а щетина всё одно белая лезет на подбородке. То, что мне попался такой экстрасенс, уже чудо. За три десятка лет прошлой жизни я встретил только двух слабеньких. Одна – гадалка, живущая в деревне, меня к ней возила мать, узнать, излечима ли одна из моих врождённых болячек. Гадалка долго хмурила брови, но ничем мне помочь не смогла. А вот про болячки матери многое рассказала. Болячки, сглазы, порчи и подобное она видела, и это правда, но вот сделать с ними ничего не могла. Другая работала в поликлинике, к которой я был приписан. К ней отправляли больных её коллеги, когда попадали в затруднительное положение и не могли точно поставить диагноз. Точный диагноз – это уже наполовину излеченный пациент. Меня лечили от воспаления почек, эта смуглая врачиха поводила руками у моего живота и спины, не прикасаясь (её руки излучали тепло, как инфракрасный обогреватель), и установила воспаление нерва на фоне смещения позвонка. Лечить тоже не умела, только диагностика. А тут чудо – Прохор! Не отдам! Такая корова нужна самому! А не отдать его можно, только если никто ничего не пронюхает. Вот такой я поганец-попаданец.
Прохор убежал. Я сунул за пазуху порядком обтрепавшегося всего за день масккостюма пару тяжеленных дисков, сменил диск на пулемёте с сошками, выскочил из танка. Эти двое тоже рванули на выход.
– Куда? Сидеть на месте! Обеспечить подавляющий противника огонь! Это приказ!
Глаза у обоих как у побитых собак. Мальчишки! Обиделись, что не взял их на развлекуху. Это игрушка серьёзная, ребята. Война называется. А вы свой лимит удачи вчера ещё исчерпали. Вот и у политрука лимит вышел.
Я сорвал красный флажок с огрызка антенны (уже пробит), выдернул шомпол из валяющейся у танка немецкой винтовки, продел флажок, закрепил шомпол сзади меж ремней броника. Чем я не самурай? Они ведь так флаги носили, за спиной?
Политрук скрипел зубами, пока Прохор его перевязывал. Кровотечение уже прекратилось (само или Прохор помог?). Я встал рядом на колено.
– Первое ранение?
Сергей кивнул.
– Это дело знаковое и очень волнительное, как первая брачная ночь. Потом уже становится обыденностью. Ты женат?
– Нет. Невеста ждет. Решили после войны жениться.
– Дурак, бабу мужа лишил, – пожал я плечами, повторил ещё раз: – Дурак. Хоть одну ночь, но она бы была женой, любимой. Теперь зароют тебя в битом кирпиче, а она так и до старости вкуса любви не ощутит.
Сергей заскрипел зубами.
– Это хорошо, что ты злишься. Так быстрее заживает. И в отпуск отпросись. И обженись обязательно. А лучше – обвенчайся.
– Я комсомолец!
– Богу всё едино, комсомолец ты, коммунист или анархист. Все мы его дети, в какой бы цвет ни выкрасились.
Я встал в полный рост прошёлся позади залегших штрафников.
– Что, ребята? Ссыте, когда страшно? Тогда долго лежать не советую – примёрзнете концами к земле.
Перед моим лицом пролетела трассирующая пуля. Я махнул рукой, словно от назойливой мухи.
– Долго лежать будем? Или опять я за вас всё делать один должен?
– Пошёл ты! – зло крикнул в ответ один из бойцов.
– Я-то пойду. Без проблем. А вы со мной пойдёте? Или так и будете тут отморожение сосисок зарабатывать?
Молчат. Головы за кирпичи прячут. Страшно им. Так и мне страшно. Все внутренности в ледяной комок сжались. Но надо! Федя, надо!
Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой тёмною, С проклятою ордой!Это я запел, когда переходил через осыпь кирпичей, что была когда-то зданием. Я так боялся, что не пел, а ревел раненым медведем. Казалось мне, стволы всех немцев сейчас повернулись на меня, тысячи пуль летят только в меня, в меня одного!
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идёт война народная, Священная война!Поднялись следом немногие: политрук, Прохор, ротный на правом конце цепи, Брасень – на левом. Прохор, кстати, пел таким мощным голосом, что Паваротти, наверное, курит нервно в сторонке, а Баскова уже реанимация увезла. Не голос – паровозный гудок. Но следом ещё десятки глоток завыли, захрипели, заорали, в песню выплеснув свой страх, свою злость.
Я шёл демонстративно парадно – флажок бьётся над головой, пулемёт на плече, спина прямая, плечи развёрнуты, ноги чеканят шаг, насколько это возможно в валенках.
Вот и все поднялись! Идут с перекошенными лицами. Больше нет нужды в этом дурацком спектакле презрения смерти.
– Ура! – взревел я и перешёл на бег. Осталось полсотни метров до мелькающих касок врагов, рванул во все лодыжки!
Заметил подходящую цель, рухнул на колено, рубанул из пулемёта – аж каска немца подлетела. А меня отдачей опрокинуло – стрелять из пулемёта с рук ещё и научиться надо. Перекатился пару раз, вскочил, ещё пару раз прыгнул, и вот я уже завис над их окопом, залил его свинцовым дождём из ДТ, на этот раз принял отдачу в расчёт, наваливаясь на пулемёт всем телом. ДТ оказался прекрасным окопным помелом – окоп чист. В том смысле, что живых больше нет. Пора дальше!
Огромной силы молот лупанул меня в грудь, снося с ног. В глазах потемнело. Отхватил я опять пулю в броник. Судя по удару и углу прихода, по мне попал с верхнего этажа или снайпер, или пулемётчик. Я совсем натурально, без усилий изображал покойника. Блин! Я даже дышать не мог и ничего не видел. Зато слышал:
– Ура! Суки! Ма-а-а-м-а-а! А-ах-х! У-у-у-р-роды-ы!
И всё это пронеслось мимо меня.
– Живой? – спросил над моей головой голос. Я закивал, а голос Прохора ответил:
– Живой он! Помоги убрать его отсюда. Видишь, снайпер его сверху подстрелил.
Меня подняли, поволокли. От тряски и боли потерял сознание.
Судьба Голума
(наше время)
Предательство
Разбудил меня датчик движения. Я глянул на экран. Кум стоял у ворот, махал рукой камере. Я метнулся к холодильнику, накидал на стол закуси, початую бутылку, пошёл открывать ворота.
– И чего тебе не спится?
– Как тут спать? Байкер мне покоя разве даст? Но теперь-то он влип по-крупному!
– Опять?
– Да, «перехват». По его тело.
Именно «тело», не «душу». Интересная оговорка.
– Что, Байк мэра увёл?
– Не, он теперь душегубом заделался. Двоих человек завалил. Пытал, а потом сжёг.
– Да ты что! Вот изверг. А вроде мелким пакостником был.
– Все они с мелочи начинают.
Когда выпили по первой, я спросил:
– Как ты меня нашёл?
– Ты не забыл, кто я? – спросил он, но сам же и ответил: – Я опер. И я же тебя сюда устраивал. А на каком именно ты объекте чалишься, дело техники.
– Ну да. А в честь чего пьём?
– Помянем душу неплохого, в принципе, парня.
– Ты про Байкера? А его уже завалили?
– Вот то-то и оно. Если я его до утра не закрою, его завалят.
– Кому же он так насолил?
– Вить, может, хватит ломать эту комедию?
– О чём ты? – удивился я.
– Я ж говорил, терпеть вас не могу, правильных. Запуты от вас самые мутные. И всё на ангельском глазу.
Он сам себе вылил остатки водки в стакан, махнул залпом, поморщился.
– Ты же кум мне! Ты сына моего крестил, – сказал я.
– И что? Ты можешь теперь людей мочить направо и налево? Хрен ты угадал! – он хлопнул по столу рукой.
– Я их не убивал!
– А это уже не важно! Если тебя не закрыть за толстые стены, карачун тебе конкретный!
– А почему ты не спросишь, за что я их?
И тут вдруг до меня дошло.
– Ты знал! Ты с самого начала пас меня! Ах ты, сука! А ещё родственник! Ты ж ведь знаешь, кто убил мою жену?!
Он молчал. В глаза не смотрел.
– И знал, что этот пацан не при делах? Этого чмыря с запиской ты подослал? Пацан – при чём?
Он не отвечал. Рука у правого бока, кобура расстёгнута.
– Я-то ладно, но она тебе как сестра! Наш сын – твой крестник! Почему?
– Ты знаешь, кто они? Ты знаешь, что это за люди?
– Пох! Понимаешь, пох!
– А мне нет! – закричал он. – И тебе воду баламутить не позволю!
– «Не позволишь» ты! За что ты меня ненавидишь? За что этого парня ненавидел?
– Я ж говорил, терпеть вас не могу, правильных. Чем вы лучше меня? Почему вы, а не я?
Блин, а я и забыл, что он когда-то пытался ухаживать за моей женой. Тогда, правда, она не была моей женой. Я её ещё и не знал на тот момент. Позже мы познакомились. На соревнованиях. Она – выступала, я – смотрел. Кстати, он и за моей сестрой ухаживал. Год они встречались. Потом расстались. Инициатором разрыва была сестра, кстати. И она его бросила. И женился он на откровенной прошмандовке. Бил её, бухал. Плохо жили, одним словом.
– Ну, ты и мразь, куманёк. Мусор!
Тут опять пискнул датчик движения перед воротами. Люди в брониках, шлемах-сферах, с автоматами. Группа захвата.
– Блин! – выругался кум, начал движение.
Ага, ща-ас! Я уже в дикой злобе! Рубанул его кулаком по шее, пустой бутылкой по черепу, побежал в шестой бокс. Там ещё при строительстве был устроен водоотвод широченный. Для воды – широченный. Для человека – едва протиснуться. Туда я и нырнул. Там через метр узкого лаза – широкая отводная галерея, в которую должны стекаться ливневые потоки. Эта ливневая канализация строилась ещё в сталинские времена, потому была циклопически основательной и крепкой. В этой галерее стоял мой байк, лежал рюкзак, в который я собрал всё, что было необходимо. Отсюда я собирался линять. Место уж больно удобное – кто ещё знает, что при закладке фундамента банка разрушили часть ливнеотвода и можно в него не то что залезть, а заехать?
Мой горный байк уверенно преодолел все препятствия на стройплощадке будущего банка, проломился через кусты, вильнув, встал уверенно на асфальт.
А теперь ищите ветра в поле, товарищи милиционеры!
Судьба Голума
(наше время)
Попытка бегства
Этих двоих я увидел слишком поздно. Только начало рассветать, за рекламным щитом заправки их не было видно, пока я не вылетел к ним в упор. Я сразу врубился, что это не гаишники – в кроссовках-то? Я успел увидеть их холодно-безразличные глаза убийц, закладывая разворот, видел, как они синхронно и умело перекидывали укороченные «калаши» со спины в стойку для стрельбы с колена. Я уже развернулся и выжал газ, когда за спиной загрохотали одиночные, но частые выстрелы.
Они сразу и часто попали по мне. Удар в левое плечо, левое бедро, правую голень, не менее четырех попаданий в рюкзак за плечами (что там, интересно, смогло сдержать пули?). Потом байк взбрыкнул мустангом и выкинул меня в придорожные заросли травы.
Приложился я очень чувствительно, хотя и сгруппировался. В полуобморочном состоянии залез во внутренний карман ветровки, нащупал горсть таблеток синтетической наркохимии, запихал в рот. Жуя, встал на четвереньки и пополз от дороги.
Полегчало быстро. Сразу сообразил, что рюкзак надо скинуть. И куртку заодно. И ствол – я их не перестреляю. Стрелять я не умею – зрение слабовато, а они умеют. Сбросив лишнее, вскочил, побежал.
Тут же мне ещё прилетело, сбив с ног. Куда-то в лопатку. И в бок. В другой, не в тот, что был уже ранен. Рука сразу повисла. Но боли я не чувствовал, муть только тошнотворными волнами подкатывала к горлу. Я опять вскочил и побежал.
В глазах быстро темнело, в ушах стоял какой-то гул, похожий на рёв прибоя. Вдали мелькали какие-то огоньки. Я бежал к ним. Почему? Нипочему. Без причины. Куда-то надо было бежать, а кроме этих огоньков я ничего больше и не видел.
Это позже я узнал, что это были проблесковые маячки машины ППС, что патрульные вели перестрелку с двумя фальшивыми гаишниками, что один мент из-за меня погиб, ещё один – ранен. От смерти нас всех спасла погоня, что неслась за мной от самого гаража, из которого я сбежал. Лжегаишники скрылись, как сквозь землю провалились, а я попал в тюремную больничку.
Руины столицы (1942 г.) Оборона битого кирпича
Я в подвале. Живой. В этот подвал продолжали сносить раненых. Я сел. Тут же подскочил Прохор, а из-за него торчали три головы – Кота, Вани и Сергея.
– Так! Что за собрание? – рявкнул я.
Все четыре морды расплылись в довольных улыбках:
– Лается, значит, оклемался.
– Я тебе сейчас, Кошара, подвес паховый узлом завяжу! Почему оставили пост?
– Так не в кого стрелять, выбили немца из всех трёх домов.
– Значит, сейчас в контратаку попрут. Снимайте пулемёты с танка, несите боеприпасы, готовьте огневые. Исполнять! Одна нога здесь, другой не вижу!
Убежали. И Сергей ушёл, кивнув мне.
– Прохор, что там у меня? – спросил шёпотом, боясь поглядеть на свою голую, по холоду чую, грудь.
– Пуля пробила броню, – зашептал он громоподобно на ухо, – ватник, развернулась, проникла в тело и сломала ребро. Пулю я уже извлёк, всё заживил. Надо в повязке походить. А этот шрам откуда? Страшный.
– Так меня уже второй раз простреливают. Тот раз только тебя не было. Гнить начало. Ножницами отстригали. Много раненых?
– Много. Я сильно не залечиваю. Чтобы не умирали.
– Правильно. Принимай это направление на себя. Ночью отправим в тыл. Так! Тогда нечего тут прохлаждаться. Ох, блин, жизнь моя жестянка! Ещё пяток боёв – и буду я одним сплошным шрамом.
Оделся, надел опять пробитый броник, нашёл свой пулемёт – на входе стоял. И два барабана к нему рядом. Поднялся по лестнице. Политрук меня ждал наверху, баюкая руку на перевязи.
– Что ты, комиссар?
– Ротный КП в танке устроил. А я тут старший, получается. А что к чему, ума не приложу… Второй бой… Учили нас по ускоренному курсу… И политрук я…
– Ладно, не дрейфь, Серёга, начистим мы гостям репу. Пойдём, огневые проверим. Взводные хоть есть?
– Утром были.
– Найди. Если выбыли, новых назначь.
– Кого? Я людей ещё не знаю.
– Да по хрен пока! Потом переназначим. А командиры должны быть. Что за мародёрство?! – заорал я на бойца, шманавшего труп немца.
– Так ему всё едино, а мне пригодится.
– Марш оборудовать огневую! Не то сам так же валяться будешь! Бегом, сын шакала! Стой! Ты из шайки Брасеня? Ко мне его кликни, перетереть нам с ним надо. Живее шевели поршнями! Скажи, я звал!
– А ты кто будешь? – боец встал в позу. Сразу видно блатного. От души ему отвесил оплеуху, так что опрокинул.
– Понял, кто я, фраер картонный? Позы мне тут лепить будешь! Метнулся резким поносом, пока спотыкалки не повыдёргивал. И запомни: Медведь я! Меня весь вермахт боится!
Брасень явился довольно быстро. И с ним полвзвода вооружённых уголовников.
– Брасень! Живой, волчара ты лагерная! – как будто обрадовался я ему, раскинул руки, как для объятий, но словно только тут увидел бойцов и показательно удивился: – Ты что ж это, штурмом меня брать решил? Так ты ошибся, враг наш там, – я кивнул в сторону немцев, – а как его порешить, надо ещё тыковки поломать – в одной мы лодке с тобой. И дорога у нас одна – на Берлин. Так что отошли своих сявок, тема не по их бестолковкам.
Брасень нахмурился, обернулся, кивнул. Толпа отшатнулась назад.
– Чего звал?
– Слух ходит, что скороварка на твоих плечах довольно неплоха. Предлагаю место в своей упряжке. Рядом со мной и вот этим молодым человеком, что комиссаром нашим является.
Брасень сплюнул сквозь зубы:
– Не по пути мне с комиссарами и легавыми.
– Так выбора-то ни у кого нет, – пожал я плечами, – на нас напала самая сильная армия мира. Одолеть её можно, но только навалившись всем разом. Кто не с нами, тот против нас. И третьего нам не дано.
– Вот тут ты брешешь, начальник. Я против немца, но не с вами. И в красный цвет меня не перекрасить.
– Никто и не пытается. Я сам не красный. И легавым меня зря обозвал. Сейчас не тот момент, когда можно в сторонке отсидеться, тыря по-тихому, не отсвечивая. Знаешь, ночью нет других цветов, кроме чёрного и белого. Красный выглядит чёрным, кстати. Сейчас для Руси как раз наступила ночь. Не одолеем немца – через полвека не станет русских.
– Куда же они денутся? – усмехнулся Брасень.
Я ему вкратце рассказал о планах Гитлера по освоению славянских земель. Очень кратко. С естественным для нацистов очищением этих земель от других людей.
– Брешешь! Быть такого не может!
– Я разве не рассказывал о заживо сожжённых деревнях? Посмотри на этот дом. Тут люди жили. Где они? А уменьшившееся вдвое население Киева за полгода оккупации? Тоже я придумал? В Хохланде не осталось ни одного еврея.
– И хрен на них. А где этот Хохланд?
– Это Украина. А кто следующий после евреев и цыган? Мы. Ты, я, комиссар, дети наши, наши семьи. Все, кто думает по-русски. Пока есть хоть один миллион русских – не будет им покоя. Вечно мы будем то царствие небесное строить, рай на Земле, коммунизм, что в принципе одно и то же, то добиваться справедливости.
– Всё, что ты сейчас сказал, мне до фонаря.
– А справедливое перераспределение нечестно нажитого? Не за это ли ты сел? У немцев тоже планируешь возмещать? У них не выйдет. У них поголовное стукачество. Тебя сдадут сразу же. А больше ты ничего не умеешь.
– Я воюю, но я сам по себе. Отвали от меня.
– Не выйдет. За тобой стоят люди. Я тебе тогда ещё сказал: ты или со мной, или труп.
Защёлкали затворы. Я улыбнулся, протянул руку с гранатой на раскрытой ладони. Надо отдать должное Брасеню, он побледнел, но даже не дёрнулся, хотя его подручные растворились в воздухе.
– Тебе снайпер совсем мозги отстрелил, или у тебя колокольчик чугунный? – ухмыльнулся Брасень.
Я подошёл к нему, вложил гранату в его руку, сжал ее, шепнул ему на ухо:
– Притворяюсь психом отмороженным. Отличная легенда. Я же трижды контужен. Советую.
Брасень ухмыльнулся кровожадно, обернулся на звук – это возвращались его подручные:
– Пшли вон, шакальё сыкливое!
Потом мне:
– Зачем я тебе? Мне больше по душе роль простого смертника.
– Использовать тебя как смертника – непозволительная роскошь. Ты коронован? Общак держал?
– Ну?
– Не запряг! Ты в армии, а не на малине! Отвечать как положено, волчара лагерная!
– А ты на меня не рыкай, начальничек тоже мне нашёлся! Коронован, держал.
– Будешь у нас ротным старшиной.
– Да ты чё, Медведь, какой я, к херам, старшина? Да и есть старшина уже.
– Он не справляется со своими обязанностями – он, крыса, ворует у роты, люди до сих пор не кормлены, боепитание не налажено, трофеи не собраны и не распределены, раненые не эвакуированы, павшие не захоронены. Он скоро возьмёт самоотвод.
– А он об этом знает?
– Зачем расстраивать его раньше времени? Пусть ему сюрприз будет.
Ухмылка Брасеня трансформировалась в кровожадный оскал:
– Ха, мне начинает нравиться с тобой работать!
– Ага. Если забудешь, что для меня мои бойцы – дети родные, а сослуживцы – братья, то тоже быстро заболеешь крысиной болезнью.
– Чем?
– Острым отравлением через внезапное увеличение содержания свинца в организме.
Брасень сначала хлопал глазами, потом начал ржать. Не дав ему просмеяться, вытолкал его к выходу:
– Срочно принимайся за наведение порядка. Трофеи собрать, распределить боеприпасы и продукты по-братски, эвакуировать раненых. Вперёд!
– Сколько людей у меня? Сколько дашь?
– У меня нет тыловой службы. И не будет тыловиков. Нет боя – хоть всех бери. В бою – и ты, и я такие же смертники. Усёк?
– Усёк.
– Пойдём, комиссар. Чую, немец попрёт скоро, а у нас – огневые непонятно как расположены. Бойцы не кормлены, патроны на исходе. И где этот ротный, сука?
Первую атаку немцев отбили с трудом. Они воспользовались прорехами в нашей системе обороны, через не простреливаемые участки прорвались. Пришлось действовать штыками и прикладами. Отбились, потеряв ещё десяток человек убитыми и ранеными. Пришлось срочно перераспределять сектора обстрела и расположение имеющихся пулемётов и стрелков. Сплошной линии огня создать не удалось. Но вторая атака была намного слабее. Опять потери. Патронов осталось очень мало. Из мосинок больше не стреляли – патроны отдали пулемётчикам, раздали трофейное оружие и боеприпасы.
Опять изменил структуру обороны. В домах оставил гарнизоны, забаррикадировавшиеся в домах, и мобильный резерв в дюжину бойцов держал у себя. Гарнизоны инструктировал так:
– Запомните, каждый из вас – красноармеец. Каждый из вас – Красная Армия. И если вдруг вы остались одни – не дрейфить! Вы – Красная Армия! Бейтесь! Отбивайтесь! Даже если враг со всех сторон, не покидать позиций! Мы придём и вызволим вас! Я обещаю! Если не видите никого своих, кругом одни враги, помните – мы там, сзади вас. Позади вас мы, дивизия, Красная Армия! Вы не окружены, вы – передовой отряд, врубившийся и рассёкший порядки врага! Бейте их в лоб, во фланг, в тыл, в спину, в задницу. Тут, твою мать, Москва, в конце концов! Хватит бояться! Пусть они боятся нас! В них будет стрелять каждое окно, каждая кочка, яма, дерево, каждый камень. Пусть боятся огня в спину, оборачиваются каждую секунду, гадят в штаны от каждого шороха! За Москву!
– За Москву!
В этот раз противник дал нам передохнуть часа полтора. Успели отправить часть раненых – миномётный обстрел продолжался, но был неприцельным, беспокоящим, проскочили. С ними ушёл и наш комиссар с заданием добыть боеприпасов и еды. Незаметно от всех ушёл и Иван с одним из доверенных людей Брасеня, неся в «сидорах» комплект трофейной формы.
Успели принести три ящика гранат и два – винтовочных патронов. По гарнизонам разносили уже под шквальным огнём начавших атаку немцев. Противник, видимо, опять подтянул резервы и, имея восьмикратное превосходство, уверенно пошёл на штурм при поддержке двух противотанковых орудий, выведенных на прямую наводку. Пушки не могли пробить стен, но этого и не требовалось – наводчики с такого расстояния уверенно попадали в окна, а разорвавшийся внутри снаряд по действию в замкнутом пространстве не уступал гранате.
Один за одним затыкались наши стрелки. Немцы накатывали всё ближе. Казалось, пипец нам, как тому котёнку!
Спас нас Брасень. Собрав трофеи, винтовку убитого снайпера он оставил себе. Теперь, забравшись на уцелевший кусок крыши, отстреливал расчёты орудий. При этом расположился очень грамотно – не выставив ствола винтовки, не отблёскивая оптикой, что позволило ему сорвать работу орудийных расчётов, долго оставаясь не выявленным.
Погибших пулемётчиков заменили и ударили по немецкой цепи практически в упор, потом вдарили гранатами. Солдаты в мышиных шинелях заметались. Многие рванули к стенам наших «бастионов», многие побежали. Прижавшихся к стенам немцев забрасывали гранатами с верхних этажей.
Но противник быстро оправился, продолжил нападение и даже возобновил огонь из одного орудия по нашим огневым точкам.
На зубах скрипела кирпично-штукатурная пыль, она висела в воздухе, перемешанная с дымом и гарью. Ничего не было видно, дышать нечем. От дюжины человек моей маневровой группы на ногах остались пятеро. И это со мной. Мы уже не успевали метаться между тремя домами, пополнять боезапас, отбивая прорывы врага. Гранаты кончились, силы тоже.
Скорее бы стемнело! Этот вечер стал слишком томным, не желал заканчиваться.
Солдаты противника просочились в два крайних дома. Из центрального-то мы их выбили, а вот туда уже не могли сунуться – огонь противника был так плотен, что попытка выглянуть из-за угла кирпичной стены была верным самоубийством. Бой во фланговых наших «бастионах» сместился уже на верхние этажи. Иногда ещё бухали в них гранаты – лучший сдерживающий аргумент. Кончатся гранаты – дома перестанут быть нашими.
И тут подошла подмога, которой никто не ждал: группа красноармейцев, человек десять, ударила на нашем правом фланге, отогнала врага огнём от правого «бастиона», ворвалась на первый этаж, заперев немцев между вторым и четвёртым. Но не это главное. Основную подмогу оказали два лёгких танка с красными звёздами на башнях. Это были древние, устаревшие Т-26 с тонкой бронёй и малой скоростью, но немецкую пехоту они так впечатлили, что противник отошёл на исходные.
– Ура! – кричали все мои отчаявшиеся было бойцы. И я кричал, радуясь, ибо тоже отчаялся.
– Куда он прёт! Куда! – заревел я и рванул наперерез танку. Башня грозно довернула в мою сторону, жало пулемёта готово было выплюнуть огонь. Я судорожно (пристрелят – одет я нестандартно, да и в прыгающую амбразуру танка много ли разглядишь?) выхватил обтрёпанный красный флажок, закрутил им в путейском сигнале «Стоп!»
Танк резко остановился, ещё не закончил раскачиваться, верхний люк откинулся, высунулась чёрная голова в танкошлеме, с не менее чёрным лицом, только белки глаз сверкнули в сумерках:
– Куда прёшь? – заорал танкист.
– Пушка там противотанковая! Разорвёт вас, как тузик подушку! – заорал я в ответ.
Танкист крикнул что-то внутрь танка, сам стал вылезать. Вот он спрыгнул, подбежал:
– Где?
– Там. Меж домами не суйся – спалят!
Танкист жестами что-то показал высунувшему голову в люк механику, тот кивнул, танк взревел двигателем, выбросил облако чёрного дыма, пошёл вперёд под прикрытием дома, встал на углу.
– Показывай!
Мы вбежали в дом, перелезли через баррикаду, поднялись на третий этаж – лестница дальше была обрушена. Подвёл его к окну:
– Вон оно, видишь? За тем мусором маскируется. А вон ещё одно. Но оно уже час не стреляет. То ли мы расчёт выбили, то ли повредили.
– И его тоже уничтожим! Спасибо тебе, пехота! Как звать-то?
– Виктор.
– Я Антон. Комбат. Только от батальона у меня видишь что осталось? Мы тут у тебя покуролесим до утра. Сейчас пушки разобьём, поедем немца пугать. Присоединяйся!
– С удовольствием! Только людей у меня мало осталось.
– Да, неслабо вы тут повоевали. – Мы пошли обратно, вниз. – Комдив очень доволен, он на НП полка за боем следит. Представление на тебя написал, а тут твой политрук пришёл, говорит, ты от командования самоустранился, в отбитом танке отсиживаешься. А командует какой-то штрафник.
– Я и есть тот штрафник.
– А, вот в чём дело! Я думал, ты ротный. Я слышал, как полковник по телефону барабанные перепонки рвал. Думал, тебе.
– А я-то думаю, что за отделение так резво в атаку шло? А это ротный реабилитируется.
Танкист хмыкнул, пожал мне руку, полез в танк. Он чуть вывел танк из укрытия, повернул башню, ещё чуть прополз вперёд. Танковая пушка плюнула огнём, потом быстро ещё два раза. Проехал чуть вперёд – ещё два выстрела, быстро сдал назад, спрятавшись за дом. Потом пополз на другую сторону – решил вторую пушку разбить из-за того угла.
Второй танк стоял перед левым нашим «бастионом», заливал огнём и свинцом окна дома на малейшую вспышку оттуда.
Я собрал людей, сколько смог, повёл на штурм левофлангового дома. Управились быстро – немцев было только трое, не смогли сбежать.
А потом верхом на танках ходили в набег на немцев. Все шесть человек. Немца попугали, пушки до конца расплющили, захватили два пулемёта, автоматы (винтовки не брали), гранаты, боеприпасы, фляги и ранцы, портупеи с кобурами, планшетку и бинокль убитого артиллерийского офицера. Так же, верхом, вернулись. Танкисты поставили машины под стены центрального дома, оставили нам их выгружать, сами пошли помогать своим техникам-ремонтниками оживлять, как они сказали, Т-28 (оказалось, так называется отбитый мною танк).
Я вздохнул глубоко. Устал безумно. Да, не мальчик уже – несколько суток почти без сна и еды бегать под пулями. Но надо! Пора собирать камни. В смысле людей. Ротного опять не видать и не слыхать. Значит, опять мне. Девиз ежанутых: если не я, то кто? Я – явно ежанутый.
Прямо под ноги мне выкатился откуда-то Кот.
– Командир! Казачок вернулся. Тебя ищет.
– Пустой?
– Не, с мешком.
– Кот, ты что жуёшь?
– Колбасу. Будешь?
– Ты ещё спрашиваешь? Ох, Кот, доберусь я до тебя, хвост-то тебе укорочу, – бухтел я. Отломил от того полукруга, что он мне дал, половину, вторую протянул обратно.
– Поражаешь ты меня, командир.
– Чем же?
– Что ты мне обратно суёшь? Думаешь, у меня больше нет? Ешь, ешь. А почему ты меня не пристрелил?
Переход с темы на тему был таким неожиданным, что я поперхнулся.
– В смысле?
– Я же тебя пасти приставлен, в спину тебе стрелял. Я думал, прибьёшь.
Я сосредоточенно жевал. Потом спросил:
– А сам не догадываешься?
– Нет.
– Ну, и живи в счастливом неведении. Долго ещё?
– Пришли уже. Ваня?
– Тут он, командир, – раздался тихий шёпот как из-под земли. Они в яме сидели.
– Так, Ваня. Мне некогда с ним возиться. Дознание умеешь делать?
– На дознании был. Только дознавали меня.
– Вот и хорошо. А ты, Кот?
– Не, я боец. Не следователь.
– Осназ? Вас должны были учить полевому экспресс-допросу. Останешься тоже. Что мне от него нужно? Признание его не нужно, и так понял, что он гнида. Нужно мне знать: он в одну харю хомячил, или с указки покровителей сверху? Кто, что, когда, как. Схемы их мошеннических комбинаций, куда девали награбленное. Имена, фамилии. Вам всё понятно? Тогда работайте. Жизнь его мне не нужна – будет упрямиться – сделайте ему очень больно. Очень-очень. Больно. Он уже погиб сегодня в рукопашной, обороняя левофланговый дом.
– Всё ясно, командир.
А я вернулся к роте. И комиссар наш вернулся.
– Ты что тут делаешь? Почему не в госпитале? Тебе же плечо прострелили!
– Приказ принёс передать позиции третьей роте второго батальона. Пулемёты и тяжёлое оружие приказано оставить им. Нас отводят в тыл на переформирование.
– Ну, и слава богу! Надо, гражданин начальник, всё облазить, всё собрать. Могут раненые остаться. И Брасеня не вижу. Много работы, звездатый ты мой. Пошли.
Брасеня мы нашли. Почти целого. После очередного взрыва крыша под ним просела, он рухнул этажом ниже, каска соскочила, схлопотал чем-то твёрдым и тяжёлым по куполу и провалялся финал боя в отключке. И винтовку разбил.
Собрали людей, имущество, своё и трофейное, раненых отправили в тыл на подводах. Встретили смену, поводил ротного Васю по нашей обороне, показал, рассказал. Потом собирали убитых, углубили воронку, схоронили, простились. И изувеченного старшину тоже тут закопали.
К этому времени танкисты, отчаявшись завести Т-28, зацепили его сразу обоими Т-26 и решили уволочь в тыл для более детального, так сказать, изучения. Комбат-танкист Антон любезно предложил подбросить. Мы не стали ломаться, нагрузили танки трофеями выше крыши, так что самим мест не хватило. Мы не сильно расстроились – хоть и пешком, зато налегке.
А ротного мы так и не нашли. Ни среди живых, ни среди мёртвых. Может, ранен?
Из боя я вывел тридцать шесть человек. Позавчера было почти две сотни. Антон-комбат сказал, что это очень скромные потери, учитывая, что нам удалось сделать.
– И что же нам удалось?
– Ввести в заблуждение противника. Он теперь уверен, что именно здесь дивизия наносит главный удар. И что мы ввели в бой последние резервы – это мои танки. А на самом деле это они теперь стянут сюда свои резервы, а комдив бьёт намного севернее. Всеми своими силами. Так что отделались малой кровью. И даже танки мои целы. И на один больше стало. Двадцать восьмой – хорошая машина. Отремонтирую, вдвое сильнее стану. Как же удалось отбить его целым, не знаешь? Немец обычно взрывает всё, что забрать не успевает.
– Не успели. Ребята их вырезали раньше, чем они мяукнуть успели.
– Ох, и ловкие ребята. А не знаешь, кто это был?
– А тебе зачем?
– Проставиться хочу. Литр коньяка с меня. Трофейного, французского.
– Не жалко?
– Жалко. Берегу уже долго. Только за танк – не жалко.
– Тогда гони литр. Я это был. Вот с этими двумя охламонами.
– Да ну, брешешь! Коньяка захотел на халяву.
– Правду говорю. Ты не обратил внимания на наше оружие? Мы же как раз с танка и сняли. А Кот внутри своей кровью написал: «Кот».
– Зачем?
– А кто их, котов, поймёт? Гони коньяк! Коньяк я уважаю!
– Так у меня не с собой. В гости потом приходи.
– Ну вот, начинается. «Потом»! Нет у нас, Антоха, потом. Ты сгоришь, нас пулемётами порубают. Сейчас надо, сейчас!
Врал. Коньяк он с собой возил. Литр распили на шестерых – Антон, его ротный, он же командир второго танка, я, Кот, Ваня и Серёга-политрук. Прохор пить отказался. Я тоже зарекался, но… Это же французский коньяк! На халяву!
Как добрались до места, не помню. Помню, что командовал. Но, видно, неудачно, потому что меня спровадили довольно скоро и ловко. Уложили спать.
Руины столицы (1942 г.) Переформирование
Утром меня разбудил вой воздушной тревоги. Оказалось, нас разместили там, где раньше стояла батарея тяжёлых гаубиц. Батарея ушла, вместо неё поставили деревянные макеты. А мы – вместо массовки. Роль свою исполнили блестяще: бегали от самолётов очень натурально. По Станиславскому. Немцы должны были поверить. Хорошо хоть никого не задело. Так сказать, обделались лёгким испугом – люди живы, пострадали лишь три макета из четырёх. Позже узнали, что ремонтировать макеты тоже нам.
На этом плохие новости кончились. Начались хорошие – имелась натопленная баня, комплект сменного белья на каждого, продовольствие на роту, а нас тридцать семь, и никто нас не трогал целые сутки. Рай!
Вымылись, прогрелись, отъелись, отоспались, привели в порядок форму, оружие, тело и душу.
А на следующее утро пожаловал комдив. Невысокий крепыш с суровым взглядом, поджатыми в нитку губами, резкий в движениях и словах. Вылез из саней, резво подбежал к нам, вытянувшимся в строю. Серёга доложился (он у нас единственный остался из постоянного состава, то есть не штрафник).
– Младший политрук, вы ранены?
– Легко, товарищ полковник. Могу продолжить несение службы.
– В медсанбате узнаю, можете вы или нет, – резко ответил комдив, впившись жёстким взглядом в глаза Сергея. Политрук начал краснеть.
Полковник криво ухмыльнулся:
– Где ротный, знаете?
– Никак нет, товарищ полковник. Видели его идущим в контратаку, потом не смогли найти.
– Не ищите. В медсанбате он. После излечения в эту роту придёт, только в другом качестве. Так кто командовал ротой?
Тишина. Я молчал и просил меня не сдавать. Все потупились.
– Что, самоорганизация? – усмехнулся полковник. – В анархию на войне я не верю, младший политрук. Я за время службы убедился: там, где нет командира – нет успеха. Вы же блестяще справились со своей задачей. Значит, командир есть. И кто у нас тут такой скромный?
Он прошёл вдоль всего нашего строя, заглянул в глаза каждому. Потом улыбнулся, отчего лицо его сразу перестало быть жестоким, а стало лицом обычного умудрённого жизнью мужика.
– Кузьмин, два шага вперёд!
Я вздрогнул, чётко отчеканил два шага, вскинул руку к ушанке, проорал:
– Боец переменного состава Кузьмин!
– Вольно.
Он встал напротив меня, долго разглядывал. Потом спросил:
– Сколько раз ранен?
– Сбился со счёта, товарищ полковник!
– Смерти совсем не боишься?
– Умирать страшно только первый раз, товарищ полковник! А теперь пусть она меня боится!
– Орёл! Где воевать начал?
– На Юго-Западном, в октябре. Два боя, потом месяц из окружения выходили.
– Сколько танков на твоём счету?
А вот тут я удивился – откуда он знает? Я для него должен значить не больше, чем ворона вон на том столбе. Поэтому не проорал, как до этого, а удивлённо ответил:
– Я и не помню.
– Ловко.
Он отвернулся, прошёл туда, сюда. Потом махнул мне, чтобы встал на место. Остановился перед строем, покачался на ногах с пятки на носок, скрипя сапогами, пожевал губы, сказал:
– Мы долго отступали. Теряя города, области, теряя друзей и близких. Мы смогли остановить врага и перемолоть лучшие его ударные части. Элитные части. Дивизии, покорившие всю Европу, усеяли своими костями леса и поля нашей Родины. Пришла пора гнать врага с нашей земли!
– Ура! – дружно закричал весь строй. Даже я, при всём цинизме человека двадцать первого века. Я действительно ощущал душевный подъём.
Полковник подождал, пока мы успокоимся, продолжил:
– Честь возглавить наступление выпала именно вам! Первыми начать освобождение столицы! И вы с доблестью оправдали оказанное вам доверие!
Опять ликование.
– Благодаря вам дивизия успешно выполняет намеченные наступательные планы, но…
Мы притихли.
– Враг оправился от нашего удара, каждый последующий шаг даётся всё с большим усилием. Сегодня в бой я ввожу свой последний резерв. И останетесь у меня только вы. На вас только у меня и надежда.
Мы молча переглянулись. Последняя надежда – тридцать шесть штрафников и раненый политрук. Хреновые дела.
– К исходу дня мы выйдем к реке. К завтрашнему вечеру очистим восточную сторону. Ваша задача – ночью, под покровом тьмы, по льду перейти реку, захватить плацдарм и закрепиться. Вам направлено пополнение, вас обеспечат всем, что есть на наших складах, но вы должны зубами вцепиться в тот берег и продержаться хотя бы сутки! Я прекрасно понимаю, и вы должны понимать, что враг будет наседать, не жалея сил. Но вы должны удержаться!
Он замолчал, опустил голову. Мы, естественно, тоже молчали.
– Я надеюсь, что то, что позволило вам выманить на себя позавчера все оперативные резервы противника на нашем участке, или тот, кто руководил вами, поможет вам и в этот раз выполнить приказ. Если вы продержитесь сутки, я смогу перегруппировать силы и вызволить вас. Нет – тогда нет. Напомню, что подпирать вас будет пулемётная рота заградотряда. Это для слабодушных. Среди вас таких нет. А вот пополнение к вам придёт всякое. Не подведите меня, сынки!
– Служу трудовому народу! – проорали мы.
Полковник уехал, мы разошлись молча. Разговаривать не хотелось. Вот так – сунул ложку мёда в рот и окунул по макушку в дерьмо. М-да! Профи!
Молчание первым нарушил Брасень:
– Опять нас в самое пекло суют. Смертники в натуре!
– А бывает по-другому? – пожал плечами я.
Все смотрели на меня, ожидая продолжения. Ждёте – получите:
– Воевать я начал с разбомбленного эшелона. Меня чуть не убило. Я до фронта даже не доехал. Залатали немного, стал на фронт рваться. Как раз в городе, где меня собирали по кускам лепилы, из милиционеров и сотрудников НКВД сформировали истребительный батальон. Я в него напросился. Привезли нас на фронт. Выгрузились, пошли к линии фронта. А её нет! Немцы так вломили нашим, что и линию обороны построить не из чего. А тут свежий батальон, да ещё и не салаги какие-нибудь или колхозники вчерашние, а НКВД! А наш батальон посильнее некоторых битых дивизий оказался. Немец как раз захватил очень для них удобный мост и плацдарм на нашей стороне. Мы их ночью, в дождь, обошли, вдарили так, что обратно никто не смог сбежать. Мост только не смогли взорвать. А вот дальше началось самое интересное – выходит на нас цельная танковая дивизия! А к вечеру – ещё одна. А нас – четыреста бойцов, правда дюжина пушек у нас была. В танковой дивизии немцев пятнадцать тысяч человек, триста танков, столько же орудий. Правда, и они сильно пообтрепались, пока до нас дошли от границы. Мы всё-таки не французы, маленько позлее воюем.
Я замолчал, заново переживая тот бой.
– Дальше-то что?
– Не повезло мне. Ещё ночью один ретивый немец в упор меня чуть не застрелил. Броник пробил. Так я с этой пробоиной потом и бегал. Влупил по нам немец так, что аж в пятках затрещало. Два дня мы продержались. Больше сорока танков пожгли, несколько самолётов. Даже я самолёт сбил.
– Ты самолёт сбил?
– Ага. Пришлось. Такой наглец – летал так низко, что винтом траву стриг. Пришлось наказать. Из пулемёта долбанул, он штурвал с испугу дёрнул, землю крылом зацепил – низко же летел, и грохнулся. Дело не в этом. Скажи, мы тогда, когда нас в окопах враг утюжил, тоже штрафниками были? Нет, добровольцами. Почти весь батальон там лёг. Не бывает по-другому. В этой войне победит не тот, у кого лучше танки или самолёты, а тот, кто больше готов умереть ради жизни. Батальон наш лёг, но двое суток не пускал немца. Батальон танков мы сожгли, больше батальона пехоты угробили. Получается что? Враг вроде бы победил? Да, он прошёл дальше. Но на одного убитого нашего пришлось по трое немцев. Этих солдат и танков им, может быть, и не хватило для охвата Москвы с юга. Получается, что мы победили? Не пожалели себя, не сбежали, а встали намертво и не ушли. Вот и там – встанем намертво и не уйдём. Я точно так сделаю.
– А смысл в нашей смерти? Кому легче станет?
– В смерти вообще нет смысла. Смысл есть в жизни. Кем ты был, пока жил, как ты жил, что делал и как ушёл – вот в чём смысл. Я в каждый бой иду биться насмерть. И помогает.
– Чем же?
– Страх не мешает. Сразу сказал себе: всё, Медведь, ты точно труп! И уже не думаешь, как бы выжить, где бы спрятаться. Руки не трясутся, холодный липкий пот глаза не заливает, мысли от страха не путаются. Чувствую себя нормально, спокойно, как сейчас. Только одно беспокоит – как бы их всех перебить! Как бы ребят не дать перебить! А если суждено умереть именно в этот день, то хоть и забьёшься в самую глубокую нору, всё одно сдохнешь. Не от пули, так от трясучки. Лучше, по мне, в бою, громя на куски врага!
– Контузия не такая уж и плохая штука, оказывается, – сказал со смехом Брасень.
Начали группами приводить пополнение – штрафников. Коротко беседовали с каждым и распределяли по взводам и отделениям. Всё обозвали привычно, хотя это было условно.
Когда численность роты перевалила за сотню, начались проблемы. И опять из-за снабжения. Отдавать откат в пятую часть можно, когда нас тридцать семь человек, а должны дать на сто. А вот наоборот – жалко. А иначе не дают. Возьми хлеба на восемьдесят человек, а распишись за сто? А харя у них не треснет? Оказалось, не треснет. Собрал опять свою группу управления.
– Так, мужики, не пойдёт, – начал я.
– Есть вариант, – сразу же кивнул Брасень, – кража со взломом, угроза оружием и остальное прицепом. Завтра в бой – по хрену.
– До боя шлёпнут. А хотя… Делаем. Под немцев только сработаем. Формы у нас завались, от склада пойдём на запад, там же и спрячем, а завтра заберём. Но всё это не прокатит без фокуса. Брасень и Казачок, останьтесь, остальные – готовиться.
– Ваня, возьмёшь того же ушлого форточника и проведаешь главного затейника-крысятника. Чую я, что угрызения совести его так мучают, что он малодушно помышляет о самоубийстве. Брасень, ты себе очкарика того, самострельщика, зачем взял?
Брасень смутился, вздохнул глубоко, буркнул:
– Сам же приказал учёт наладить.
– И? Бюрократия мне тут нафиг не нужна! Бухгалтеров ещё заведи!
– Тут это, Иваныч, как тебе сказать… Ты не сомневайся, он воевать будет, я сам присмотрю…
– Не понял я тебя, главснаб. Что ты титьки мнёшь? Говори прямо!
– Неграмотный я! Расписаться могу, а читаю и считаю – плохо!
– А, вон что! Да, это дело поправимое. Научишься. Ты, Брасень, никуда не идёшь. Как и я. Слишком мы заметные. Отбери надёжных и неболтливых людей. Психов тоже не надо – кровь не нужна. А чтобы незаметно было отсутствие людей, организуй опять баньку для вновь прибывших. И суеты, суеты побольше, побольше! Людей отправлять не группой, а по одному. Маскарад – в мешках. Если запалитесь, всё на тебя, уголовника, свалю.
– Я так и понял! – усмехнулся Брасень. – Вы, красные, хуже нас, воров. Делаете то же самое, но чужими руками. А виноваты всегда не вы. Как и прошлый раз: обворовали всех крестьян до одного – продразвёрсткой назвали. А что народ мрёт с голода, так это они сами мрут, вы-то при чём?
– Ты чё мне тут политинформацию развёл? Язык длинный? Укорочу! Или отменить всё? На хрен! Выкручивайся тогда, как хочешь! Но за сытость солдат, их вид и оснащение с тебя спрошу! Солдат, что не доедает, до конца боя не доживает!
– Чё ты? Чё ты? Раздухарился-то! Я так…
– «Так» с женой своей будешь! «Так» он! Я тебе сколько раз говорить должен: нет больше у нас ни красных, ни чёрных! Зелёные мы все! Цвета хаки! Ещё раз услышу, в табло без базара прилетит. Усёк?
– Усёк.
– Пшёл вон, демагог! И ты иди, казак недоделанный. И хорошенько всё обмозгуй, а не как обычно, на мелочах сыпешься.
– Может, вместе покумекаем?
– А на хрена тогда тебе голова нужна, Ваня, если я всё за тебя придумывать буду? А грохнут меня – пропадёте? Или ты думаешь, я вечный? Нет, я тоже сделан из мяса. И тоже устаю. Давай я смотаюсь проведать крысу, а ты тут порули!
– Нет, командир. Я не справлюсь. Пойду и я тоже.
Остались Кот и Прохор. Я посмотрел в упор на Кота:
– Рапорт будешь писать?
Он пожал плечами. Потом спросил:
– Зачем так? Может, давай через наших? Это будет лучше и законнее.
– Законнее – может быть. Но не лучше. Что, «ваши» до сих пор не видели? Ни разу не поверю! Давай смоделируем картину: я через тебя доложил, что из этой дивизии широким и стабильным потоком уходит народное добро. И возглавляет это главный снабженец дивизии, если не сам комдив с начштабом. Хотя на комдива не похоже, не таков он. Но допустим. Что будет? Интендантов и старшин – в штрафники, а руководство будет переведено куда-нибудь. А система останется. И здесь, и в других местах.
Я вскочил, начал ходить по хате.
– Понимаешь, это как болезнь. Живёт человек, воюет, старается, вдруг занемог, понос. И вот уже ему и не до боевой работы, думать может только о всё ухудшающемся самочувствии. От него подхватил следующий, ещё и ещё. Немного времени прошло – грозная армия еле-еле ползает. Так часто было в истории. В последний раз подобным образом был выбит Экспедиционный корпус французов в Крыму. То же и с воровством. Живёт человек, воюет, старается, вдруг видит – он жизни не жалеет, а жрачка всё хуже, патронов всё меньше, пушки стреляют через раз, танки и самолёты стоят без топлива. А тыловые крысы лопаются от жира и самодовольства. Наворованное используется для налаживания преступных связей, подкуп вышестоящих. И вот сложилась уже система – продукты, топливо уходит неизвестно куда, а воюем по старинке – кровью. А жить всем хочется. И честный вояка сам заражается этой болезнью – на спирт покупает у своего же интенданта снаряды или справку о ранении, бронь или керосин для семьи. Кому война, а кому мать родна. А расплачиваться за всё придётся опять мужику русскому. Есть только один способ борьбы с эпидемией…
– Изоляция.
– Уничтожение переносчиков. Изолировать не получится. Они откупятся. Ваша система тоже уже порядком заражена. Интендант первого ранга точно отвертится. Привлечёт свои связи. Он глава всего. Будет другой, нормальный – даже старшины на складах вспомнят об уставе и долге.
– Это не решение.
– Что я слышу? А не ваша ли организация подчистую обезглавила дворянство, казачество и крестьянство, фактически прекратив существование этих классов как явления? Исходя из той же логики?
– Нет! Это было сделано раньше. И те, кто сделал это, уже ответили!
– И действие сие было продиктовано той же логикой.
Кот долго молчал, потом тяжело поднял глаза на меня:
– Я обязан доложить. Тогда действовала система. Ты же сейчас пытаешься собой заменить систему, сразу поставив себя против всех систем одновременно. Ты разом становишься врагом всех. И если я не доношу на тебя, становлюсь к расстрельной стенке рядом.
– Кот, скажи как мужик, а не чекист, тебе не хочется удавить всех этих крыс?
– Хочется. Они хуже немцев. Немцы хоть и враги, но честно, грудью на тебя выходят. Они нас убивают – мы их. А эти… В спину… На ходу жилы подрезают. Ненавижу! Но то, что ты предлагаешь, противозаконно.
– А говоришь, я один. Каждый честный вояка в моей системе. Нас миллионы. А рапорт пиши! Я не остановлюсь! Уж я их насмотрелся, уродов! Ты их ненавидишь! Знал бы ты, что станет, когда они заполонят собой всё! Когда не только в твоей системе, а и в партии их станет большинство, что тогда они будут делать?! Цинично и уже совсем не скрываясь. Наоборот, чувствуя свою ущербность, они будут ею кичиться, убеждая тебя, что это ты ущербный деревенщина с устаревшей, допотопной моралью. А вот они-то! Они прогрессивные! Они продают всё! И продадут! А то, что не захотят купить, просто обгадят. Страну, память, народ, землю предков. Это страшная сила. Сила тлена, трупного яда, гниения. И страшна она своей неспешностью, как гангрена. Ты пытаешься лечить загнившую руку компрессом? Значит, сдохнешь целиком.
– Ты не должен распространяться об этом, – вдруг замкнулся Кот.
– А, так ты в курсе моих осенних похождений? Прохор, прогуляйся! Нет, останься! Я больше не хочу говорить об этом. Это моя жизненная позиция! И я буду поступать так, как считаю правильным. И готов ответить за свои действия. Так что говорить больше не о чем. Выбор за тобой, Кот.
– Ты откроешь ящик Пандоры.
– Кот, обычный штрафник не должен знать такого словосочетания. И рядовой боец осназа. Не пались!
Кот резко развернулся, ушёл.
Мы были на отдыхе и переформировании. Но это не значит, что мы валялись кверху пузом. Дел было выше крыши. Особенно у меня. Заштопать и починить обмундирование, чистка и ремонт оружия, бесконечные получения и перетаскивания, погрузки-разгрузки всяческих мешков и ящиков. И чем больше становилось народу, тем больше грузооборот. А поиск дров для обогрева и приготовления пищи? Это вообще отдельная эпопея. Дома разбирать нельзя, а за полгода, что в этих краях крутится война, всё горючее уже собрано и сожжено. А найти надо.
Не, я, конечно, не сам это всё делал. Но попробуйте организовать сотню человек, деморализованных до пофигизма. Заставь их делать то, что нужно им же! Та ещё работка! И я всё это организовывал и контролировал. И если бойцы могли в сердцах воскликнуть: «Ротный, сука, задрал!», но делать, подчиняясь моей воле, то кто заставит меня? Я же. А самого себя заставлять сложнее на порядок. Кроме этой оперативной суеты, надо было принять каждого нового штрафника, побеседовать, постараться понять, что за человек, на что способен или не способен, придумать, как его применить с наибольшей пользой. Людей много, я один. А оглушенные наказанием штрафротой бойцы зажаты, слова не вытянешь.
Скорее бы в бой! Там проще. Думать не надо.
– Брасень! Белые костюмы достал?
– Двадцать семь штук! – гордо заявил Брасень.
– Ты издеваешься? Надо двести!
– Надо-то надо, да где ж взять? На складе нет.
– Нет или говорят, что нет?
– Правда нет. Всё облазил.
– Это не есть хорошо! Что же делать?
– Мука нужна. Мельник как выйдет – белее снега, – сказал Прохор.
– Мукой обсыпаться – кощунство, – воскликнул я, – лучше съесть! Но направление мысли верное. Что-то белое нужно. Известь жжётся, цемент стынет. Мел, тальк, побелка. Брасень, ищи!
– Ты мне ещё «фас» крикни. Ищи! Всё, всё! Молчу! Уже ушёл.
– Политрук! Иди к комдиву. Стучи на кладовщиков! Лыжи зажали. У них ещё двадцать пар есть!
– Стой, мать твою за ногу, об угол! Ты куда прёшь, дебилоид! Там ещё не разминировали! Таблички для кого стоят? Для меня?
И так до вечера. Может, я плохой командир, поэтому такой бардак? И ещё Серёгу комдив позже отправил в госпиталь. За наглость, наверное. Вообще один остался. На двести штрафников. В роте ни одного не разжалованного. Поразительное однообразие. А по закону ротный и взводные должны быть кадровыми.
Руины столицы (1942 г.) Юмор от люфтваффе
Утром никого не стали поднимать. Пусть поспят. Ночь будет тяжёлой. И не одна. Сам проснулся на рассвете – трясло. Нет ничего хуже, чем день перед штурмом. Всё одно, что за штурм: экзамен, драка с соседним кварталом, первое свидание, бой с немцами – всё одно испытание. Трясёт, в голове зациклена только одна мысль – всё ли успел, всё ли правильно сделал, ничего не забыл?
Ворочался, ворочался, встал, оделся, вышел на улицу. Надо чем-нибудь занять руки – голова забьётся, иначе можно и сорваться с резьбы.
Ясное небо. Сегодня будет солнечно и тепло. Сел на завалинку, стал чистить ДТ, потом набивать диски патронами из ящика. Мимо поплыл манящий запах – повар готовит завтрак. Я начал успокаиваться. Подошёл осунувшийся, но довольный Иван.
– Что нового слышно? – спросил я его. Отложил диск, взялся за трубку.
– Говорят, интендант застрелился.
– Да ты что?! И как это?
– Говорят, кровью своей написал в партбилете: «Я – вор», – и выпустил себе мозги из собственного пистолета.
– Стрелял один раз?
– Ну да.
– А больше ран не было?
– Нет вроде.
– Эх, Ваня, Ваня! Не быть тебе атаманом! Так и помрёшь казачком! Мститель хренов. Поэтому и сел, что сыпешься на мелочах. Ключевых мелочах.
– Чё это? Как это?
– Если бы ты головой умел думать, а не тем, на чём сидишь, то понял бы, что брешут эти сплетники.
– Что это сразу – «брешут»?
– Ну, следи за моей мыслью. Если интендант выстрелил себе в башку, то он умер мгновенно. Так?
– Так.
– А как же он тогда в партбилете писал?
– Пальцем.
– Мёртвый?
– Наверно, живой ещё был. Написал, а потом стрельнул.
– А кровь тогда откуда? Больше же ран не было. Так?
Ваня насупился.
– Вот я и говорю: учись, Ваня, головой работать. Думать учись. Это тяжело, но надо. Иди. Охламон!
Принялся опять набивать диск. Вот придурок! Ну никому ничего доверить нельзя. Мститель одноразовый! Твою мать! Особисты нагрянут. Хоть всё делай сам! Чем люди думают вместо головы?
Настроение было испорчено до конца. Психуя, добил диск, закинул пулемёт за плечо, зашагал по улице, поглядывая на небо. Оно было ярким и солнечным. Прилетят?
– Воздух!
Прилетели. Двое «лапотников». Прямыми попаданиями неразорвавшихся бомб развалили два макета, погоняли из пулемётов моих сонных штрафников, покачали на прощание крыльями и улетели. Легко отделались. Только одного убили. Раненых нет. Ушибленных много. Это хорошо, что бомбы не взорвались, а то жертв было бы больше. Почему же бомбы не взорвались?
А они и не могли взорваться – это были не бомбы, а брёвна. Так немцы сообщили нам, что разгадали наш замысел с фальшивой батареей. Деревянными бомбами по деревянным пушкам. Я оценил юмор.
– Политрук, в штаб дивизии сообщи, что немцы догадались про деревянную батарею. Так и сообщи, что подверглись бомбёжке деревянными бомбами.
Серёга убежал к заградотряду – звонить. Больше он не вернулся. Лечить отправили.
– Рота! Через час построение. Готовность к маршу!
Суета стала лихорадочной.
Руины столицы (1942 г.) Уроки подлёдного плаванья
– Бойцы! Мужики! Началось освобождение нашей Родины! И началось оно с освобождения столицы. Нам предоставлена честь принять в этом непосредственное участие. Сегодня ночью мы по льду форсируем реку и захватываем плацдарм на западном берегу. Все мы оказались здесь не по своей воле, но за свои грехи. Сегодня нам будет дана возможность смыть с себя пятно позора кровью. Своей кровью и кровью врага. Помните, то, что мы штрафники – это временно. А то, что мы русские – это навсегда! Да, кто-то сегодня падёт, кто-то будет ранен. Но все мы сможем лицом к лицу сойтись с врагом и отомстить! Отомстить за тех, кто уже никогда не сможет, за тех, кто никогда и не мог. За убитых жен и детей! За матерей и отцов! За братьев и сестёр! За расстрелянных и повешенных, за задавленных танками и заживо сожжённых! Отомстим! За Родину! Бей выродков! Ура!
Вот такую речугу я толкнул перед строем. Похоже, прониклись. Самое время спеть что-нибудь патриотическое.
– Напра-во! Шаго-м… Арш! Запе-вай!
Спели «Вставай, страна огромная», потом я пел «Молитву», немногие подпевали:
Ночь. Над Русью ночь И гладь небес. Млечный Путь так Предвещает. Тьма Во степи. Рыщут шакалы. Ведь Русь в ночи, как чаша, туманом, Сон-травой испита дурманом И во лжи росою полита. Белый конь ступает копытом. По восходе солнца над Русью Поднимайтесь, русские люди! Разжигайте горны во кузнях! Здесь жатва кровавая будет! Степь Руси здесь, Слабый зов здесь, Бродит тень здесь, Сына кличет мать. Но Спят сынки. Лишь Слышится стон слабый. Здесь была кровавая битва, Пала рать, изменою бита, Болью стонет мёртвое поле, Зверя вой врезается в поры. Родина взывает по праву И земля, испившая крови, Отомстить кровавым шакалам, Выкинуть чужестранных уродов. Чёрный дым здесь, Казнь сынов здесь, Смерть мужей здесь, Портят белых дев здесь, Чёрный дым. Над Русью вой слышен. Погибает русская раса, Празднуют враги в нашем доме. Собирайте новые рати, Бой врагу в подарок готовьте! Не погибнет русская раса, Не бывать врагу в нашем доме! Растерзайте вражие стяги, Пламя верните в родные чертоги! Родина взывает по праву И земля, испившая крови, Отомстить кровавым шакалам, Выкинуть чужестранных уродов. Подняв стяги, идут поколенья Отомстить за преданных смерти И за жён, иссеченных плетью, За детей, закованных в цепи. Родина взывает по праву И земля, испившая крови, Отомстить кровавым шакалам, Выкинуть чужестранных уродов. Погибает русская раса, Празднуют враги в нашем доме. Собирайте новые рати, Бой врагу в подарок готовьте. Не погибнет русская раса, Не бывать врагу в нашем доме! Собирайте новые рати, Растерзайте вражие стяги!..Так дошли до штаба батальона, на участке которого нам и предстоит пересечь реку. Людей расположили по укрытиям – шальные снаряды частенько долетали сюда. Изрядно поредевший батальон вел бой, зачищая восточный берег. Комбат был удивлён:
– Ни хрена себе рота! Сколько у вас? Две сотни! У меня в ротах и по полсотни не будет.
– Будет, будет. Всё у тебя, старлей, будет. Показывай, где мы будем наступать.
Вышли почти на берег. Лёд зиял чёрными проплешинами – пробоинами. После каждого удара снаряда об лёд столб воды поднимался высоко в небо и потом падал, смывая снег.
– Немец ещё ночью отошёл. Тут остались немногие – это мы их не пустили. Вот они по льду и долбят, боятся, что мы на него полезем.
– Не полезешь?
Комбат отвёл глаза:
– У меня другая задача.
– И какая?
– Обеспечить вас связью. Протянем вам шнурок на тот берег, и две рации с радистами получите.
– Запасные БП?
– Само собой. Связисты уже прибыли. Заряжаются.
Потом я около часа разглядывал в комбатовский бинокль противоположный берег. Немцы не особо там и суетились. Ясно, что уже заранее готовы. М-да, нелегко нам придётся.
Уже два часа, как стемнело. Мороз крепчал. Немец подвешивал минимум по две ракеты над полоской реки, постреливал из пулемётов и покидывал мины. Тише не будет. Пора!
– Помните: как проваливаться начнёте, жердь ставить поперёк. В воде резких движений не делать! Ну, с Богом! Пошли помаленьку!
Я спустил на лёд самодельные санки – лыжи с закреплённым на них ящиком с гранатами, ДТ и своими пожитками, взял в обе руки четырёхметровую жердь, вздохнул поглубже и побежал. Санки, привязанные к моему поясу, покатились следом. Я опять бежал первым, стараясь подальше оббежать пробоины во льду. Это опять был расчёт – глядишь, и проскочу. Главное, не провалиться и темпа не потерять.
Я пробежал уже половину реки, когда немец открыл неистовый огонь. Я задыхался, но поддал. Главное, до берега добежать. Я не морпех, воды не люблю.
Оглянулся. Мои штрафники бежали широкой белой лавой. Как пикинёры – с шестами наперевес. Трассеры впивались в бегущих, опрокидывали людей на лёд. Водяные столбы, оседая, смывали людей в полыньи. Штрафники не стреляли. Зато наш берег свирепствовал – били из всего, что есть, по вспышкам на западном берегу.
– Быстрее! Быстрее! – шептал я сам себе.
Вот и набережная. Гранитная. Встал к ней спиной, быстро разобрал санки. Пару гранат наверх, после разрывов – туда же полегчавший ящик, потом сам.
Наконец! Бой! Тут я уже не как баран на скотобойне. Тут и я могу ответить!
ДТ в упор – отличная вещь! Гранаты и ДТ – чистый результат! Набережная очищена. Наверх начали вылезать очумевшие штрафники. Пора из штурмовика превращаться в ротного.
– Ты, ты и ты! Вон ящик с гранатами! А вон пулемётная точка. Ты в центре, ты справа, ты слева. Вперёд! Все! Подавляющий огонь!
Люди подбегали. Кто-то мокрый с головы до ног – окунулся или накрыло водяным столбом. Многие потеряли оружие, большинство – очумевшие. Каждого встряхнуть, дать спирта глотнуть, привести в чувство, подбодрить, направить. А это много беготни и крика.
Говорят, ночной бой – очень сложный. Я пока не знаю ни одного простого боя. Но вот то, что управлять им сложно, это точно. Где мои, где немец, не поймёшь. Через час наши порядки так перемешались, что кое-где пришлось отбиваться от врага, стоя лицом к реке. Как я управлял боем? Бегал и орал. Как ещё? Как только находил не сильно занятого бойца, направлял его туда, где жарче, придав ему боевой решимости волшебным пенделем.
Нас было две сотни. Сколько перешло на западный берег? Кто ж считал? Но! Мы смогли не только очистить набережную, но и захватить целый квартал. На этом наше наступление на запад остановилось. До утра наступали наверх и вниз. Воевали не по горизонтали, а по вертикали, отбивая этажи и подвалы.
Руины столицы (1942 г.) Батальоны просят огня
Ничего бы у нас не вышло, если бы не старлей Федя – корректировщик. Он наводил огонь дивизионной артиллерии. Что нас сильно выручало. Оказалось, что следующие сутки все пушки дивизии работали только на нас.
К рассвету стал подводить итоги: захвачен плацдарм полкилометра в ширину и двести метров в глубину. Три здания и руины ещё десятка. Несколько хороших подвалов. Уничтожено больше сотни солдат противника, захвачено много оружия, боеприпасов. Отдал приказ закрепиться. О чём и сообщил «Оке» – комдиву.
– Держись, Медведь, – прошипела трубка, – сейчас они тебя выдавливать будут.
Это понятно. А народу у меня осталось – кот наплакал. Кстати, где он?
Создать сплошной линии обороны не получится, создали очаги сопротивления – группа человек в пять-семь с пулемётом занимает удобную для обороны позицию. В пределах огневого контакта – следующее гнездо. Позади них ещё одно.
В захваченных зданиях разместил гарнизоны, тут же начавшие баррикадироваться.
До рассвета под обстрелом отправили на тот берег раненых, подвезли боеприпасов и сухпая. Нам передали два ПТР с патронами. У меня нашлись и спецы, попавшие в «шурочку» из бронебойщиков.
Лихорадочно закреплялись. НП себе я оборудовал в самом близком к реке здании, с разрушенным бомбой правым крылом. Тут был мощный подвал. В нем организовали склад, перевязочную и «последний рубеж обороны». Здесь же моя группа: промокший насквозь Кот, Иван, Брасень с двумя своими братками, Прохор, связисты и наводчик-корректировщик. В резерве десяток бойцов с двумя трофейными пулемётами. Это моя группа оперативного реагирования.
В правом здании, по версии корректировщика, «путейский» гарнизон в четырнадцать человек при четырёх пулемётах под командованием сорокалетнего бывшего бригадира-железнодорожника. Как он удивился, когда я спросил, сколько лет он в пути:
– Откуда знаешь?
– Походка. Ты лет пятнадцать щебень и шпалы топтал.
– Двадцать пять. Бригадир пути. С началом войны призвался на восстановительный поезд, попал в окружение, в плен, бежал, вышел к своим – теперь здесь.
У меня он стал взводным. Теперь руководил обороной правого дома.
В левом – восемнадцать человек при пяти пулемётах: два «максима», два ДП и один МГ. Во главе – бывший ротный старшина Школьник, за пьянку и рукоприкладство к собственному ездовому угодивший ко мне. У меня он тоже взводный. Третий взвод, самый крупный – почти пятьдесят человек, раскидан по всему плацдарму. Командует бывший старший сержант, после гибели ротного давший пулемётной роте приказ на отход. Людей спас, сам здесь. А не надо было пулемёты и миномёт бросать! Вывел бы – глазки бы и прикрыли, что без приказа – приказ просто не дошёл. А за потерю пулемётов спрашивают всегда строго. Где их брать-то новые? Тульский оружейный завод больше не выпускает оружие. Обустраивается где-нибудь в Ижевске. Когда он даст стране вал? К осени?
– В укрытие! – заорал я и сам сбежал в подвал. Мины стали рваться на нашем плацдарме, дивизионные пушки ударили по позициям миномётных батарей, по дивизионным – немецкие пушки, по ним – наша корпусная артиллерия, а к огневым корпусных пушек вылетели «лапотники». Земля заходила ходуном от сотрясений мощных взрывов.
– Они нас с землёй перемешают! – закричал один из подручных Брасеня, но тут же от мощного удара в ухо отлетел к стене.
– Будь мужиком, сдохни достойно, – рявкнул ему бледный Брасень, растирая отбитый кулак.
Самое для меня противное на войне – обстрелы и бомбёжки. Сидишь, трясёшься и гадаешь – твой, не твой. Хуже нет. И ничего сделать не можешь. Это надо пережить. А время при этом так медленно тянется!
Кажется, стихает. Побрёл к выходу.
– К бою!
Немцы полезли сразу со всех сторон. Нас поддерживали огнём с восточного берега, иначе бы не удержались – немцы, как тараканы, кишели в развалинах, упорно лезли на нас. Их поддерживали две самоходки. Эрзацы, наверное, не «штуги» – силуэт высокий, пушка длинная, корпус открытый сверху и сзади. Самоходки вперёд не лезли, издалека долбили, но потом отошли – когда наши накрыли их по наводке старлея Феди. Взрывы легли рядом, я видел. Следующий залп одну бы точно сжёг, но самоходчики не стали рисковать – попятились и скрылись. Они ещё не раз обстреливали нас, но Федя был начеку, и позже одну из самоходок уничтожили прямым попаданием. Вторая больше не показывалась.
Атаку отбили, нас опять обстреляли, фрицы опять полезли. Мы их опять положили, они нас опять обстреляли. И так несколько раз. С каждым разом они ближе и ближе, а нас всё меньше и меньше.
– Ну, что, командир, удержимся? – проорал мне в лицо Брасень, скалясь. Он бегал с опергруппой отгонять фрицев от «школы» – левого дома. На лбу у Брасеня белая полоса чистой кожи, всё остальное лицо в грязи от кирпично-цементной пыли.
– Если они ничего нового не придумают, удержимся!
А они придумали – нанесли мощный удар пехотой меж «школой» и «путейским», прямо на «берлогу» – на мой КП. Взвод сержанта-пулемётчика лёг почти полностью. Отбились гранатами, а потом в рукопашку. Немцев секли с флангов гарнизоны, оставившие первые этажи. Враг усеял трупами весь плацдарм.
Но и это было ещё не всё. Они ударили вдоль набережной, несмотря на плотный огонь с восточного берега, отрезали нас от берега и друг от друга. Мы оказались изолированы в трёх зданиях, но и немцы залегли и попрятались. Пат. Ни мы не можем головы поднять, ни они.
– Только бы они штурмовики не прислали!
Немцы бегут? Сглазил!
– Все вниз! В подвал! Бегом! Воздух!
И этот противный вой сирен! Ненавижу. Бах! Бах-бах! Ба-бах! С потолка сыпется мусор, пыль, летят куски штукатурки. Неужели нас накрыло?! А если выход завалило?! Вот что такое паника.
– А-а-а!!!
Бах! Бу-бух!!!
И звенящая тишина.
– Рота! Встать! Перекличка!
Слышу, как будто в уши ваты напихал, но слышу. Пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать! Отозвались даже раненые.
– За мной!
Протискиваюсь в выход – завалило до пояса. Нашего здания больше нет. Стоят клыки полуобвалившихся стен, всё тонет в пыли.
– Цепью! В атаку! Ура!
Бегу в сплошной пыли туда, где был «путейский». Натыкаюсь на бредущего бойца. Наш! Живой, оглушен.
– Прохор!
Дальше пошли оглушенные немцы. Стреляю, прислонив ствол пулемёта к серой груди немца. Кровь брызгает в лицо. Ребята лупят прикладами.
«Путейский» похож на «берлогу» – обломки стен. Левого крыла здания нет, но есть большая воронка. Уцелели перекрытия правой части здания. Там уже сверкает пулемёт. Ему-то видно, он выше пылевого облака.
Бежим к «школе». Её нет. Бомба легла точно. Пробила все перекрытия, взорвалась в подвале. Никто не выживет. Тут, на обломках, встречаем немцев. Вернее, обрушиваемся на них, как селевой поток. А они-то думали, что всё – позиция взята. В короткой, но яростной схватке почти уничтожаем их. Не многие смогли отойти.
Приказываю собрать трофеи и отходить. Тут не удержаться.
Пыль осела. Увидел солнце. Уже клонится к закату. Нет, комдив, не удержусь я. Некем удерживать.
– Брасень!
– Тут!
– Путеец там держится. Подкинь ему хавчика, воды и боеприпасов.
– Есть!
Брасень стал чёток по-военному. Без этих своих блатных закидонов.
– Выставить боевое охранение. Занять оборону!
Спустился в подвал. Прохор, похудевший, почерневший, повернулся ко мне. Я обратился к раненым:
– Если враг пойдёт в атаку, мы не удержимся. Некем удерживаться. Подумайте, что они с вами сделают. Кто сможет стрелять, предлагаю подороже продать свои жизни.
Все, кто был в сознании, подняли руки. Кто мог идти, сам шёл, неходячих отнесли на позиции.
Вернулся Брасень.
– Что там?
– Пять человек. Все ранены. Три пулемёта. Все лежат на гранатах.
– Гвозди бы из таких людей делать! Брасень, раздай спирт, что остался. Это, ребята, и есть наш последний и решительный бой! Для меня честь узнать вас, воевать рядом с вами!
– Спасибо, командир!
– Федя, как там связь?
– Есть пока.
Федя ранен в голову – осколок снял ему часть скальпа. Один связист убит, второй контужен – из ушей кровь течёт. Берёг их, берёг, а не уберёг.
– Федь, а сколько времени?
Он поднял руку, потряс часы, потом снял их и выкинул. Красноречиво.
– И у меня так. Ни одни часы дольше одного боя не живут.
– У меня такой бой первый. Я с ноября воюю, но чтобы так!..
– А у меня других не бывает. Только такие.
– Как же ты выжил?
– Ты на рожу мою глянь. Я в баню вошёл, ребята мыться перестали.
– Что так?
– Это ты у них спроси.
– Я его как увидел… – это Ваня. – Мне в парилке холодно стало. Места живого нет. Шрам на шраме. Не дай бог!
– Что-то немец не идёт нас добивать?
– Так это же хорошо.
– Что хорошего? Затевает опять какую-нибудь каверзу. Путеец тоже не стреляет. Или я не слышу?
– Не стреляет. А! Обед же! У них же война по расписанию. Завтрак, обед, ужин, сон. Не война, а смена на заводе.
– А ты, Федя, из рабочих?
– Ага! Инженер-технолог. Война началась, лейтенанта технических войск присвоили и на фронт. А артиллеристом я уже тут, на Московском фронте стал. Как комбат погиб, так и командую. Может, и нам жевнуть?
– Может, – кивнул я. Есть совсем не хотелось. Отвернулся, лёг на живот, на склон тёплой воронки, задумался.
Обед только, а от роты рожки да ножки остались. А надо до утра продержаться. Что-то не похоже, чтобы на той стороне дивизия готовилась к переправе. А может, как в том фильме, не будет переправы? Или будет, но не здесь? Вполне может быть. Странно, совсем никаких эмоций. Герой фильма смертельно обиделся на комдива, что он послал батальон на убой. На что обижаться? Это война. Тут все идут на убой. Мы сегодня, они – завтра.
А почему именно сутки надо держаться? Х-м! А, эти сутки полковник будет перегруппировываться, даст дивизии отдохнуть, а завтра вломит фрицам. А мы тут гробимся, чтобы в штаб армии доложить: «Веду бой за удержание плацдарма!» Его наверняка прессуют из Ставки: «Не ослаблять давления!» Вот так он и не ослабляет. Хитро. А что, правильно. Учись! Хороший командир, своих жалеет. А штрафники – чужие. Всем чужие. На то они и штрафники, чтобы их на такие задания посылать. Ну, а что? С математическо-бухгалтерской точки зрения бой можно признать удачным: двести штрафников в убытке, а в прибыток – сотни три немцев убито, одна самоходка, неизвестно сколько подавленных батарей. Нас тут атакует пара батальонов. А может, и полк потрёпанный. Нормально. Ещё потрёпанней будет. Сейчас они ещё и резервы введут, засветят их, дивизия их орудиями причешет. Завтра немцам будет нечем парировать удары дивизии. Молодец, полковник! Быть тебе маршалом!
– Командир, жевни! – Кот протягивал полукольцо копчёной колбасы.
– Где ты её берёшь-то?
– Трофеи.
– По запаху находит, – подколол Брасень, – он немцев потрошит редко, но всегда метко. Я вот ни разу не нашёл.
– Завидуешь – завидуй молча, – огрызнулся Кот.
– Да я и так молчу, – пожал плечами Брасень и, пригнувшись, побежал к дырке входа в подвал.
– Что там? – спросил я Кота, кивая на флягу.
– Компот. Малиновый. Или вино, малиновое.
– Пронесёт.
– Не успеет.
Я хмыкнул – и то верно. Запил колбасу. Вкусно. Люблю малину.
– Слушай, Кот, – спросил я с набитым ртом, – а ты какого звания?
– А какая разница? – пожал плечами Кот.
– Странно просто. Я – обычный старшина, штрафник. Пусть и узнал случайно кое-что лишнего. И ко мне вдруг приставляют за надзором очень умелого и образованного командира. Для обычного бойца осназа, Кот, ты слишком начитан и сообразителен. Так в каком ты звании?
– Капитан.
– ГБ?
– Просто капитан.
– Гм, цельного капитана суют в штрафроту для присмотра за каким-то штрафником. Нерациональное распределение ресурсов. Расточительство.
– Ничуть. Ладно, раз пошёл такой разговор, Витя, а ты в каком звании?
– Старшина, Сёма, бывший старшина. Правда, не смотри на меня так.
– Кто ты, Вить? Нам не дожить до утра, хоть сейчас признайся!
Я схватил его за шею, прижал к себе и зашептал на ухо:
– Русский мужик, Сёма, в меру сил и возможностей, себя не жалея, старающийся помочь Родине и народу. Всё!
Я оттолкнул его. Увидев его лицо, улыбнулся:
– Всё, Семён, нет больше ничего. Не шпион я, не скрытый агент. Нет ничего. Я тот, кого ты видишь. Я – смертник, по недоразумению ещё живой. И приставлять ко мне кого-либо – приговорить ценного агента к смерти.
– Да пошёл ты! – Кот вскочил и побежал.
– Вино оставь!
Руины столицы (1942 г.) Гибель штрафной роты
Мы замёрзли раньше, чем немцы решились на атаку. Перебрались все обратно в подвал, расширив лаз. Оставили только двоих в качестве боевого охранения. И два раза успели их сменить, прежде чем дозорные влетели в лаз:
– Ложись!
Обстрел. Дивизия тут же ввязалась в контрбатарейную дуэль. А мы сидели и тряслись. Надо это переждать, переждать, твердил я себе.
– К бою!
Надо же, кричал не я. Но я не против. Я вообще сторонник самоуправления и самоорганизации – до определённого предела. Не до анархии.
Выбежали, побежали на позиции. Пулемётчики – первые. Бойцы помогали раненым.
– Идут!
Ага, я тоже увидел. Сколько же их! А бронетранспортёры за каким хреном на поле боя вытащили?
– Всем замаскироваться! Будем подпускать ближе! Федя! Наводи огонь!
– Уже!
– Без команды не стрелять! Брасень! Раздать все гранаты!
Недолгая суета на нашей позиции не осталась незамеченной. Пули зажужжали густо над головой, звонко били в кирпичи, глухо впивались в землю. Я достал зеркальце в кожаном футляре, наколол на штык-нож, выставил над собой, через него наблюдал за полем боя. Наша артиллерия била хорошо – метко, часто, хорошо прореживая цепи врага, сбивая его с темпа, замедляя.
«Путеец» уже захлёбывался. В зеркальце я видел только, как взрывы сотрясают дом, но кто бил его – не видел.
– Федя, ты видишь, кто убивает Путейца?
– Нет! Наверно, самоходка. А где она, не вижу!
Всё! Последний пулемёт замолчал. Я видел, как серые силуэты нырнули через баррикады в подъезд. Видел две вспышки и поднятую пыль. «Путеец» пал.
– Федя! «Путеец» пал! Закажи салют в их честь по их координатам!
– Понял!
Взрывы заплясали вокруг дома, в его развалинах. Здесь противник залёг. Федя сразу же перенёс огонь в другое место. Правильно, сейчас не сорок пятый. Снаряды не эшелонами считают и даже не боекомплектами, а поштучно.
Пятьдесят метров. Сорок. Тридцать метров.
– Приготовить гранаты! – негромко сказал я, команда побежала по короткой цепи.
– Давай!
Я метнул две гранаты, встал на колени и стал расстреливать фрицев из пулемёта. Два удара опрокинули меня на спину. Опять! Опять я броником схватил пулю! Пулемёт исковеркан другой пулей. Я взвёл последние две гранаты, бросил их в немцев, достал пистолет.
– Отходим к подвалу!
Самое оно! Врага мы уложили мордами в грязь, есть шанс отойти. Побежал. Рядом была позиция Вани Казачка. Он там и лежал, закатив глаза и пуская розовые пузыри. Схватил его за руку, дёрнул, вскинул на плечи, побежал по неглубокому окопу. Справа тарахтел ППШ Кота.
– Кот, отходим!
Я не добежал метров десять. Меня будто кувалдой ударили в руку и в бок и бревном сзади по ногам. Я бросил, падая, Ваню так далеко, как смог. Лишь бы ближе к подвалу. Перевернулся, глянул на ноги – прострелены оба бедра. Отбегался. Дышать тяжело.
Надо мной склонилось лицо Кота.
– Ваню спаси! Приказ! – закричал я ему, плюя кровью в лицо. – В подвал! Феде! Огонь на себя! На себя!
Он схватил меня и попытался волочь. Наивный! Во мне почти сто кило – сам я немаленький, и мокрая зимняя одежда, броник.
– Ваню тащи. Феде скажи – на себя! Приказываю!
Он не реагирует. Тогда я всунул большой палец левой руки в кольцо Ф-1, закреплённой на бронике. Он всё понял, бросил меня.
Я лежал в неглубокой воронке в траншее, прорытой ещё немцами. Не мог даже головы поднять. Мир для меня потухал. Одно желание осталось – рвануть себя вместе с врагами. Но врагов я так и не увидел. Земля начала качаться, надо мной выросло за долю секунды чёрное дерево, тут же рухнуло. Это же разрыв! Федя! Умничка, ты успел!
Судьба Голума
(наше время)
Судилище и милосердие
Меня кое-как поставили на ноги, следствие продолжалось. Там следствия-то. Основной герой – мой кум – всё раскрыл по горячим следам. Дело оказалось резонансным. Он молодец, герой, ему светило награждение и повышение. Один косяк был за ним – в одиночку решил брать рецидивиста, на счету которого уже было два трупа. А его (то есть мои, по версии следствия) сообщники ещё и убили одного и ранили другого пэпээсника, что пытались задержать меня. Кума моего сплавили в командировку на Кавказ. А как вернётся, будет ему и повышение в звании, и новая должность.
А вот мне ничего хорошего не светило. Я ушёл в отрицалово – отказывался вообще разговаривать с кем бы то ни было, не то что сотрудничать со следствием. У них и так всё сложится, без моей помощи.
Единственный, кто пробил эту ледяную броню равнодушия – Полкан. Он вытащил меня на следственный эксперимент к тому самому коровнику. Я отказывался что-либо делать, изображал собой статую Лермонтова. Он отослал всех прочь, и когда остались одни, сказал:
– Рассказывай.
Я не пошевелился, никак не изменил положения тела, головы, бровью не повёл. Одними губами прошептал:
– Я не убивал.
– Я знаю. Рассказывай, что успел нарыть. И отомри! Уже можно. Придётся только потом на камеру всё рассказать и показать.
Я стал рассказывать. Всё, что знал. Про типа с запиской и номером машины, Отморозка, кума, торговцев органами. Всё, что знал.
А потом заговорил Полкан:
– Ох, и влип ты, Витя! Ох, и влип! И мы все. Куманёк твой в командировке загнулся уже на второй день. Из граника прямо в окно его кабинета саданули. Этот, с номером, его человек. Его тело уже нашли. Тела этих двоих, что за твоей женой присматривали, тоже нашли. Сын моего друга, которого ты покалечил, а потом его добили, приставил их к ней. Он был краем уха в теме. Как про её медкомиссию узнал, подстраховался. Не был он ни придурком, ни психом, так, придуривался. Да не смотри на меня так, не знаю, было меж ними или нет, я свечку не держал. С его стороны был интерес, с её… Она же у нас видная была. Бог им судья. И тебе. И мне. Мы с его отцом как два осла, дон кихоты, блин, пытались этих мразей в город не пустить. Как видишь, ничего не вышло. Они её оперировали прямо в реанимационной горбольницы. Органы прямым рейсом ушли в Израиль. А тебя как торпеду снарядили. Одноразовый убийца. Отвлекающий манёвр. И со своей задачей ты справился блестяще. Такой ил со дна поднял, что вся крупная рыба незаметно ушла. Но зато привлёк к делу так много глаз, что тут работает аж две пары зачистки. Одну ты имел возможность рассмотреть. Лишние жертвы неизбежны.
– Я сожалею.
– Уже поздно. Всем нам. Они теперь зачищают следы. Прощай. Не удивляйся, если я зарежусь случайно безопасной бритвой.
– Я не знал.
– И я не знал. И что с этим делать, не знаю. Генералы мои из столицы уже не на моей стороне. Я от них получил прямое указание из тебя рядить козла отпущения и концы зачищать. Я был нерасторопен, потому зачищают меня. Давай рассказывай всё на камеру, заканчивай эту историю. Жене своей там привет передавай. Если я успею первым, так и быть, я передам.
Мы крепко пожали друг другу руки.
Через день он застрелил из табельного именного пистолета жену, младшего сына (старший учился в другом городе), собаку, поднялся на крышу своего девятиэтажного дома, встав на край, спиной к улице, выстрелил себе в рот и упал под окна своей квартиры – жил он в ведомственной квартире на первом этаже.
Такова была официальная версия.
Это мне рассказал тот самый хозяин холдинга, гаражи которого я охранял и сына которого я искалечил. Он сидел напротив меня в допросной.
– Я не убивал вашего сына.
– Я знаю. Его убил его охранник. Зря ты его отвязал. Это не важно. Ты всего лишь торпеда.
– Я сожалею. Простите.
– Бог простит.
Мы помолчали. О чём говорить? Я всё сказал, спросить, зачем он здесь, не решался. Решил своими глазами меня увидеть?
– Когда я звонил вам, вы мне обещали, что я труп. Ваше обещание в силе?
Он смотрел на меня выжидательно, потом ответил:
– Зачем?
– Они меня держали в палатах с туберкулёзниками. Открытая форма. Я сгнию заживо. Я им нужен для суда. Видно, фарс будет. Прошу о милосердии.
Он ещё некоторое время смотрел на меня в упор, потом встал, сказал:
– Посмотрим. Если не утону в собственном унитазе.
И ушёл.
Он пьяным уснул за рулём. Влетел в столб. Умер на руках врачей «скорой».
Потом был суд. Судилище. А адвоката мне дали, что стал лепить из меня народного героя, мстителя. По следствию, сын хозяина холдинга убил мою жену, я убил его – вот и всё. Отец парня с горя напился и разбился. Вскрылась его многолетняя дружба с полковником милиции, боясь позора, тот тоже покончил с собой, прихватив семью, чтоб не скучно было.
Я отказался от этого адвоката – я не герой. Я дурак. Дурачина-простофиля. Дали другого – старого, опытного, но давно и безнадёжно пропитого. А вот к нему нареканий нет – сработал четко и очень грамотно. Насколько это было возможно.
В зале суда я видел мать покалеченного мной парня, своих родных, мать, отца, сестру, тещу с тестем. И сына. Он не слушал суда. Не понимал, о чём говорили. Он не отрывал от меня взгляда, и глаза его кричали: «Ты обещал! Ты обещал вернуться! Ты обещал, что всё будет нормально!»
Я не сдержал никаких обещаний. Я сделал настолько всё плохо, насколько было возможно. Я не мог смотреть сыну в глаза.
В зале суда были и ещё глаза, что искали моего взгляда. Перевалочная база. Ну вот на хрена они-то припёрлись?
До зачитывания приговора суд доведён не был. Как известно, суд – дело долгое. Не одного дня дело. Бывает, не одного года. И хотя моё дело двигалось галопом, люди хозяина холдинга успели раньше.
Однажды вечером дверь камеры (меня, как опасного, стали держать в одиночном изоляторе, но только после установления заражения тубиком) скрипнула, открылась, впустив двоих синих от наколок личностей. Я сразу всё понял. Торпеды. Такие же, как и я.
И был благодарен их инициатору.
Я встал, сделал шаг им навстречу, остановился, заложив руки за спину. Мужчина должен принять смерть стоя, глядя прямо ей в глаза. Я кивнул своим убийцам, как хорошим знакомым, они сосредоточенно кивнули в ответ и нанесли удары заточками. Один в печень, другой в шею, вскрывая сонную артерию.
Последнее, что я видел – как лужа моей крови заливает бетонный пол.
Время собирать камни (1942 г.)
Темно. Больно. Опять. Я опять не умер. Опять! Где я?
– Где я?
– Не шуми, командир, – голос Кота. Капитана Матушкина. Семёна.
Я опять в прошлом. Я всё ещё на войне. Что за напасть! Кузьмин! Данилов! Вы категорически не желаете умирать!
– Где я?
– В подвале. Тихо. Тут немцы кругом.
– Кто ещё жив?
– Прохор, я, Ваня, Брасень и Федя. Больше никто.
– Раненые?
– Двое. Те, что тут лежали. Тяжелые. Было четверо. Прохор не смог всех…
– Тс-с…
– Да ладно. Те, что здесь, никогда об этом слова не скажут. Если бы не Прохор… Он нас всех спас.
– Как он?
– Спит. Как мёртвый. Даже не дышит. Пульс едва прощупывается.
– Транс.
– Ага. Ты спи, командир. Прохор велел всем спать.
– А немцы?
– Не полезут, если шуметь не будем. Я вход гранатой завалил. Тихо будем сидеть – не станут копать.
Я жив благодаря чуду. И чудо это носит имя Прохор. Я поблагодарил Бога, что он пересёк наши пути. И уснул.
Проснулся от шума. Стал шарить в поисках оружия.
– Давай, браток, тяни! Чуть осталось!
Свои. А что они шумят? Страх потеряли?
– Командир, – надо мной склонилось лицо.
– Прохор?
– Как себя чувствуешь?
– Живой.
– Ты прости, Виктор Иванович, не хватило мне сил тебя полностью залечить. Я всем только пули и осколки извлёк и кровь остановил. Больше не смог.
– Перестань, Прохор. Мы и так тебе жизнью обязаны. Что там происходит?
– Там наши. Утром нашли нас. Откапывают.
– А фрицы?
– Фрицы? Немцы, что ли? Ушли. Сами ушли.
– Странно.
– Я тут за ночь силёнок накопил. Давай, Виктор Иванович, на ноги тебя поднимать буду.
– Может, лучше тяжёлым поможешь?
– Им уже не нужна моя помощь. Один без ноги, другой располосован, но восстановится. В госпиталь они хотят. Кровью искупили. Ты тоже в госпиталь хочешь?
– Нет! Навалялся я по госпиталям! Давай! Только ты опять не истощайся.
– Хорошо. Сейчас перевязочку сделаем. Я полностью никому не залечивал. Всем кровью надо искупить. Одного меня пуля не берёт.
Где-то через час я выполз наружу. Солнечный свет ослепил. Прохор отвёл меня, едва ковыляющего, с болтающейся правой рукой, к горе кирпичных обломков, где на расстеленном брезенте сидели все выжившие, отказавшиеся от медсанбата: Кот, Иван, Брасень, Федя. Двоих отправили в тыл.
– Шестеро, – прохрипел я. – Из двух сотен.
– Восемь, – поправил меня Кот.
– Если бы не Прохор – никого, – тихо прошептал Федя.
Все грозно посмотрели на него.
– Знаю, знаю! – махнул он рукой, охнул, схватился за бок. – Будет сын, Прохором назову.
– А дочь?
– Не знаю. Мне кажется, после войны будут одни пацаны рождаться.
– Федь, а у тебя жена есть?
– Нет. Даже невесты теперь нет. Мы вместе в кружок радиолюбителей ходили. Я тут, а её немцы повесили.
– Как так?
– Она к партизанам с парашюта прыгнула. С рацией. Не одна, конечно. Много их было. Только немцы их нашли раньше партизан.
– Ты не переживай, Федя. После войны мужиков будет столько, что бабы сами в штаны лезть будут. Найдёшь себе другую.
– Такой больше нет.
– Другая будет.
– Брасень, отстань от человека. Сам-то любил когда?
– Любил, – зло сказал он.
– И что?
– Она меня мусорам и сдала.
– Да, не повезло. Не ту полюбил.
– Больше я такой ошибки не совершу. Любить кого-то – опасно.
– Это точно. Только вот зарекалась коза в огород ходить, – сказал с усмешкой Кот.
– А ты, краснопёрый, вообще заткнись!
– Браты, – прохрипел я, – оглянитесь.
Они стали озираться.
– В двух боях рота потеряла больше трёх сотен человек. Выжили только мы. В бою вы друг друга прикрывали, себя не жалея, а сейчас собачитесь. Не кажется вам, что всё, чем мы жили до этого, настолько мелко и ничтожно, презренно, что не стоит возвращаться туда?
Молчат, потупив взор.
– Пламя боя выжигает из человека всё лишнее, наносное, всю грязь и гниль. Не чувствуете разве, что вы стали другими? Чище, возвышеннее. Зачем опять в дерьмо ныряете?
А теперь глаза повытаращивали.
– Я понимаю, говно хоть и вонючее, но привычное и тёплое, а к вони привыкаешь и не чуешь. А вот на вершине горы – холодно, ветра дуют, неуютно. Хотя и чистота кристальная, и воздух опьяняюще свежий.
– Ты всегда так? – буркнул Брасень.
– Как?
– Скажешь красиво и умно, а я ощущаю себя помоями облитым.
– Это свежий ветер с вершины сдул вонь, и ты её обратно почувствовал. Не переживай, обратно принюхаешься, – опять усмехнулся Кот.
– А тебе не кажется, что ты слишком умный для простого надсмотрщика?
Брасень поражал своей проницательностью и меня, и Кота.
Разговор надолго прервался. Молча смотрели на проходящие прямоугольники рот. Подъехала кухня, повар запричитал, что наготовил на целую роту, за что молча получил в ухо от Брасеня.
– За что? Я-то что?
– Сдашь всё под отчёт! Попробуй хоть грамм украсть – сам застрелишься!
– Да вы что, ребята, вы что?
– Почему тебя здесь с нами не было?
А вот тут повару ответить нечего. Прячет глаза.
– Ты что спрятался-то? Ладно, давай наваливай погуще да пожирнее. И рассказывай новости. Что это немец драпать надумал? Раньше за ним такого не замечали.
– А вы не знаете? А, ну да, откуда… Ещё позавчера наши войска Тульского и Калининского фронтов перешли в наступление. Да так удачно, что немец может в окружении оказаться. Вот они и драпанули.
– Ура! – заорали все шестеро, но тут же заохали.
Так вот чего выжидал комдив, для чего суточный отдых дивизии устроил, перегруппировывался. Всё верно, лучше преследовать отходящего врага отдохнувшим, чем пытаться его выбить с укреплённых позиций. А моя рота изображала активность дивизии. Ай, молодца! Даже обидеться на него не могу.
Мимо нас проехали три грузовика с прицепленными 76-мм орудиями. Ф-22, если не ошибаюсь.
– Ф-22 УСВ, – подтвердил Федя, – отличное орудие.
– Если пушки пошли, значит, переправу наладили.
– Так давно уже, – кивнул повар, – меня первым и пропустили.
– Ха! А повар наш тоже штрафник-смертник! Его тоже первым пустили в расход, надёжность переправы проверять, – рассмеялся Кот.
Только сейчас до повара дошло, какой он опасности себя подверг. Побледнел. Не поздновато ли ты обделаться решил?
– Смотри, это что за чудо?
От переправы к нам ехали две легковые «эмки», побеленные разводами извести.
– Рота, стройся! – скомандовал я. – Начальство к нам пожаловало.
Мы выстроились в короткую шеренгу. Не по росту. Самым правым пристроился повар, я оказался самым левым. И справедливо. Я и так самый левый среди всех в этом времени. В любом времени. Да, так точнее.
Из первой машины выбрался полковник. Комдив. Он стремительно подошёл к нам, молча обнял и расцеловал каждого, даже повара. Отошёл на пару шагов, хотел толкнуть речугу, но голос его сорвался, он смахнул с головы шапку и поклонился нам в пояс. У меня в глазах защипало. Охренеть! Ну, и как на него обижаться?
Полковник выпрямился. Глаза его покраснели и блеснули слёзы:
– Спасибо, братцы! От всей дивизии спасибо!
Он махнул рукой, подбежал паренёк в полушубке с папкой и коробочками.
– Каждому из тех, кто покинул вчера тот берег, я подписал рапорт о снятии взыскания. Все восстановлены в правах, в званиях, всем возвращены награды. Награды погибших отправят семьям. Вам, каждому…
Он подошёл и вручил каждому по коробочке, говоря:
– Всё, что могу…
Следом шёл этот паренёк и заполнял орденские книжки и выискивал приказы о награждении в стопке с уже заполненными наградными листами. Я назвался и открыл коробочку. «За отвагу!» Самая ценимая медаль. Моя первая медаль.
– А погибшие?
– Фамилия?
– Кузьмин.
– Медведь? Так вот ты какой, Медведь! А прошлый раз всё в скромнягу рядился. Надеялся, что в нашей дивизии останешься, но за тобой уже приехали. Да, по твоему вопросу. Всех наградить не могу. Продиктуй фамилии наиболее отличившихся моему ординарцу.
Поражённый полковником, я не сводил с него глаз. И только теперь, после его слов, заметил двух командиров, скромно стоящих у второй «эмки». Кельш со знаками различия пехотного полковника и подполковник Степанов. Сашка!
Комдив встал перед нашим строем, дождался, когда я закончу диктовать фамилии, ещё раз поблагодарил нас за подвиг и сказал напоследок:
– Вы вольны вернуться в свои части. Но пожелавших остаться с радостью приму в наши ряды.
– Служить под вашим началом – честь! – ответил я за всех.
Полковник благодарно кивнул в ответ, бросил косой взгляд на Кельша и Степанова, поманил в машину Федю, сам сел. Федя, радостный, светящийся, наскоро обнял всех, заскочил в «эмку» и уехал с комдивом.
Мои «штрафники» удивлённо разглядывали подходящих старших командиров.
Кельш встал прямо передо мной, насмешливо разглядывая. Степанов мялся сзади. Кельш протянул руку:
– Наш герой, как всегда, порван в клочья, но жив. И я искренне рад этому. И как тебе это удаётся? Даже завидую.
Я пожал протянутую руку, поморщившись от боли в простреленной руке и боку:
– Через боль, товарищ майор госбезопасности. И с каждым разом всё большую. А завидовать не советую. Не дай вам бог пережить такое.
– Да, тут ты прав. Ну что ж! Не буду вам пока мешать, – он глазами дал команду Коту и отошёл к машине.
Степанов подошёл ближе, взял меня за плечи и внимательно разглядывал, как китайскую фарфоровую вазу. Наконец улыбнулся широко и сжал меня в объятиях. И я его обнял. Как бы то ни было, а я успел привязаться к нему.
– Живой, Хозяин тайги! Живой! Я тебя уже три раза схоронил, а ты живой! Как я рад!
– Я вообще-то тоже рад, Саня, но не тискай так сильно. Меня тут малость потрепало.
– О, прости, Витя!
– Я вижу, вы в званиях растёте, товарищ подполковник. А здесь какими судьбами?
– Курсы закончил, звание подкинули, еду за распределением в Резерв Ставки. Вот, узнал у Кельша, что ты тут, за тобой заехал. Приехал на НП дивизии, а там говорят, что рота твоя геройски погибла.
– Как видишь, это правда. От роты осталось… Ничего не осталось. Это всё, – я обвёл рукой короткий строй. – А зачем за мной приехал? Не повидаться же?
– Конечно, нет. С собой тебя забрать хочу. Такого старшины больше не найти.
– С собой, говоришь? – задумчиво сказал я.
– Соглашайся, Вить!
Я посмотрел в тоскливые глаза притихших «штрафников». Кстати, повар, случайно огребя медаль, уже тихо скрылся с глаз. Но на всякий случай недалеко – вон валенки торчат меж копыт коня.
– Не один я, Саша. Это братья мои. Соратники.
– Так в чём беда?! Такие бравые орлы никогда не помешают. И их берём, – вальяжно махнул рукой Степанов.
Я повернулся к «штрафникам». Кот торопливо пристроился к строю. Морда озабоченная, как у голодного котяры, почуявшего рыбный запах.
– Ребят, это мой ротный. Отличный мужик, замечательный командир, хоть и сыщик. Вы слышали его предложение. Кто со мной?
Все четверо сделали шаг вперёд.
– Брасень, ты хорошо подумал? С краснопёрыми придётся служить.
– Сам говорил, пришло время отринуть прошлое. Ночью все одного цвета, – насупился Брасень.
– Давно бы так. Спасибо за доверие, мужики!
Потом повернулся к Степанову:
– Мы готовы. Когда выдвигаемся?
Санёк совсем пацанским жестом сдвинул шапку на лоб, зачесал затылок. На помощь ему пришёл Кельш.
– Товарищ подполковник, примите, – крикнул он, доставая рюкзак из машины.
Степанов сходил, хромая, принёс рюкзак, тулуп. «Эмка», развернувшись, ушла, увозя Кельша.
– Пришлёт за нами машину. А чтобы нам не скучно было ждать… Эй, повар! Не накормишь внештатного едока?
Пока расстилали тулуп, я наткнулся глазами на красноречивые глаза Брасеня. Кивнул. Брасень тут же ушёл. Увидев его манёвр, за ним последовали и Кот с Иваном. Прохор пробубнил:
– Пойду «Путейский» посмотрю, – тоже ушёл.
Мы с подполковником остались вдвоём.
– Что это они?
– Головы не забивай. Трофеи.
– А! Да, после спирта самый ценимый разменный предмет – немецкий пистолет. Как раз в тыл едем.
– Далеко?
– В Москву, – гоготнул Санёк, разливая коричневый ароматный напиток из бутылки без этикетки по маленьким мельхиоровым стопкам.
– Ставка в Москве? – удивился я. – Как же так? Почти вся Москва под немцем.
– Это верхняя Москва. А подземная – наша. Там, в катакомбах, Ставка.
– Охренеть!
– Давай, Витя, за Сталина. Так и не покинул он столицы. Исключительной мужественности наш вождь.
Я выпил. Тост Степанова ничуть меня не покоробил, не показался он мне ни подхалимством, ни пропагандой. Теперь я и сам, провоевав полгода, готов был за Сталина глотки рвать и жизнь отдать. Вот так-то! Сюда бы всех либерастов и дерьмократов! И-ех! Или его с его командой туда! Торговцев органами бы быстро извели под корень.
Второй тост выпили стоя. И молча. Третий – за Победу. Только после я начал есть.
– Отличный коньяк!
– Кельш подогнал. Сказал, от твоего крестника. Говорит, ты поймёшь.
Я чуть не упал, как только допёр до «крестника» – кавказца. Коньяк-то армянский.
Степанов с любопытством смотрел на меня. Сыщик, что с него взять?! Уже унюхал, всё просчитал.
В это время мимо погнали колонну военнопленных. Мы очень долго провожали её взглядами.
– Надеюсь, привыкнем, – вздохнул Санёк, – почаще бы наблюдать подобное.
– Не скоро, – ответил я набитым ртом.
– В смысле?
– Сегодняшнее отступление – инициатива на местах. Генералы вермахта в растерянности. Их же не часто бьют. Почти никогда. Они оклемаются, огрызаться начнут. Гитлер истерику им закатит – вообще отступать перестанут. А там весна, распутица, война подзавянет. А летом они долбанут.
– Думаешь? Но мы-то уже не те!
– И они тоже. Разом везде буром переть уже не смогут. Где-то в одном направлении, но мощно.
– В каком?
– На севере им ловить нечего. Ну, возьмут они Ленинград и отрежут Мурманск. Нам будет сложнее, но не смертельно. А им что это даст? Ничего. Центр? Они рвались к Москве, к сердцу. Вот, взяли Москву. Почти. Нам это создало множество проблем. Но не убило же! И они извлекут из этого урок. Юг. А вот тут всё очень интересно. Самая сильная наша группировка была на юге, до Киева. Теперь всё здесь. Юг оголён. А там и хлеб, и уголь, и металл, и нефть, и люди, в конце концов. Если они отрежут нас от кавказской нефти, что будет с нашей армией без топлива?
– М-да! Вить, тебе в Генштабе работать надо.
– Там уже мест нет. А что, я согласен! Тепло, светло, не стреляют, кормёжка отличная. Одна беда – волосатой руки у меня нет. Все мои друзья и знакомые – потенциальные герои-смертники. А блат, Саша, главнее Совнаркома!
Степанов смеялся до слёз.
– Да твоим знакомствам только позавидовать! Сам же в самое пекло лезешь!
– Это да! Каюсь, контужен на всю голову.
– А теперь, контуженый ты мой, послушай, как на самом деле будет. Мы окружим здесь, в Подмосковье, лучшие подразделения врага. А как земля подсохнет, подоспеют резервы второй волны, и мы погоним этих мародёров с нашей земли по всем фронтам.
Я смотрел на яростного Степанова, не стал спорить. Пусть так думает. Не, не так – так и надо думать! Моё «пророчество», основанное на послезнании, сильно попахивало пораженчеством. А вот убеждённость Сашки вдохновляла. Поэтому я сказал лишь:
– Дай-то бог, чтобы было по-твоему. Кому ж не хочется их выгнать с нашей земли?
Вернулся Прохор. Уставший, разочарованный. Покачал головой – никого живых не нашёл, полез в подвал. Что он там потерял? А, вон оно что – на улицу полетели вещмешки и телогрейки бойцов роты. Вот и мой мешок вылетел. Я подобрал его, вытряхнул полушубок, накинул на плечи.
– Странный он какой-то, – тихо сказал Степанов.
– Старовер. Сибиряк. Медбрат наш. Оружие в руки не берёт, мухи не обидит, но бесценный соратник. Если бы не он, вообще бы никто не выжил. Представляешь, его с голыми руками на пулемёты отправили. Хорошо, успел перехватить. Вот раненых и таскает. Бывает, по двое за раз.
– А я его увидел, сразу представил с «дегтярём» наперевес. Но и раненых тоже кто-то должен спасать. Если бы не санитары, война бы уже кончилась. Один из госпиталя стоит троих домашних новобранцев, – рассказывал Степанов, задрав голову вверх. Там мелькали ласточками полдюжины самолётов. Тихо и красиво. Кто кого гоняет, непонятно. Вот один отвалил от общей схватки и, потянув за собой дымный след, планировал, крутясь через крыло, к земле.
– Никогда не хотел быть лётчиком? – спросил он меня.
– Я Медведь, – пожал я плечами, – медведи не летают. Даже во сне.
Во сне они косячат, теряют близких и знакомых и умирают.
Вернулась первая партия трофейщиков. Навалили в кучу немецких рюкзаков, портупей, сапог, даже пулемёт с лентой, два автомата с подсумками. Степанов рассмеялся, ткнул пальцем в Брасеня:
– Коронован?
Брасень стиснул зубы, прошипел:
– Это было давно и неправда.
– Не надо отрекаться от заслуженных регалий. Кого попало не коронуют. Но вот то, что назад пути тебе точно не будет, правда. Как называть тебя?
– Брасень.
– Не слышал. Не важно. Честно будешь воевать – честь тебе и почёт. Только с оружием в тыл хода нет.
Мои трофейщики растерялись, с сожалением смотрели на оружие.
– Брасень, продолжай выполнение поставленной задачи. Что-нибудь придумаем, – велел я. – А, кстати, ты помнишь, чем отличается мародёр от бойца Красной Армии?
– Боец Красной Армии трофеи оформляет документально! – доложил Брасень, вытянувшись по-уставному.
– Не забудь об этом.
– Так точно.
Они ушли. Степанов проводил их глазами.
– Собрался с собой тащить?
– Саш, ты уверен, что нас в тылу обеспечат всем необходимым? Сколько заводов и запасов мы потеряли? А перефразируя Ленина, снабжение красноармейца – дело рук самого красноармейца.
Степанов опять рассмеялся, разлил последнее. Подошёл Прохор, сел в сторонке, стал в блокноте вести перепись трофеев. Мы оба не сдержали улыбок.
– Вор безграмотен? – спросил Степанов.
– Зато расторопен. Старшина роты готовый, – ответил я.
Потом пришла полуторка. Меня, пьяного, погрузили в кузов, обложили трофеями, ребята расселись вдоль бортов, Степанов хлопнул дверью кабины. Поехали. Я, как тот старослужащий, мудрый, быстро засыпающий, сразу уснул под негромкие разговоры бывших штрафников.
Плюшки из Резерва Главного Командования. Подземная Москва
Ехали долго. Я перестал ориентироваться, так как всю дорогу провёл в полудрёме. Боясь уснуть крепко – вдруг будущее приснится, а там что-то совсем тоскливо.
Потом мы спешились, сгрузились, полуторка ушла. Оказались мы у настоящего железобетонного форта, недобро смотрящего на нас бойницами. Форт бдительно охранял вход в подземную часть Московского метрополитена. Вышедший начкар в форме пограничника недолго пообщался с Саньком, мы прошли внутрь, но не через железнодорожные пути, а через стальную калитку в форт. Там сдали оружие, расписались в журнале, получили расписку. Санёк оставил нас в подземной казарме форта, сам ушёл звонить. Вернулся он нескоро. Мы успели искупаться, постирать одежду, поужинать. Начгар был предусмотрителен, но ненавязчив. Нам выдали не новое, но чистое исподнее, своё мы сдали взамен. Расположились на железных трёхъярусных койках, скрипящих пружинной сеткой. Расслабило, аж затащились! Один Прохор не расслаблялся – занялся нашим врачеванием. Лечил он больно. Жгло и корёжило. Зато потом лафа!
– Рота, подъём! – заорал Степанов, заходя.
Я, вскакивая, приложился о железный уголок второго яруса головой, обложил его матюками. Сразу надулась шишка. А если бы не Прохор? Ходил бы как с рогом? А Прохор просто подул, погладил – шишки как не бывало.
– Чё ты орёшь? Тебе дверью прищемило? – накинулся я на Степанова.
– С вещами на выход!
– Что ты скалишься? Оставь свои шуточки. Толком объясни.
– Мы с тобой едем в управление. Ребята тут нас подождут. Надеюсь, в этой гостинице приемлемый уровень обслуживания?
– Юморист доморощенный. Пошли. Подожди, прямо так идти? У меня и форма не просохла. И штопать надо.
– Заскочим в военторг, новое купим.
– Тут военторг есть?
– Тут всё есть. Тут город целый. Говорю же тебе – подземная Москва.
– В военторге деньги нужны. Трофейный пистолет они не возьмут.
– Ты когда последний раз денежное довольствие получал?
– Довольствие? Как в наш батальон в сентябре попал, ни разу.
– Вот и получишь. И бойцы твои получат. Может, тоже захотят отовариться. Тут и МетроГУМ есть. Но если подождёте, то в части получите новую форму, а эту спишем.
Услышанное изрядно подняло всем настроение. Шумной толпой пошли подземными переходами и техническими, слабо освещёнными галереями. Шли долго, пропуская спешащих военных. Наконец, вышли на какую-то станцию. Я не москвич, в московском метро был всего дважды, оба раза такой отупевший от усталости, что не запомнил вида станций. Эту тоже не узнал. Степанов сверился со схемой, нарисованной краской на стене, что-то подсчитал в уме, задумался.
Подошёл поезд. Сели. Вернее, втиснулись. Ехали, пересаживались. Наконец приехали. Опять пошли по подземным кишкам. На меня опять навалилось отупение апатии, как всегда в Москве. Поэтому я и не любил этого города. Он вытягивал из меня все соки.
Пришли в какую-то контору. Или штаб. Все бегают с бумагами в руках. Мы тоже походили толпой баранов от двери к двери вслед за Степановым. И так часа четыре. Он заходил за дверь, мы ждали. Он выходил злой, шли к следующей двери.
Потом мы зашли вместе. Какая-то страшненькая девушка спрашивала наши фамилии и выдавала нам комплект документов. Красноармейские книжки, аттестаты, ещё какие-то бумаги. Много расписывались. Потом потопали к кассе. Когда дошла моя очередь, я охренел. А когда вспомнил стоимость местных денег, охренел ещё больше. Я оказался богачом.
– А что это так много?
Мой вопрос изрядно повеселил всех. Особенно кассира, типичного очкастого еврея. Он хоть и был в форме, но на руках какие-то тряпочные нарукавники. Я такие только в кино видел, в котором показывали евреев-бухгалтеров.
– Давайте сюда, молодой человек, ваш аттестат.
– Зрелости?
– Шутник? Вот этот, – он выдернул из моей стопки аттестат. Стал читать: – Так, жалованье старшины, боевые надбавки, премия за подбитые танки и самолёт. Что же вы удивляетесь? Вы – герой. А Родина хорошо оплачивает геройство. Вот ещё премия, за награду.
– Какую награду?
– Вам должно быть виднее.
– Он пока не знает, – вмешался Степанов, – тебя орденом Красной Звезды наградили. За вывод из окружения сводного батальона. Но придержали за твою корявость. А штрафников лишают наград по определению. Где-то тебя ждёт твой орден. Поздравляю, кстати.
Ребята тоже были рады за меня. Я и сам был рад. Приятно быть орденоносцем. Приятно.
– А меня за оборону, за осенние бои… Вот.
Он распахнул полушубок. На груди горел орден Красного Знамени. Круто!
– Это не всё. За твои песенки тебе тоже деньги положены. Но это не здесь.
Как оказалось позже, песни, что я пел в этом времени, многие запоминали, записывали, слали в Москву. Указывали автором старшину Кузьмина. А в СССР было авторское право. Было, хотите верьте, хотите нет. И на моё имя набежал нехилый процент. Только песни-то были не мои. И взять эти деньги я не мог. И не брал. Нечестно это будет. Я их Родине отдал. Но это было позже.
А сейчас довольный, как сытый медведь, орденоносец Кузьмин, обладатель внушительной суммы денег, топал вслед за Степановым в военторг. А оттуда вышел одетым с иголочки, но практически таким же безденежным, каким был и вчера. Зато затоварился! Оказывается, главный военторг, даже несмотря на полуосадное положение столицы, мечта хомячника. Описание моих приобретений было бы приятным только мне, длинным и утомительным. Поэтому закинул объёмный рюкзак за плечи и потопал вслед за Степановым.
Ребят, тоже прибарахлившихся, он хотел отправить назад, но оказалось, что никто, кроме него, не помнит обратной дороги. И как объясняться с неизбежными патрулями? Это пока подполковник с нами, они нас не тормозят. А без Степанова быстро запрут «до выяснения». Так, толпой, и потопали, потом поехали, потом опять потопали в загадочное «управление».
Судя по свежеприобретённым часам, уже была глубокая ночь. Но подземная Москва не спала. Этим она была похожа на Москву моего времени. От усталости забывшись, стал напевать: «Москоу нева слип…»
– Что?
– Москва никогда не спит.
– Это по-немецки?
– По-ненецки. Откуда я знаю! Я не знаю немецкого.
– А что ты тогда говорил тому часовому у танка?
В том самом «управлении» нам сказали: «Ждите». Стояли в закутке у трёх дверей, под лампой, и ждали. Степанов с интересом прислушивался. Что, мент, след учуял? У меня тут персональный легавый соглядатай кошачьей наружности имеется. Кельш даже не стал его забирать.
– Я ему не говорил, а пел.
Я спел всё, что знал из «Рамштайна». Степанов рассмеялся:
– Это бессмыслица. Как он воспринял?
– Не смеялся. Но очень удивился. Подпустил меня на расстояние рукопашного боя.
– Элемент неожиданности. Ты в своём стиле. И языка правда не знаешь. И тот, кто это написал, наверное, не знает. «Ты – меня. Ты меня спросил. А я не ответил». Бред.
– Это такой перевод? Бред. Как он меня не пристрелил? Блин, надо фрицевский учить. Что-то частенько приходится с ними общаться.
– А это на каком ты пел? Ведь ты перевёл, – с невинной мордой спросил Кот.
– Это он по-английски. Ты не знал, что он гризли?
– Кого грызли?
– Гризли – американский медведь.
– Так ты американец? – удивились мои «штрафники». Степанов ржёт.
– Ага. Афроамериканец. Негр, гля! Вы что, ежанулись? Какой я, на хрен, американец? Так, слышал несколько слов. Некоторые даже знаю как по-нашему. Степанов, ты переведёшь?
Я спел, сколько помнил, «Битлз» «Елоу сабмарин».
– Очередной бред. Жёлтая подводная лодка? А на фига подлодку в жёлтый цвет красить?
– Тс-с-с! Это секретная американская разработка. Снижает заметность подлодки в арктических водах.
У них были такие сосредоточенные морды, что я не выдержал, заржал. За мной остальные. Открылись сразу две двери, на нас зашикали.
– Кузьмин, ты как матрёшка. Вот, казалось, знаю тебя как облупленного, а ты опять что-то новенькое преподнесешь!
– Да, вот такой я загадочный! – ответил я. Стало сразу невесело. Так меня называла жена. Любимая. Тоска сжала сердце. Твою-то матом! Стало так грустно, что я запел «Естедей».
Слушали молча. Потом тихо затянул:
Здесь травы не растут, Здесь птицы не поют, И только мы плечом к плечу Врастаем в землю тут… Горит и кружится планета, Над нашей Родиною дым, И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех, мы за ценой не постоим! Одна на всех, мы за ценой не постоим! Нас ждёт огонь смертельный, И всё ж бессилен он. Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный Чекистский наш ударный батальон! Чекистский наш ударный батальон! Едва огонь погас, звучит другой приказ, И почтальон сойдёт с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьёт пулемёт неутомим. Так значит, нам нужна одна победа, Одна на всех, мы за ценой не постоим! Одна на всех, мы за ценой не постоим! Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверится самим, Но нынче нам нужна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим!Степанов прослезился, схватил меня, обнял:
– Это же про нас ты написал! Про нас!
– Конечно, про нас. Про всех нас.
Тут я увидел, что все три двери открыты, торчат головы.
– Ещё!
От героев былых времён Не осталось порой имён. Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землёй и травой. Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых, Этот вечный огонь, Нам завещанный одним, Мы в груди храним!Моя спина сама выпрямилась, грудь поднялась, будто этот завещанный огонь распирает её, голос окреп, гудел эхом в подземелье:
Погляди на моих бойцов, Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, Снова старых друзей узнаю. Хоть им нет двадцати пяти, Трудный путь им пришлось пройти, Это те, кто в штыки, Поднимался как один! Кто возьмёт Берлин!Бойцы тоже повытянулись, как на параде, глаза смотрят в никуда, блестят слезами.
Нет в России семьи такой, Где не памятен свой герой, И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядят. Этот взгляд, словно высший суд, Для ребят, что сейчас растут, И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, Ни с пути свернуть!Эффект песни был подобен взрыву свето-шумовой гранаты – тишина, никто никого не видит, все смотрят в никуда.
Зато ожидание закончилось. Мы стали желанны сразу во всех кабинетах. Ребята так и остались в коридоре, Степанов пошёл по одним инстанциям, я по другим.
Плюшки из Резерва Главного Командования. Экзамен на профпригодность
В одной из комнат, куда меня пригласили, составлены два стола и стулья за ними. Напротив – один стул. Допросная. Оказывается, одинокий стул для меня. Сел. Зашли «присяжные». Ё! Икать! Генерал, два полкана и майор госбезопасности Кельш. Я вскочил, вытянулся, вытаращив глаза, но не от усердия, а от удивления. По-моему, это первый увиденный мною генерал. Синицын не в счёт – я его в генеральском обличье не видел. А Кельш вроде и не генерал, хотя генерал.
– Да вы присаживайтесь, – махнул мне рукой генерал.
Я аккуратно опустил зад на краешек стула. Они стали мне задавать вопросы по Уставу. А я этот суконный сухарь хоть и читал-грыз через силу, но мало что запомнил. Устав запоминается со страницы плохо, он, гля, шкурой воспринимается хорошо. После каждого вопроса вскакивал, они меня сажали, опять вскакивал.
– Старшина, вы хотите, чтобы у меня от ваших прыжков голова разболелась? – спросил генерал.
– Никак нет!
– Тогда перестаньте вскакивать. Вас привязать?
– А можно я тогда постою?
– Ты что, в жопу ранен?
– Никак нет!
– Тогда сядь!
– Есть!
Сел. Но по Уставу всё одно плавал. Почувствовал себя опять студентом. На госэкзамене. Но тогда я не волновался, был уверен, что отбрешусь. Декан так и сказал:
– Язык как помело. Мелет чушь, но в верном направлении.
И вот тут, ощутив себя не старшиной Кузьминым, а студентом, я успокоился, стал работать «помелом». Только товарищи старшие командиры ни разу не преподы – осадили влёт.
– М-да! – подытожил генерал и раскрыл тетрадь. Я чуть не подпрыгнул – это же журнал боевых действий нашего батальона, который собственноручно заполнял начштаба, потом я, потом Кадет.
– И как он смог, если уставов совсем не знает? Это точно он сделал, или ему чужое приписали? – спросил генерал Кельша.
– Кроме него таких фокусов никто не делал в этом районе.
– Ладно, старшина, поясните мне, чем было обоснован именно такой план атаки деревни Н, где вы разгромили штаб немецкого пехотного полка? Была ли необходимость атаки? Оправдан риск?
Вот тут я почувствовал себя в своей стихии. Трещал без умолка. Генерал внимательно слушал.
– А как вы думаете, вот тут даже есть запись, предполагаю, вашей рукой: «Почему в первый день добились большего, чем планировали, а во второй наоборот – разгром? Думать позже». В самом деле, почему? Надумали?
– Да. Комбат планировал…
– Он вас в свои планы посвящал?
– Нет, конечно. Я проигрывал в голове возможные варианты действий, выбирал, по моему мнению, наилучший, делился со своим ротным капитаном Степановым, а вот он уже бывал в штабе. А комбат злился. Он считал, что если я разгадал его замысел, то и противник сможет. Вот и злился. А потом на меня батальон оставил. Приказал вывести.
– Понятно, вернёмся к разбору того боя.
– Да. Комбат хотел втащить танки врага на плацдарм, заманить, а потом в упор перестрелять. Для этого на западном склоне были оборудованы ложные позиции, где наша рота должна была обозначать присутствие крупных сил. Там же оборудовали огневые трёх захваченных пушек.
– Почему мост не взорвали? Не смогли?
Я вздохнул:
– Наверное, так и надо было сделать. Но река – одно название. Только что осенью разлилась. Не Днепр. Врагу её перемахнуть – сутки. А вокруг нас только изжёванные стрелковые подразделения. Наш батальон по боевой силе был как бы не мощнее дивизии, которую мы усилили. Вот и решили подставиться под танки, чтобы у фрицев не было соблазна наводить переправы в другом месте.
– Фрицев? – удивился один полковник, вскинув седую, лысеющую голову.
– Ну, немцев. Они нас иванами называют. А у них самое частое имя – Фриц. Федя, по-нашему.
– Не отвлекайтесь.
– Есть! Мы подставились. Решили танки его выбивать и таким образом сдерживать. Но западный склон был врагу виден. А их владение огневыми средствами уже было известно. Решили лупить их на обратных склонах. А получилось иначе. На ложных позициях мы отлично вломили фрицам. Лучше, чем надеялись. А на следующий день – они нам. Нас растерзали часов за шесть. Хотя и мы им сильно долбанули. Около сорока танков за два дня – по-моему, отлично. Батальон на батальон. Это не считая пехоты. Их мы тоже хорошо причесали.
– В чём причина усиления боевых качеств противника на второй день? Подход резервов? Авиация?
– Я тоже думал, что дело в самолётах. А недавно понял: появился у них на второй день другой игрок, гроссмейстер. Он нас и обыграл. Человеческий фактор. Из тех же компонентов – пехота, пушки, танки, он слепил что-то новое. Казалось, что все немцы подчинены единой воле, взаимодействие их подскочило на порядок. Это всё изменило. В этом они сразу сравнялись с нашим комбатом, но нас было в несколько раз меньше. Итог закономерен.
Командиры переглянулись.
– Интересные выводы. Для старшины, – сказал генерал, захлопывая журнал БД, передал его Кельшу: – Это в музей. Читается как Жюль Верн. Пришёл, увидел, победил. Старшина, если мы вам дадим роту, справитесь?
– А вчерашний мой бой в качестве ротного вы как оцениваете?
Кельш скривился, как от зубной боли. Но трое остальных уже смотрели на него. Чекист стал зачитывать с бумажки:
– Усиленная пулемётами штрафная рота ночью, под огнём противника, по льду форсировала реку О и в рукопашной схватке очистила квартал Н. При поддержке огня всей артиллерии дивизии полковника Н рота отразила все атаки противника, неоднократно переходящие в рукопашные схватки. Противник вводил в бой до двух батальонов пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. После восьми отбитых атак командир роты вызвал огонь на себя. В ходе боя уничтожено до пятисот солдат противника, одна самоходка, три бронетранспортёра, подавлены две миномётные и одна артиллерийская батареи. Перешедшая в наступление дивизия довершила разгром противника.
– На себя? Ты вызвал огонь на себя? – спросил седой полковник.
– Мы укрылись в подвале. Рота задачу уже выполнила и погибла. Осталось только несколько раненых.
– Почему старшина командовал ротой? Где был ротный?
– Ротный был снят с должности по приказу комдива. А вчера я и старшиной не был. Просто боец переменного состава.
Кельш опять скривился. Зубы надо лечить, дядя!
– Это чёрт-те что! – хлопнул ладонью по столу генерал. – Штрафники командуют сами собой! А где командиры постоянного состава?
– Были выбиты в предыдущем бою. Ротный отдан под трибунал за трусость, – вынужден был ответить Кельш.
– Это не значит, что штрафники должны командовать штрафниками! Тем более что командиры отбывают наказание в штрафбатах, а не в штрафротах! Это они так и разбегутся.
– Уже не разбегутся. Некому бежать, – сказал я. О, обо мне вспомнили.
– Почему принял командование? Кто приказал?
– Никто. Не кто, а что. Долг приказал. Больше некому было. Девиз всех придурков – кто, если не я?
– За что в штрафниках оказался?
– За упрямство и длинный язык.
Кельш опять скривился, покачал головой. Генерал посмотрел на него, видимо что-то понял:
– Что ж, лейтенант Кузьмин! Надеюсь, война вас пощадит. Командуйте. Нам очень не хватает толковых командиров. Гроссмейстеров, как ты говоришь. Удачи!
Я вскочил, проорал, что служу трудовому народу. Генерал поморщился, встал, вышел. За ним полковники. Кельш остался. Поманил меня пальцем. Я подошёл.
– Ты понимаешь, что всё это само не происходит?
Он положил перед собой на стол красную коробочку, открыл – Звезда. Красная. Под коробочку он подсунул документы на неё.
– Документы сами не восстанавливаются, аттестаты и ордена не находятся, такие представительные комиссии лейтенантов в звании не утверждают.
– Конечно, понимаю. Спасибо. За мной долг. Я не забуду.
– За нами тоже. Такой, как Голум, был не один. Мы ещё летом задержали одного. Не поверили. А тут ты с этими бумагами. Самое страшное, что, похоже, такие гостинцы оказались у врага. Представляешь, что это значит?
Вот почему Жуков пропал! Твою дивизию!
– Ты нужен был нам не для того, чтобы не болтал, а чтобы разыскал этих гостинцев.
– Как же я их найду? Их теперь охраняют лучше Гитлера.
– А как этого нашёл?
– Случайно.
– А этот сон про ангела – брехня?
– Почти.
– Ладно, живи как знаешь. Связи с тобой терять не будем. Наш человек будет постоянно с тобой. Связь через Кота. Ты не обижайся на него. Он слишком буквально понял приказ.
– Проехали. Обиделся бы – он был бы мёртв.
– Ладно. Будем ждать вестей от тебя.
– Почему думаете, что я их найду?
– К тебе всё странное и необычное так и липнет.
Вот это точно подмечено. Хотя бы Прохора взять. Но сказал так:
– Поэтому я в дерьме по самую макушку?
Кельш гоготнул:
– Свинья грязь везде найдёт. Меня поражает, с каким радостным визгом ты вляпываешься в единственную яму с дерьмом на добрые сотни километров вокруг. И постоянно на дне этой ямы находишь золотой самородок.
– Икать! И в натуре! А я и не замечал.
– Иди, лейтенант. Твой командир и твои подчинённые уже заждались. Невоспитанный ангел даст наводку – сообщи. Удачи!
– И вам не хворать! – ответил я и запел:
Надежда – мой компас земной, А удача – награда за смелость, А песни – довольно одной, Чтоб только о доме в ней пелось!– Паяц, – покачал головой Кельш, тут же опять погружаясь в раздумья.
Опять пошли в военторг. Менять «пилу» старшины на два кубика. Хорошо хоть Степанов надоумил меня купить всё командирское, старшине можно. Степанов?
– Степанов? Ты знал, сука?
– А что ты орёшь? Ну, догадывался. Зачем ещё тебя будут тащить со мной вместе? Не в жопу же тебя целовать за дурашные, и не очень, песенки?
– Ха! Завидуешь? Завидуй молча!
– Ха! Чему завидовать, лейтенант?
– Извиняюсь, товарищ подполковник. Не подумал.
– В этом твоя и беда, лейтенант. Сначала ляпнешь, потом думаешь. Слушай, возьми нашивки. Чего ты стесняешься? Приказ читал? За ранения положены нашивки.
– Мои нашивки все на мне. Ребята в бане чуть не облевались.
– А ты возьми. Надо ещё найти, как обманки на ордена сделать. Служба у нас очень подвижная, обидно будет, если потеряются. А это ведь чистое серебро.
– Что, серьёзно?
– А ты думал? Девушка, ещё вот этого комплект. Да. Вот так, Витёк. Рассчитывал, что поеду родную бригаду принимать, противотанкистские нашивки купил, а едем мы принимать стрелковый полк. Гвардейский, но стрелковый. Гвардейская махра.
– А что так?
– А я знаю? Приказ. А приказ есть приказ, знает каждый из нас. Так в твоей песне?
Гвардейский махровый гарем (1942 г.) Про хомячьи натуры
Сразу в полк, конечно, не поехали. Как хороший гость, Степанов решил сначала подзатариться. Не приходить же в полк с пустыми руками? Поэтому, вооружившись списком сладких для любого командира ништяков, мы отправились за этими самыми плюшками.
Ближе всего, в учебном центре радистов и складе при нём, были два десятка полевых радиостанций с обслуживающим персоналом, то есть наскоро обученными радистами. Каково же было наше разочарование, когда радисты оказались радистками. Радистки, телефонистки, телеграфистки. Ё, бабский батальон! Хоть плачь. Да ещё Брасень влез:
– О как воюют отцы-командиры! Мужиков не осталось.
А Прохору я запретил лечить разбитые губы (Степанов) и отбитую грудину (я). До вечера не разрешал.
Следующая плюшка ждала нас в школе снайперов – бабский снайперский взвод. Потом ещё и бабская медсанрота. Две батареи зенитчиц вместе с зенитками, пополнение в юбках на должности писарей, поваров, женский банно-прачечный батальон и ещё куча баб… кхм, девушек.
В общем, когда я озвучил напрашивающийся вывод:
– Гвардейский стрелковый гарем, – был едва не побит Степановым. Хорошо, что он бегать не умеет – отстреленная пятка такой возможности не оставила. Кстати, он почти не хромал. Привык. Я его окрестил Тамерланом – обиделся. Знал, что Тамерлан не только великий полководец, но и Хромой тигр, а ещё и Железный хромец.
А вот Кот, Казачок и Брасень были очень рады, что полк будет смешанного состава. Бабники. Кому война, а кому шпили-вили!
Женщины отношение комполка (равнодушное до презрении) уловили сразу и ответили дружным «фи!». Степанову было плевать, но это не помешало ему добыть для лучшей части полка несколько трофейных парашютов. Конечно, сами парашюты им как собаке пятая нога, а вот белый шёлк и тонкие прочные стропы… Если бы могли, каждая расцеловала бы. Правда, оказалось, что в полк едет военврач Снегурочка – жена Степанова. А я с ней заигрывал! Санёк с этой недотрогой с детства в «люблю» играет. Кто ж знал-то?
Кстати, о добыче. У Брасеня прямо нюх был на разные интересные находки. На одном из полустанков он за язык вытащил ящик. Ящик потеряли при эвакуации Тульского оружейного. В ящике – два карабина СВТ (я и не знал до этого, что СВТ бывают карабинами) с оптическими прицелами в исключительном качестве исполнения. Комендант разъезда ящик с дур-ума прихватил, спрятал, а теперь не знал, что с ним делать. Ясно, что эти карабины делались в качестве подарочных экземпляров. На службу с ними не пойдёшь, какой там! Настолько приметное оружие, что на людях с таким показываться нельзя – сразу в штрафбат загремишь за расхищение госимущества. Поэтому обмен ящика на трофейный пистолет люгер с кобурой и портупеей прошёл быстро и к взаимному удовлетворению.
Классный карабин! Чуть длиннее ППШ, но не в пример мощнее и точнее. И легче. Так у меня появилось личное оружие. Второй карабин Брасень доставать не стал, поэтому я сграбастал внаглую четыре запасных магазина, что были в ящике. Штык-нож СВТ, тоже отличного исполнения, и сам нож и ножны заняли законное место на поясе.
В процессе добычи произошёл курьёз. Отчебучил опять я. Мы надолго застряли в одном тыловом городе. Из-за глубоких щупалец вермахта ехать из Москвы в Рязань приходилось чуть не через полстраны. Было воскресенье, чем меня удивил Брасень. Сколько нахожусь в этом времени, за днями не наблюдал. А зачем? У войны не бывает ни суббот, ни воскресений, одни сплошные понедельники. Дни тяжёлые.
– И что?
– Базар. В смысле толкучка, рынок. Пойдём?
Если Брасень зовёт, значит, что-то учуял. Пошли. И Кот с нами. Куда я без него?
Шел по рядам равнодушно – патефон у нас уже есть, пишущую машинку добыли, это тоже есть. И это. Брасень уже затерялся в толкучке, проворачивая очередную схему «шило на мыло». Клялся, что карманы вскрывать не будет. Пока поверил.
А вот это интересно! Берцы! Я подошёл, спросил равнодушно цену. Плюгавый мужичок, при взгляде на такого возникает устойчивая ассоциация – чмо, человек морально опущенный, быстро залепетал, расписывая замечательность ботинок. А то я не знаю, что такое берцы! Не думал, что они уже существуют. И вдруг у меня как щёлкнуло. Кельш же говорил, что я не один такой.
– Где ты взял их?
– Сам я шью, – испуганно ответил чмо.
– Кто научил?
Чмо что-то почуял, отпустил ботинки и собрался линять.
– Кот, фас!
Кот без вопросов подсёк мужика, быстро заломил ему руки.
– Тащи к нам!
И уже на своей территории стал его колоть. Какое же было моё разочарование, когда чмо раскололся. Зек он откинувшийся. Один живёт. Ботинки шьёт. А научил его отец.
– Облом, – констатировал я.
– А ты думал, это от гостинцев?
– Голум говорил, что все армии мира в такие обуют. Берцы называются. Это когда он наши развалившиеся сапоги увидел, просветил нас.
– Иваныч, ты хоть бы у меня спросил. Это же обычные ботинки с высокой шнуровкой и защитой голеностопа. Вещь дорогая. А мужик молодец, что умеет такие делать.
– Жаль, мне маловаты.
– Ха! Щас решим.
Он вернулся к сапожнику, освободил его и заговорил с ним за жизнь. К чему это он песни поёт? А, вон оно что! В нашем полку прибыло – у нас теперь внештатный вольнонаёмный сапожник. На полном довольствии, но в атаки его никто гнать не будет. Кот с победной рожей подошёл ко мне.
– Будут тебе берцы. И на будущее: я Кот, а не собака. Фас – это собачья команда.
И ушёл, держа хвост пистолетом.
Значит, пришло время чинить мои штаны с карманами. Блин, полный же поезд баб! В смысле женщин. А у меня есть шоколад и сахар! Значит, будут штаны лучше, чем были новыми.
Гвардейский махровый гарем (1942 г.) Особенности укомплектования войск весны сорок второго
А полк, хоть и гвардейский, не впечатлил. И полтысячи человек не наберётся, хотя уже неделю стоят в резерве. В ротах тридцать – тридцать пять человек. Бабский батальон, что мы привезли, чуть ли не вдвое увеличил численность полка.
Было торжественное построение, командарм представил Санька как нового комполка. Энтузиазма это не вызвало. Как будто им сообщили, что сегодня вторник. Ну, вторник, ну и что? Так и это – ну, Степанов, ну и что? Так, надо работать над боевым духом. Хотя понятно – такие потери, каким может быть боевой дух?
Официоз кончился наконец-то.
– Разойдись!
Командарм повернулся к Степанову:
– У вас десять суток. Потом в бой!
– Так точно! Разрешите выполнять?
– Действуйте!
Командарм уехал. Степанов пошёл к штабу, про нас забыв. Мои сразу это заметили:
– Что делать будем, командир?
– А что мы до этого делали?
– Ничего.
– Ответ неверный. Служить будем. А в чём наша служба заключается? Пункт первый: охрана подполковника. Пункт второй: помощь ему в управлении его подразделением. Пункт третий: учеба и подготовка, материально-техническое снабжение сюда тоже входит. Ну, и пункт четвертый: сбор информации и предотвращение вредоносных поползновений. А то, что он про нас забыл, даже хорошо. Легче будет выполнять четвертый пункт. Делаем вид, что мы сами по себе. Работаем!
Кот, Казачок и Брасень ленивыми походками направились в разные стороны. Остались Прохор и сапожник.
– А ты что?
– А куда мне? Вы меня наняли, я с вами.
– Что из поставленных задач тебе непонятно?
– А, понял.
Прохор стоял тополем, высокий, равнодушный.
– Пошли, дитятко, быт обустраивать. Надо на котловое довольствие этих охламонов поставить. И себя заодно. Поясницей чую, Брасень уже там.
Свои порядки Степанов наводил с присущей Железному хромцу жестокостью. Штабы и тылы сразу превратились в женский монастырь. Недовольные были биты мною (вид моей шрамированной морды хорошо внушал уважение, Степанов это бессовестно использовал). Тыловые крысы, которых по штабам отирается немало, оказались в батальонах, а потом и в ротах, потому что батальонные тылы тоже наполнились юбками. Писари, ординарцы, телефонисты, картографы и другие дармоеды стали стрелками, пулемётчиками и миномётчиками. А как они хотели? Пусть другие гибнут? Ты сдохни сегодня, а я – завтра? Не прокатит!
Численность рот возросла до полусотни бойцов. Стали поступать пополнения маршевых рот. Санёк мне поручил сформировать роту автоматчиков из бывалых бойцов. Понятно – личный оперативный резерв. Опять будет совать меня в самое пекло. Видно, судьба.
С приходящими пополнениями сначала проводил собеседование я. Набрал сотню стреляных воробьёв. Два взвода автоматчиков и истребительный взвод. Взвод автоматчиков – взводный, замкомвзвода, посыльный, три отделения по двенадцать человек. В каждом отделении по ручному пулемёту. Истребительный взвод – четыре ПТР, 50-мм миномёт, один станковый пулемёт. Медсанотделение из Прохора и шести санитарок. И отделение управления – я, мой зам Кот, политрук – нет пока, ординарец Казачок, старшина роты Брасень, две очаровательные меткостью своей девчонки-снайперы, две радистки-телефонистки и двое молодых быстроногих и ушлых посыльных-казачат, умеющих ладить с лошадью. А в команде Брасеня – повариха внушительных габаритов и престарелый ездовой, за характерные усы прозванный Будённым. Вот такая у меня бюрократия развилась. Я бы взял ещё на «удочку» ПТР не по два человека, а по три, к расчётам миномёта и тяжеленного «максима» по паре человек, но Степанов сунул мне под нос кукиш. Красноречиво.
Нам бы автотранспорт, но у нас в полку даже полковая артиллерия на конной тяге. Обе полковые пушки-окурки, добытые, наверное, в музее, в упряжках. Остальную артиллерию выбили в боях. Хотя пушкари были. И миномётчики. Поэтому когда прислали четыре «сорокапятки» и шесть полковых миномётов, расчёты сформировали быстро. Но это меня заботило не сильно – там Санёк рулил.
А вот с воровством тыловой братии разбирался я. Не лично, конечно. Интендант полка случайно застрелился из табельного оружия, когда пытался его чистить, многие старшины и интенданты стали очень невнимательны и часто падали или натыкались на деревья. Через неделю бойцы полка с удивлением обнаружили, что и тыловая норма питания вполне питательна. Оказалось, что и баньку с санобработкой белья можно организовать, туалеты вдруг нужны оказались, пришлось сапёрам копать. Ремонт обуви, обмундирования и оружия организовался в полковых мастерских, и ротные как с цепи сорвались, стали требовать соответствия формы и уставу. И даже концерт был организован – приехал ансамбль артистов столичных, на поставленных борт к борту грузовиках пели, плясали, читали стихи.
Это надо было видеть: у людей ожили глаза, в них засветилась жизнь, а не «тоннель смерти». А самый большой мой успех – все связывали эти изменения с именем комполка. А я так – хожу тут мимо. Чего и добивался.
Кстати, хожу. Бегать надо! Проведём ротные учения с боевыми стрельбами, направленные на укрепление сплочённости роты. Так и написал в планах боевой учёбы. И провёл. С марш-броском на десять километров (в одну сторону), тренировкой по штурму укреплённой высоты, стрельбами, метанием гранат и бегом в обратном направлении. На следующий день опять. В этот раз, правда, учились штурмовать населённый пункт и метать гранаты в оконные проёмы. Как же ругались жители посёлка, когда мы их напугали, а потом чуть не разобрали по брёвнышку пустующий дом!
В этот раз под моим руководством оказались уже воевавшие ребята. Им не надо было разжёвывать азбучные истины. Показал пару новинок – подумали, прониклись, повторили. Это обнадёжило. Ещё бы стойкость в бою, как у чекистов! А вот тут посмотрим. Явного малодушия пока не заметно.
С каждым днём становилось теплее. Валенки были сданы Брасеню, полушубок следом. Хватало овчинной безрукавки и ватника. На ногах – берцы, сшитые точно на меня, и прямые штаны с накладками на коленях и заднице и накладными карманами. В ремонтной мастерской мне заварили и поправили броник, залатали брезентовый кожух, сшили разгрузку. А потом проклинали меня – все волокли брезент и ремни, требуя сшить «ременно-плечевую разгрузочную перевязь». Брасень, хитрец, собрал всё тёплое обмундирование, взял расписку со Степанова и отправил всё это объёмное, но до осени не нужное имущество в Моршанский учебный полк. Там Степанов-старший приглядывает. Авторитет бывшего вора сразу возрос в глазах комполка.
Под занавес полк получил роту трофейных французских грузовиков, перекрашенных в наше хаки, батарею из шести зенитных пулемётов ДШК, смонтированных в кузовах газовских полуторок, и полевые кухни.
Вместе со всем этим богатством пришёл приказ о выдвижении. Погрузились на станции, поехали на запад навстречу войне, хотя даже мне было понятно, что полк получился не гвардейский, а дистрофичный. Потом в штабном вагоне увидел штат формирования – у нас и половины полка не было. А едем наступать в состав ударной группировки! Но это головная боль Степанова, а не моя.
Гвардейский махровый гарем (1942 г.) Плетём сеть связей
Мне комполка поручил наладить отношения с капитаном Елистратовым Василием Петровичем, замкомом и начальником разведки и двумя взводными – разведчиками. Пока едешь, делать нечего. Отоспались, пора и в гости. Брасень собрал нам в сидор – не с пустыми же руками идти. И вот мы, я и Кот, ввалились в вагон разведчиков. Елистратов был уже там – мы с ним в штабе договорились.
– Ну, что, лихое племя, получен приказ наладить взаимодействие, – сказал я, ставя на перевёрнутый ящик, накрытый газетой, две бутылки и закуску.
Разведчики сначала отнеслись к нам настороженно – люди мы новые, непонятные, особистами и НКВД от нас несло за километр, одевались странно, командовали сверхштатным подразделением, близки к комполка, да ещё и явное отношение имели к частым травмам хозяйственной части полка. Как таких мутных встречать?
Выпили, закусили, я рассказал о себе, не утаив и штрафного прошлого, они рассказали о своём боевом пути, отступлениях, окружениях, безнадёжных и отчаянных атаках.
– Думается мне, что Степанов будет использовать вас только по прямому назначению – как разведчиков. Глаза и уши. Но требовать будет! Он как бульдог: вцепится – зубы ломом не разожмёшь. Лучше сделать, что требует, не отстанет. А «пожарником» он меня сделал. И мою роту. Мной и будет дырки затыкать.
– О каком роде взаимодействии идёт речь? – спросил Елистратов. Он больше помалкивал, пил, но не пьянел.
– Боевое охранение на марше и рейды. Обходные, обманные, засады.
Разведчики переглянулись.
– Даже в этом случае ударная сила моя, вы так же, глаза и уши. Предупреждаю сразу, Степанов будет требовать максимальной информации от противника. Думается мне, что на вас, товарищ капитан, он повесит и контрразведочные функции.
– Это задача особистов.
– И они ею будут заниматься. Вы – радиоборьба и радиоигра, маскировка и обманки. В общем, взрослые игры, на которые слишком серьёзные дядьки из особого отдела не способны.
И я им рассказал о наших опытах по обустройству ложных позиций, ложных огневых и о том случае, когда меня пробомбили деревянными бомбами. История повеселила разведчиков.
– Разгадал немец, не дурак.
– И этим тоже можно воспользоваться. На следующий день после деревянной бомбёжки там можно было поставить настоящие гаубицы – ни один разведчик бы на них не глянул, пока они им на голову стальной град бы не обрушили.
– Ха! Хитро! – капитан оживлённо заёрзал.
Потом я опять травил байки, анекдоты, попели. Когда уже изрядно окосели все, кроме капитана, завязался, видимо, старый спор, что легче – наступать или отступать? Спросили моего мнения. Я уже был в таком состоянии, что серьёзно обсуждать ничего не хотел.
– Наступаешь – это когда воюешь фронтом на запад. А отступаешь – это когда воюешь фронтом на триста шестьдесят градусов и с пустыми желудком и подсумками. И там и там морда в крови, а жопа в мыле.
И вот после этого зашёл разговор о дураках командирах. Я хоть и выпил, понял – пробивают. Поделился с ними теми же мыслями, что высказывал Кельшу. И в конце добавил:
– Вот что, мужики, я вам скажу. Ваши тела и руки принадлежат армии, но мозги-то ваши никто не впряг в дышло. Задача поставлена, её выполнять надо. Выполнить можно по уму, можно по дурости. И каждый из вас ответит перед Богом за свои решения. Если кто-то тупо выполнил тупой приказ и положил народ, особисты с него не спросят, а вот матери пацанов и Бог – спросят.
– А ты верующий? – удивились разведчики. – Не боишься так о вере на каждом углу кричать?
– Капитан, я в таких… хм, передрягах побывал, такое видел, что страх отмер во мне как ненужный рудимент. А за веру стою твердо, не считаю, что это надо скрывать.
– Будет тебе на орехи от комиссара, – усмехнулся грустно капитан и передразнил, подражая его голосу и жестам: – «Религия – опиум для народа!»
– Так то религия. А у меня вера. А тёмный разум комиссара будем просвещать.
Разведчики рты поразевали, Кот посмеивается:
– Или проветривать?
– А это как пойдёт. Нет, мужики, противоречия между коммунизмом и верой.
– Лейтенант, прекратить! – приказал Елистратов.
Я заткнулся. А потом стал рассказывать анекдоты про попов. Некоторые – опасные.
– Приходит партком к попу и говорит: «Дай хор – товарищей из обкома встретить». – А тот: «Не дам. Вы их опять споите и баб всех перелапаете». – «Ах, так! Тогда хрен тебе, а не машины на крестный ход!» – «Ах, так! Тогда хрен тебе, а не стулья на банкет – опять все переломаете и заблюёте!» – «А вот за подобные слова можно и партбилет выложить!»
Ржали, конечно, но капитан сделал строгое лицо и сказал:
– За то, что слушаю подобные анекдоты, и я партбилет выложить могу!
– Не успеешь! – успокоил я его.
В общем, развеял одни их опасения, но зародил другие.
Предгрозовой сумрак (1942 г.)
– Всё, ребята, конечная! Выгружаемся! – заорал я, распахивая дверь теплушки. Выпрыгивающим взводным, старшине ставил задачи, махая руками. А потом добавил: – Живо! Пока стервятники не налетели!
Выгрузились, спешно отошли от полустанка, построились в походную колонну. Ваню и двух своих посыльных верхами отправил вперёд – квартирмейством заниматься. Мне как ротному полагался верховой конь. Ещё один – политруку, два – связным. Но лошадь даже не велосипед, что с ней делать, я не знал, политрука не было. Поэтому у меня образовалась микроконармия в составе четырёх конников, все из казачьих семей. А я уж лучше пешочком. Оно привычнее.
– Запевай! – приказал я. Шёл я впереди, задавал темп, ускоренный. А с песней ход веселее.
По приказу мы должны были дойти до той деревни. И я спешил этот путь преодолеть поутру, пока гансы просыпаются, кофей, суки, пьют. Я и сам бы кофейку попил.
Полк прибыл в тыл 7-й гвардейской дивизии и выдвигался к месту сосредоточения, отмеченному на картах как деревня на развилке дорог. Но от деревни остались только печные трубы. Там нас ждали выделенные три маршевые роты, взвод 82-мм миномётов только из учебки и два 76-мм орудия времён Брусиловского прорыва с расчётами, два раза стрелявшими на полигоне. Авторота спешно сгрузила полковое имущество и колонной пошла на корпусный склад за боеприпасами. Санёк с начштаба умотали в штаб дивизии.
Замначштаба расквартировывал батальоны и роты. Нам определили лес около штаба. Перво-наперво заставил нарыть противовоздушных щелей на весь состав роты. Самые расторопные отрыли широкие траншеи и перекрыли их. Хоть и весна, но тепла не дождешься. Потом погнал два взвода помочь окопаться девчонкам-зенитчицам, расположившимся по соседству. Вопросов никто не задавал – понятно, что девушкам, какие бы они ни были боевитые, ковырять ещё не оттаявшую землю тяжело, а зенитки рядом внушали чувство защищённости.
Комбаты распределяли пополнения. Я не ждал, что мне что-то перепадёт, даже на «биржу» не пошёл, а мне, с барского плеча или случайно, перепало двое ушастых тощих солдатиков – остатки. Определил их подносчиками боеприпасов. Одного к миномёту, второго к станкачу.
К обеду в небе затарахтел двухфюзеляжный самолёт. Это и была рама. Зенитчицы надели каски, заняли свои места вокруг пушечек, но не стреляли – 37-мм зенитка бы не дотянулась. Хождения и суета в расположении поневоле уменьшились. Но дымящие из-за сырых дров полевые кухни нас сильно демаскировали. Ждали налёта, но в этот день обошлось.
Приехал Степанов. Морда злая. Решил не показываться на глаза.
Мне прислали политрука, точнее младшего политрука. В круглых, власовских очках, тонкая шея, шинель висит, как на вешалке, пустая кобура болтается. Приказал старшине выдать оружие. Выдал. Думал, убью. И где он достал наган 1907 года выпуска без самовзвода? Но потом решили, что перетопчется. Это потому, что политрук сразу же собрал весь личный состав в кучу (и это на виду у «рамы») и начал на память зачитывать целыми абзацами газетные штампы. Разогнал, к хренам, всех по укрытиям.
– Ты, политрук, дурак или враг? Ты зачем их в кучу собрал на виду у вражеского корректировщика? Молчать! Что, нечего сказать? Молчать! Политинформацию проводить индивидуально и в безопасных местах! Твою бестолковую голову разобьют, и хрен с ней, а людей моих под убой не подводи! С глаз моих! Молчать!
Так что не сложилось у нас доверительных отношений. Но приказать накормить не забыл. Ждал, что накатает на меня донос по замполитовско-комиссарской линии, но тишина. Не вызывают, не матерят. Что это они? От подобной безнаказанности я и распоясаться могу, на людей кидаться начну.
Вечером подходит, мнётся. Я сидел на снарядном ящике (зенитчики же рядом), пыжился, писал сводку.
– Что ты мнёшься? Не к декану авось пришёл. Не, не надо по уставу. Садись, политрук, поговорим. Ты в роте должен быть вторым человеком после меня. И будешь им. На фронте не был?
Так и знал – ботан. Студент, комсорг. Добровольцем пошёл в военкомат, направили его в военно-политическое училище. Ускоренный выпуск, голодный тыл. Ничего, что ботан, сам им был. Жизнь и война дурь выбьют. Главное, что козлом не был – докладную не написал и обиды не затаил. Критику воспринял верно. А за форму критики и тон я тут же извинился.
– А теперь слушай меня, Ипполит. Блин, ну и имечко! Тебе что больше нравится – Тополь или Пол?
– Пол – плохо. Как половина чего-то.
– Ты и есть пока половина. Тополь тоже плохо – дерево слабое и сердцевина гнилая. Будешь Полом. Откормим, война обомнёт, станешь полным. Сейчас я говорю, ты на ус мотаешь. Память у тебя хорошая, уже заметил – газеты прямо абзацами наизусть шпаришь. Руководство ротой и боем – моя задача. Близко даже не касайся. Две головы – это шизофрения. Твоя задача – боевой дух. Ты должен душу бойца почувствовать, помочь в трудный момент, поддержать. Да, этому надо учиться, а ты как думал? Самый верный способ оттолкнуть бойцов от себя – шпарить, как ты сегодня, правильными, идеологически выдержанными, но мёртвыми штампами. Они их в газетах начитались. Говорить с людьми нужно на том языке, на котором он привык говорить, если хочешь, чтобы тебя услышали. С бывшими зекам – на фене, с кадровым – по-уставному, с крестьянином о земле, с конюхом – о конях. Тогда ты будешь для всех свой. И тебя будут слушать. Присядь рядом с человеком, тактично спроси о настроении, о семье, что его тревожит, может, помочь чем-то сможешь. Ты должен стать настолько своим всем, что тебе, как отцу-исповеднику, расскажут самое сокровенное. Так, узнав каждого, ты будешь знать, какие слова кому и когда сказать. Как укрепить слабое сердце, как разогнать тоску из глаз, как воодушевить или успокоить. От тебя очень многое зависит. Успех войска зависит от боевого духа даже больше, чем от провианта или боекомплекта. Если дух слаб, никакое оружие не поможет. А вот уровень боевого духа целиком твоя задача.
– Я знаю. Я это и пытался сделать.
– Ты говорил по-книжному, газетными штампами. Они пусты, в них нет жизни. Ты говоришь: «За Родину! За коммунизм!» А ты знаешь, что для многих это пустой звук? Ну, родина, ну и что? А ты скажи бойцу, что он сражается не за абстрактную родину, не за госаппарат, вообще чуждый большинству, а сражается за свой город, свою улицу, за мать, за сестрёнку, речку за огородом – он сразу тебя услышит. Напомнить им, что немец делал в таких же городах с другими матерями и девчонками сопливыми, как в таких же речках плыли трупы их соратников. Проняло? Вот и их должно так же зацепить. Понял? Но одни и те же слова часто не говори – слух замыливается, слова насквозь пролетают, не задевая. Вот вы, комиссары, все говорите, что мы боремся за передовой общественный строй – коммунизм. Ты знаешь, что из этих четырёх слов три слова большинство не знает, что значат? А раскулаченные и расказаченные мужики так и вовсе воспримут с обратным смыслом. Вот если бы ты говорил им, что немец идёт господами на нашей, на земле этих мужиков и казаков сесть и возродить даже не крепостное право, а рабство – они бы подумали. Им надо напоминать, что в каждом селе есть теперь школа, что везде строятся больницы, где люди будут бесплатно лечиться, что партия пыталась облегчить жизнь народа, что колхозами управляют сами колхозники руками тех, кого они сами выбрали, а не господа. Расскажи им о том мире, который будет партией и народом выстроен после войны. Я понятно объясняю?
– Да, товарищ лейтенант, спасибо. Всё очень доходчиво.
– Вот и ты так же доходчив должен быть. Ведь нас не зря называют отцами-командирами. Мы и должны быть им отцами. Позаботиться, обогреть, накормить, надоумить, отдёрнуть, если ошибается. И наказать, чтобы предотвратить. Не забывай об этом. Если народ побежит, рука твоя не должна дрогнуть, как не дрогнула рука Тараса Бульбы. Лучше одного собственноручно пристрелить, чем все лягут навсегда. Помни об этом. Иди, политрук, погоняй сказанное в голове.
Стемнело. Палаток у меня в роте не было, землянки долбить не стали – на птичьих правах здесь, костры разжигать запретили, а ударил морозец. Тут я и пожалел, что полушубок сдал. За ночь замёрз, как цуцик! Чтобы согреться, раза четыре ходил наряды проверять. Две спящие грудные клетки проверил на прочность. Спать на посту – больно. Должны прочуять. И спящий, и начкар.
Едва начало светать, западная, ещё тёмная сторона загрохотала. Возобновилось наступление. Насколько я знал, наша дивизия была в резерве командарма. Встал, отошёл подальше – сделать утренние дела. Сильно осевший снег за ночь схватился коркой, но и под коркой он был крупными гранулами – таким не помоешься. Побрёл к штабу, где нашёл бреющегося практически на ощупь Степанова. Он увидел меня, кивнул, подзывая. Я освежил лицо из его ведра – ледяной водой бреется, спартанец.
– На столе карта. Иди, глянь, – велел он мне.
В штабной палатке остался свободным только маленький пятачок у стола. На столе горела керосиновая лампа. Стал изучать карту, запоминая возможный район военных действий.
– Ну, – раздалось снаружи нетерпеливое. Ага, там будем говорить.
Вышел, отошли в сторонку под подозрительным взглядом часового. Я закурил в кулак.
– Есть мысли?
– Как не быть? Конфигурация фронта напоминает прошлогодние осенние вяземские «мешки». Только тогда наши вырывались, а сейчас в окружение сами лезут. Осталось узкое горлышко бутылки.
– Точно. Противник контратаковал вдоль железных дорог свежими силами и занял два важных узла дорог. Наши части, изрядно потрёпанные наступлением, снабжаются самолётами и гужевым транспортом через насквозь простреливаемый коридор.
– Нас тоже в мешок гонят, или город будем штурмовать?
– Второе. Мы пока в резерве.
– Ненадолго. Если вся ударная армия такая, как наш полк, то ничего они не навоюют. Мы пойдём на штурм.
– Точно. Поэтому поступаешь под начало Елистратова, совместно с конной разведкой щупаете дорогу. Задача ясна?
– Так точно. Можно вопрос?
– Давай.
– А сапёры? Нам инженерная разведка нужна.
– Будет вам инженер.
– Разрешите идти?
– Выход – 9:00. Исполняй.
– Как знал, как знал, – такими словами я приветствовал Елистратова и двух лейтенантов, один – инженер.
– Куда комполка лошадей гонит? Ещё приказа не было, – ворчал Елистратов. Блин, кто разведчик – он или Степанов?
Ничего не ответил. Взял свою конармию, повозку-двухконку, посадил в неё радистку с рацией, сам пристроился. Елистратов и трое сапёров тоже были конны, конная разведка – по определению. А я – пассажир. За старшего оставил Кота.
Поехали. Состояние дорог навеяло, и я запел:
Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги да ночной бурьян…Путешествие было тяжёлым, опасным и безрадостным. Нас два раза обстреливали «лапотники», совершенно равнодушные к остервенело бьющим по ним зениткам. Слон и лающая Моська.
Капитан всю дорогу сверялся с картой, у меня карты не было, рисовал в блокноте кроки-схемы – решил этот навык развить. Одна беда – кончится блокнот, кирдык навыку. С бумагой в стране туго. Как и со всем остальным.
Чем громче канонада, тем больше на обочинах разбитой техники и трупов лошадей. Хорошо хоть людей убрали. Нас постоянно обгоняли грузовики, полные ящиков, обратно шли полные раненых.
– Мясорубка, – вздохнул я. Вот и увижу в действии знаменитые фронтальные атаки по типу Ржева. Нет желания видеть, а тем более на своей шкуре испытать, а куда денешься? Приказ есть приказ. Так, а что я там плёл под градусом разведчикам?
При очередном налёте подошёл к капитану, попросил карту. Долго, до конца налёта изучал.
– Нам придётся идти по этой дороге. А это ответвление куда?
– Южнее.
И всё? Исчерпывающий ответ.
Дошли до тылов атакующих дивизий, Елистратов пообщался с начоперотдела, доложились по рации эзоповским языком, получили команду возвращаться к развилке и там ждать полк.
Полковые колонны пришли только к темноте. Степанов развернул свою карту, мы доложились.
– Дивизия наша атакует южнее города с целью прорвать оборону, окружить город и прервать сообщение по железной и параллельной автодороге. Наш полк как самый слабый – левофланговый, мы обеспечиваем связь с соседями и прикрытие тыла дивизии, после железки разворачивающейся фронтом на город. А вы разведали правую дорогу. А пойдём – по левой. И ночью.
– Откуда мы знали?
Шли всю ночь навстречу грохоту и всполохам. Вышли к передовой. И пары часов не прошло – появился комиссар второго ранга, стал требовать немедленного ввода в бой полка. Санёк ему объяснял, что подошли только два батальона, пушки и тылы ещё в дороге – бесполезно. А потом Санёк обложил его матюками и послал подальше из расположения. Это, конечно, неслыханная дерзость – и расстрельная статья. Поэтому комиссар схватился за кобуру, но услышал множественные щелчки затворов – я и мои смертники уже взяли комиссара и его охрану на прицел двух самозарядок, автомата и ДТ, с которым не расставался Иван.
– Подполковник! Вы за это пойдёте под трибунал!
– Может быть, – сказал я и катнул им под ноги РГД в рубашке, – но вам это не поможет. Молитесь своему еврейскому богу.
Немая сцена продолжалась секунд пять, пока я не заорал:
– Бум! – топнув ногой.
Подгоняльщики ретировались. Я подобрал гранату, сунул в разгрузку, подошёл к Степанову:
– Теперь только победа нас спасёт, ибо победителей не судят.
– Знаю! – зло огрызнулся Санёк. – Шёл бы ты, псих недобитый. Я думал, ты боевую кинул.
– Конечно, боевую. Зачем таскать лишний груз? Не на боевом взводе, но боевую. Я же не совсем псих, а чуть-чуть нормальный. Иногда. Пошли мясокомбинат осмотрим.
Брасеню приказал накормить людей, наркомовские выдать усиленные, чтобы повырубались, прихватил немецкий, цейсовский бинокль и побежал догонять командиров.
Деревня на бугорке. Так и называется – Малые Бугры. Опорный пункт врага. В радиусе трёх километров вокруг – ровное поле. На поле – шесть сгоревших танков, все наши, и сотни тел в тёмных на фоне осевшего снега шинелях красноармейцев. Безрадостная картина. Деревню терзала наша артиллерия, но снаряды ложились негусто. И с такой артподготовкой в атаку? Комиссар лучше бы спросил, сколько мы стволов привезли. Ему они на хрен не нужны. Ему мясо для МГ подавай. Сука! И этот урод при полномочиях!
– Надо было документы у него стребовать, – бурчал Кот.
– Что это?
– Сдаётся мне, ряженого провокатора мы упустили.
– Иди, пиши докладную в особый отдел. Пусть разбираются.
Меж тем по полю прокатилось «ура», и плотные цепи побежали прямо на деревню. Малые Бугры ожили – вспышки пушечных залпов, «сварка» пулемётов. Комбайн смерти. Я уже столько смертей успел увидеть, но на это смотреть не смог. Всё кончилось быстро – наша пехота, оставив ещё несколько десятков тел, откатилась на исходные. А они не штрафники. И в чём разница?
– Кто что увидел? – спросил Степанов.
– Две батареи миномётов калибра 80 мм, три орудия, до десятка пулемётов. Ориентировочно батальон пехоты, усиленный артиллерией и миномётами, – поведал результат своих наблюдений капитан с «костьми» в петлицах – наш начарт.
Степанов кивнул. Потом выслушал остальных, которые добавили детали.
– Ты что увидел, смертник? – это он мне.
– Это опорный пункт. Оборона не сплошная. Надо обходить.
– Наверняка минными полями обложились, – предположил инженер.
– Наверняка, – кивнул Степанов. – Кузьмин, слушай приказ. Силами своей роты и приданных взводов конной и пешей разведки постарайтесь нащупать обход вне пределов видимости Бугров. Если найдёте, вышлю вам батальон. Связь держать непрерывно. Ты – Псих, штаб – Палата.
– Номер шесть?
– Может быть. Готовься. По готовности доложить!
– А сапёров?
– Будут тебе сапёры.
– Пора делать ход конём?
Ход конём (1942 г.)
Бой гремит справа, а мы в предбоевых порядках идём по переметённому мартовским снегом просёлку. Нормальные герои же всегда идут в обход. Через километр наткнулись на следы траков и пехоты.
– Сдаётся мне, не одни мы такие умные, – хмыкнул Кот.
– Меня больше волнует, почему их манёвр не удался? Глянь, обратно протопали. Не понравилось им там. Почему? Первый взвод, боевое построение!
Позже выяснилось, почему развернулся танк – овраг. Не широкий – в самом узком месте метра три, но глубокий. На карте не помечен, хотя тянется от села прямо на юг, как противотанковый ров.
Оказалось, что на той стороне был заслон противника. Пока я разглядывал карту, разведчики стали шестом прощупывать глубину оврага. Враг понял, что мы не уйдем, и открыл огонь.
Одиночный выстрел хлёстко ударил из рощицы на высотке, крик раненого заглушил отчаянный вопль:
– Снайпер!
Разведчики попрыгали в овраг, провалившись в снег с головой, мои бойцы бросились врассыпную. Но что значит обстрелянные бойцы – после секундной суеты все лежали по укрытиям, паля в рощу как в копеечку.
– Где мой миномёт? Станкач сюда! Снайпера! Да прекратите вы жечь боезапас! – орал я.
Изготовил свою винтовку к стрельбе, вставил магазин с пристрелочными патронами. Такие патроны – дефицит, но они не только дают трассер, но и небольшим разрывом отмечают место попадания. Мне они нужны для целеуказания.
Расчёты миномёта и «максима» заняли позиции и изготовились к стрельбе.
– Кто видел, откуда бьёт?
Никто не видел. Тут роль приманки решил исполнить Прохор. Он лосиными прыжками проскакал к оврагу, схватил подстреленного разведчика и поскакал назад. Снайпер не удержался и стал палить в Прохора. И хотя юный таёжник – большая мишень, но то ли везёт ему, то ли матушкин заговор работает: из трёх выстрелов не попал ни один. А вот я его засёк. И не я один.
– Взял! – закричал я и стал высаживать в дерево со снайпером трассеры.
– Взял! – закричали хором наводчики. Миномёт плюнул первую мину, «максим» протянул жгут очереди по дереву.
И тут роща ожила. Застучал оттуда по нам пулемёт, захлопали винтовки.
– Готов снайпер!
Тело немца рухнуло на землю. Бойцы перенесли огонь ниже, на вспышки. Перестрелка разгоралась, но была ли она эффективна? Лёжа под огнём, мы рано или поздно начнём нести потери, а попадаем ли мы?
– Это дзот!
– Бронебойщики! Заткнуть его! Лопырёв! Ты пореже сади-то! Видишь, нет толку от твоих мин. Просто не давай им покоя, беспокой.
– Есть!
Есть-то оно есть. Но надо на ту сторону перебираться. Немец, если телефонизирован, вызовет артподдержку, и перемешают нас тут со снегом и землёй. Надо что-нибудь срочно придумать!
– Казачок, ты сколько весишь?
– Не знаю.
– Ладно, за мной!
Стал перекатами отходить назад. По пути забрал ещё четверых бойцов невысокого росточка. Нашёл залёгших сапёров.
– Что, инженеры? Прячетесь? А кто будет овраг форсировать? Пошли, работа есть.
Приказал найти и заготовить шестов, желательно ровных и прочных. Минимальной длиной – шесть метров. Тут же, в «тылу», потренировались. И вот уже штурмовое отделение под огнём, с шестом наперевес бежит к оврагу. Вся рота открыла шквальный подавляющий огонь. Впереди, на одном конце шеста, бежит Ваня Казачок, на другом – я и ещё четверо крепких ребят.
– И-и, раз!
Мы впятером дёрнули шест вверх, Ваня прыгнул и перелетел через овраг на конце шеста. Там упал, перекатился в ложбинку. Мы с шестом побежали назад, а нам навстречу ещё четыре штурмовых «летучих» отряда. А сапёры уже валили деревья на брёвна, брёвна перекидывали через овраг, разведчики снизу, из оврага, мокрые по уши – под снегом тёк поток талых вод, вязали брёвна меж собой. Как только были связаны первые два бревна, я перебежал на ту сторону и возглавил атаку на позиции противника.
Нет, конечно, мы не бежали, как в кино – цепями, в полный рост. Перекатами, перебежками, ползком, ломая колючий снежный наст, обтекая рощу, постреливая, медленно, но верно мы приближались к окопам врага. И вот уже в рощу полетели гранаты, потом «ура!», решительный рывок и яростная рукопашная.
– Проконтролировать территорию, закрепиться, приготовиться к отражению контратаки противника! – кричал я в досаде. Всё кончилось раньше, чем я добежал.
Осмотрелся. Прямо за рощей местность шла на возвышение и там, наверху, Большие Бугры. Справа – Малые. Отсюда бой плохо виден. Зато прекрасно видна дорога между ними. Только если выполнить приказ и оседлать её, окажешься в низине под перекрёстным огнём с Бугров.
Так и доложил Степанову, когда протянули телефон. Комполка приказал закрепиться и дождаться батальона, при этом провести разведку в направлении Больших Бугров. У нас есть разведчики, вот пусть и проводят. Отрабатывают сугревочные-наркомовские.
Пошёл посмотреть снайпера. Винтовка уцелела, отдал своим снайперам. Накидка у снайпера была интересная – двусторонняя накидка-пончо, как у мексиканцев, с одной стороны белая, с другой – пятнистая. Накидка плотная, как плащ сгодится, ещё и с утеплённым подбоем. Снайперши отказались. Обозвал их дурами, сказал, что себе оставлю. Приказал отчистить от крови и заштопать. Но самое интересное обнаружилось под накидкой – железный крест на шее и сдвоенные молнии в петлицах. Эсэс? Они же должны быть в чёрном, я в кино видел. А эти в обычной форме. Все остальные убитые оказались тоже эсэсовцами. Приказал собрать документы с трупов и отправить в разведотдел.
– Командир, враги!
До сотни немцев ломаной цепью спускались от Больших Бугров. Без танков и БТР. Как-то непривычно.
– К бою! Занять позиции! Сейчас обстрел начнётся! Взводных ко мне!
Когда прибежали взводные, поставил задачу:
– Подпускаем в упор, сидим тише мышей. Если кто не сдержится, пристрелю. Стрелять только после станкача. После сигнала огонь должен быть ошеломляющим. Долбим из всех стволов и тут же идём в контратаку. Если повезёт, на шее немца в село заскочим. Задача ясна? Тогда по местам!
Взводные убежали. Вокруг фонтанчиками взлетал снег – рота окапывалась.
– Зарывайся глубже, пехота!
С противным свистом прилетела первая мина. Я нырнул в дзот, где уже прятались мои снайперы и неразлучная троица телохранителей – Кот, Ваня и Прохор. Рвануло. И тут же замолотило со всех сторон, аж земля под ногами закачалась. Сел на полураздетый труп немца.
– А где пулемёт? – спросил я.
– Первый взвод забрал, – с сожалением на лице проорал Ваня. Видно, сам хотел взять, но не успел. Да, у нас в роте, как в большой семье, хлебалом не щёлкай.
Огляделся. Вот же немцы народ основательный! Дзот выглядел номером люкс – печка, сейчас опрокинутая, лавки, разнесённые гранатой в щепу, стены и потолок фанерой обшиты, потому за шиворот от взрывов и не сыпет, как в наших землянках. А что нам мешает так жить?
– Ваня, передашь Брасеню мой приказ: чтобы всю эту фанеру ободрал и в обоз оприходовал.
– Есть, командир!
Наша же собственная лень и мешает. Когда появляется выбор, попотеть ради комфорта или так потерпеть, выбор пропадает. Исключительно терпеливый наш народ.
Обстрел слабел, ещё пару раз рванули запоздалые снаряды и разнеслось:
– Идут!
Я выбежал в траншею, заорал:
– Доложить о потерях! Раненых в тыл!
И только потом посмотрел на цепь немцев. Какие-то они робкие, несмелые. Где тот рывок, где то мельтешение, какое я видел прошедшей осенью? Или им без танков непривычно?
– Что, немец, зябко тебе без танков? Давай смелее! Мы обогреем, приголубим! – заорал я. Не немцам, своим. Над страхом надо посмеяться – страх и уйдёт.
– Два с половиной, – пробормотал я. Работая на железной дороге, в пути привыкаешь мерить расстояние пикетами. От одного пикетного столбика до другого как раз сто метров. Так я и определял дистанцию. Мысленно представлял железнодорожное полотно от себя до цели и считал виртуальные столбики.
– Изготовиться к бою!
Кругом защёлкали затворы. Я сменил магазин на «крещёный». Головки пуль в этом магазине я надсекал ножом. Рассчитывал, что при попадании пуля раскроется, что должно сильно повысить убойное действие. Получится или нет, сегодня и узнаю.
– Огонь! – заорал я и стал вылавливать на мушку заметавшихся немцев.
Шквальный кинжальный огонь получился ошеломляющим. Много немцев попадали мёртвыми или ранеными, часть залегли, но многие, наоборот, рванули на нас. Навстречу им полетели не только пули, но и гранаты.
– Атас! Атас! – прокатилось по нашей цепи, а потом серия взрывов – по фрицевской.
Противник дрогнул, замялся, заметался под нещадными очередями пулемётов и автоматов.
– Примкнуть штыки! – проорал я, опорожнил магазин, сменил на полный, снял прицел, нацепил штык.
– Рота! В атаку! Ура! – и первым выбежал из траншеи. Не оборачиваясь, побежал со всей скоростью, которую смог развить, с СВТ наперевес. Нужна скорость, пока они не очухались.
– А-а-а! – накатывало на меня сзади, подгоняя.
Я бежал на группу немцев. Ближайший, побледнев, поднимал свой МП. Я выстрелил от пояса, не целясь. С пяти шагов-то? Попал прямо в центр фигуры. Немец рухнул на собственные ноги мешком. Два раза выстрелил в следующего. Одна пуля ему попала в лицо, он опрокинулся, как от удара битой. С разбега пронзил штыком ещё одного, поддел его плечом, сталкивая со своего пути, обо что-то запнулся, полетел, сгруппировался, перекатился через плечо, вскочил на ноги, готовый бить и отражать удары, но… Немцы кончились.
Передо мной лишь улепётывали несколько спин. Я рванул следом, вопя во всю глотку какое-то бесконечное:
– А-а-а-а!
Позади нарастал грохот. Я обернулся. Сотня моих бойцов с перекошенными криком и яростью рукопашной лицами бежали следом. А рвалось в роще – немец обрабатывал наш тыл, отрезая нас, подгоняя. Он гнал нас на себя, я и поддал.
Не знаю, какой сейчас олимпийский рекорд по бегу на километр, но я его, наверное, перекрыл.
До траншей гансов оставалось метров сто пятьдесят – двести, когда я заметил там суету, потом в нас ударили пулемёты. Пули секли бегущих передо мной фашистов. Они что, совсем охренели, по своим долбить? Странные сегодня немцы, очень странные.
Когда огненные щупальца пулемёта стали стегать вокруг меня, я рухнул за снежный выступ, несколько секунд восстанавливал дыхание, подгоняя себя:
– Нельзя ждать, темп, темп! Опомнятся – кирдык нам всем!
Прилаживать оптику не стал – сто метров до пулемёта. Вот они – две каски, измазанные известковыми полосами. Опорожнил в них магазин. Попал – пулемёт заткнулся. Я сразу же вскочил и побежал прямо на пулемётную точку. Если они живы, сейчас из меня будет сито. Магазин сменить не успеваю – карабин на спину, в правой руке ТТ, в левой – малая пехотная лопатка, заточенная до остроты тесака. В затылке привычно заломило.
Один немец всё же жив. Я вижу его расширенные в ужасе глаза, он суетливо возится с пулемётом. Стреляю из ТТ на бегу, даже не надеясь попасть. Пули высекают ледовые фонтанчики из залитого водой и смёрзшегося до крепости бетона льда. Немец прячет голову, чего мне и надо – ещё две секунды, и я спрыгиваю на немца, бью лопаткой пониже каски, хватаю пулемёт. Вот чего он возился – патрон в ленте перекосило, обычное дело, но дрожащими, судорожными руками поправить сложно. Перезаряжаю, беру пулемёт наперевес, две ленты перекидываю по-матросски через плечи и иду по траншеям, струями свинца под высоким давлением вымывая из них противников.
Залёгшая под огнём рота опять поднялась.
– Ура! – перекатилось в поле.
Один за другим прыгали в траншеи мои бойцы. Всё! Теперь нас отсюда не выбьют! Вот это прорыв! Сам охреневаю.
Когда менял пулемётную ленту, подбежал взводный-два. Глаза лихорадочно горят, лицо забрызгано кровью.
– Ранен? – спросил я его.
– Что? А, нет, это не моя, – ответил он, утирая лицо колким снегом.
– Первая рукопашная?
– Вообще первый бой.
– Для первого боя вообще молодец!
– Товарищ лейтенант, смотрите! – указал рукой подбежавший Кот, тяжело дыша.
Я посмотрел – дуга летящей мины. Куда это они долбят? По нашей старой позиции. Зачем? А, батальон подошёл. Отсекают их от нас. А откуда долбят? Вот это сейчас и выясним.
– Кот, собери десяток самых шустрых автоматчиков, гранат побольше. Готовность – две минуты. Мухой!
Потом поставил задачу двум взводным и сержанту, заменившему раненого командира первого взвода. Пулемёты, «максим» и трофейные на станках, ставим на флангах, миномёт в центре. Задачу поставил удержать линию траншей до подхода основных сил, отражать атаки и прикрывать подход основных сил.
А сам со штурмовым отделением пошёл в атаку на источник миномётных дымовых трассеров. Ну, как атаку – нашего приема, слава богу, противник не заметил. Просочились. Перебежками от дома к дому, от забора к забору, не ввязываясь в перестрелки, добежали до миномётной огневой. Залегли за жердевым забором в сугробе.
Наш прорыв сильно спутал карты противнику. Немцы бегали как ошпаренные, орали, сталкивались. Пожар в дурдоме – самое точное определение происходящему. Только из-за этого мы и смогли незамеченными оказаться почти в центре села. Но зная немцев, был уверен – скоро они наведут порядок, и нам всем станет жарко. Ага! В общем хоре криков стали прорезаться властные крики командиров. Времени осталось мало.
На батарее тоже царила суета, но более-менее деловая. Вон и их командир стоит с биноклем на капоте грузовика, кричит команды. Я даже слышу его голос.
– Гранаты? – шёпотом спросил Кот.
Я помотал головой. Если уж пошла такая пруха, рискнём ещё раз. Сейчас сниму офицера, повышу уровень энтропии. Оставил пулемёт, взял карабин, вставил последний магазин. Был ещё пристрелочный, были патроны в заплечном мешке, полторы ленты в пулемёте, гранаты – не стоит голову забивать.
– Там штаб, – прошептал Ваня, кивая в центр села, – там сельсовет, легковые машины и автобус, флаг ихний болтается.
Логично. И соблазнительно. Правда похоже на штаб. Только это путь без возврата. Церковь! Прямо через дорогу. Если до неё доберёмся, нас оттуда не выкуришь. Так и сделаем!
– План такой. Атакуем через огневую. Потом закидываем штаб гранатами через окна и отходим в церковь. Стены каменные, блокируем выходы и отобьёмся до подхода наших. Вопросы? Работаем!
Карабин опять на спину, взял пулемёт, перепрыгнул через забор и пошёл на миномёты. Меня заметили, когда я уже прошёл шагов десять. Удивлённо оборачивались, но за оружие не хватались, олухи. Амеры на вашем месте уже разрядили бы в меня каждый по магазину, потом бы разбирались.
Короткая очередь моего пулемёта смахнула офицера с капота, длинная посшибала расчёты, как кегли. А потом на них обрушились мои бойцы, рубя их лопатками и громя прикладами. Я тут же развернулся и побежал огородами к штабу, благо всего два двора, и вот она – центральная площадь.
Противотанковая граната чем плоха? Большим весом. Но хороша своей мощью и детонатором ударного действия. Взрыв сразу двух таких гранат посреди площади произвёл эффект локального катаклизма – автомобили перевёрнуты, горят, взрываются топливные баки, кричат раненые люди и кони. Наша отвлекающая группа – два гранатомётчика, причесала площадь ещё и из ППШ, а потом спешно отступили. Немцы кинулись преследовать. Что нам и надо.
Я махнул рукой, и мы молча побежали на здание сельсовета, рассредоточиваясь. У нас на всех была только одна бутылка с огнесмесью, иначе было бы легче сорвать работу штаба.
Когда нас заметили солдаты противника, было уже поздно. Этих самых наблюдательных перестреляли, в окна полетели гранаты. Мы обогнули сельсовет, из-за углов обстреляли всю территорию перед ним, главный вход разворотили гранатой и подожгли коридор за дверью огнесмесью.
– В церковь! Выноси ворота противотанковой! – крикнул я.
Наперерез нам бежал бородатый мужик разбойного вида, громко крича и махая руками, совершенно игнорируя свистящие вокруг пули. Голова его была не покрыта, грязно-седые космы спутались и вместе с не менее запущенной бородой придавали ему вид лешего. На нём были лапти (в двадцатом веке, зимой!), непонятной формы и цвета штаны и тулуп с огромными прожжёнными дырами. Одна пола тулупа была до земли, вторая обрывалась у пояса. Тулуп не запахнут на груди, открывая взору дырявую грязную тельняшку.
– Люди там! Люди! Не выбивай ворота! – наконец расслышал я.
Вот, блин, косяк! И что теперь делать?
Боец, замахнувшийся гранатой, вопросительно смотрел на меня. Я покачал головой, потом покрутил рукой над каской. Бойцы попадали сапоги к сапогам – круговая оборона. Только позиция здесь… Пять минут продержимся, не более.
А «бомж» схватил бойца с противотанковой гранатой как ближайшего за рукав и тянул за собой.
– Товарищ лейтенант, он говорит, есть другой вход! – крикнул боец.
Я отправил его и ещё двоих с «бомжом», остальные тоже стали пятиться за угол церкви, отстреливаясь.
А время, как всегда, впрочем, было не за нас. Огонь противника усиливался, они уже оправились от внезапности нашего наскока, обкладывали грамотно и плотно. Я вспугнул очередью двух самых дерзких солдат, отпрянувших обратно в укрытие и – а, была не была! – крикнул:
– Бегом!
«Бомж» открыл низенькую калитку в покосившемся дровяном сарайчике, юркнул туда. Бойцы, обречённо переглянувшись, за ним. Сарайчик был очень маленьким и настолько ветхим, что чихни – развалится. Но уже четверо пропали в его чреве, ещё двое, потом остальные, последним я. И провалился в яму колодца.
– Живее! – дыхнул мне в лицо тёплым паром «бомж» и с неожиданной силой рванул меня за воротник, разом и подняв, и швырнув по лазу: – Ползи!
Я увидел, что он дергает за какую-то толстую верёвку, сверху посыпался мусор, колотые дрова, солома, песок. Я шустро побежал на четвереньках по лазу, пока не воткнулся каской в чью-то мягкую задницу. Так мы вместе с Котом и вывалились в склепоподобный подвал церкви, слабо освещённый лучинами и полный людей.
– Ох…ть! – только и смог сказать я.
– Не сквернословь в храме! – хлопнул меня по каске «бомж». – Ты командир?
– Лейтенант Кузьмин, – представился я.
– Отец Анатолий, – представился «бомж». – Как дальше думаешь быть, лейтенант?
– Наверх есть выход?
– Есть. Только все двери храма заколочены наглухо. Как немец алтарь и иконостас разграбил – замуровал.
– Даже лучше. Веди нас наверх! Ребята, мы теперь монастырские затворники! Пойдём, проредим бесов!
Наверх поднялось больше бойцов, чем рухнуло в лаз. Под две дюжины почерневших, тощих красноармейцев, лихорадочно блестя глазами, тянулись к нам, прикасались. Половина из них была вооружена, но боеприпасов не имели. Быстро и по ходу распределили оружие и патроны, стали стаскивать к высоким узким окнам столы и лавки.
Какие-то гражданские, женщины, дети, старики, по-прежнему стоя на коленях, молились. Лишь некоторые оглядывали нас. Отец Анатолий погнал их вниз, в катакомбы.
Ко мне подошли двое – один со старшинской «пилой», другой в рваной кожанке с наглухо забинтованным лицом. Оба, оказалось, успели хорошо освоить немецкий пулемёт, обожженный – танкист, радист-пулемётчик; старшина до плена был старшиной пулемётной роты. Отдал им МГ с боезапасом, они сразу полезли на колокольню вслед за отцом Анатолием, скинувшим тулуп и успевшим надеть свою чёрную «спецовку» – ряса, по-моему, называется.
Я сел на ноги, развязал вещмешок, вытряхнул содержимое – пачки патронов, две гранаты, сухари, папиросы и флаг. Красный флаг. Ну, как флаг? Просто большой – полтора на два метра – кусок красной материи. Его мне сшили женщины нашего полкового тыла из парашютного шёлка и окрасили.
Подозвав молоденького, шустрого бойца из первого взвода, вручил ему этот флаг и приказал укрепить на колокольне, чтобы полк видел. Глаза бойца вспыхнули. Пока он шёл, неся флаг на вытянутых руках, каждый постарался прикоснуться к нему, а воинство отца Анатолия старались и губами припасть, роняя слёзы. Вот для этого, для подобного эффекта я и извёл столько драгоценного шёлка.
Над головой ударили колокола, протяжный гром их слился в мелодию. Благовест! Ох, отец Анатолий, что же ты делаешь! Даже у меня слезу выбило! Машинально перекрестился.
Вторя колоколам, запел пулемёт, мои бойцы выбивали витражи, стреляли на улицу. Да, Кузьмин, бой в самом разгаре!
Как смог быстро, снарядил магазины СВТ патронами, остатки ссыпал в боковые карманы штанов, запихал магазины и гранаты по карманам разгрузки, закрепил на карабине оптический прицел и побежал наверх, на колокольню.
Пулемётчики, распластавшись по полу, перекатывались на стреляных гильзах, ведя огонь сразу из трёх пулемётов. Ваня Казачок, оскалившись, часто крутил стволом своего ДТ. Двое бойцов и два вторых номера спешно снаряжали пулемётные диски. Старшина-пулемётчик скупо добивал ленту МГ. Её снаряжать нечем.
Знаменосец лежал мёртвый. Кровь из простреленной головы текла на свешенный из окна флаг.
Отец Анатолий, презрев бьющие в бронзовую броню колоколов пули, бил набат самым массивным колоколом. Набат я слышал болью в голове, а вот остальное – немое кино.
Осторожно выглянул из глубины колокольни наружу. Тараканами бегали немцы. Это не мои мишени. А вот это – моя. Полмагазина – и пулемётный расчёт врага лежит, уткнувшись мордами в быстро краснеющий снег. Потом я выбил офицера, пару унтеров или фельдфебелей, ещё одного пулемётчика, попав прямо в разрез бронещитка «ганомага».
Интенсивность огня моих бойцов быстро падала – и патроны кончались, и люди здоровее не становились под плотным огнём противника. Казачок ранен, отрубился, старшина и танкист убиты, как и ещё один пулемётчик. Ранены ещё двое.
Отец Анатолий оставил колокол в покое, подобрал винтовку раненого бойца, от боли потерявшего сознание, и сосредоточенно стрелял вниз, в немцев. Лицо его было таким, будто он не людей убивал, а огород перекапывал – ноль эмоций!
Я расстрелял почти все патроны. Осталось полтора магазина и те, что в пистолете.
– Лейтенант, слышишь? – спросил священник, откинувшись к иссечённой пулями стене.
– Нет, – пожал плечами я, словил в прицел прицелившегося в нас немца, выставившего из-за хаты полкорпуса. Бам! Немец рухнул тряпичным мешком – этот не встанет. А другой успел сместиться прежде, чем в него попала пуля.
– Наши! – возликовал я, услышав я протяжное: «А-а-а!»
Коррозия стереотипов (1942 г.)
Вечером я сидел в штабной избе за столом с картой и пил горячий сладкий чай, обхватив жестяную кружку обеими ладонями. Докладывал начальник штаба полка. Конечно, не мне докладывал, а командованию дивизии, но мне было тоже очень интересно.
– Таким образом, Бугры враг превратил в опорные пункты. Благодаря обходному манёвру штурмовой роты, усиленной разведвзводами, удалось не только обойти и охватить Малые Бугры, но и дерзкой контратакой занять позиции противника на юго-восточной окраине Больших Бугров, пробив в его линиях обороны существенную брешь. Группа автоматчиков под командованием командира штурмовой роты лейтенанта Кузьмина…
Я вскочил, а так как был без головного убора, то просто вытянулся. Комдив махнул на меня рукой, я сел.
– …дерзкой атакой вглубь боевых порядков противника уничтожила миномётную батарею, разгромила штаб батальона СС и забаррикадировалась в каменном здании храма, с колокольни ведя обстрел почти всей прилегающей территории. На данный момент завершается очистка от солдат противника Бугров, батальоны закрепляются на окраинах села, переоборудуют позиции врага.
– У них тут была круговая оборона? – спросил комдив.
– Так точно. Как и в Малых Буграх.
– Как и везде, – вставил майор, сопровождающий комдива. То ли зам его, то ли начальник оперативного отдела.
Наш начштаба стал докладывать о потерях и состоянии полка. Комдив молча выслушал, потом сказал:
– Подкрепить вас постараюсь. Бойцов не жди, нет пополнений, снарядов подкину, рота танков утром подойдёт к вам. На вашем участке дивизия добилась наибольших результатов, основные усилия перенесём сюда. Перед вами только один опорный пункт остался. Возьмём его – оседлаем шоссе, подсечём врагу жилы. Это главная задача.
Я глянул на карту. До шоссе, пересекающего деревню, которую нам предстоит брать, километров пять пустого пространства. Немцы решили обороняться опорными пунктами, а наши войска, ввиду отсутствия нормального снабжения вне дорог, вынуждены были эти опорные пункты штурмовать. На этих пустых пространствах сам бог велел маневрировать, но чем? Пехотой? Даже пушки не пройдут, а подвижных соединений у Красной Армии пока очень мало. Да и им нужны пути снабжения. Были, ещё зимой были такие подвижные соединения, как кавалерийские корпуса. Вот их и ввели в прорыв. А теперь они в этих прорывах-нарывах сидят и коней доедают. Свежие дивизии вермахта из Франции контрударами отсекли наши подвижные ударные группировки от стрелковых дивизий и армий. Вон он, в тридцати километрах от нас край мешка, где были окружены две кавдивизии и одна дивизия ВДВ. Несладко им теперь там, без тяжёлого вооружения-то.
Задумавшись, не услышал вопроса, обращённого ко мне.
– Простите, задумался, – извинился я.
– Кто принял решение контратаковать штрафную роту?
– Какую штрафную роту? – удивился я. При чём тут «шурочка»?
– Немецкую дисциплинарную роту, – нетерпеливо пояснил майор.
– Ах, вот в чём дело! А я-то думаю, что это они без танков в атаку идут? И по своим бегущим из пулемётов долбят. Очень удивился. Непривычно видеть наступающих немцев без поддержки танков. А решение я сам принял. Спонтанно. Согласовать с комполка не успел. Надо было всё делать быстро. Тут как в драке – если ошеломил противника, надо долбить, пока не опомнился. Или пока сам не упадёшь.
– Верно ты рассудил, лейтенант. Майор, – обратился он к нашему начштаба, – жду от вас наградной лист на этого ротного и наиболее отличившихся в сегодняшнем бою.
Я проорал, что служу трудовому народу. Мне было приятно. Это даже приятней, чем редкие премии в прошлой жизни.
– А танки будут, лейтенант. Партизаны донесли, что на нашем участке замечена выгрузка эшелона с танками. Я думаю, до подхода танков мы перекроем шоссе, потом отбиваться будем. Должны успеть. Если они нас атакуют в поле, в блин раскатают.
– Эшелон. Это до батальона танков. Отобьёмся. Тяжело будет, но отобьёмся.
– Твоими устами да мёд бы пить, – вздохнул комдив, – но вот отбиваться почти нечем. Противотанковой артиллерии мало, ПТР слабо освоены. Да и боится народ танков. Мало в дивизии осталось выживших после танковых атак осени – зимы сорок первого. Пополнение танки вообще не видели, зато наслушались такого, что заранее штаны марают.
– Можно создать истребительные отряды. И бросать их против танков, – предложил я. – Есть уже такой опыт. Вот наш комполка Степанов как раз командовал истребительной ротой. Мы танки жгли за милую душу.
– Так и за милую душу? И много вас таких, с той роты, в полку?
Я вздохнул:
– Двое. Я и Степанов. Я у него старшиной в роте был.
– Погоди, так ты и есть тот старшина, что истребительный батальон из окружения вывел? – спросил майор из оперотдела дивизии.
– Я. Так точно.
– Вот оно что! Он ротным из младшего комсостава стал, – пояснил свою мысль майор комдиву.
– Я понял уже. Не то что эти ротные со школьной скамьи. Давно воюешь?
– Полгода.
– Через полгода и эти школьники такими будут, – сказал майор.
– Если выживут, – буркнул комдив.
В это время громыхнул близкий взрыв тяжёлого снаряда.
– Это ещё что? – повернулся комдив к начштаба.
Тот, сам удивлённый, совсем не по-уставному пожал плечами. Громыхнуло ещё раз.
– Подкинули крупные калибры, – вздохнул комдив, надевая папаху и беря в руку трость – он хромал, видно, не долечил рану ноги. Потом повернулся к начштаба:
– Держись, майор. Противник успел перегруппироваться. Пока бьёт по площади, а вот утром, посветлу, станет бить прицельно. Нам подавить это нечем. Удачи!
Уже в дверях обернулся, посмотрел на меня, начштаба, ухмыльнулся и сказал мне:
– Выживи, лейтенант!
– Постараюсь, товарищ генерал-майор!
Как только дверь за комдивом закрылась, начштаба крикнул ординарцу, чтобы сделал чаю, потом тяжко опустился за стол, схватился за голову руками. Ещё раз бабахнуло.
– Комдив прав. Сейчас они нам спать не дают. А утром, когда пойдём в атаку, с дерьмом смешают этими снарядами. Вместе с обещанными танками.
Принесли чай. Начштаба пил чай и молча медитировал, гипнотизируя карту. Влетел Степанов, крикнул:
– Чаю!
Отобрал мою кружку, допил мой чай – друг, блин! Кинул шапку и тулуп в угол, забегал по избе.
– Что, задумался? – это он своему начштаба. – Что делать будем?
И тут они оба повернулись ко мне.
– Э, мужики, не надо на меня так смотреть! Я вам не волшебник! У меня в роте пятьдесят шесть бойцов осталось. Измотаны сильно. Да и не знаю я, где эта батарея!
– А кому сейчас легко? Иди, готовь роту. Как только уточним расположение батареи, пойдёшь!
– Спасибо тебе, благодетель! Твою дивизию! Что я-то опять в самую печку? Больше некому?
– Больше некому! Орден обещаю.
– Себе пообещай! Знаю я, что за орден! С закруткой на спине! Командиры, блин! Как нарисуется песец, так сразу Кузьмин! Я за всю Красную Армию один не навоюю! Вы совсем охренели? Батарея находится чёрт-те где в тылу врага. Вы на что надеетесь? А, что толку!
Я махнул рукой и пошёл. Рота, все пятьдесят шесть человек, уже сидели на чемоданах. Тут и дураку ясно, что немец бьёт издалека и по «карте», то есть по отметке деревни на карте. Поэтому желательно в это время находиться на другой «отметке». И мы ушли в окопы и землянки той рощи, которую захватили утром.
Вернее, я роту отправил, а сам с Котом пошел в избу особого отдела, тем более что немец вроде и перестал бомбить.
Особист полка, капитан, типичный ботан в очках, удивлённо откинулся на стуле, когда я стал его убеждать, что освобождённое мною воинство отца Анатолия – ангелы во плоти, что геройски воевали рядом со мной, а поп, спасший всех этих окруженцев и бежавших из плена красноармейцев, вообще достоин прижизненного памятника.
Капитан снял очки, ещё некоторое время смотрел на меня близорукими глазами, закурил, встал, взял кружки. Довольно красивая, но какой-то строгой, северной красотой девушка-писарь вскочила налить чаю, но он от неё отмахнулся:
– Сам. Засиделся уже. Голова как ватой набитая. Вот, даже не пойму, зачем этот ротный меня учит Родину любить.
Я осёкся. Как зачем?
– Как зачем? Я за этих людей поручиться могу, выручить их… – споткнулся, увидев насмешливые взгляды, какими переглянулись капитан и его писарь.
– Выручить от чего? – спросил меня особист, протягивая кружку с чаем и ставя на стол деревянную плошку с белыми кубиками сахара.
– Что-то я не пойму, – озадаченно сказал я.
– Да вот и я тоже, – кивнул капитан. – Ты присаживайся, Кузьмин. Не удивляйся. Из-за тебя у нас очень много пустой работы. Язык у тебя как помело. Кому и что говоришь, совсем не соображаешь. А нам потом доносы на тебя разбирать.
– Доносы? И кто же это меня вламывает? – насторожился я. Пришёл, называется, выручить. Так, глядишь, и самого захомутают.
– Да разные. И все просят проверить тебя и принять меры. Кем только ты не чудишься людям: махновец, шпион иностранный, бывший белогвардеец, офицер старорежимный, антисоветчик.
– Как это так-то? Когда это я стал антисоветчиком?
– Анекдоты про наших вождей и генералов и маршалов рассказывал? То-то же. Веру свою не скрываешь, что само по себе религиозная пропаганда. И вообще ты – хам, нахал и хулиган!
– Это точно!
– А что ты радуешься? Думаешь, охота нам кляузы на тебя разбирать? Нам больше заняться нечем? Ладно, боец пожалуется, пообещаем ему разобраться, он и успокоился, а командованию отчёт представь! Если бы ты не успел так себя ярко проявить в нашем правом деле, защищая Родину, давно бы грохнули тебя, чтоб не морочил головы ответственным товарищам. Ага! Проняло? За базаром следи, лейтенант!
– А что это вы по фене?
– Я-то ладно. Ты где нахватался? Вора в законе возле себя пригрел, рецидивиста-хулигана?
– Ранили Казачка. Сильно. В лазарете. Жаль, отменный боец, – грустно вздохнул я.
– Знаю. Знаю даже, что в список на орден его подполковник включил. Так откуда такие обширные связи?
Я усмехнулся:
– Меня такие большие шишкари не раскололи, думаешь, у тебя получится?
– Но я должен был попробовать, – тоже заулыбался капитан. – Ну, вот, вроде прояснилась голова. Можно работать. Ты иди, лейтенант, не отвлекай. Всё нормально будет с этими людьми.
– Нормально? А похватали их зачем? Заперли. Допрашиваете. А дальше? Расстрел? Штрафбат?
– Ну, ты даёшь, лейтенант! Какой расстрел? Воевать некому. Вон, женщины наши на фронт пошли – мужиков не хватает, а ты – расстрел! И за что им штрафбат давать? Среди них только один командир, а бойцам – штрафная рота, «шурочка», как ты говоришь. Да, несколько человек, может быть, и придётся послать искупать вину. Но! Вот опросили шестерых – не за что их в штрафники. Трое в плен сами сдались, да, но они, гля, прости, Оля, столько перенесли в плену, что скорее застрелятся, чем руки поднимут.
– Я тоже так думаю. Так что же вы их мурыжите?
– Чудной ты человек! Опросить их обязательно надо. А разве не надо задокументировать, зафиксировать все зверства нацистов? Ты Аллею Скорби видел?
– Виселицы? Видел.
– А показания этих людей – готовые гвозди в крышки гробов многих нелюдей. А как они после войны выживут, в страны наших союзников переберутся? Как их прижать? То-то! Кроме этого, они обладают массой разведданных. Ты не думал об этом? Мы долго людей готовим, в тыл врага с такими трудностями отправляем – а они уже оттуда.
– Да что они могут знать? По лагерям сидели да в подполе.
– Расположение лагерей, система охраны, фамилии преступников, их сообщников из наших соотечественников. Да мало ли человек может увидеть и услышать! Надо лишь правильно спросить и уметь распорядиться сведениями. Ты же знаешь.
– В принципе, да. И что с ними дальше будет?
– Ну, попа наградим и отпустим. С его ранами он не призывной. Бойцов и командиров – в госпиталь. Поправятся, а там врачебная комиссия определит их судьбу – на фронт или коров пасти.
– Что, правда?
– А ты думал, мы тут живодёры?
– Честно говоря, да.
– Это мы сами о себе такой слух пускаем. Жуть нагоняем. Чтобы трепетал враг.
Капитан рассмеялся, замахал на меня руками, выгоняя:
– Иди, не мешай работать.
Так и ушёл. Верить? С виду правильный пацан, честный. Да и зачем ему врать мне? Он меня прищучить может в любой момент, стал бы он так оправдываться. А тут вроде как посмеялся надо мной. Зафиксирую, говорит, зверства наци и отпущу людей.
Я уже засыпал, когда перед глазами поплыл ряд телеграфных столбов с ужасными гроздьями на них. Уже полгода воюю, ни разу мёртвых во сне не видел. Читал, что убитые снятся. Я уже роту человек перевел из графы «живые» в графу «навоз», ни один не приснился. Погибшие товарищи снятся. Но тоже живые, разговаривают, смеются. В моей памяти они живут теперь.
А в этот раз перед сонным взором проплывал ряд повешенных, обледеневших. Старики, женщины, дети. За что их? Как они навредить могли? Ладно, избитые, окровавленные мужики – ещё как-то понятно. Хотя в красноармейской форме понятно, но в гражданском? Вот этот вот, перед глазами застыл, в лёгкой изорванной ветровочке, трениках и одном кроссовке. Они его, видно, ещё осенью повесили, в кроссовках зимой не пофорсишь. Так и висит.
Стоп! Я вскочил. Сна как не бывало.
– Кот! На выход! Бегом! Фонарь захвати!
Мухой одеваемся и бежим. Прибежали к Аллее Скорби, нашёл тело этого мужика. Трупы, конечно, уже сняли, но сложили в рядок. Похоронить не успели.
– Свети!
– Что?
– Охренеть! Не повезло мужику.
– А кому из этих повезло?
– Ты не понял, Котофеич. Это наш клиент. Ты такие ботинки видел?
– На поршни похожи.
– Какие, на хрен, поршни! На коленвал, блин!
– Поршни – короткие кожаные сапоги без подошвы или на мягкой подошве. Типа кожаных носков.
– Это кроссовки, Кот. Их ещё не изобрели. Смотри, вот эта сопля – это лейбл фирмы «Найк». Американской фирмы.
– Что за «лейбл»?
– Торговая марка, значок. Как на «Опелях» молния, а на «Мерседесах» – трёхлучевая звезда. А вот и надпись, свети.
– «Нисе».
– Найк. На штанах тоже, смотри. Надписи нет, сопля вышита. Не дошёл гостинец. Перехватили. Смотри, его сначала застрелили. Насмерть: три дырки в таких местах – многовато для жизни. Только потом повесили. Видно, геройски парень постоял, сильно немца разозлил. Одной смерти им мало показалось. Вот так, Кот! Сообщай нашим кураторам: невоспитанный ангел прислал весточку. Интересно, с какого года он сюда провалился?
Идти обратно смысла не было, пошёл в штаб, там и прикорнул на печи. Поднял меня вестовой. После короткого совещания с Саньком, который ещё и не ложился, вышел из штаба. Моя рота была уже тут, политрук, узнав меня, построил роту.
– Нам поручена очень ответственная и очень сложная задача, – объявил я, встав перед строем. – Более того скажу, мы опять идём в тыл врага и скорее всего все там погибнем. Поэтому я не могу приказать вам следовать за мной. Мне нужны добровольцы. Только добровольцы. Даю минуту на размышление. Кто пойдёт, два шага вперёд.
Первым шагнул Брасень, сразу же, без размышления. Вызвались младший политрук, все взводные и около тридцати человек. Не вызвавшихся я не винил – их черёд ещё не пришёл. Мы умрём сегодня, они – завтра. Но силком тащить никого не буду. Младшего политрука Ипполита оставил, рявкнув, когда он возмутился, приказал уводить людей.
– Добровольцы! Сдать документы, награды, письма и личные вещи в штаб полка. Брасень! Выдать всем недельный запас сахара и сухарей. С собой берём только сухари, сахар и боеприпасы. Всё остальное оставить! Полчаса на сборы. Время пошло!
Через полчаса короткий строй встал передо мной.
– Попрыгали!
Они удивлённо смотрели на меня. Я попрыгал на месте – ничего не звякнуло и не громыхнуло. А тем, у кого звякало, пришлось переэкипироваться.
Проводить нас вышел командир полка, подполковник Степанов.
– От вас зависит успех или неуспех завтрашнего боя, – сказал он моим бойцам, – и потери в завтрашнем бою. С вами идёт проводник из местных. Вы его уже знаете. Удачи, бойцы!
И мы потопали в ночь вслед за отцом Анатолием.
Выставил боевое охранение, возглавляемое одним из взводных, сам шёл в центре строя. Идти было скучно, задумался. Не об убитом спортсмене из будущего, а об особисте. Из-за этого попа и думал.
Действительно, я представлял себе особистов и НКВД вообще как некий аналог инквизиции, ордена живодёров и консерватизма. Находясь здесь уже полгода, ни разу не видел подтверждения этому. А уж сколько я с ними общаюсь! Обычные бойцы особистов или форму НКВД видят реже, чем Новый год, а они постоянно вокруг меня пасутся. И ни одного больного маньяка, какими чекисты показаны в кино и книгах. «Душители свобод». Вон, даже за все мои закидоны с меня не спросили, посетовали только, что от работы отвлекаю, и всё.
Хотя дыма без огня не бывает. Если авторская, творческая братия видела гэбистов именно такими, причём с редкостным единодушием, значит, что-то в этом есть.
А может, мне просто везёт на нормальных мужиков? Все встреченные мной чекисты – реальные, адекватные пацаны, каждый, конечно, с тараканами в башке, но кто, блин, без них? Кстати, чекистских тараканов ещё и поискать надо. Поднатужиться при этом. Да, определённо, мне везёт! Столько хороших людей встретить и узнать за столь короткий период времени! Конечно, говнюки и полные мрази мне тоже встречались, но я обычно жить им не давал. Блин, и НКВД знает о моей причастности к их смертям, но – ничего. Хожу тут, преумножаю безобразия.
Так в чём же дело? Вокруг меня самые «правильные» гэбешники в невероятной концентрации, а где-то за горизонтом сплошь нелюди и живодёры? Так бывает? Я что, Сталин, чтобы вокруг меня такие хороводы водить? Даже моё иновременное происхождение осталось для них тайной вроде бы. А может, пока тайна. И главный чекист Берия, растлитель тысяч невинных девственниц, заразивший каждую сифилисом, съедавший младенцев на завтрак живьём до подписания многостраничных расстрельных списков, еврей к тому же. А как известно, евреи ненавидят Россию. Не уснут, блин, пока не придумают, как бы русским нагадить за воротник. Как к нему относиться?
Чувак пашет, как проклятый, один волочет работу нескольких министерств. Да, я предупредил его о готовящемся покушении. И что? Он должен был защемиться в самый тёмный угол. Мрази они же жуткие бздуны. Все эти «прогрессивные», гомосексуалисты, умственно и психически неполноценные, маньяки явные и потенциальные, они же трусы наипервейшие. Берия описывался как типичный «прогрессивный», то есть ущербный. Должен жутко дорожить своей «особенной» шкурой. А он? Да, надел «доспех», но под выстрел подставился. А Сталин остался в Москве, уже практически захваченной врагом. Что думать о них?
В сентябре 2001 года, когда самолёты врезались в высотки в США, их президент неделю летал, не садясь нигде, на самолёте, так обделался. А глава Грузии, бегающий от тени с неба? Их поведение как раз и понятно – они главы государств, их жизни очень важны и ценны. А Сталин? Он не ценит свою жизнь? А если бы он погиб? Блин, представить жутко! Не поплывёт ли воля к борьбе народа? Не дай бог проверить! Кто сможет его заменить? Кто осилит эту ношу? Я бы не рискнул даже пробовать.
Надо отдать должное ещё одному деятелю этой эпохи, нашему злейшему врагу – Гитлеру. Его тоже выставляют психом, а вот трусом он не является. Это достойно уважения, хоть он и враг.
Ё! А Иосиф Тито, югослав? Он же сейчас партизанит. Это позже он станет большим человеком. А француз де Голль? Один из национальных символов Франции. Боевой генерал-танкист. Реально воюет. А кубинец Кастро вообще пример несгибаемости.
Это, что же получается, что сейчас эпоха гигантов? А наступит эпоха карликов? Похоже на то. А почему? Куда денутся гиганты? Как так получилось, что земля стала рожать только недочеловеков?
Нет, дело не в земле, не в небе, не в воде. В чём? А может, в этой творческой, психически неполноценной бригаде «талантов» и «гениев»? Ведь это их мысли и идеи, больные, нежизнеспособные, нам вбивали в головы в школе, с экранов кинотеатров и телевизоров. Почему эта всеобщая ложь маленьких ничтожеств стала доминировать, разрушать умы людей? Как эти ничтожества оказались при руле и рупоре? Как? Ненавижу!
Эмоции – это, безусловно, хорошо. Но что они меняют? Нет, конечно, я и не смогу изменить что-либо. Вот только я заметил, что даже один человек, узревший путь или придумавший решение, способен указать этот путь. Или подсказать решение тем, кто сумеет путь одолеть, а принятое решение воплотить. Надо думать, надо. Как говорил Козьма Прутков, зри в корень! Так в чём корень зла?
Тут меня догнал запыхавшийся Кот.
– Ты что тут делаешь? Я же приказал встретить куратора и всё объяснить.
– А как это без меня? Я тоже иду! А капитан-особист встретит и мою докладную передаст. Сами разберутся. А гостинец не сбежит и лишнего не сболтнёт.
– Это точно, – вздохнул я.
– А ты что это пригорюнился, Иваныч? Не замечено за тобой было предбоевой лихорадки.
– Не о том голова трещит…
И поделился я с Котом своими мыслями, замаскировав, естественно. Но голова Кота не болела ни секунды:
– Время ставит задачи, а задачи сами подбирают людей, способных их решить. Тяжкое время призывает великих людей, век расслабленный обходится карликами.
– Что-то не то ты сказал. Красиво сказал, не спорю, но меня больше волнует вопрос, почему ничтожества у власти, как они туда попадают? И что сделать, чтобы их там не было?
– Я же тебе говорю, будет нужда – и погонят ничтожеств. А нет нужды – плевать. Великими люди не рождаются, а становятся, совершая великие дела. А пока нет подобной задачи, они просто люди. Илья сидел на печи, Дмитрий Донской оброк собирал, Христос плотничал, а Магомет – пас скот.
– Сталин стихи писал, – кивнул я.
– Вот об этом молчи. О ныне живущих только хорошо или никак. Лучше никак.
– Но ведь есть в будущем задачи и угрозы глобальные. Там народ русский гибнет, а никто этого не видит.
– Ага, никто не видит. Это точно. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Не видят или не хотят видеть. Или глазки отведены. Так часто бывает. Если спящего резко ударить, он вскочит, и силы его удвоятся. От испуга и злости. А вот если нежно придушить, так и испустит дух, даже не дёрнувшись.
– Не видят угрозы, – задумчиво повторил я. – Великие не берутся за дела, глазки отвели. Блин, точно! Россия, победившая Наполеона, в упор не видела угрозы, пока не огребла в Крымскую войну.
– Слабый пример, – сказал Кот, но я его не слушал, думал вслух:
– Русский народ до сих пор не видит угрозы с Запада. Они нам и крестовые походы объявляли, половину наших земель сделали не нашими, а мы в упор не видим. Придушают нас тихонько. Иногда только лопается их терпение, и приходит очередной Наполеон. Огребают по шеям и опять травить начинают. В открытой схватке биться нелегко, но возможно, а вот рою ос не может противостоять и самый сильный боец.
– Травить?
– А если осы – люди?
– И что же делать с этим?
– Не знаю, командир. Может, ты придумаешь?
– Придумаешь… – я вздохнул. – Придумаешь тут. Ладно, придумаем, коли живы будем.
Дистанция боя (1942 г.)
– Товарищ лейтенант, есть батарея, – шёпотом доложил разведчик.
Я и сам уже вижу. Утром, ещё затемно, мы преодолели шоссе и услышали залпы орудий. Так на звук и пришли. Шесть пушек, похожих на наши 122-мм орудия, посылали снаряды на головы нашим соратникам.
– Стапятимиллиметровые лёгкие гаубицы. А там и там – зенитки, – доложил Кот, тоже ползавший в разведку. – Шесть гаубиц, две батареи 20-мм зениток.
Я достал карту, прикинул расстояние. Может, и не придётся штурмовать? По карте всё срасталось. Но гладко было на бумаге, а кругом – овраги.
– Связь с полком!
Когда радистка передала мне трубку, доложил:
– Медведь.
– Берлога Тамерлана, – ответила искажённо трубка, но вполне различимо.
– Нашёл я духовой оркестр. Шесть труб. Сопровождают два квартета шотландцев с волынками. Делянка 14–57, ракушка 6–8. Сможешь гороха отсыпать?
– Понял тебя, Медведь, 14–57, 6–8. Жди.
Ждать пришлось недолго. Вызвал меня уже не Степанов, а майор Кузнецов, позывной – Сверчок, начарта дивизии. А дивизионные Ф-22 сюда должны достать.
– Лови свечку, Медведь!
Я покрутил рукой над головой. Бойцы рассыпались и заняли круговую оборону. Увидев куст разрыва снаряда, закричал в трубку:
– Ты в путейской науке шаришь, Сверчок?
– Попробую.
– Тогда лови: столб – запад, три пикета – север.
Это значит, что нужно на километр вперёд и на три сотни метров правее. Почти получилось. Так я стал корректировать огонь. Добились накрытия сначала одной зенитной огневой, потом расколотили гаубицу, так и сдвигал я разрывы снарядов слева направо.
Немцы быстро просекли, что кто-то направляет огонь наших батарей, полсотни солдат стали прочёсывать окружающие возвышенности. Надо было уходить с этого бугра, но снег вокруг так сильно вытоптан, что смысла не было. По следам нас и найдут. Приказал одному взводному завязать бой и увести солдат противника в сторону засады второго взвода.
Остались на бугре с редкими деревьями только я, Кот и радистка.
– Медведь, Тамерлан вызывает, – доложила радистка.
– Слышит тебя Медведь, Тамерлан, – сказал я в трубку.
– Медведь, бери шотландцев, а за оркестром придут. Нашлись на него любители джаза.
– Понял тебя, Тамерлан, беру волынщиков.
«Любителями джаза» оказались звено толстолобых, короткотелых самолётов с двумя этажами крыльев и звено таких же лобастых и поджарых, но с нормальными крыльями.
– «Чайки» и «ишачки», – просиял Кот.
– Это что?
– И-15 и И-16.
Интересно! Я их только по телеку видел. Говорили, что это были очень надёжные и манёвренные, но безнадёжно устаревшие к началу войны истребители. Истребители. А что собрались делать эти истребители? С крыльев самолётов с воем и дымными трассерами сорвались и полетели к огневой ракеты. Ракеты? Блин, какой гибрид удава с носорогом – биплан и НУРС. А, ё-моё, это реактивные снаряды «Катюш», было такое, вспомнил!
Отстреляв НУРСы, самолёты стали штурмовать, расстреливая позиции противника из пушек и пулемётов. Молодцы наши отцы-командиры. Как истребитель не гож, будет ИЛ-2 для бедных! Был плохой истребитель, стал штурмовик. Из разряда «ну, хоть так».
– Тамерлан, «любители джаза» забирают оркестр, прошу разрешения на слив, меня тут зажали.
– Тикай, Медведь. Куда, к дому?
– Как пойдёт. Конец связи!
Я передал трубку радистке:
– Сворачивайся, Света, Кот и батюшка тебе помогут и рацию понесут. Место отката помните? Там и встретимся.
Я выпустил в небо красную ракету. Не знаю, как на неё среагируют лётчики, а моим бойцам это сигнал общего отхода. Моим бойцам не составило труда оторваться от противника, деморализованного обстрелом и налётом, да ещё и угодившего в огневой мешок засады, тем более что это была не пехота, а обслуживающий персонал с этих же батарей. Итог перестрелки таков: у нас один погиб, один тяжело ранен, Прохор его унёс, четверо ранены, но мобильны, а вот немцы недосчитаются как минимум десятка убитых и полтора десятка повезут в госпиталя.
К месту сбора (отката) подошли все. Даже убитого принесли. Молодцы. Наскоро жевнули, набили магазины патронами, отдышались, коротко посовещались и двинулись на север чащей вдоль шоссе. Так же, рейдовым порядком.
Настроение у всех было такое, что казалось, взлетят сейчас без крыльев. И пофиг на усиливающийся ветер, переходящий в метель! Ещё бы! Шли на верную смерть, но отец Анатолий провёл нас без неприятных встреч, штурмовать огневые гаубично-зенитного дивизиона не пришлось. Потери минимальны, а задача выполнена. Метель поможет оторваться от преследования. Всегда бы так!
В связи с отличным настроением пристал к священнику. Теперь, отмытый и переодетый, он не походил на бомжа. Борода и волосы были подстрижены, расчесаны. Но из-под фуфайки так же торчала тельняшка.
– С какого флота, отец?
Отец Анатолий посмеялся в бороду:
– Что, значит, раз нательная рубаха в полоску, то моряк?
– Ну да.
– Нательные рубашки потому и «тельняшка». В полосу особой вязки, благо к телу липнет, тепло хранит и, где нужно, тянется свободно, движения не сковывает, первыми их стали изготовлять и носить монахи русские. Потому «душой» эту рубаху и называют. И выражение тоже «за душой – ничего» от монастырских служек пошло.
– А цвет какой был?
– Чёрно-белый. Моряки так и взяли. Оказалось, что полосатость хорошо издали видна, глаз цепляется. Корабли как раз уже настолько большими стали, что на них стали служить сотни и тысячи человек. Капитану, да и друг другу надо видеть своих людей.
– А ВДВ сделают тельник в голубую полоску.
– Ага. Этот так и сказал. И ещё говорил, что особые части пехоты тельники наденут в красную полосу.
Я вздрогнул, непроизвольно руки потащили карабин на грудь. Одного взгляда на Кота было достаточно. Мой персональный конвоир стал похожим на рысь, изготовившуюся к прыжку.
Отец Анатолий усмехнулся, как взрослый при виде рассерженного ребёнка:
– Видение мне было. Что придёт ко мне необычный гость и ему будет нужна моя помощь. Он и пришёл. Тоже про тельник спрашивал. Сказал, что сам в каком-то «вэдэвэ» служил. Немцы у него на хвосте сидели, он оружие подобрал и устроил свою личную войну. Две недели он всю округу на ушах держал, машины на дорогах взрывал, немца из засад отстреливал. Я его раненого нашёл, видел, когда его перевязывал, наколку на плече – парашют, крылья и надпись: «ВДВ – 1976». Спрятать хотел, как и всех. В видении моём он у меня остался, а за ним пришли медведь с большим котом. Но он решил сам прорываться. Через день немцы его привезли убитого и всё одно повесили.
У меня зажгло в горле, запершило в глазах, я хрипло спросил:
– Когда это было?
– Осенью.
– Пошёл человек поперёк судьбы. Я – Медведь, это Кот. Это наши радиопозывные. Мы с ним спецгруппа розыска таких, как этот десантник. Кот – капитан осназа НКВД, я у них как гибрид катализатора и компаса, вывожу их на цель. Не дождался нас.
– Долго вы шли. Весна уже.
– Осенью, выводя ещё одного, я был тяжело ранен, Кот вообще ни о чём не знал.
– Вывел?
– Что?
– Того, кого вёл, вывел?
– Нет. Попали мы с ним под обстрел. Его насмерть, меня почти. А документы и вещи необычные вынес.
– Так есть вещи! Я всё сберёг. Там некоторые такие интересные! Он мне на плоском маленьком кинопроекторе парад Победы сорок пятого…
– Тихо! Совсем ни к чему подобные знания оглашать. Кот! – я повернулся к моему спутнику и увидел на его глазах слёзы. – Ты чего?
– Мы! Мы всё-таки победим! – оглушительно зашептал он.
Только тут я понял, что для меня сорок пятый и Победа – синонимы, а Кот владел знаниями только Голума. А там – тоска! Победы нет, Россия разгромлена, расчленена, порабощена.
– Кот! Сопли отставить! Приказ: доставить отца Анатолия до схрона с артефактами, предметы изъять по описи и передать Кельшу. И чтобы волос…
– Товарищ лейтенант! Танки! – громко зашептал подбежавший боец из дозора.
У меня внутри всё похолодело. Опять! Что за напасть! Как не вовремя!
– Кот, ты понял?
– Так точно!
– Исполнять! Ты, боец! Передай приказ взводным: занять круговую оборону. Где танки видел?
– Там. Там дозор наш. Мы шли, слышим рёв. Залегли, а там танки! Сержант меня и послал к вам.
– Ты получил задание – исполняй!
Сам я побежал к радистке:
– Светлана, связь срочно с Берлогой!
Боец, несший радиостанцию и флиртовавший с радисткой, тут же согнал улыбку с лица, метнулся к ближайшему дереву, поставил рацию и шустро полез с антенной и мотком провода на дерево. Я побежал к дороге.
По дороге шла колонна бронетехники, ревя, гремя и дымя сизым выхлопом. Трое бойцов вжались в сугроб, шустро вязали телефонным проводом гранаты. Сержант Шапиро сжимал противотанковую болванку, злыми глазами провожал технику врага. Когда я подполз, он повернулся, показал гранату и кивнул на дорогу. Я отрицательно покачал головой – от кромки деревьев до дороги широкая заснеженная полоса – незаметно не подберёшься, срежут сразу.
– Сколько?
– Танков одних восемь штук насчитали. А там и бронетранспортёры, и машины, и тягачи с пушками.
– Сидеть, наблюдать и считать. Не высовываться! Приказ понятен?
У Шапиро заходили жвалки, но он кивнул, опустив глаза:
– Ясен.
Я побежал обратно к рации.
– Есть Берлога, товарищ лейтенант, – доложила радистка, протягивая трубку.
Я сел на собственные ноги, развернул планшет, сказал в трубку:
– Медведь ищет Берлогу.
– Он нашёл Берлогу. Это Домовой.
Домовой – это сегодня начштаба.
– Я на делянке, – я назвал номер квадрата, – по верёвке идёт вереница жуков с прочими насекомыми. Уже прошло восемь хитиновых. Как принял меня, Домовой?
– Принял тебя. Про нашествие насекомых уже знаем. Возвращайся срочно, тебя ждут от Крестника.
Опа! НКВД пожаловало. Вовремя. Только они там, а мы – здесь.
– Крестникам привет! У меня для них леденцы в кармане. Где Сверчок, давай гороха подсыплем жукам?
– Сверчка и его подсыпателей оглушило эхом оркестра. Они бегут куда потише.
– Блин!
– Медведь, выходи на делянку, – он назвал номер, – там тебя ждать будут.
– Не с руки мне в тот огород. Верёвку перешагнуть пока не могу. Отбой!
Я отдал трубку:
– Сворачивайся, Света.
Подошли взводные и Кот.
– Что? – спросили они чуть не хором.
– Огня дать не могут, пушкам нашим прилетело эхо на сдачу. Немец – мастер контрбатарейной борьбы. На колёсах они, позицию меняют. А про танки они знают.
– Нам-то что делать?
– Вперёд нам смысла идти нет, там сейчас будет очень людно. На юг идём, обратно. Надо шоссе переходить. Выдвигаемся в том же порядке, только хвостом вперёд. Попрыгали!
Взводные стали прыгать. Я махнул рукой:
– Сейчас это значит просто потопали, пошли то есть. Брасень, дай мне данные по наличию противотанковых средств.
Оказалось, что у нас две противотанковых гранаты, две бутылки и стеклянная фляга с зажигательной смесью, десяток связок гранат. Я порадовался запасливости своих бойцов – ПТГ тяжёлая, чаще всего их просто «теряют», но моим бойцам понравилась она как универсальный ключ от всех дверей, за мощность и взрыватель мгновенного действия. А бутылки – выкуриватель дотов. Так что если нарвёмся, пободаемся даже с танками. Голыми руками нас не возьмёшь!
Шли медленно, осторожно. Метель скрывала нас, но и мы могли в ней нарваться неожиданно на неприятности, всё-таки близкий тыл врага. И хотя сплошной, да и просто плотной обороны у них не было, встретить меняющих дислокацию или заблудившихся тыловиков в нашем положении – верный кирдык. Механизированная колонна уже прошла, но по шоссе в любой момент могла пойти ещё какая-нибудь техника, автомобили или просто пехота. И что я, дурень, раньше не догадался шоссе пересечь? Ругал себя.
Вестовой доложил, что впереди на шоссе обнаружено ДТП – пара танков чинится и машина. Пробежался и поползал. Так и есть. Грохочут кувалдами и матами (наверное, у нас без них не бывает, а они чем лучше?). Один танк, что к нам ближе, вроде бы как Pz-III. Стоял почти посреди дороги, все люки открыты, двигатель работает. Поломок не видно. Механик сидит на броне, командир, судя по фуражке (как уши не отморозил?) на башне, свесив ноги в танк. За ним возились пяток человек в тёмных комбинезонах. А! Они трос цепляют!
За Pz-III стоял Pz-II, если не ошибаюсь. Гусеницы с него уже сняли, укладывали на танк. За ними обоими стоял большой и довольно уродливый трёхосный грузовик с жёстким тентом, типа наших вахтовых КамаЗов. Это же полевая реммастерская! Любой комбриг-танкист за неё правую руку отдаст не задумываясь! Надо брать!
Послал гонца за моим «военным советом». Порешили, как будем брать танки и мастерскую.
– Работаем, мужики! И, живее, пока немец занят! – завершил я совещание.
Палец на спусковом крючке подрагивает, пот заливает глаза, хотя жары нет – дыхание с паром срывается с губ и уносит ветром. Снег напильником дерёт лицо. Отряд готов, ждёт только моего выстрела.
А как по шоссе пойдёт колонна с войсками? А если немцы успеют в танках закрыться? Страшно, аж спина мокрая и капли вдоль позвоночника бегут в штаны. Не за себя страшно, за людей своих. Сам уже давно смерти не боюсь, боюсь людей напрасно сгубить.
Надо брать себя в руки!
Я уже совсем собрал волю в кулак и начал придавливать курок, когда рядом зашипел Брасень. Я замер в недоумении и ярости на него, затылок опять заломило. Но это хорошо, что я замер и не стал стрелять – я прослушал звук удара дерево об дерево – сигнал блок-группы о приближении противника. Замер не только я.
К ремонтируемым танкам подъехала колонна из трёх мотоциклов с пулемётами и двух тентованных грузовиков с солдатами. Второй мотоцикл от головы колонны остановился рядом с танком, стал перекрикиваться с танкистом на башне. В оптику я разглядел на шеях мотоциклистов металлические бляхи поверх прорезиненных плащей с поднятыми воротниками.
– Нас ловят. Фельджандармы, – прошептал я. Странно, думал, что их место в тылу, а тут фронт в досягаемости полковых пушек.
Меж тем танкисты и жандармы перебазарили, заулыбались друг другу, раскозырились, и жандарм, привстав, махнул рукой. Колонна тронулась. Танкисты же озадаченно совещались, собравшись в кучку. Удачнее не будет!
Я придавил курок, хлестнул мой карабин, и голова мехвода Pz-III взорвалась, как перезрелая тыква от удара сапога. Пристрелочные пули – вещь! Опушка грянула дружным залпом, штурмовые группы побежали справа и слева, охватывая фланги. Я тоже вскочил и побежал.
Внезапность нападения – жуткая вещь! Немцев было почти столько же, сколько и нас, но в нашу сторону не прозвучало ни одного выстрела, при их подавляющем превосходстве в вооружении. Итог: у нас потерь нет, немцы перебиты, двое сдались (и что с ними теперь делать?), захвачены два танка и автомобиль.
– Брасень! Организуй изъятие комбезов немцев и сбор трофеев! Всё делаем быстро! Трупы – в негодный танк. Кто умеет водить танк? Машину? Понятно. Кот, переодевайся в немца, поведёшь пепелац. Что глаза вытаращил? Исполнять! Ещё двое переодетых – в кабину. Я поведу танк. Сколько туда влезет? Кто хоть раз из пушки стрелял? Хорошо, наводчиком будешь. Отец Анатолий и рация с обслугой – в кунг.
– Куда?
– В рифму ответить, или сам домыслишь? В фургон!
– В танке не безопасней? – спросил Кот, выпрямляясь. Он стаскивал с немца комбинезон.
– Нет, Кот. Ты поведёшь гостинцы на базу, а я ещё повоюю. Света! Связь!
Когда радистка достучалась до штаба, сборы были почти закончены. Я доложил начштаба:
– Взял взаймы самокат и двух жуков. Один жук дохлый, один нормальный. Сколько у тебя жуков и чем они заняты? Хочу пристроиться к насекомым в хвост.
– Есть два свободных жука. Тридцать четвёртых. Не думаю, что тебе удастся.
– Таких жуков у «серых» тоже много. Шли! Погуляем! Не выйдет, так хоть верёвку перегрызут.
– Ты знаешь, как жуки тут нужны? Как воздух!
– Решай сам. Есть вариант суке под хвост трёх жуков запустить!
– Надо подумать.
– Не могу я думать! Давай точку выхода, чтобы самокат прошёл. Я на огороде…
Начштаба назвал, я посмотрел по карте. Двигаться надо на север.
– По машинам!
А сам не смог с первого раза влезть в люк мехвода. Пуза у меня не было, но слой одежды и «доспех» сделали таким объёмным, что пришлось в люк вворачиваться болтом. Влез. Сел на кресле, постарался экстренно вспомнить, как Мельник меня учил осенью водить как раз подобный танк.
– Это второй такой танк, захваченный мной, – сообщил я в головной телефон, – проверка связи.
Трое бойцов ответили, что слышат, двое сидели в позе макаронных изделий «рожок» и ответили голосом, вернее криком.
– «Панцер-три» называется. Я даже на нём метров пятнадцать проехал. А в следующем бою из такого же, из пушки, танк подбил. Кусок брони того «панцера» до сих пор в бедре ношу. А, вот! Поехали!
Поехали. Почти.
– Что-то мы тяжело идём!
– Командир, мы второй танк с собой тащим!
– Твою дивизию! Вылезайте, отцепляйте, огнесмесью подожгите! Что, я обо всём должен помнить?
Двое через верхние люки вылезли, но я продолжал ворчать:
– Отведи, приведи, всё придумай, пожрать найди, патрон найди, танк веди, огонь откорректируй! Я вам, блин, что, уникум? Надоели все!
В это время вернулись те двое, доложили:
– Отцепили и подожгли. Одну бутылку об двигатель разбили, одну – внутри.
– Надоели! Уйду я от вас! – продолжал я, но дал полный ход вперёд. Танк взревел двигателем и пошёл. Мягко, легко. Пусть и не быстро. Но это для меня не быстро, а взводный-раз, сидящий на месте командира танка и имеющий прекрасный обзор в круговые обзорные перископы, заорал от восторга. М-да.
– Командир, по курсу машина с антеннами.
– Ага, вижу. Это же нас ищут! Это радиопеленгация!
Я снизил скорость, понизил передачу.
– Наводчик, что заряжено?
– И пушка, и пулемёты.
– Балда! Какой снаряд? Бронебойный, граната?
– Я… Я не знаю.
– Пофиг! Наводи на двигатель, по попадании разберёмся. Заряжающий, замечай маркировку снаряда, она может не совпадать с нашей. Я дам короткую остановку – стреляем со всех точек. Ясно?
– Так точно!
Я тормознул, закричал:
– Огонь!
Жахнула пушка, застрекотали пулемёты. А снаряд оказался бронебойным, болванкой – прошил машину навылет. Я отпустил сцепление, двинул танк на грузовик, ударил корпусом, переворачивая машину.
– Запеленговывайте! Младлей, хлебалом не щёлкай! Сколько нам до развилки?
Взводный полез в планшет.
Провал резидента (1942 г.)
Танк двигался со скоростью пешехода. Вернее, трёх пешеходов. Метель ослабла, так, небольшие буруны смахивало с сугробов и несло через дорогу. Или того, что должно быть дорогой. На карте её нет, но отец Анатолий говорит, что танк пройдёт. Машину мы теперь тащили на тросе – она не могла пробиться через заносы. Танк тоже мог встать в любой момент. Не в снегу завязнуть (это же не Т-34), так провалиться во что-нибудь, снегом занесённое. Для этого и шли впереди отец Анатолий, наш Сусанин, и два бойца.
Шли внимательно и осторожно, потому медленно. Мы – с их скоростью.
Грохот пуль по броне я услышал раньше, чем выстрелы.
– К бою! – закричал я, захлопывая люк и дав газу.
Это была одна из засад немцев, очаг их обороны, выставленная на дороге. Танком проутюжил их окопы, раздавил противотанковую пушку, не дав её развернуть. И… провалился в блиндаж. Да так, что нос танка задрался в небо, а грузовик, так и последовавший за мной в атаку на привязи, врезался бампером в корму. Бойцы, посыпавшись из кузова, добили немцев.
Итог их засады на нас (или нашего налёта на них – мы вышли им в спину): двенадцать тел в серых шинелях и серых женских платках, уничтоженное 37-мм орудие, захваченный пулемёт. Потери с нашей стороны: обездвиженный транспорт – и танк, и авто, двое убиты, трое, в том числе отец Анатолий, ранены. Прохор тут же ими занялся.
– Занимаем круговую оборону! Померенцева! Связь!
Доложил «Берлоге» о своём местоположении и происшествии. Конечно, эзоповым языком. Обещали прислать помощь.
Пока ждали, помародёрствовали, но немцы и сами были как церковные крысы – без еды. Пожевали сухарей и снега. Замёрзли ещё больше.
Раздавленная землянка начала дымить. Видимо, в ней мы раздавили не только немцев и их припасы, но и печку. Обидно будет, если танк сгорит. С ним мы ничего сделать не смогли, а вот грузовик завёлся, и всей толпой его толкнули назад метра на два. Но дальше ехать не рискнули – по этой дороге он не пройдёт.
Через два с половиной часа (кстати, только сейчас обратил внимание, что это уже четвертый или пятый бой, а часы ещё ходят, что порадовало) прибежал дозорный, только что смененный:
– Гул двигателей с востока, наши!
– Не факт. Рота! К бою!
На нас вылетел широкогрудый танк с трапециевидной башней, ходко подминавший снег широченными гусеницами. Т-34. Вот ты какой!
Я развернул изрядно простреленное полотно флага с коричневым пятном крови. Пятно не будет отстирано никогда! Это честь для нашего знамени, а для нас честь – такое знамя!
Танк встал как вкопанный, но из-за него вылетел второй. Оба повернули на нас башенные орудия. Я их довольно невежливо и не литературно спросил об этом их занятии и их психическом самочувствии.
Из-за танков выбежали с десяток автоматчиков в белых полушубках, люки танков наконец открылись, показалась знакомая рожа – Кельш собственной персоной. Я в том же стиле спросил его, что старший майор ГБ тут, в тылу врага, делает, показав на раздавленное орудие, спросил о его психическом самочувствии и умственном развитии. Я также выразил сожаление, что столь высокоценный потенциальный «язык» не прибыл сюда на три часа раньше, и выразил соболезнование нашей армии, которая осталась бы без Кельша.
– Кузьмин, прекрати паясничать. Поехали, – махнул рукой Кельш.
«Шеф, шеф, всё пропало!» Вот и за мной явился «чёрный воронок». Теперь понятна причина явки лично Кельша, боевое построение танков, нервное поведение чекистов. Брать меня приехали. Ясно, что если окажу сопротивление, брать будут жёстко.
Я был в ярости от того, что маленько струхнул. Ясно, что явки и пароли провалены, я раскрыт. Но где я накосячил? В чём ошибся? Паника овладевала мной, что злило. Мысли метались по голове бешеной белкой, не находя выхода из ситуации. Это он здесь, под пулемётами моих людей, так мягко стелет. А там – запеленают, захомутают. А что делать? Если я махну рукой, мои пацаны их всех заставят снег перекрашивать в бордовый. А потом? Это измена. Что потом нам делать? К немцам идти? Самостоятельно воевать? На запад идти и партизанить? Зимой-то? Самое оно. Самому линять? Куда?
Гонор мой спал. Нет у меня иного пути. Только отдаться в руки чекистов. Смириться с судьбой. И будь что будет.
– Я арестован? – спросил я. Тут же услышав щелчки предохранителей и затворов за спиной, торопливо крикнул: – Отставить!
– Зачем? Ты удивился, зачем я приехал? Нам приказано доставить тебя немедленно. Если это был бы не я, а простой особист, то что, братоубийство? Им бы ты поверил?
– Мне и вам пока нечему верить.
– Это не арест, Витя. Даже не задержание. Это приказ. Твои гусарские забеги – это, конечно, хорошо, но ты срочно нужен для другого.
– Для чего другого? Я – командир штурмовой роты на выполнении задания. Не может быть другого!
– Это секретная информация! А ваше задание закончено. Вот приказ командира полка подполковника Степанова.
Кельш спрыгнул с танка, вслед за ним – танкист, зыркнул на меня, но побежал к немецкому танку. Кельш достал из планшета бумажку, я прочёл. Так и есть. Приказ вернуться в расположение штаба полка.
– Я планировал рейд своей роты на трёх танках по коммуникациям врага!
– Рейд будет, но без тебя.
– Без меня у них не получится!
– Не считай себя самым незаменимым.
– А что, разве это не так? За последние два дня сколько было у моей роты безнадёжных атак, обернувшихся невероятным успехом? Какое другое подразделение дивизии может похвастаться подобным? Нет таких? Без меня не получится! Я придумал, я и проведу! А после и поеду с вами, куда скажете.
– А голову твою бесшабашную продырявят, что со мной сделают, знаешь? Вот потому я и приехал, как ты сказал, в «туев тыл к долбаным фрицам». Поехали, Медведь, есть более важные дела.
– Кто роту возглавит?
– Младший политрук, как там его?
– Нет. Он политрук, а не командир. Не готов пока. Терентьев! – крикнул я.
Подбежал командир первого взвода.
– Принимай роту. Кто командует операцией?
– Капитан Головня, командир танковой роты.
– Терентьев, поступаешь в распоряжение капитана Головни. Как я понял, это тот, что в «панцере-третьем» лазит? Тебе всё понятно, ротный?
– Никак нет! – упрямо вытянулся взводный.
– Исполнять! – рявкнул я, тише добавил: – Потом поймёшь. Кот! Прохор! С вещами и отцом Анатолием – ко мне! Всех раненых – сюда!
Кот и Прохор принесли на самодельных носилках тяжело раненного священника. Жив он был только благодаря Прохору. Две пулемётные пули с такого расстояния здоровья не прибавляют.
– На чём мы обратно? – спросил я Кельша.
– Там сзади машина с взводом бойцов НКВД. Они придаются твоей роте на время рейда. На их машине и поедем.
Трофейный танк «тридцатьчетвёркой» вытащили из ямы, посадили в него экипаж из состава безлошадных танкистов, мои бойцы расселись на броню, и колонна из трёх танков и двух ЗиС-5 ушла по нашим следам назад, к немцам. Мои бойцы не спускали с меня глаз.
Мы, не на машине НКВД, а на трофейной реммастерской (которая, кстати, совсем не заинтересовала танкистов) по колее двинулись обратно. Через несколько часов бледный отец Анатолий показывал нам схрон, откуда мы извлекли паспорт гражданина РФ Смирнова Николая Сергеевича (Родина должна знать своих героев!), кварцевые часы, сотовый телефон Samsung, GPS-навигатор и ключи от авто «Рено» с брелоком-сигнализацией. Во всех гаджетах аккумуляторы были разряжены. Ещё имелась в целлофановом пакете тонкая школьная тетрадь на восемнадцать листов, исписанная мелким почерком и эскизами АК-47, танков и самолётов.
Всё это Кельш аккуратно упаковал, мы пожелали выздоровления отцу Анатолию, я простился с ним, Степановым, командирами штаба, Снегурочкой-Степановой, Прохором.
С тяжёлым сердцем я покидал фронт. Что ждало меня там, в застенках Лубянки? И хотя меня не связывали, конвой не приставили (кроме Кота), я остался в «доспехе», с карабином, двумя пистолетами и тремя гранатами, но считал себя лишённым свободы. Я попал в гигантские шестерни госмашины, стал из относительного хозяина своей жизни винтиком этого аппарата. Какая тут свобода?
Так где я накосячил? В чём ошибся? Как они меня вычислили?
Покер по-чекистски (1942 г.)
Ехали мы долго и нудно. Машиной, потом поездом. Кельш из обычного говорливого мужичка превратился в мрачную статую Будды, слова не вытянешь. Кот, как бывалый вояка, почти всю дорогу спал. Измученный неопределённостью своего будущего, устав переживать и мусолить одни и те же мысли по тридцатому кругу, я последовал его примеру. Но ехали мы очень долго. Уже и отоспались, оружие доведено до кристальной чистоты, форма и амуниция починены, а мы всё никак не прибудем. Куда мы едем так долго? По времени Урал должны проехать!
Нет, ехали мы всего лишь в Нижний, здесь называемый Горьким. Просто мы больше стояли или тащились с черепашьей скоростью, чем ехали.
И вот мы добрались. Но не в город, не на вокзал. На полустанке сошли и пересели в служебный ГАЗ-63. Это такой «уазик» этого времени. Здесь считается революционной машиной, копией не менее революционного «Виллиса», первого джипа. Попрыгали (вот почему его «козликом» называли) до какого-то посёлка, целиком окружённого забором из колючей проволоки и состоящего из типовых длинных зданий барачного типа. Зона.
Когда машина остановилась около одного из бараков, меня высадили в объятия сержанта ГБ, приказали отдыхать. Сержант провёл меня в одну из маленьких комнат этого барака, оставил, пообещав, что скоро ужин.
В комнатке стояла печка-буржуйка, рядом с ней бутылка с жидкостью, заткнутая газетной пробкой, поленница дров, двухъярусная кровать, сколоченная из довольно толстых, не струганых брусков и досок. Оба яруса были застелены бельём и коричневыми шерстяными одеялами. У окна (без решёток, кстати) стояли не менее грубые, но основательные стол и два табурета. Было светло и, в принципе, тепло. Я разделся, затопил буржуйку. Жидкость в бутылке оказалась соляркой для розжига.
Сержант принёс мыло, полотенце и комплект свежего белья, сказал, что удобства в конце коридора, но там холодно. Плевать. Блин, правда холодно! Да ещё и вода только холодная. Такой вот бодрящий душ. Это во мне человек двадцать первого века заговорил. Тут иначе не бывает. Холодная есть – уже хорошо. А могло быть и вовсе – из ведра мойся. Ага, в колодец сходи, принеси и так далее. Пока оттёр свою шкуру до удовлетворившей меня чистоты, зуб на зуб не попадал. А печка ещё не разогрелась как следует. Поэтому горячий ужин с горячим чаем пришлись очень кстати.
Когда согрелся, навалилась дремота. Лёг в постель. Сколько же я не спал вот так, в чистом да на чистом!
Разбудил меня тот же сержант, хлопающий дверью и ставивший что-то на стол. Я сел на постели, уставился на Кельша, снимающего свой китель около накрытого стола. Увидев мой взгляд, он усмехнулся, проводил взглядом сержанта из комнаты, бросил китель на верхний ярус койки.
– Надраться хочется, Витя, но с младшим по званию – сам понимаешь. Давай без чинов!
Я пожал плечами:
– От этого я генералом не стану.
– Да ладно. Те, кто с тобой мимоходом сталкивались, вообще уверены, что ты полковник.
– Ха! Крутовато! Ого! Коньячок я уважаю!
– Знаю. Я тоже. Хотя… И фронтовые не разведённые за милую душу идут.
– А я в боях не пью. Боюсь. Выпьешь – приятно. Но башка уже не так шарит, упустишь что – людей потеряю.
– Поэтому они за тебя и горой. Себя не бережёшь, норовишь каждую дырку собой заткнуть. А их бережёшь. Они это видят.
– Не вижу в этом особой заслуги. Каждый так должен.
– Должен, но не каждый так делает. Разливай, чего уснул?
– А что за повод?
– Обмоем мой провал, Витя.
Я не понял, но разлил, выпили. Спрашивать не стал – и так ясно, что сам расскажет. Надо ему душу излить. Лучше меня жилетки не нашёл? В принципе, логично. Я ни в одной обойме не состою, сам по себе, человек соображающий, но маленький, ничем не угрожающий и в падении Кельша не заинтересованный. Но не за этим же ты меня с фронта вытащил? Надраться?
– Знаешь, Виктор, – выпив вторую, начал Кельш, – когда ты пришёл и принёс сведения о будущём, у нас закружилась голова от открывшихся перспектив. Была создана рабочая группа по работе с иновременными явлениями. Мы занимались розыском и изучением уже найденного. Поначалу эта работа обещала грандиозные достижения. И вот прошло полгода. И знаешь что?
– Что?
Кельш выпустил воздух губами.
– Не может быть! – удивился я. – Должны быть результаты! Я вам принёс записи, предметы, рации, маленькие, мощные… Я нашёл ещё одного гостя из будущего, правда, опять не говорящего. Как же так?
– Более того, мы разыскали двух живых. Одного в дурдоме. Из двадцать второго века, но полный дегенерат. Задницу подтереть не может самостоятельно. Говорит на таком суржике, что понять невозможно. И ничего, ничегошеньки не знает. Полезность – ноль! Ещё один – из семь тысяч какого-то года. А, да, «от сотворения мира в Звёздном Храме». Лысый, с чубом из макушки, с мечом и кнутом. Пока брали – троих осназовцев порубил, четверых покалечил.
– Чуб этот оселенец называется. Волосы из родничка не стригутся с рождения до смерти. Не вздумайте его подстригать. Если воину обрезать оселенец – сам себя убьёт. Это потеря чести.
– Это у самураев.
– Это у предков наших. Воинов Святослава. Этот вой из нашего прошлого. Предок наш. И летоисчисление их таким было. И совпадает. Плюс-минус. Но ловок. Семерых смог обезвредить.
– Бойцы, бравшие его, говорят, что его меча почти не видели – так быстро им махал. И к боли нечувствителен. Был. Теперь обычный.
– Так вам вообще достался дружинник. Высшая воинская каста. Это был боевой транс.
– Что?
– Состояние изменённого сознания. Когда скорость реакции и все внутренние процессы настолько сконцентрированы и ускорены, что даже с пробитым сердцем такие могут до нескольких минут биться с огромной силой и ловкостью.
– Слушай, откуда ты это знаешь?
– Николай Николаевич, как вы этого не знаете? Это же наша история, прошлое этой земли и нашего народа! Скандинавы таких берсерками называли.
– Ладно. Ну и что? Что толку? Фехтованию у него учиться?
– Навыкам боевого искусства. Оружие, которое всегда с тобой – ты сам. Если умеешь владеть своим телом, а такие гридни умели как никто – автомат только увеличит твою мощь. Вот этому он бы ваш осназ и научил.
– Этому можно научиться? – удивился Кельш.
– Наверное. Я-то научился.
– Ты? Ты тоже так можешь? – Кельш вообще охренел.
– А как я, по-вашему, на пулемёты в атаку хожу? Один здания зачищаю? Тут одно «но» – если вовремя из этого не выйти, то энергетический коллапс, разрыв сердца, сосудов мозга.
– Ах ты, шельмец! И давно это с тобой?
– С детства. В бане перепарился, время замедлилось. Так оно каждый раз кажется. И в момент сильного стресса. Испуг, например, или злость. Я называю это яростью. Когда я разозлюсь, это легко происходит. Как рукопашкой стал заниматься, так это и стало развиваться.
– Когда это ты рукопашным боем занимался? – насторожился Кельш.
– А-а! – я погрозил ему пальцем, разлил ещё. Решил сменить тему: – А предметы оттуда? Армии очень нужны подобные «Моторолам» рации. Лёгкие и компактные.
– Компактные? А-а, англицизм.
– Маленькие. Вы на мои слова и вообще на личность мою сильно не отвлекайтесь пока.
– Я понял уже. С рациями ещё более-менее, а с остальным – сложно. И с рациями. Произвести их невозможно. Наша промышленность на это пока не способна. Нужны огромные средства, чтобы появились нужные мощности. А их, сам понимаешь, нет. Учёные почесали затылки и дружно покрутили головами.
– Так я и думал. Как говорил один пакостник, объективные предпосылки. Но чем больше я об этом думаю, тем чаще мне в голову приходят слова ещё одного моего знакомого: тупики только в головах. А вот как пробивать тупики в головах, я знаю только один способ.
– Выпускать проветриваться мозги? Наслышан. Незаконно, но быстро. Не лечит причин, только на время снимает последствия большой ценой.
– Знаю, – кивнул я, разливая ещё по одной, – но мне и нужен был временный эффект. Цель определяет средства.
Мы выпили, Кельш, шумно занюхав, продолжил:
– Так что положительных результатов мы добились весьма ограниченных, а вот цена этого…
Он тяжело, горестно вздохнул, сам разлил остатки из бутылки, поставил её под стол (а я думал, что эта традиция из моего времени), сказал:
– На волне эйфории мы привлекли такие ресурсы! А как оказалось, просто отвлекли. Огромнейший аппарат сработал почти вхолостую. Благодаря тебе, я вознёсся из рядовых, в общем-то, сотрудников, в главу группы особого назначения. А теперь…
Он махнул рукой.
– А я-то вам зачем?
Он каким-то фокусным приёмом извлёк на свет ещё одну бутылку, сам распечатал, сам разлил, сказал, когда коньяк оказался в желудках:
– Когда первоначальный ажиотаж и бардак утрясся, пошла целенаправленная работа. Чуть не сказал «плодотворная». Так вот, был составлен перечень признаков гостинца для рассылки аппарату на местах. И знаешь что?
– Что?
– Кто оказался в лидерах отчётов?
– Я?
– Точно. Ты попадал по всем статьям. Почему?
– Почему?
– Нет, это я у тебя спрашиваю!
– А вы вопросник не с меня писали?
Кельш заржал довольный, разлил опять, продолжил:
– Вообще, гостинцев больше. Но они прячутся, усиленно маскируются. Многие пытаются покинуть страну. Живыми не сдаются. И ни один сам не пришёл.
– А что его ждёт? Участь экспериментальной крысы? Начинки банковского сейфа? Кольца всевластия, владеть которым тяжело, но врагу, а тем более другу, отдать ещё боязней? И вы удивляетесь, что дураков нет?
– Почему сразу так?
– А как? Если вы словите гостинца, какая судьба его ждёт? Нет, Николай Николаевич, себе, только честно, самому себе ответьте, что его ждёт? Кем он станет? Останется ли он свободным человеком, да и человеком вообще? У себя спросите: владей старший майор госбезопасности Кельш информацией о пути развития оружейных технологий на ближайшие двадцать лет, а в комплекте биографиями своих непосредственных начальников, их начальников, а также их будущих гонителей и хулителей, включая детали, которые станут известны только после смерти этих деятелей, а сейчас, естественно, жутко секретных, какая судьба ждёт старшего майора госбезопасности? А когда всем значимым фигурам на доске станет ясно, что смерть Кощея уже не в игле, яйце, утке, зайце, щуке, сундуке за семью замками в тёмном-тёмном лесу, а в голове одного конкретного человека?
Кельш, невидящим взглядом смотрящий в стену, передёрнул плечами.
– М-да!
– А они за подобной судьбой в очередь выстроятся? Кто поумнее – прячется от вашего всевидящего ока.
– Но как они не понимают, как важны их знания для страны!
– Так ли важны? У вас в руках множество знаний и предметов их, иного, времени. И все они – образцы иных технологий. И что? Кому это надо? Ученые, говоришь, головами покрутили? Суки! Правильно их гэбня в шарашках гноила, интели поганые. Блин, нам враг не нужен, нас наша же «элита» постоянно и гробит, мрази! Была аристократия – вырезали, стали партфункционеры, огромный госаппарат, командование армии элитой, но тоже, блин, гниль и гной. Мразь вырезали, мразь новая пришла!
– Но-но!
– Ули но-но! Ты не делай вид, что я не прав! Ты и сам так считаешь! Для проформы мне «но-но!», должность обязывает? А когда говном этим захлебнёмся, опять Сталин будет виноват?
– А Сталин-то при чём?
– А ты у гостинцев спроси! Мой был уверен, что Сталин во всём виноват. Один! Это он в тридцать седьмом лично пятьсот-мильонов-невинно-убиенных лично расстрелял. И немец в Москве оказался, потому что Сталин лично таких «гениальных» полководцев расстрелял, как Тухачевский, Якир и других засранцев, фамилий не помню. Это тот Тухачевский, что тамбовских мужиков газами травил? Тот, что запретил танки радиофицировать? Тот, что разработал теорию пехотного тарана? Тот, что требовал сотню тысяч самоходных самоваров без радио, без топливо-, маслозаправщиков? Без мобильных мехмастерских? Без транспортно-заряжающих машин? Без бронированных командных машин? Без бронетранспортёров для мотопехоты? Этот гений кабинетный? И чего стоили эти сотни тысяч танков с противопульной бронёй без материально-технического обеспечения, без поддержки артиллерии и авиации, без пехоты? Первая же неделя войны показала – ничего они не смогли. Боевая стоимость – ноль, а для страны они дорого стоили. Очень дорого. Сколько автомобилей, грузовиков можно было сделать из этого же металла за эти же человеко-часы?
Я сплюнул, вскочил, расхаживая вдоль нар, декламировал:
– Это эти учёные качали головами? Или те, что строили сверхтяжёлые самолёты со скоростью полёта раненого петуха? Без радио, без герметизации, без защитного вооружения, без… Без всего! Им, да и вам, товарищи чекисты, дали образцы радиосвязи, уже выпускающиеся нашими заклятыми друзьями за океаном. Связь и взаимодействие родов войск – основа боевых действий сейчас. И что? У янкесов есть технические возможности, а у наших – умственное бесплодие? Опять пехотными колоннами воевать будем? А бабы новых нарожают? Не нарожают. Баба теперь хитрой станет. За подобное отношение к её детям вам широкую и глубокую узду покажет, но рожать на убой не станет. И этим учёным всё равно – красные, коричневые? Главное – пайка посытнее да звание погромче? Ах да, и признание заклятых западных друзей! Как же я забыл? Признание народа? На фига? Народ – быдло! Вот на Западе – народ! А тут – скот!
Кельш с интересом меня разглядывал. Когда я выдохся, спросил тихо:
– А что делать надо?
– И это вы у меня спрашиваете, товарищ генерал? У меня? Старшины, лейтенанта, ротного командира? Серьёзно рассчитываете, что я вам помогу?
Он по-прежнему смотрел с интересом и немного насмешливо. Я сдулся:
– Я не знаю, Николай Николаевич. Не знаю. Много думал над этим, но ответа не нашёл. Эти уроды – сорняки рода человеческого…
– И решил действовать привычно.
– А давай я тебе сказку расскажу. Живут соседями два мужика. Один – агроном, другой – просто крестьянин, мужик. Мужик огород с картохой руками полет из года в год, а агроном посмеивается. Привёз пакетик с названием из шестнадцати букв, мужик и прочесть не смог. Агроном развёл в воде и огород опрыскал. Сор весь и повял. И расти перестал. Мужик сорняки дёргает, а агроном посмеивается. На следующий год – опять то же самое. На третий год сор от химии не завял, а ещё пуще разросся, а вот картоха уже третий год на вкус – как трава. А мужик почесал затылок, жевнул варёной картохи, да обратно траву стал дёргать.
– Сказочник.
– Сказка – ложь, да в ней намёк. Полоть огород надо. Ручками, индивидуально, товарищ старший майор госбезопасности. Если этого не делать, культурные растения будут задавлены сорняками, более живучими благодаря своей бесполезности.
– И ты решил полоть.
– Если структура, созданная для этой цели, не делает этого?
– А что делает?
– Хрен его знает. Но бойцы на фронте и в тылу голодают. На огневых нет снарядов, а склады, битком забитые снарядами, врагу оставляем чуть ли не под роспись. Я что, на это смотреть буду? Крыса тыловая харю отъедать будет и амуницией фарцевать, а мои бойцы на дрожащих от голода ногах в атаку с одной обоймой ходить? Заводы месяцами гнали бракованные бронебойные снаряды – это тоже нормально? С этим кто должен был разбираться? Партия? Военные? Так руководство цехов и заводов, конструкторы и технологи – они беспартийные или белые? Может, враги? Агенты сионизма? Нет, просто раздолбаи. А военная приёмка смотрела на снаряды или на ящик с магарычом? Где ваш аппарат? Или это не имеет отношения к госбезопасности, ко внутренним делам? А сотни пацанов, сопли и слёзы от страха размазывая по прыщавым мордам, под танки с гранатами ложились, крича: «Мама! Я жить хочу!» Они жить хотели, а пропустить немца не могли! А батарея позади них бессильно лупила липовыми снарядами по крупповской броне. Пацаны эти – герои! Они чудо-богатыри. Они все в землю лягут, но добудут победу для гениев кабинетных и крыс тыловых. А дальше? Чьи дети будут расти после войны? Чью кровь они несут в себе, героев или крыс? Кто воспитывать их будет? Чьи песни они будут слышать? О героях былых времён, о безнадёжных, но победных атаках, о таранах и подрыве себя и врагов последней гранатой, или писк крысиный? Кто станет им образцом для подражания? Какой мир мы так создадим?
Кельш молчал. Молча налил, молча выпили. Стоя. За ребят. Больше говорить я не хотел. Кельш тоже. С какой-то мрачной решимостью он накачивался коньяком. Я притормозил – был уже изрядно пьян. Мир покачивался и мерцал, но мысли я контролировал, хоть и с трудом и медленно, но думал.
И всё же, зачем я ему? Не просто же надраться в моей компании ты меня сюда привёз? Блин, я что, это вслух сказал?
Кельш, качаясь на стуле с довольно сильной амплитудой, погрозил пальцем койке, мне, двери, опять мне.
– Кто ты, Кузьмин? Вот не пойму я тебя, – сильно заплетающимся языком спросил Кельш, – ты вроде свой. Воюешь даже не геройски, а вообще непостижимо удачливо, врага бьёшь так, что Медведя знают немцы больше, чем командиров наших армий. А с другой стороны посмотреть на тебя, насквозь ты чужой. Совсем чужой. И так рассуждать о людях, стране, госбезопасности и партии может только чужой. Не чужой, нет, неправильно сказал. Человек со стороны, отрешённый, так вернее. Свои так не говорят. Кто ты, Кузьмин?
Вот и довёл меня язык до эшафота! Лучше бы мне его осколком отрезало!
Кельш вскочил, перегнулся через стол, опрокидывая снедь, схватил меня за грудки, рванул так, что свежее, но сильно застиранное бельё затрещало. Глаза его в ярости налились кровью, выпучились. Заорал мне в лицо так, что стёкла задрожали:
– Кто ты? Кто ты?!
Я даже не успел осмыслить свои следующие действия. Рефлекс сработал. Ненавижу, когда на меня орут, тем более хватают за грудки, брызжут слюной. Одним движением освободился от захвата и толкнул Кельша. Неожиданно он отлетел к стене и существенно приложился об неё затылком. Да так, что сполз по стене без признаков разумности.
Бить вышестоящего по званию – трибунал. Бить старшего майора ГБ, равного по званию армейскому генерал-майору – возможен расстрел на месте, до трибунала. Да и просто глупо вышло – Кельш нормальный мужик, хоть и чекист. Поэтому я поднял его на руки и положил на свою койку. Он как раз открыл глаза, осуждающе уставился на меня.
– Кто ты?
Я глубоко вздохнул. Вот упертый.
– Я – Данилов Виктор Иванович, 1978 года рождения.
По широко открывшимся глазам Кельша я понял, что лажанулся. Такого ответа он не ждал. Он резко сел, потёр лицо руками, пощупал затылок, скривившись, опять глянул на меня как на полтергейста – удивлённо-неверяще, убежал.
Внутренний мир лабораторной крысы (1942 г.) Размышлизмы патриота (либерастам – не читать)
Я сразу же пожалел, что раскрылся. По уму, надо было ещё ваньку повалять, но… Так надоело! Нет, я не испугался нисколько и ничего. Нет, он не купил меня этим пьяным спектаклем. Просто обрыдло! Устал я от роли чужого среди своих. А они мне своими были. Или стали своими. Надоело шифроваться каждую секунду, даже во сне, постоянно, даже выпив, фильтровать базар. Изобретать легенды одну невероятней другой. Родине моей тяжело, я могу помочь. И помогу, постараюсь помочь, чего бы мне это ни стоило.
Думаете, я «квасной патриот»? А я вот не знаю. Я люблю Россию. Просто люблю. Не потому, что это моя родина, мой дом, земля моих предков. Вернее, не только поэтому. И даже не потому, что это – лучшая страна на свете (тем более что это не правда – не лучшая). Русь не является ни самой богатой, ни самой красивой, ни самой комфортной. И я точно знаю, что не будет. Ни одно из «самых-самых» ей не светит, потому что не идёт ей. Россия и звание «самая-самая» так же совместимы, как корова и седло. В принципе можно. Но – неестественно.
Конечно, взгляды свои я редко скрывал, особенно свой патриотизм. Надо мной смеялись дураки, задавали вопросы умнеющие, пожимали плечами умные. Патриотизм так же естественен для разумного человека, как честь, достоинство, благоразумие. Более того, друг без друга этих моральных качеств не бывает. Но вопросы задавались, а заданный вопрос требует ответа, хотя бы самому себе. Поэтому я много думал над вопросом – почему я люблю Россию? Ответ, на первый взгляд, очевиден, но не найден до сих пор.
Это как с любимой женщиной. Ты любишь её, хотя она наматывает твои нервы на свой кулачок. Ты прекрасно видишь и знаешь (ибо не дай бог задеть!) все её изъяны и слабости, но любишь. Терпишь профилактические истерики и любишь! Не имеет значения, что себя она не считает красивой, умной, послушной. Явно не идеальная женщина. Но тебе-то по хрен! Есть только она и бледные существа женского рода, скучные и неинтересные. С ней жить – тяжело, терпеть её сложный характер (свойственный всем высокоорганизованным личностям, но перемноженный на женскую психику в степень возведённых типично женских тараканов в мозгах) – трудно, но без неё жизнь скучна и пресна. Без неё – не жизнь. И биться за неё ты готов до последней капли крови. Своей или противника. Моя любимая где-то далеко, за десятками лет, возможно, потеряна навсегда, но она – в сердце моём. Не получится у меня здесь… Что ж, во снах-кошмарах я очень живо видел, чем всё закончилось.
Так же и Россия. Жить в ней – судьба тяжёлая. Жить для неё – подвиг. Жить без неё… Это жить без души. Это не жизнь. Пустоту внутри наши эмигранты заполняют деньгами, сексом, яркими, но мимолётными впечатлениями, работой. Но рано или поздно бездна расширяется и проглатывает человека. С точки зрения западного человека, все выходцы из России или психи неуравновешенные, совершенно не чтящие законов, не ценящие жизнь, ни свою, ни других, или мрачные депрессивные философы (вторая стадия того же явления). И всю голову сломали – с чего вдруг? Они не понимают, почему нельзя жить и просто наслаждаться жизнью. Не понимают, что этого мало. Что жизнь ради тела превращает русского в скота, что русскому жить надо ради чего-то большего, а вот чего – ни один русский не может объяснить. Нет, они много и пространно рассуждают о «пустых» (по мнению западного обывателя) вещах: душе, чести, достоинстве, доблести, любви – в общем, о пустых, абстрактных понятиях, совершенно бесполезных и даже вредных для бизнеса.
Понимать нас начинают только иностранцы, прожившие в России, среди русских несколько лет. Если выдержат. Наша страна их сначала доводит до самых глубин самых отрицательных эмоций, а лишь затем, если не сбежали, открывает для них новый мир. И потом они так же искренне не понимают, как можно жить без этого?! Они становятся русскими. Я общался с такими. По душам общался. Они сравнивали это с переходом с обычного телевидения на цифровое, с пересадкой с вазовской «шестёрки» на «беховскую» (такие убогие у них сравнения получились, с них спрос). Пока двигаешься к лучшему, да, прикольно, душа твоя недолго порадовалась, привыкла. А вот обратно – как против шерсти! Никак не приемлемо. С БМВ в вазовскую классику? Вот и эти «русские немцы», уехав в Дойчланд с ужасом побитыми собаками, переезжали в Россию. Плакали, проклиная её. Жить русскому в России тяжело, вне её – невозможно.
Но самая большая беда не в этом. А в том, что жители остального мира знают об этом подспудно и ненавидят русских, как ненавидят калеки с рождения всех нормальных. Они и есть душевные калеки. Но пока рядом нет русских – им кажется, что они нормальные. Но даже не это страшно, а то, что любой из этих «калек» может стать нормальным. Только это тяжело. Обрести тяжело, жить с этим ещё сложнее.
И мир сделал вывод, пойдя не по пути усложнения сущностей – это тяжело, а по пути наименьшего сопротивления: сделаем калеками всех, тогда никто не будет калекой. Так началась война на истребление Руси и русичей. Война Света (Русь – в переводе с русского на русский «свет», «освещённое место») и Тьмы. Война Порядка и Хаоса. Сложности и Простоты. Развития и Энтропии, Жизни и её противоположности.
И тысячи лет война, Война без особых причин…В процессе этой войны Русью потеряны многие территории, сотни самобытных народов, целые культурные пласты. Всё старательно вымарывается, выпрямляется, подгоняется под единый стандарт. Потомки рода Ворона из земли своего имени (Воронция) в 1812 году пришли на Русь. Жизнь в тот раз была сильнее. Потомки славных воителей с Бранного поля (Бранденбург), предки которых основали рыбачий городок, назвав его в честь инструмента ловли рыбы бредня (современное название Берлин – «Линия (улица) ловящих бреднем»). Они упростились, жить стало легче, опять пришли. Плохо им сейчас. Россия рвёт им их сознание, русские – их тела.
Италия, заселённая этрусками (эти – русаки), Франция Воронцов, Германия, Австрия, ещё сто лет назад не скрывавшая своего славянского происхождения, а сейчас онемеченная, Польша, заселённая полянами, они же половцы, Украина, она же Окраина, теперь не хочет напрягаться и жить. Они все захотели существовать. Не жить, просто существовать. Бездумно, всласть желудка и половых органов.
Русы каждый раз пожимали плечами – ваше дело, живи так, как хочешь! Но они до сих пор не понимают, что существовать, как они хотят, пока есть «эти» русские, они не смогут. Они чувствуют себя неполноценными. И отвечают с позиций хаоса – силой. Они не могут иначе. Не может более простая структура подчинить более сложную. Только разрушить.
И пусть все эти размышления выглядят пафосными, но я действительно так считаю, и это моя сущность. И никто об этом не знает, кроме тех, кто не поленился и прочёл эти строки. И если говорю об этом, то только в виде баек и сказок, которые пафосно не воспринимаются.
Внутренний мир лабораторной крысы (1942 г.) Когда карты открыты
Так вот, возвращаясь к повествованию, должен сообщить, что я действительный патриот. А мой прокол стал результатом, хотя и непреднамеренно спонтанным, но вызревшим после долгих раздумий. Я сделал вывод, может быть и ошибочный, что сами по себе знания без носителя (оператора) знаний – человека – малополезны. Такие же выводы были сделаны и НКВД, поэтому я был изъят с фронта. Да, все эти технологии заинтересуют когда-то кого-то, но мне надо сейчас. Мне надо, чтобы это помогло нам в нашей борьбе. А так как НКВД не смогло привлечь живых попаданцев, придётся делать всё опять самому.
– Если не я, то кто? – вздохнул я, смотря в закрывшуюся за Кельшем дверь. – Лозунг ежанутых! Какой же я ежанутый! Чё опять я-то? Почему вечно все успели попрятаться, а я опять доброволец? Судьба-злодейка!
И я запел «Чёрный ворон». По настроению.
Утром явился потерянный Кельш, не похожий сам на себя.
– Николай Николаевич, как вы себя чувствуете? – вскочил я. Что ни говори, а устав стал въедаться в меня.
Кельш зло посмотрел на меня, сграбастал собственный мундир, забытый им на верхней полке, надел, сел на койку, взмахом руки приглашая сесть рядом.
– Мы проверили тебя сотню раз. От рождения до этого момента ты не остался без внимания ни на секунду. Чутьё моё и Кремня прямо кричало, что ты чужой, но подтвердить не могли.
– Кремень – это Степанов-старший?
– Он. Как так получилось?
– Не важно. Что теперь думаете делать со мной? Препарировать?
Кельш долго молчал, ероша короткие волосы на голове.
– Смысл? Ах, как Кремня не хватает!
– Так вызовите.
– Я не умею призывать мёртвых.
– Как? Когда?
– Два месяца назад. Погиб. Авианалёт.
– Как жаль-то! А что ж Санёк молчал?
– У него и спросишь. Что ж делать с тобой?
– Я готов работать! Только вот содержимым сейфа становиться не хочу.
– Я тебя понимаю. Ты знаешь, что-нибудь пока можно придумать. Пока никто, кроме меня, не знает. Надеюсь, ты бежать не собираешься?
– Нет. Нам дан реальный шанс помочь стране, используя послезнания.
– Что?
– Знания прошлого из будущего. Этим шансом надо воспользоваться. Я вижу, у вас не очень получается.
– Не совсем так. Я вчера слегка сгустил краски, надеюсь, ты понимаешь для чего.
Я усмехнулся. Развёл меня чекист. Сыграл не на моих слабостях, а на моих «сильностях» – на патриотизме.
– Понимаю. Только для чего? Результат же вас сильно удивил. На другой рассчитывали?
– Действовал по наитию. И ни на что не рассчитывал. Чувствовал, что есть, что в тебе раскрыть, чуял как.
– И как?
Кельш хмыкнул:
– Ты мне симпатичен. И как человек, и как товарищ, как соратник. Своими действиями ты подтвердил, что достоин доверия. Это была последняя проверка. Слабостей твоих не нашли, решил действовать на особенностях.
– Патриотизм?
– Обострённый. Даже болезненный. И общая эмоциональная невыдержанность.
– О-па! Что-то новенькое!
– Да, а ты как думал? Чекист из тебя не выйдет. Слишком прямолинеен. Хотя в качестве армейского командира цены тебе нет.
– Вот и отпустите меня на фронт. Польза будет.
– А здесь? Здесь разве не будет больше пользы?
– Где «здесь»? Там враг, его бить надо, а не разговоры разговаривать.
– Я руковожу отдельной, особой аналитической группой. Мы систематизируем всю информацию о технологиях будущего и ищем пути их наискорейшего применения.
– И как, получается? – ехидно поинтересовался я.
– Не заметно?
– Нет, – пожал я плечами.
– А радиостанция, с которой ты на днях в рейде бегал? Корпус старый, а начинка – другая. С довоенной ты бы и двух часов на связи не остался. А в метель – за пять километров – только ключом.
Я хмыкнул. Да! Великое достижение.
– Витя, критиковать может каждый. Помочь можешь?
– Не вопрос. Что надо делать?
– Я рад, Виктор, что не ошибся в тебе. Ну, для начала мне нужно понять, с чем я имею дело, вернее с кем. Расскажи о себе. О том, другом себе, которого я не знаю.
– А там я такой же. Родился на Урале, учился в маленьком райцентре, в том самом, где Степанов впряг меня в вашу систему. Там же закончил местный экономический факультет сельхозуниверситета. Работал экономистом, грузчиком, плавильщиком в литейном цехе того завода, где мне сделали «доспех», в этом же цехе был мастером, начальником производства, потом завод развалился, и я стал путейцем. Железную дорогу ремонтировал. Ах да, в армии не служил.
– Как не служил?
– Вот так. Ни дня. Зрение у меня плохим было. В военное артучилище не взяли, я их и послал.
– Как послал? Нет всеобщей воинской повинности?
– Есть. Но откосить, откупиться можно. Колян Коляныч, ты не представляешь, что там за жизнь! Вот ты говоришь, болезненный патриотизм. А если тебе, дитю неразумному, в седьмом-восьмом классе школы на каждом уроке учитель твердит, что русский народ – пьяное, ленивое быдло, что вся история России – история нелепости и варварства, деспотии и кровавости. Всё хорошее в истории произошло только за пределами моей страны, а мы способны только в грязи пьяными валяться и грязью святых иностранцев обрызгивать. Я ещё ребёнком был, сидел и недоумевал. Как? Как быдло смогло освоить половину земного шара? Как мы побеждали всех имеющихся Наполеонов, такие безрукие? Мне она говорила, что Гитлера мы трупами завалили, что чекисты людей в атаки под пулемётами гнали. И победа наша – недоразумение. Не может ублюдочное, ленивое быдло победить самую цивилизованную нацию мира. Это оба моих деда – быдло? Одного я так и не увидел – он умер от ран. А вот другого застал. Он был тоже искалечен. И даже на пенсии вставал раньше всех и искал, именно искал себе работу. По дому, во дворе, по хозяйству. Это он – быдло? А я – его внук, во мне его кровь, он во мне. Я тоже – быдло? Никчёмный? Ошибка природы, сбой генетического кода? Я возмущен был до глубины души.
– Этот человек в школе преподавал? – удивился Кельш.
– Ага. Более того, так было написано в учебнике. А его утвердили в министерстве, в Москве. И это была позиция нашего правительства. Подобное дерьмо лилось со страниц газет, с радио, телевизора – отовсюду. Твоя позиция какая была бы?
– А куда смотрели органы?
– Какие? Внутренние? Печень-почки? Не смеши. С них всё и началось. Они первыми переродились. Наверное, все настоящие чекисты до конца войны в земле оказались.
– Понятно. Об этом мы подробнее поговорим. Тогда мне не понятно, как ты смог так грамотно воевать, если даже в армии не был?
– Не знаю. Делал то, что считал необходимым. То, что считал наиболее разумным и правильным. Ха, знал бы ты, что там у нас была за армия! Армия превратилась в один большой агрегат для производства жизненных благ для комсостава. За два года ребята, что вернулись, не были ни на одних учениях, по два раза за два года стреляли из стрелкового оружия, зато научились великолепно переносить побои. Драться не умели, а вот сносить побои – умели. Мозги им за два года отшибали напрочь. Тогда я думал, что в этой армии делать нечего.
– А сейчас?
– Сейчас… Сейчас я здесь. И здесь другая страна, другое государство, но народ всё одно мой. И большевики в меня вселяют надежду, за это стоит бороться. Я знаю, многим здесь большевики отдавили причиндалы, многие обижены. Они альтернативы не видели. Не знают хищного оскала капитализма.
– Об этом мы поговорим позднее и подробнее. О себе расскажи.
– Что? Женат. Был. Я же там погиб нелепо. Очнулся – я Кузьмин. Сын у меня там остался один с мамкой. Десять лет. Люблю их очень. Скучаю.
– Какие они?
– На, смотри.
– Это они? Это же фотография семьи Голума.
– Это они. Голум – это я. Я, каким мог бы стать, но не стал.
– Голум – это ты? Ты сам себя пристрелил?
Я не ответил. Отобрал у него фотографию, спрятал, лёг, накрылся с головой.
– До завтра, товарищ Шаман. Это теперь твой псевдоним. Теперь ты ведущий специалист нашей аналитической группы. По легенде, ты смог переселить своё сознание в человека двухтысячного года и узнал много секретных сведений.
– Угу, – ответил я.
Кельш ушёл.
Мозговой штурм (1942 г.)
А на следующее утро – началось!
Две машинистки с резиново-непроницаемыми лицами, Кельш или лейтенант ГБ – спец по дознанию, внимательно слушали и печатали с пулемётным перестуком клавиш всё, что я говорил. Работа на этом этапе строилась так: Кельш называл тему, например, автомобильное производство, а я говорил всё, что приходило в голову. Когда выдыхался, следовал перерыв с приёмом пищи, прогулка, перекур с дремотой, потом следующая тема, например, войсковые операции сторон в сорок втором году.
Кельш был доволен. Во-первых, в моем мире всё-таки была Победа! Да и мой мир был технически гораздо более развит, опять же благодаря Сталину, его наркомам и его плеяде технарей. Ведь всё, чем гордился любой технически грамотный человек (даже ЭВМ), было изобретено в СССР в сороковых – шестидесятых годах.
Следующий этап, я его назвал «Уточнение», вел как раз тот «гений дознания». Нет, конечно, никакого давления или негативного воздействия на меня не применялось. Не было необходимости. Он работал на ассоциациях, задавал наводящие вопросы, уточнял, переспрашивал. Я отвечал.
Оказалось, что я знаю просто до хрена! А я себя неучем считал. Не знаю, точно ли дело в этом мозгокопателе или в той дряни, что я глотал, какой меня кололи и пичкали, но память моя услужливо подгоняла мне даже счастливо забытые детали.
В качестве примера. Лёжа в госпитале летом сорок первого, я жутко переживал, что не могу помочь стране в выпуске более совершенного оружия. Потому что танки, самолёты и авто строятся вокруг двигателей. А я в них не разбираюсь. В автодвижках не шарю, а на самолётах вообще самые передовые всегда ставят. А оказалось, я нарисовал устройство реактивного двигателя, какие в моё время стоят на пассажирских лайнерах. Откуда я вспомнил? А я по телевизору видел разрез этого движка несколько минут. Перед этим двигателем стоял чел в пиджаке, в цене превосходящем стоимость моей квартиры, и нёс пургу, которую я не запомнил, а вот движок – вспомнил. Следом вспомнил цикл фильмов студии «Крылья России», что смотрел вечерами за ужином. Конечно, фильмы были обзорные, без подробностей, коих миллион, и каждая – ключевая, но и то хлеб.
А лопатки в турбинах – титановые, сопла из жаропрочных сплавов, пришлось вспоминать современные мне технологии добычи этих материалов и сплавов.
Тут им сильно подфартило. Я экономист. У нас два семестра был такой предмет – экономическая география. Преподы были очень алчные, а я – крестьянский сын. Чтобы получать стипендию, нужна отличная оценка. А чтобы её получить – дать денег, которых нет, или чтобы знания от зубов отскакивали. Мне принесли большую контурную карту, и я им накидал залежи и бассейны тех ископаемых, что смог вспомнить.
– Это золотая карта, – сказал, не скрывая гордости, Кельш.
– Это всё ещё найти надо.
– Мы знаем, где искать и что. Это уже сберегло целое достояние и миллионы человеко-дней.
– То ли ещё будет!
И понеслось – электролиз алюминия, синтез искусственных материалов, технологии получения пластмасс, полиэтиленов, новых сплавов с новыми свойствами и так далее, и тому подобное.
Кельш принёс опечатанные коробки с теми артефактами, что им удалось добыть. Я учил ими пользоваться. Зарядить батареи удалось относительно несложно. В навигаторе, кроме контурных карт, оказались загруженными несколько видеофайлов. Парад Победы в цвете и фильмы «Девятая рота», «Брестская крепость» Угольникова. Молодой паренёк в форме сержанта ГБ под конспект учился управлять гаджетами.
Я старался изо всех сил, но уже через пару дней стал чувствовать себя выжатым лимоном, ещё через день – загнанной лошадью. А вы попробуйте вспомнить максимально подробно историю ВКП(б) второй половины ХХ века, полный курс макро- и микроэкономики, материаловедение (которые я постигал только практически, без теоретической базы), историю нашей страны ХХ – ХХI веков. Всё это разом и желательно не только вспомнить, но и максимально доходчиво донести. А надо не только это, а органическую и неорганическую, промышленную химию, двигателестроение, развитие вооружений, машиностроения, радиотехники, электроники, локации, энергетики…
А я же обычный обыватель! Не академик РАН.
Головная боль стала постоянным спутником, усиливаясь настолько, что её не могли заглушить обезболивающие. Я работал со своей памятью самоотверженно, но всё же пришёл день, когда я заявил мозгогрызу:
– Всё, башка пустая, как волейбольный мяч.
Чекист понимающе кивнул, оставил меня. Несколько часов я тупо, без единого шевеления в голове, созерцал потолок. Потом пришёл Кельш.
– Поехали, – заявил он. – Вот в это одевайся. Читай.
Он протянул мне листок, но я так посмотрел на него, что он прочёл сам. Слова пролетели мимо, не зацепив ничего в моей голове.
– Ты понимаешь?
– Нет, – искренне признался я.
– Твои успехи в качестве ротного оценены очень высоко. Тебе присвоено звание старшего лейтенанта, и ты награждён орденом Красной Звезды. Твои атаки будут разбираться для обучения курсантов.
– Служу трудовому народу, – без энтузиазма ответил я.
– Устал, – вздохнул Кельш, – ничего, съездим на награждение – развеешься.
Банкет в Кремле (1942 г.)
Он был прав. Дороги туда я не запомнил. Помню большой зал, много людей, красный бархат кругом (рукам приятно). Называют мою фамилию, я выхожу на сцену. Дедок в очках, с козлиной бородкой, вручает мне красную коробочку, бумажки, жмёт руку, что-то говорит, улыбается. Вспышки, я дёргаюсь, всё порчу – это меня фотографировали, громко докладываю, что служу народу, сажусь на место.
Маленько очнулся я на банкете. Полно военных всех родов войск. Я беседую с танкистом, часто посматривающим на свою грудь, вернее на золотую звёздочку на ней. Так о чём он?
– Приём танковых засад ограниченно применим. Только при возможности манёвра и превосходстве в разведке.
– И чистом небе, – согласился я, – в смысле от самолётов противника. Думаю, отвратная погода надолго станет любимой пехотой и танкистами с обеих сторон фронта.
– Хорошо сказал! – танкист хлопнул меня по плечу. – Хотя мой комиссар бы мне за такие слова все мозги бы прополоскал.
– Смотреть правде в глаза – тяжело. Обманывать себя и людей – преступно.
– Это факт! А ты мне нравишься. Я – Катуков.
– Катуков? – я усмехнулся, он обиделся. – Вы, товарищ полковник, уже легенда. Быть вам маршалом.
– Если не сгорю. Или болванку в лоб не словлю. Хотя танки сейчас не чета тем, с чем я начинал! Еду дивизию формировать.
– Тебе предложат сделать дивизию смешанного состава, – наклонившись к его уху, сказал я, – ты брыкайся, как можешь. Требуй «тридцатьчетвёрок», тебя сам поддержит.
Катуков отстранился от меня, как от ядовитой змеи.
– А ты так не считаешь? – спросил я его.
– Именно так. Но откуда ты знаешь?
– Ты об этом кричишь на каждом углу. КВ тебе слишком тяжелы, лёгкие танки считаешь бесполезными. Не говорил?
Катуков малость струхнул, хотя старался держать себя в руках. Я опять наклонился к нему:
– Немец скоро выпустит на фронт ПТО калибра пятьдесят и семьдесят пять миллиметров. Им броня КВ, не то что Т-34 – фольга. К лету твои танки перестанут быть неуязвимыми, нахрапом не возьмёшь. На четвёртые «панцеры» они поставили длинноствольную 75-мм пушку, на «ПЗ-три» – 50 мм. Преимущества в огне у тебя тоже не станет. Воюй умением. У тебя преимущество в манёвре до конца войны сохранится. Они так и не смогут делать танки настолько же подвижными, как наши.
Катуков прищурился, глядя на меня. Я сказал ему:
– Ты меня никогда не видел, я тебе этих данных разведки не говорил, понял?
– Но ведь сказал. А сдам тебя?
– Кому? НКВД? Своим? Ну, впаяют выговор, – я усмехнулся.
– А зачем ты мне это говоришь?
– Чтобы ты жив остался. Кто командовать будет Первой Гвардейской танковой армией?
Так что я изрядно смутил легенду танковой истории.
Мне представился случай побеседовать с ещё одной легендой. Василий Гаврилович Грабин. Создатель ЗиС-3. Большой, высокий мужик крепкого телосложения. Лицо волевое, лобастое, взгляд умный, твёрдый, даже жёсткий. Я подошёл, представился, выразил восхищение орудием ЗиС-3, спросил, не собирается ли он поработать над адаптацией ствола 85-мм зенитки в танковое орудие для среднего танка. Ага, щас он перед подозрительным пехотным старлеем все свои планы и раскроет!
– Тут в чём дело, – сказал я, – противник заканчивает испытания нескольких типов сверхтяжёлых машин с лобовой бронёй от ста миллиметров до двухсот. ЗиС-3 с такой бронёй не справится. ЗиС-2 для танков не подходит – фугасное воздействие снаряда слишком мало. А 97- и 107-мм орудия, на которые вы потратили столько сил…
Грабин свёл брови, смотря на меня. Что, никто не должен знать о твоих работах? О тебе трындят все документальные фильмы про пушки. Я не нравлюсь? Ваши проблемы, уважаемая легенда.
– …попросту окажутся не нужны из-за отсутствия боеприпасов, вернее мощностей под их производство. ЗиС-2 уже страдает от этого. Армия эти орудия поэтому и брать не хочет. А 85-мм для Т-34 – идеальный вариант. Тяжелее орудие не поставить. И есть мнение, что сделать из отличного ствола отличную танковую орудийную систему сможете только вы. Пока вы один учитываете эргономику при конструировании оружия. Ваши орудия в войсках полюбят не только за надёжность, но и за удобство. Извините, Василий Гаврилович, вынужден прервать нашу беседу, хотя мне жаль. Всю жизнь мечтал узнать вас. Надеюсь, увидимся.
Я просто увидел Кельша. Точнее, его недовольную морду.
– Ты понимаешь, что ты – государственный секрет? Если и дальше так же будешь действовать, на тебя начнётся охота. Ты этого хочешь?
Вот я и стал кольцом всевластия.
Врачебная ошибка (1942 г.)
По возвращении на базу меня ждала новая партия мозгогрызов. В этот раз в белых халатах. Они стали испытывать на мне хорошо отработанные в моё время, а сейчас, здесь, революционные, новаторские, способы воздействия на сознание.
Помогло. Удалось многое вспомнить.
А потом случилась беда.
Она пришла в виде обычного гипнотизёра и со словами:
– Ваши веки тяжелеют, когда я досчитаю до…
Судьба Голума
(наше время)
Перезапуск с точки автосохранения
Я стоял и тупил. Смотрел на огонь. Завороженно. Горела большая машина. Джип. Я смутно помнил, что это я его поджёг. Что я тут делаю? Какое-то состояние у меня странное. Под химией? А, да, что-то такое. Какое-то сильнейшее чувство дежавю. Всё это уже было. Там должны лежать двое. Парень и его телохранитель. Парень оказался жертвой. Неслучайной, но – жертвой. А я – палач. Торпеда. Я. А охранник его добьёт.
Рука нащупала пистолет за поясным ремнём. Так, а как это работает? Но руки почему-то сами уверенно произвели все манипуляции. Странный сон.
Охранник что-то почуял, замычал, пополз на спине от меня. А с отбитыми руками ты сможешь добить парня? Пистолет непривычно громко бухал. Пуля вошла в правое плечо охранника. Вторая – в левое. Потом я перевернул его и одним выстрелом перебил ему обе связанные кисти. Живи, если сможешь.
А мне пора. Дежавю подсказывало мне – скоро сюда заявятся.
Я подъехал к реке. Вспомнил, что в прошлый раз утопление вещей мне никак не помогло. Следаки точно знали, где водолазам надо нырять. Как они отследили? В байке жук? Как они могли знать, что я возьму именно этот байк? Я его только вчера увёл. Маловероятно. В одежде? Подобному оборудованию нужен источник питания. А это определённые габариты. Телефон. Но он же левый. Блин! Если у нас в городе наркотой торгуют только те, кому менты разрешили, то почему с крадеными телефонами должно быть иначе? Блин! Почему я раньше об этом не подумал?
Телефон полетел в реку, а я поехал на работу.
Довольно ярко и живо всплыло воспоминание о приходе кума, СОБР и эти… Я так чётко и ярко вспомнил ледяные глаза «гаишников»-ликвидаторов, что сильно дёрнулся и чуть не улетел с дороги. Я их боялся. Таких хладнокровных убийц мне не приходилось видеть. Для них убийство – работа. Убить человека – как сложить из спичек цифру восемь. Обычное, скучное дело.
Не стал даже заезжать на работу. Сразу нырнул в катакомбы, поменял байк, взял рюкзак, поехал. Главные магистрали для меня закрыты. Ну, не Сибирь, у нас, в Центральной России, дорог, дорожек, просёлков, грунтовок – тысячи. Не перекроешь все. Можно выбраться. Кружно, медленно, но верно. Прочь из города! И области.
Счастливо оставаться, менты, воры в законе, торпедоносцы, ликвидаторы!
У меня есть два паспорта на чужие фамилии и три карточки прав на три другие фамилии. Сделаны довольно качественно и пока нигде не были засвечены. Есть деньги на первое время. Не пропаду.
Куда ехать? В столицу? Город большой, там затеряться проще. Но именно так все и думают. Там меня и будут искать. Или на юге. Там и народу много, и мути. Но тоже тривиально.
На запад! К границе! Нет, за кордон мне смысла нет. Но в приграничных областях – самое оно.
О свершении мести больше и мыслей не было. Бежать!
Я спасовал. Сбежал. Трус.
Судьба Голума
(наше время)
Скольжение по наклонной
Что можно рассказать о жизни человека, не имеющего цели в жизни? Ничего. Случайные заработки, временные пристанища, скорые перекусы, случайные связи. Вечный страх. Паранойя и мания преследования. Тоска и беспросветность. Плотно сел на наркотики. Наглухо увяз в преступном мире.
Воровал всё, что плохо лежало, крал мотоциклы, скутеры, автомобили. Пользовался людской невнимательностью. Кто-то забудет ключи вынуть, выйдя из авто на минуту, кто-то небрежно оставит связку ключей от машины на виду. Ключи – стянуть, машину – угнать. Пригнать их в распил, сдать, получить свои тридцать серебряников.
Работать я устраивался в экспедиционные конторы. Там людей всегда не хватало настолько, что зарплату начисляли довольно неплохую, к личности соискателя пристально не приглядывались, вопросов лишних не задавали. Характер работы собачий – мотаться по всей стране. Мало кто удерживался. А меня устраивает. Свободное время меня только тяготит.
Иногда накатывало. Начинал терзаться мыслями – как же так получилось? Как я стал таким? Ведь раньше чужая собственность для меня была священна. Попробуй своим горбом заработай на автомобиль – будешь с уважением относиться к чужому авто, жилью, к чужим деньгам. Сейчас же я радовался, что удалось «обуть лоха». А может, этот «лох» теперь с инфарктом в реанимации лежит? Мне – плевать.
И ещё – одинокими вечерами, если не получалось замутить с какой-нибудь шмарой, я жалел, что не «чпокнул» ту «целочку». Правда жалел. И шмары эти, примитивные, тупые, непромытые, вонючие – не вызывали теперь во мне отвращения. Это стало нормой.
Только иногда на меня накатывало, что это не нормально. Я начинал осознавать глубину деградации своего я. Начинал жалеть, что сбежал, что не остался, что живу как побитая собака, а не принял смерть стоя, как мужик. Накатывала такая тоска, что только доза в вену помогала. Я – конченый нарик. Конченый человек.
* * *
Но так получилось, что через полгода колёса моей машины прикатили к ограде кладбища. Не случайно, наверное. Я ведь тогда сбежал, не простившись. Перепрыгнул забор и пошёл меж оградок к нужному месту. Осторожно крался, упасть на кладбище – плохая примета, а упасть тут не сложно – темно, всё заросло.
Вот и нужная оградка. Вот памятник деда, крест бабки, мраморная плита моей любимой. А это что? Ноги мои затряслись, сердце остановилось. Трясущимися руками вцепился в ограду – ноги не держали. Ещё три могилы, три креста. Перебирая руками, зашёл за ограду.
Пустота внутри меня громко лопнула, я рухнул на землю – это были могилы моего сына, тестя и тёщи.
* * *
Прошёл ещё год. Я сам себя не узнавал в зеркале. Тому мне, «реальному пацану», рубаке и балагуру, тяжело было поверить, что это тощее, чёрное, скукоженное чмо с бегающими глазками битой собаки, параноик с манией преследования – это я.
О прошлой жизни старался не вспоминать. Не вспоминал ни жену, ни сына. Воспоминания мне причиняли боль. Боль снималась только «улётом». А «улёт» требовал всё больших доз. Все средства уходили на наркоту. Денег постоянно не хватало.
Деградация затронула не только душу и сознание. Я сильно отупел. Я стал чаще сыпаться на мелочах. Уже не мог просчитать всех вариантов, воровать стало сложнее. А на авось полагаться – я ещё не настолько отупел.
Я всегда любил почитать. И чтоб книга была посложнее, позаковыристее, чтоб ещё месяц после прочтения ходить и гонять её в голове. Привычка читать осталась, но авторы, хорошо знакомые мне раньше, стали как иностранцы – непонятны. Стал читать книжки в мягких обложках про ментов и воров в законе. Написанные просто, примитивно. Чем проще, тем лучше. Чтоб идей ноль, но через страницу – секс, ещё через одну – драка. Вот это то!
Работу стало сложнее найти. Собеседования стало сложнее проходить. Если год назад пара фраз – я принят, то сейчас чаще мне отвечали, что позвонят. И я ведь верил, что позвонят. Отупел.
Я в очередной раз сменил город. Уже не помню, который раз по счёту. Мания преследования гнала меня с места. В этот раз с работой было совсем кисло. И с халтурой тоже. Ну, перестали мне попадаться «лохи». Пытался стянуть брелок с ключами у мужика от сохи, но тот почуял, накинулся, стал избивать. Еле сбежал. Вот ведь ирония – меня избил простой мужик. Я, выстаивавший один на шестерых, был бит обычным пахарем.
В очередном офисе мне пообещали позвонить. Но в этот раз правда позвонили. Назначили встречу.
Складской комплекс в пригороде у железнодорожного разъезда. Межрайбаза. Менеджер, что со мной разговаривал, всё ходил вокруг да около, всё разговоры разговаривал, вопросы спрашивал. Я уже думал, до дела и не доберётся. Добрался. Предложил мне быть наркокурьером. За неплохие деньги и постоянное снабжение наркотой. Только не ширевом, а синтетикой. Естественно, если меня прихватывают – всё это «моё». Конечно, я согласился.
Работа моя заключалась в следующем – мне выдавали машину попроще, неброскую, но способную доехать без поломок. Я, с накладными и товаром, ехал в нужное место, где загонял авто в нужный гараж, ночевал в предоставленной комнате, пользовался предоставленными услугами, разнящимися от заказчика к заказчику, и выезжал на этой же машине на базу. В машине был загружен какой-нибудь груз, по мелочи, на него у меня на руках были бумаги, а в тайниках лежал другой груз, бумаг на который у меня, естественно, не было.
Жил я тут же, на межрайбазе, в каморке, где был старый диван, старый же телевизор и не менее старый холодильник, который громко ревел и прыгал по полу. Собачья конура. Но мне было всё параллельно. Я жил в миру грёз синтетических наркотиков. В этих грёзах иногда приходил мираж нормальной жизни, где я пахал на работе, сын учился, жена радовала своей красотой и вкусной стряпнёй. А иногда приходили другие наркотические грёзы, где я насмерть бился с врагами, грыз их зубами, умирал за Родину. Выживал, снова бился насмерть, вёл за собой людей. Был героем. А потом наркотические сны рассеивались, и возвращалась реальность.
Тоска. Безнадёга. Тьма разума. Сплин. «Скоро рассвет, а выхода нет».
Судьба Голума
(наше время)
Неотвратимость и Высшее вмешательство
В рейс я выезжал, когда действие препарата сходило, а ломка ещё не должна была наступить. Обычно успевал обернуться до ломки.
Так я выехал и в этот раз. Выдали мне произведение международного автопрома, на которое ни один мент даже не взглянет. Но паранойя моя стала меня терзать сразу по выезде с базы. Поэтому я был предельно собран и аккуратен. Ехать было далеко – на Украину. Границу пересёк легко, до места добрался тоже без происшествий. Пока машину подготавливали, поспал в «полузвёздочном» отеле. Гостеприимные хозяева даже выделили мне компанию в виде толстой обрюзгшей хохлушки с пропитой мордой. От неё несло перегаром, гнилыми зубами, прокисшим потом, немытыми ногами и тухлой рыбой от промежности. Но я же не привереда. Беру то, что дают. На халяву и уксус сладкий.
Будильник поднял меня ещё затемно. Я выбрался из-под вонючего чудовища, что храпело рядом. Чудовище даже бровью не повело, раскидав губы по серой подушке. Как на это может встать? Но встал же. Налил желтоватой воды в грязный электрический чайник, густо заросший накипью. Нажал кнопку. Сполоснул кружку, высыпал в неё содержимое сразу двух пакетиков «три в одном». Заглотил полпачки обезболивающих. Чайник забурлил, отстрелил кнопку. Буквально отстрелил – она отлетела под диван. Пох. Не полезу. Подождал, пока муть в чайнике хоть немного отстоится. Залил смесь химических порошков, имеющих отдалённых привкус кофе с молоком. Пока пил, просыпался под действием синтетического кофеина. Вместе со мной просыпалась и паранойя.
С плохим предчувствием проверил машину, выехал.
Государственную границу тоже пересёк благополучно. Сонные таможенники вскользь посмотрели накладные, мазнули взглядами по мне, пожелали счастливого пути.
Вот я и в России.
Солнце только начало окрашивать восток в красно-жёлтое. Дорога была пуста. Утренняя свежесть бодрила. Всё было нормально. Пока.
По объездной дороге обошёл областной центр, ещё пилил три часа к границе области. Там, в соседней области, дорога станет похуже. Переход из этой области в следующую хорошо различим – пропадает асфальт. Почти совсем. Дорога становится бетонкой с зубовыбивающей тряской на стыке бетонных плит. Я снизил скорость.
А на границе области стояли гаишники. Серая машина с синей полосой, один стоял перед капотом авто на обочине, лениво помахивая полосатой палкой. На спине – автомат. Второй – в машине.
Паранойя моя взвыла собакой, прищемившей хвост – гаишник был в кроссовках. В этот раз в красных. И стальной взгляд. Не глаза посмотрели – два ствола. Равнодушные и смертоносные. «Гаишник» взмахнул палкой. На дороге была только одна машина – моя. Они нашли меня!
Отворачивать поздно. А стреляют они метко.
Выдавил педаль газа в пол, пригнувшись к самому рулю. Двигатель взревел, машина подпрыгнула, как мустанг, полетела мимо лжегаишников. Выстрелов я не слышал, но услышал, как что-то забарабанило по корпусу. Стекло пошло паутинками от дырок пробоев. Я пригнулся ещё ниже, переключился на пятую, опять выдавил газ. Я уже не видел дороги, мчал наугад.
– Господи! Спаси! – завопил я, когда огненный ветер вздул волосы на моём затылке и лобовое стекло осыпалось в салон.
Стрельба и удары пуль по машине сразу прекратились, машина стала прыгать вверх-вниз, как по пашне, почему-то стали мелькать какие-то тени. И тут же последовал сильнейший удар спереди.
* * *
Когда я очнулся, стал ощупывать себя. Грудина отбита об руль, лицо разбито, колено сильно болит – ударилось о приборную панель. Залез в потайной карман, выбрал из таблеток нужную, проглотил. Боль ушла, стало сразу легче и красочнее. Искусственная эйфория бурлила кровь.
Я вспомнил, что лжегаишники могут меня преследовать, но уже не с ужасом, а с усмешкой – химия работала.
Двигатель не хотел запускаться – капот обнимал толстенное дерево. Из-под смятого железа бил гейзер пара из радиатора. Приехал. Откуда тут деревья? Я вообще в лесу оказался. Кругом одни деревья.
Дверь тоже не хотела открываться. Заклинило намертво. Вылез через разбитое ветровое окно.
Правая нога уже сильно опухла, в колене не гнулась. Похромал назад. Багажник был изрешечен дырками, как дуршлаг. Но вот ведь меткие бестии! Все дырки – с водительской стороны. Как же я уцелел? А, вот в чём дело! Несколько коробок с бумагой для офисной техники, разлохмаченные в труху, спасли меня. Даже не они – спасли меня неведомые ребята, решившие поставить бумагу именно здесь.
Тут взвыла моя паранойя. Таинственные убийцы уже, может быть, наводят на меня стволы своих автоматов! Пригнувшись, похромал к заклинившей двери, смог достать сумку, но не смог дотянуться до упрятанного дробовика. А, дрын на него, всё одно помповик против автоматов не катит.
Похромал прочь от машины. Через некоторое время продирания через абсолютно дикие заросли вывалился на опушку. Растительность здесь была пореже. А, болото!
Блин, это где же я оказался? Сколько ездил, не знал, что тут есть настолько дикие места.
В кармане завибрировало. Блин! Телефон! Они же меня по нему найдут! Достал мобилу – разрядилась батарея. Немного успокоился – мобильник не находил сети. Пока искал – разрядился. Мобильник не видит сети – сеть не видит меня, лжегаишники не могут установить моё местоположение. Ну, и хорошо. И сотовый полетел в болото. От греха. Густая чёрная вода неохотно проглотила коробочку телефона, толстый слой ряски сомкнулся над ним, затянув чёрное пятно. Как и не было ничего.
Я пошёл вдоль болота, ковыляя на негнущейся ноге. Куда я шёл? Не знаю. Никуда. Как там в песне: «У меня есть ноги, и поэтому иду». Как-то так. Не сидеть же на месте? Так можно и этих, в кроссовках, дождаться.
Так и ковылял, куда глаза глядят. Закончилось действие таблетки, ввинтилась в мозг боль, нога взвыла бордовой вспышкой в глазах. Заглотил ещё одну. Почапал дальше.
Какой дикий лес! Деревья толстенные, заросли орешника и малинника дикие, не вытоптанные, грибы растут вольготно. Пней не видно. Упавшие деревья есть, но пней нет. Ни одной дороги, ни одной тропки. Где я есть? Куда это меня занесло? Почему так тихо? Тут же рядом трасса, но никаких урбанистических звуков. И в небе ни одной полосы от самолётов. А тут же недалеко лётный центр, постоянно в небе карабкается чёрная точка, оставляя за собой белый пышный хвост. А сейчас нет ничего. Лишь вдали где-то приглушенно шумит то ли гроза, то ли прибой. Откуда прибой в центральной России? И гроза при ясном небе? Это, наверное, у меня в ушах шумит. Глючит меня, в общем.
Придя к такому выводу, я даже не удивился, услышав голос:
– Откель ты, мил человек?
Я обернулся. Чудной глюк – бородатый мужик в каком-то древнем сюртуке, широкие штаны заправлены в сапоги. В руках двухстволка. Смотрит на меня из-под косм давно не стриженных волос. На голове какая-то шапка-кепка-фуражка.
– Какой необычный глюк, – сказал я ему, – очень интересно!
– Ты что, больной?
– Есть немного. Нормальным глюки не приходят, – ответил я ему, – хм, странно, раньше от двух доз глюки не приходили.
– Вот ведь шельма плутает, – сокрушился глюк, – только слабого на голову мне не хватало! Эй, ты руки-то на виду держи, а то шмальну!
– Да пошёл ты! Тебя вообще не существует. С глюками разговаривать вообще-то глупо.
– А придётся, – угрожающе сказал глюк, – ты кто и откуда?
– Я? Я никто. Раньше был человеком, а сейчас – никто. Чё смотришь? Думаешь, не бывает так? Ещё как бывает! Был человек, а потом раз – и растёрло в порошок. И идёшь по жизни бледной тенью самого себя. Вот так-то, глюк!
– Не глюк я. Что за слово мерзостное-то. Александр Родионович я. Лесник местный.
– Бородач? «Понять и простить»? Понятно, откуда корни глюка растут.
– Что? Совсем тебе паршиво, я гляжу. Ты хоть русский?
– А? А, да, русский. А кого ты ожидал тут, в России, увидеть – японца?
– Немцев не видел?
– Видел.
Бородач сразу подобрался, стал озираться:
– Где? Давно?
– Пару лет назад. Нормальные такие немцы. Туристы. Нажрались, как свиньи.
– Тьфу ты, чёрт! Напугал! Тут немцев не видел?
– Ты первый, кого я в этом странном лесу встретил.
– А наших не видел?
– Кого «ваших»?
– Так, значит? «Наших», не твоих?
– Слушай, глюк-бородач, а не пошёл бы ты лесом! Загадки он мне загадывает. Наши – ваши. Пошёл ты! Сейчас сюда эти с автоматами припрутся – обоих нас в капусту покрошат!
– Кто? Где?
– Там, на дороге. В ментов ряженные. Покрошили мою машину в хлам. Еле сбежал.
Бородач поглядел в ту сторону, куда я указал, потом, подозрительно так, на меня. Тут я решил покурить. Он огромными глазами смотрел на мои манипуляции с пачкой-зажигалкой. Странный всё-таки глюк. Наконец он что-то решил для себя:
– Пойдём. Что с ногой?
– В дерево я влетел на полном ходу. От этих убийц уходил. Машина – гармошкой.
– Пойдём.
Судьба Голума
В гостях у сказки
И я пошёл за ним. Какой странный глюк! Такой реальный. Может, это не галлюцинация? Просто этот дед с чудинкой? А что, вполне возможно. Народ наш богат на таких вот чудиков. А лес этот чародейский? Не знаю.
Нет, точно я в бреду нахожусь. А может, меня уже убили, и мне всё это мерещится? Я слышал о таком. Будто некоторые, находясь при смерти, успевают в подобном бреду прожить целую жизнь. Этакая Матрица. Вот и я сейчас, может быть, истекаю кровью в кювете, а всё это – зачарованный лес, дед-бородач – Матрица. Ложки не существует.
И к дому он меня вывел нереальному. Да, дом, конечно, нехилый – высокий, большой, из толстенных брёвен, рядом обстоятельные пристройки, но крыша покрыта какой-то корой, окошки маленькие, но главное, к дому не тянутся провода. Я понимаю, газовую трубу к отдельно стоящему дому тянуть не будут, но свет-то! Электрификация у нас была у всей страны! У всех был доступ к розетке. У всех.
Анриал продолжился – из ворот (прикинь, настоящих ворот, как в сказке о богатырях) выбежала девушка навстречу с криком:
– Деда!
Так вот, девушка эта была в каком-то сарафане, коса до… до копчика, в общем. Полное совпадение с Алёнушками из сказок. И внешность вся такая ангельская. Не бывает так! Не бывает, и всё! Никто уже не одевается так. Даже в самых глухих деревнях. Все ходят в китайских резиновых тапках и в китайской пластиковой одежде. В той, что делают из переработанных полторашек. Все. Никто не шьёт подобных сарафанов. Никто не носит таких богатых кос. Даже у хохлятской политической проститутки то, что таскает на башке, подделка. А тут! Не, это точно Матрица! Она ещё и босая! А ведь не май месяц!
Решив для себя, что всё это сон, успокоился, уже как должное воспринимал керосиновые лампы, свечки. Еду в чугунках из русской печи, хлеб-каравай. И полное отсутствие каких-либо электроприборов. Вообще. Ни проводов, ни розеток, ни патронов под лампочки. То есть про дизель-генератор можно не спрашивать.
И разговаривают они чудно. Анадысь, авось, околица, сенцы, вечерять, потчевать – все эти слова я, конечно, знаю, но кто их использует? Бабушки в глухих деревнях? А тут – девчушка молодая.
Хотя было вкусно. Искренне поблагодарил. Девка смотрела на меня искоса. Заигрывает? А что? Живёт тут в глуши с дедом каким-то. Чешется, небось. Бабы – они такие!
А может, и не Матрица? Может, они просто этакие сектанты. Как-то слышал о таких. Селятся тоже на отшибе и живут в аутентичных условиях. Средневековье или ещё что более дикое. И эти двое такие же.
За ужином попробовал их порасспрашивать. Не колются. Типа полное погружение в роль. На провокации делали круглые глаза. Ну, типа слов «Интернет», «телевизор» и тому подобных они никогда и не слышали. Ну, и флаг им в руки.
А потом деда понесло. Типа война идёт. С немцами. Ага, сорок первый год. Так я и поверил! Всё дед пытает меня, за кого я – за наших аль за немцев. Дурак, что ли? Какие, на хрен, немцы! Что нам с ними делить? В Великой Отечественной уже всё выяснили. Дурачишь меня? Ну, тогда и я тебя подурачу. Ща, таблеточку для улёта заглочу – тебе такой поток либерального сознания выдам! Самого меня и стошнит.
Но поток сознания отложился. Оказалось, девушка – Настей зовут, но дело не в том, а в том, что она баню стопила. И дед повел меня туда.
Вообще баню я люблю. Но такого ещё не было. Так меня ещё никто не парил. А потом он меня «ломал». Оказалось, дед – костоправ и шаман. Вправил мне колено, что-то втирал, что-то шептал.
Только вот оказалось, что таблетку я заглотил не вовремя – от жара бани мне совсем сорвало чердак. И что я там ему нёс, ничего не запомнил.
Зато ломку после этого запомнил. Ох, и плохо же мне было!
Настя говорит, сутки я был овощем, двое суток метался в бреду. Пришёл в себя только на четвёртый день. Слабый, как паралитик. Ещё и ломка. А Настя всё это время ухаживала за мной. Приятно. А почему? Понравился я ей? Чем?
Она обрадовалась, что я очнулся. Напоила каким-то бульоном. Стали разговоры разговаривать. Вот ведь упёртая девка! Вот уверена, что сейчас 1941 год, и хоть кол на голове ошкуряй! А когда я ей начинал приводить логичные доводы, что ну никак не может быть сейчас сорок первый, что уже давно идёт двадцать первый век, что цивилизация обошла стороной только их дом, а в мире она прошлась Всемирным потопом, смотрела на меня как на неразумного ребёнка, который приводит логичные доводы, что солнце вполне досягаемо – надень рукавицы, чтоб не обжечься, ставь лестницу повыше и бери его в руки.
Вот так и поговорили. Она осталась при своём, я – при своём. Потом решили, что пусть оно так и будет. Да и притомился я. Она положила мне руку на лоб, сказала:
– Спи!
И я уснул!
Когда я просыпался, тешил себя надеждой, что бред кончится, но нет. Не судьба. Опять это средневековое жилище, бухает лаем собака во дворе, мычат коровы, кукарекает петух. Вообще-то звуков было много, но мне казалось – вселенская пустота звенит вокруг. Оказывается, тяжело без привычного урбанистического шума. Нет телевизора, радио, гудков машин и шума их моторов. Тишина. Только сейчас я понял, что не жил без сопровождения телевизора или радиоволны. Как это называется? Блин, мозги со скрипом пробуксовывали, никак не хотели зацепиться за словосочетание «сенсорный голод». Блин, вот же! Сенсорный голод!
Меж тем самочувствие моё улучшилось. Я смог встать, опухоль на ноге сильно спала, но наступать было ещё больно. Прошелся по избе, ещё раз всё разглядывая. Всё очень простенько. Основательно, капитально, но простенько, без изысков и украшательств. М-да. Сектанты, что с них взять?
Вот угораздило же меня! От убийц убегал, попал к сектантам. «Свидетелям явления 1941 года». Надеюсь, они не людоеды. Хотя я уже тут несколько дней. Давно бы уже съели. Вспомнил песню «КиШ», запел – про такого же лесника и голодных волков:
Будь как дома, путник,
Я ни в чём не откажу,
Множество историй,
Коль желаешь, расскажу…
А дальше что? Свидетели Иеговы? Вурдалаки? Зомби? Или зомби-эсэсовцы, как в том фильме, где они бункер вскрыли? А, как же забыл про ГПУ, чекистов с чистыми мозгами, холодными руками и горящими пуканами. Кто там ещё меня навестит в этой галлюцинации, такой сильной и крепкой? Тень отца Гамлета?
Тут в избу вошли дед с внучкой. Чисто сказка – дед, внучка, собака. Кто там с ними в комплекте должен быть? Спящая царевна или тридцать три богатыря? Что-то я запамятовал.
– Здрав будь, хозяин, – приветствовал я бородача с поклоном, – благодарю тебя за лечение.
Дед озадаченно смотрел на моё кривляние. Как вы поняли, я троллил деда. Но его не проняло.
– Настя, собери на стол, вечерять будем.
Вот, опять «вечерять». Не ужинать, а именно «вечерять». Сектанты.
Но вкусно. И обильно. За ужином дед рассказал, что видел самолёты с крестами. И далёкий прибой он назвал канонадой. Жаль, не Канадой.
– Какая, к чертям, канонада в центре России? Если и будет война, то мы её не увидим. Обменяемся с янкесами и чанизами ядрён-батонами, и туши свет – ядерная зима! Только нам это будет до барабана. Если живьем не сгорим, так от излучения сгниём.
Они посмотрели на меня как на дурачка деревенского, переглянулись, дед как ни в чём не бывало продолжил:
– Надо скотину от германца прятать. Германец он по лесам не любит лазить, но бережёного Бог бережёт.
– Блин, вот вы упёртые. Какой германец? Война уже давно кончилась! Очнитесь же!
– Дак ведь сызнова началась! Опять немец лезет. В тот раз отбились, а сейчас уж и не знаю.
Я насытился, достал чудо-таблеточку, отправил в рот, запил густым душистым молоком. Похоже, натуральное. Да и корова мычала, я слышал. Достал сигареты, но закурить в доме стремался. Неудобно как-то. Дед смотрел, как я кручу в руках зажигалку.
– Где же достать такое можно? – спросил он про зажигалку. Я и сам уставился на неё. И что? Обычная китайская дешёвка.
– Да в каждом комке. Это дешёвка. Чина, чё с них взять?
Встал, вышел во двор. Дед тоже вышел. Вывел скотину из хлева и повёл в темноту.
Блин, сглазил – зажигалка упорно отказывалась дать огня. Кремень высекал искры, газ шипел, но не горела, и всё тут! В сердцах сплюнул и бросил зажигалку за спину. Разразился длинной матерной тирадой. Кто-то ахнул.
– Кто тут? – спросил я. Получилось как в анекдоте про мужика и театр.
– Я, – ответил тонкий голосок, показался трепещущий свет и Настя, прикрывающая огонь свечи ладонью.
– О, ты вовремя! Извини за мат, я не знал, что ты услышишь.
Я прикурил, глубоко затянулся, сел на… как же это называется? Завалинка, что ли? Всё у этих сектантов не как у людей. Вытянул больную ногу. Настя плотнее запахнулась во что-то среднее между сермяком и пальто, кинула на завалинку соломенную циновку, тоже присела.
– А вы и правда из будущего?
Я чуть не упал. Вот же дед вывернулся! Как же он замусорил мозги девчонке! Шедеврально! Я из будущего! Ага, как же! Щас прям тоже поверю в вашу ахинею и пойду искать Сталина и Берию. Приду, заявлю: «Слышь, вы двое, вы кругом не правы, я один знаю как надо!» Я так живо представил себе эту картину, что заржал.
– Нет, конечно, нет. Это невозможно. Путешествия во времени – удел фантастов.
Настя расстроилась.
– Я бы хотела хоть одним глазком взглянуть, как там, в будущем.
– Зачем?
– Интересно. Как люди одеваются, как города выглядят, научатся люди летать или нет.
– Летать – нет. Города выглядят грязными, а люди одеваются по-разному. Кому на что денег хватает.
– Денег? Говорили, в будущем от денег откажутся.
Я опять рассмеялся.
– Это кто же от денег откажется?
– Как же? Когда победит коммунизм, надобность в деньгах отпадёт.
– Ну, так-то да, но надо, чтобы коммунизм победил.
– Коммунистический строй – самый прогрессивный, и его победа неизбежна!
– Это верно. И что самый прогрессивный, и что неизбежна. Жаль, «в ту пору прекрасную не придётся пожить ни тебе, ни мне».
– Почему же? Я точно поживу.
– Может быть. А я вот не верю, что людскую природу удастся изменить. Алчность, жадность, похоть – а!..
Я махнул рукой.
И вдруг почувствовал себя слабоумным. Сижу в лесу на завалинке и веду беседы с живой и симпатичной девушкой о коммунизме. Как политрук. Разве за этим она пришла? Конечно, нет. Живет деваха в лесу, с дедом, древним, как мамонт, у которого и не стоит-то ничего, кроме сектантских психоустановок. А у меня-то стоит. И давно. А она – вот она. Рядышком. Сама пришла. Чешется, небось. А разговоры – это так, повод.
Я обнял её, поцеловал. Она заверещала, стала сопротивляться.
– Чё ты ломаешься, как целка? А то я вас не знаю!
Ага, та вон не ломалась. Сама в койку прыгнула. А я, дурень, какого-то морализатора включил, стал её уму-разуму учить. Имбицил. Всем бабам только одного и надо. Не, не одного, много их надо, но только их. Одного им всегда мало. А всё остальное – это всё шелуха, которую они выдумали, чтобы парить нам мозги. Чтоб мы о них думали не то, чем они являются. Ведь если они не будут украшать обманом нашу реальность, то в табло им прилетать будет регулярно. Все же знают, что все бабы гулящи, но позволяют обманывать себя. «Моя-то – не такая!» Все они – такие!
– И не ломайся тут! Меня не обманешь!
Когда всё кончилось, она заревела так, будто кто-то умер. А мне некстати пришла в голову мысль, что завалил её я на завалинке.
– Дедушка убьёт тебя!
А вот это вполне вероятно.
– Сука! – ответил я ей, натянул джинсы и пошёл. Туда, где, по моему мнению, была моя машина. Там помповик. Да, тяжко на деревне без пулемёта. Особенно если у соседа – обрез.
Судьба Голума
Как сказка оборачивается кошмаром
Вот ведь лярское племя это, бабы! Пришла, сама пришла, получила, что хотела, а теперь: «Дедушка убьёт тебя!» Как у тех пауков. Черная вдова что называются.
Потом пришла мысль, что я ей был дефлоратором. А на эту роль обычно по жизни бабы выбирают самых мерзких. Самых немужественных. Слюнтяев, маменькиных сынков, полусладких и прочих подонков. Типичный пример – Ромео. Это тот, что распечатал Джульетту. Маменькин сынок, слюнтяй, полуголубок, да ещё и подонок – друзей предал, брата Джульетты убил. Парень то есть совсем с логикой не дружил. Жил эмоциями. К чему привела эта жизнь – весь мир знает.
А я?
С тяжелым сердцем вынужден был констатировать, что и я не лучше. Такой же подонок. Мразь и сволочь. Так же простился с мозгом, позволил себя обмануть, вот и результат – я конченый. Поэтому и стал для этой лесной Насти её первым. Хуже меня не нашла.
Конечно, осознавать себя мерзостью неприятно. И даже очень неприятно. Надо бы это изменить. Но… Ничего уже не вернуть, не исправить. Это не компьютерная игрушка, тут не засейвишься. И не загрузишься. Тут косяк – навсегда. «Скоро рассвет, а выхода – нет!»
Но было средство, не, не выход. Был давно проторенный способ – самообман. Волшебная таблеточка – и адьёс, тоска. Химическое настроение попёрло в гору. Чёрный ночной лес расцвёл красками, фантастическими цветами, звуками.
Было в этом одно «но» – я заблудился. Под химией я всегда терял ориентацию. Всегда терялся. Вот и теперь – куда я иду? А, пох! «У меня есть ноги и поэтому – иду! Иду навстречу цветным витринам, мимо пролетают дорогие лимузины».
А потом приятные галлюцинации сменились кошмаром. Такое тоже бывает. Это называется «подсесть на измену».
В этот раз на меня налетели зелёные лешие и орки, сбили с ног, избили, скрутили, связали, куда-то потащили. Вот это меня торкнуло!
Притащили меня к своей орочьей повозке. Такая была в сорокатысячном Вархамере. Ага, а около Боевого драндулета стоял некромант. Ага, реально – некрос. Весь такой чёрнющий, вместо глаз – чёрные провалы, а из глубины – пламя Хаоса. Чёрные зубы за полопавшимися губами. Вместо слов – сиплый свист. Блин, у меня от страха все отнялось.
Но некромант ничего не сказал, сипло выдохнул, взмахнул своим чёрным рукавом и исчез прямо в воздухе. Часть гоблинов кинулась его искать, остальные накинулись на меня, стали избивать, вязать. После очередного удара кованым сапогом я провалился в беспамятство.
Нет, они не были орками, гоблинами, некромантами. Это всё был результат воздействия тяжёлой психоделической химии. Но они были не ангелами. Из того же дурдома, что и дед с внучкой. Реконструкторы, блин. Причем очень ответственные. Насколько мне хватает моих исторических познаний, не допущено ни одного прокола – ни одной вещи, не соответствующей временам ВОВ. Они даже прикуривали от огнива. Психи! Какой нормальный человек будет так мучиться, когда есть дешёвые китайские зажигалки? Эти психи настолько вжились в роль, что многие из них очень натурально изображают раненых. А командир их, Некромант – самый шизанутый. Изображает ходячего мертвяка. Он даже воняет гниющим мясом. А этот лихорадочный блеск глаз из чёрных провалов, что у него образовались вокруг глаз? Какой косметикой это можно сделать? А как так натурально изображать травму головы! У него явное сотрясение мозга в тяжелой форме, уж я-то знаю. Или он очень хороший актер. Нет, конечно, блеск глаз не красный, как мне приглючилось, но явно не нормальный. А когда он смотрел на меня, его глаза превращались в два ствола, смотрящих прямо вглубь черепа из глубоких черно-фиолетовых колодцев. Взгляд, как у тех убийц на дороге. Видно, их раньше в одной палате содержали. Зачем выпустили?
Допрашивали они меня, ха! Зачем я к немцам побежал? К каким немцам? Ладно, вы в роли, но я-то – нет. Это в ваших воспалённых мозгах живёт реконструкция, у меня-то нет! И любые мои попытки что-то объяснить жестоко пресекались побоями. С чувством так били, в удовольствие, садисты. Теперь я понимаю, зачем состоятельные люди идут в этих реконструкторов играть. Садисты. Психи больные!
Хотя не были они похожи на состоятельных людей. Тощие, облезлые, заросшие, грязнющие, все оборванные. Или настолько в роль вжились?
Ещё как вжились! Так натурально играли удивление найденным в моей машине канцтоварам и «Моторолам», Станиславский нервно курит. Один Некромант переигрывает – объясняет своим гоблинам назначение скотча и степлера. Это такой прикол? А в чем он? Не вижу смысла.
Потом я был объявлен официально «гостем из будущего», и провозглашена новая миссия – доставка меня «кому следует». Я понимаю, им игра, но меня пинать-то зачем? На все мои попытки их потроллить реакция была неадекватно жестокой. А Некромант ещё и заставил сдавать экзамен по истории ВОВ письменно. Курить не давали, на мою ломку – плевали.
Ломились, как лоси, по лесам напропалую. Мою разбитую машину подцепили к «ганомагу» (и где его только откопали, такую редкость?).
Прямо всё по правилам. Играют ребята по-серьёзному. С полным погружением в роли. Некромант меня зачем-то агитирует «Родину любить». Нет, парень, уже поздно. Родина и представители её властей меня предали, продали, с грязью перемешали и выбросили. Не, не выбросили, сам сбежал. А то бы схарчили, не поморщившись. Так что от Родины у меня определённый осадочек, так что не быть мне членом вашего патриотическо-реконструкторского клуба. Звиняй!
Потом у них случился казус – один из реконструкторов не выдержал, сбежал. Объявили шухер, поймать его не смогли, объявили предателем и перебежчиком и погнали ещё пуще. По напряженным лицам реконструкторов понял, игра близится к развязке. Теперь финальная пейнтбольная перестрелка – и по домам.
Обыгрывалось преодоление полосы железнодорожного пути. Реконструкторы из другой команды тоже подошли к своим ролям серьёзно и даже основательно. Я слышал грохот пулемётов, взрывы гранат, свист и хлопки взрывов мин. Блин, и не жалко им тратить бабло на это? Это же чертовски дорого – изготовление всего этого реконструированного хлама.
Оказалось, игра не окончена. Погнали дальше. Гнали так, будто убегали от чумы. Или от судьбы. Совсем ребята двинулись на этом своём хобби.
Судьба Голума
Очевидное – невероятное
А потом была очередная переправа через очередную водную преграду, где мы попали в засаду. Я думал, что это всё игра, пока вокруг не начали свистеть пули и осколки. Пластиковые шары так не свистят. И вокруг замертво падали люди. Осколки рвали тела прямо у меня на глазах.
Это не игра! Люди вполне натурально погибали! Так не играют. Это уже убийство!
А когда и мне прилетело в бок, я окончательно убедился, что и эти ребята, и те, что в серой форме, вполне всерьёз убивают друг друга.
То есть получается, что это не реконструкторство, а что? Что дед, Настя и Некромант – правы? И я нахожусь в 1941 году?
– Чё за хрень тут происходит?! – заорал я.
– Война, ублюдок, ты ещё не понял? – просипел Некромант, схватил меня за воротник и потащил на берег.
Сорок первый! Вот это попадалово!
– За что мне всё это?! Господи, за что?!
– А вот теперь сиди и думай, за что? Да не высовывайся. Мне ещё одна дырка в твоей башке без надобности.
Да и мне без надобности. Прижался к стылой земле, как к милке.
Вокруг шёл жестокий бой. Яростные крики, стоны раненых, крик коней, трескотня очередей, хлопки гранат и мин. Не реконструкция. А что? Реальность? Да ну на! Не может такого быть, потому что не может быть никогда! Не бывает так. Это только в книжках про попаданцев. А в реале – не бывает. Время неизменно. Путешествия во времени невозможны. По определению.
Я точно лежу где-то при смерти, а всё это – видения моего умирающего мозга. Тут в кучу, как во сне, собрались все недосказанности, недоделанности из моей жизни. Недоделанность с Неважно – история с этой лесной Настей, увлечённость фэнтези-фильмами и компьютерными играми – эти некроманто-зомби-гоблины-орки. Увлечённость историей ВОВ – этой «реконструкцией». Да, именно так. Там я умираю, здесь тело моё тоже отмирает. И не наркотическая ломка меня корёжит, не повреждённое колено, не дырка в боку от пули немцев, а сигналы умирающего тела так проецируются мозгом в эти видения.
А кто же тогда этот Некромант? Его роль не ясна. Уж больно он необычен. Его поведение выбивалось из линии «реконструкторов», но и линии «реально – сорок первый» не соответствует. Он же на самом деле понимает значение всех моих иновремённых вещей. И он проводил сравнение личностей и событий 1941 года с толкиеновской нетленкой. Хотя не то что фильм, книги ещё нет. В тысяча девятьсот сорок первом. Ага, он ответил, что сам автору рассказал эту историю – как же, верю! Меня Голумом обозвал. А ведь и правда. За эти годы мытарств я стал, как и Голум, бледным, тощим, пришибленным. С такими же проблемами в голове. Сам с собой разговариваю, шиза прогрессирует. А уж паранойя вообще прописалась в моей душе хозяйкой. М-да! Попадание в десятку. Но откуда он может знать такого персонажа? Не может. Если это 1941 год – не может. Значит, что? Или, первое, это не сорок первый, или, второе, это всё происходит чисто внутри моей головы.
Меня куда-то потащили, перевязали, опять побежали.
А немец этот пленный, русскоговорящий, он с какого бока в моих видениях? Роль довольно необычная, не статист, но какие ассоциации могут проецироваться немцем? Что-то я вообще ничего не понимаю.
Несколько дней сидели на болоте. Люди умирали. А Некромант байки травит. Блин, я же все их знаю! Сам подобные любил толкнуть в свободные уши. Некромант – проекция моего «я»? Моя героическая несостоявшаяся часть? Ага, как в фильме «Близнецы»: всё лучшее – Арни и Некроманту, худшее – Де-Вито и мне. Только Арни в фильме большой и здоровый, а Некромант – как из «Обители зла». Живой мертвец. Он хоть понимает, что у него уже пошло разложение тканей? Оказалось, понимает. Как он жив до сих пор? Продукты распада должны давно попасть в кровь. Говорит, с Божьей помощью. Ну, вот, а ещё НКВД! Брехло!
Плавали по болотам, бегали чащобами лесными, всё это с боями, с потерями. Вышли в какую-то деревню, где были свои. Да, они мне «свои». А кто? Не немцы же. Пусть уж будет 1941 год. Неприятно думать, что другой вариант. Ну, что я умираю, а мне мерещится. Сорок первый хоть надежда. В общем, опять самообман.
Видно, красные командиры решили прорываться к фронту. Опять марш-бросок. Бои.
Судьба Голума
Размышлизмы больного мозга
Смотрел я на этих людей и восторгался ими. Да, таких не сломать, не победить! На смерть идут, как на пятничную пьянку – с мрачной решимостью. С затаённым предвкушением. С полным самоотрешением. Ага, «гвозди делать из таких людей».
На их фоне я выглядел ещё мерзостнее. Моя самооценка упала до небывалых глубин. И я начал ненавидеть их. Их всех. Данко херовы! Жертвенники! И что от ваших двадцати пяти миллионов жертв? Кому лучше стало? Амерам? Жидам? Им – да! А нам? Русским? Ну, забили Гитлера, а его покровители и создатели тут же стали душить победителей. На органы нас. Не негров, не азиатов. Нас. Сейчас не модно так говорить, но – ариев. В основном славян. Почему? Оказывается, от неариев не годятся органы. Это как в автомобилестроении – есть немецкие запчасти и китайские. Китайские годятся, но со всем известным качеством. А есть сертифицированные немецкие. И все знают, что они дороже, но лучше. Так и тут. Именно славяне стали рынком запчастей для людей. Сертифицированных запчастей. Не богоизбранный иудейский народ. А внуки Сварога. Славяне. Арии. Вот так вот черный рынок и подтвердил осмеянную идею чистоты рас. Вот такой вот вывод из поисков сверхчеловека. Заодно и нашли прародину человека разумного. Место, где зародилась мыслежизнь. Наиболее генетически близки к идеалу, ГОСТу, считай Богу, именно славяне. Наименьшее количество генных примесей, считай брака.
Вот мне и стала понятна такая жгучая ненависть Запада к русским. Они же без разбора всех славян называют русскими. Да и правы они. И я ненавижу этих парней, с одухотворёнными лицами готовящихся к штурму. Ненавижу! Ненавижу, потому что не стал ими. Не стал таким, как они. Не стою в их рядах. И никогда не буду стоять. Так и Запад, и все, кого мы привыкли крестить этим словом, ненавидят русских. Что не смогут жить, как мы. Не могут стать нами. Что бесконечно далеки они от совершенства, от Бога. Бесконечно. Безнадёжно далеки. Это славяне «под Богом ходят». Не они, такие все цивилизованные, а варвары-славяне под Богом. Что какой бы строй нам ни навязали, каких бы «царей» не посадили, как бы ни унижали, уничтожали, мы строим и строим царствие небесное. Этикетки у царствия небесного меняются, а суть – нет. Сейчас внуки Сварога строят коммунизм. Этого допустить нельзя! Когда проект будет на завершающих этапах, «ундермиши», недочеловеки, все эти нелюди с чудовищными генетическими, а соответственно и психологическими проблемами начнут умирать. Умирать просто и без причины. Или массовыми волнами суицидов. Я не знаю, что тут за взаимосвязь, но она есть.
На себе чую. Пусть с генетикой у меня нет проблем, но вот с головой и душой полный швах. Я вижу, чую сейчас вокруг меня зарождение надличностного сознания. Как там? Эгрегор, что ли? Эти ребята, отринув в себе всё тёмное, звериное, сейчас создают незримую сущность – боевое братство. Они уже возвысились сами над собой. Они сейчас, готовясь к священному таинству, ритуалу – бою на смерть, идя на смерть в великой священной войне, стали в данный момент – может, не навсегда, но в данный момент – теми, кем были их предки – потомками богов, богоподобными. Богами. А я не стану. Убил я в себе всё светлое и чистое. Затухло пламя души как пламя свечки. И я чувствовал свою ущербность невыносимо сильно. И чем больше крепчала надличностная сущность бойцов, тем меньше мне хотелось жить. И тем сильнее были позывы к суициду.
С каждым боем, с каждой жертвой эгрегор крепчал. Ведь погибшие не покидали его, души их целиком переходили в сущность. Давление на меня усиливалось. А значит, не только на меня, но и на немцев. Это будет мешать им думать, парализует их волю, исказит оценку реальности. И поможет нашему маленькому отряду победить. Я уже вижу, что коллективный разум братства, товарищества нашёл оптимальное решение. И им удастся прорыв. И ничего немец не сможет сделать. Он будет постоянно отставать. На шаг, на тик. Но отставать. Не сможет эгрегор немцев бороться с нашим.
И вдруг я понял – мне не перейти фронта. Сущность находится на пике могущества. Когда отряд окажется у «наших», товарищество распадётся. Бойцов распределят по разным подразделениям, они войдут в состав иных сущностей, жертвенные души погибших освободятся и вознесутся, а я – просто умру. Я – внутри сущности, но вне её. Как и этот немец Вилли. И хотя генетически мы оба арии (иначе умерли бы уже давно, при наборе эгрегором определённой мощи), но не хватает нам комплектности. У него – разум европейца, не способный принять эгрегора подобного типа, у меня – порвана и изгажена душа. Эгрегор я вижу и чую, но не способен в него влиться. А значит, он отринет меня.
Сегодня. Сегодня всё кончится. И вдруг я почувствовал огромное облегчение. Прямо камень с души свалился.
– Сегодня всё кончится, – сказал я вслух, неожиданно для себя.
– Сплюнь, мерзость, – прорычал Некромант, вяло пихая меня ногой в ошмётке сапога, раз тридцать перевязанного скотчем, – мне тебя надо дотащить до товарищей с пылающими руками и чистым сердцем. Или наоборот. Не помню. Они тебя посадят под стеклянный колпак и начнут препарировать. Как белую крысу. Вот житуха у тебя начнётся!
Всё это он бубнил, не открывая глаз, в полудрёме.
– Лучше ты сплюнь, чтоб самому под стеклом не оказаться, – ответил я.
Некромант оскалился. Его сухие обожженные губы тут же полопались, выступили скупые капли чёрной крови. Но ничего не сказал.
Судьба Голума
Жертва
А когда пришло время, бойцы пошли в атаку. Как я и предвидел, у них всё получилось. Отряд шёл с боем сквозь немцев, как раскалённый нож сквозь масло. Немец ничего не смог им противопоставить. Всё, что они могли – стрелять вслед.
А когда мы прошли, случилась вторая часть предсказания. Первым выбыл немец Вилли. А потом и мне прилетело.
Я был готов к этому. Был морально готов к смерти. Поэтому не удивился, не испугался. Сидел и смотрел на огрызки своих ног, пытался пальцами удержать убегающие из живота кишки. Только бы Некромант не вернулся! Ему – нельзя. Но он пришёл. Я хотел его остановить, крикнуть, прогнать, но ком встал в горле – я не хотел сдохнуть как собака, в одиночестве. Он подошёл, встал на колени рядом. Впервые взгляд его стал человеческим, не стволами пистолетов.
– Простите меня, – сказал я ему. – Я завидовал вам. У вас есть Родина, которую не стыдно любить. За неё умереть… Я хотел вам помочь… Я старался, писал, вспоминал… Прости… Помоги… Мне так… Больно!!!
И тут боль накрыла меня. Я хотел ему сказать, чтобы он бежал сейчас же, пока не поздно, но получился лишь дикий крик.
– Я тоже из будущего. Я – это ты. А ты – это я.
Зачем ты сделал это? Зачем ты убил себя? Зачем ты отринул сущность братства, его иммунитет, признался ему, что ты – чужой? Зачем признал наше единство? Я же падаль, а теперь и ты ошкварился. Всё это время ты противопоставлял себя мне, это давало тебе силы и стремление расти, совершенствоваться. А теперь ты – это я. И ты тоже проклят.
Жертва? Ты это сделал специально? Интуитивно? Спасая мою душу? Давая надежду? Жертвуя собой? Ты хоть осознаёшь цену этому?
Я хотел поблагодарить его, но не смог. Не смог произнести ни слова. Мне было так больно!
Он встал, направил на меня автомат, кивнул мне. Он хотел меня добить, чтобы я не мучился. Он убивал меня. Хотя я уже был мёртв. Поэтому его глаза сейчас не были глазами убийцы. В его глазах я увидел взгляд моего сына.
Огонь проглотил меня.
Перезагрузка (1942 г.)
Языки пламени лизали уже почерневшие поленья. Душистое мясо на шомполах. Костёр, шашлыки.
Я огляделся. Сидел я на берегу широченной реки, у костра на чурбаке. За кустами слышались голоса нескольких человек. Но первый вопрос, который у меня возник – где я? А потом – почему трава такая высокая? С какого перепуга кусты полностью зелёные, снег же только пошёл?
На поляну вывалились Брасень, Прохор и Кот с охапками хвороста. Увидев эту троицу, я вспомнил, что это мир Кузьмина, что было чекистское мозгокопание, а всё остальное мне причудилось. Может, меня опять контузило, и всё это мне привиделось? Все трое были в форме. Я тоже пощупал петлицы. Я – старший лейтенант. Но Брасень тоже старшина. А Прохор – сержант. Кот лишь был без знаков различия.
Они подошли, стали мне рассказывать что-то. Я не слушал. Курить хотелось, но в карманах не было ни привычных папирос, ни кисета с табаком, ни трубки, даже зажигалки и то не было.
– А где курево?
Этот невинный вопрос сильно их напряг. Все трое застыли, выпрямились, уставились на меня.
– Кузьмин? – спросил Кот.
– Нет, блин, Пушкин! Где моя трубка? Хоть папиросы?
Кот прыгнул к сваленным в кучу вещмешкам, выхватил «Моторолу», крикнул в неё:
– Улей, Овода срочно вызывает Кот.
– Овод, – через несколько минут прохрипела рация.
– Объект требует курить, – косясь на меня, сказал Кот.
Я лапнул бок – кобуры нет. Оружия никакого. Гля, что происходит?
– Он в порядке? – спросила рация.
– Оружие ищет, – ответил Кот.
– Буду. Глаз не спускать! – рявкнула рация, щёлкнула.
– Кот, что это за шпионское кино? – спросил я его.
Они молча смотрели на меня.
– С кем связывался? И откуда ты «Моторолу» взял?
– Медведь, ты?
– Нет. А кто должен быть? Винни-Пух?
– Ребята, похоже, Медведь вернулся!
– Я, честно говоря, что-то ничего не понимаю. Что я тут делаю? Что вы тут делаете? И почему трава уже так отросла?
– Медведь! Он!
Они подлетели ко мне, облепили, затискали, со слезами на глазах и дебильными улыбками на лицах. Что-то хором говорили. Что рады, что я пришёл в себя. Вот тут я испугался. Что со мной эти мозгоёжи сделали? Для меня пропали… А сколько же времени я отсутствовал, что трава успела отрасти?
Заскрипели тормоза где-то неподалёку, послышался топот множества ног, на поляну вылетели Кельш с пистолетом и два бойца НКВД с автоматами. Бойцы мгновенно взяли всех нас под контроль своих глаз и стволов, а Кельш настороженно подошёл ко мне.
– Отойти всем!
Троица мгновенно отскочила. Кельш подошёл вплотную, наклонился, внимательно всматриваясь в мои глаза.
– Да в чём дело, Колян Коляныч? Эксперимент не удался?
– Данилов?
– Упаси Господи! С чего вы взяли? Кузьмин я, Колян Коляныч. Забыли? Ведущий, как там вы обозвали, эксперт, что ли? Шаман, он же Медведь, он же Пух, он же…
– Когда война закончится? – так же настороженно спросил он.
– И когда же она, проклятая, закончится! А вас какая версия интересует? Наша с вами? Это от нас зависит. У Голума она не кончится.
Он отбросил пистолет, сграбастал меня в объятия.
– Как же ты нас всех напугал, Медведище!
– Это чем же?
Когда все успокоились, расселись вокруг костра и бойцы осназа утопали восвояси, Кельш поведал мне печальную историю неудачного гипноза. Оказалось, что гипноз вырубил меня. А сознание старшины Кузьмина, считавшего себя умершим, заняло пустующий разум. Никто ничего не заметил. Эксперимент с гипнозом был признан неудачным – Кузьмин впал в буйство. Посчитали, что мне нужен отдых. Отвели в мою комнату. Кузьмин сутки молчал, а потом попытался застрелиться. Он же не знал, я, кстати, тоже, что патроны и в ТТ и в СВТ были заменены на беспороховые пустышки. Оружие отобрали, но Кузьмин отказался общаться с кем бы то ни было. Он пытался ещё и повеситься на собственной, вернее моей, гимнастёрке. Вот тогда наши доблестные чекисты и всполошились. Собранный консилиум, конечно, не смог догадаться, что в одном теле жили два сознания, они видели типичное раздвоение личности. Решили, что это от чрезмерных умственных нагрузок (нельзя не согласиться). Постановили, что это тело надо вернуть в привычную среду. А тут как раз полковник Степанов приехал в Горький с большой группой своих подчинённых получать новые орудия для своей мотострелковой бригады. Степанов, побыв, отчалил разруливать дела бригады. Так эта троица оказалась здесь.
– Да, Николай Николаевич, подобного я не ожидал. Оказывается, я – шизофреник.
– Никто и не сомневался с самого начала, – буркнул Брасень с набитым ртом, за что тут же получил хворостиной в лоб. Сухая ветка сломалась на три части, Брасень лишь лоб почесал.
– Они в курсе? – спросил я Кельша.
– Не слишком и удивились. А Прохор и нашёл способ твоего возвращения.
– Спасибо, Прохор!
Прохор, изрядно возмужавший, просто кивнул, скромно улыбнулся.
Дальше разговор потёк легко и непринуждённо. О работе и проблемах не было сказано ни слова. Травили байки, анекдоты, пели. Я им пересказывал фильмы будущего, которые могут и не быть сняты здесь, пел песни, которые могут быть и не написанными.
Просидели до утра. Душевно посидели. Степанова только не хватало. Но он занятой человек, семейный. Настоящий полковник. Не то что мы, шантрапа! А Кельш стал комиссаром ГБ 3-го уровня, тьфу ты, ранга.
Я – инквизитор
Руководитель особой аналитической группы при НКВД, где теперь состояли мы вчетвером, комиссар ГБ 3-го ранга Кельш изменил нам правила игры. Он решил больше не рисковать столь ценным, но хрупким каналом получения информации, как моё сознание, и категорически запретил мне напрягаться. Я уже являлся ведущим специалистом-аналитиком, а стал руководителем подгруппы. В эту подгруппу пока входили только Прохор (медобслуживание), Брасень (хозчасть) и Кот (безопасность).
Потом прибавился медведеподобный сержант-осназовец. Ростом ниже меня на полголовы, но способный сломать любого голыми руками за секунду – богатырской силой он прямо лучился. Голова выбрита налысо, высокий лоб, под надбровными дугами спрятались не только серые глаза, но и брови. Чтобы увидеть его брови, сержанта надо было сильно удивить, но сделать это было практически невозможно. Он казался уродливым, хотя лицо было сложено пропорционально, лишь нижняя челюсть чуть массивней, чем надо. Рот обычный, но зубы крупные, клыки заостренные, от чего улыбка его, в сочетании с убийственно-холодными глазами, казалась угрожающим звериным оскалом.
Как только мне его представили, у меня возникла стойкая ассоциация:
– Ну, здравствуй, Громозека! – приветствовал я его. И вот тут мы увидели его брови.
В моей памяти Громозека ассоциировался с огромной, но доброй силой. От сержанта создавалось какое угодно впечатление, но только не добрячка. А таким он в душе и оказался. У него было имя, фамилия, осназовское прозвище, но с этого дня его никто иначе как Громозекой не называл.
Кстати, есть стойкое предубеждение, что подобные Громозеке спецназовцы, способные сломать разом две подковы и головой пробить стену, очень тупые. Громозека тоже производил такое впечатление – молчаливый, мог за целый день рта не раскрыть, неспешный и скупой в движениях, явный держиморда. Но глаза его этой телячьей тупостью только завешены, как шторой, он чётко, как промышленный компьютер, просчитывал всё вокруг, если никто не видел и дел у него не было, доставал книгу, начинал читать. Когда я это впервые заметил, поинтересовался жанровым пристрастием. Его не оказалось. Читал любую распечатанную строчку. После томика стихов в руках его оказался справочник сопромата, который он изучал с не меньшим интересом. А когда мне удалось растормошить его и разговорить, он поразил меня точностью психологических портретов окружающих и глубокими философскими суждениями о происходящем. Такой вот меднолобый.
Сержант отвечал за мою личную безопасность.
К работе меня не привлекали, и я, воспользовавшись статусом вольноопределяющегося, наведал Степанова. Посидели, вместе позавтракали, потом поехали на ГАЗ. Степанову нужно было получать автотехнику и роту лёгких танков. На Горьковском автозаводе-гиганте как раз произвели модернизацию лёгкого танка Т-60, превращая его в то, что назовут Т-70.
Подумав, я приказал вернуться на базу, где я, Кот и Громозека переоделись в парадное, нацепили награды (Громозека имел орден Красной Звезды и медаль «За отвагу»). Кот надел форму капитана войск НКВД. В таком виде мы и вступили на территорию завода-города, настолько он был огромен.
Санёк ушёл общаться с руководством, а я решил прогуляться по цехам. Наши документы обеспечивали нам вездеход. Перед экскурсией проинструктировал своих охранников по технике безопасности – привычка, обретённая на производстве: в цех без инструктажа не вступай.
– Не лезьте туда, куда собака хвост не совала. По возвращении пишем сочинение на тему: «Что я увидел необычного». Ясно? Тогда попрыгали.
Впечатлений была масса. Положительных мало, а так – масса!
С полковником Степановым встретились в танковом цехе. Стоял брёх. Полковник требовал танки, мужик в форме технических войск вежливо посылал его по неинтересному аморальному маршруту. Ему башни не привезли, и всё тут! С новыми литыми башнями у завода-подрядчика никак не заладится. Я не вмешивался, походил, пощупал танки, поглазел вокруг, только потом встрял:
– Товарищ полковник, разрешите обратиться!
– Что, Витя?
– Саш, на хрена тебе это говно?
Мужик аж подпрыгнул.
– Не понял, – угрожающе уставился на меня Санёк.
– Ну, сам посуди, какой от них толк? Броня противопульная, башня маленькая, там умещается только пушка-«сорокапятка» и один человек. Танк слепой, глухой, беззащитный и беззубый. Что такое «сорокапятка», тебе надо объяснять? Против танков не годится, против пехоты – тоже. Какое назначение этого танка? Чтобы было? Против кого на нём воевать? Против зулусов? Как у немцев пехота насыщена противотанковыми орудиями, ты знаешь. Этот танк нужен был лет десять назад. А теперь – только против турок или японцев. Это стальной гроб для двух пацанов. Этот танк делали не для войны, а для… Интересно, для чего? Для отчетов?
А вокруг нас собрался рабочий люд. Какой-то ботан в очках кипел чайником, но НКВД за моими плечами надёжно затыкало ему свисток.
– Блин, как сотрудник госбезопасности, я тут вижу явное и умышленное вредительство.
Чайник побледнел. А я развивал тему:
– Это что ж получается, ресурсы потрачены, люди заняты, товарищу Сталину доложили, что армия наша располагает энным количеством танковых полков, а на самом деле? А на самом деле боевая эффективность танка стремится к нулю. Он даже для разведки и боевого охранения не подходит. Какая, на хрен, разведка, когда заряжающий, наводчик, командир танка и ротный – это разом один и тот же человек? И рации нет. Какая разведка? Как управлять этим барахлом? «Делай, как я»? Так башнёру куда смотреть – на ротного или на противника? Товарищ полковник, если вы возьмёте эти подделки под танки, то и задачу не сможете выполнить, и пацаны сгорят без толку. А в принципе они до поля боя и не доедут.
– Что это не доедут? – чайник вскипел.
– Два бензиновых автомобильных двигателя по бортам, работающие на один вал, вне дороги создадут такой резонансный эффект, что без обрыва вала или заклинивания одного из движков никак не обойдётся. Они его по пашне не гоняли? А осенними размытыми дорогами? В армию поставляют! И… как вас, товарищ?
– Астров, главный конструктор, – гордо вскинул голову чайник.
Ого, историческая личность! Ах, как я мечтал покрыть матом человека, о котором будет упоминать учебник истории!
– Я обязательно напишу отчет обо всём, что увидел. Я только полчаса вижу этот «танк», а вы его создали. Вы его с какой целью создавали? До свидания, товарищ Астров!
Пока мы шли обратно, Санёк был очень задумчив.
– Что это было? – спросил он наконец.
– Провокация. Я не думаю, что он умышленный враг. Так, неотработанная, сырая конструкция, устаревшая до рождения.
– Он, конструктор, этого не увидел, а ты – увидел.
– Да что там видеть-то? Очень спешная модернизация. У Т-60 был один автомобильный движок, тут, видимо, решили поставить два. Если один выйдет из строя. Систему спряжения двигателей ещё не успели продумать. Рано или поздно пришли бы к продольному последовательному соединению. Да и прежде, чем что-то делать, нужно иметь представление – на хрена? Им поставили задачу – танк весом до десяти тонн, они взяли готовые элементы и слепили то, что просили. Только лёгкие танки изжили своё. Им просто нет места на поле боя.
– А что вместо?
– БМП. Боевая машина пехоты.
– Нет такого.
– Будет.
Степанов вздохнул, отвернулся. Он что, боится меня? Да ну на!
Но чёрная кошка меж нами пробежала.
На следующий день по моей докладной мне было устроено промывание мозгов. Я многое о себе узнал нового, но не интересного. Даже обидного. А когда взялся отстаивать свою точку зрения, доказывать, что я не критикан дешёвый, то разверзся ад просто. Тогда я развернулся и ушёл, хотя Кельш меня не отпускал.
А не хрен исторических личностей троллить! Вот тебе и обратка от мадам Маховик. Так и слышу громоподобный глас Истории: «Ты кто такой? Давай, до свиданья!» Ага, щас! Лыжи смажу. Я тоже упёртый. Стал.
Я пришёл через полчаса с докладной на имя Сталина, где перечислил все свои мысли о лёгких танках этого типа и просил дать возможность выработать концепцию нового танка непосредственной поддержки пехоты.
Кельш прочёл, сказал:
– Написано по-идиотски. Переписывай!
– Не буду! Так отправляйте! – упёрся я. Пора Истории познакомиться с матерью Кузьмы. Той, что «кузькина мать».
Письмо моё до Сталина дошло. И очень быстро. А на следующий день на завод явилась группа командиров и военных инженеров. Тут были представители всех заинтересованных сторон. От армии – автобронетанковое управление, главное артуправление, наркомат обороны, наркомат танковой промышленности, генштаб, ещё какие-то структуры. Это была рабочая комиссия. Начался разбор полётов с конструкторами машины, командованием армии и промышленниками. Ну, а для начала пытались проехаться по моей личности. Неожиданно для меня Кельш оказался на моей стороне. Обломись, ребята! Мы – аналитическая группа! Оказалось, что мы – инквизиция! При Берии. Это ему Кельш напрямую доложил мои соображения. А БМП они видели в «Девятой роте». Отсюда такая скорость всех действий.
Разбор быстро перешёл в стадию бесполезной брехни. Армии нужно много танков, промышленность их дать не может, а конструкторы слепили из того, что было, то, что есть.
А потом прилетел Берия. И я был удостоен личной аудиенции.
– Здравия желаю, товарищ народный комиссар госбезопасности!
Берия, невысокий крепыш с внешностью типичного кавказского еврея, в знаменитых очках и с красными глазами за ними. Поморщился – я, наверное, громко кричу, показал на стул:
– Здравствуй, крестник. Проходи, садись. Мне уже докладывали, что ты, как та свинья, везде найдёшь приключение. Как говорил товарищ Кремень, упадёт в самую вонючую лужу и достанет самородок. Надеюсь, в этот раз ты неспроста взбаламутил это болото.
Акцент не сильный. А он не похож на те попытки его изобразить, что я видел.
– Так точно, товарищ народный комиссар госбезопасности!
– Не ори, товарищ Шаман, не ори! И ко мне обращайся – товарищ Берия.
– Есть, товарищ Берия.
– Да хватит формализма, сядь наконец. Давай просто поговорим. Расскажи мне, что ты там придумал.
– Я считаю подобные Т-60 и Т-70 машины полностью бесполезными, а учитывая наше положение, ещё и вредными, отвлекающими ресурсы и людей без пользы. Самообман к победе не приведёт.
– Американцы продолжают строить подобные танки.
– А немцы прекратили. Они срочно переделывают оставшиеся лёгкие танки в разведывательные машины поддержки танковых батальонов, ещё лучше станет обзорность и связь. И в противотанковые самоходки.
– Да, мы тоже получили такие сведения.
– А янки? Их вообще рано считать танкостроительной нацией. Ну, они богатые, нехай побалуются. Против японцев и Т-60 был бы отличной машиной. Но мы воюем с Гитлером и вермахтом, с лучшей военной машиной мира. И эксперименты нам обойдутся вдесятеро дороже.
– Это понятно, что ты предлагаешь? Что-то из своих видений?
– Можно и так сказать. Используя имеющиеся мощности и части танка Т-70, можно создать более эффективную машину. А вернее, комплекс машин.
– Так-так. А не вылетим ли мы в трубу с твоим комплексом?
– У всех машин будет одна база, одно шасси, но разные надстройки. Машину надо сразу проектировать модульную. То есть по необходимости на едином шасси надстраивается или лёгкая самоходная артустановка, я предполагаю с орудием ЗиС-3 как потенциально массовым. Подобного орудия достаточно. САУ будет работать позади пехоты вместе с ней, огнём расчищая ей путь. При необходимости САУ может исполнить роль кочующего орудия или отразить контратаку танков. Но это машина пехоты. Для борьбы с танками надо создавать более защищённые САУ на базе Т-34 или КВ, но с более мощным орудием, чем у сопровождаемых танков. Вторая машина – зенитная самоходка с 37-мм орудием, американскими или трофейными 20-мм автоматами или спаркой ДШК, способная открыть огонь немедленно по неожиданно возникшей угрозе с неба. Их задача – сопровождение на марше колонн и зонтик над ними. Третья машина – боевая дозорно-разведывательная машина высокой проходимости для разведподразделений механизированных частей. Глаза и уши разведки будут прикрыты от неожиданностей.
– Бронеавтомобили используются для этого.
– Я видел разгромленную колонну. БА-10 не смог пройти через придорожный кювет. А разведка в бездорожье?
– Есть ещё?
– Боевая машина пехоты. Перевозка до отделения мотострелков, прикрытие их бронёй и крупнокалиберным пулемётом. Для комплектования мотострелковых батальонов будущих танковых армий.
– Перспективы ты разрисовал радужные. А удастся?
– Дорогу осилит идущий, Лаврентий Павлович.
Берия замолчал, долго думал, потом, наконец, спросил, хотя видно было – вопрос был результатом долгой внутренней борьбы:
– Что ты знаешь обо мне из будущего?
Я вздохнул. Я тоже боялся этого вопроса. Я рассказал ему, что он палач, душегуб, растлитель тысяч девственниц. Ему очень понравилась фраза про «пятьсот-мильонов-невинно-убиенных».
– Это юмор. Похоже на реакцию отторжения навязываемой лжи, – задумчиво сказал он.
– На ваше имя вылито столько помоев, всё так основательно перемешано с грязью, что уже и не разобрать.
Я ему рассказал о его руководстве ядерным проектом, об отставке и казни.
– А дети? – этот вопрос дался ему ещё тяжелее.
– Я не интересовался вашими семейными делами, Лаврентий Павлович. Скандалов с именем ваших детей на слуху не было. Я даже не знаю, сколько их у вас. Помню только, да и то не точно, что вроде как один из ваших сыновей плотно работал над атомным оружием. И с ним всё было нормально. Известный в кругах физиков-ядерщиков учёный. Только я ошибиться могу, Лаврентий Павлович, вы уж простите меня.
– Не за что мне тебя прощать. Как я понял, раньше, осенью, ты принёс другие сведения.
– Будущее не предрешено. Каждую секунду каждое наше действие меняет будущее.
Берия долго смотрел в мои глаза, потом мы распрощались.
Когда я вышел от него, облегчённо выдохнул. Гимнастёрка на спине потемнела от пота, будто кросс пробежал. Видя моё состояние, Кельш отпустил меня спать.
Я – конструктор. Или немного прогрессорства
При Наркомате танковой промышленности было создано особое конструкторское бюро, типа НИИ более позднего периода. Как оно на самом деле числилось, мне было недосуг запоминать. Специалисты этого НИИ присоединились к рабочей группе конструкторского бюро завода, фактически подчинив их себе. Я стал ведущим советником. А так как сам Берия рекомендовал им прислушаться к моим советам, то приступили к работе.
Читая приказ о моём назначении, сначала не поверил – речь в приказе шла о капитане Кузьмине. Кельш, улыбаясь, вручил мне новые петлицы со шпалой. Так теперь я оказался в ранге старшего комсостава.
Старшим в особом бюро боевых машин поддержки (прижилось моё название) был еврей с фамилией Гинзбург, которую я долго не мог запомнить. Вот мы собрались вокруг Т-70 без башни. Слово предоставили мне. Я начал так:
– Главное в боевом оружии – это его эффективность. Каким бы технически совершенным ни был образец конкретного изделия, если он не помогает достичь цели – он плохой! Поэтому разработку новой боевой платформы надо начать с тех задач, в процессе решения которых и появится наша боевая машина. Кто-нибудь записывает? Ага, хорошо!
Итак, первое – вес. Будем ориентироваться на десять – пятнадцать тонн. Сам вес не столь важен, важна проходимость. Пункт два – проходимость. Машина должна обладать достаточной мощностью для поддержания маршевой скорости по шоссе до 60 км/ч, вне дорог – 40 км/ч, и должна суметь пройти там, где может пройти пехота, то есть на слабых грунтах. Защищенность – это третье. Лобовая проекция должна держать бронебойные пули, снаряды мелкокалиберной артиллерии до 37 мм включительно, бока и корма – бронебойные пули противотанковых ружей. Вооружение. Тут зависит от типа машины. Давайте займёмся базой.
Основой пойдет вот это уёжище, простите, если кого-то обидел. Что мне не нравится? Узкая база. Кто вас ограничил в ширине корпуса? Что же вы все такие узкоформатные? И вездеход ГАЗ-64 сделали зауженным, все бронеавтомобили из-за этого неустойчивы. Вы для чего машины делаете? Для войны? Так война редко на дорогах происходит. И не на шахматной доске ведётся. Машина должна быть устойчивой и просторной внутри. А высоту повышать нельзя. Это влияет на живучесть. Надо делать шире.
– Производственная база вводит эти ограничения.
– Да, согласен, и из этого тупика два пути. Заказать или построить нужное оборудование. Это большая головная боль конкретно для вас. Или ляпать как есть, и пусть голова болит у армии. Так? А если я вам сейчас, суки ленивые, свинцовую примочку от головных болей и геморроя разом выпишу? Вы о пацанах, что на ваших уёжищах переворачиваются в боевой обстановке, думали? А если за них сейчас я спрошу? Хорошо устроились, импотенты духовные!
– Ширину военные заказали именно такой, чтобы в самолёт влезал, – возразил Астров.
Я подождал, пока успокоюсь, продолжил:
– Для подобных узкоформатных военных останется линейка узкоформатных машин. Назовём узкую серию «аэро». Думаю, они будут в пролёте, но формально их требование вы выполнили. А для всей остальной армии – за ширину новой машины берём ширину железнодорожной платформы. Я сейчас не помню, схожу, померяю. Это единственное ограничение ширины. Если нехватка оборудования – мне подать список. Мы с Лаврентием Палычем разберём ваши заявки. Что-то закажем, что-то сами сделаете.
Я обошёл машину, встал около кормы.
– Длина явно недостаточна. Самоходное орудие должно быть устойчиво для точности и скорострельности. В широкую и длинную машину пехоты должно вместиться отделение стрелков. Это десять человек. Ещё водитель, пулемётчик и командир машины. Тринадцать-четырнадцать человек. На глаз, тут надо добавить три – четыре катка с соответствующим удлинением базы.
Откройте, будьте добры, моторно-трансмиссионное отделение. Ага. Я не спрашиваю о профпригодности и грамотности человека, кто эту систему спряжения придумал. Мне не интересно. Все мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но даже мне, пехотному командиру, ясно, что взаимные колебания перемножатся и просто разрушат двигатель. Уже увеличивали толщину вала? Ещё хуже будет. Что не пошли проторенной дорогой авиадвигателестроителей? Кораблестроителей? Они ещё на заре века ставили несколько моторов в ряд, с работой на общий вал, удваивая или утраивая таким образом количество поршней. Два двигателя становятся одним. Мы сделаем то же самое. И гибкая муфта меж ними, чтобы наверняка. Так, я думаю, этого на сегодня достаточно. До утра всё обсчитать!
Конструкторов распустил, пошёл по заводу. Первый пункт – инструментальное производство. Надо выяснить его возможности. Потом литейные цеха и участки, сварочные, кузнечные, прессово-штамповочные, термообработки, только потом – сборочные.
Облазив и достав всех мастеровых инструментального участка, был разочарован. Пошёл в литейку. И только там до меня дошло, что я не оттуда начал.
Мощность начинается с энергии. А энергия – это ТЭЦ. Там тоже оказалось всё тоскливо. Нет резерва расширения. Расширяться некуда, надо совершенствоваться. Побеседовал с главным механиком завода и главным энергетиком. Резерв изыскали. И Кельш обещал что-нибудь поискать.
Расчёты закончены, решили строить модель в натуральную величину. Причем меня удивил подход этого завода – модель строили не из дерева, а из алюминиевых листов. На стенде запустили последовательную спарку. Работает. Стенд не поле, конечно, но и это радует.
Пришёл ответ по списку, что я передал Кельшу. Будет поставка оборудования, станков и электродвигателей из США. Когда я пришёл с этой вестью к руководству завода, былой лёд меж нами треснул до дна. В моём лице они увидели не только проблемы, но и решения. Не охамевшего меднолобого держиморду, инквизитора, а коллегу.
Надолго, на несколько дней, застрял в металлургии. С главным металлургом вообще чуть не побратались. Ещё бы – шесть лет в литейке я не груши околачивал. Их очень заинтересовали многие решения, привычные для меня, которые для этого времени хоть и были известны, но считались рискованными, новаторскими. Спроектировали, заложили, а потом и запустили несколько новых литейных машин и участков. Сам лично проводил плавки и заливки до тех пор, пока мастеровые не освоили кокильное литьё, центробежное литьё.
Были разработаны и отправлены заказы на изготовление пневматических формовочных машин, машин литья под давлением. Очень заинтересовало моих коллег литьё по выплавляемым моделям. В моё время для этого использовался пенопласт, здесь решили использовать парафин.
Жаль, но плавки в вакуумных печах и порошковая металлургия для этого времени – неосуществимая мечта. Но доклады на эту тематику настрочил.
Энергетики запитали установки электрошлакового литья. Кокиля уже готовы. Противопригарные краски изготовили сами. В моём прошлом нас часто кидали снабженцы, и мы, узнав состав смесей, флюсов, присадок, часто смеси делали сами. Получалось не очень, но лучше, чем ничего. Опыт мне пригодился здесь. Шнурового асбеста я не дождался. Пришлось выкручиваться. Первые три плавки и заливки провёл сам. Ещё на трёх присутствовал. Получается. И слава богу!
Пока я душу отводил вознёй в литейке, корпус из обычной, не броневой стали был собран. Пора ехать за орудием. Первой нашей машиной будет «Единорог», который я знал как СУ-76М.
Если Грабин и удивился при виде меня, то вида не показал. Я объяснил ему, что мне нужна версия ЗиС-3 для самохода. Грабин собрался мигом, взял с собой несколько лобастых подчинённых, и мы приехали на наш завод. Благо, завод, на котором трудился этот гениальный инженер, расположен также в Нижнем – тьфу, Горьком. Тут Грабин, Астров, Гинзбург, я и ещё куча инженеров бурно обсуждали вид САУ, место установки орудия, способ. Я отмёл тезис, обозвав его «ненужным консерватизмом», что орудие не должно выступать за габариты машины.
– Лет через двадцать Василий Гаврилович будет ставить на средние танки шестиметровые 125-мм автоматические орудия. Как им не выступить за габариты?
– Молодой человек, это невозможно. Танк не выдержит, – возразил Грабин.
– Это сейчас. А когда будет изобретено нечто новаторское в подвеске? А если на танке 750-сильный дизель? А тысячасильный? А вес орудия снизится. Оно будет гладкоствольным.
– Какой в нём смысл?
– Стрельба оперёнными подкалиберными снарядами по хорошо защищённым целям. А гранатой и так нормально, без нарезов. Танк всё одно не гаубица, дальше, чем видит, не стреляет.
Грабин надолго задумался, выпал из обсуждения. Но в процессе дальнейших согласований завод стал поставлять нам переработанную орудийную систему, уже готовую к установке. Орудие ЗиС-3Ш (штурмовое) было оптимально заточено под наше САУ. Противооткатные устройства были забронированы кожухами, специально разработанный станок и щит вместе с орудием просто вгонялся в пазы и крепился болтами. При необходимости и наличии крана орудие заменялось очень быстро.
Орудие торчало вперёд машины, машину я настоял сделать минимальной высоты, но максимально просторной. Высота получилась даже меньше двух метров. Между моторным, трансмиссионным отделениями, отделением управления и боевым отделением пока перегородок не было. Бак с горючим тоже не отделён.
Боевое отделение я видел так – наводчик орудия позади механика-водителя, сидящего в носу машины, в отделении управления, соответственно слева от орудия. Командир машины и расчёта – справа от орудия, заряжающий – позади командира, а сзади – снарядный, он же пулемётчик. На этой машине будет зенитный ДШК. Боевое отделение будет открытым сверху и наполовину сзади. Хотя я думаю, что задний борт надо будет сделать складывающимся, чтобы разложенным он удлинял пол.
На рычагах – испытатель завода. За наводчика Астров, я за командира, Гинзбург за заряжающего, Громозека – пулемётчик.
Поехали! Машина пошла! Обратно мы возвращались пешком, оставив сломавшуюся машину дожидаться тягача, но в отличном настроении – машина ожила!
Посыпались как из рога изобилия производственно-снабженческие проблемы. Пока я мотался, их решая, пришёл приказ о создании на базе испытательного центра ГАЗ учебного центра № 7. И штат как у полноценного училища с одним курсом. Не понял я, директору завода – плевать. Объяснил по приезде Кельш:
– Кто будет воевать на твоих машинах?
– Их ещё на вооружение не приняли, – пожал я плечами.
Теперь удивился Кельш:
– Зачем заварил эту кашу, если в успехе не уверен?
Жестоко, но справедливо. И вселяет надежду. Только все организаторские заморочки с УЦ стали моей головной болью. Пришлось изыскивать время. От строительства машины, совершенствования технологий производства отрывать нельзя. Отменил личное время и утренние кроссы с Громозекой. На сон осталось четыре-пять часов.
Совсем зашился бы, выручил опять Кельш, прислав майора-инвалида, списанного вчистую – куда он с одним глазом, на протезе ступни и культей руки? Все организаторские вопросы по центру майор быстро перехватил у меня, чему я был только рад. Майор пахал как изголодавшийся, и у него получалось даже ловчее, чем у меня. Ещё бы – он до ранения погранучастком командовал.
Художник завода нашёл мне древнерусскую гравюру мифического единорога. Перепробовав несколько эскизов, выбрал один. Вырезали трафарет из листа алюминия и нанесли белой краской на борту изображение.
– Почему единорог? – спросил Кельш.
– Чисто наше, мифическое создание. Кроме того, у нас уже была в истории пушка-гаубица «Единорог». На ней, на казне, как раз этот единорог и был. Преемственность.
– Понятно. Я не против.
– Кроме того, мне больше нравится, когда всё имеет имя собственное. Ну, что это: Т-26, И-16, Ил-2, Т-34? А вот «Катюша» – другое дело. Янки, вон, молодцы. У них и номера есть, для заводов, а для народа и солдат – «Стюард», «Гранд», «Шерман», «Паттон», «Адская кошка», «Росомаха». У немцев – «Тигр», «Пантера», «Фердинанд», «Пума», «Леопард». Вещь с номером любить нельзя. А с именем – можно. А когда любишь своё оружие, то и побеждать легче.
– Эк ты завернул. А на вооружение как принимать будем?
– А как хотите. В историю войдёт как «Единорог». У той кутузовской пушки тоже индекс был, а все называли – «единорог».
Когда был собран третий «Единорог», прибыли курсанты и инструкторы в УЦ. И какова же была моя радость, когда среди них я увидел младших лейтенантов Кадета и Мельника! Кадет с пехотными петлицами, Мельник – танковыми. Обнялись, вечером обмыли встречу. Когда Кельш залетал, поблагодарил его от души.
Из отпуска по ранению пришел Казачок. Да не один, а с группой усатых казаков. Мы с ними побеседовали. Потом приехал Кельш, тоже беседовали с ним. Кельш уехал, казаки тоже, а Казачок включился в работу.
Платформа БМП встала на мелкосерийное производство установочной партии. Заказ – пятьдесят платформ. Людей сразу стало не хватать. Требовать людей – глупо. Хорошо, что хоть этих на фронт не забрали. Наступление на Юго-Западе и в Крыму требовало всё новых дивизий, тысяч и тысяч людей. С заводскими технологами засели за технологические карты, дробя техпроцессы на части для упрощения. Так я вводил конвейерный метод в производстве БМП.
Учебный год заканчивался, и мы, надев форму и награды, пошли по школам и училищам. Рассказывали о боях, о фронте, о враге, а потом спрашивали – не хотят ли ребята поучаствовать в производстве танков? Цеха заполнились маленькими сосредоточенными работниками. Они взяли на себя самую простую и нетяжёлую работу. Это потом они заменят отцов и братьев у сварочных автоматов (которые мы позже построим), у станков, печей. Очень широко стали привлекать к работе женщин. Вот такая вынужденная эмансипация.
Тут подошёл неизбежный момент. Конструкторы обратились ко мне как автору идеи, каким я вижу вооружение машин. Вопрос на самом деле серьёзный. Если спроектировать машину под установку одного оружия, а потом поменять образец – это перекраивать очень многие технологические цепочки. С «Единорогом» ещё более-менее понятно – лучше ЗиС-3Ш для подобной машины придумать сложно, а вот с остальными? ДШК оказался очень дефицитной машинкой, ДТ меня не устраивал мощностью, вернее маломощностью, сложностью конструкции и малой эффективностью боевого применения. Орудия 45 мм, на мой взгляд, вещь бесполезная. Уже в процессе обсуждения возник вопрос (у меня как пехотинца) о личном оружии расчётов и мотострелков. А что я мог им сказать? Те образцы оружейных систем, что просились в установочные гнёзда, ещё не созданы.
Обратился к Кельшу, обрисовав ему проблему.
– А какие системы ты бы хотел видеть на машинах? – спросил он меня, откладывая в железный ящик бумаги, с которыми работал, взял чистый лист и карандаш.
– Нужен пулемёт. Калибр 7,62 как основной в нашей армии. Но ДП и ДТ не годятся. «Максим» тем более. Вообще идеальным стал бы МГ-34 или МГ-42. Или пулемёт Калашникова. Хотя до него ещё лет семь. Подожди, в это время примерно должен быть объявлен конкурс на единый пулемёт, как МГ, но под наш патрон. Как же он назывался? А, СГ-43! Станковый Горюнова сорок третьего года. Кто такой Горюнов?
Кельш пожал плечами, быстро записал. Помахал мне рукой, продолжай, типа.
– Кроме этого, ДШК изготовляется что-то очень туго, хотя мощность патрона самая подходящая для вооружения летучих сил, джипов, например.
– Джипов?
– Ну, «Виллис», наш газовский «козлик». На верхней дуге ставить ДШК или аналог – вот тебе и очень подвижная огневая точка.
– Никто не пытался их вооружать. Смысл?
– Увидишь.
– А орудия?
– Орудия? Какие? «Сорокапятка»? Какой от неё толк? Бронепробиваемость никакая, осколочное воздействие гранаты никакое, скорострельность… В варианте ПТО отлично, но в танковом варианте не годится. Пока наводчик, он же командир, он же заряжающий засечёт место попадания, зарядится, откорректирует прицел – его сожгут. А двоих не посадить – слишком большое орудие. А у нас есть что-то аналогичное автоматической пушке немецкого Т-2?
– Авиационные орудия. Крупнокалиберные пулемёты с самолётов.
– Кто ж нам даст? Да и требуют они высокой квалификации и вдумчивого обслуживания. На аэродроме служит элита, а в мотострелках?
– А в тех машинах, прообраз которых ты строишь, что стояло?
– На БТР – КПВТ и ПК, БМП – орудие и ПК.
– Всё-таки орудие?
– Создано на основе станкового гранатомёта, 73-мм. Есть гранатомёт?
– Только начали создавать КБ под эту задачу. Ты бы сел, накидал на бумажку, что вспомнишь.
Мне стало стыдно. Совсем я забросил это дело. Надо наверстать.
– А остальное? – напомнил Кельш.
– ПК – единый пулемёт 7,62 на пятьдесят четыре. Стандартный, спаренный. КПВТ. Крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый. Кто такой Владимиров? Есть среди оружейников?
– Поищем.
– Отличная машина. Тут недавно был принят на вооружение отличный боеприпас 14,5 мм. Сейчас он в противотанковых ружьях применяется. А это пулемёт с этим боеприпасом. Для поддержки пехоты – ты не представляешь! Орудия, пулемётные точки, дзоты, лёгкую технику – всё разнесёт. А уж про скопления пехоты и говорить нечего. Представь.
– Представил. Этим стоит заняться.
– Пусковые установки противотанковых ракет и реактивных гранат. Нет, это не фантастика. У американцев уже есть действующий образец. Базука называется. У англичан есть. Неудачный, но есть. У немцев будут. Несколько образцов. Одноразовый панцерфауст, многоразовый панцершрек, зенитный. Его названия не помню.
– Этим уже занимаемся. Всё?
– Нет. Стрелковое оружие. Экипажей машин и мотострелков. Обычные карабины и ППШ не подходят. А где МП-40 набрать такую прорву? Нужны складывающиеся приклады, минимальные вес и габариты. Судаева нашли?
– Что его искать? Вывезли вместе с его последователями. Осваивается в Ижевске. Там неплохой механический завод.
– Да, в прошлом моего мира основная масса стрелкового оружия как раз там и будет делаться.
– А Тула? Ковров?
– А Тула будет делать скорострельные авиапушки, ракетные установки и многое другое. В общем, что посложнее и позаковыристее. Представь, на штурмовике будет стоять 30-мм авиапушка со скорострельностью тысяча восемьсот выстрелов в минуту.
Кельш зажмурился.
– Это возможно?
– Я в Тульском музее её своими руками щупал. В век реактивной сверхзвуковой авиации цель будет находиться в прицеле долю секунды. За это время она должна схлопотать несколько снарядов.
– Разумно. Садись, пиши. Всё, что вспомнишь по этой теме.
– Это запросто. Так что мне Гинзбургу говорить?
– Подождёт недельку. А там мы определимся, что сможем выделить на твои машины. Огнемёты возьмёшь?
– Возьму. Для машин инженерной разведки в самый раз.
– Чуть не забыл. Смотри.
Кельш достал из сейфа горсть патронов, высыпал на стол.
– Промежуточные? Уже? Блин, молодцы! А много? Когда стволы под них?
– Экий ты быстрый! Только конкурс на штурмовой патрон закончился.
– А почему штурмовой?
– Товарищ Сталин прочёл нашу аналитическую записку. И решил, что если патрон для штурмовых винтовок, то и называться он должен штурмовым, а не безликим промежуточным. Новый, только запущенный завод полностью ориентирован на производство только этого патрона. Сейчас отрабатываем производство гильзы из мягкой стали с защитным покрытием. Ведём испытание образцов с заменой свинца на стальной сердечник. Если удастся снизить расход цветных металлов, производство этих патронов будет достаточным. Да, конкурс на штурмовой карабин в самом разгаре. Лидирует Симонов.
– СКС? Может, хоть в вашем мире эта замечательная винтовка займёт более достойное место.
– Посмотрим. Ты пиши, пиши.
– Под Харьковом случилась катастрофа. Да, именно так. Противник подтянул свежие силы и ударом под основание отсёк наши, так удачно прорвавшие немецкий фронт, армии. В боевых порядках Юго-Западного фронта образовалась широченная брешь. И если бы в Харьковском котле не продолжали мужественно сражаться сотни тысяч бойцов и командиров, намертво вцепившись в немцев, случилась бы катастрофа ещё более сокрушительная. А так, ценой своей гибели, эти люди не дали немецкому командованию быстро освободить подвижные соединения и развить успех. Когда же «панцеры» стали наступать не на запад, а на восток, на их пути уже стоял жидкий, хлипкий, но заборчик из спешно переброшенных сюда частей. Конечно, они не могут совсем остановить машину вермахта, но оглушительный блицкриг не состоялся.
Вот такую я проводил политинформацию перед заводчанами. Я твёрдо решил не врать людям. Я им сказал всю правду. Она их не испугала – наш народ мужественный. Лица угрюмые, но глаза блестят.
– Ещё никогда и никто не проводил операций по окружению на таких просторах. Никогда и не было подобного уровня координации. Противник умудрился объединить в единое командование более двух миллионов человек, фактически несколько фронтов. Этого не было. Контрудара ждали, но не на таком отдалении, не такой глубины и не такого размаха. Масштаб этой операции превосходит все операции вермахта прошлым летом. Мы потеряли много людей, много техники. Но знаете, что я заметил? Операция нашим противником проведена рекордная, а вот целей она достигла намного более скромных, чем в прошлом году. Да-да! Удар силён, мы потеряли тысячи танков и стволов артиллерии, но люди ещё выйдут из окружения, навык у многих уже есть. Этот удар потряс нас, но не убил. Прошлогодние удары были намного более тяжёлыми по последствиям. Но мы выстояли! У нас есть опыт стойкости. Прошлым летом враг ломился всюду. В этом году – только на юге. На севере и в центре он и вздохнуть широко не может. Получается, не та силёнка у врага, а? В прошлом году обломали ему рога, неужто в этом хребет не сломим?
Во-от! Глазки загорелись! Спины повыпрямлялись.
– Теперь у нас не одна бутылка огнесмеси на двоих! Промышленность выпускает сотни пушек и танков ежемесячно. Вы, дорогие мои заводчане, выпускаете так необходимые фронту машины. Без них солдат гол, голоден и безоружен. Без вас не будет победы! Помните об этом!
Я отпил воды. Подумал немного.
– В прошлом году я встретил немецкие танки с гранатами. За несколько дней я сжёг и захватил четыре танка. В этом году я отправился на фронт пешком, но тоже сумел захватить танк и даже пригнал его к нашим. А сейчас я поеду на фронт на грозной боевой машине – «Единороге»! И боюсь, что осенью я буду по всему фронту ездить с фонариком, чтобы отыскать немецкие «панцеры». Ох, дюже я до них охочий! А с такими «Единорогами» у нас – танки у немцев быстро кончатся! Ребята, дадите армии «Единорогов»?
– Дадим! – хором ответил зал.
– Сколько?
– Много! – опять ответил зал.
– Мы, все, кто штаны марал под танками, кто зубы крошил от злости и бессилия, глядя на их кресты, очень ждём от вас «Единорогов»!
Зал стоя ревел. А как вы хотели? Это в этом времени пиар-технологиями владеют слабо, лишь партагитаторы – получше, а в наше время уже в институтах преподавали технологию мотивации коллективов на результат. И вот – результат.
На поперечных балках, держащих крышу, повисли красные полотнища с большими белыми буквами: «Всё для фронта, всё для победы!», «Наше дело правое, победа будет за нами!» и подобные.
Люди работали, не щадя себя.
И в это время начались бомбёжки города и завода. На заводе и в городе задрали стволы в небо зенитки, истерически паля в ночь. Результат был минимальным, расход боеприпасов – максимальным. Но альтернативы не было. Ночных истребителей было мало, а подвергавшихся бомбёжке городов – много.
А люди работали, не щадя себя. Даже при объявлении тревоги не выключились станки и не гасли печи, продолжала сверкать сварка.
На четыре готовых шасси «Единорогов» вместо ЗиС-3Ш поставили 37-мм зенитные орудия. Получившаяся батарея была тут же укомплектована расчётами училища МЗА, что было в городе. К каждой ЗАУ был прикреплён техник, что временно исполнял обязанности мехвода, вёл бортовой журнал машины, куда самым подробным образом записывал все данные. Такое вот полевое испытание. Считая это недостаточным, техников сделал пассажирами-инструкторами, выделив на каждую машину по мехводу, присланному из военкоматов.
Долго над названием машины не думал: «Феникс». Рисунок мифической птицы украшал борт каждой самоходной зенитки.
Испытания «Единорогов» и шасси продолжались. Четыре САУ с бортовыми номерами 001–004 круглые сутки наматывали круги по окрестностям города. Ещё дюжина собиралась в цехе. Заодно личный состав УЦ в четыре смены осваивал машины. В ходе выявлялась масса недоработок. И это только по механике. Нам не поставили ни радиостанций, ни оружия для БМП, ни средств разведки и наблюдения. Фактически если бы ЗиС-3Ш не поставляли с прицелами, то оптики у нас вообще бы не было. А как себя поведут радиостанции, оптика? Тут с одними фильтрами пришлось научно-техническую революцию проводить. И со сваркой, потом с резиновыми изделиями и обрезиниванием.
С сырой резиной возникли большие сложности. Её просто не стало. А я хотел изнутри вулканизировать траки гусениц, мы как раз внедряли новые траки, более широкие, изменив форму катков, самих траков, направляющих шипов. А вот кончилась резина в стране, и всё тут!
Сколько ни мучил память, технологии производства сырой резины вспомнить не мог. Не знал. Вспомнил подробно технологию получения полиэтиленовых гранул, подробно расписав не только её, что уже делал раньше, а больше налегая на области применения полиэтиленовых плёнок. А вот тут горизонт бесконечен был. Кельш, внимательно почитав, как всегда, хмыкнул, спрятал доклад в портфель, надолго уставился в стену.
– Это очень нужная вещь, согласен, но ты оценивал, сколько стоит промышленность производства этих гранул и плёнки?
– А сколько она сбережёт металлов, резины, продуктов и времени? Одни консервы возьмём. Чего проще – любой продукт положи в термоусадочный пакет, обдай горячим паром, и он герметично опечатан. Не промокнет, не испачкается, а храниться будет в разы дольше. Колбаса из Монголии до Ленинграда доедет без морозилки даже летом. И почему встал вопрос стоимости? Пластики уже есть. Я видел. Те же плексигласовые фонари самолётов. Кстати, насчёт самолётов, Николай Николаевич, нам надо знать, как и чем авиастроители протектировали баки самолёта, что при пробитии топливо не вытекает?
– А они это сделали?
– Вроде да.
– Если так, узнаю.
Я – меценат. О деньгах и экономических формациях
На заводе стало меньше здоровых мужчин. Соответственно, стало больше женщин, детей, стариков, инвалидов, списанных по ранениям. Единственное, что удалось сделать, это задержать часть заводчан в УЦ, завершив его укомплектование. Более того, учебный центр переродился в Горьковский учебный механизированный полк.
Проектные работы над единым корпусом БМП были завершены. Специальность машины определялась по сути лишь надстройкой и оснащением. Стали строить эти остовы для испытания хотя бы механики.
В учебном полку жизнь не замирала ни на секунду. Учёба, полигон, работа на заводе и отдых – в таком четырёхсменном режиме жил полк. Брасень, неожиданно для всех, особенно для себя самого, получивший повышение, один «кубик», и перешедший в категорию интендантов, полностью укомплектовал полковые мастерские. Из них потоком пошли разгрузки, брезентовые комбинезоны «единорог», представляющие собой а-ля джинсовый костюм, только из брезента, наколенники и налокотники из сшитых в несколько слоёв брезента и сыромятной кожи и брезентовыми ремешками-подвязками. Теперь бойцов Горьковского полка можно было узнать издалека.
И Прохор получил повышение. Старший сержант медицинской службы стал младлеем медслужбы. Он каждый день проводил с бойцами учебного полка занятия, преподавал курс оказания первой медпомощи. С каждым классом по два часа, но классов столько, что получалось по двенадцать-шестнадцать часов в день.
И тут приходит тот самый серый пушистый полярный лис в виде приказа о прекращении финансирования всех проектов БМП и срочном возобновлении производства Т-70. И не только воспроизводства, а резком увеличении выпуска. Что в принципе возможно, учитывая наши инновационные наработки в технологиях и оборудовании в процессе работ над БМП. Все эти заделы с узлами и агрегатами были срочно внесены в конструкцию Т-70, и обновлённый Т-70М стал сходить со стапелей танкового цеха.
Конструкторское бюро занималось лишь Т-70М, забыв о БМП, которым теперь, кроме меня и мобилизованных в учебный полк заводчан, никто не хотел заниматься. Мне же было запрещено производить работы даже в опытном цеху. Конечно, это меня взбесило, но директор завода лишь пожал плечами:
– Кто будет оплачивать работы? Ты?
Блин, а говорят, тут социализм, коммунизм! Нет, хищный оскал капитализма! Утром деньги, вечером стулья.
И с завода № 34 ответили так же: «Образец “доспех” снят с производства в пользу более технологичного изделия». А это «более технологичное изделие» – нагрудник из той же стали, что и каска, той же толщины, шёл на вооружение отдельных инженерных бригад. И им не хватало. Но такой он и не нужен – движения сковывает, а защита недостаточна. Тоже облом!
Нужны деньги. Где брать?
Приехавший Кельш выглядел паршиво – осунувшийся, почерневший. Выслушал меня невнимательно, всё уже знал, ничего не сказал. Хреново!
– Николай Николаевич, мне перепадает что-то из тех изобретений, что я тут понаворочал? Типа патенты в нашей стране существуют?
– К чему ты этот разговор завёл? Раньше за тобой меркантильности не было замечено. К деньгам относился с завидным равнодушием, – он широко зевнул, откинувшись на стуле. Видно, что разговор ему был в тягость.
– Тратить некуда было. Теперь есть.
Кельш резко подёргал головой, разгоняя усталость, встал, подошёл ко мне:
– Ты серьёзно? Свои личные средства пустишь на «Единорогов»?
– Ну да. Так многие делают. Многие приносят своё кровное в Фонд обороны. А я не на безличный счёт хочу положить, а сразу в дело.
– У меня сложилось впечатление, что вы там, в будущем, все рвачи. Да и ты такой же. К деньгам равнодушен, а из-за вещей идёшь по не совсем законным дорожкам.
– Да ладно! Я же не для себя, для дела. А много ли мне надо? Семьи нет и не предвидится в ближайшие лет шестьдесят. Куда мне их? Солить? Там ещё и за песни набегает ручеёк. Если я пластинки видел, где написано, что автор – Кузьмин.
– Ладно, меценат ты наш, иди, посчитаем мы полноту твоих карманов. Завтра… нет, сейчас собирайся, езжай за своими рациями. С ребятами из КБ радиозавода пообщайся. Им будет интересно, нам – полезно.
Ха, мне собраться – только подпоясаться. Вчетвером – я, Кот, Прохор, Громозека – ехали на полуторке до самолёта, потом летели, опять ехали, и вот мы на новом радиотехническом заводе, пущенном только-только. В КБ сплошь молодежь. Глаза горят. От меня запчасти «Моторолы» спрятали, я рассмеялся, сообщил, что это я её им притащил. И тут же, доказывая, перечислил её характеристики, а также парочку слабых мест. Дальше общались на равных. Аж язык болел.
Мысль про модульную компоновку их очень заинтересовала.
– Смотрите, в боевой обстановке трудно сохранить рацию. А так – заменил повреждённый или глючащий блок…
– Глючащий?
– Неисправный или работающий нештатно, – пояснил я, потом продолжил: – Рация работает, а ремонтом можно заняться в более спокойной обстановке.
А вот многоярусность систем связи новой идеей для них не была. Только микрорации их заинтересовали. Я им обрисовал спецназ из фильмов моего времени.
– Это для малых отрядов подразделений особого назначения. Рация на поясе, дальнобойность – до километра, наушник прямо в ухе, микрофон на горле резинкой прикреплён. Бойцы отряда голосом смогут координировать свои действия на довольно обширной территории. Ну, вот, смотрите, тут на «Мотороле» разъём как раз для подключения этой гарнитуры.
Потом рассказал им всё, что знал о полупроводниках и микросхемах.
– Какое у вас учёное звание? – спросил меня один.
– Капитан, – рассмеялся я. Конечно, я понял его. Что ему сказать?
– Мы вас оформим соавтором, – пообещал мне начальник КБ.
Сначала я хотел отказаться, но вспомнил, что деньги нужны всегда, согласился.
Обещали разработать аппаратуру РЭБ. Глушилку. Чтобы выдавать на нужных частотах сильный «белый шум».
– Так эта глушилка и остальные частоты зацепит. И наши не смогут воспользоваться радиоэфиром.
– Не очень они и пользуются. Всё больше проводами и вестовыми. А вот немцу тяжело придётся – он привык к радиосвязи.
Обещали сделать быстро. Там из новаций только блок усиления и ретранслятор.
В Горький полетели радиостанции и комплекты ЗИП к ним. На полсотни машин. И ещё десяток носимых раций. Носимых на спине, не на поясе. И одна глушилка.
А сами мы поехали в Тулу получать оружие. Завод, хотя и был сильно разрушен при обороне города, потерял большую и самую лучшую часть мощностей при эвакуации, но ни на минуту не прекращал работы. Сейчас его усиленно восстанавливали.
Получили, расписались, отбили телеграммы, отправили, пообщались в КБ с легендарными личностями к обоюдному удовольствию, потом то же самое в Коврове, Ижевске.
И только потом – в Горький.
Кельша на базе опять не было. А весь персонал посёлка на каком-то нервном взводе. Ну их, психов! Поехали сразу на завод.
Дивизион из трёх батарей по шесть «Единорогов» был полностью оснащён и рассредоточен по полигону учебного полка. Велась интенсивная боевая учёба. Ознакомившись с планом учёбы и прокатившись немного по полигону, я остался доволен. Майор-пограничник воспринял мои мелкие замечания дельно, без истерик (я младше его по званию, мог послать).
На заводе шло укомплектование шасси разными надстройками. Астров признался, что ему интереснее заниматься этими машинами, чем Т-70. Гинзбург присоединился. Оказалось, мои машины полностью соответствовали их мыслям и предложениям, что они уже неоднократно высказывали, но остались не услышанными. Ещё бы, эти машины и были их детищами. Если не их, так их учеников. Ведь именно в этом КБ в будущем будут придуманы и САУ-76М, и БТР, и БМП, и БРДМ. Так что я украл у них идею и заставил их же её воплощать.
Боевая машина поддержки пехоты «Кирасир» имела открытый верх, вооружалась ДШК в турели на носу машины, имела неплохое бронирование – лобовая проекция – до 35 мм брони под рациональными углами. Способна перевезти до двенадцати человек пехоты со всем их вооружением и боекомплектом. Экипаж – мехвод и командир машины (не являющийся командиром десанта), он же пулемётчик. Оснащается радиостанцией. Десантирование осуществляется как через верх бортов, так и через две задние бронестворки, фактически задний борт из этих створок и состоял.
Боевая разведывательно-дозорная машина «Егерь» имела общую с остальными базу, но более дальнобойную радиостанцию, башню от Т-60 с ДШК и ДТ, продвинутую оптику. Экипаж – три человека: мехвод, командир, пулемётчик, – в десантном отделении разместится разведотделение. К тесноте нашим людям не привыкать. Командир машины является и командиром разведчиков. Точнее, командир разведотделения командует машиной. На башне разместили шесть винтовочных гранатомётов, по три с каждой стороны, со снаряжёнными дымовыми гранатами. Эти гранатомёты – разработки ещё царских времён, были в достатке на складах, оказались не нужными пехоте по прямому назначению. Очень уж неудобный образец. А нам, после небольшой переделки, самое оно!
Боевая машина инженерной разведки «Сталкер» – то же, что «Егерь», но вместо ДТ в башне огнемёт. Сзади лебёдка, на носу – бульдозерный нож. В поднятом состоянии – дополнительная броня. Экипаж – три человека, специальности такие же, как и в «Егере», но десант – сапёры с полным набором своих «игрушек».
Бронированный заправщик. Это «Кирасир» с баком во всё десантное отделение. Экипаж – мехвод и командир-пулемётчик. Самым сложным оказалось не обеспечить защиту бака (авиаторы подсказали), а найти насосы. Это было так непросто, что сейчас двое ребят в КБ изобретали насос, что будет производиться на ГАЗе. Заправщик решили никак не называть, пусть будет БТЗ-42, но бойцы уже окрестили машину «Коровой». По сути верно.
Бронированная зарядная машина – «Кирасир» – грузовик на гусеницах со снарядными укупорками.
И самая важная машина – БРЭМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Вот с ней пришлось сильно попотеть. Это «Сталкер» с лебёдкой и бульдозерным ножом на носу, на месте башни которого – кран. А достать кран – это такая эпопея! А серийное производство? И-эх! Экипаж – ремонтная бригада. Со сваркой, автогеном, инструментами. Крыши десантного отделения нет, а снаружи на бортах – сплошь инструментальные ящики. Заводчане сильно полюбили БРЭМ, так его и называли – «Брем». Они знали, что всех мастеровых завода я считал разумным использовать только в качестве экипажей подобных машин. И с работами по «Брему» их подгонять не надо было – для себя строили. А когда узнали, кто профинансировал продолжение работ по БМП, тоже отписали зарплаты на строительство БРЭМов.
Итак, у нас уже имелось выпущенными двадцать «Единорогов», четыре «Феникса», пять БРЭМ, один «Сталкер», один БЗМ, две «Коровы» (что было очень мало), три «Егеря» и четырнадцать «Кирасиров». На этом шасси закончились, новых пока не предвиделось – завод шлёпал укороченных «Егерей» (без десантного отделения, без радиостанций и упрощённой, до полного отсутствия, оптикой) с башней от Т-70, называя это лёгким танком Т-70М.
Испытание стали. Марш-бросок
Мы получили приказ на испытательный марш своим ходом до Подмосковья. В путь смогли выйти только сорок шесть машин – четыре «Единорога» № 001–004 стояли в цехе на полной переборке, они были убиты полностью в процессе учёбы. А «Единорог» с номером 0000 встал на бетонную площадку в аллее перед цехом на вечную консервацию как первый. Тем более что его ресурс был также убит, а с корпусом из обычной стали на фронте делать нечего.
Провожать нас вывалила многотысячная толпа народа. С развёрнутыми красными флагами на каждой машине, под музыку заводского оркестра, мы парадным порядком прошли мимо провожающих, и колонна пошла по тракту на Москву.
Кроме БМП с нами шли двенадцать Т-70М и автоколонна автобусов и грузовиков с запчастями, маслами, топливом, автореммастерские, «козлики».
Каждые пятьдесят километров делали часовую остановку для отдыха – оправиться и провести регламентные работы с техникой.
Я исполнял обязанности командира дивизиона артсамоходов, Мельник – «Кирасиров», Кадет – «Егерей», Брасень – тылами, а именно «Коровой», БЗМ и грузовиками. Прохор спал в автобусе с красным крестом на боках. Кот на днях куда-то запропастился по заданию Кельша. Майор-пограничник остался в расположении, пробегом руководил Гинзбург.
Первый день пробег протекал гладко, что не могло не радовать. Всё-таки ставка на освоенные в производстве автомобилей комплектующие и технологии оказалась верной. Поэтому у меня оказалось не так уж много забот. Успел пообщаться с Мельником и Кадетом, что меня сильно порадовало, познакомился с теми экипажами «Единорогов», кого ещё не знал.
С Кадетом разговор получился непростым. Он оповестил меня, что его жена, Ангел Настя, готовилась стать матерью. Именно так, не он готовился стать отцом, а она – матерью. Посчитал в уме. Это что ж получается, мой двойник успел ей насильно ребёнка сделать? Бывает же так! С одного раза.
Достал фотографию моих жены и сына, положил перед Кадетом, накрыв ладонью изображение моей любимой:
– Посмотри. Таким будет твой сын. Да, именно твой сын. Потому что отец не тот, кто зачал, а кто вырастил. И они не виноваты. Ни она, ни ребёнок. А злодей уже расплатился за грех свой.
– Это его семья? Зачем ты хранишь эту фотографию?
Пришлось рассказать. Думал, это займёт много времени, оказалось – нет. Оказалось, рассказывать-то особо нечего. Но Миша был в шоке.
– Как видишь, даже один и тот же человек в разных жизненных обстоятельствах бывает разным. А ребёнок тут вообще ни при чём. Пересмотри своё отношение к этой проблеме. Настя твоя – замечательный человек. Ты хочешь, чтобы она возненавидела собственного ребёнка? Это отравит вашу жизнь. Зло как яд. Во что превратится Ангел Настя с подобным ядом в крови? Тебе мало примера этого сломанного человека? А как Настя сломается? Подумай.
Кадет ушёл задумчивый. А позже подошёл ко мне, показал треугольник письма:
– Написал ей, что люблю её и чтобы нашего сына назвала Виктором. И фамилия его будет Перунов.
– Вот это правильно. Благородно. Рад за тебя. Поздравляю с отцовством.
И себя «поздравляю» с отцовством. Он-то ушёл, а меня накрыла рефлексия. Что это было? Сны о Голуме. Там слишком многое не совпадало. То, что я слышал от Голума, то, что он написал и теперь тщательно изучается специалистами, и то, что я говорил, находясь в его шкуре, что писал – сильно отличается. Его мир и мир снов Голума – разные. Он не знал, что такое компьютеры, Интернет, навигаторы, про космос – вообще тишина. А в моих сновидениях мир был привычным мне, не вызывал отторжения.
Я не мог ничего понять. И посоветоваться не с кем. Кому расскажешь? Кому можно рассказать? Только Кельшу. Но мне стыдно. Как он потом будет смотреть на меня? Ведь Голум – это я. Я разом и теперешний такой весь крутой, круче только горы, от собственной крутизны и улётности у самого голова кружится, и то мерзкое существо. Я хорошо помнил весь путь в пропасть. Не хочу, но помню. Помню, как грабил людей, помню, как пытал невиновного парня, помню, как изнасиловал Настю. Даже помню, что думал тогда. Ага, «все бабы – клади». Премудрости. А девчонкой руководило простое детское любопытство. Как она может быть гулящей, у которой «чешется», если до той ночи о взаимоотношениях полов она даже не думала! Для неё это было далёким будущим. Послесвадебным. И никак иначе.
Как же может деградировать человек! Конечно, каждый по себе судит, но я – капитан, командир Красной Армии, сужу так, а я – мерзость Голум – сужу иначе. Что это? Шизофрения? Ведь там был и правда я. Вообще голова кругом идёт.
И вообще, почему я оказывался «там» в моменты, когда меня «тут» не было? Сны ли это были? Или я возвращался в будущее, терял там любимых и близких, умирал, возвращался, исправлял, чтобы стало ещё хуже, и уже я попал в сорок первый, а Некромант – не я, а я-два. Этакое зеркало. Параллельное. С переносом сознания сквозь время?
Что это, Боже, что это было? И что это есть? Что я делаю тут? В чем Твой урок мне? Зачем я здесь? Где искать мне ответ, с кем посоветоваться?
Но душевные муки – это, конечно, важно, а долг – важнее. К делу! За работой лишнее в голову не лезет и не мешает. Все-таки тут я – командир Красной Армии, вся страна на меня смотрит, я могу собой гордиться. И не могу её, Родину, подвести. И их, людей. Поэтому – вперед! На Берлин!
В целом пробег у меня оставил приятные впечатления. Я научился водить самоходку, поработал заряжающим, наводчиком, внимательно вникал в советы бывалых пушкарей, что попали в полк из батарей противотанковой артиллерии после госпиталей. Старался максимально загрузить голову, ни секунды рефлексии не оставить.
Моя командирская машина имела номер 013. А мне – начхать. Брасень принёс краски, я привёл заводского художника, и после очередного привала на боку самохода поверх номера тринадцать появилась оскаленная морда медведя с когтями. Этот рисунок в моём времени часто можно увидеть на нашем триколоре в компании с надписью: «Россия, вперёд!»
На следующем привале регламентные работы были сорваны, так как каждый посчитал необходимым своими глазами увидеть медвежью морду и встать в очередь к художнику. Но художник был занят. На бортах САУ уже были оттрафаречены единороги, на ЗСУ – фениксы, на БРЭМах теперь он рисовал шлем русского витязя, на «Сталкере» – знак радиационной опасности, на заправщиках – бурёнок, на БЗМ – обойму с патронами мосинки.
На третий день стали включать в марш элементы боевой учёбы.
Для расчётов САУ – зарядка и разрядка орудия, определение дистанции до цели и максимально быстрое наведение орудия на цель, для всех машин и их экипажей – посадка и высадка. Вернее, скоростное «влетание» в машину с приведением её в боевое положение и экстренное покидание машины. Сигнал к покиданию машины придумал Кадет. Вернее, не придумал, а использовал уже имеющийся. Теперь при истошном крике: «Атас!» – люди горохом высыпали из машин. На ходу. На полной маршевой скорости. А потом бегом догоняли и запрыгивали в машину.
Города и населённые пункты мы старались обходить. Во-первых, машины новые, секретные, а во-вторых, учения максимально приближены к фронтовым условиям. И хотя нас не обстреливали, шли мы просёлками, лесами, ночевали в машинах или под открытым небом на брезенте, что служил на всех наших БМП крышами. И хотя продукты нам подвозили прямо на маршрут, еда готовилась в походных кухнях и автохлебозаводах (тоже газовского производства и тоже проходящих испытания).
Вот на одном из таких пунктов питания нас ждали ещё три дополнительных грузовика. Гинзбург вызвал меня по рации. Идти было влом, подъехал на «Единороге». Бойцы конвойных войск НКВД, что сопровождали груз зелёных ящиков на ЗиС-5, с интересом рассматривали меня, мою форму, обвес и «Единорог» с белыми трафаретами на боках.
– Что?
– Капитан Кузьмин? – спросил старлей НКВД.
– Я капитан Кузьмин.
– Распишитесь в получении.
– Сначала груз примем. Громозека, будь паинькой, погляди одним глазком, что там в ящиках.
Громозека прямо с «Единорога» перепрыгнул в кузов грузовика, руками открыл забитый гвоздями ящик.
– Тут полуфабрикаты автоматов, товарищ капитан, – сказал он, поднимая над головой узкий автомат.
– ППС! – радостно закричал я, перелетая следом за ним на грузовик. – Ты не понимаешь, Громозека! Смотри, автомат лёгкий, приклад – складной, магазин отъёмный. Для экипажей наших машин – самое то! Вот спасибо вам, ребята! А магазины где? Ага, вижу!
– Да нам-то за что? – пожал плечами старлей. Только сейчас я разглядел его медальку «За отвагу» и нашивку за тяжёлое ранение.
Автоматы быстро распределили. Грузовики с пустыми ящиками увезли и сопровождающих. Получили мы сто ППС, чего, конечно, было недостаточно даже для вооружения экипажей боевых машин, не говоря уже о мотострелках. Но я понял так, что это первая партия, и она тоже сейчас будет проходить испытание. Я испытал на первом же привале. Быстро соорудили тир и за час расстреляли ящик патронов.
Я остался доволен. Бой достаточно точный, задержек не было, оружие лёгкое и ухватистое, магазин меняется легко, быстро. Автомат легко разбирался для чистки и ухода. Это оружие – гений технической мысли: деталей так мало и они такие простые, что ломаться тут просто нечему. Ещё патрон бы помощнее. Но «калаш» ещё должен вызреть. И так замечательно!
Хотя бойцы восприняли новое оружие скептически. Вид неказист, груб до примитивности, а малый размер и вес не внушали доверия. Поэтому мотострелки и не расстроились, что им не досталось ППС. А экипажи машин восприняли его с радостью: основное оружие пушкарей – их боевые машины. А личное оружие чем легче и меньше, тем лучше. Карабины и ППШ переехали из боевых отделений в десантные. А мехводы вообще не понимали, зачем им автоматы. Пистолет на боку и то лишний – мешает.
Я свою СВТ оставил при себе. За спиной, по-биатлонному, в чехле-рюкзаке или в этом же чехле на держалке над командирским креслом в «Единороге». А ППС теперь болтался под правой рукой.
Как в сказках сказывается, долго ли, коротко ли, но мы добрались до полигона. Тут уже крутились новые танки. Мы с любопытством разглядывали их, танкисты – нас.
Гинзбург укатил к командованию, нам определили место расположения. Был уже вечер, но ещё светло, поэтому сразу же занялись регламентом машин. Я тоже возился вместе с экипажем, хотя они и отнекивались упорно.
– Ребята, мы – экипаж. У нас всё поровну. Тяготы, радости, победы и смерть. Я вам не часто смогу так помогать, так что не ерепеньтесь.
Астров провёл перекличку машин по рации, чтобы не бегать ногами. Позывной моей машины не отличался оригинальностью – Пух-13. А мой личный позывной – Медведь. Я доложил Астрову, что в помощи квалифицированных ремонтников не нуждаемся.
После техобслуживания машины загнали под деревья и замаскировали. Это было обязательным условием всех учебных программ нашего полка. Мое условие. Самая большая угроза бронетехнике не пушки и не танки, а самолёты и вертолёты. Здесь – только самолёты. А лучшая броня – маскировочная сеть.
Только после этого я с Громозекой (куда я без него), Мельник и Кадет поехали на газике к танкистам смотреть новые танки. Мне было очень любопытно – за всё мое пребывание в этом мире я с танками противника встречался чаще, чем с нашими.
Я об этих танках много слышал, но одно дело по телеку их видеть в чёрно-белой хронике, а другое – своими руками познать. Средние танки были представлены Т-34 с новой башней, новой коробкой передач и множеством мелких нововведений, не изменивших облика машины, но повышающих её технологичность в разы. Хорошая машина. Боевая. Труженик войны, вытянувший на себе её всю.
Тяжёлые танки представлял новый КВ. С ним также хорошо поработали. Новая, более удачная башня (плохо, что с тем же орудием), изменены формы, обводы корпуса, и, как нам поведали гордые танкисты, множество внутренних изменений – опять коробка, фрикционы, фильтры. Так что удельная мощность, скорость, проходимость и надёжность существенно возросли. Поэтому танк теперь назывался КВ-1С. Скоростной, значит. У танкистов в машине тоже был ППС вместо ППШ, на эту тему побеседовали порядком.
А вот самоходок не было вообще. А ведь я писал докладные не раз. И очень подробные. Жаль.
Вернулся в расположение Гинзбург, вызвал меня. Я собрал своих «экскурсантов» и припылил в нашу рощу. Гинзбург был сильно подавлен. Сказалось сильное предубеждение танкового лобби, сразу ополчившегося на нас. Понятно его состояние – против нас такие чиновники в генеральских мундирах! Чтобы отвлечь его, стал расспрашивать на сопутствующие, но не главные темы.
Оказалось, что мы участвуем в большом смотре ГАУ с приглашёнными представителями ГКО и Ставки. Руководил смотром как раз генерал-лейтенант из ГАУ. Он же определил и порядок показов образцов вооружений.
– А нас на самый конец очереди отодвинули! – огорчённо закончил он.
– Не время отчаиваться, дорогой друг! Это же хорошо, что мы крайние. Последнее впечатление даже сильнее первого. И у нас будет время подготовиться.
– К чему? – Гинзбург удивился.
– А как проходят обычные показы?
– Стрельбы, прогон, и представитель КБ разработчика показывает машины.
– Ага! Стрельбы будут! Уже хорошо.
– Но танки! Они же выставили наши машины как гробителей лёгких танков, – но глаза его тут прищурились. – Ты что-то затеял?
– Ага. Ты слышал такой термин – «презентация»? Слышал. Вот и проведём презентацию. Покажем машины с наилучшей стороны. Так, я тут идейку погоняю по голове, а ты отдохни. Вся тяжесть согласований с организаторами ляжет на тебя.
Испытание стали. Военно-полевой театр
На танковый показ мы припёрлись чуть не всем составом учебного полка. Танки резво гоняли по полигону, переваливались через окопы, взбирались на возвышенности, сносили деревья. На стрельбы я не пошёл.
Меня больше заинтересовали образцы стрелкового вооружения и пулемётов.
– Наш, советский, единый пулемёт! – этим криком я заставил обернуться всех ко мне. Но я их не видел. Я увидел лишь пулемёт на станке с заправленной лентой. Я подлетел к нему, «нечаянно», но мягко оттеснив командира в генеральском мундире.
– Наконец-то! – сказал я, схватившись за рукояти. Покрутил станком, оставил, схватил точно такой же, но одно тело, без станка, поднял, потряс в руках, закинул на плечо, взял наперевес, как винтовку, прошёлся, будто поливая от пуза. – Оно! То, что надо! Как же долго наш пехотный Ваня ждёт этот пулемёт! А танковый вариант готов? Мне очень нужен! Не МГ же мне в технику ставить!
Генерал, которого я так нагло оттёр, с улыбкой наблюдал за мной. Я спохватился, с неохотой положил пулемёт, отдал честь, извинился.
– Ничего страшного, капитан. Столь яркой радостью вы сильно помогли продвинуть этот пулемёт к принятию на вооружение. Познакомьтесь с его конструктором.
Я был раз знакомству, поговорили о пулемёте, Горюнов посетовал, что его детище не хотят принимать на вооружение – все мощности были заняты производством пулемётов «максим» и Дегтярёва. Я его свёл с представителями ГАЗа. Совместно они быстрее пробьют бюрократическую стену. Одни будут требовать поставить пулемёт на конвейер, другие – срочных поставок. А конструкторам пожелал не почивать на лаврах, а работать над надёжностью и технологичностью пулемёта.
Очень хотел познакомиться с создателем ППС – Судаевым, но не срослось. А вот с легендарным Симоновым, не тем, что писатель, а тем, что оружейник, познакомился.
А получилось так. На этом смотре я впервые пощупал СКС, два десятка которых были разложены на сколоченных из свежего пиломатериала (ещё душистых) стеллажах, ещё столько же – нет, больше – ходили по рукам. Я тоже взял. Повертел. Карабин мне очень понравился. Но я не смог отнять магазин и очень громко вслух высказал мысль, что это недопустимо. Вот тут и произошло моё знакомство с этим легендарным человеком. Я его только сначала не узнал.
– Извините, капитан, почему вы это считаете недопустимым? – спросил меня военинженер.
– В таком виде карабин подойдёт в качестве личного оружия тех, чьим оружием является что-то другое, артиллеристов, например. Но этот карабин разработан под штурмовой патрон, поэтому я ожидал, что он поступит на вооружение штурмовых рот и батальонов. А зарядка через открытый затвор обоймой, по типу трёхлинейки и американских «Гарантов» и М1 – это анахронизм! Нужен отъёмный магазин. Для штурмового варианта – на двадцать, а лучше на тридцать патронов.
– Почему же анахронизм? Отъёмный магазин существенно повышает сложность конструкции, соответственно стоимость и производительность. А на боевой эффективности никак не отражается.
– Что? Никак не отражается? Вы ни разу не видели, как клинит оружие из-за песка на патронах?
– С оружием нужно обращаться аккуратнее.
– Вы себе условия реального боя представляете? Нет. Показать? Громозека, не поможешь? Прошу пройти к тому песчаному пляжу. Для чистоты эксперимента сравнивать будем СКС, ППС и СВТ. ППС и СВТ магазинного боепитания. Вот, магазины в патронных карманах. Я вот выложу половину боезапаса, а на его место в эти же подсумки кладу обоймы. Ещё в карманы.
Когда мы прошли на песчаный берег ручья, уже изрядно перерытый траками танков, я продолжил, обратившись к зрителям, которых собралась уже толпа:
– Мы с моим боевым товарищем вам покажем довольно типичный случай – форсирование ручья и окапывание под огнём противника в песчаном месте. Кто-нибудь в курсе, тут можно стрелять в воздух?
– Можно! – хором ответили несколько голосов из толпы.
– А то осназ сначала головой в песок зарывает, бьёт, чтоб не дёргался, а только потом, через пару дней, разбираются, – пробурчал я.
Скинул рюкзак-биатлонку, достал свою «светку», в другую руку взял СКС. Мы с Громозекой сбегали на ту сторону ручья, обратный путь преодолели, накупавшись по уши, плюхнулись на живот на песке.
– С возвышенности нас начал обстреливать пулемёт противника. Мы атакуем перекатами.
Мы с Громозекой и в самом деле стали ползать и кувыркаться по песку.
– Замри! – приказал я Громозеке. Подошёл и стал его закапывать, пояснив зрителям, с интересом наблюдавшим наш цирк: – После взрыва мины его засыпало песком. Поехали дальше!
Громозека вскочил, как пустынный демон, весь облепленный песком. Вот мы добрались до края травы.
– Мы вышли на огневой рубеж. Громозека, давай! Только не прострели никого.
Громозека, оскалившись в довольстве, долбанул по ППС так, что из него не только песок вылетел, но и затвор сам передёрнулся, выпустил в небо рожок, достал из разгрузки ещё один, перевернув, постучал им о корпус автомата, выпустил и его без задержек (повезло?). То же самое проделал и я с СВТ. Потом взял СКС, также отряхнул, отстрелял все десять патронов, достал новую обойму, но прежде чем заряжать её, показал зрителям. На промасленных патронах, ещё и побывавших в воде, налип песок. Я встряхнул обойму, постучал о приклад, снарядил, на третьем выстреле карабин заклинило – не повезло.
– И что мне теперь – под огнём патроны перетирать? Какая тут боевая эффективность? После подобного, если боец останется жив, он этот замечательный, без шуток, карабин «потеряет» в подобном ручье и подберёт дубовую, неубиваемую трёхлинейку менее удачливого бойца и заявит громогласно, что СКС – гамно! А это неправда! Просто для пехоты оружие надо делать исходя из иных условий. Штурмовым ротам оно не для парадов и караулов, а для вываливания в грязи, песке, для яростного боя. Огневого и рукопашного. И не менее важна практическая скорострельность. Отъёмный магазин вслепую перезаряжается намного быстрее, а от скорости перезарядки и объёма магазина очень часто зависит исход штурмового огневого боя накоротке. И жизнь бойца. У кого есть патрон в стволе, тот и выживет.
Я поднялся, поклонился шутя толпе:
– Благодарю за то, что посетили наш военно-полевой театр. Представление окончено, актёрам пора приводить себя в соответствие с уставом.
И стал отряхивать песок. Как всегда молчаливый, Громозека вытрясал из сапог песок и воду. Народ разошёлся, остались лишь несколько человек. Один представился и оказался тем самым Симоновым. Я вскочил, суетливо обтёр руки о штаны, отдал честь при «пустой» голове, пожал протянутую руку.
– Сказалась спешность в разработке оружия. Я использовал наработки моих предыдущих систем. А от отъёмного магазина отказались по экономическим соображениям.
– А пусть остаётся так, как есть! СКС будет таким. Только я считаю, что новый штурмовой патрон обладает огромным потенциалом. А на основе СКС вы создадите штурмовой автоматический карабин. Нужна пистолетная рукоять, магазин на тридцать патронов с улавливающим магазиноприёмником, чтобы красноармеец мог сменить магазин не глядя, не спуская глаз с врага, обязательно отъёмный штык-нож, как у вашего АВС или СВТ, только покороче. Не тесак, а нож. Солдату он не только в бою нужен. Вот это автомат на все времена будет. Моя мечта. Пистолеты-пулемёты обладают огромным недостатком – они бесполезны на дистанциях от ста метров. Новый патрон сможет достать все цели стрелка. А меньший импульс отдачи делает его пригодным для проектирования автоматического лёгкого стрелкового оружия. Так?
– Вы сами занимаетесь разработкой оружия?
Я рассмеялся:
– Да, но мы с вами не конкуренты. Приглашаю в гости, покажем вам наши разработки. Они у нас от десяти тонн и выше. И калибр на порядок толще.
– У вас петлицы стрелковые.
– А у нас всяких хватает. Каждой твари по паре. Мы – делегация КБ Горьковского автозавода. Приходите, покажем вам моих питомцев.
Так что вечером у нас был банкет с оружейниками. Мог ли я раньше, в прошлой жизни, хотя бы представить, что буду бухать с людьми, о которых сложат легенды и снимут документальные фильмы?
Испытание стали. Презентация «Единорогов»
Кстати, спектакль нашего военно-полевого театра стал очень известен, а я популярен. Я не мог не использовать это к своей выгоде. И это помогло продавить презентацию в том виде, в каком я её задумал.
Вот поэтому представлял наши БМП я не с капитанского мостика «Единорога», а стоя в длинной крытой землянке-галерее. Вокруг собрался, переговариваясь, весь высший свет советского государства. Был тут и Сталин. Когда я увидел седого старичка в военном френче без знаков различия с трубкой в руках, со знаменитыми усами, и когда поверил сам себе («Неужели он?!»), у меня ноги разом ослабели, сердце бешено заколотилось. Я сразу и весь вспотел. Берия, увидев моё состояние, нахмурился. Он был рядом с ним. Ох, ё-моё! Я захотел сбежать подальше. И сбежал бы, если бы не Громозека.
– В самый ответственный момент ты собрался подвести нас? – пробасил он.
Моё удивление было таким сильным (скала заговорила!), что я оклемался. Потряхивало, конечно, как перед госэкзаменом.
Генерал-лейтенант артиллерии, что на этом мероприятии был за главного, взял слово и объявил:
– Сейчас нам будет представлен комплекс боевых машин совместной разработки 2-го ОКБ НКТП и танкового КБ Горьковского автозавода. Слово предоставляется одному из конструкторов – капитану Кузьмину.
– Здравия желаю, товарищи! Как уже было сказано, сегодня вы увидите подготовленную инсценировку захвата с ходу укреплённого пункта противника колонной боевых машин поддержки пехоты. Для начала на задней стене на стендах вывешены ознакомительные листы, где указаны тактико-технические характеристики машин репродукции их внешнего вида. Машины проектировались с широким применением хорошо освоенных промышленностью, проверенных работой автомобильных и тракторных узлов и агрегатов, благодаря чему колонна машин своим ходом дошла до этого полигона с Горьковского автозавода без потерь. Ни одна машина не встала из-за технических проблем.
В горле у меня пересохло, поэтому я извинился и отхлебнул из фляги родниковой воды, продолжил:
– Задачу комплекса наших боевых машин мы видим в качественном повышении боевых и маневренных возможностей стрелковых частей и подразделений. Итак, с вашего разрешения, мы начнём.
Я поднял трубку рации, позвал Соломона – Гинзбурга. И сказал ему: «Начали!» Потом продолжил презентацию:
– Перед нами и чуть правее – высота, где условно окопался противник, усиленный противотанковыми средствами и танками. По легенде инсценировки, механизированная колонна наших войск производит прифронтовую передислокацию и ещё не знает, что дорога перекрыта врагом, как это не раз бывало. Но вот слева вы можете увидеть боевое охранение нашей колонны в составе разведвзвода на двух боевых разведывательно-дозорных машинах «Егерь», вооружённых крупнокалиберными пулемётами, спаренными с ними линейными пулемётами, бронированных, обладающих повышенной проходимостью, снабжённых отличными средствами связи и наблюдения. Ещё один «Егерь» обеспечивает охрану колонны с тыла.
Два «Егеря» Кадета вылетели на поворот дороги, накатанной танками, и перед одним из них был подорван взрывпакет. Я комментировал:
– Противник атаковал авангард, разведывательные машины открыли ответный огонь на подавление с бортового оружия и личного оружия разведвзвода, произвели отстрел дымовой завесы, под прикрытием дыма произведена высадка десанта разведчиков. Разведчики рассредоточились по укрытиям и открыли ответный огонь. Боевые машины также заняли оборонительные позиции. Одна, прошу прощения. Одна подбита. Командир разведки уже сообщил по радиосвязи об огневом контакте с врагом, запросил поддержки артсамоходов и будет корректировать их огонь.
Загрохотали залпы, взрывы заплясали по высотке, вверх полетели земля, доски и куски деревьев – всё, что наши сапёры строили почти тридцать часов.
– Противник подавлен, теперь на штурм выдвигаются боевые машины пехоты «Кирасир» с десантом на борту и часть атрсамоходов, поддерживать атаку огнём прямой наводкой и гусеницами. «Кирасир» – это бронетранспортёр повышенной защищённости и проходимости, вы видите эти машины перед собой. Позади боевых порядков можете увидеть артсамоходы «Единорог», вооружённые 76-мм пушкой ЗиС-3Ш. От атак с воздуха подразделение прикрывает батарея зенитных самоходов «Феникс», два из них сейчас ведут подавляющий огонь из своих 37-мм автоматов по высоте. А вот эта машина, что подцепила повреждённый «Егерь» – это бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ. Она оттащит повреждённый «Егерь» из-под огня и восстановит его боеспособность. Для этого экипаж укомплектован инженерами-ремонтниками ГАЗа, имеется кран, сварка, все необходимые инструменты и комплект ЗИП. Как вы видите, «Кирасиры» высадили десант, и начался штурм позиций врага. Боевая машина инженерной разведки «Сталкер», используя бульдозерный нож как дополнительную броню, а также с применением штатного огнемёта подавила укрытую огневую точку противника. Противник уничтожен! Подразделение занимает оборону для отражения возможной контратаки противника. Сапёры и разведка на своих боевых машинах выдвигаются вперёд и производят минирование танкоопасных мест. Остальные боевые машины занимают укрытия, готовя их к обороне, маскируются. Все машины радиофицированы, это помогает командиру подразделения управлять боем и направить его в нужное ему русло. Бронированный заправщик и бронированный подвозчик снарядов пополняют укладки и баки машин. Разведка обнаружила выдвижение противника, минёры отходят под прикрытие пушек «Единорогов», оттягивается и разведка. Роль танков противника сегодня исполняют деревянные макеты, что тащат на тросах «Егеря». Как вы видите, «Единороги» даже не дали нам возможности оценить художественный дар плотников полигона. Я даже не понял, похожи ли макеты на «Панцер-три», как было заявлено. А по тому набору дров, что остался, уже не увижу. Подразделение заканчивает разгром оставшихся без танков условных солдат противника и развивает успех верхом на своих боевых машинах. Благодарю за внимание, мы надеемся, что вам понравятся наши машины так же, как они нравятся нам.
Потом взял рацию, включил, оттуда донёсся многоголосый хриплый говор.
– Говорит Медведь. Отбой! Кина не будет, все на базу!
Все наши машины замерли, потом стали собирать десанты, выстраиваться в походную колонну.
Генерал-лейтенант подошёл ко мне, улыбаясь:
– Как это «кина не будет»? Пусть колонна идёт сюда. Смотреть будем ваши машины.
– Это Медведь! – сказал я в рацию. – Всем построиться парадом перед галёркой.
– Какие у вас странные команды, – сказал генерал.
– Отрабатываем образность мышления, товарищ генерал! Используем образные выражения эзопова языка и глубину русского. Противник может и обязательно будет перехватывать наши переговоры. Вот и пусть их мозги кипят.
Я заметил, что многие от моих слов заулыбались, некоторые нахмурились. По хрен, главного мы добились – машинами заинтересовали. Командиры, генералы и ответственные товарищи уже начали выходить под небо, когда прозвучал вопрос:
– Так вы говорите, ваши боевые машины заменят танки?
Движение застопорилось, все повернулись ко мне. Что ж, я ждал подобного. Сделав невинное лицо, пожал плечами:
– Ни в коем разе. Это машины пехоты. В спектакле, что вы сейчас видели, не хватает исполнителей главных ролей. Там были только актёры второго плана. Из первых ролей – только пехота. Не хватает тяжелых танков для пролома обороны, средних танков для развития прорыва и противотанковых артсамоходов с мощным орудием и хорошей защитой. А наши машины – это машины поддержки. Поддержки огнём и гусеницами для пехоты, танков. Они дополняют и поддерживают, но не способны заменить ни танки, ни пехоту. А вот с нашими машинами в составе танковых подразделений возможности танков существенно возрастут и расширятся.
Сталин стоял в нескольких шагах и внимательно изучал меня взглядом. Мля, я готов сквозь землю провалиться. Что он на меня так смотрит? Аж до печёнок пробирает!
– Как ваша фамилия, капитан? – спросил он меня.
– Кузьмин, товарищ Сталин, – я вытянулся, как положено при докладе, и пребольно ударился о брёвна наката. Аж в глазах потемнело. И фуражка слетела.
– Ну, что же вы так неосторожны, капитан Кузьмин. Пойдёмте к вашим машинам, надеюсь, там вы ни обо что не бьётесь?
Это надо так опростоволоситься! Я был так раздосадован и зол на себя!
– У них крыш нет, – буркнул я.
Сталин неожиданно рассмеялся:
– Кажется, я догадываюсь, почему.
Кругом грянул дружный смех. Так, улыбаясь, толпа высшего командования прошла к замершим горьковчанам, тянущимся вверх изо всех сил и пожирающих Сталина глазами. Сталин поздоровался:
– Здравствуйте, товарищи.
Сотня глоток рявкнула в ответ, аж уши заложило.
– Орлы, орлы, – кивнул, поморщившись, Сталин. – Ну, показывайте свои машины. Кузьмин, где вы прячетесь?
Не удалось! Хотел затеряться. Думал, пусть Гинзбург отдувается, ему привычнее. Тем более вот он, в первом ряду.
– Никак нет, товарищ Сталин!
– А что это на вас? Это самодельное? Я вижу, многие бойцы в таком же.
– Почти, товарищ Сталин. Это ременно-плечевая разгрузочная перевязь, товарищ Сталин. Производится полковыми мастерскими. Помогает более рационально разместить вес и взять больший боезапас.
– Покажите.
Я снял разгрузку, неуверенно протянул. Какой-то здоровущий лысый генерал передал мою разгрузку Сталину.
– Не тяжёлая.
– Она пустая. Не пустили сюда с оружием. А когда загрузишься – тяжёлая. А на плечах – легче. А в бою сколько боезапаса ни возьми, всегда не хватает.
– А это что?
– Средство индивидуальной защиты «доспех» производства завода № 34. Состоял на вооружении отдельного истребительного батальона НКВД, в составе которого я встретил войну.
– Так это ваш боец, Лаврентий Павлович?
– Нет, товарищ Сталин. Батальон формировался в спешке осенью прошлого года. Из госпиталей в районе формирования брали выздоравливающих красноармейцев других частей, – ответил Берия. Меня его ответ удивил. Тревожно, после обдумаю.
– Защитил вас доспех?
– Дважды. Если бы не он, я бы тут не стоял, – ответил я и стал снимать.
– А сейчас почему в нём?
– Тяжёлый, товарищ Сталин, носить не буду постоянно – отвыкну. А в бою он должен быть так же привычен, как гимнастёрка.
Я снял, тот же генерал взял, удивлённо крутанул подбородком. А Сталин смотрел на мои ордена и нашивки за ранения.
– Ладно, Кузьмин, показывайте машины. А, вот и товарищи Гинзбург и Астров. Так всё-таки кто из вас автор?
А эти два гурея дружно и скромно указали на меня. Я почувствовал, что уши горят огнём. Особенно усечённое. Сталин посмотрел каким-то хитрым, насмешливым, тигриным взглядом. Пришлось рассказывать. Голос мой от волнения срывался, я потел, ноги ватные. Но потом втянулся. И уже с увлечением рассказывал о наших машинах и планах.
– Отделения машин – боевое, управления, трансмиссионное и топливный бак – разделим бронеперегородками. Когда в серию пойдут крупнокалиберные пулемёты под патрон калибра четырнадцать с половиной, перевооружим машины с ДШК на эти пулемёты.
Сталин удивился, повернулся к своей свите:
– У нас начаты работы над подобным оружием?
– Да, недавно.
– Так, а в Горьком об этом уже знают, машины под него планируют. Что ещё вы знаете, чего не знаю я?
И что ему ответить? Я решил продолжить тему БМП:
– А когда появятся станковые реактивные гранатомёты, то наши «Кирасиры» и «Егеря» уже и с танками пободаются.
– Реактивные гранатомёты?
– Я подумал, что реактивные снаряды используются в авиации, в гвардейских миномётах «Катюша», рано или поздно кто-нибудь сделает модификацию эрэса под одиночный запуск из трубы. Вот, ждём.
Сталин насмешливо смотрел на меня, потом сказал:
– Ждите. Думаю, на этом закончим.
На этом ознакомление с нашими машинами было закончено. Сталин сел в подогнанную для него машину и уехал. Товарищи из его свиты пытались чего-то от меня добиться, но я извинился, сказал, что дико перенервничал и что жечь танки врага проще, чем проводить такие экскурсии, сплавил всех к Гинзбургу и отвалил в Пух-13. Там я сел на лежащий на полу «доспех», напялил на голову шлемофон и отрубился.
Покер по-сталински
Растолкал меня Громозека. Я возмутился, но увидев его выразительные глаза, протёр лицо ладонями, встал, нашёл ведро с водой, умылся.
Уже вечерело. Солнце село за деревья, но было достаточно светло, чтобы увидеть, что личный состав учебного полка празднует удачный показ техники. Среди своих людей я увидел достаточно много и чужих, большая часть из них была в серых комбезах танкистов, много воентехов. Тут же слонялись бойцы войск НКВД, но все уже к ним привыкли, как к родным. Во время инсценировки боя за высоту в каждой машине сидело по одному такому же сосредоточенному парню с нашивками НКВД и взведёнными ППД. Возмущаться пытались, но я объяснил, что народу вокруг много, в руках у нас грозное оружие, а Сталин на всех один. Поняли, прониклись.
Вот и нас с Громозекой они сейчас незаметно, но эффектно оттёрли от желающих непременно лично мне выразить глубину разных чувств и совместного распития разносортных спиртных напитков, кто какие смог добыть. Исключение составил лишь Катуков, теперь генерал-майор. И рука на перевязи. Он пригласил меня в гости. Громозека кивнул одними глазами. Решили ехать на нашем «газике». Громозека сам сел за руль.
Пока ехали, Катуков, категорически отвергнув моё к нему обращение по имени-отчеству, «просто Миша», всё выспрашивал о машинах.
– Мехкорпус будешь формировать?
– Уже знаешь? А, догадался. Я заметил, что ты догадливый. Я тебя здесь ещё в первый день приметил, присматривался. Я уже написал докладную, что непременно желаю иметь весь набор твоих машин в своей механизированной дивизии. А они мне лёгкие танки суют. Ну, какой в них прок? А в качестве тягачей какие машины лучше использовать?
– Мы принципиально всю линейку боевых машин поддержки оснастили задним крюком. Так что любые. И пушку отволочь, и грузовик из грязи вытянуть. И друг друга дёрнуть. Война – она же непредсказуемая. Сегодня ты волочёшь, завтра тебя. А «Кирасир» может стать тягачом орудия до четырех тонн весом. Расчёт разместится в бронированном отделении.
Так и проговорили с полчаса. Даже когда приехали на место. Но Громозека стал красноречиво покашливать, Михаил всё понял, на прощание попросил не пропадать и выразил надежду, что я доберусь до его танков и придумаю что-нибудь и для его любимых детищ. Я ответил, что я тоже на это надеюсь, но мы люди военные, куда пошлют, в том и копаемся. Его мой ответ позабавил.
Мы отъехали метров на сто, Громозека притормозил, и в машину заскочили две тени, оказавшиеся бойцами в маскхалатах.
– Свои, – буркнул Громозека.
– Я так и понял, – ответил я. Я и правда даже не дёрнулся. Не успел среагировать.
Я уже понял, куда меня везут, и, честно говоря, нервничал. Ехали мы долго уже в темноте, разгоняемой лишь слабым светом фары (одной – война, всего не хватает), да ещё и со светофильтром. Потом немного прошлись. Нас остановили такие же молчаливые тени, быстро обыскали, проводили сначала через невидимое оцепление, потом через видимое, к чёрному большому автомобилю. Я немного начал разбираться в авто этого мира. Так вот этот, к которому я подошёл, аналог представительского класса этого времени.
Дверь передо мной открыли, я сел, увидел его, вздохнул. Всё же он решил со мной пообщаться лично.
– И снова здравствуйте, товарищ Сталин.
– Здравствуйте, товарищ Данилов, – сказал он, сверля меня рентгеном, – я вижу, ви не очень рады видеть товарища Сталина.
– Дело не в том, товарищ Сталин. Вы, бесспорно, легенда, увидеть вас я мечтал всегда, но опыт двух жизней напоминает мне народную мудрость: бойся государевой любви больше ярости.
Сталин усмехнулся, достал трубку, стал её набивать.
– Как ви думаете, зачем ви здесь?
– В этой машине или вообще?
– Для начала вообще.
Я тяжело вздохнул.
– Я честно скажу, Иосиф Виссарионович, я не знаю. Я там прожил довольно бестолковую жизнь, оказался здесь случайно. Но в стороне быть не могу. Это мой народ, это моя земля.
– Читая ваши доклады, я так и не определился с вашей позицией к нашему строю и партии.
– Потому что не было никакой позиции. Я никогда не был коммунистом. И я верующий. Дело в том, что если бы видели, во что превратилась компартия в моём мире, вы, товарищ Сталин, тоже не стали бы коммунистом. Это здесь коммунисты, и большевики особенно, внушают уважение. Тут они настоящие. А там… Хотя мой отец партбилет сохранил. А в телевизор плевал, когда генсеков видел. Насчёт коммунистической идеи тоже не могу ничего сказать. Она так глубока и многогранна, что ею вертят как хотят. Это как учение первого коммуниста на Земле – Христа. Он учил одному, а христианств – сотни.
– Ви назвали Христа коммунистом? – Сталин с прищуром смотрел на меня.
– А разве его Царствие Небесное не коммунизм? Совпадение в сути полное. Обёртки только разные.
Сталин долго молчал, курил. Табак его пах приятно.
– А в этой машине ви зачем?
– Тут только одно может быть, – вздохнул я, – для чего вам потребовалось наша личная беседа без свидетелей. Всё остальное вам ваши подчинённые доложат. И про мои моральные установки тоже. А вот знания о себе и своих детях вы доверить не можете никому. И я вас понимаю. Это уязвимое место.
– Это так. Никому верить нельзя.
– На самой вершине мира место всегда только для одного, – опять вздохнул я, – поэтому мудрые и не идут во власть, не хотят впрягаться в самое тяжёлое на свете ярмо. Я расскажу вам, Иосиф Виссарионович, но напомню, что это ещё не свершилось, и всё можно изменить. В сорок первом моего мира немец не смог дойти до Москвы, маршал Жуков принимал Парад Победы в сорок пятом, а в мире моего двойника США ядерной дубиной весь мир поставили на колени. Мои знания не более ценны, чем данные разведки, ничего не предрешено.
– Мой сын в плену. И это уже случилось.
Я рассказал ему всем известную по фильмам историю про несостоявшийся размен, потому что Сталин маршалов на лейтенантов не меняет.
– Генерал Власов уже перешёл к немцам? В очках такой, ублюдочного вида? В сорок третьем он зачастит в лагерь, где содержался пленный комсостав и ваш сын в том числе. Яков после этих бесед приходил пьяненький и сытый. Вы объявили всех, кто попал в плен, врагами народа. Но эти «враги народа» решили, что не могут допустить такого оскорбления вас, товарищ Сталин, как возможность перехода вашего сына в ряды РОА. Яков погибнет в плену. Наши командиры устранят эту вашу уязвимость. Никто из них не доживёт до освобождения. В ярости гитлеровцы сожгут всех.
Он долго молчал, потом спросил про Василия.
– Василий вырос мажором, избалованным. Вседозволенность погубит его. Сопьётся, оскотинится. Простите, товарищ Сталин. Вам надо знать правду.
Я отпил из фляги. Сталин с интересом проводил её глазами, я протянул флягу:
– Родниковая вода. Я не пью. Нельзя. Много контузий. Из-за моих знаний мой мозг мне не принадлежит. Рисковать им не могу. Вернее, так глупо не могу. И боюсь. Как оно в очередной раз переклинит?
Сталин взял флягу, задумчиво вертел её в руках.
– Светлана?
– После вашей смерти урод по фамилии Хрущёв и кучка выдвинувших его реакционеров так охаят вас, что имя ваше станет ругательством. Берию казнят как вашего помощника. Светлана, боясь гонений, подтвердит все чудовищные сплетни о вас, уедет за границу. Чтобы не умереть с голоду, напишет книгу о вас в семье. Но издательствам была интересна только грязь в ворохе постельного белья, а не ваша личность. Книга будет об этом. От книги Светланы останется только её имя на обложке.
Он надолго замолчал. Лицо его окаменело, исполин прямо у меня на глазах превратился в простого старика. Тихо он спросил:
– А Артём?
– Какой Артём? Я не знаю, что за Артём.
– Понятно.
Ещё помолчали, он приходил в себя. Спросил меня:
– И что бы вы мне посоветовали?
– Я? Товарищ Сталин, извините, как я вам что-то посоветую? Я простой русский мужик. Что я могу советовать? В своей жизни разобраться не мог, такого наворочал, что сказать стыдно, как я вам что-то буду советовать? Любая из устранённых ошибок порождает сотни новых. Вас судьба выбрала спасителем Руси. Народ имя ваше никогда не забудет. А спасителей всегда сначала распинают, а потом славят.
– Значит, отказываешься помочь?
– С чего вдруг такой вывод? Я готов служить не за страх, а на совесть, – я протянул на вид свою укороченную левую ладонь, – делал всё, что мог. И буду делать столько, сколько смогу. Но давать вам советы? Я младенец перед вами, товарищ Сталин. Что вам я посоветую? Я готов делать то, что нужно, служить там, где нужно. Мне больше незачем жить. Всё, что было мне дорого – там, куда мне не вернуться. А здесь – только Родина. А вы – наш вождь, престолоблюститель, простите.
– Ты монархист? – скривился Сталин.
– Лучшей формой организации людей, особенно русских людей, является наследственная монархия. Доказано тысячелетиями. Высшая власть должна находиться в одних руках. И к этому человек должен готовиться с рождения. Готовиться и знать, что он хозяин на этой земле. И от того, как он справится с этой работой, зависит, как будут жить его потомки.
– Монархия изжила себя. Это уже всем ясно.
– Отсутствие монархии уже толкнуло человечество в две величайшие войны. А возможно, положит конец человечеству как разумной организации. На начало двадцать первого века из десяти стран с самым высоким уровнем жизни, семь – монархии. При этом все они социалистические страны: Швеция, Норвегия, Испания, Англия, Арабские Эмираты. Ну не может временщик, избираемый деньгами на четыре года ради денег, не делать деньги. И они будут делать деньги. Они разменяют будущее детей на деньги.
– В твоё время вами правит царь?
– Нет, к сожалению. Мы не заслужили царя. Народ царя должен выстрадать, как в 1612 году. Царя нельзя найти или выбрать. Он сам приходит.
Я замолчал, отвернулся, глядя в чёрное окно. Потом сказал:
– Я был честен с вами, товарищ Сталин. Я открыл вам всё. Нет во мне больше ничего. Решайте, что со мной делать. Я готов к любому исходу.
– А ты что думаешь?
– Мне всё едино. Умирать страшно первый раз. Страшно не довести дело до конца. Ну, тут уж как получится. Я делал, что должен. Старался быть полезным. А сейчас я – ваше уязвимое место. Вы об этом знаете, ваши заклятые друзья знают. Боялся я стать кольцом всевластия, и таки стал.
– Кольцом всевластия?
– Это мифический предмет. Все думают, что оно даёт безграничную силу, делает всевластным, за его обладание правители готовы положить на алтарь всё. Льются моря крови. И только овладев кольцом, его хозяин понимает, что это – проклятие. Не даёт кольцо ничего. Только отбирает. Друзей нет, союзников нет, семья и та лишь источник хлопот и угроз. А все вокруг разом стали врагами. Проклятие. Об этом узнает следующий владелец, следующий. И так, пока не кончатся люди.
– Да уж, ёмкий образ. И главное, точный. Да, ты уже стал этим кольцом.
Сталин открыл дверь, выглянул, ничего не сказал, закрыл. Тут же открылась передняя пассажирская дверь, сел человек, повернулся. Я увидел звёзды комиссара госбезопасности 2-го ранга.
– Знакомьтесь, это ваш новый куратор. Вам фамилия Меркулов ничего не говорит?
– Говорит. Руководитель СМЕРШа. Из-за него Гитлер распустил свою военную разведку. Всё одно – что она есть, что нет. Фактически к концу сорок третьего она и так не существовала. На Восточном фронте точно. А та, что была, гнала такую пургу дезинформации, что Гитлер взбесился.
– Лестный отзыв, – сказал Сталин. – Почему СМЕРШ?
– Так вы сами придумали – смерть шпионам.
– Я придумал? Возможно. Товарищ Меркулов, введите товарища Кольцова в курс операции «Шаман». Ви, товарищ Кузьмин-Данилов, теперь будете Кольцовым.
Потом помолчав, задумчиво повторил:
– Всевластия. Да. Емко.
Меркулов стал скупо, но чётко докладывать. Оказалось, что просочились слухи о Шамане, что предсказывает будущее. Довольно быстро заинтересовавшиеся вышли на группу Кельша. Когда появилась активность вокруг базы аналитической группы, меня сплавили на этот смотр. Пока мы были в пути, на базу было совершено ночное нападение под прикрытием сильной бомбардировки Горького. Многие защитники базы погибли, Кельш и один из подопытных пропали.
– Который? Мечник или…
– Или. Мечник прорубился до леса, а там и казаки подоспели. А второй пропал.
– А, и хрен с ним! Извините! Абсолютно бесполезная инфантильная личность. А Кельш, Кот? Он же тоже там остался.
– Капитан Матушкин ранен. Кельш также пропал.
– А что за казаки?
– Некто Казачок привёл своих родных и знакомых. Все они не подлежали призыву ввиду неблагонадёжности и возраста. Но у них была личная договорённость с Кельшем и разрешение наркома Берии. Явились в полной боевой выкладке, конно, в старой казачьей форме с царскими орденами. Неожиданной атакой они шашками перебили большую часть нападавших. К сожалению, Кельша и Объекта-22 среди убитых не оказалось. План сработал. Объект-22 был выдан за Шамана.
– Аналитическая группа переходит из ведения Берии к Меркулову, – добавил Сталин.
– А меня спрятали на самом видном месте, – кивнул я. – А дальше что?
– Операция «Шаман» продолжается. Уже выявлены организаторы. Возьмём всю сеть заговорщиков, – сказал Меркулов.
– Я рад, но мне по барабану, это ваша заморочка. Со мной что делать думаете?
Меркулов посмотрел на Сталина, тот кивнул:
– Как вы верно заметили, вас спрятали на самом видном месте. Теперь многие увидели капитана Кузьмина, подивились столь неординарной личности, увидели, откуда растут ноги его изобретений, в чём, признаюсь, вы нам немало поспособствовали этими спектаклями военно-полевого театра. Связать воедино Шамана и Кузьмина теперь сложно. Но, товарищ Сталин, я продолжаю настаивать на изоляции Кузьмина.
– Я возражаю, – ответил я, но они оба лишь усмехнулись.
– Шамана больше нет, будет Кольцов. И Кольцов-Кузьмин прав, прятать лучше на самом видном месте. Но возвращать его в Горький пока нельзя. Может, его в отпуск на море?
– На море Лаптевых? – спросил я. – Вы извините, товарищи, но какое море? Гитлер себя назначил главой сухопутных войск?
Меркулов кивнул.
– Значит, теперь генералами будет двигать не жажда славы и громких побед, а экономика. Под Харьковом они нас нокаутировали, сейчас перегруппируются и постараются отсечь от нас кавказскую нефть, южные порты, хлеб и промышленность юга. Паулюс пойдёт на Волгу, Гот – на Воронеж, потом догонит, Манштейн завершит захват Крыма. Кто их поведёт на Ростов и Кавказ, не помню. Абреки их очень ждут. Уже формируют дикие сотни, свастики вышивают. Какое море?
Я им полтора часа пересказывал перипетии грандиозной боёв в излучине Дона, Сталинградской битвы. И в конце добавил:
– В моём мире какой-то раздолбай не взорвал мосты через Дон, и немцы с ходу вошли в Воронеж. На полтора года. Хотя, может быть, это был «Бранденбург-800», а не раздолбайство. Прошусь на фронт! Моим машинам нужно войсковое испытание. Под Воронежем одна дивизия будет держать восемьдесят километров фронта. Против 2-й танковой армии врага. У меня шестнадцать «Единорогов», двенадцать Т-70М, другие боевые машины. Я этих «панцирей» нащелкаю!
– Или они тебя, – сказал Сталин, – сам же говорил, что твоя голова теперь тебе не принадлежит, а опять её суёшь в пекло.
– Зато точно никто не подумает, что вы сможете так просто отпустить кольцо всевластия почти в руки врага. И будут искать кольцо в тылу.
– Как ви думаете, товарищ Меркулов?
– Что-то в этом есть. Но если он к немцам попадёт?
– Я в тылах немцев бываю чаще, чем в своих. И со мной ваши наседки. И убить меня очень сложно, – я им показал нашивки за ранения.
– Пусть будет так, – решил Сталин, небрежно махнул рукой и приказал Меркулову: – Организуйте всё естественным образом.
На юга!
Мы с Громозекой вернулись в нашу рощу. Последние метров сто прошли пешком, машину отгонял один из бойцов охраны. Для меня поставили палатку на отшибе, куда мы тихо пробрались и завалились спать, типа всю ночь тут и проспали, подальше от общей гулянки.
Утром начались сборы. Получили приказ следовать на ближайшую станцию для погрузки на железнодорожный транспорт. На станции нас настигли несколько телеграмм. Одной из них Астрову и инженерам его КБ начальник ГАЗа приказывал срочно возвращаться. Гинзбург связался с НКТП, согласовал, что остаётся с нами. Тем более, согласно полученному приказу, учебный полк отправляется в состав действующей армии на Брянский фронт для войсковых испытаний БМП (они именно так стали именоваться и в официальных документах!). Вся техника и личный состав, что был в нашей колонне, вошёл в штат 1-го отдельного самоходного полка РГК (это мы). Командир полка – майор Кузьмин. Я, что ли?
Налетели ребята, стали меня качать и подбрасывать в воздух вместе с «доспехом». Им-то радость, а мне – огромная головная боль. Я ротным был пять минут, батальоном не командовал, а тут – комполка. Справлюсь?
Помогли справиться. Прибыла большая группа командиров во главе с майором Сидоровым Иваном Анатольевичем. Это мой начштаба. До этого назначения был начальником штаба отдельного мотострелкового батальона НКВД, а войну начал на границе. Пограничник. Ещё один. Оказалось, что они с командиром Горьковского учебного полка сослуживцы, и именно Сидоров вынес своего раненого командира. Поговорили немного. Внешность обычная, строгий, сразу чувствовался кадровый командир. Не то что я, гражданский, случайно военизированный.
– Иван Анатольевич, я комполка минут пять только, опыта командования у меня мало, надеюсь, вы меня подстрахуете, – сразу предупредил я.
– О! Давайте без ложной скромности. Про вас, Виктор Иванович, я слышал много лестных отзывов как о талантливом командире, а опыт – дело наживное. А с организацией штаба полка можете на меня положиться.
Опять повезло мне на хорошего человека. А вот с комиссаром полка не повезло. Типичный партаппаратчик. В голове – неотформатированный хлам из партийных речей и статей, мёртвых лозунгов. Отношения не заладились сразу. И это не политруки Ипполит и Серёга, этому промывание мозгов делать поздно. Ох, намучаюсь я с ним! Потому ничего о нем рассказывать не буду. Пусть бумага хранит память только о достойных людях, а не об этом куске… партаппарата.
Из-за этого переформирования погрузка была отложена на несколько дней. Укомплектовывали роты и батареи полка, довооружались оружием, амуницией и получали тыловое имущество. Получили ещё партию радиостанций – самое ценное и самое нужное войсковое имущество.
Работы было много.
По железной дороге приехала казачья сотня и сам Казачок. Казаки были или моложе восемнадцати лет, или усачи, давно старше сорока. Форму они, конечно, носили красноармейскую (причём с иронией – им выдали со складов старую форму Первой конной армии, хотя некоторые из усачей против красных успели повоевать), звания перевели в привычную систему, но разрешили носить Георгиевские кресты, шашки, бурки, папахи, ещё эти классные куртки с характерными карманами – патронташами. Причём многие безусые юнцы носили ордена отцов и дедов. Они говорили, что это такая казачья традиция – награждается не только сам казак, но и весь род его за то, что вырастил и воспитал такого героя. Поэтому награды – семейные реликвии, и потомки носят их, говоря – я тоже герой. И стараются соответствовать. Хорошая традиция. Понятно, почему наше руководство пошло навстречу казакам. Это наша рота конной разведки. Правда, сами они себя называли Донской добровольческой сотней. Это пусть. Лишь бы польза была.
И вот долгожданный момент – вручение знамени полка. Торжественное построение, митинг, клятва и парадное прохождение техники и личного состава. Принимал парад генерал-лейтенант Рокоссовский, всё ещё опирающийся на трость.
Вечером подали под погрузку первый эшелон. Полк уже прошёл стадию первичной разбивки по подразделениям, штаб уже разработал график переброски полка. Сегодня грузилось командование полка (я, командный «Единорог» и комендантский взвод), одна батарея «Единорогов», конная разведрота, первая разведрота на «Егерях», взвод из двух «Фениксов», один БРЭМ, один «Сталкер», одна «Корова», одна БЗМ и две роты мотопехоты. Влезли все только потому, что экипажи боевых машин, что вмещались по две на платформу, так и остались в машинах. Авось лето.
Машины укрыли брезентом, обрамили зелёными ветками так, что казалось, едет не бронемашина, а гигантский берёзовый веник. Поехали, перестукивая колёсами под гудки паровоза, на юг. Было уже очень жарко, на ходу ещё ветерок как-то обдувал, но вот когда нас притормаживали на каком-нибудь запасном пути, было жарковато. Да и к скоростям я привык несколько другим. Правда, ночами было холодно, хоть и июнь заканчивался.
Южнее Рязани всюду были следы бомбёжек железной дороги. Нам тоже перепало один раз. Паровоз стал сигналить непрерывно, прибавив ходу.
– К бою! – закричал я, расчехляя ДШК.
Два узких силуэта заходили со стороны солнца. «Фениксы» открыли огонь, как учили, с упреждением, чтобы трассеры перед мордой пилота проносились. Не способствует хладнокровию, знаете ли, ручки начинают подрагивать, появляется стойкое желание не приближаться, отвернуть. Когда те подлетели ближе, мы начали стрелять из пулемётов. Сбросили на нас в общей сложности четыре бомбы, ни разу не попали, потом обстреляли с двух заходов, мы их обстреливали всё время. Они улетели не повреждёнными, но и ни с чем, у нас – двое ранены, один пропал. Выпал на полном ходу с платформы на насыпь. Из роты Кадета. Его сослуживцы видели, что парень покатился по насыпи, там встал, помахал рукой – живой, мол, и похромал вдоль путей. На ближайшем полустанке я сообщил о своём отставшем бойце коменданту. Тот обещал подсадить его на следующий поезд. Раненых сгрузили для отправки на лечение (Прохор провёл первичную обработку).
Земля Воронцов
До Воронежа даже не доехали. Город и окрестности бомбили и днём и ночью. Поэтому разгружались на разъезде. Бригада машинистов осаживала состав на платформу у элеватора, мы сгоняли технику, которая сразу уходила под кроны ближайших рощ. Мерам маскировки мы придавали большое значение, бойцы тоже прониклись страхом во время налёта, прятались очень усердно. Даже следы гусениц заметали привязанными сзади боевых машин вениками.
Сразу я связался по станционному телефону со штабом обороны города, доложил лишь:
– Кузьмин прибыл с первой партией полуторок. Куда следовать для погрузки?
Мне ответили, чтобы прислал человека за схемой проезда. То есть делегата связи. Такой вот шифр. Уроки сорок первого не прошли даром. Пока мои люди маскировались, я на «газике» с охраной и рацией полетел в Воронеж.
Воронеж этого времени очень сильно отличался от знакомого мне. Это был другой город. Интересно, сколько раз за свою многотысячелетнюю историю этот город Воронцов выстраивался заново? Что ж, город стратегический, контролировал две судоходные реки и плодородную равнину. Поэтому нападали недруги на него часто, наверное. А зная наших людей и их привычку уйти, чтобы накопить сил и с разбега долбануть, но перед этим сжечь всё, чтоб врагу не досталось, то уничтожался он тоже часто. Только место уж больно хорошее – плодородные земли, перекрёсток многих путей, отстраивали заново.
Вот и сейчас город горел. Много разрушений. Много суеты, паника. Много военных. Потерянных военных. Дезертиры. Охваченные страхом люди пытаются убежать от опасности. Давка на мостах, улицах. Да, тягостное впечатление.
В комендатуре Воронежа такая же истеричная атмосфера. Ещё бы, они-то прекрасно знают, что 2-я танковая армия – это не пацаны от сохи. Ветераны, покорители Европ. Танки прорвались, а противопоставить им нечего. Заистеришь тут.
Нашёл главного, доложился. Он обрадовался, даже обнял меня. А когда узнал, что полк мой не пехота на грузовиках, а самоходки, расцеловал. Хорошо, в этом мире призрак гомосекства не бродит по Европам.
На карте показал расположение частей на утро. Всё очень неточно. Будем сами искать. Одно ясно – город голый. Те номера полков, что отмечены на карте, просто номера. Они ещё под Харьковом огребали, теперь здесь. А по противнику вообще ничего не знают – сколько, где?
Одна радость – мне придали батальон НКВД из воронежских милиционеров. Они уже, правда, успели огрести от немцев. Да так, что в Воронеж отвели. Пришёл и командир батальона, капитан Попов. Доложил, что в батальоне сто сорок семь человек. Рота.
– Капитан, мне вы не как стрелки нужны. На мостах происходит чёрт-те что! Навести порядок. Отступающих военнослужащих задерживать, кормить и заставлять копать окопы. Готовить предмостные укрепления. Задача ясна?
Капитан приуныл. Бегущие с поля боя – это всё одно, что буйнопомешанные, только с оружием.
– Не горюй, я казачков подошлю. Иди, распорядись о выдвижении батальона. Я на машине, подкину. Да и сам погляжу.
В штабе согласовал вопросы взаимосвязи и снабжения, поехали к основному мосту через Дон.
Батальон НКВД оказался хоть и немногочисленным, но на полуторках. Поэтому они уже вовсю преумножали безобразия на мосту. Я достал свой личный флаг, где на красном поле в углу была звезда, а в центре тот же трафарет, что и на «Единороге» № 013. То есть медвежья морда. С помощью складных трубок собрал древко и с флагом заехал на мост.
– Есть среди вас русские люди, или трусы одни остались? – заорал я так громко, как смог.
Подождал, пока поутихнет многоголосый гвалт, повторил вопрос.
– И чё? – был мне ответ.
– Куда бежим, братцы? В Сибирь? Добровольно? Тут уже центр русской земли. Её тоже врагу отдадим? Так я ещё раз спрашиваю, есть среди вас русские люди? Кто со мной встретит врага оружием? Кто проломит им череп?
– Ты чем череп ему проламывать будешь? Этой палкой с тряпкой? – крикнул один заросший щетиной солдат в распахнутой прожжённой шинели, несмотря на жару, и в обмотках.
Я достал ТТ и выстрелил ему в грудь.
– Это не тряпка, а символ нашего государства. Если вы забыли, то я напомню, что все вы давали присягу. И от неё вас никто не освобождал. И я не палкой буду проламывать черепа. У меня танковый полк, но не хватает пехоты. И я призываю вас к долгу и совести. Я здесь, обещаю вам кормёжку, оружие, патроны и честь. А там вас ждут батальоны НКВД, штрафные роты и бесчестие. Подумайте, братцы. Это Воронеж. За ним – Урал. Сибирь. Куда вы бежите? Кому вы полстраны отдали? Кому детей и жен со стариками оставили?
Я не скажу, что моя речь сильно подействовала. Скорее подошедшая конная сотня, размахивающая сверкавшими на солнце шашками. Но движение по мосту удалось ввести хоть в какие-то рамки. Бойцы кучковались перед мостом, где записывались в сводные роты. Наладили подвоз питания, оружия, боеприпасов. Началось строительство предмостного укрепления.
Отправил на разведку Кадета с его «Егерями» и «Сталкер» сапёров.
Дотемна мотался по западному берегу с казаками и милиционерами, наводя порядок в этом паническом бедламе. Как стемнело, комбат батареи «Единорогов» доложил по рации, что колонна приведена в походное положение, и запросил маршрут. Я ему объяснил путь выдвижения и точку выхода. К мосту. Сам отправился туда же. Там собралось уже достаточно отбившихся от своих частей красноармейцев. Милиционеры даже задержали батарею «сорокапяток» в составе трёх орудий на конной тяге без снарядов. Командовал остатками батарейцев пожилой старшина батареи. Из командиров больше никто не уцелел. Хотел взять орудия с собой, но вид пушкарей был очень уж жалок, да и пока подвезут снаряды… Пушки заняли огневые позиции позади окопов сводных рот. Я обратился к бойцам:
– Сейчас сюда идёт колонна моих боевых машин. В них достаточно места, чтобы взять с собой десант. Я выдвигаюсь в сторону Старого Оскола, чтобы встретить зарвавшихся немцев и настучать им в дёсны. Кто со мной?
Желающих было немного. Сначала. А вот когда подошли «Единороги», добровольцев стало сильно больше. Погрузили десант, взяли на борт дополнительный боекомплект, долили топлива, отправили интендантскую службу на опустевших транспортах добывать нам боепитание и выдвинулись вдоль дороги на запад. По самой дороге нескончаемым потоком шли беженцы. С наступлением темноты стервятники перестали бомбить дороги. Лишь в вышине продолжали гудеть бомбовозы. Эти и ночью будут бомбить. По площадям.
Кадет доложил своё местоположение. Далеко он убежал! Врага пока не встретил.
Мы двигались вдоль дороги. Мои ремонтники осматривали с пристрастием каждый остов разбитой машины. Что-то откручивали, отрезали автогеном. А битой техники в кюветах было много. Мои боевые возможности возросли на два дивизионных Ф-22 без снарядов, брошенных расчётами после потери от авиации врага тягачей. Снаряды не проблема, у ЗиС-3 те же. На одном орудии не было замка и прицела, их нашли в ближайших кустах, а второе было полностью боеготовым. Когда мы уже подцепили пушки к «Кирасирам», подбежала группа бойцов. Это были их орудия. Они прятались в посадке. Орудия отдавать я отказался, часть пушкарей поехала с нами. Ещё нашли корпусное орудие. Трактор, что его тянул, также был разбит, но расчёт лежал рядом с орудием в рядок, накрытый шинелями. Два бойца углубляли воронку от бомбы. Ну, такое орудие мне по чину не положено. Оставил один «Кирасир» с людьми помочь с захоронением и приказом оттащить орудие за Дон. Там найдутся на него хозяева. Кто-то из ребят уже нанёс на ствол орудия трафарет единорога, рассчитывая, что орудие наше. Да и пусть красуется!
Кадет доложил, что вступил в огневой контакт с передовыми подразделениями противника. Результат боя: «поплясали, попели, разошлись». У Кадета без потерь («мои все трезвые»). Уничтожено несколько грузовиков, мотоциклов, захвачены в плен два немца («два гостя решили остаться») и много оружия. Поле боя осталось за Кадетом («стол мой»). Приказал отойти и ждать гостей. Ночью они не сунутся, а вот утром – пожалуют. С бронетехникой и самолётами.
Добрались до Кадета. Место неудачное. Посёлок или деревня, коих в изобилии было здесь, оседлал дорогу. Многие беженцы остановились в нём, но в село вошла разведка фашистов на мотоциклах, бронетранспортёрах и грузовиках. Занялись грабежом и насилием. За этим занятием и были застигнуты разведчиками и казаками Кадета. Порубили всех в хлам. Ушли только два бэтээра немцев, в силу неуязвимости для стрелкового оружия. Остальных пожгли на отходе. Гражданским приказал уходить на восток, бойцам – окапываться на западной окраине посёлка. А когда доложил в штаб обстановку, такой же и приказ получил. Ох, поспешил я с докладом!
Место мне не нравилось. Восточнее посёлка, оказавшегося на возвышенности, местность изгибалась чашей вниз и была вся распахана полями. Так же, в принципе, и западнее. То есть бой дать можно, а вот отходить придётся по открытому месту, под огневым и авиационным воздействием противника. Хотя посёлок большой, весь покрыт садами. Справа и слева к садам примыкала «зелёнка» леса. Обойти нас будет сложно. Если бы был день, ни секунды бы не сомневался – дал бой прущему в лоб врагу и потемну бы отошёл. Но до темноты нас с грязью успеют перемешать.
«Сталкер» с «Егерями» выдвинулись вперёд, минируя полосы вдоль дороги. Саму дорогу не минировали. Пехота окапывалась. Орудия Ф-22 поставили на прямую наводку с сектором стрельбы вдоль дороги и замаскировали. БРЭМ, а потом и «Сталкер» с их бульдозерами откопали каждому «Единорогу» по несколько огневых в садах, на флангах посёлка. Только потом зарыли БМП, замаскировав их под пиломатериалом и соломой.
Когда взошло солнце, заканчивали маскировку. Выдвинул вперёд конный дозор, сам на «газике» выехал на запад – оценить меры маскировки. И нашёл их приемлемыми. Сверху бы глянуть, но я не птица.
Разрешил закончившим обустройство позиций вздремнуть.
Кадет доложил по пленным. Когда он сказал, что это какая-то дивизия сорок какого-то корпуса 4-й танковой армии, мне поплохело. Я даже присел на завалинку. А я Сталину говорил, что 2-я таковая тут наступать будет. А оказалась четвертая. И кто я теперь в глазах Верховного? Источник сомнительной надёжности, а по-русски – балабол? И ведь он это понял сразу же, как я ляпнул про 2-ю ТА. Он-то прекрасно знает, какая ТА где стоит. Такую махину не спрячешь. Теперь мне ясно, почему к моим докладным такой слабый интерес – они малодостоверны. Блин, «шеф, шеф, всё пропало!»
– Что с тобой, Виктор Иванович? – встревожился Кадет.
– Поплохело что-то. Не обращай внимания, – ответил я, вытирая рукавом холодный пот со лба.
– Что с пленными делать?
– Они мне не нужны. Тебе нужны? Расстреляй. Или отправляй в тыл. Мне едино. Нет, на нашей машине. Свои же обстреляют, как увидят на трофейной. И документы этих мародёров тоже отправь.
– Оружие?
– Что нам не нужно – туда. И амуницию. Там в сводных ротах сплошь голодранцы.
Кадет ушёл. Связисты доложили, что протянули нитку до штаба. Доложился. Получил ценные указания. Обещали подвести питание и боеприпасов. Ага, щас! Потемну не соизволили, а теперь по дорогам «мессеры» пройти не дадут. Тут, под яблонями, на брезенте и уснул.
Испытание людей. Презентация БМП врагу
Растолкал меня Громозека, поставил передо мной ведро с ледяной колодезной водой. На западе слышались далёкая перестрелка и взрывы гранат.
– Казачки немца привечают, – буркнул Громозека.
На позициях отряда прокатилось шевеление – бойцы разбегались по огневым.
– Без меня не фулюганить, – передал я по рации, потом то же продублировал голосом.
Казачки неслись по дороге, низко склонившись к холкам своих коней, поднимали хвост пыли. Им вслед стреляли. Согласно задуманному дозор промчался по дороге почти через всё село, лишь там, на восточной окраине, скрылся во дворах.
На дорогу выехали два мотоцикла с колясками, обстреливая посёлок из пулемётов. Никто не отвечал. Мотоциклистов догнал танк. Я приник к окулярам бинокля. Pz-III старой модификации, с короткой пушкой. Командирский люк открылся, вылез танкист в наушниках прямо поверх фуражки, стал разглядывать посёлок в бинокль. Сзади его нагнали Pz-II и несколько гробообразных БТР. Судя по поднимавшейся пыли, техника продолжала подходить. На танк забрался ещё один немец, только этот в каске и с МП в руках. Не выпуская автомата из рук, он стал что-то рассказывать танкисту, тыкая руками в сторону посёлка.
– Сыграна пионерская зорька, – передал я в рацию и добавил: – Без меня безобразия не нарушать!
Танкист скрылся в танке, из-за того выехали несколько грузовиков, тяжело перевалились через придорожные канавы. Эти трехосые грузовики тащили орудия. Развезли их. Расчёты споро развернули. Идиоты? На открытых позициях выставили орудия.
– Кадет, видишь? Эти оглобли – тебе.
– Понял, Медведь. А там, сзади, самовары ставят.
Миномёты – это плохо. Вся моя техника уязвима сверху. И взять их нечем. Придётся «Единорогам» бить не по танкам, а через гребень перекидывать фугаски по миномётам. А чем нас штаб порадует?
Запросил огневой поддержки у Воронежа. Они ничем помочь не могли, но сообщили, что вторая партия полка прибыла и батарея «Единорогов» уже недалеко от меня. Связался по дальнобойной рации. Колонной верховодил комбат-два, позывной Веник. У него четыре «Единорога». С ними все двенадцать Т-70М («обрубков») и тылы. Поглядел на карте их координаты и приказал «Единорогам» и тылам закрепиться в этой точке и приготовить огневые для стрельбы с закрытых позиций. Продиктовал даже, куда им надо навестись. А Т-70 пригласил в гости.
В это время немцы пришли в движение. Два танка пошли по дороге на посёлок, за ними – «ганомаги». Никто не стрелял. Первыми должны были начать Ф-22, но Веник уже доложил, что готов, поэтому он и начал. Стрелял он почти на пределе дальности, поэтому его залпов не было слышно на фоне привычной канонады.
– Кадет, свети Венику, – приказал я.
Первый куст разрыва поднялся за гребнем. Танки прибавили хода, полетели на посёлок. «Ганомаги» стали ёлочкой разъезжаться, перестраиваясь в боевой порядок. Открыли огонь миномёты и орудия противника.
– Поехали! – крикнул я в рацию. С восточной окраины посёлка взлетела красная ракета. Дальше приказывать было не надо – последовательность действий оговорили заранее.
Орудия у дороги ударили в Pz-III, «Единороги» добавили в борта. Танк взорвался, разорванный сразу несколькими попаданиями. Та же участь постигла и пятящийся Pz-II. Потом занялись отстрелом «ганомагов». Кадет в это время гасил противотанковую батарею, так легкомысленно выставленную на виду. Для его авиационных пушек щиты орудий не преграда. Расчёты разлетались, как кегли. А наша пехота в это время отстреливала пехоту немцев, что успела высадиться из бэтээров.
– «Единорогам» – заткнуться. Менять лёжку через зад! «Кирасирам» – гнать их в шею!
ПТО подавлены, миномёты вроде тоже заткнулись. «Кирасиры» вылетели на поле, поливая бегущих немцев из пулемётов. За ними увязался и БРЭМ. Эти решили «ганомаги» обследовать. Дал команду Венику прекратить огонь и сменить огневую.
В это время «Кирасиры» споро покатились назад, сопровождаемые взрывами.
– Медведь, сундуки!
– Откат, «Кирасирам»! БРЭМ! Уходи! В сталкерские плюхи не вляпайтесь!
Техники всё же подцепили один БТР немцев и теперь волокли его назад. «Ганомаг» внешних повреждений не имел. Почему бросили? Как я позже узнал, мехвод бэтээра наступал с открытым люком и словил обычную винтовочную пулю зубами. А пулемётчик на нервах не смог заново завести машину. Но люк тоже не захлопнул. Схлопотал пулю от того же стрелка. Я этого якута (а может, эвенка или таджика, я в этих ребятах не сильно разбираюсь) потом к «Отваге» представил и свою СВТ подарил. Ну, куда я с ней? У меня теперь ствол в десять раз вырос в диаметре.
На гребне выросли разом десять силуэтов. Немецкая пехота откатилась под их защиту. Вот это уже серьёзно. Они стали лупить по посёлку больше вслепую, так как все их цели уже скрылись за заборами, палисадниками и стенами хат. Они били по редким вспышкам выстрелов нашей чересчур расхрабрившейся пехоты.
– Ваня, – тронул я за плечо наводчика, – этих сначала осадить надо, потом бить. Поэтому сначала гранатой в гусянку бей.
– Помню, товарищ майор, тыщу раз обговаривали.
– А ты ещё раз слушай. Два-три раза стреляешь – отползай назад. Понял?
– Понял, – кивнул наводчик.
– Я к пэтэошникам сбегаю.
Громозека схватил ящик заплечной рации, побежал следом. Расчёты дивизионных орудий прятались по узким окопам. Орудия они уже успели столкнуть вперёд, в углубление. Нашёл я командира взвода, молоденького лейтенанта. Это его первый бой. Пришёл прямо из училища в батарею накануне. Всё, что он успел увидеть, это налёт при передислокации его огневого взвода, когда разом погибли и командир батареи и половина личного состава. Но держался парень молодцом, только бледность и растерянная улыбочка выдавали, что ему сейчас непросто.
– Лейтенант, ты у нас будешь принимающим. Вытянешь танки на себя. Мои самоходы побьют их в борта. Запомни, бей в основание башни или в гусеницу фугасным. Фугасным, слышишь? Этим разрушишь не только траки, но и ленивцы. Танк при этом резко разворачивает, и можно бить его в борт или корму. Понял? Команды на открытие огня не жди. Стреляй, когда посчитаешь нужным. Я в таких случаях стреляю по танкам, как начну клёпки видеть без бинокля. Понял?
Лейтенант кивнул с той же растерянной улыбкой, прижимая каску рукой.
Рядом рвануло, мы обернулись. Дом справа от нас складывался сам в себя. Брёвна сруба разлетелись по двору. Обстрел усиливался. Причём долбили не только танки, но и что-то существенное через их голову. Танковый снаряд так хату не раскатает.
Падая после каждого близкого разрыва, мы с Громозекой, пригнувшись, пробежались вдоль линии обороны. Да, опасно. Да, выглядит глупо. Но надо видеть глаза бойцов, когда вокруг ад разверзся, а тут появляется командир и спрашивает: «Ты как? Штаны сухие? Держись, сейчас полезут!» Поднимаю таким вот способом мораль и дух бойцов.
– Кадет! – схватил меня за рукав Громозека и сунул трубку.
– Тараканы полезли. Сотни четыре. Дюжина больших «жуков», пять мелких и десяток «коробков». Могу Венику подсветить «оркестр».
Как он смог увидеть огневые позиции гаубиц? Я не понимал. Но оказалось, что Кадет оставил в тылу немцев отделение своих разведчиков с рацией. Они вышли на батарею, давали результаты стрельбы Кадету, а он по более мощной рации – на вторую батарею.
– Действуй! – приказал я и тут же стал вызывать «Фениксы». Когда Феникс-7 откликнулся, я велел ему: – Синева! Слышишь, синева!
Две наши зенитные самоходки покинули свои капониры, вылетели на дорогу и рванули на восток. Немцы по ним стреляли, но для танков далековато, для гаубиц слишком быстро. Утыканные ветками, укрытые маскировочными сетями зенитки больше походили на самодвижущиеся кусты. А самое главное, походили на танки, утыканные ветками, чего я и хотел. На что был похож их отход? На бегство двух танков. Я надеялся, что немцы посчитают, что танковое подразделение было ими разбито, два оставшихся танка бежали, бросив пехоту. Надо, чтобы противник ударил разом и всей техникой. Такой удар нам выдержать будет очень сложно, но возможно. А вот если они оставят половину танков прикрывать штурмовую группу, у нас вообще не будет шансов – перещёлкают, как куропаток.
Есть! Клюнули! Две дюжины бронемашин покатились на наши позиции, прокладывая параллельные борозды в полях. Серые угловатые танки иногда останавливались на мгновенье, их пушки плевались огнём, и танки шли дальше. Шли прямо, как на параде.
Восемьсот метров. Шестьсот. Вот один панцер подорвался на мине. Не загорелся, хотя катки поотрывало.
– Братья! – обратился я в рацию. – Удачной охоты!
Семь трёхдюймовых стволов Грабина – это вам не кот наклал! Три танка были подбиты сразу же. Благодаря высокой скорострельности и скрытности позиций наших орудий, мы сразу завоевали огневое превосходство. Немцы заметались по полю, лупя по посёлку наугад.
Воспользовавшись образовавшейся у противника сумятицей, мы выбили половину их машин. Только потом их командование смогло совладать с ситуацией. Танки полезли на посёлок, ведя частый огонь с коротких остановок. Усилился миномётно-пушечный обстрел. Подтянулась к танкам немецкая пехота.
– «Единорогам» – отход вбок через зад! – приказал я.
Самоходки разошлись, как ворота, на фланги, открывая дорогу танкам противника. Немцы сразу почувствовали, что наш огонь ослаб, рванули прямо по дороге, потеряв на мине ещё один танк. Через минуту танки прошли по позиции ПТО и ходом пошли дальше. Пехота ворвалась на окраину села. Закипели перестрелки с кинжальным огнём в упор с нашей пехотой, яростно отбивавшейся гранатами и штыками.
Первый танк проскочил деревню и выскочил на дорогу.
– Давай! – пнул я наводчика. Орудие моего «Единорога» выстрелило, звякнула гильза.
– Готово! – прокричал заряжающий.
– Выстрел! – проорал наводчик, орудие опять громыхнуло, раскачивая всю машину. Потом ещё раз. И ещё.
Первый танк горел, развернувшись поперёк дороги. Рядом взорвался следующий, высоко подкинув башню. «Единороги» отстреливали мелькавшие меж деревьев и горящих домов машины врага.
– Коля, лево-назад! – приказал я мехводу, а наводчику кинул: – Танк за забором.
– Вижу! Взял! Выстрел! – проорал наводчик.
Орудие громыхнуло, уши опять забило ватой, и я едва услышал:
– Атас!
Я подумал: «Какого?..», – но тело сработало на автомате, я рухнул на пол, тут же по броне самоходки ударили несколько молотов. Надо было покидать машину при этом сигнале, а я, как истинный пехотинец, припал к полу. Поняв это, дёрнул спуск дымомётов и выкатился из «Пуха». Тут же мощная длань Громозеки схватила меня за воротник и отшвырнула в сторону. Я скатился в яму, бывшую когда-то лужей. Тут, на растрескавшейся корке грязи уже сжался наш заряжающий. Я быстро выглянул. Громозека, укрывшись дымом, тащил из чрева машины наводчика, а в семидесяти – восьмидесяти метрах на нас шёл Pz-II. Угрозы от нас он уже не видел – башня отвёрнута вбок, но приближается. Видимо, решил использовать корпус нашей самоходки для прикрытия.
Я вскочил, подлетел к Громозеке, вместе выдернули раненого наводчика. Ему практически оторвало ступню. А самоход не горел. От дымовых зарядов щипало глаза и дыхательные пути.
– Неси и вернись, – велел я Громозеке, сам полез обратно в машину.
Двигатель продолжал работать, орудие цело и даже заряжено, а вот мехвод был убит. Их с наводчиком зацепило одним и тем же снарядом.
А немец уже в паре десятков метров. Рядом тяжело приземлился Громозека.
– Поверни машину на этого немца, а я его убью! – прокричал я ему в ухо. Громозека сразу потянулся в отделение управления, прямо через разорванное тело мехвода.
Хорошо, что перегородки межотсековые не успели поставить. Хотя, может, наводчик был бы тогда цел?
В прицел ничего не было видно из-за дыма, я высунул голову поверх брони – авось с такого расстояния не промажу и так. «Единорог» довернул, ствол практически упёрся в Pz-II. Танкисты начали понимать, что что-то не так, но я не дал им шанса – выстрел в упор практически развалил лёгкий танк противника.
– Атас! – проорал я, вываливаясь из «Единорога», рядом упал Громозека. Мы вместе скатились в яму, слишком маленькую для троих. Троих? А где зарядный? Бежит, сука!
– Жгут наложи, – ткнул я Громозеку, указав на наводчика, так и лежавшего без сознания, а сам побежал за трусом. Догнал его быстро, подсечкой сбил с ног, рухнул сверху, перевернул и несколько раз со злости вмазал в лицо, разбивая ему в лепёшку губы, нос, брови. Потом плюнул, встал, пнул ещё раз и приказал:
– За мной! – и, не оборачиваясь, побежал, пригнувшись, к «Пуху».
Дым развеялся, и я смог оценить поле боя. Фактически бой был проигран. Я не видел никого из наших. Только серость врага. Дым и огонь. Выстрелы и взрывы. Неужели всё? Мы разбиты?
– А вот и хрен вам! Мы ещё живы! – заорал я. Кому? Самому себе.
– И «Пух» исправен, – прогудел рядом Громозека.
Мы встретились с ним глазами. Он подхватил наводчика, мы побежали к машине. Громозека дёрнул сиденье мехвода, разом отогнув все трубки, из которых оно и было сварено, вытащил тело. Мехвода и наводчика положили в командное отделение, Громозека сел в окровавленное отделение управления, я за орудие, сзади щёлкнул затвор, заряжающий ткнул меня в плечо:
– Готово!
– Назад! – приказал я Громозеке.
Он опять завел двигатель, дал задний ход. Я вставил разъём шлемофона в гнездо. Сразу же услышал, что меня вызывает множество голосов.
– Тут Медведь. Я в теме. Назовись.
Отозвались три «Единорога», Кадет и Феникс-7. «Феникс» доложил, что куцые Т-70 вышли на него и рвутся в бой. Да куда им против немцев? Их даже Pz-II расхреначит, не говоря уже о более тяжёлых машинах. Хотя… Тут сейчас такая свалка!
– Феникс, даю добро «куцым». Пусть на всех парах летят и бьют в упор и только в борт или под хвост. Как понял меня?
– Принял, Медведь!
А «Единорогам» приказал отходить на фланги, ведя огонь, оттягивать бронетехнику на себя, чтобы подставляла борта или нам, или «куцым».
Громозека пятился, заряжающий был его «глазами на затылке», я ловил в прицел мельтешение серых силуэтов, ведя быстрый, но не слишком эффективный, неприцельный огонь. Брошенная мною на чашу весов гиря дюжины Т-70 окончательно перетянула весы победы на нашу сторону. Противник в спешке отступил, бросив повреждённую технику и раненых. Т-70, а за ними и «Кирасиры» увязались в преследование и гнали их огнём и колёсами по полю, пока не был подбит ещё один Т-70. Он загорелся. Выскочить успел только мехвод. Я приказал прекратить погоню и вернуться в посёлок. Объявил по рации сбор комсостава, а сам побежал на огневую ПТО.
Обе пушки были раздавлены. На одной из них застыл Pz-III, перед огневой горел ещё один. Тела батарейцев лежали там же, где им предписывало боевое расписание. Никто не побежал, никто не спасся. Я подбежал к орудию, перевернул тело лейтенанта, которому танк переехал ноги. Он был жив ещё. Искусанные в кровь губы расплылись в растерянной улыбке:
– Командир, я танк подбил! – прохрипел он и испустил дух. Это его первый бой. И последний.
Я не смог сдержать себя в руках. И плохо запомнил, что было следующие несколько минут. А ребята, когда я их спрашивал, отводили глаза. Очнулся я связанным в «Единороге». А садист Громозека лил мне на голову ледяную воду из брезентового ведра.
– Оклемался?
Я его искренне послал.
– А, – многозначно протянул он, – лаешься. Там командиры собрались. Что им говорить?
– Развяжи, сам скажу!
Когда он меня развязал, то оказалось, что мои кулаки разбиты и сильно болят. Я вылез из «Единорога», исподлобья оглядел собравшихся, прервал доклад о состоянии подразделений, посмотрев на часы. Эх, не вовремя я выпал из реальности!
– Времени мало, мужики. Чую я, что летят уже сюда стервятники по наши души. Поэтому в темпе собираемся и валим. В первую очередь раненых. А трофеи – в последнюю. Поджигайте всё. Дым нас укроет. И быстро! Каждая секунда против нас. Бегом! Кадет, погоди! Где этот наш спец по радиоглушилке? Живой?
– Живой. И бандура его цела.
– Как увидите самолёты, пусть сразу врубает. Хоть чуть им помешаем, всё нам шанс. Понял?
– Так точно!
Сапёры бросили минирование, занялись поджогом битой техники врага. Чтобы уж наверняка не восстановили. Только в переплавку.
По одной, по две, в связке, машины уходили на восток. К исправным боевым машинам цепляли битые или трофейные. Последними уходили «Единороги», «Егеря» и казаки. Уходили под завывание пикировщиков и под бомбами. «Фениксы» усердно старались отогнать самолёты от нас, но не слишком успешно. Потеряли ещё один «Единорог», третий. Один, правда, БРЭМ утащил. Может, и восстановим. А вот два разбиты полностью. Последний сначала прошили из авиапушки, а потом и бомбой накрыли. Из расчёта спаслись наводчик, пулемётчик и мехвод. Я их подобрал на ходу прямо перед попаданием бомбы. Громозека вел машину виртуозно, постоянно меняя направление, змейкой. Он нас и спас.
Влетели в «зелёнку». «Лапотники» повыли ещё над нами да отстали. Полетели добивать посёлок. Из него по ним хотя бы никто не стрелял. Героически разбомбив посёлок, они убрались восвояси. А мы стали окапываться. И приводить себя в порядок.
Испытание людей. Перекур
– Сильно нас немец потрепал, – поделился я с приехавшим с последней батареей «Единорогов» начштабом.
Он удивлённо глянул на меня:
– Вы фактически одной батареей и одной усиленной ротой смогли разгромить передовой отряд противника. А там не меньше сводного механизированного батальона было и до двадцати танков. Это же отличный результат! Докладывать буду в штаб армии, не поверят. Скажут, приписками занимаемся.
– Погоди, там крутился паренёк с «лейкой». Всё фотографировал, – вспомнил я, – надо его на шпионство тряхануть. И фотодоказательствами разживёмся. И ещё. Пусть всю нашу битую технику снимет. Надо мелом написать, чем бито, и зафоткать. И на завод отправить. В КБ, Астрову. Пусть статистику собирают. Этого, как его, Гинзбурга привлеки. Мы же не только боевой полк, но и испытательный. Представляешь, в техзадании записано чётко: лобовая броня «Единорога» должна выдерживать снаряд 37 мм Пака. А меня сегодня «двойка» прошила в трёх местах из 20-мм автомата. Из семи попаданий – три пробоины. Мехвода и наводчика потерял. И сам жив остался лишь благодаря глазастому Громозеке. Одна пробоина прямо против моей груди. Не упал бы на дно за секунду до удара – каюк!
Начштаба кивал, глядя на запад. Я понял, что он меня не слушает.
– Чувствую себя Маугли. Сейчас мудрый Каа придумает, как одолеть рыжих собак.
– Да, – вздохнул начштаба, – и как их одолеть? По носу дали, они здесь встали, а в других местах так и прут. И дорог здесь масса, все не перекроешь. «Они текут, подобно реке».
А, слушал, оказывается! И Киплинга, похоже, читал.
Я ткнул пальцем в карту:
– Сюда идти надо. Здесь мы их притормозили. Сами тормознём – окружат, жилы подрежут.
– А почему сюда?
– Железка. Дорога вдоль неё. Могут пройти крупные колонны. Если и там их тормознём, то наши успеют по Дону закрепиться. В остальных местах мелочь.
– Встречный бой?
– Есть выбор? Любую стационарную оборону они просто блокируют и обойдут. Надо бить на опережение. Отходим сюда и по этой дороге движемся к железной дороге.
– Днём? На виду?
– Ты же пришёл сюда днём с колонной? Всё, я решил! Готовь полк к рейду. Да, в вышестоящие штабы не докладывай. Толку от них нет, помощи нет, только и могут ярмо на шею накинуть. Лучше бы боепитания подбросили.
Я пошёл к «Пуху». Новый мехвод с разбомбленного «Единорога» отмывал от крови своё рабочее место, остальные перегружали снаряды из полуторки в боеукладку, а обратно кидали стреляные гильзы. Тут меня и нашёл Кадет. Чумазый, как бомж.
– В грязи морда, в заду ветка – то пришла моя разведка, – приветствовал я его.
Кадет не растерялся:
– Гром гремит, земля трясётся, – то Медведь на штурм несётся.
Я рассмеялся, обнял его.
– Рад, что ты жив. Кого привёл?
– Этот парень через смотровые люки немцев отстреливает. Ночью прибился к нам, воюет геройски. К себе хочу забрать.
– Да ты что! Серьёзно? Через люки?
– Моя белка в глаз бил. Немца в глаз бил. Немца глаз блестит, моя – бить, – сказал маленький азиат.
– Чукча, что ли? А, не важно! Молодец! Кадет, начштаба скажешь, чтобы зачислил к тебе в роту и представление подготовил к «Отваге». Да, Белка, мало-мало тебе подарка дарить буду, однако. Держи. У меня теперь другая игрушка.
Я ему отдал чехол со своим СВТ.
– Знаешь, как ухаживать за ней?
– Бригадира такая был. Я стрелял. Тюленя ходил.
– Вот и хорошо. Ты немца теперь в глаз бей. С оптикой знаком? Удачи, однако!
И тут же прогнал обоих – чукча стал очень уж яро благодарить меня. Ещё на колени упадёт. С них, азиатов, станется. Для них начальник – бог. Спиной только не поворачивайся. И чукча пошёл, сияя плоским лицом, бережно укладывая «светку» в чехол. А я залез на передок «Пуха», задумчиво засунул палец в пробоину на лобовой броне, прикрывавшей командный отсек. М-да. Не упал бы на пол – в груди была бы такая же. Если броня «Единорога» не сдержала, «доспех» тем более не сумел бы. Судя по оплавленным краям и выжженному ореолу краски, били снарядом из твердого сплава. Вольфрам или что-то подобное.
Решил сходить к ремонтникам. Гинзбург озадаченно кивнул мне, я подождал, пока он закончит раздавать указания своим подчинённым, выложил ему свои мысли о наборе статистических данных и привлечении прибившегося фотокорреспондента армейской редакции. Гинзбург со всем согласился, обещал заняться сразу, как закончат восстановление.
– Хотя бы то, что можно быстро отремонтировать. Остальное в тыл пока оттащим и там вдумчиво этим займёмся.
– Вот сам этим и займись. Не по чину тебе на передке шнырять. Организуй базу для рембата. Туда тебе и будут БРЭМы объекты подтаскивать. Это не совет, а приказ. Хоть ты и старше меня по званию, но являешься моим подчинённым как командир рембата моего полка. Выбери местечко удобное на том берегу Дона и разворачивай полевой ремзавод. Это нужнее нам, чем твоё присутствие здесь.
Гинзбург всё это время смотрел на свои сапоги, вытирая руки ветошью. Не поднимая головы, спросил:
– Когда отходить?
– Вчера. Определись со структурой и выдвигайся. Я думаю, что надо организовать несколько маневренных эвакогрупп и полевой ремзавод. Детали сам додумаешь. И не думай, что я тебя отсылаю. Там, за Доном, не безопаснее. Так же обстреливают и бомбят. Так же танки и мотопехота могут прорваться. Но всё же более подходящие условия для ремонта. Мне не только твоя жизнь нужна, но и высокая боеспособность техники. Понял? Исполняйте, товарищ комбат.
Блин, а приятно приказывать генералу! Гинзбург хоть и военинженер, но его звание равно генеральскому, только он ходит в простом сером танковом комбезе со множеством нашитых полковой мастерской карманов, но без знаков различия. Прихотью судьбы оказался прикомандирован к полку на время боевых испытаний БМП, своей инициативой возглавил рембат, который фактически и создал своими силами по своему разумению. Штат подогнали под фактическое состояние.
Надо было бы вообще его не тащить сюда, но русский мужик задним умом крепок. Как только пробомбили меня, так я сразу и испугался за генерала. Потеряю такую голову, и с меня мою снимут.
Пошёл обратно к штабному «Кирасиру». Меня беспокоило затишье. Что-то немцы затихарились, а это неспроста. Но по пути был перехвачен Брасенем и почти насильно сопровождён до кухни, где накормлен мясным гуляшом. Это должна была быть каша, но вокруг дорог было столько свежего мяса набито, что каша была не пшённой, а мясной.
– Людей не потравишь падалью?
– Какой падалью? Только то, что дышало к нашему приходу, в котлы идёт.
– Слушай, я тут карабин свой снайперу отдал. Как будет возможность, пусть мастерская перешьёт мне разгрузку только под ППС. А то, видишь, половина подсумков опустела.
– Был бы карман, а что в него положить, найдётся. А насчёт разгрузки головы не забивай. Готовую подгоним под твои телеса. Это быстро.
– Какие телеса? Сказал так, будто я жиртрест какой! Тут пупок к спине прилип.
– Это точно. И на кухню силком гонишь тебя. Смотри, командир, – Брасень показал мне шоколадку.
– «Панцершоколад», – прочёл я. – Брасень, все такие батончики собрать! И ещё у немецких танкистов должны быть таблетки в отдельных пачках. Их тоже надо собирать. Это наркотики.
– Наркотики? Как опий?
– Нет, не морфиты. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы по болотам бежали на подобных таблетках?
– А, чтобы не уставать. Помню.
– От них человек сгорает, как спичка. Просто так их есть нельзя. Так что налаживай их сбор и контроль расходования. Понял?
– Понял. А мы эти шоколадки так едим.
– Это всё одно, что микроскопом гвозди заколачивать. Можно, но на хрена? Один подобный батончик может человека сутки в силах продержать. Замечательный НЗ. Весит мало. Это на случай голода или окружения. НЗ. Каждый батончик год жизни заберёт. Есть только тогда, когда встанет выбор – год или вся жизнь. Понял?
– Понял, командир, сделаем.
– А этот давай сюда. Как раз подсумки пустые.
– А я и говорю, были бы карманы.
Человеческий организм – система открытая. Если в него что-то вошло, оно должно что-то из него вытолкнуть. Вот и я побежал до кустиков. Хотя и нет времени, но и терпежу нет. Только пристроился, крик:
– Воздух!
Я разразился матами, проклиная Гитлера, Геринга и всё люфтваффе. Одно хорошо – оправился чрезвычайно быстро. Боюсь я бомбёжки. Держа танковый комбез руками (не успевал застегнуться), бежал к машинам, когда со всех сторон понеслись радостные крики:
– Наши! Наши!
Над головой пролетели три странных самолёта с подвешенными на внешней подвеске бомбами и снарядами «Катюш». Для истребителей великоваты, для бомберов – маловаты. На Ил-2 не похожи. «Ил» – он весь такой тяжёло-основательный. А эти как разжиревшие Як-9 или «ЛаГГи», те же обводы, истребительные, один мотор, но со сдвоенной кабиной. Тем не менее не разгаданные мною краснозвёздные самолёты отбомбились и штурманули посёлок и противника около него. Возвращаясь, покачали над нашими головами крыльями. Чем вызвали бурю восторга и салют в небо касок и пилоток.
А вот я расстроился. Сколько времени потерял, обучая личный состав маскировке, а всё напрасно. Они нас увидели, значит, и немец увидит.
– Сворачиваемся быстро! – проорал я, врываясь в штаб. То есть на полянку со штабной бронемашиной. А тут полный комплект всех командиров моего полка. Начштаба собрал совещание.
– Докладывал наверх, – сказал он мне, ткнув пальцем в небо. Всё же устав ему важнее комполка.
– И?
– Не поверили. Воздушную разведку послали. Звено штурмовиков.
– А я-то думаю, что за самолёты… И что? Убедились?
– Да. Летуны подтвердили результаты боя. Но теперь штаб ставит ещё более сложную задачу: перекрыть вот эту спарку железки и грунтовки.
– Ага, от скромности они не умрут. Там как раз парочка панцердивизий прёт.
– Мы же сами туда планировали. И нам обещана поддержка…
– Моральная? Типа Родина вас не забудет?
– В тупике стоит бронепоезд. Морские орудия. Экипаж тоже моряки. Они даже состав свой называют иначе. Транспортёр или элеватор – как-то так. Их связист уже едет к нам.
– Какой калибр?
– Большой. Морские орудия. Сняты с крейсеров. Или с береговых батарей.
– Воздух! Немцы!
– Замаскироваться всем! Огонь только по команде! – проорал я.
Верно я предположил: пара хищно-тощих силуэтов стремительно прорезала высоту на восток – штурмовики догоняли. С земли им, видно, подсказали, что наши штурмовики работали без прикрытия. На нас они не отвлекались, я тоже решил их внимания не привлекать. «Фениксы» могли достать, но на пределе высоты, то есть эффективность почти ноль, а вот «худые» наведут на нас батареи немцев.
Проводили глазами самолёты с крестами, споро стали сворачиваться.
Только соединившись, полк опять распадался. Боевую часть я повёл на север, тылы Гинзбург повёл на восток.
До намеченного места добрались почти без происшествий, так – вспугнули две разведгруппы врага. Уничтожить не получилось – очень резво они ретируются, боя не принимают.
Вышли на намеченные позиции раньше противника, чего я, честно говоря, опасался. Не успеть в смысле. Закрепившегося немца наскоком не возьмешь. Как и нас. И отходить нам было бы уже больно.
По обеим дорогам сплошной рекой текла людская масса, обтекая огромные бомбовые воронки, остовы техники и трупы людей и животных.
– Комиссар! Вот и для тебя нашлась работа. Не всё же штаны марать в тылах. Всех дезертиров остановить, организовать из них пополнение нашей мотопехоты. А это твоя работа! Как? Раком, гля!
Наметили позиции, батареи и пехота стали зарываться в землю. Разведчики разлетелись во все стороны – враг не обязательно подойдёт с запада.
Испытание людей. В состоянии аффекта
Когда намечал сектора обстрелов в линии огня полка, вернулся Кадет. Летел на своём «Кирасире», как на самолёте.
– Немцы? – запросил по радио.
– Нет пока, но кое-что занятное.
Занятным оказался белобрысый мальчуган с подбитым глазом и облупившимся носом.
– Здесь, в селе, стоят сухими до десятка танков, – докладывал Кадет, показывая на карте.
– Вот почему развилка оказалась свободна, – кивнул я и обратился к мальчугану: – Точно без топлива?
Тот закивал:
– Они последнее сливали для нескольких танков.
– И где эти танки заправленные?
– Обратно ушли.
Ушли ли? Боевое охранение, засада? Видно, Кадет о том же подумал:
– Такой шанс!
– А чем немец занят?
– Пьют! Девок наших насильничают. И мамку-у-у… – Парень вдруг разревелся. – Убили-и-и…
Я услышал скрип своих зубов. Нет, не только своих.
– Кадет!
– Я!
– Шанс небывалый. А не попадём ли мы впросак? Выяснить! Чтоб ясно было, как в полдень!
– Так точно!
– Мельник! Собирай ударную группу! Сам возглавлю. Батарея «Единорогов», «куцые», «Егеря», «Кирасиры», «Сталкер». Огнесмеси побольше. Сжечь! Быстро! На сборы пять минут! Выдвигаемся с переезда.
Спустя пять минут ударный мобильный отряд стартанул с переезда на северо-запад по пыльной грунтовке, уже опустевшей от беженцев. О том, что поток был, свидетельствовали трупы и тысячи следов.
Немцы были в семи километрах. Это если по карте. В реале дольше, конечно. Летели на всех газах. «Куцые» и «Егеря» сразу вырвались вперёд, Забитые, как автобусы в час пик, пехотой, «Единороги» и «Кирасиры» отстали, глотая пыль.
– Есть контакт! – доложил Кадет. – Вижу собаку с метлой и косой. Меня не унюхала.
– Понял тебя, погляди, что за огородами.
– Сделаю.
– Медведь – «куцым», «егерям», нахрапом ломим! Не останавливаться! Блох скидывать на ходу! Крутись как уж, но не останавливайся! Врываемся и жжём! Я прикрою!
Немцев врасплох застать не удалось. Ещё бы, такой столб пыли и рев десятков движков. А для танкистов источник рёва – это не секрет и не загадка. Поэтому первый же Т-70, взлетевший на гребень высоты, споткнулся и развернулся на сбитой гусенице. Экипаж не покинул машину – стали разворачивать башню.
– Сорок седьмой, покинуть машину! – заорал я в радио. Поздно – танк запылал. Уже не вылезут.
Остальные танки перевалили за гребень и скрылись, с «Егерей» посыпались разведчики и бегом сопровождали свои машины.
Вот и мои «Единороги» добрались до верха, и я наконец увидел развернувшийся бой.
«Егеря» и Т-70 уже мелькали меж домов, наша пехота в рукопашной дралась с немцами. Две пушки и пулемётные точки уже были раздавлены, но горели ещё два танка.
– Батарея, огонь по готовности!
И мы с холма накрыли немцев частым и метким огнём. Немцы сразу побежали на север.
– Отставить преследование! Зачистить поляну! Жечь! Всем жукам – приготовиться к встрече гостей.
Пехота занялась зачистками, сапёры подрывали брошенную технику противника. А наши танки и БМП выкатывались на окраины села, давя и расстреливая всё на своём пути.
– Командир, восток! Я под огнём! А-а-а!
Это взорвался один из «Егерей». Тут же ещё и Т-70 с «Кирасиром».
– Укрыться за хатами! – крикнул я в шлемофон и тут же своему мехводу: – Вперёд! Обойдём их. «Единорогам»! Подавить противника!
Три «Единорога» стали частыми залпами рвать заросли на восточной окраине села, а я на «Пухе» летел зайти им во фланг. Сколько их? Ну, один-два. Порву.
– Командир! Запад! – доложил Кадет. – Крупная группа. Долго не удержу!
Твою дивизию! Попали! Раздавят!
– «Единорогам»! Встретить врага!
А потом подумал и приказал:
– Всем откат! Повторяю – откат! Белый шум!
Связь пропала. По этой команде наш штатный глухарь врубает свою бандуру, и помехи забивают эфир.
Эх, не вовремя я решился на ход конём! Громозека пнул меня, подбородком показывая на заросли орешника слева. Всего в полутора сотнях метров от нас.
– Осколочный! Два снаряда! Лево, пятьдесят! Огонь!
Взрывы разметали кусты, обнажив самоходку «Штуг» со сбитой гусеницей.
– Бронебойный, в корму! Пли! Есть пробитие! Пли! Горит! Ещё! Громозека!
Пулемёт Громозеки коротко три раза рявкнул.
– Право, осколочный! В ходовую! Давай!
За горевшим «Штугом» показался ещё один. Он сдавал назад, чтобы развернуться на нас, но взрыв снаряда разорвал ему гусеницу и разбил траки. «Штуг» пытался довернуть на одной, но мой наводчик всадил ему один бронебойный в щель мехвода, сразу прекратив поползновения, второй снаряд, правда, срикошетил в небо от маски орудия, но третий, попавший прямо в уже пробитую дыру первого (не думал, что так бывает!), довершил начатое – самоход запылал. Громозека ждал немцев, но люки не открылись.
Что-то почувствовав, я оглянулся направо. Затылок нестерпимо зажгло, уши запылали – куст орешника метрах в семидесяти смялся, и я увидел чёрный зрачок смерти – направленный прямо на меня ствол 75-мм пушки «Штуга». Третьего.
– Атас! – заорал я.
Если я вижу вместо ствола лишь дырку, ствол уже наведён. И жизнь наша зависит только от расторопности немцев.
А мой экипаж даже среагировать не успел – только головы начали поворачивать! Ну, конечно, это же для меня время замерло, а для них-то нет.
Оттолкнувшись от корпуса самоходки обеими руками, я выпихнул спиной заряжающего за борт, этим оттолкнулся от него, схватил за шиворот наводчика и метнул его в Громозеку, пихнув обоих за борт. Их пихнул – меня качнуло в самоход. И тут я понял – всё, не успеваю. Ни мехвода спасти, ни самому выпрыгнуть. Успел я только поднять ногу и упереться в откатник пушки, когда снаряд ударил в «Единорога». Но я толкнул своё тело назад, выпрыгивая из машины спиной.
Ну, как выпрыгивая – выплывая. Как в замедленном кино, я видел, как вспухает броня, рассыпая раскаленные искры, как летит во все стороны бензин, загораясь на лету. Я видел, как пламя солнечной волной накатывало на меня, окатило, ударило, выбивая меня из жизни.
Воюю вслепую. Думы о мадам Маховик
Но и на этом моя история не закончилась. Я выжил. Уж и не знаю, хорошо это или не очень. А вот что больно, это точно. Мне так везёт. Я выживаю в безнадёжных ситуациях, расплачиваясь жуткой болью. Хорошо ли это? Мой путь не пройден, так сказал Голос. Поэтому я и могу продолжить рассказ. Честно скажу, я не особо рад. Война такая штука – я бы желал, чтобы это всё прекратилось бы наконец. Погиб героем, да и хрен с ним. Но путь не пройден. Искать смерти бесполезно – мне она не даётся. А вот боли – сколько угодно! Чрезмерно щедро.
Видимо, я и правда очень удачлив – я единственный из попаданцев, что был жерновами истории перемолот, но не уничтожен. Пока. Кто-то сказал, что история – жутко инертная штука. Как какой-нибудь гигантский маховик. Крутится себе и крутится. Вроде бы и неспешно, так, с ленцой. Но всякого, кто пытается жить не в ритме этого маховика, а тем более изменить этот ритм – ускорить или замедлить, – рвёт в клочья. Такая вот инерционная сила сокрыта в этом лениво-неторопливом качании. Я вспоминал всех иновремённых гостей, что оказались в этом мире. Я – первый. Не успев попасть в тело Кузьмина, получил бомбой по башке. Такой вот приветик от маховика. Но выжил. Голум – нет. Объект-22 – сошёл с ума. Голум – погиб, десантник, забыл фамилию, – погиб. А сколько их ещё было? Сколько их лежит по лесам, оврагам, дурдомам?
Маховик истории так безжалостен не только к гостям из иных времён. Даже к собственным гражданам не менее безжалостен. Сколько гениальных изобретателей, учёных, гениев, придумавших что-то, для чего ещё не пришло время, жаловались на несправедливость бытия. Неудачи их просто преследовали. За примерами далеко ходить и не надо. «Титаник». Он опередил время ненамного – а айсберг его уже ждал. «Конкорд». Всего лишь реактивный лайнер, однако неудачи, стечение обстоятельств.
А Никола Тесла – вот этот великий гений опередил время настолько, что и сто лет спустя мы многое из уже обдуманного им постигнуть не можем. Всю его недолгую, но яркую жизнь его плющило, а потом и вовсе он пропал. А не попаданец ли он?
Или другой пример – Пётр I. Он сумел раскрутить маховик истории. Великий. Но с рождения – то его убить пытаются, прямо в люльке, то войны за войнами, бунты за бунтами. Помер от банальной простуды. Отчаявшись, история сработала грубо. А…
Ё-моё, мысль, пришедшая мне в голову, пробила как током. Товарищ Сталин! Феномен. Гений. Логика его людям этого времени непостижима, методы – таинственны, результаты – потрясающи. Вы из какого века сюда провалились? Я из двадцать первого, мыслю и действую привычными для человека моего времени шаблонами. Местные их находят новаторскими, но понятными. А ваши шаблоны, методы, заготовки? Они непостижимы. Через сколько веков люди освоят подобное?
А может, всё это бред закоротивших в очередной раз от очередного удара по голове моих извилин? Эти люди – просто гении, соль Земли. Создавшие всё упорным трудом и яростной борьбой с самими собой, со своей ленью. Наверно, правильнее будет не списывать всё на провалы во времени. Так будет правильнее, а подвиг подобных людей – ещё величественнее. Не было никакого «читерства» – всё по-честному, ручками, ручками. Их достижения ещё ценнее.
Я вот один выбиваюсь. С козырем в рукаве. Шулер-читер. Ну, умею я замедлять время. Моя ли это заслуга? Само далось. Сильно мне помогло? Ну, я жив. А подвиг? Лео да Винчи и через тысячу лет будут знать. И Сталина. А Кузьмина? Нет. Почему? Я не продвинул человечество ни на шаг вперёд. А они – на ступеньку выше подсадили. Я тут уже год – что сделал? Так, возня тараканья. Моих заслуг – никаких. Всё, что мне приписывается – наработки наших предков, мною лишь стыренные и присвоенные. Ничего. Ноль. А маховик всё одно время от времени меня – в порошок.
Вот, убили бы меня сегодня. И что? А ничего. Горьковское КБ само разработает те боевые машины, которое оно же и разработало. Немец пройдёт столько, сколько пройдёт. А мы в Берлине будем тогда, когда нужно. И от моего присутствия или отсутствия ни горячо, ни холодно.
Как и в том мире. И в мире Голума. И в мире тех страшных снов. Кто я? Зачем послан в эти миры? В чём оно, испытание?
Воюю вслепую. Самобичевание
Вот о чём я думал, очнувшись от боли. Знаете, а боль сожжённого тела неописуема. Дай-то Бог вам и не узнать. А вот я познал. Испил этой горькой чаши. Громозека, бывший рядом, пояснил, что это ещё нормально, Прохор мне помог. Да так, что сам выпал в осадок. Самое сладкое я пропустил, пока был в беспамятстве.
Тело моё обгорело не слишком – всё-таки брезентовая роба защитила, голову, даже волосы, спас шлемофон, а вот лицо выжгло основательно. И самое грустное – глаза. Тут даже Прохор не смог исправить.
– Я ослеп? – прохрипел я.
– Парень обещает, что есть надежда, но после. Сейчас надо, чтобы сердце выдержало. Боль, ожог, интоксикация.
Блин, какие слова знает смурной осназовец!
– Спас нас всех заряжающий. Я-то на голову приземлился, в беспамятстве, как и ты, и наводчик. А заряжающий стал нас оттаскивать от самохода. Трус, трус, а тут прям как и не он. Немцы рядом, боекомплект вот-вот рванёт, а он не убежал. Нас таскал. Успел до взрыва БК. А там и казачки подтянулись, немцев порубали, их самоходы бутылками пожгли. Так что атаку мы отбили. Моряки хорошо огнём помогли. Долбили так, что земля из-под ног уходила. До утра немец ничего не успеет. А за ночь командование пехоты подкинет. Уже начали роты подходить и окапываются. Но там роты такие, что слёзы.
– Хоть что-то.
– Это точно. Ты, командир, поспи. Завтра будет жарко. Мы тут пленных допросили. Немец на нас вышел серьёзный. Тоже уже потрёпан, но всё же сила его не в пример нам.
– Кто командовал в моё отсутствие?
– Здесь, на переезде, Сугроб (начштаба), а бой за посёлок вёл Мельник.
– И как?
– Хорошо. Самое главное, уверенно. Не спасовал.
– Растёт.
– В отличие от тебя. Мы зачем на кукан полезли? Ладно, я, но ты-то – комполка. Обезглавил подразделение. А Мельник мог и не сообразить, растеряться, струхнуть, да и просто сложиться.
– Так, это что ещё такое? Яйца курицу не учат! Отставить!
– Ну-ну…
– Пшёл вон!
Протопали грузные шаги Громозеки. А я остался один на один с болью. И мыслями. И рефлексией. О самобичевании. Громозека прав, не следовало мне лезть в пекло. Это ещё хорошо, что всё обошлось. Разве мало мы видели, что случается с подразделениями, разом потерявшими командование? Разгром. И дело тут не в тактике, а в морали. Убили командира, «шеф, шеф, всё пропало!», паника, сумятица, разгром, сбор пленных. Эх, рано мне ещё на полк! Рота – вот мой уровень.
Тут как раз припёрся начальник нашей СБ, он же командир комендантского взвода. Тоже перец непростой. Чувствовалась в нем та же закваска, что и в Громозеке, а судя по отношению этого Громозеки к командиру взвода – весьма почтенное, до дрожи, – под видом старлея мне впихнули тёртого волчару-чекиста. Но по факту он мой подчинённый, поэтому был усажен, и под мою диктовку записал мой рапорт, где я изложил все свои косяки и просил отстранить меня от командования полком.
– Отправь вышестоящему командованию.
– Глупо. Честно, но глупо. Было бы кого поставить, уже поставили бы. Если выживешь – дивизию примешь. Сейчас в генералах ходят даже не ротные, взводные.
– А у меня рембатом командует генерал, комендантским взводом командует высший командир. Ты полковник, генерал?
– Секретно. И не важно. Сохранение твоей целостности и секретности только часть моей работы.
– Что-то интересное нарисовалось, раз ты так откровенен?
– Изменились некоторые обстоятельства. Да и твоё ребячество сильно осложняет работу.
– Про ребячество уже Громозека проработал меня. А что за обстоятельства?
– Появился интерес к тебе от людей, у которых его к тебе не должно быть. Действуют грубо, нагло. Не исключаем попытки силового захвата.
– Те, что Кельша на гоп-стоп взяли?
– Не исключено. Или под них работают. Тебя ставим в известность, чтобы опять дров не наломал. Их надо брать и колоть, а не закалывать и стрелять. Понимаешь? Нам не они нужны, и даже не их организаторы, нам нужны идейные вдохновители.
– Понимаю.
Я вздохнул, застонал – больно. В голову пришла мысль, решил озвучить:
– Вы и на фронт меня пустили как наживку. Ловля на живца.
– Ты против?
– Как ни странно самому себе признаться, но нет. Не против. Что надо делать?
– Ничего особенного. Единственное, всеми путями попытаться не покинуть расположение полка. Ни в госпиталь, ни в штабы, ни в тылы. Ни под каким предлогом. Даже если аргументы будут очень вескими. Не понял? Нам их проявить надо. Нужный нам интерес отличить от обычного любопытства. У нас будет только одна попытка, а потом о-очень мало времени.
– Тогда я не понимаю, почему мне разрешили на фронт, а не заперли.
– Как раз тут, в бардаке фронта, и создаётся у них иллюзия возможности изъятия тебя. В тылу бы они не проявились. А нам их надо быстро увидеть и понять, что это, кто они, чего хотят и зачем.
– Мне и самому любопытно, кто же это. Наши, немцы, заклятые союзники или ещё кто. Масоны какие-нибудь. Миф о единстве и сплочённости народа и партии действительно оказался мифом.
– Я думал, ты уже достаточно взрослый, чтобы понять, что такое миф и для чего он создаётся. А что есть жизнь.
– Несовершенство человеческой природы – вот что такое жизнь. Эгоизм, жадность и трусость. Жаль, что такие мрази в верхи пролезли.
– Так других-то мало. Исчезающе мало. А с войной всё усложнилось. Работаем с тем материалом, что есть. Давай оставим этот разговор до лучших времён.
– Эти лучшие времена могут и не наступить. То, что я увидел других, даже не знаю как их, вас, других, назвать, уже великое чудо. Жил я как в гнилом болоте – одни мрази вокруг. Гноем всё отравлено. Смердит, и так сильно, но постоянно, что перестаёшь эту вонь различать. Отравляешься ею, гнилью разложения, сам смердишь, гниёшь, а считаешь, это нормально. Все же так живут.
Тут я понял, что разговариваю сам с собой. Мой собеседник-чекист давно покинул меня. А с собой я не любитель болтать. Не считаю себя ни умным, ни интересным. Ноль.
Сколько продолжалось моё самобичевание, не знаю. Глаза завязаны, тишина. Лишь изредка бухают взрывы и трещат пулемёты – не считается.
Воюю вслепую. Мираж
Потом пришёл Громозека, сказал, что нам (мне) прислали нового полкового врача. Тут она представилась, а меня словно током пробило – у неё был голос моей жены. Горячо любимой и потерянной. Мой некрепкий рассудок не выдержал, и крыша моя опять потекла:
– Как? Ты что тут делаешь? Как ты тут оказалась? Неужели?
Я, видимо, привел их в сильное замешательство. Но Громозека на то и осназовец, чтобы быстро соображать:
– Он контуженый. Часто бывает не в себе, – пояснил он.
– Бывает, – ответил любимый голос.
Нежные, аккуратные руки стали гулять по моему лицу. А потом нежность кончилась. Когда отрывали бинты, я потерял сознание.
– Ну и учудил ты, командир, – заявил мне Громозека, когда я его стоном оповестил, что очнулся. – Заставил даму краснеть.
Что ему сказать? Что его командир – временно избежавший психушки шизик? Так он и сам знает. Как сказал мне СБ, «работаем с тем материалом, что есть». Вот и со мной работают. С тем, какой есть.
– Кто такая хоть? Узнал?
– Угу, – буркнул он полным ртом.
– Хорош хомячить, харя треснет, докладывай!
– Я как просёк твой повышенный интерес к дамочке, сразу доложил старшему. Он и пробил. Не мог ты с ней пересекаться. Никак.
– Это-то ясно. Обознался я. Ты про неё докладывай!
– Родом из Москвы. Там же училась в школе, потом на врача выучилась. За нашего замуж вышла. Пограничник. С ним уехала на заставу. Он успел до командира погранотряда дорасти, она, соответственно, до врача отряда. Было двое детей. В первый же день войны схоронила всех троих. С окруженцами пробивалась на восток, потом примкнула к партизанам. Этой зимой была тяжело ранена и вывезена самолётом на Большую землю. Вот. После излечения была приглашена к нам, согласилась. Она теперь наша.
– «Наша» – это НКВД?
– Ну да. Я и говорю. Вот. Опыт у неё огромный. То есть врач хороший. Надо тебя на ноги поставить.
– Сам хочу, веришь?
– Угу. Всё.
– Как всё? Красивая хоть?
– Сам увидишь. Одним глазом, но сам. Вот, сейчас Прохор отоспится, обещал тебе левый глаз поправить.
– Почему левый? Надо правый!
– Вот уж не знаю! Я тебе что, врач? У них и спросишь. Дай пожрать, командир, поспи лучше.
Вот и поговори с этими чекистами. Пятьсот мильонов невинных и убиенных! Ничего в них человеческого! Только бы пожрать да поспать. А вдруг это она? Или её двойник? Был же мой двойник? Может, врачиха – её двойник?
– Сколько времени?
– Три – тридцать четыре, – ответил Громозека с набитым ртом. – Скоро начнётся. Чую, немец сегодня решит утренний кофей пропустить. Надо пожрать успеть – когда ещё придётся? И Прохора будить.
Прохор сунул мне в рот какую-то деревяшку.
– Надо! – сказал он.
Он стал лечить мне глаз. Боль была такой, будто в глазницу налили расплавленного свинца, так жгло. Если бы не палка во рту, я бы и немцев перепугал. А так – только наших.
– Всё! – сказал Прохор, и я услышал возню. Оказалось, он потерял сознание, Громозека его подхватил, потащил на топчан. Потом пришла она, развязала мне бинты – опять больно отрывая. Но я её наконец увидел.
Тёмноволосая, чернобровая, с длинными тёмными ресницами, карие огромные глаза, высокий лоб, алые губы сжаты стрункой – разглядывает.
– Привет, красавица!
Ох, как мы умеем строго хмуриться!
– У тебя в роду не было шамаханских цариц?
Брови остались нахмуренными, но глаза блеснули:
– Что-то цыганское было. Раз различили мою родословную, значит, вы меня видите.
– Я тут один перед тобой. Не надо на «вы».
– А мы на брудершафт ещё не пили.
«Ещё» не пили. Обнадёживает.
– Какие наши годы!
– Военные наши годы, военные, товарищ майор. Война идёт.
– Война войной. А я вас приглашаю на свидание.
Она ничего не ответила. Долго-долго смотрела на меня строгим и внимательным взглядом, потом кивнула Громозеке. И ушла. Я разочарованно вздохнул. Громозека заржал. Впервые слышу его смех.
– Командир, ты никак влюбился?
– Очень похоже на то, – ответил я.
Поднёс в глазам руку, посмотрел на неё. Так и есть. Небольшая расфокусированность, как после хорошего сотрясения мозга, но я видел. Нормально. Сойдёт. Можно воевать.
– Эх, Прохор, что бы я без тебя делал?
– Вот и я о том же, – поддакнул Громозека.
– Увянь. Ты, полено с ушами, чё это разговорился? То неделями слова не вытянешь, то раздухарился – не заткнёшь.
– Знаешь что, командир, а не пошёл бы ты в баню!
– Знаешь что, боец, а с удовольствием бы. Только ожоги сойдут, так сразу – в баню. Зови всех, не скалься, тебе не идёт. Роль пенька с ушами тебе больше подходит.
– Я знаю. Потому его, пенёк, и изображаю. Вот!
Видел-то я нормально, но вот когда подкрутили лампу и стало ярче, всплыл минус – боль от яркого света. А ведь свет керосинки совсем не ярок. Летнее полуденное воронежское солнце всяко посильнее будет. И что мне делать? В этом мире существуют солнцезащитные очки?
Громозека обещал что-нибудь придумать.
Собрали военный совет и совещались до рассвета. Я был рад, что с моим отсутствием не случилось катастрофы. Это приятно. Значит, у меня хорошая и надёжная команда. Можно и дальше изображать лихого казака. Вынес благодарность Мельнику, утвердил его как командира маневровой группы резерва. Тут же заменив название.
– У немцев есть понятие «кампфгрупп» – боевая группа. От роты до группы армий. Вот и пусть будет наш подвижной резерв боевой группой Мельника.
Всё было обговорено, проработали несколько схем действия в предстоящем бою. На том и разошлись.
И тут немец начал.
Воюю вслепую. Первая атака
На разогреве у них была авиация. С противным воем по небу носились «лапотники», прошлись пушками и пулемётами, бросили бомбы. После сброса бомб включились наши зенитки. Минут пятнадцать продолжались в небе танцы самолётов и трассеров. Нам удалось ссадить с неба одного «лапотника» и подвесить чёрный дымовой хвост ещё одному. Самолёты ушли на запад. Зенитки сразу же двинулись на запасные позиции.
В дело вступила артиллерия врага. Молотили долго, основательно и довольно точно. Блин, эти стреляют лучше, чем немцы в Москве прошлой зимой! Ну, есть объективная причина – мы на этой позиции вторые сутки, пристрелялся немец. Появились первые убитые и раненые. Одно радовало – не долго долбили.
А потом показались танки. Сразу и много. Без разведки. Опять же, мы тут вторые сутки, что разведывать-то?
Ребята из рембата (прям в рифму) принесли мне трофейные мотоочки. С затемнёнными стёклами. Нормально. Хоть видеть смогу. Ещё и солнце не взошло, а мне уже и глаз не раскрыть – слепит. Надел. Прикололся сам над собой: я – Риддик. Смешно же. Жаль, никто не оценит. Ну, не знают они актёра Вин Дизеля и его персонажа.
Я прильнул к стереотрубе, считать танки. Ничего не вышло – в очках фокус сбивался, без них – засвечивало. Приказал Громозеке пересчитать немцев. Потом поймал себя на мысли, что мне-то из спортивного интереса, а многие реально сейчас колечко руками держат. Чтоб позора не допустить.
– Связь мне. Общая волна, чтоб все слышали. Весь полк.
Подали трубку.
– Всем внимание! Говорит Медведь! Итак, братья, настал момент истины! Перед собой вы видите врага, что стёр в пыль все государства Европы. Да, они поставили раком народы Европы. Но мы не Европа! Мы – русские, мы – скифы! И сегодня весь мир и вы сами поймёте, кто мы – люди с большой буквы «л», или грязь под немецким сапогом. Тот, кто не струсит сегодня, не побежит – тот победит! Помните главное – этих зверей мы уже били. Вчера били, зимой били, и сегодня – побьем! Каждому пехотинцу, что сегодня сожжет танк – медаль, за три танка – орден. Пушкарям за три танка – медали всему расчёту, за пять – ордена. Ребят, не щёлкайте хлебалами, их всего двадцать восемь штук, на всех не хватит! Удачной охоты!
А потом обратился к начштабу:
– Всё пучком?
Тот долго смотрел на меня, потом вздохнул, кивнул. Вполне его понимаю: вид у меня ещё тот – голова в жёлто-зелёных бинтах стрептоцидовых, очки эти нелепые. Я подошёл к нему и вполголоса сказал:
– А я, вот, – Громозека, блин, прицепилось твоё «вот», – больше боюсь не танков, а самолётов. Смотри, как эти «коробки» идут. Они нас втягивают в перестрелку, наши огневые обозначаются, прилетают «лапотники» и перемешивают наши «Единороги» с землёй.
– Да, так они всегда и делают. Но «Единорог» не просто пушка. Будем маневрировать. Ложных огневых заготовили, запасных. И морячки нам помогут. От их снарядов такая муть поднимается – дымовая завеса не нужна. Смотри сам.
Над головой прогудело что-то совсем несуразное. И ка-ак жахнет квартетом, аж земля под ногами подпрыгнула.
– Ни фига себе! – я радовался как ребёнок. – Вот это да!
Перед нами встали дыбом четыре огромных куста земли. Пылевая пурга заметалась меж немецкими машинами. Спустя минуту – ещё четыре разрыва.
– Блин, чувствую себя, как у Христа за пазухой!
Справа в трубку кричал корректировщик, кроя неведомых командоров трехэтажными витиеватыми, но без матов, выражениями. Всё как и положено на флоте.
– Не спеши так радоваться, – ответил начштаба, – все танки целы.
– Это даже хорошо, нам больше достанется. Главное, пехота заменжует, заляжет, отстанет. Без пехотного прикрытия танк уязвим.
Я не мог с КП разглядеть сквозь муть стёкол этих очков поля боя. Знал по докладам, что там стоят сожжённые во вчерашнем бою танки и бронемашины, к сожалению, и наши тоже. Полк мой с приданными нам подразделениями оседлал спарку дороги и железнодорожной ветки, стояли крепко, в три эшелона, позади готовилась ещё одна линия обороны, но фланги наши были совершенно открыты. Обойти немцу нас будет неудобно – прокапываясь через балки и овраги, но вполне возможно. Именно для парирования этой угрозы была выделена в резерв кампфгруппа Мельника. В составе батареи «Единорогов» оставшиеся шесть исправных «куцых» и роты мотопехоты на «Кирасирах». Слёзы. Парировать они смогут до батальона немцев. А больше? Их сомнут. Ладно, будем посмотреть.
К мощнейшим залпам железнодорожных морячков присоединились и наши орудия, выделенные для огня с закрытых позиций. Конечно, их огонь был малоэффективен против бронетехники – даже прямое попадание осколочного снаряда не гарантировало уничтожение танка, а попробуй, попади!
Но темп продвижения пехоты врага нам удалось снизить, поэтому до линии окопов нашего пехотного прикрытия танки с крестами добрались одни. И стали утюжить окопы. Вот дураки! Да, мало приятного, когда пехота швыряется в тебя гранатами и бутылками с огнесмесью, а бронебойный снаряд в борт? Ведь закапывая пехотинца в окопе, танк поворачивается своими нежными филейными частями к нашей неподавленной артиллерии. А её-то у нас – богато!
Кроме моих «Единорогов», под нашим командованием оказалась шестиорудийная ПТО-батарея «сорокапяток», два 76-мм зенитных орудия и одна трофейная 50-мм противотанковая пушка с двадцатью шестью снарядами.
– Полк, огонь! – скомандовал начштаба в трубку.
Я перехватил у него трубку:
– Внимание, говорит Медведь! Товарищи, помните, чему вас учили, и тогда все останетесь живы! Главное, чаще меняйте позиции, не дайте пристреляться по вам! А сейчас внимание: «белый шум»!
По этой команде врубается глушилка. Пропадает любая радиосвязь. Остаются только свои глаза и телефонный провод.
Я сам увидел росчерки десятков трассеров. Сразу несколько танков вспыхнули. Остальные сразу забыли про пехоту, резво развернулись на новую угрозу, поперли на пушки, стреляя и из пушек, и из пулемётов. Что, немец, привык, что после «лапотников» русские пушки молчат? А здесь вам не тут! Мы тоже кое-чему научились за этот год! Меня особенно радовало, что не напрасно я столько внимания уделял мерам маскировки в период обучения бойцов полка. Всё же есть от меня польза! Хоть так!
Один за другим немецкие «квадратиш, практиш, гуд» спотыкались, останавливались, чадили. Один взорвался, высоко катапультировав башню. Серые утюги стали пятиться назад. Ага, а там – недодавленная пехота с бутылками. Довольно нагло подбирались к слепым кормовым частям танков и устраивали им костры на моторных отсеках.
Отойти смогла едва половина из «панцеров». Так-то! Сколько? Шестнадцать! Шестнадцать чадящих костров! Здесь вам не тут!
Отступающие под нашим огнём танки докатились до немецкой пехоты, дальше они отползали вместе.
Я дал команду на отключение глушилки. И приказал тут же всем менять позиции. Такой дым и чад стоял, что это было вполне безопасно. Относительно, конечно, война ведь.
– Отводи пехоту с первой линии, – приказал я начштаба, – совсем отводи. Они повоевали геройски, пусть топают в тыл, готовят запасную линию обороны.
Он опять смотрит на меня.
– Как ты думаешь, что будет делать немец дальше? – спросил я его.
– Авиацию вызовет и будет нас прорабатывать.
– Точно. И пошлёт группы в обход. С ходу и нахрапом не получилось – попробует «ход конём». Тут мы им по носу щёлкнули, щелканём ещё разок, а потом надо откатываться, пока капкан не захлопнулся.
– Я знаю, но рассчитывал, что фриц попробует ещё раз. Сил побольше, с проработочкой.
– Это да. И мы их огнём и встретим. А время терять не будем. Отдавай приказ. И свяжись с Кадетом – он не должен прозевать флангового охвата.
Вся наша разведка и конница были отправлены на фланги. В качестве датчиков движения, не более.
Начштаба раздал нужные распоряжения, повернулся ко мне, дождался, пока я поверну на него очки, улыбнулся:
– А всё-таки хорошо мы им всыпали!
– Это точно! Дали прикурить! Пусть знают, это не Франция. Тут народ позлее малёк. Здесь вам не тут!
Воюю вслепую. Армированная оборона
Кадет доложился об обнаружении группы противника, идущей параллельно железке в трех километрах. Явно то, что мы и ждали. И ещё пожаловался, что кроют его минами на каждый сеанс радиосвязи.
– Мельник, твой звёздный час настал! – я крепко обнял этого бывшего мента, ставшего мне другом, соратником и неплохим командиром. – Постарайся их держать на дистанции. Не рискуй. Каждая потеря для нас – неприемлема.
– Постараюсь, – ответил Мельник, напялил каску, покрутил пальцем над головой: – По машинам!
Мы с начштаба потопали обратно к КП, глотая пыль, поднятую гусеницами отряда Мельника.
– Что думаешь по поводу Кадета и мин? Пеленгуют? – спросил я начштаба.
– Похоже на то.
– А нас оставили на десерт? У нас и передатчик мощнее, и трещим мы чаще.
– Пора переносить КП.
– Засветившийся передатчик грузи на что-нибудь. И я с ним. Будем маневрировать.
Мимо нас протопала группа бойцов в тыл. Я в полный голос поблагодарил их за мужество – это же их утюжили «панцеры». Они констатировали, что служат трудовому народу.
На КП выслушал доклад о потерях. Два «Единорога» сгорели. Ещё у одного разбит двигатель, но успели потушить, поволокли в тыл, ещё у одного – разбито орудие. Вот его и приказал выделить мне под КП. Итого минус четыре «Единорога». Кроме того, два ПТО орудия уничтожены, расчёты побиты, одна зенитка разбита, вторая цела, но расчёт ополовинен. Зенитки показали себя отличным противотанковым средством, но недолговечным – высокий силуэт, как ни закапывай, щита вовсе нет. Уцелевших зенитчиков приказал собрать вместе и с уцелевшим орудием отправлять в тыл, к Воронежу, пусть по самолётам стреляют. Тут они и так на награды настреляли: минимум семь танков – их трофеи.
Сели с Громозекой, морячком и врачихой (вот почему моряк безматерно крыл – докторша всё время рядом была) в «Единорога» с простреленным стволом. Экипаж машины был отправлен в запас, за рычаги сел сам Громозека. Натянули на крышу корпуса ещё одну масксеть и перебазировались на триста метров вправо. Громозека ловко загнал «Единорога» в подготовленный капонир.
И только тут я понял, что накосячил – кто мне будет в стереотрубу смотреть?
Докторша предложила свои глаза (жаль, что только глаза) к моим услугам. Блин, что со мной? Что в ней такое вызывает во мне подобный резонанс? Год я уже тут, на баб не тянуло, не до них как-то было, а тут вдруг… Аж волосы на руках дыбом стоят. Шучу – сгорели они.
Доложился Мельник. Занял удобную позицию. Засаду огневую будет делать. Благословил.
– Воздух, – крикнул Громозека.
– Мимо идут, – сказала докторша. – Восемь штук.
– Морячок, слышь, это твоих пошли шатать.
– За… к-хе… заколебаются! – раздался смачный плевок за борт.
– Ну, ты всё одно братков предупреди.
– Будь спок, командир, всё будет в полном штиле.
– Ну-ну.
Запад загремел, загрохотал. Воздух наполнился свистом, рёвом.
– Началось! – закричала докторша, кинувшись на меня, вжимая в угол между казёнником орудия и сиденьем командира самохода.
Земля вздрогнула, пошла вибрацией, загрохотали разрывы вокруг.
Но… Её лицо оказалось рядом. Я глубоко вдохнул, надеясь уловить её запах, но в носу была лишь вонь сгоревшего человеческого мяса. Её ушко и прядь каштановых волос были прямо передо мной. Я поцеловал её пониже ушка. Она вдавила мне кулачок в живот. Я ещё поцеловал. Ещё кулачок. Её карие глаза, пылая огнём, впились в мой левый глаз. Она оглушительно зашептала:
– Товарищ майор, как вам не стыдно! Сейчас же прекратите! Как вы можете думать об этом сейчас?! На вас ответственность за тысячи жизней, судьба Воронежа! Не отвлекайтесь!
– Я не могу. Ты свела меня с ума!
– Я сейчас же застрелюсь!
– Ты чё?
– Если вы не возьмёте себя в руки, я сама избавлю вас от помехи!
– Не надо, прошу! Я… я… чёрт возьми! Как не вовремя! Будь проклята эта война! Да слезь же с меня, строптивая вредная девчонка! Совсем затоптала бедного больного недобитого шизофреника!
Гогот двух мужичьих глоток был ответом. Докторша фыркнула, обиделась.
– Чё ржёте, мерины стоеросовые? Доклад!
– КП расхреначили в щепу! Долбят основательно. Мы пока целы, что на передке – не видно, – проорал Громозека, высунув голову из отсека управления к нам в рубку.
И тут же, как в ответ на его слова, рядом бухнуло, горстью гороха прохрустело по броне «Единорога». Каким-то неосознанным действием я схватил женщину, сжал, запихал куда-то под себя, закрывая от угрозы. Громыхнуло ещё три раза, ещё три раза било картечью осколков по броне, но – хвала уральским сталеварам! – броня выдержала.
– Отпусти, медведище, совсем сломал! – простонала докторша.
– Извини, – я тут же ослабил хватку, стал её ощупывать (ох, и фигурочка!). – Цела?
Ответом была пощёчина по сгоревшей морде. Я взревел от боли, она взвизгнула, стала суетиться, дуть на бинты, махать ладошками, даже поцеловала стрептоцидные бинты на моей щеке.
– Командир! Немцы!
– Отставить, товарищ доктор! Музыкальная пауза закончилась. Будьте добры, пересчитайте мне, пожалуйста, немецкие танки. Это такие здоровые квадратные тракторы.
Она фыркнула, с грацией кошки (гимнастка?) извернулась и прильнула к окулярам стереотрубы, стала крутить регуляторы. Со знанием дела, между прочим.
Морячок встал на одно колено, каской приподнял масксеть, приложил к глазам здоровый, морской, наверное, бинокль и стал диктовать цифры в трубку.
Резко откинулся полог масксети с кормы, я рефлекторно извернулся на полу, поворачиваясь к корме, хапая забинтованной рукой за пустую кобуру. Но это был командир комендантского взвода.
– Живы? Все целы?
– Все. Напугал, морда чекистская! Почему я безоружен?
– О, очухался! Как ты стрелять собрался?
– Тебя не икает! Оружие мне!
Он протянул мне свой ППС.
– У вас гусеница порвана, – сообщил он.
– Громозека, слышь?!
– Уже иду! – донеслось глухо из недр «Единорога».
– О, боженьки! – вскрикнула докторша.
– Что?
– Их так много! Что же нам делать!
– Конкретно – сколько, чего?!
– Под сотню, – ответил вместо неё Чекист, – одних танков полсотни.
– Так, залазь давай! Радистом будешь!
– Я привел радиста. Иващенко, ходь сюда! Совсем плох, командир?
– А ты попробуй!
Чекист сморщился:
– Не хотелось бы.
– Мне хотелось?
Он пожал плечами, потом мигнул мне глазами и побежал дальше.
С появлением радиста посыпались доклады. Чувствовалась нервозность командиров. Сто боевых машин на один километр фронта – это сила! Пусть танки только половина, всё одно не сдержать! Дивизия! Её в хвост и гриву!
Воюю вслепую. Про истощение ресурса
Надо успокоить людей, что-то придумать. А мне как-то совсем хреново стало. В глазах бордовые всполохи, боль накатывает тошнотворными волнами, в ушах набат колокольный. Как всё неудачно складывается! Прохор! Где этот подросток-экстрасенс?!
Как по волшебству, он и появился. Как горный, свежий и холодный, воздух сдул всю эту муть, в глазах (глазе, левом) прояснилось.
– Сделай что-нибудь, брат! Подними меня на ноги! Хоть на день! Отобьем немца, а там и помереть можно, – прохрипел я.
Надо мной склонились четыре головы. Холодные стволы глаз Чекиста, огромные от ужаса глаза докторши, красно-чёрное ухо Громозеки, две дорожки слёз из-под крепко зажмуренных глаз Прохора. Я чувствовал горячие утюги его ладоней на своей груди. С каждой секундой мне становилось легче.
Стволы глаз Чекиста сместились с моего лица на лицо докторши.
– Сердце не выдержало, – прочёл я по губам.
Тут Прохор дёрнулся всем телом, вытянулся, рухнул на меня. Его быстро сняли.
– Как он? – спросил я.
– Как ты? – спросил Чекист, проигнорировав мой вопрос.
– Лучше помогите подняться. И Прохору помогите. Блин, как бы я был без него?
Меня подняли. Оказалось, я терял сознание. Я не помнил, как меня вытаскивали из «Единорога».
– Связь на общей волне! – приказал я, хватая Чекиста за руку и выворачивая её, чтобы взглянуть на часы. Мои-то в очередной раз накрылись вчера.
– Слушаем все Медведя! – сказал я в трубку. – Вот и пришёл час нашего последнего и решительного боя. Я верю в вас, братья! Верю, что руки ваши тверды, сердца крепки. Мы не сдадимся! Мы не побежим! Бейте фашиста крепко и смело! Стоять насмерть не нужно. Как почуете, что надо отходить – отползите. На запасную позицию, правее, левее. Не стойте на месте! Маневрируйте! Будьте везде и нигде! Пусть у немца земля под ногами загорится. Не лезьте в лоб. Бейте в борт. Ещё раз повторю: огонь и манёвр! Удачной охоты, братья!
И вдруг на общей волне вклинился незнакомый звонкий девичий голос:
– Товарищи! Не бойтесь! Сражайтесь! Сталин с нами!
Голос был настолько силён, а слова так точно попали в цель, что дрожь побежала по спине.
– Что это было?
– Кто это? Как? На нашей волне? – сыпались вопросы со всех сторон.
– Не важно! – закричал я. – Работаем! По машинам!
Радист протянул мне трубку. Это был мой начштаба. Оказалось, пробомбили мой ремзавод, Гинзбург ранен.
– Что ж так хреново-то всё! – взвыл я. Если потеряю полк, по голове не погладят, а за генерала-конструктора просто голову открутят, как перегоревшую лампочку. Да не в этом дело! Человек-то неплохой. И нужный. Что делать?
– Что случилось? – спросил меня голос жены. Меня аж затрясло. Зачем ты говоришь её голосом?
– Ты! Точно ты! В тыл! Спаси его, слышишь? Бери Прохора и спаси его! – я схватил её за плечи, затряс так, что голова стала болтаться, пилотка упала.
– Кого?
– Генерала! Еврея! Конструктора! Это тот, что придумал наши самоходки. Спаси его!
– Я за твою жизнь отвечаю.
– Пох, слышь, пох на мою жизнь! Генерала спаси! Нам нужна его голова! Нам нужны его изобретения!
– Нет, у меня другой приказ!
– Нет, у тебя теперь этот приказ! Я твой командир! Садись в «Единорога»!
– Нет!
– Гля! Я щас застрелюсь, нах! И не станет твоего приказа, сука! Делай, что сказал, пока в табло не дал!
Она в ужасе отшатнулась, заревела.
Чекист осуждающе смотрел на меня.
– Что вылупился? Сопроводишь! Я вас, сук! Бери этот самоход, Прохора, врачиху и дуй на ремзавод! Она до Прохора отработает. А сам потом паникёров наших разворачивай.
Взгляд Чекиста изменился.
– Думаешь, побегут?
– Ты чё время тянешь? Каждая секунда дорога! Да, сам! Этот щегол сможет остановить панику? Нет? Не её же мне посылать?
«Единорог» резво развернулся и умчался в тыл. Радисты погрузили на свои хребты ящики радиостанций, и мы перебежками, кланяясь каждому разрыву, побежали в другой капонир – это место уже было засвечено. Того и гляди накроют.
На новом месте развернули рации, морячок стал диктовать целеуказания, я – ценные указания по управлению боем. Только бой становился неуправляемым. Место действия скрыл дым и пыль, огонь, взрывы. Экипажи машин маневрировали в этом сплошном море смерти, стреляли по немцам, только на каждый наш выстрел в ответку прилетало шесть – десять.
Спасало одно: «Единороги» – довольно низенькие машины, а воронежская земля хотя и считается степной, но сильно пересеченная – изобилует небольшими перепадами, обильно растёт трава, кусты и деревья, особенно клён, этот канадский сорняк. Потому пока удавалось сдерживать противника, наносить ему существенный урон. Как ни говори, ЗиС-3 – довольно мощное орудие, простое в использовании, с высокой скорострельностью и приемлемой кучностью. Мощности орудия хватало для поражения почти всех целей на поле боя. Попадания 76-мм бронебойного снаряда выдерживали только последние модификации Pz-III и Pz-IV да «Штуги» – штурмовые орудия врага, но только лобовой проекцией. Остальная бронетехника врага была лакомой печенькой. А мощи осколочно-фугасного снаряда хватало для подавления пехоты и небронированных целей (в том числе пулемётных и артпозиций). Опять же повторюсь, скорострельность и кучность была такая, что выбрав цель, экипаж добивался её уничтожения за полминуты, то есть за три – шесть выстрелов.
Поэтому поле боле боя ещё было за нами, несмотря на превосходство врага по всем пунктам. Горели, чадили танки, бронемашины, залегла пехота врага.
Но «Единорог» всё-таки не танк – в открытом и продолжительном противостоянии обречён: слабое бронирование, открытая рубка, бензиновый двигатель, баки и боеукладка не имели допзащиты. И мы несли потери. Довольно существенные. Ребята увлекались, забывали про необходимость частой смены позиций, под сосредоточенным огнем самоходы редко выживали. Но как не увлечься, когда видишь сладкий борт или корму танка? Как не всадить туда пару снарядов? Я их понимал. Начинали отход только после попадания под огонь. А «Единорог» от миномётов совершенно беззащитен.
Одна за другой машины, отстрелив последние дымовые шашки, отходили в тыл. Расстреляли весь боезапас. Приказал им не возвращаться, а, пополнившись, готовиться встречать врага восточнее.
Вот это и было главное испытание. Можно стоять насмерть на месте, можно – маневрируя, но выйдя из боя, двигаясь на восток, смогут ли остановиться, развернуться лицом к смерти, на запад, и опять биться не на жизнь, а на смерть?
– Командир, ты смотри, что происходит! – крикнул Громозека, лёжа на спине и показывая в небо.
– Что? Я не вижу!
– «Илы» таранят немцев!
А произошло следующее. Немцы, отчаявшись бодаться с нами, вызвали авиационную поддержку. И на помощь им пришли бомбардировщики. Тут данные расходятся (сам-то я не видел) – то ли двадцать четыре, то ли тридцать шесть бомберов под прикрытием двенадцати или пятнадцати истребителей прилетели нас перепахивать. А наше командование прислало нам в помощь двенадцать Ил-2 и девять «ястребков». И встретились они у нас над головой.
Оценив ситуацию, командир авиаполка Герой Советского Союза полковник Березов Владимир Ильич скомандовал:
– Лобовая!
Всё он верно рассудил: бомбардировщики немцев Ю-88 имел довольно посредственное курсовое вооружение, а вот Ил-2 – феноменальное – пушки, пулемёты, ракеты.
«Илы» разгрузились куда придётся, прямо в скопление сцепившихся насмерть пехоты и бронетехники. От их бомб равно пострадали и немцы, и мы. Но разом полегчавшие «Илы» пошли в атаку на строй «юнкерсов». Истребители немцев было пытались их перехватить, но были связаны боем нашими «ястребками».
Как жаль, что я не видел этого! Говорят, немцы лопались, как лампочки! Множество взрывов самолетов от подрыва бомб в бомболюках. Большое-большое море огня на месте строя «юнкерсов». Уцелевшие стервятники торопливо сбрасывали свой смертоносный груз – прямо по тылам наступавших немцев.
Видя такое безобразие, истребители немцев бросили оставшихся наших истребителей и кинулись на спасение своих бомберов, но не тут-то было! «Илы» успели развернуться и встретили врага строем и в лоб. А спереди от «Ила» лучше не летать! Истребители немцев прыснули кто куда, преследуемые нашими истребителями.
К великому сожалению, комполка Герой Березов погиб первым. Он шёл в строе впереди, успел своими ракетами, пушками и крупнокалиберными пулемётами развалить три самолёта врага, но вот от третьего его и настигла смерть – рванули бомбы в бомболюках. Самолёт Березова и ещё четыре немецких бомбера разнесло на запчасти. Планер комполка лишился хвоста и одного крыла и в неуправляемом падении столкнулся с землёй прямо перед позициями наших противотанкистов-«сорокапяточников» и загорелся. Наши бойцы тут же поднялись в атаку и захватили горящие обломки самолёта, но пилот был мертв.
Когда мне доложили, я спросил про бортстрелка и не угадал – в это время «Илы» были ещё одноместными. Или конкретно этот Ил-2 был одноместным.
Воюю вслепую. Контратака и подсчёт потерь
Действия наших летчиков в небе резко изменили ситуацию на земле. Особенно моральное состояние сторон. Противник был подавлен, наши же бойцы чувствовали необыкновенный душевный подъём. А что это значит? А вот что:
– Ура! В атаку! За Родину! За Сталина! Бей нечисть! Ур-ра!
Я вскочил и с ППС побежал вперёд. За мной топал Громозека, на ходу свинчивая трубки держателя моего личного стяга, того, красного, с белым трафаретом медвежьей морды.
– А-а-а! – ревели сотни глоток вокруг меня.
Умом-то я понимал, что толку от меня в этой атаке ноль, но поясницей чуял, что именно мне и надо их вести в атаку. Спинной мозг своей интуицией всё мне верно подсказал: душевный подъём моих бойцов, подавленность врага, командир в атаке, тем более весь в бинтах. Как им усидеть в норе? Ура! Вперед!
Пехота в штыки сошлась с немецкими панцергренадерами, закидывала танки врага гранатами и бутылками КС, «Единороги» через наши головы лупили по танкам, горящим, замершим на разбитых гусеницах, развернувшимся к пехоте, подставив под снаряд тыльные проекции. В бой шли «Кирасиры», разрывая немцев крупнокалиберными пулемётами, шел в бой и «Сталкер», щедро распыляя огнесмесь из огнемёта.
А в тылах противника, пробомблённых немцами же, царила сумятица, они не смогли поддержать штурмовые формации огнём, оставив их один на один с нашими озверевшими бойцами.
Вот так и выбили врага на исходные позиции.
И тогда я отдал приказ на отход. Отходили на восток на запасные позиции в полном порядке. Без спешки и суеты. Под музыкальное сопровождение морского духового оркестра. Волокли в тыл свою битую технику, орудия, раненых и погибших.
Противник не решился на преследование. Так-то! Тут вам не Франция!
Эйфория атаки спала, стал считать камни. И занятие сие дюже уж печальное. Вот, слушая или читая фронтовиков, в той жизни я удивлялся, что степень тяжести боя они измеряли не трупами врагов, а погибшими товарищами. Мне, тогда ещё мальчику, казалось – ну что ж вы такие некреативные, надо битые танки врага считать, а не потери, – а теперь я их понял. И Ё-комбата остро понял. Мне было плевать, сколько серых трупов там осталось, сколько битых «панцеров», а вот каждый из погибших моих бойцов – боль на сердце. Их уже не вернуть. Никогда.
Немцев ещё много осталось, а вот от моего полка – рожки да ножки. «Единорогов» только половина в строю, Т-70 – считай, что и нет. «Кирасиры» также изрядно выбиты. Группа Мельника разгромила обходной отряд врага, но Мельник не смог удержать себя и людей от контратаки, нарвался, потерял половину отряда. Да, с бухгалтерской точки зрения его бой – победа. Он уничтожил втрое больше немцев, чем потерял сам, но повторюсь, немцев и их приспешников – полная Европа, а у нас больше нет людей. Ещё один такой бой, и полк кончится, иссякнет.
Мой начштаба, почему-то с вымазанной сажей и грязью мордой, был суров и сосредоточен.
– Чем воевать будем?
Он махнул рукой, расстелил карту. Стал диктовать расклад сил. А не так всё и плохо! Командование нам подкинуло пехоты, ещё семь ПТО орудий с расчётами. «Прощай, Родина!» – 45 мм. Противотанковую роту – двенадцать пт-ружей. Пулемётную роту с «максимами». И батарею «Катюш» с одним боекомплектом. И сапёров с тремя сотнями противотанковых мин. Повоюем!
И самое главное изменение – мы теперь воевали на Воронежском фронте. Из предыдущего моего повествования могло показаться, что я действовал как махновец-анархист. Это лишь частично правда. Командование у нас было. Но оно было таким… давало настолько «ценные» указания, что я их игнорировал на свой страх и риск. А вот сейчас всё изменилось. Командующим фронтом Сталин назначил какого-то Ватутина, и видно, что он знал, что делал. Твёрдую руку я почувствовал сразу же. Был вызван к аппарату спецсвязи и пропесочен. Но в конце разговора мне пожелали успеха и стойкости. Я ответил, что служу трудовому народу. Ну, и славненько. Если он нас достал, значит, сумеет наладить управление войсками, взаимосвязанность. Мне показалось, что это сильный командующий. А почему я о нём ничего не помню?
Нам выдалось несколько часов передышки. Если не обращать внимания на обстрелы и налёты авиации. Но мы пополнили боеукладки, заправили баки, пригнали из ремонта несколько машин.
Кстати, про ремонт. Гинзбурга спасли. Инвалидом останется – Прохор не умеет приживлять оторванные по бедро ноги, – но будет жить. И если не сопьётся, будет творить дальше.
Так вот, про ремонт – закончился запас двигателей и орудий. Поэтому на одного «Единорога» вместо ЗиС-3Ш поставили 120-мм миномёт. Ну и пусть долбит с закрытых позиций. Мощнейшее это средство – 120-мм миномёт. И дальность, и мощь заряда (равноценного 122-мм снаряду), а особенно скорострельность были выше всяких похвал. Нам этот один мобильный миномёт заменил батарею 82-мм миномётов. Но закончился запас двигателей и орудий. И держать рембат рядом стало бессмысленно. Отправил их ещё глубже в тыл. Туда же всю технику, которую нечем было ремонтировать. Пусть грузят на платформы и везут в Горький. И трофейную технику – тоже. Может, отремонтируют, может, переделают во что-нибудь.
Воюю вслепую. Новая тактика
Собрались на планёрку. Осмотрел оставшихся в строю командиров. Справятся ли с той задачей, что я задумал? А-а, как пойдёт! А вот и Мельник.
– Ну-ка, подь сюда!
Опустил голову, подошёл.
– Я тебе наказывал не ввязываться в бой? Говорил обстрелять и отойти? Так какого ты в атаку повёл людей?
– Мне больше не брать с тебя пример? – глухо спросил он.
Я аж задохнулся от его наглости. Ах, говнюк! Моими же ошибками мне в лицо тычет!
– Грудную клетку к осмотру!
Мельник выпятил грудь, я в неё ударил со всей силы, но Мельник только крякнул. Да, совсем я ослаб! Даже «фанеру» не пробил.
– Встать в строй! Вот гад ты, Мельник! Немцев побил – это, конечно, неплохо. Но боевой группы фактически не стало. А вот это очень плохо! Немцев ещё много, нас всё меньше. Эхе-хе! Ещё и в глаза мне тычет. «Пример»! Вот гад! Мои ошибки перенимает. Нет, не хорошее берёт к учёту, а ошибки! Блин, в следующий раз расстреляю. Да, Кадет?
Миша кивнул забинтованной головой. Осколок мины чиркнул по уху, рассёк его надвое. Зашили, будет теперь ходить, как борец – с изуродованным ухом.
– Ладно, лирическое отступление кончилось, слушаем мои замутки.
А задумал я положить конец штатному составу полка. Вся техника и все люди разбиваются на боевые группы по типу группы Мельника.
– Действовать вам придётся самостоятельно, исходя из своих возможностей и обстановки. Меня может и не стать, штаб накрыть огнём, а вы должны продолжить выполнять свою задачу. Учитесь, братва, воевать самостоятельно. Действовать во взаимосвязи с соседями и тылом, но самим – без оглядки на вышестоящих. Численному превосходству врага мы можем противопоставить только оперативную гибкость. Знаю, непросто, но иначе сотрут в пыль.
Осмотрел командиров. Некоторые озадачены, Кадет и Мельник спокойны.
– Кадет, ты тоже будешь командиром группы. Теперь не будет привычного разделения. Разведка, линия обороны, тыл, обоз, штаб – этого не будет. Каждый из вас станет сам себе и разведка, и штаб, и артподдержка, и основная ударная сила. И тыл. И обоз. За штабом остаётся функция вашей координации, за тылами – доставка снабжения на рубеж обороны.
Начштаба тоже озадачен.
– А воевать вам надо так: крупные силы врага обходить, бить только скоординировав действия через штаб полка с другими группами. Громить мелкие отряды врага, не увязая в бою: удар – отход, снова удар! Маневрировать, крутиться. Жалить, жалить, пока кровью не истечёт. У вас есть «Единороги» – из засады, неожиданным открытием огня он может дел натворить! Если освоите, наладите взаимодействие, научитесь – вы будете неуязвимы, неуловимы и непобедимы. Вот и всё, что я хотел сказать. С Богом, мужики!
Потом была текучка – распределение техники и людей по отрядам.
А потом на нас вышел враг – устроить испытание боем моей замутке со штурмовыми группами. А немец – он довольно требовательный ревизор и суровый экзаменатор.
Опять взрывы, опять снаряды. Опять гибель товарищей, крики раненых. Мат в трубку. Скрип песка на зубах от ярости. Вой реактивных снарядов «Катюш». Огонь, пыль, кровь. И так до вечера.
Но немцу мы так и не дали пройти. Остановили. На минных полях, на изломанной линии окопов, в садах и огородах горели «панцеры» и мои БМП. Поле боя было густо усеяно трупами. И наших бойцов тоже. Мы уже не могли вынести всех. Раненых бы собрать, не оставить врагу.
Сам бой не описываю – я его почти не видел. Всякий желающий найдёт множество его описаний в иных источниках – благодаря тому самому военкору «Красной Звезды», что всё время был в нашем полку, отщёлкал десяток плёнок, а потом подробненько и даже художественно всё это описал, пока лечился в госпитале. У него получилось всё очень красочно и величественно. Прям как про былинных богатырей. «И с ними дядька Черномор», то есть я. У него я и взял описание боя «Илов» с немецкими бомберами.
К вечеру наступательный порыв противника иссяк. Он отошел немного и стал укрепляться на достигнутых рубежах. А мы стали собирать манатки. В 21:00 меня на связь вызвал командующий фронтом. В другой обстановке это было бы приятно – сам комфронтом лично! Какого-то майора, комполка! Но я понимал, что у комфронтом этот самый фронт состоял из таких ошмётков, что ошмётки моего полка были значимой фигурой на его шахматной доске.
Взял трубку, доложил о состоянии дел, запросил разрешения на отход.
– Совсем плохо? Ты, майор, не похож на паникёра.
– Я и не паникую. Прикажете остаться, будем сидеть на месте до утра. Только полка моего больше нет. И обороняться мне нечем. Если сейчас немец поведет в бой хоть десяток танков и батальон пехоты, они прорвутся.
– Понял тебя, майор. Отводи людей к мосту. Постараюсь за ночь усилить тебя. Ты только выживи, Кузьмин.
– Я постараюсь.
Я отдал трубку связисту и сполз на дно окопа. Связист кинулся ко мне, но я помотал головой, и он начал сворачивать свою аппаратуру. Белея свежим бинтом на плече и подвязанной руке, подошёл начштаба.
– Отход, – бросил я ему. Он кивнул, качнулся, схватился за бруствер, выровнялся, пошёл. Мой начштаба сегодня ходил в рукопашную, когда немец прорвался до штаба, сжёг танк и получил зазубренный штык в плечо.
Я не ходил в атаку. От этого у меня случился жуткий депрессняк, но меня не пустили в бой. Моя роль свелась к функции флага – он есть, он нужен и важен, потерять его категорически неприемлемо, но он ничего не делает. Просто есть, просто существует. Моральный фактор. Пока есть я и флаг, есть полк. Вот такой расклад мне выдал начштаба и повёл штаб в штыки. А я сидел и держал противотанковую гранату в руках. Чтоб от меня нелюдям даже тела не досталось. Отбились мы. С Божьей помощью.
А моя (ну, как моя – совсем не моя) тактика действий штурмовых групп сработала. Мы сдержали превосходящие силы врага, нанесли ему существенный урон. Как и там, в той истории, что была только в моей голове. Эта тактика сложилась в Сталинграде, применялась при штурме Кёнигсберга и Берлина. Это у нас. А немцы подобную использовали всю войну. Особенно ярко это проявилось в боях немцев с янкесами. На нас, русских, она тоже срабатывала, но кривовато. Но до Сталинграда далеко, а мне надо было здесь и сейчас. Тут вопрос весь в исполнителях. И мои ребята не подкачали. Молодцы! Орлы! Всех наградим. Только основную массу – посмертно. Кадет ранен – искалечена нога, Мельник ранен – подбит в «Единороге», обгорел, в тыл отправлен, так и не приходя в сознание.
Воюю вслепую. Долгожданные гости
Я сидел на земле, привалившись к ещё теплой броне сожжённого «панцера», прямо на спине мёртвого немецкого танкиста. Отдыхал, ждал эвакуации. Что-то сил на пеший марш у меня не осталось. Вот и долгожданный рёв двигателя, лязг гуслей.
– Кто майор Кузьмин? – раздался зычный голос.
Опа! А что это за явление Христа народу? Кто это такой бодрый после такого боя? Стал вставать, но был прижат к земле мощной дланью Громозеки.
– Я майор Кузьмин, – донёсся голос с другой стороны сгоревшего танка. – Вы кто такие? Что делаете в расположении полка?
Опа-па! А это что за самозванец? И голос похож. Я стал трепыхаться, чтобы встать.
– Только не дури! – прошептал громовым шёпотом Громозека.
– Угу! Да пусти ты, пенёк ушастый!
Наконец мне удалось встать, и я увидел американский колесно-гусеничный бронетранспортёр с грубо закрашенной белой звездой. И десяток человек в форме НКВД около него, похожих на оловянных солдатиков – таких ладненьких, чистеньких против нас, обшмыганных боем.
А вот и самозванец – забинтованный по самое не балуйся, человек моей комплекции, но в комсоставской форме с майорскими знаками различия и в моей кожанке, шёл, ковыляя, к НКВД. А меня, после поджога, как одели в безликую форму без знаков различия, так и отвоевал сегодня. Авось проблем не возникло. Все и так слушались.
– А вот и гости, – прошептал Громозека, – долгожданные!
Ух ты, надо же! И где же наш Чекист? Прозевает так главное задание. Я достал из кармана гранату Ф-1, сжал в кулаке.
Самозванец подошёл к старшему «чекисту», вскинул руку к танкошлему, назвался ещё раз. Гость тоже представился:
– Лейтенант госбезопасности Савельев. Вам придётся проследовать с нами!
– Чё это вдруг? – удивился самозванец. Ого, он даже словечки мои использует! Полная аутентичность!
– Приказ! – ответил Савельев, протягивая бумагу.
А вот и Чекист нарисовался – прогуливался мимо. Типа прогуливался.
Самозванец взял бумагу, долго смотрел в неё забинтованным стрептоцидно-грязным лицом.
– Слышь, боец, сюда ходи! В темпе вальса, я сказал! Ты чё как на пляже? Ты в армии или как? Почему такой вид?
Это самозванец нашего Чекиста распекает. И словесные обороты настолько знакомые, что Громозека хмыкнул.
– Ну-ка, читай! – самозванец сунул под нос Чекисту бумагу.
Гости занервничали. А вокруг стали собираться бойцы полка, якобы привлечённые шумом.
– Слышь, Пенёк, а ведь главный не Савельев, – пихнул я Громозеку, прошептал.
– Да?
– Смотри на того лысого бычару. Видишь? Он главный.
Словно услышав нас, лысая башка здоровяка повернулась на нас.
– Фас!!! – заорал я.
Громозека стартанул, как болид F1, на этого лысого, а тот стал поднимать на нас ППД. А я уже в ярости! Метаю в него гранату, да так удачно! Точно в лоб угодил. А потом и Громозека подоспел, сбил его с ног, добавил в нос своим медным лбом.
Что там было дальше, не видел. Тем же приёмом, каким Громозека сбил лысого, меня снесла с ног наша докторша.
– Тихо, товарищ майор, а то зацепят! – выдохнула она мне в лицо.
– Девочка моя, а ты не с ними? – спросил я её.
– Нет, Виктор Иванович, я с вами. Ваша жизнь – моя работа.
– И кто же твой начальник?
– Вы. И Меркулов. И Сталин.
– Ну-ну, – ответил я ей.
– Эй, голубки! – донёсся до нас голос Чекиста. – Вставайте, ехать пора! Ну, ни стыда у людей, ни совести!
Голос был довольный и весёлый, значит, всё прошло гладко.
– Ща я кому-то зубы-то посчитаю! – выкрикнул я. – Гэбня кровавая! Пятьсот мильонов!
Встал, подал руку доктору, поднял, обнял, крепко прижав к себе.
– Собой закрывала? – спросил я её.
– Руки, товарищ майор! Вы ещё за прилюдное оскорбление не извинились.
– Ща! Ага! Шнурки поглажу, тогда сразу! Обиделась? Да на здоровье! На обиженных воду возят! Тьфу!
Я отпустил её, сплюнул, пошёл. Подошёл к бэтээру, погладил броню капота.
– Это я забираю. Будет моей лебединой колесницей.
– Тогда уж лодкой Харона, – кивнул Чекист.
Блин, уел меня. Я не знаю, что это значит. Увидев моё затруднение, докторша пояснила:
– На ней души умерших перевозят в царство мертвых.
– А, нехай так и будет! – махнул я рукой.
Повернулся к Чекисту:
– А давай их по-быстренькому допросим? Что-то давно я не едал человеческого мяса!
Чекист заржал в голос, махнул рукой:
– Да нам и самим там маловато будет. Голодными останемся.
Хороший он мужик, этот Чекист. На лету всё схватывает. Мне опять повезло на него? Или эти везения мне устраивает чья-то заботливая рука?
Ладно, всё это лирика, а она терпит. Позже. А война не терпит. Пора и ехать. Вот и остатки моего комендантского взвода погрузили пленных в пробитый в двух местах «Кирасир» и отчалили. И нам пора оставить эту истерзанную высотку, покинуть измочаленные сады и руины посёлка.
– Громозека, ко мне!
– А что не «к ноге!»? – спросил Громозека, открывая дверь ленд-лизовского бэтээра.
– Ну? Разберёшься?
– Да как два пальца обо… об асфальт! – И обратно нырнул в недра бэтээра.
– Мадам! – я протянул руку, чтобы помочь залезть доктору. Но она, фыркнув, сама влезла в бронекоробку.
– Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой, – возвестил я, усаживаясь на обтянутое кожзаменителем сиденье.
– Это откуда? – спросил Громозека, запуская двигатель.
– От верблюда, товарищ Пеньков, от верблюда. Разбуди меня, как приедем, лады?
– Угум! Но-о, пошла, родимая!
Приплыли! Паника на переправе через Стикс
На переправе через реку мы застали панику. Народ ломился через мост, давя друг друга. Довольно неплохие укрепления предмостного плацдарма были брошены. Крики, стрельба, вой снарядов и взрывы. Эх-хе-хе! Опять то же самое. Ну почему люди не хотят жить головой, почему их судьбу решают их задницы?
– Стреляй! – приказал я докторше. А кому ещё? Громозека за управлением этой заокеанской колымаги, в бронерубке только мы вдвоём.
– Куда? – не поняла она сначала, а потом дошло: – Нет! Не заставляй меня!
– По паникёрам и предателям – огонь!
Крупнокалиберный американский пулемёт протянул струю огня от нашего бэтээра к давке на мосту, сметая тела людей в реку, разрывая их на части.
– Я вас, блядей! – орал я так, как ещё никогда не приходилось. – Всех тут положу! Паникёры сыкливые! Предатели позорные! Изменники подлые!
Я залез на крышу отделения управления, встал в полный рост. А стрелок пулемёта в голос ревела, потом бросила пулемёт, метнулась куда-то в угол, забилась там мышкой. Тяжело тебе? А мне, думаешь, легко? Это я, а не ты, я их расстрелял. Я. И от этого в груди стал расти вакуум. Но иначе никак! Эмпирическим путём установлено – иначе не работает. Этих, обезумевших от ужаса, превратившихся в скот по-другому не остановить. Не вернуть им способность мыслить. Только расстрел части паникёров прочищает мозги, возвращает им возможность думать. Не я это придумал. И не хочу этого делать, но как иначе?
А у них была возможность избежать подобной судьбы и избавить меня от этого бремени – сохранить рассудок и честь, встретить врага лицом, а не спиной.
– Стоять! Назад, сукины дети! В окопы, мрази! Зачинщиков ко мне! Быстро! – продолжал я орать.
Толпа отхлынула от моста. Твою дивизию, опять сработало! Ну почему их надо стрелять, чтобы они стали людьми, а не скотом безмозглым?
В толпе началось какое-то броуновское движение, из неё стали выталкивать ко мне совсем уж мерзостных субъектов.
– Арестовать! – орал я. – К обрыву их! Сформировать расстрельную команду!
Толпа их била, волокла к берегу, ставила в ряд. Грянул залп. Поставили ещё ряд, ещё раз грохнули.
– А теперь – в окопы! Вы понимаете, что вы натворили? Это же измена Родине, понимаете? Измена! Родине! Я надеюсь, сегодняшнего урока вам хватит, и в следующий раз вы сами разберётесь с паникёрами и падлами изменниками. Давай, мужики, занимайте окопы! Немец бит нами сегодня, но не добит! По местам!
Толпа стала таять в темноте. Я сполз по броне на горячий капот бэтээра. Руки Громозеки подхватили. Как ребёнка, он отнёс меня в броненутро ленд-лизовского аппарата.
– Поспи, командир, – буркнул он.
Я лежал на свёрнутом брезенте. Докторша сидела в другом углу, сжавшись в комок, уставившись невидящим, немигающим взглядом в одну точку. Эх-хе-хе!
Будь проклята война! И все её зачинщики! Разве она должна была заниматься массовыми казнями? А я? Разве я должен был? Она должна лечить людей, я – чинить дорогу. А вот крошим с ней из пулемёта своих соотечественников, вся вина которых в нестойкости их психики.
А ведь завтра они снова побегут. Они бежали от немца до этого моста, сегодня пытались сбежать от моста. Как увидят вживую танки с крестами, опять побегут. От немца или к немцу – сдаваться.
Нет, я всё правильно сделал. Как я ненавидел в той жизни подобных! Их там тоже было море, только они так контрастно не проявлялись. И здесь их полно. Они никогда не будут сражаться. Ни за Родину, ни за свои никчёмные жизни. Они будут только ныть и ныть. И гадить. И требовать. Требовать защиты, заботы, высокого уровня жизни, теплых просторных домов, шикарных машин, ровных дорог, но никогда палец о палец не ударят, чтобы эти дома построить, дороги проложить, машины изобрести. Они будут лишь требовать. У них есть «право», и это право им принадлежит по «праву рождения». Просто так. За то, что они такие все исключительные и замечательные, тонкие, ранимые натуры. Они созданы для творчества. Хотя даже творчеством не занимаются. Они ни на что не способны. Паразиты. Крысы!
И хрен бы на них! Но этих паразитов слишком много. И все они чьи-то дети, братья, сёстры. Так что дустом их не потравишь. Но и прокормить такую жрущую и гадящую ораву нереально. Должны были появиться, и появились, парни в кожаных плащах с «чистыми руками, пламенным сердцем и холодным разумом» и своей несгибаемой волей заставить этих крыс работать и вычистить всё, что они загадили.
Появились и заставили. Представляете, как они их ненавидели! Как сейчас ненавидят меня за то, что я их заставил защищать свои жизни. Как они ненавидели всю эту эпоху – сталинскую эпоху, за то, что тут их назвали тем, кем они и были – паразитами, их заставили работать, защищать страну, не дали им властвовать и самовыражёвываться. От одного упоминания имени дедушки Ёси их начинало трясти. Так сильно, что трясло и их детей, и их внуков.
Под такие вот размышлизмы я и уснул. И не почувствовал, как Громозека дождался своей очереди и перегнал БТР через мост на восточный берег.
Разбудил меня рёв пикировщиков и взрывы бомб. Утро опять началось стрельбой.
– Бегут, суки, опять бегут! – орал снаружи Громозека.
Я выскочил наружу и побежал к мосту. Громозека стартанул следом, пытаясь перехватить меня.
Как я и опасался, эти крысы опять побежали. Их крошили немецкие «лапотники» из пулемётов, их рвало на части бомбами и минами, но они бежали. Так бы они в атаки бегали, твари!
Я пробежал мимо усатого сапёра, увернувшись от неуклюжих попыток остановить меня, его крик пролетел мимо моего сознания, в голове было только одно – остановить этих трусливых тварей, загнать их в окопы, организовать оборону, остановить немца.
А ведь зря я не стал слушать сапёра. Потому что он кричал:
– Мост сейчас взорвётся!
Толпа обезумевших лиц, разинутых в немых криках ужаса ртов, встретила меня на середине моста, сбила с ног, протащила, бросила на настил, протоптала, пропинала. Десятки рук подхватили меня, били в лицо, по голове, потащили меня и выбросили с моста.
Я летел в реку. Некстати подумал: «Какой высокий мост». Увидел на быках развешенные гроздями тюки. Тут только дошли до моего сознания слова сапёра. И дымок огнепроводного шнура, уже подбегающий к тюкам со взрывчаткой.
Вот и конец моего пути. Избавление. Извернувшись в воздухе, повернулся лицом к небу, к солнцу и прошептал:
– Боже, прими душу сына своего!
Взрыв ударил меня силой скоростного локомотива, с ускорением пушечного ядра вгоняя в реку. Темные воды Стикса сомкнулись над моим сознанием.




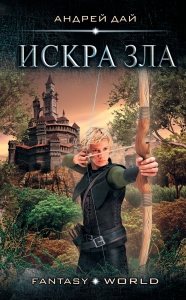


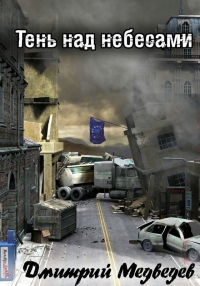
Комментарии к книге «Испытание огнем», Виталий Иванович Храмов
Всего 0 комментариев